ЧАСТЬ I
I. «ОСВОБОДИВШИЕСЯ ТЕРРИТОРИИ»
Под этим названием мы объединяем те части Западной Римской империи, власть над которыми императоры утратили еще до их захвата варварами. Это были Северо-Западная Галлия (Tractus Armoricanus) и Британия.
Tractus Armoricanus. Это — обширная территория на северо-западе Галлии между нижними течениями Гарумны (Гаронна) и Секваны (Сена), распространялась она и на значительную часть долины Литера (Луара). Освобождение этой территории было делом рук так называемых багаудов, или бакаудов. Все специалисты признают слово «багауды» кельтским, имеющим корень *baga = война. Однако его точный перевод вызывает споры. Его переводят то как «разбойники», то как «бродяги», то как «борцы». В любом случае важны два аспекта этого слова: во-первых, это именно кельтское, а не латинское слово, и, во-вторых, оно в любом случае означает людей, «выломившихся» из обычного социального порядка.
Галлия принадлежала к наиболее романизованным странам, входившим в Римскую империю, но ее романизация была очень неравномерной. Во второй половине I в. Плиний писал, что Нарбоннская Галлия по имени провинция, но совершенно подобна Италии. Однако через сто лет Иреней, епископ Лугдуна (Лион), одного из самых значительных городов западной части Империи и почти пограничного с Нарбоннской Галлией, писал о кельтах и варварском языке, на котором они говорят. Во многих местах еще сохранились общины, восходившие к доримскому времени. И социальный, и культурный кельтский субстрат был еще очень значителен в римской Галлии. Романизация Галлии была неравномерна, и этот субстрат в разных ее частях имел различное значение и силу. Наименее романизованной была северо-западная часть страны. В Арморике еще сохранялись родо-племенные отношения.
Кризис Ранней империи и последовавшая за ним «военная анархия» тяжело отразились на Галлии. Варвары не только усилили давление на рейнскую границу, но и не раз прорывались через нее, разрушая и грабя внутренние районы страны. Пираты, в основном саксы, разоряли галльское побережье, иногда проникая по рекам в более глубинные районы. Одно время Галлия вовсе отделилась от Римской империи, и в ней возникло сепаратное государство о главе со своими императорами. Императоры Клавдий и Аврелиан ликвидировали эту Галльскую империю, воссоединив ее снова со всей Империей. Это, однако, не принесло спокойствия. Внутренняя борьба в Галлии продолжалась еще несколько лет. Была даже сделана попытка восстановить Галльскую империю, но император Проб сумел разбить претендентов. Все эти внешние и гражданские войны привели к разорениям, к резкому ухудшению положения населения. В этих условиях наблюдается то, что в науке порой называют «кельтским возрождением». Его хорошо видно в керамике: сосуды римского типа заменяются иными, воспроизводящими формы и украшения доримского времени. Другое проявление этого «возрождения»: возобновление почитания местных божеств и соответствующих ритуалов. Неслучайно снова появляются сведения о, казалось бы. давно исчезнувших друидах. В менее романизованной части Галлии города, которых и так там было сравнительно немного, приходят в упадок. На первое место выдвигается сельская округа. Это подтверждается интересным явлением. Здесь исчезают из употребления старые названия городов. Теперь чаще стали говорить не о городе, а о civitas, центром которой этот город был, а сам город как бы смешивается с округой. Так. Лютецию стали называть Цивитас паризиев (Париж), Дурокортор — Цивитас ремов (Реймс), Августорит — Цивитас лемовиков (Лимож) и т. д. А позже и слово civitas выхолит из употребления и города называют просто — Паризии, Треверы, Ремы и т. д. Поэтому совсем неудивительно, что повстанцы, выступившие в 80-е гг. III в., стали называть себя кельтским словом «багауды»[5].
Неизвестно, когда точно и в каких обстоятельствах вспыхнуло восстание бага-удов. Скорее всего, это было связано с ситуацией, сложившейся в Галлии в 80-е гг. После гибели императора Проба в 282 г. варвары (вероятнее всего, это были аламаны и франки) начали снова вторгаться в Галлию. Для борьбы с ними новый император Кар направил своего сына Карина, дав ему титул цезаря. Эта новая война не могла не сопровождаться грабежами и убийствами. В такой обстановке вполне могло начаться восстание. Основной его силой явилось крестьянство.
К нему присоединились дезертиры, разбойники и другие деклассированные элементы. Центром восстания стал укрепленный форт близ впадения реки Матерны (Марны) в Секвану (Сена) — Castrum Bagaudorum[6]. Карину удалось если не подавить восстание, то, по крайней мере, ослабить его остроту. Однако смерть на Востоке сначала его отца, а затем брата Нумериана и провозглашение императором Диоклециана в 284 г. заставили Карина со всеми своими войсками двинуться против нового претендента на власть. В этих условиях восстание явно приняло новый размах.
Во главе восстания встали Элиан и Аманд. Аманд даже объявил себя императорам и даже стал выпускать свои монеты с полной императорской титулатурой[7]. Выпуск монет ясно говорит, что в распоряжении повстанцев оказались довольно значительные ресурсы, позволившие начать чеканку. Из своих сторонников Элиан и Аманд создали настоящую армию, сделав земледельцев пехотинцами, а пастухов— кавалеристами. В своей тактике багауды в большой мере копировали вторгавшихся в Галлию варваров, считая, по-видимому. эту тактику наиболее успешной в борьбе с императорской армией. Избрание восставшими старинного кельтского слова в качестве самоназвания говорит о том, что они мечтали о восстановлении доримских порядков, представлявшихся им «золотым веком» свободы. Однако вопрос о целях самих предводителей вызывает споры. Монеты Аманда по своим типам не отличаются от обычных римских, и ничего специфически местного, тем более старинного кельтского, в них нет. Изображения и легенды их реверсов — типично римские. Из божеств здесь представлены только Венера и Юпитер. Конечно, не исключено, что под видом этих римских божеств здесь изображены кельтские боги. Однако сами изображения — совершенно римские. Вполне возможно, что Элиан и Аманд просто использовали растущее недовольство широких масс галльского населения для захвата власти ими самими, что в условиях общей смуты казалось вполне достижимым[8]. Именно эти их претензии на власть то ли во всей Империи, то ли хотя бы в Галлии могли испугать Диоклециана и заставить его принять строчные меры. Однако сам он был занят казавшимся более грозным вторжением квадов и маркоманов в Паннонию и, следуя примеру Кара, направил в Галлию своего друга Максимиана, тоже дав ему титул цезаря.
Кампания Максимиана против багаудов оказалась короткой. Максимиан не стал вступать с повстанцами в открытое сражение, но различными маневрами отрезал их от всех баз продовольствия, обрекая их на голод. К голоду присоединилась эпидемия чумы. Голод и болезнь сделали свое дело. Багауды были осаждены в своем укреплении. На помощь Максимиану пришлось призвать командира британского флота Караузия, который своими кораблями дополнил сухопутную блокаду. В результате в скором времени багауды вынуждены сдаться. Неожиданно Максимиан проявил некоторое милосердие. Конечно, репрессии были довольно жестокими, но размах их оказался не таким масштабным, как ожидалось. Видимо, в сложившейся ситуации Максимиан решил не особенно ожесточать местное население, чтобы не ослаблять свой тыл, поскольку после подавления восстания он столкнулся с тем. что Караузий. гордый своими победами не только над багаудами, но и над пиратами, сам провозгласил себя императором.
Восстание багаудов было подавлено. Казалось, что и само это имя исчезло из памяти. Конечно, в Галлии и позже случались различные беспорядки, но о том, что мятежники или разбойники называли себя багаудами, ничего не слышно. Это название неожиданно снова появилось в начале V в. Видимо, все это время память о багаудах все же жила в широких массах галльского населения. И когда положение в Галлии снова обострилось, возродились и багауды.
В канун нового, 407 г. новые массы варваров, вандалы, аланы и свевы перешли Рейн и вторглись в Галлию. Римских войск на границе практически не было, а попытка франков помешать переправе не удалась. Варвары стали разорять страну. В этих условиях многие люди, и прежде всего крестьяне, стали покидать свои селения, в которых они чувствовали себя совершенно незащищенными, и объединяться в отряды, которые сами часто занимались разбоем. Эти отряды могли быть довольно значительными. Когда после неудачной кампании против узурпатора Константина императорская армия под командованием Сара отступала в Италию, то она не смогла пройти через Альпы, т. к. путь ей преградили багауды. Только после того как Сар отдал багаудам всю полученную в Галлии добычу, багауды предоставили его армии свободный проход. Конечно, армия Сара была армией побежденных, но она все же оставалась довольно значительной, и тот факт, что она не смогла прорваться в Италию, говорит о силе багаудов. Речь явно идет уже не о какой-нибудь разбойничьей шайке, а о почти армии, сила которой, по крайней мере, равнялась силе римского войска. К сожалению, никаких сведений о действиях багаудов в этом регионе в более позднее время нет. Правда, много лет спустя здесь действовали некие варги, которые занимались разбоем, в том числе похищением богатых женщин, которых можно было бы продать или отпустить за выкуп. Связаны ли варги с багаудами, неизвестно.
Эпизод с задержкой армии Сара относится к концу 407 г. или, скорее, уже в 408 г. Однако еще до этого в других местах Галлии происходили восстания, которые привели к фактической ликвидации римской администрации и действия римского права на определенной территории. Когда в 407 г. армия Константина покинула Британию и переправилась в Галлию, там уже существовала какая-то территория, не признававшая римскую власть. Скорее всего, это была Арморика[9]. Эта территория была наименее романизованная. Здесь больше, чем в других районах Галлии, сохранились доримские кельтские порядки. Константин успешно воевал и с варварами, и с войсками императора Гонория, и ему удалось более или менее восстановить стабильность и порядок в Галлии, но сил одновременно подавить восстание в Арморике у него уже не хватало[10]. И после разгрома Константина и восстановления власти западного императора в Галлии эта территория так и осталась свободной, там не действовали римские суды и чиновники, а суд вершили крестьяне. Аристократические противники даже утверждали, что здесь господа стали рабами своих слуг, а богачи уже из-за одного своего богатства считались в судах виновными. Видимо, можно говорить о реальной независимости сельских общин, которые и стали основными ячейками местной жизни. Размеры этой территории точно установить трудно, но часть, по крайней мере, долины Нигера (Луара) входила в нее[11]. Лишь к 417 г. восстание было подавлено. Силы, подавившие восстание, возглавил Экзуперанций. Позже он станет префектом претория для Галлии, но какую должность он занимал в 417 г., неизвестно. Сам он происходил именно из долины Лигера, так что вполне возможно, что под его руководством были собраны силы местных магнатов, и именно они, а не регулярные римские войска подавили восстание. Однако и после этого ситуация на северо-западе Галлии оставалась весьма серьезной. В 418 г. «сильный человек» западного правительства Констанций заключил договор с вестготским королем Валлией, по которому вестготы поселились в Юго-Западной Галлии, практически у южных границ Арморики. Одной из целей этого обоснования варваров было, видимо, стремление правительства сделать из них дополнительную силу, которая в случае необходимости могла бы сдержать повстанцев, если бы восстание в Арморике вспыхнуло вновь. Может быть, для предотвращения новых восстаний и защиты этой территории от продолжавшихся нападений германских пиратов Констанций создал особый дукат Армориканского тракта — некий вид военного управления этой областью.
Однако если западноримское правительство надеялось таким образом решить проблему Арморики, то оно ошибалось. Подавление восстания и поселение вестготов на некоторое время стабилизировали обстановку. Но через некоторое время здесь снова началось восстание. Галлия во все большей степени становилась ареной самых различных войн, несущих с собой убийства, разорения, грабежи. Западная империя, теряя одну область за другой и терпя все большую нужду в средствах, увеличивала налоги, стремясь за счет еще оставшихся подданных компенсировать потери. В Галлии это привело к усилению налоговой тяжести именно в северных и западных ее регионах, оставшихся вне арены действий варваров. Произвол чиновников и судей увеличивал тяжесть ситуации. Это еще больше разоряло в особенности низшие и средние слои галльского населения. Грань, отделявшая свободных бедняков от рабов, становилась очень тонкой, и угроза порабощения постоянно висела над крестьянами. В то же время римская административная система уже была не в состоянии действовать столь же эффективно, как это было раньше. Все это способствовало повышению активности галльских крестьян. Многие предпочитали, если так можно выразиться, «пассивную активность»: они бежали под покровительство варваров, которых в Галлии становилось все больше. В Арморике же дело дошло до нового открытого выступления[12]. Здесь вновь выступили багауды. Багаудское движение. по-видимому. никогда не было полностью подавлено. К багаудам, как и к варварам, бежали отчаявшиеся крестьяне. Теперь багауды выступили как активная повстанческая сила. Арморика находилась сравнительно далеко от арены особенно ожесточенных войн с варварами. Однако туда, по-видимому. уже начали прибывать эмигранты из Британии. Остров к тому времени был полностью оставлен римскими властями и войсками и все более подвергался вторжениям пиктов и скоттов с севера и запада, а затем к ним прибавились нападения на побережье англов, саксов и ютов. В этих условиях, не получая никакой помощи от власти и не имея достаточных сил для сопротивления, британцы начала переселяться в Арморику. Этот процесс переселения из Британии в то время только еще, кажется, начался, но он уже мог чувствоваться местным населением. Армориканцы оказались между двух огней — произволом римских чиновников и британцами, в своем стремлении найти новую родину начавшими вытеснять местных жителей. Оказавшись в таком положении, они в 435 г. восстали.
Было ли это восстание стихийным, сказать трудно. Во всяком случае, нет никаких сведений о его подготовке. Надо, однако, отметить два важных момента. Во-первых, повстанцы совершенно ясно поставили своей целью полностью отделиться от Римской империи. Багауды 80-х гг. III в. не собирались отделяться от Империи. Недаром их вождь принял всю титулатуру римских императоров, что подчеркивало их принадлежность к существующему государству, от которого они ожидали справедливости. О целях багаудов начала V в. определенно сказать трудно. В значительной степени их движение сводилось к разбою, хотя на северо-западе Галлии оно привело на некоторое время к фактической независимости местных общин. Движение багаудов 30-х гг. было явно и сознательно сепаратистским. Эти багауды стремились создать на занятой ими территории (может быть, и во всей Галлии, по крайней мере, в той ее части, которая еще находилась под контролем имперского правительства) свое государство. Они отказались от римского гражданства, и в глазах римлян они являлись такими же или почти такими же варварами, как и готы. Однако для римлян существовало очень большое различие между собственно варварами и багаудами. Вторгнувшиеся на территорию Империи варвары, как и те варвары, которые оставались за пределами государства, все же юридически являлись «врагами» (hostes), и с ними можно было заключать договоры (foedera), в то время как багауды были «разбойниками» (latrones), с которыми всякие переговоры исключались и движение которых можно было только подавить. Во-вторых, был очень удачно выбран момент восстания. В это время обострились отношения западного римского правительства с варварами, особенно с бургундами. Те фактически разорвали прежний договор и объявили себя совершенно самостоятельными. То же самое сделали вестготы. Все это для римлян явно было более важным, чем мятеж в сравнительно далекой Арморике.
В скором времени выделились вожди (principes) восстания, одним из которых был некий Тибаттон. Участвовали ли они в подготовке восстания (если оно было не стихийным), неизвестно. Наличие лидеров позволяет говорить о некоторой организованности повстанцев. Сначала восстание охватило так называемую Дальнюю Галлию[13]. Однако довольно быстро оно вышло за пределы этого региона. Там к нему присоединились рабы. Все эти повстанцы приняли старинное название «багауды». Хотя у нас нет никаких сведений о конкретных успехах багаудов, один факт, что восстание не только не было быстро подавлено, но и распространилось на значительную часть страны, говорит об этих успехах. Затем, однако, положение изменилось. Аэций разбил бургундов, а затем, натравив на них гуннов, добился полного уничтожения Бургундского королевства. Это позволило направить римские силы против багаудов. Эту армию возглавил Литорий, подчиненный Аэцию. Значительную часть войска Литория составляла гуннская кавалерия. Только с ее помощью в 437 г. восстание было подавлено. Часть его вождей была уничтожена, другие, включая Тибатгона, взяты в плен. Подавление восстания сопровождалось убийствами и грабежами, совершаемыми в первую очередь гуннами[14]. Римская власть в Арморике была восстановлена.
Вскоре после подавления восстания армия Литория двинулась на юг, чтобы освободить от вестготской осады Нарбонн. Чтобы в этих условиях предотвратить новое восстание, Аэций дал земли для поселения в Дальней Галлии аланам[15]. Эта группа аланов во главе с королем Гоаром уже три десятилетия находилась в Галлии, хотя, как кажется, твердых мест для своего поселения, как вестготы и бургунды, не получила. Теперь такие земли вместе с их жителями им были предоставлены к северу от Лигера. Появление здесь аланов, однако, только обострило ситуацию. Произвол аланов, сгонявших людей с их земель, вызвал сопротивление землевладельцев. Регион снова был охвачен военными действиями. Перевес оказался на стороне аланов, которые не только подчинили себе сопротивлявшихся, но и захватили их имущество. Кто были domines terrae, собственностью которых овладели аланы, сказать трудно. Судя по тому, что в этом регионе крупная собственность хотя и имелась, но все же не составляла главную черту сельскохозяйственного пейзажа, можно полагать, что среди этих domines были также средние и мелкие землевладения. Римская власть не вмешивалась в эти события. Это обстоятельство отражало общую ситуацию в Западной Римской империи. Правительство могло сосредотачивать свои усилия только на наиболее, с его точки зрения, угрожаемых участках, предоставляя на остальной территории местным жителям самим справляться со своими проблемами. Армориканцы. не получая никакой помощи от властей, обратились за поддержкой к епископу Автессиодура (совр. Оксерр) Герману. Перед нами фактически тот же обычай провинциальной клиентелы, который существовал во времена республики, когда бесправные и угнетаемые провинциалы выбирали себе патрона из числа известных им полководцев или магистратов (либо промагистратов), которые несколько отличались от остальных в лучшую сторону. Только теперь вместо римских нобилей речь шла о местных магнатах или чаще епископах. Обращение к Герману тоже было неслучайным. Кроме того, что он был епископом, известным своей набожностью и искренней религиозностью, он происходил из местной влиятельной семьи, вскоре после подавления восстания в Арморике во втором десятилетии V в. являлся дуксом Tractus Armoricanus и, по-видимому, в этом качестве приобрел определенный престиж среди местного населения. Он защищал своих сограждан в переговорах с префектом претория для Галлии. К тому же он только что совершил второе путешествие в Британию, чтобы помочь местным христианам, и, по-видимому, независимо от реальных результатов своей миссии считался умелым дипломатом. Эта миссия Германа удалась. Хотя Гоар, как и все аланы, был язычником, он все же уступил просьбам епископа и согласился отвести свое войско с части, по крайней мере, захваченных земель, выдвинув, однако, условие, чтобы это соглашение было утверждено императором или Аэцием. С этой целью Герман направился в Равенну, и на какое-то время мир вернулся в Арморику[16].
Мир, однако, сохранялся недолго. Во время пребывания Германа в Равенне или незадолго до его туда прибытия Тибаттон явно бежал из заключения и поднял в Арморике новое восстание. На этот раз на его подавление двинулся сам Аэций и, может быть, под его командованием Меробауд, который до этого успешно сражался в Испании против тамошних повстанцев, которые тоже именовали себя багаудами. Восстание явно было плохо подготовлено и довольно быстро подавлено. Было лив этих условиях ратифицировано соглашение между Германом и Гоаром, точно неизвестно. Сам Герман в это время умер в Равенне, повстанцы подверглись жестоким репрессиям, Тибаттон был убит, но о действиях аланов уже ничего не известно. Они, видимо, все же предпочли соблюсти достигнутое соглашение независимо от позиции Равенны и поселились в районе Ценаба (совр. Орлеан).
В скором времени вспыхнуло новое восстание багаудов, возглавляемое неким врачом по имени Евдоксий[17]. О фигуре этого Евдоксия мы почти ничего не знаем, кроме того, что он был врачом и обладал довольно искусным умом. По-видимому, его деятельность позволила ему приобрести некоторый престиж среди окружающих. Когда это восстание началось, мы не знаем, известно лишь, что в 448 г. Евдоксий бежал к гуннам, которые к тому времени заняли позицию, враждебную Западной империи и Аэцию[18]. По-видимому, с этим восстанием связана оборона города Туронов (Тура), в которой отличился будущий император Майориан. Это может говорить о довольно широком масштабе восстания. В 448 г. восстание, видимо, было подавлено. Подавление восстаний багаудов становилось частью общего «восстановления Галлии», произведенного Аэцием.
Прошло всего три года, и в 451 г. армориканцы участвовали в битве на Каталаунских полях против гуннов. В отличие от вестготов, которые являлись самостоятельными союзниками римлян, армориканцы выступали в качестве вспомогательных частей (auxiliares) в составе римской армии. Однако названы они вместе с франками, саксами, бургундами и другими племенами, которые не находились под римской властью. Говоря в этой же связи о брионах (олибрионах), историк подчеркивает, что они ранее были римскими воинами, а теперь находились в составе вспомогательных войск. Таким образом, римляне и auxiliares противопоставляются друг другу. Армориканцы наряду с другими племенами Кельтики и Германии названы nationes. Поэтому вполне можно предположить, что к 451 г. армориканцы по отношению к Империи стояли на том же уровне, что «внешние варвары». Их уже явно перестали считать «разбойниками». Отсюда вывод, что они. вероятнее всего, освободились от римской власти. Страх перед грозным вторжением гуннов, о грабежах и убийствах которых они уже знали по своему недавнему опыту, мог склонить их вступить в армию Аэция. С другой стороны, и Аэций перед лицом грозящей опасности должен был забыть свое прежнее отношение к багаудам и признать их достойными воевать с врагами наряду с другими nationes. Вероятно, их стали считать такими же федератами, как и варваров. Если это так, то не исключено и заключение договора (foedus), аналогичного другим подобным договорам, в силу которого армориканцы получали официальное право на самоуправление и неуплату налогов, а они, в свою очередь, официально признавали верховную власть императора и обязанность воевать по его приказу. Впрочем, это — лишь гипотеза, основанная не на фактах, а на логическом рассуждении. Когда же в 80-х гг. того же V в. франкский король Хлодвиг завоевал последние римские владения в Северной Галлии, Арморика практически осталась вне сферы его действий. Последнему римскому правителю этой области Сиагрию она уже совершенно ясно не подчинялась. По-видимому, перед лицом гораздо более грозной опасности западное правительство решило оставить эту беспокойную область, как несколько десятилетий ранее сделало с Британией.
Как говорилось в самом начале, освобождение Арморики было результатом движения багаудов. Хронист ясно связывает с багаудами и Тибаттона и Евдоксия.
В том, что багауды принадлежали к низшему слою населения свободного населения — humiliores, нет никакого сомнения (даже если к ним могли по тем или иным причинам примыкать представители высшего слоя)[19]. Латинские авторы называют багаудов rustici, rusticani, agrestes, т. е. крестьянами. Во время выступления Тибаттона за ними пошло и значительное количество рабов (servitia). Надо подчеркнуть, что никакой связи с варварами движение багаудов не имело. Ни в Галлии, ни в Испании, где в 441 г. тоже появляются багауды, они не действовали на территории, занятой варварами (вестготами, бургундами, свевами, франками). Более того, варварские войска или самостоятельно, или в рядах римской армии активно использовались для подавления действий багаудов[20]. Это ясно говорит о том, что багаудское движение являлось чисто внутренним феноменом. Конечно, оно проявилось в результате резкого ослабления римской власти, в том числе и в ходе варварских вторжений, но непосредственно с этими вторжениями оно связано не было. Частота повторяющихся восстаний в первой половине V в. ясно говорит о существовании не просто недовольства произволом римских властей (особенно судей) и тяжестью налогов или страха перед варварами, но широкой базы багаудского движения. Территориальный ареал этого движения показывает связь этой базы с наличием сильного кельтского элемента. Уже одно настойчивое использование названия «багауды» подтверждает эту связь. Резкое ослабление римской государственной машины в первой половине V в. имело своим результатом «снятие», хотя, может быть, и неполное, покрова романизации и выдвижение на первый план кельтского субстрата[21]. Едва ли в повторных выступлениях багаудов надо видеть чисто национальное движение. Но существование этой составляющей представляется весьма вероятным. Видимо, национальные и социальные мотивы в этом движении были соединены воедино.
Однако и этой констатацией (или, по крайней мере, предположением) едва ли можно обойтись. В Житии св. Маврикия рассказывается, что воин Фиванского легиона Маврикий, являясь христианином, убедил своих товарищей не сражаться против багаудов. выступивших под руководством Аманда и Элиана, поскольку те тоже являются христианами, за что солдаты, нарушившие воинскую присягу, но сохранившие свою христианскую веру, были казнены Максимианом. Независимо от того, имел ли место этот солдатский мятеж или нет (ни один другой автор об этом не говорит), мнение о христианстве багаудов III в. не может быть принято. Самая ранняя часть пассиона св. Маврикия была написана лугдунским епископом Евхерием в 443–450 гг., т. е. в разгар движения багаудов. Тридцатью годами раньше Орозий не только ничего не знал о христианстве багаудов, но и называл их выступление гибельным мятежом и отмечал воинскую доблесть Максимиана[22]. Так что представление о христианском характере багаудского движения возникло только уже в V в., и те багауды, которые подняли восстание в 435 г., были, по-видимому уже христианами. В Испании естественными местами сбора багаудов были церкви[23]. То же самое могло иметь место и в Галлии. Сказания о мученичестве св. Маврикия и его товарищей распространялись преимущественно в районах действий багаудов. Там же позже появились и стали довольно популярными легенды о христианских багаудах. Имя Бакауда (реже Багауда) в VI–VII вв. было распространено, в том числе и среди высшего духовенства, в Италии, Испании, Далмации. По-видимому, какое-то понимание христианства как учения о равенстве могло стать важным идеологическим компонентом багаудского движения[24].
Арморика находилась относительно далеко от основных районов действий варваров. Ее жителям, правда, приходилось иногда иметь дело с вестготами, но для самих вестготов это направление их акций являлось второстепенным. После поражения вестготской армии во главе с братом короля Фредериком от римлян и, может быть, аланов на Нигере вестготы практически прекратили военные действия в этом регионе. Однако вскоре армориканцам пришлось иметь дело с британцами. Они уже начали появляться в Арморике в первой половине V в., но позже их натиск становится все более мощным. По мере наступления германцев в Британии кельты все активнее переселяются через море в Арморику. В скором времени британцев там стало так много, что полуостров Арморика стал называться Британией. Так уже в конце VI в. его называл Григорий Турский. Важнейшим фактором была явно географическая близость и удаленность от основной арены варварских нашествий. Но роль могло играть и соображение этнической близости, поскольку и британцы, и армориканцы были кельтами. Если это так, то сами армориканцы были, как кажется, другого мнения. Сами сравнительно недавно боровшиеся с римской властью и добившиеся освобождения от нее, они теперь в противовес пришельцам стали себя называть римлянами, хотя те и другие были кельтами. Однако на этот раз преимущество было не на их стороне. Большая часть полуострова была занята пришельцами из Британии. Границей между этой новой Британией и территорией «римлян» стала река в восточной части полуострова. «Римляне», обитавшие восточнее этой реки, подчинились франкским королям, в то время как на полуострове образовались самостоятельные политические единицы, позже объединившиеся в Бретонское графство. Освобождение Арморики от римской власти не привело к появлению там собственной государственности.
Британия. Освобождение Британии от римской власти тоже не связано с варварскими вторжениями. Однако это произошло в совершенно других условиях, чем в Северо-Западной Галлии. Британия была самой удаленной от центра европейской провинцией Империи. Собственно говоря, Британия никогда не была полностью римлянами завоевана. Ее северная часть (Каледония) так и осталась независимой, несмотря на неоднократные попытки различных римских императоров завершить завоевание. Хотя порой римским армиям и удавалось проникнуть вплоть до самого северного окончания острова, к подчинению его северной части это не привело. Император Адриан в 20–30 гг. II в. был вынужден построить специальный вал поперек всего острова, чтобы отгородить римскую провинцию от независимой Каледонии. Позже его преемник Антонин Пий построил новый вал к северу от вала Адриана, включив таким образом район между ними в провинцию. В результате валы стали подлинной границей Империи в Британии. Однако полностью предотвратить вторжения живших на севере пиктов эти валы не смогли. Пикты, а затем и скотты не раз прорывались через них, и это вело к новым войнам на острове. После одной такой войны император Каракалла в 211 г. фактически оставил вал Антонина, так что римская Британия снова была ограничена валом Адриана. Пикты не раз прорывались через этот вал. Скотты, переправляясь из Ирландии, нападали на западное побережье Британии. Со второй половины III в. южное и восточное побережья острова стали разорять сакские и франкские пираты. Римляне были вынуждены держать здесь значительные военные силы, которые к 200 г. доходили до 50 тысяч человек. Но это спасало не всегда. Так, в 367 г. в римские владения вторглись пикты, скотты и аттакотты. Часть населения римской Британии, измученная произволом местных чиновников, поддержала варваров. В борьбе с ними римляне потерпели поражение, потеряв некоторых своих командиров и даже комита побережья, ответственного за оборону британских берегов, Нектарида. Северные варвары прорвались до Лондиния и даже прошли дальше. Еще сложнее стало то, что римская армия несла потери не только в боях с врагом, но и из-за дезертирства. Положение столь осложнилось, что весной 368 г. в Британию пришлось направить новую армию во главе с уже прославившимся полководцем Феодосием. Феодосий переправился в Британию и, разбив врагов, занял Лондиний. Однако окончательный перелом произошел только тогда, когда Феодосий сумел мягкими мерами и обещанием полного прощения вернуть дезертиров в армию и уже с такой пополнившейся армией в течение двух кампаний 368 и 369 гг. нанести варварам окончательный удар. Римская власть в Британии была восстановлена. Восстановлены были также разрушенные города и крепости, в том числе укрепления вала Адриана.
Романизация римской Британии была относительно слабой и неравномерной. Более далекие и менее плодородные земли, непривычный климат, воспоминания о долгих войнах, преувеличенные слухи о дикости местных жителей — все это останавливало потенциальных переселенцев. Поэтому колонистами здесь были преимущественно ветераны, да и ветеранские поселения в большинстве районов концентрировались ближе к местам расположения войск. Виллы римского типа располагались почти исключительно вокруг немногих городов и вдоль дорог. Несмотря на усилия римских властей заставить местное население покинуть укрепленные поселения на высотах, те продолжали существовать. В городах этой зоны римляне и аборигены тоже жили раздельно. А население тех городов, которые развились из племенных или родовых центров, вообще было чисто местным, не считая заезжих торговцев и чиновников римской администрации. Британия позже была разделена на пять провинций, объединенных в диоцез Британию. И каждая провинция в огромной степени состояла из отдельных civitates, которые фактически сохраняли старый родоплеменной характер. На западе даже civitates, как кажется, не было, и люди жили еще более мелкими родовыми общинами. В западных районах местные кельтские языки не только продолжали существовать, но и были широко распространены. Трудно сказать, говорили ли вообще местные жители по-латыни.
Незавершенность завоевания и продолжающиеся войны вели к тому, что в Британии, как уже говорилось, было сконцентрировано довольно большое количество войск, располагающихся в районе пограничных валов. В их тылу появились четыре ветеранские колонии. Но кроме этих колоний, относительно больших городов в Британии было мало. В западной части острова их и вовсе не было. Долгое время в стране имелся всего один муниципий — Веруламий. Даже Лондиний (совр. Лондон), являвшийся довольно крупным торговым и ремесленным центром, ставший позже столицей сначала провинции, а затем диоцеза, получил статус муниципия (или, может быть, колонии), вероятнее всего, только во II в. Римская армия в Британии была мало связана с местным населением: воины легионов и вспомогательных частей обычно доставлялись с материка. Это могло быть связано с тем, что войны в Британии продолжались, и римляне не имели оснований доверять местным уроженцам. Этническая рознь ограничивала контакты с аборигенами не только действующих частей, но и ветеранов. Колонии в Британии не стали такими очагами романизации, как это было на континенте. Земельные участки ветеранов располагались вокруг колоний. К городам и дорогам стремились и виллы романизованных британцев, связанных с рынком, ремеслом и поставками армии. А за этими пределами жили почти неизменной жизнью британские крестьяне, сохранившие и древние круглые хижины, и доримские способы обработки земли. Конечно, крестьяне платили налоги, для удовлетворения некоторых своих нужд покупали товары на городском рынке, а чаще у странствующих торговцев, кое-что продавали. так что в некоторой степени втягивались в существующую систему товарноденежных отношений, но в целом сохраняли натуральное хозяйство. В горных районах в центре и на северо-западе острова жители занимались скотоводством и не поддавались римскому воздействию.
В конце III–IV в. происходят значительные изменения в жизни Британии. Большие города, такие как Лондиний или Веруламий, приходят в упадок, их территория сокращается приблизительно наполовину. Характерно, что в Британии нет епископств, центрами которых были бы крупные города. Зато расцветают небольшие города, являющиеся преимущественно центрами civitates. Еще больше заметен расцвет вилл, которые и становятся основными центрами британской экономики. Богатство их владельцев растет. Их наполняют различные изысканные импортные товары, в том числе тонкая керамика из Галлии и даже из Восточного Средиземноморья. Полы теперь украшаются полихромными многофигурными мозаиками, пришедшими на смену черно-белым геометрическим. Это свидетельствует о сохранении и даже усилении торговых связей с Галлией, а через нее и с другими странами, входящими в Римскую империю. Хозяевами этих вилл являются местные магнаты. Они сравнительно мало участвуют в общей жизни Империи. Характерно, что из Британии не вышло ни одного сенатора. В Британии еще сильнее, чем в Галлии, ощущается «кельтское возрождение». Хотя в узорах местной керамики и ощущается римское влияние, в целом она показывала ясную связь с доримскими сосудами. Главным богатством местных магнатов были земля и скот, поэтому они не очень нуждались в римской монете, и в начале V в. монетная экономика в Британии почти перестала функционировать.
Зато британская армия пытается играть ведущую роль в политической жизни государства. Располагаясь довольно далеко от центра, находясь в чуждом окружении, будучи постоянно готовыми к войнам с северными варварами, солдаты этой армии чувствовали себя в некоторой степени ущемленными. Снабжение британской армии порой бывало затрудненным, и это вызывало возмущение солдат. Недаром римские писатели говорили, что Британия постоянно готова к мятежам. Речь шла именно об армии, а не о местном населении, поскольку после I в. никаких мятежей подчиненного населения в Британии не наблюдалось. Во второй половине 382 или в начале 383 г. британская армия провозгласила императором своего командующего Магна Максима. Максим организовал экспедицию против пиктов и скоттов, чтобы обезопасить Британию от их вторжения в ходе новой гражданской войны, а затем уже переправился на материк. Действия Максима были успешны, и он захватил сначала заальпийские области Римской империи, а затем и Италию с Римом. Однако в войне против Феодосия Максим потерпел поражение и был убит. Возможно, что Максим увел из Британии не всю римскую армию. По некоторым сведениям, в составе его войска больше было новобранцев из самой Британии, так что основная или, по крайней мере, значительная часть армии оставалась на острове, обеспечивая его безопасность. Более того, в 384 г. Максим снова побывал в Британии, по-видимому, либо укрепляя свой тыл, либо удостоверяясь в его надежности.
Новый военный мятеж в Британии начался в 406 г. На этот раз дела повернулись иначе. Собственные ресурсы острова были не очень значительными, и британская армия в огромной степени зависела от снабжения с материка. Оказавшись в затруднительном положении, западноримское правительство, по-видимому, перестало снабжать британскую армию или, по крайней мере, сократило это снабжение. Корабли с серебряными монетами почти перестали приходить в Британию. При находках довольно большого количества кладов с монетами в них очень мало вещей, выпущенных после 402 г., а затем монеты исчезают вовсе. А нужда в монетах оставалась. Монеты по-прежнему циркулировали на острове, но их физически становилось все меньше. Центральная власть фактически перестала вмешиваться в дела, происходившие в Британии, в том числе отказывалась снабжать армию. Эго означало, что отныне вся тяжесть уплаты солдатского жалованья ложилась на плечи местных властей. А те справиться с этой задачей были не в состоянии. Это, естественно, вызвало недовольство солдат. Войска провозгласили императором некоего Марка. Марк правил несколько месяцев, но его правление не удовлетворило солдат, и он был убит. На его место в 407 г. воины поставили некоего местного уроженца Грациана. Возможно, мятежные солдаты этим хотели получить поддержку местного населения. Возможен и другой вариант. Грациан, вероятнее всего, принадлежал к куриалам одного из городов провинции[25]. Делая императором такого человека, солдаты вполне могли рассчитывать не просто на поддержку городов, но и на «приватизацию» в свою пользу всех тех налогов, которые собирали местные куриалы. Однако либо население этот акт армии не оценило, либо местных налогов было слишком мало, чтобы удовлетворить аппетиты взбунтовавшихся воинов, но в любом случае Грациан через четыре месяца тоже был убит. После этого британские солдаты избрали императором своего товарища— простого солдата Константина. Став императором, он стал называться Флавием Клавдием Константином. Выбор имен был не случаен. В это время вандалы, аланы, вестготы, прорвавшиеся через рейнскую границу, разоряли и грабили Галлию. Ни император Гонорий, ни фактически правивший за его спиной Стилихон, занятые в первую очередь защитой Италии, ничего не предпринимали для восстановления порядка в Галлии. Принимая имена, напоминавшие о былом величии Империи и о победах Клавдия 11 и Константина I, узурпатор демонстрировал свою цель — отбросить варваров за пределы Римской империи и восстановить ее величие, чего никак не могут сделать Гонорий и Стилихон. С этой целью Константин в том же 407 г. все войска, находившиеся в Британии, вывел с острова и переправил в Галлию[26]. Там он добился значительных успехов, но Британия осталась совершенно незащищенной. Если Магн Максим накануне гражданской войны обезопасил римскую провинцию от варварских вторжений и даже сам однажды снова побывал на острове, то Константин и не подумал делать что-либо подобное. И северные варвары вскоре этим воспользовались. Они прорвались через вал Адриана и обрушились на римскую Британию. Многие виллы и даже некоторые города были разрушены и разграблены. Видимо, с этим связано появление кладов монет. Хотя монетная экономика и перестала фактически функционировать, сами по себе монеты были значительной ценностью, и их владельцы стремились уберечь их от врагов. Характерно, однако, что владельцы так этими кладами и не воспользовались. Это — ясный знак резко возросшей политической нестабильности[27].
Сведений о дальнейших событиях в Британии так мало, что мы знаем только об отдельных эпизодах, связь между которыми можно установить лишь гипотетически. Именно в качестве гипотезы можно предложить следующее развитие событий сразу же после ухода римской армии. Воспользовавшись беззащитностью бывшего римского диоцеза Британии, пикты и скотты стали все активнее нападать на британцев. Прорыв через вал Адриана, о чем было только что сказано, не остался их единственной акцией. Результатом таких вторжений стал массовый голод. В условиях усиливающихся угроз со стороны пиктов и скоттов начались внутренние волнения. В это же время Константин со своей армией все более втягивался в дела Галлии и Испании, так что надеяться на его помощь было бессмысленно. При любом военном выступлении гражданская администрация не могла играть никакой самостоятельной роли и спокойно признавала очередного узурпатора. Так, видимо, произошло и в Британии, где местные римские власти признали Константина (как и его предшественников). В этих условиях у британцев не было иного выхода, как доказать свою верность законному императору Гонорию. С этой целью они выступили против местных римских властей, которые без поддержки армии оказать какое-либо сопротивление, естественно, не могли, и это выступление могло быть облечено в форму восстановления власти Гонория. Вслед за тем британцы в 410 г. или несколько позже обратились к Гонорию с просьбой о помощи. Однако императору в Равенне было не до Британии, ибо в самой Италии действовали вестготы, а в Галлии царил политический и военный хаос. Отвечая британцам, Гонорий посоветовал им рассчитывать только на себя[28]. В такой ситуации британская элита взяла на себя и административные функции. Британия практически освободилась от власти западноримского правительства с молчаливого согласия последнего, хотя формально обе стороны все еще считали Британию частью Империи[29].
Связи Британии с континентом были практически прерваны. Характерно, что в ней вообще до сих пор не найдено ни одной римской монеты, выпушенной после 408 г. На острове практически возродились туземные порядки. Какое-то время они, как кажется, сосуществовали с римскими. Может быть, в первое время именно civitates стали основными ячейками жизни британцев, в то время как еще сохранявшиеся в первые десятилетия века города сохраняли римскую административную структуру и римское право. Можно, пожалуй, говорить о временном сосуществовании сохранившихся в городах римских структур и местных кельтских структур в civitates. Civitates затем могли объединяться в более значительные политические единицы. Во главе таких единиц стояли их лидеры, которых несколько более поздние авторы, следуя позднеантичному словоупотреблению, называют королями (reges) и тиранами[30]. Последний термин, видимо, предполагает, что власть такого лидера основывается не на римской праве[31]. Что-либо определенное сказать о характере этих единиц трудно. Пожалуй, речь идет о ранних государствах типа, похожего на существовавший у кельтов части, по крайней мере, Галлии и Британии до римского завоевания, хотя, разумеется, три с половиной столетия жизни в рамках Римской империи не могли не наложит свой отпечаток на их основные черты. На чем основывалась власть таких королей, сказать трудно. Возможно, что определенную роль играли происхождение и семейные связи. Но еще большее значение приобретали военные успехи таких предводителей, а малейшая неудача могла привести к их свержению.
К середине V в. в Британии происходят новые важные изменения. Резко уменьшается, а затем и практически прекращается импорт с континента. Почти исчезли города. Только очень немногие, как Лондиний (Лондон) или Камулодун (Кольчестер), еще сохранились, но скорее как укрепленные пункты для защиты окружающего населения, чем как политические, экономические или культурные центры. Приходят в упадок и некогда богатые виллы. С исчезновением городов и упадком, а позже тоже исчезновением вилл исчезли и римские административные, юридические и даже, как кажется, социальные структуры. Период сосуществования двух типов структур (римской и кельтской), по-видимому, завершился. Поэтому центром каждого такого раннего государства являлся не город, а более или менее укрепленный двор короля, власть которого основывалась на местных кельтских традициях[32]. Однако прямой связи между правящим слоем доримской Британии и новыми правителями не наблюдается. Вероятно, в ходе длительного завоевания прежняя британская аристократия была уничтожена или, вот всяком случае, потеряла свое ведущее положение в обществе. Правящий слой новых королевств, по-видимому, был больше связан с владельцами вилл римского времени. Видимо, из этого слоя выходили короли нового времени и их непосредственное окружение. Юридические порядки в кельтских королевствах были принципиально неримскими[33]. Вокруг такого короля собираются его дружина и совет из местных аристократов. Хотя некоторых королей называют королями Британии, едва ли кто-либо из них распространял свою власть на всю Британию, т. е. ту часть острова, которая входила в состав Римской империи. Вероятнее всего, таких королевств было несколько (об их числе невозможно ничего сказать даже приблизительно), и они могли бороться не только с внешними врагами, но и друг с другом. Их силы также могли быть различными. Известно, что один из таких королей — Риотам (или Риотим) имел армию, насчитывавшую, по, может быть, несколько преувеличенным сведениям, 20 тысяч воинов. Этот Риотам в конце концов все же покинул Британию и, используя призыв к нему императора Антемия, перебрался со своей армией на материк, чтобы принять участие в борьбе с вестготами. Этот галльский поход Риотама относится к более позднему времени (469–472 гг.), но сам Риотам со своей армией может служить примером силы таких государств и в более ранний период.
Риотам пытался не только участвовать в войне, но и поселиться со своим войском в Галлии. Он обосновался в Битуригах (совр. Бурж), но был разбит вестготами и изгнан из этого города. Однако в Британию он не вернулся, а нашел приют у бургундов. По-видимому, после ухода с острова, и особенно после гибели значительной части его армии, никаких шансов возвратить себе прежнее положение Риотам уже не имел. Этот пример, как кажется, показывает, что среди британских королей шла ожесточенная борьба, и потерпевший поражение не мог рассчитывать на сохранение своей власти и авторитета. Остров все более погружался в атмосферу почти беспрерывной гражданской войны, что еще более ухудшало экономическое положение. К более раннему времени, чем эпизод Риотама, относится борьба между Амбросием и Гвитолином. Амбросий был не собственно британцем, а римлянином. Он относился к тем немногим римлянам, которые по различным причинам не покинули остров после ухода армии Константина и фактического отделения Британии от Империи. Но в его выступлении против Гвитолина едва ли надо видеть проявление борьбы между кельтским и римским элементами на острове. Если говорить о какой-то идеологической базе этой борьбы, то Амбросий мог представлять ту группу британской элиты, которая была склонна сохранять хотя бы чисто формальные связи с Империей, в то время как вокруг Гвитолина могли собираться те группы, которые в сложившихся условиях не видели никакого смысла в сохранении этих связей, даже формальных. И все же вероятнее, что это было обычным соперничеством, каковое было характерно для ситуации в Британии в то время. Время от времени какой-нибудь такой предводитель мог брать верх над остальными. В 30—40-х гг. во главе Британии встал Элаф, которого называли «первым во всей области», за которым «следовала вся провинция»[34]. Таким был также некий Маглокун. которого «Бог поставил выше других вождей Британии». Но сколь долго продолжались первенство этих людей и какова их судьба, неизвестно.
В этих условиях жители Британии начали переселяться на материк. Междоусобная борьба не могла не ослаблять британцев. На какое-то время британцы, действуя не только в открытом бою, но и партизанскими методами, сумели отбить нападения северных (пикты) и западных (скотты) варваров. На некоторое время их набеги вовсе прекратились, и это позволило несколько ожить экономике острова. Долгий голод сменился некоторым достатком. Однако это не привело к стабилизации, поскольку гражданские раздоры и соперничество различных предводителей, вождей, королей в условиях отсутствия внешней опасности только усилились. А затем набеги извне возобновились и, может быть, даже интенсифицировались. Более того, нападавшие с запада (из Ирландии) скотты уже начали поселяться на британской территории. Правда, их было не так уже много, чтобы радикально изменить демографическую и социальную ситуацию в западной части Британии. В 446 г. британцы снова обратились с призывом о помощи к римлянам. На этот раз адресатом их отчаянного призыва являлся фактический правитель Западной империи Аэций, который в этом году в третий раз был консулом и активно действовал в Северной Галлии. Но, как и более раннее обращение к Гонорию, и это обращение «стонущей Британии» не имело желаемых последствий. Аэций настолько погрузился в дела Галлии и Италии, что при всем желании оказать какую-либо помощь далекой Британии был не в состоянии. Если на острове и оставались какие-либо группировки, надеявшиеся на восстановление связей с Империей, то теперь стало ясно, что эти надежды были тщетны. Британским лидерам пришлось искать другую помощь. Один из британских королей, Вортигерн, после совета со своими приближенными обратился за помощью к саксам[35]. Не исключено, что в сложившейся чрезвычайно тяжелой ситуации местные элиты преодолели свое соперничество и собрались на общебританский совет (consilium). И по поручению этого совета Вортигерн обратился к саксам. Вполне возможно, что саксы и другие германцы должны были помочь Вортигерну не только в борьбе с пиктами и скоттами, но и в предотвращении возможного вмешательства Аэция в британские дела. Если это так, то речь шла о сторонниках полной, не только фактической, но и официальной независимости Британии от Римской империи. Призыв к саксам, видимо, был сделан формально от имени всей Британии[36].
Саксы не были неизвестным для британцев народом. К этому времени варвары составляли значительную часть воинов регулярной римской армии, и в рядах этой армии, расквартированной в Британии, имелись германцы, в том числе саксы. Сакские пираты, как уже говорилось, давно нападали на побережье Британии, как и на берега Галлии. Для борьбы с ними был организован специальный флот, а на побережье создана система укреплений — litus Saxon icum, где располагалось несколько когорт. Это все более или менее защищало остров от нападений саксов и других германских отрядов, хотя время от времени саксы все же прорывались на британские берега и успешно грабили их. Однако в условиях политического хаоса, наступившего после ухода армии Константина, германцы стали не просто нападать на британское побережье, но и пытаться поселиться на острове. Это были уже не воины, а группы иммигрантов, включающие также женщин и детей. Судя по археологическим данным, первые германские поселения начали появляться в Британии уже в 20-30-е гг. V в. Эти поселенцы происходили в основном из Северо-Западной Германии. Каков бы ни был экономический упадок бывших римских провинций, они все равно были богаче северо-запада Германии, и уровень жизни в них в целом был выше. Это и привлекало варваров. Уход римской армии с острова вдохновил их на еще более масштабные нападения. Возможно, сразу после 410 г. произошло значительное сакское вторжение, в результате которого Британия была опустошена. Местное население, разумеется, стремилось дать им отпор. Иногда германцы могли объединяться с пиктами. Так, вероятно, произошло в 429 г., когда на острове появился прибывший из Галлии епископ Герман. Герман, сам ранее бывший военачальником, может быть, даже неожиданно для себя, возглавил войну с объединившимися пиктами и саксами. Вероятно, положение было столь угрожающим, что требовалось объединение всех сил, а полководца, авторитет которого был бы значим для всех британцев, не было. Герман, выступив в роли полководца и лично руководя сражением, с успехом выполнил эту задачу. Варвары были разгромлены.
Герман прибыл в Британию вместо с трикассийским епископом Лупом по поручению папы Целестина для борьбы с пелагианством, основателем которого был британский монах Морган, принявший затем греческое имя Пелагий. Пелагий и его последователи отрицали существование первородного греха и предопределения и считали спасение результатом не жертвенного распятия Христа, а личного усилия каждого верующего: человек сам грешит и сам же спасается. По мнению Пелагия, искупительная жертва Христа — лишь пример для человека и призыв к нему встать на путь нравственного самоусовершенствования и действительного, а не формального исполнения заповедей. Пелагианцы резко выступали против всякого богатства, считая, что оно в любом случае приобретается бесчестно, а потому и нечестиво. Деятельность самого Пелагия проходила в основном в Риме, затем в Африке и, наконец, на Востоке, где он и умер. Но его учение нашло, видимо, широкий отклик и в Британии, где, возможно, именно социальная направленность этой ереси особенно привлекала людей в условиях резко возросшей нестабильности. На это могло повлиять также британское происхождение Пелагия. Кроме того, пелагианство вызвало резкую реакцию церковных иерархов и императорской власти. Гонорий официально запретил его. В этих условиях, когда британцы чувствовали себя брошенными Римом, они могли обратиться к учению, с которым официальный Рим боролся. Поэтому не исключено, что Вортигерн и те люди, которые группировались вокруг него, были пелагианцами. Опасность широкого распространения этой ереси в Британии была, вероятно, столь велика, что папа направил туда галльских епископов. Трудно сказать, каков был результат этой миссии в тот момент. Может быть, опасность со стороны варваров оказалась для Германа более значительной, чем распространение ереси, тем более что варваров могли поддерживать те группы британской знати, которые придерживались пелагианства. Борьба с еретиками и борьба с варварами в таком случае для галльского епископа могли рассматриваться как единая задача. Успех Германа в борьбе с саксами и пиктами был наглядным и значительным. С победой над ересью дело обстояло сложнее. Во всяком случае, позже Герману пришлось повторить свою поездку на остров, чтобы снова повести борьбу с еретиками, после чего, кажется, с пелагианством в Баритани, действительно, было покончено.
Обращение Вортигерна, естественно, нашло весьма благоприятный отклик у саксов. В результате был заключен договор, который, по-видимому, повторял обычные условия римского foedus[37]. Варварские воины принимались на службу, и за свои услуги в борьбе с другими варварами они получали содержание. Однако существовала и огромная разница. Этот договор был заключен не императором и не его уполномоченным, а местным правителем или, максимум, советом всех британцев. С точки зрения римского права он был, как говорят юристы, ничтожен. Однако это не интересовало ни британцев, ни германцев. Не получая никакой поддержки от Империи, британцы не собирались считаться и с ее правом. В скором времени первые, по-видимому, сравнительно небольшие отряды германцев, не только саксов, но и представителей других племен, в первую очередь англов и ютов[38], стали прибывать в Британию[39]. Они помогли Вортигерну в борьбе с пиктами, но очень скоро сами германцы стали серьезной проблемой. Через некоторое время они потребовали изменения условий договора, требуя увеличения платы за их службу, ссылаясь на то, что условия договора практически не выполняются. Поскольку снабжение Британии деньгами, как говорилось выше, прекратилось уже в начале века, то речь шла явно не о деньгах, а об анноне, т. е. натуральной выплате (продовольствие и одежда), как, впрочем, в это время было уже принято в отношении федератов во всей Империи. Однако ресурсы Британии были не столь велики, чтобы удовлетворить эти требования, и призвали германских наемников вообще покинуть остров. В ответ на это германцы под угрозой своего выступления потребовали землю. Они явно исходили из практики своих соотечественников, служивших федератами в других регионах Империи. Возможно, они тоже требовали не всю землю, а треть или две трети, как было принято в то время. Однако пойти на принятие германцев в качестве hospites британская элита не решилась, тем более что некогда богатые виллы к этому времени, как уже упоминалось, пришли в упадок. Ресурсы местных землевладельцев были, вероятно, столь небольшими, что принятие германских «гостей» поставило бы их на грань разорения. Земель фиска, которые порой предоставлялись федератам на материке, в Британии не было. К тому же, с одной стороны, разгром пиктов казался очень значительным, а с другой, после убийства Аэция и Валентиниана III можно было не опасаться имперского вмешательства. И британская элита сочла возможным отказать варварам в их претензиях. Не получив ни увеличения припасов и одежды, ни земли, германцы, объединившись с пиктами, начали войну с британцами.
Война велась с необыкновенным ожесточением. Именно в это время под все усиливавшимся натиском германцев значительная часть британцев стала отступать на запад острова, а другая часть вообще покидать Британию и переселяться на континент. Этот путь уже был, вероятно, испытан британцами, и первые их поселения в Арморике, возможно, появились еще раньше, но теперь переселение приняло более или менее массовый характер. Еще какая-то часть предпочла эмигрировать еще дальше, в Северо-Западную Испанию. Там появляется целая область Бритония. само название которой ясно говорит если не обо всем населении, то о значительной его доле. Часть местного населения признала власть германцев. Большая часть британцев, однако, оказывала германцам упорное сопротивление. Такое сопротивление пытался организовать Амбросий, тем более что Вортигерн, пригласивший саксов, являлся родственником его старого соперника Гвитолина[40]. В таких условиях война с саксами оказывалась продолжением старой вражды. Стремясь объединить вокруг себя все силы, Амбросий даже, как кажется, провозгласил себя императором. Однако попытка Амбросия была неудачной, и он погиб в одном из сражений. Его преемником стал его сын Амбросий Аврелиан. После поражения отца Аврелиан, возможно, эмигрировал в Арморику, но затем он вернулся в Британию и выступил и против Вортигерна. и против саксов. Ему, видимо, удалось то, что не сумел сделать отец: объединить под своим командованием значительные силы, хотя императорский титул он в отличие от отца и не принимал. В ожесточенной битве у горы Бадоник[41] британцы одержали победу, и германцы (вероятно, это были в первую очередь англы) были вынуждены пойти на мирное соглашение[42]. По его условиям они сохранили за собой часть Британии на ее юго-востоке, отказавшись от остальных притязаний[43].
Мир был заключен на сорок лет. Кажущееся устранение внешней опасности тотчас привело к возобновлению внутренних войн. Так что и победа над германцами не привела к стабилизации ситуации. Да и по поводу сорокалетнего мира сказать что-либо довольно трудно. Действительно ли он тщательно соблюдался все это время, неизвестно. В любом случае, в это время в Британию стали прибывать новые волны германцев. И это, вероятнее всего, были не отдельные воинские отряды, а целые этнические массивы, включающие женщин и детей. Наряду с англами, саксами и ютами на острове появились и другие германцы, в том числе фризы и даны. Археология показывает, что в это время резко уменьшается количество поселений и кладбищ на северо-западе Германии, что ясно свидетельствует о массовом переселении жителей этих областей в Британию. Естественно, что того района Британии, какой был оставлен за германцами по сорокалетнему миру, было недостаточно. И германцы возобновили свое наступление. Войны с саксами, англами и другими германцами сопровождались внутренней борьбой в кельтском лагере. Британцы (кельты), хотя временами и одерживали победы, были окончательно оттеснены на запад, в современные Уэллс и Корнуолл, где уже существовали кельтские королевства, потенциал которых теперь увеличился. Некоторое время существовали, как кажется, даже небольшие кельтские королевства в центре и на севере бывшего диоцеза, но их существование было недолгим. В кельтских королевствах какое-то время сохранялся и латинский язык, но затем он все же исчез из повседневного или официального употребления. Сохранились там и какие-то остатки римского права, на основе которого создавалось уже так называемое «уэльское право». В основной части бывшего римского диоцеза, особенно в его низменной части, образовалось семь англосаксонских королевств (гептархия), позже объединившихся в королевство Англию. Какая-то часть кельтов (и, может быть, немалая) осталась жить под властью германцев. Они явно там занимали приниженное положение, их вергельд был много меньше вергельда сакса и англа. Позже и они, видимо, полностью ассимилировались[44].
Германские государства в Британии создавались и развивались в совершенно других условиях, чем на континенте. Ко времени сравнительно массового прибытия различных германских этносов (точнее, их частей, поскольку на материке оставались и саксы, и англы, и юты, и другие германские племена, представители которых селились в Британии) здесь уже не было римской власти. Хотя латынь еще кое-где сохранялась (латинские надписи появляются еще в VI в.), в целом остров был делатинизирован. Практически исчезало христианство, как ортодоксальное, так и в виде пелагианства. Новая христианизация острова и появление связанной с ней латиноязычной культуры происходили уже в совершенно новых условиях. Ни в сфере культуры, ни в сфере государственности англосаксонские королевства небыли связаны с римским имперским наследием. Ни римское право, ни римская бюрократия не могли использоваться германскими королями Британии, поскольку ни того ни другого на острове уже не существовало. Становление англосаксонской государственности происходило только на собственной германской основе. Конечно, экономические связи с континентальной Европой существовали и даже с течением времени укреплялись, но это мало влияло на политическое развитие англосаксонских королевств. Между позднеримской античностью и англосаксонской Англией существовал ясный разрыв.
II. ГУННЫ
Гунны не образовали своего королевства на территории Западной Римской империи. Их держава распалась еще до падения римского Запада. Однако воздействие гуннов и их державы на все процессы, проходившие в Европе в последней четверти IV в. и в первой половине V в., было огромно.
Гунны появились недалеко от границ Римской империи совершенно неожиданно. Еще в начале 60-х гг. IV в. никто о них не слышал, но, может быть, уже в том же или в следующем десятилетии гунны уже наводили страх на народы, жившие в Северном Причерноморье и Приазовье, а очень скоро и на Империю. В 362 г. в Константинополь прибыли послы из Боспора и Кавказской Албании с жалобами на нападения кочевников, и существует предположение, что этими кочевниками были именно гунны. В 363 г. во время переговоров о мире между императором Иовианом и персидским царем Шапуром II последний говорил об угрозе кочевников «Кавказским воротам», и полагают, что речь шла опять же о гуннах. Император Валент был вынужден даже построить какие-то укрепления, чтобы защитить Кавказ от набегов кочевников. Через десять с небольшим лет уже никто не сомневался в появлении недалеко от имперских границ нового, необычного и страшного врага — гуннов.
Никто ничего не знал о происхождении гуннов. Сами они не оставили никаких письменных памятников. Большинство исследователей (но далеко не все) полагают. что гунны (во всяком случае, их ядро) были потомками сюнну — одного из кочевых народов, живших у границ Китая[45]. Они то воевали с китайцами, то вели с ними активную торговлю. Воевали сюнну и с соседними племенами. В III в. до н. э. под их властью образовалась обширная кочевая держава, ставшая одним из самых сильных политических объединений региона. Это была первая кочевая империя, возникшая в Восточной Азии. Ее создателем был Маодунь. принявший титул шаньюя. Местным названием этого титула было, вероятно, «тэтрикут» — одаренный небесной благодатью. Этим титулом глава сюнну пытался равняться с китайским императором. Поскольку верхушка подчиненных племен тоже получала выгоду от дележа богатств, приобретаемых сюннускими шаньюями и в ходе войн, и в результате торговли, то она поддерживала власть сюнну, и их держава была довольно крепкой. Когда же в последней четверти II в. до н. э. сюнну стали терпеть поражения, то начала колебаться и их власть над другими кочевыми племенами. Вслед за тем начались междоусобные войны в среде самих сюнну; их держава распалась на две части — северную и южную. В конце I и в первой половине II в. н. э. сюнну потерпели ряд чувствительных поражений. Особенно тяжелым было положение северных сюнну, которым пришлось отбиваться и от китайцев, и от других кочевников, и от своих южных сородичей. Северные сюнну пытались откочевать подальше от китайской границы, но снова потерпели поражение. В 118 г. государство северных сюнну окончательно перестало существовать. Однако еще до этого их значительная часть начала двигаться все дальше от опасного соседства с все более усиливавшимися врагами. Вполне возможно, что именно эти северные сюнну и явились той ордой, которая по «степному коридору» двинулась на запад. По пути от нее могли откалываться отдельные группы или, наоборот, к ней присоединяться другие этнические единицы, в результате чего и сформировалась гуннская орда или. точнее, несколько отдельных гуннских орд. Но ядром их являлись, по-видимому. все же потомки сюнну[46]. Не исключено, что в том же II в. какая-то часть гуннов оказалась уже в районе Причерноморья или Прикаспия. Однако это был лишь авангард, который к тому же едва ли был очень значителен и мог вскоре быть поглощенным местным сарматским населением. Основная масса гуннов появилась в этом регионе в 60-70-е гг. IV в.[47] Около 350 г. с гуннами пришлось иметь дело упомянутому царю Шапуру. но были ли это те гунны, которые вскоре появились в причерноморских степях, неизвестно.
Если гунны, появившиеся во второй половине IV в. из-за Волги, действительно, были потомками восточноазиатских сюнну, то за долгое время своего кочевья они довольно существенно трансформировались. Точное этническое происхождение сюнну неизвестно. Вполне возможно, что они говорили на каком-то позже вымершем языке, хотя, по-видимому, и близком к алтайским языкам. Однако за несколько столетий своего движения на запад они, как уже упоминалось, могли включить в себя многие другие этнические элементы. Вероятнее всего, те гунны, которые появились в Причерноморье, являлись конгломератом различных этнических групп, среди которых, как кажется, преобладал, во всяком случае в правящем слое, тюркский элемент, хотя никаких данных о гуннском языке практически нет[48]. Нет и никаких следов того, что правящий в державе сюнну род Люаньчи сохранил свою власть и в это время. В державе сюнну существовало довольно разработанное и, как кажется, даже писаное право. Однако у гуннов не только не было писаных законов. они вовсе не имели письменности и были безграмотными. Резко снизился и уровень социальной организации гуннов. Ни о какой относительно централизованной власти, какая была у сюнну, теперь не было и речи. Можно говорить (если, конечно, принять связь гуннов с сюнну), что за время миграции произошла деградация социального и культурною бытия гуннов. И в этом нет ничего необычного.
Как сейчас установлено специалистами, кочевые империи возникают только там и тогда, где и когда кочевники вступают в относительно тесные контакты с более развитыми цивилизациями. Можно, видимо, говорить, что и все дальнейшее существование таких империй целиком и полностью зависело от этих контактов. Внешний источник богатств, будь то военная добыча или плоды торговли, являлся, как уже говорилось, одной из важнейших основ власти правящего рода как над своими соплеменниками, так и над подчиненными племенами. За время своего кочевья в западном направлении сюнну-гунны потеряли подобные контакты. Те же племена, с которыми сюнну-гунны сталкивались во время своего кочевья в западном направлении, такими богатствами, как китайцы, явно не обладали. Так что если откочевавшие на запад гунны и получали какую-то добычу, то она была неизмеримо меньше, чем та, какая обеспечивала их власть, когда они были соседями Китая. Это логично привело и к социальной, и к культурной деградации[49]. Исторический опыт показывает, что после распада кочевых империй у данного этноса вновь выступает на поверхность родоплеменной принцип организации общества, который существовал и до этого, но играл второстепенную роль по сравнению с централизованной властью государя. Но это ни в коем случае не относится к военной организации и способам войны. Эти способы войны были новыми и необычными для Причерноморья. На своих небольших, но очень быстрых и выносливых конях, вооруженные дальнобойными сложными луками, гуннские воины опережали всех своих врагов, не давали им сосредоточиться и наносили им неожиданные удары, а их стрелы длиной до 160 см достигали противника на довольно большом расстоянии. Это обеспечило гуннам военное превосходство над всеми своими врагами.
Наши сведения о гуннах настолько скудны и фрагментарны, что создать связную и последовательную картину их истории практически невозможно[50]. Современные исследователи, комбинируя рассказы греко-римских авторов с пока еще немногочисленными археологическими данными, приходят к разным, а порой и противоположным, выводам. Так что рассмотрение проблем гуннской истории, по крайней мере до Аттилы, не может не быть дискуссионным.
Первыми жертвами гуннов в причерноморском регионе стали ираноязычные аланы, жившие в степях и предгорьях Северного Кавказа. Долгое время аланы являлись одной из ведущих сил в этом регионе. Однако долгие войны, в которых они принимали активное участие, ослабили их силы и оказать достойное сопротивление гуннам они не смогли. Около 370 г. (или несколько раньше) аланы потерпели полное поражение. Имевшиеся у них укрепления их не спасли. Жизнь в аланских поселениях Придонья и Северного Кавказа замерла. Часть аланов ушла в горы[51], другая откочевала дальше на запад, приняв позже участие во вторжении в Галлию и Испанию, третья подчинилась гуннам и вошла в их объединение. При этом подчинившиеся гуннам аланы заключили с победителями особый договор, в соответствии с которым они не только сохранили свою социально-политическую структуру со своими вождями (это было общим правилом в Гуннской державе), но и, как кажется, среди других подчиненных гуннам народов заняли привилегированное положение. Может быть, даже речь шла о равноправном союзе двух этнических групп во главе, разумеется, с гуннскими предводителями[52].
Вслед за этим гунны под руководством своего короля Баламбера[53] напали на готов. Сначала против готов действовали небольшие отряды[54], а когда те решительных успехов не добились, гунны обрушились на готов всей своей мощью. Выйдя из степей Северного Кавказа, гунны двинулись двумя путями. Одна, большая, часть перешла Дон и обрушилась непосредственно на готов. Другая перебралась через Боспор Киммерийский (Керченский пролив)35 и нанесла сначала удар по Боспорскому царству, которое на какой-то момент перестало существовать[55]. Затем гунны либо уничтожили, либо заставили уйти с прежних мест другие группы крымского населения. После этого прошедшие через Крым гунны вышли в степи Северного Причерноморья, где и соединились с остальными своими сородичами. Явилось ли это двойное движение результатом заранее обдуманного плана, осуществляемого под единым руководством[56], или действием двух самостоятельных групп, неизвестно. Известен лишь окончательный результат этих движений. Готская держава Эрманариха рухнула под ударами гуннов[58]. Большая часть остготов подчинилась гуннам, а вестготы вместе с другой частью остготов после неудачных попыток сопротивления перешли на территорию Римской империи. Эти события стали началом т. н. Великого переселения народов.
Хотя основная масса гуннов явно осталась в Северном Причерноморье, часть их каким-то образом присоединилась к готам, и эти гунны (вместе с частью аланов) приняли активное участие в войне, которые перешедшие Дунай готы вели с римлянами[59]. Возможно, гуннская кавалерия участвовала на стороне вестготов в битве при Адрианополе в 378 г., в которой римляне были разгромлены. Более уверенно можно говорить об участии гуннов вместе с остготами в военных действиях в Паннонии против войск западного императора Грациана. Поэтому совсем не исключено, что когда Грациан предоставил готам место для поселения в этом регионе, то там на какое-то время осели и гунны. Впрочем, если это и так, то долго там эти гунны задержаться не могли, ибо они все же оставались кочевниками.
Подчинение аланов и остготов явилось первым шагом к созданию в Европе мощной гуннской державы. Под властью гуннов оказались огромные территории вплоть до среднего Дуная. Это ни в коем случае не означает, что создавалось единое централизованное государство. Современные и несколько более поздние авторы, преимущественно грекоязычные, использовали различные термины для обозначения главы гуннов: глава племени (филарх), правитель (архонт), предводитель (гегемон), король, или царь (рекс, басилей). Все эти термины настолько многозначны, что говорить о точном их содержании в данном случае невозможно. Римский историк Аммиан Марцеллин вообще утверждает, что гунны никакой монархической власти не подчинялись, а их возглавляют «приматы», т. е. старейшины или, скорее, военные вожди. Такое разнообразие показывает, что античные писатели не могли понять природу власти у гуннов. Несколько позже, в 412/413 г. упоминается Харатон, который назван «первым из королей» гуннов. Эго означает, что у гуннов, кроме «первого короля», т. е. главы всего объединения, существовали и другие короли, которые, вероятнее всего, правили отдельными гуннскими племенами. Действительно, в последней четверти IV в. и в начале следующего отмечаются самостоятельные действия отдельных частей гуннов. Даже во время войны с готами одно из гуннских племен за деньги вступило в союз с остготским королем Витимиром и помогало ему, хотя и неудачно, в борьбе с остальными гуннами.
Как кажется, после бурных событий, связанных с первым гуннским натиском, к северо-востоку от Дуная и в степях Северного Причерноморья наступило относительное спокойствие. Гунны, видимо, удовлетворились приобретением обширных территорий, где они могли более или менее спокойно заниматься своим обычным в мирное время делом — кочевым скотоводством. Некоторые обитавшие ранее здесь народы либо подчинились гуннам, либо предпочли переселиться как можно дальше от них. В этих условиях, по-видимому, гунны, подчинившие огромные территории от Дуная до, может быть. Урала, разделились на три орды. В начале V в. центр Гуннской державы находился в северочерноморских степях. Там, видимо, располагалась ставка «первого короля». Реальной властью этот «первый король», вероятно, обладал только над своей ордой. Что касается всего союза гуннских племен, то «первый король», видимо, имел право на большую долю добычи или дани, или иностранных даров, чем другие короли, а с другой стороны, нес некоторую ответственность и за дела в других ордах. Так. когда в результате каких-то интриг, явно спровоцированных римлянами, был убит один из подчиненных королей Донат, Харатон решил отомстить за него. Однако римляне просто-напросто подкупили Харатона, и тот римскими дарами удовлетворился.
Что касается подчиненных народов, то они сохраняли свои социально-политические структуры и свои династии. Власть гуннов над ними грекоязычные авторы обозначали как «гегемония». Побежденные заключали соответствующий договор с победителями, скрепленный клятвой верности главе гуннов, и должны были сражаться по его приказу, а также, видимо, платить какую-то дань. Например, та часть аланов, которая признала гуннскую власть, приняла активное участие в войне с готами. В остальном они действовали практически самостоятельно. Так, остготами по-прежнему правили короли из рода Амалов. Ставший, по-видимому. сразу же после подчинения гуннам остготским королем Винитарий, не спрашивая разрешения гуннского суверена, повел войну с антами, после первых неудач разгромил их и подчинил себе[60]. Возглавлявший гуннов Баламбер никак в эти события не вмешивался. Но когда Винитарий. почувствовавший после этой победы свою силу, практически перестал повиноваться гуннам. Баламбер направил против него других готов во главе с Гезимундом, которые разгромили войско Винитария. Разгром и смерть Винитария не привели, однако, к «прямому» подчинению остготов. Его место занял Гунимунд, принадлежавший к тому же роду. Приблизительно в это же время какая-то часть готов, подчиненных гуннам, попыталась вместе с некоторыми другими племенами под руководством Одотея вторгнуться на территорию Империи. Они перешли Дунай, но были разбиты римскими войсками под командованием Промота. Гунны никак не вмешивались в эти события. По мере усиления гуннов их власть становилась, видимо, более жесткой, но и тогда подчиненные народы сохраняли своих вождей или королей, а последние (правда, в виде исключения) могли стать советниками гуннского короля.
Власть гуннов над другими народами базировалась не только на силе гуннского оружия, но и на взаимной выгоде. В свое время шаньюи сюнну делились с подчиненными вождями китайскими товарами. И как уже говорилось, пока сюнну были достаточно сильны, чтобы эти товары приобретать, подчиненные вожди их поддерживали, и их власть была довольно сильна. Подобные отношения возникли и в Гуннской державе. Не только военный престиж гуннского короля, но и выгоды от его действий сплачивали вокруг него элиты подчиненных племен. Наиболее желанным источником притока богатств была, естественно, Римская империя. Во-первых, общий уровень богатства в Империи был несравнимо выше, чем у любого варварского народа. Слухи об этих богатствах еще более их преувеличивали. Во-вторых, варвары, в том числе гунны, сознавали, что силы Империи ослабли. Значительную и все более возрастающую долю римской армии составляли те же варвары, среди которых все чаще стали появляться и гунны. Все это привело к тому, что отношения с обеими частями Римской империи становились для гуннов важнейшим аспектом их деятельности.
Гунны то воевали с римлянами, то вступали с ними в разнообразные контакты. Находки римских изделий на территории Гуннской державы, включая земли подчиненных племен, показывают значение связей с Империей для гуннов. Уже вскоре после победы над готами гунны появились у имперских границ, и угроза их вторжения в большой степени побудила Феодосия поселить на имперском берегу нижнего Дуная вестготов. В отличие от некоторых других варварских народов гунны не стремились занять какую-либо часть имперской территории. Основу экономики самих гуннов составляло кочевое скотоводство, которое требовало определенных природных условий, каких не было внутри имперских границ, по крайней мере в Европе. Поэтому их вторжения в Империю преследовали чисто грабительские цели. Недаром результатом таких вторжений порой становились договоры, по условиям которых римские власти должны были выплачивать гуннам значительные суммы денег, причем не только в виде единовременной контрибуции, но и в идеале в виде постоянной дани. Многие гунны охотно служили римским императорам и полководцам в качестве наемников. Гуннская гвардия охраняла префекта претория для Востока и фактического правителя Запада Стилихона. Во время падения Стилихона его гуннские телохранители были готовы защищать его до последнего. Гуннские отряды активно участвовали в различных внутренних смутах в Римской империи с V в. С целью грабежей гунны не раз прорывались через Дунай и даже пытались продвинуться к западу вплоть до Галлии.
Самым значительным гуннским вторжением в IV в. явилось то, что произошло в 90-е гг. На этот раз ареной их действий стали восточные области Империи. Гунны, возглавляемые Базихом и Курзихом, перешли Дон, а затем прорвались через Кавказ (вероятнее всего, через Дарьяльское ущелье) и обрушились на Иберию (Грузию) и Армению. Разграбив эти страны, они, воспользовавшись тем, что основные силы Восточной Римской империи были сосредоточены на Балканах, вторглись в восточные провинции. Сирия и Палестина стали ареной их грабежей. Местные жители пытались сопротивляться. Так, гунны были вынуждены осадить Эдессу, жители которой не хотели открывать им городские ворота. Однако жители практически не получили никакой помощи от имперских властей. И гунны почти беспрепятственно грабили Сирию и Палестину, доходя даже до Египта. С огромной добычей они вернулись в степи Придонья. В 398 г. гунны повторили свой набег. На этот раз они вторглись в восточные области Малой Азии, прорываясь даже в ее центр. Но теперь власти решили отбить их нападение. Фактически правивший за спиной императора Аркадия Восточной империей евнух Евтропий сам возглавил армию, двинувшуюся против гуннов. Поход Евтропия был успешным. Гунны были разбиты и вынуждены покинуть имперскую территорию. Неудачной оказалась и их попытка вторгнуться в Персию; и хотя сначала они сумели проникнуть далеко в глубь Месопотамии, все же и там они потерпели поражение.
Несмотря на это поражение, гунны оставались чрезвычайно важным элементом событий того времени. Те же Базих и Курзих через какое-то время появляются в Риме и заключают союз с западным императором Гонорием. Теперь главным объектом их нападений становится Балканский полуостров. В 400 г. предводитель готских наемников Гайна поднял мятеж и попытался захватить Константинополь. Он был разбит и ушел на левый берег Дуная. Однако константинопольское правительство не оставило его в покое. Следуя своей ставшей обычной практике, оно возбудило против Гайны гуннского предводителя Ульдина. Ульдин, с одной стороны, понимая, что в данном случае ему лучше договорится с римлянами, а с другой, боясь, что Гайна сможет использовать свои войска для создания своего государства, выступил против него. После нескольких сражений Гайна был убит и обезглавлен. Его голову Ульдин переслал Аркадию. Возможно, при этом было заключено какое-то соглашение, предусматривавшее оказание гуннами помощи римским войскам в случае необходимости. Такая помощь вскоре, действительно, понадобилась, но не Восточной, а Западной империи, когда в 406 г. готы Радагайса вторглись в Италию. Гунны под руководством Ульдина соединились с частью готов, которые под командованием Сара служили римлянам, и сыграли большую роль в разгроме Радагайса. Может быть, Стилихон, фактически правивший Западной Римской империей, после этого уступил Ульдину провинцию Валерию (часть Паннонии). Если это так, то было это сделано не только в благодарность за помощь, но и с целью оказать большее давление на восточное правительство, поскольку уступленная гуннам провинция находилась у самых границ этой части Империи. В таком случае впервые гуннам была подчинена часть территории Империи. Какая-то часть гуннов осталась на службе у Стилихона, войдя в состав его личной гвардии[61].
В 408 г. умер восточный император Аркадий и на престол вступил его малолетний сын Феодосий II. Стилихон пытался воспользоваться сменой власти в Константинополе и воплотить в жизнь давнюю мечту об объединении всей Империи фактически под своей властью. Эго ему не удалось, и не исключено, что он подтолкнул Ульдина на вторжение в Восточную империю. Первую попытку вторгнуться на территорию этой империи Ульдин предпринял еще в 404–405 гг., несмотря на недавно заключенный договор. Теперь вторжение было повторено в еще большем масштабе. К этому времени Ульдин подчинил себе и других варваров, живших к северу от Дуная. Среди них были скиры. С объединенной армией гуннов и скиров Ульдин перешел Дунай и стал разорять Мезию и Фракию. Возглавлявший константинопольское правительство префект претория Антемий, понимая, что сил справиться со всем войском Ульдина у римлян мало, прибег к интригам, включая элементарный подкуп. В результате этих интриг ряд подчиненных Ульдину гуннских и, по-видимому, скирских вождей с их отрядами перешли на сторону римлян. После этого справиться с оставшимися войсками Ульдина было уже легче. В первые месяцы 409 г. произошло несколько сражений. Гунны, как кажется, не были разбиты, но их потери были столь велики, что оставаться дальше на римской территории они уже не могли. Сам Ульдин с трудом избежал гибели. Остатки своей армии он увел на левый берег Дуная. После этого об Ульдине ничего неизвестно. Важно отметить, что древние авторы, говоря об Ульдине. не называют его королем, но лишь предводителем (гегемоном). Словом «гегемония» определяется и его власть над другими варварами. Возникает вопрос: может быть, Ульдин не принадлежал к королевскому роду и властвовал над частью гуннов de facto, а не de jure? В 412–413 гг. «первым из гуннских королей» был, как уже говорилось Харатон. Каково его отношение к Ульдину — неизвестно.
После всех этих событий гунны на какое-то время практически исчезают из источников. Только в 412/413 г. будущий историк Олимпиодор был отправлен послом к гуннам и поэтому сообщил имя «первого короля» Харатона[62]. По-видимому, в это время ни Западная, ни Восточная империи значительных контактов с гуннами не имели. Гунны явно не нападали на имперские границы, да и мирные контакты были, видимо, минимальны. Это, однако, не помешало восточному правительству принять превентивные меры против возможного возобновления гуннских набегов. С этой целью был укреплен дунайский флот. Опасаясь возможных морских рейдов гуннов, специальным императорским эдиктом было запрещено помогать варварам строить корабли.
К этому времени гунны перебрались к западу. Экономика, в которой ведущую роль играло кочевое скотоводство, не давала гуннам возможности на века оставаться на одном месте. К концу IV в. возможности северочерноморских степей были, видимо, уже в большой степени исчерпаны, что и заставило гуннов возобновить свое движение на запад. По-видимому, к рубежу IV–V вв. значительная часть гуннов заняла обширную область между Днестром и нижним Дунаем. Возможно, главой именно этих гуннов был Ульдин. Вскоре после этого гунны перебрались через Карпаты и заселили обширную долину к северу от среднего Дуная. Они не потеряли верховную власть над народами Восточной Европы, но центр их державы отныне находился между Карпатами и большой излучиной Дуная. Здесь же, естественно, располагалась и ставка их королей. Слава гуннов не только как отличных воинов, но и как чрезвычайно жестоких убийц и грабителей широко распространилась. Уже сама только угроза гуннского вторжения заставляла многие племена сниматься с места и переселяться как можно дальше от мест возможных контактов с гуннами. Эти снявшиеся с места племена или сами давили на других, заставляя и тех двинуться на новые земли, либо вовлекали в свои движения соседей. Под их давлением вандалы, аланы (не подчинившиеся гуннам), свевы двинулись на запад и скоро перешли Рейн, вторгнувшись в Галлию. Мощные передвижения племен произошли и за пределами римских границ, в так называемой свободной Германии. Если считать переселение вестготов (и части остготов) на территорию Империи в 70-е гг. IV в. первым актом Великого переселения народов, то вторым таким актом стало вторжение варваров в Галлию. И это опять же произошло под воздействием гуннов[63].
Были ли движения гуннов и их завоевания результатом совместного усилия или делом отдельных объединений, сказать трудно. Возможно, «первый король» и играл во всем этом некоторую регулирующую роль. Его ставка представляла собой обширное селение, окруженное деревянными стенами. Внутри селения находился украшенный дворец, чей двор тоже был укреплен стенами. Такое отделение дворца от остального пространства ставки может говорить об относительно резком возвышении короля над подданными, включая его ближайшее окружение. Правда это описание относится к несколько более позднему времени, но очень вероятно, что такая ставка появилась у гуннов раньше.
В 20-е гг. V в. гунны снова появляются на исторической сцене. Во главе их в это время стоят короли Руга (или Руа) и его брат Октар (или Уптар)[64]. Их братьями, в свою очередь, были Мундзук (Мундиух) и Оебарсий. Нет никаких сомнений, что последний никакого отношения к власти не имел. Много позже, когда гуннским королем был его племянник Аттила Оебарсий спокойно и в почете жил при его дворе. Зная, что Аттила, как об этом пойдет речь позже, не мог терпеть никаких соперников, трудно представить, чтобы он сохранил жизнь дяде, если бы тот когда-либо обладал королевским достоинством. Сложнее решить вопрос о Мундзуке. Он упоминается вместе с братьями в несколько неясном контексте. Неизвестна и его судьба. Вполне возможно, что реально Мундзук королем все же не был. по крайней мере в первое время. Видимо, реальная королевская власть перешла к двум старшим братьям, которые могли разделить державу так, что Руга стал править ее юго-восточной частью, а Октар — северо-западной. Поскольку именно юго-восточная часть этой державы в большей мере входила в контакты с римским миром, то о Руге известно гораздо больше, чем о его брате. Дуалистическая или даже тройственная система управления была свойственна кочевым империям древности, в том числе и империи сюнну. Поэтому можно думать, что эта же система существовала и у гуннов. Возможно, в ряде случаев Руга и Октар могли действовать вместе или, во всяком случае, согласовывать свои действия, в других они поступали совершенно самостоятельно.
Территория, которой управлял Октар, граничила с землями германских племен, которые и стали объектом его экспансии. В 429–430 гг. Октар совершил ряд нападений на ту часть бургундов, которые жили на правом берегу Рейна. Его первые рейды были удачны, но затем бургунды сумели организовать успешное сопротивление. Они сами напали на гуннов и убили Октара. Оказавшись без своего вождя, гунны в ожесточенном сражении потерпели полное поражение. По некоторым, может быть, преувеличенным, данным, они потеряли десять тысяч человек, в то время как потери бургундов составили три тысячи. Характерно, что Руга даже и не попытался каким-то образом отомстить за смерть брата. Может быть, он в это время был связан с какими-то другими событиями на границах Гуннской державы?
Если королями гуннов до этого были два брата, то теперь у власти остался только один Руга. Однако совсем не исключено, что, хотя бы формально, вторым королем стал Мундзук[65]. Сколько времени в таком случае Руга и Мундзук правили совместно, неизвестно. Во всяком случае, когда в 435 г. Руга умер, о Мундзуке уже не было и речи. К этому времени он явно сошел со сцены. Так что какое-то время Руга в любом случае являлся единственным королем гуннов. Но еще до этого он и подчиненные ему гунны вновь вступили в самые разнообразные контакты с Империей.
В 422 г. гунны снова вторглись во Фракию. Видимо, результатом этого вторжения стал мирный договор, одним из условий которого была выплата гуннам ежегодной субсидии (фактически дани) в размере 350 фунтов золота. А затем гунны оказались вовлеченными в борьбу в Западной империи, когда там после смерти Гонория был провозглашен императором Иоанн. Сестра Гонория Галла Плацидия с детьми бежала на Восток, и восточный император Феодосий II, не признав Иоанна законным императором, стал подготавливать экспедицию в Италию, чтобы передать трон сыну Плацидии Валентиниану. На стороне Плацидии оказался и фактически правивший Африкой Бонифаций. Командующий войсками Иоанна Кастин направил в Африку свою армию, и среди этих воинов были и гунны. Это были наемники, служившие в римской армии, но находились ли они под командованием своих предводителей или входили в общие воинские части, неизвестно. Этим участием в африканской кампании вмешательство гуннов не ограничилось. Понимая, что сил у него для сопротивления восточной армии мало, Иоанн решил обратиться к гуннам. К ним был направлен Флавий Аэций, который ранее был одно время заложником у гуннов и за время своего пребывания у них сумел завязать хорошие связи с гуннами и их королями. Он уговорил гуннов вмешаться в события и пообещал за помощь довольно большую сумму денег. Гунны согласились и начали готовиться к походу. В скором времени огромная гуннская армия, насчитывавшая по, видимо, преувеличенным данным, 60 тысяч человек, вторглась в Италию. Кровопролитное сражение не дало перевеса ни одной стороне. Однако в целом за время, проведенное в подготовке гуннского похода, положение в Италии радикально изменилось. Иоанн был разгромлен, попал в плен и казнен, и официально власть в западной части Римской империи перешла к малолетнему Валентиниану, регентшей при котором стала Плацидия. В принципе, в этих условиях воевать дальше не было смысла, и Плацидия от имени сына пошла на переговоры с Аэцием. Тот согласился убедить гуннов покинуть Италию в обмен на уплату им денег, обещанных Иоанном, и представление ему самому высокого поста в армии. Получив деньги, гунны, действительно, покинули Италию и вернулись к себе.
Вторично гунны вмешались в дела Западной Римской империи в 433 г. В 432 г. Аэций оказался в весьма затруднительном положении. Против него при поддержке регентши Галлы Плацидии выступил его старый враг Бонифаций. В Италии фактически началась новая гражданская война. В ней Аэций одержал победу, но вслед за этим на него было организовано покушение, а во главе армии был поставлен зять погибшего Бонифация Себастиан, и это стало тревожным знаком для Аэция. Понимая, что в таких условиях он явно потерпит поражение, Аэций бежал к гуннам. Здесь он снова организовал гуннский поход в Италию. В 433 г. гуннская армия вторглась в Италию. Себастиан потерпел поражение и бежал в Константинополь, а Аэций фактически занял первое место в правительстве Западной империи. И добиться этого он сумел только с помощью гуннов и их короля.
Чем отплатил Аэций гуннам, точно неизвестно. Полагают, что в благодарность за помощь он уступил им всю Паннонию. Однако многие исследователи выступают против этого предположения, так что окончательно решить вопрос пока невозможно. Вполне возможно, что дело ограничилось лишь выплатой какой-то (явно довольно большой) суммы денег[66]. И едва ли гунны ушли из Италии без всякой добычи. Видимо, успех италийского похода подтолкнул Ругу к активизации своих отношений с Восточной империей. Отношения с нею обострились из-за проблемы гуннских племен, которые отказались подчиняться корою и, перейдя Дунай, поступили на службу восточному императору. Руга решительно потребовал возвращения «предателей», угрожая в противном случае разрывом существующего мирного договора и новым вторжением. В Константинополь был направлен гуннский посол Эсла с соответствующим требованием. Это требование вызвало переполох в восточной столице. Ее жители молились об избавлении от гуннской опасности. Командующий восточной армией гот Плинта[67] решительно выступил за переговоры с гуннским королем, и в этом его поддержал второй командующий Дионисий. Более того. Плинта настаивал, чтобы именно он, а не кто-либо другой, вступил в переговоры. По-видимому, он надеялся с помощью гуннов укрепить свое положение при константинопольском дворе, может быть, даже заняв такое же положение, как Аэций в Равенне[68]. Его требование было удовлетворено, и Плинта направил сначала к гуннам одного из членов своей свиты Сенгилаха. Однако прежде чем дело дошло до реальных переговоров, Руга неожиданно умер[69]. В Константинополе известие о смерти гуннского короля вызвало восторг и надежды на резкое изменение в отношениях с гуннами в пользу Империи. Последующие события показали полную иллюзорность таких надежд.
То ли после смерти Мундзука, то ли еще после гибели Октара Руга стал единственным королем гуннов. Как кажется, это противоречило гуннским обычаям. Верховная власть у гуннов принадлежала всему королевскому роду. Был ли он генетически связан с тем родом, который в китайских источниках назывался Люаньчи и который правил империей сюнну, как уже говорилось, неизвестно, ибо вполне возможно, что за долгий период кочевья на запад на первое место вполне мог выдвинуться другой род. Но это не так уж важно. Важен другой момент. Если власть принадлежала всему роду, то было естественным, что после смерти если не Октара, то Мундзука, Руга должен был бы сделать своим коллегой (даже если чисто формальным) одного из членов своего рода. Это мог быть либо его брат Оебарсий, либо сыновья Мундзука. Однако из сообщений писателей видно, что сыновья Мундзука стали королями только после смерти Руги, в то время как Оебарсий еще жил некоторое время как частное лицо. Так что в любом случае Руга являлся единственным королем, несмотря на то, что были живы другие члены его рода. Это может говорить об изменениях на вершине гуннской властной иерархии. Можно предполагать, что Руга сумел крепко взять власть в свои руки. Если это так, то относительно рыхлый союз гуннских племен, распадавшийся на отдельные орды, Руга превратил в мощную державу. Может быть, с этим связан переход некоторой части гуннов, не желавших подчиняться Руге, на службу Восточной империи. Недаром именно требование возврата этих перебежчиков выдвинул Руга. Разумеется, это было ему важно для укрепления собственного престижа. Но надо обратить внимание на то, что среди перебежчиков находились члены царского рода Мама и Атакам. Их переход на сторону римлян, вероятнее всего, связан с борьбой внутри этого рода. Можно полагать, что эта борьба закончилась решительной победой Руги, что и вынудило его побежденных соперников (или сторонников сохранения прежнего порядка вещей) бежать под защиту императора. Не все гунны вошли в состав его державы. Иордан подчеркивает, что Руга все же правил не над всеми теми племенами, которыми будут править его племянники. Несомненно, вне пределов его власти находились некоторые племена в Северном Причерноморье, которые будут подчинены уже позже. И все же кажется, что именно им был сделан важный шаг в политическом развитии Гуннской державы — превращение (или начало превращения) союза племен в империю.
После смерти Руги власть перешла к сыновьям Мундзука Бледе и Аттиле. Таким образом, дуализм верховной власти был восстановлен. Разделили ли братья власть по территориальному принципу, как это было раньше, или правили совместно, точно сказать трудно. Оба брата вместе встречались с римскими послами, они оба воевали в Северном Причерноморье, оба как будто возглавляли армию, уничтожившую бургундов. Но, с другой стороны, есть указания, что Бледа самостоятельно правил большой частью гуннов и что только после его смерти Аттила объединил всех гуннов под своей властью. Поэтому не исключено, что при сохранении принципиального единства Гуннской державы, достигнутого Ругой, братья все же разделили конкретное управление двумя частями государства, но объединялись в наиболее важных случаях. Бледа был старшим, но сил навязать свою власть младшему брату он, видимо, не имел. Аттила также был вынужден до поры до времени терпеть сложившееся положение. В Гуннской державе, таким образом, была восстановлена диархия. Однако ее характер был уже иным. Как только что было сказано, территориальный раздел державы, вероятнее всего, не произошел. В рамках унаследованной братьями державы не восстановилась и автономия отдельных орд. Теперь, когда позднеантичные писатели говорят о гуннских королях во множественном числе, то подразумевают братьев Бледу и Аттилу. Несколько королей осталось только у тех гуннов, которые не вошли в состав империи Руги и которые будут подчинены позже.
Несмотря на смерть Руги и надежды, которые она вызвала, в Константинополе все же решили продолжить переговоры с гуннами. Во главе посольства по-прежнему должен был находиться Плинта, но он сам предложил, чтобы его сопровождал Эпиген[70]. Хотя предложение официально исходило от самого Плинты, можно думать, что он явилось результатом какого-то соглашения между различными придворными группировками, и особенно между военной и гражданско-чиновничьей «партиями». В то время как Плинта являлся типичным военным командиром, и к тому же готом, Эпиген принадлежал к высшему кругу восточноримского чиновничества и был, по-видимому, известным юристом, если учесть, что в декабре 435 г. он оказался среди четырех человек, которым была поручена работа над кодификацией римского права. Как бы то ни было, Плинта и Эпиген во главе посольства прибыли к гуннам. К этому времени гунны явно перешли Дунай, и встреча состоялась уже на правом, римском берегу Дуная. Бледа и Аттила, по гуннскому обычаю, приняли римских послов, сидя на конях, и тем тоже, дабы не ронять достоинство послов императора, пришлось вести переговоры, не слезая с коней. Гуннские короли практически предъявили послам ультиматум. По-видимому, под угрозой войны восточноримские послы согласились на все условия Бледы и Аттилы. Римляне должным были отныне платить гуннам двойную субсидию — 700 фунтов золота в год[71], выдать всех перебежчиков, включая находившихся в Империи членов царского рода, а также тех бывших римских пленных, которые сумели бежать, не заключать никаких союзов с теми народами, с которыми гунны будут воевать, и открыть на границе рынки, где гунны могли бы торговать на тех же основаниях, что и римляне. Гуннские короли соглашались отпустить римских пленников, но за выкуп в восемь солидов за человека. Восточная Римская империя явно была не готова к войне с гуннами. Характерно, что, добившись отказа римлян от любого союза с врагами гуннов, сами гунны подобных обязательств по отношению к Империи не приняли. Гуннские короли явно хотели сохранить полную свободу в своих отношениях с Римской империей.
Заключение столь выгодного для гуннов договора, по-видимому, дало необходимый престиж их новым властителям. Этого престижа им. по-видимому, не хватало в первые моменты прихода их к власти после неожиданной смерти Руги. Теперь он у них появился. Чрезвычайно важной стала выдача перебежчиков. Как только Мама и Атакам оказались в руках Бледы и Аттилы, они были немедленно распяты. Этой жестокой и показательной казнью братья преследовали несколько целей. С одной стороны, они всем ясно показывали неминуемость жестокого наказания всех, кто осмелится даже попытаться уйти из-под их власти. С другой, они избавлялись от возможных соперников внутри собственного рода[72]. С третьей, демонстрировалось превосходство гуннских правителей над римским императором, который не смог защитить тех. кто прибег к его покровительству. Теперь, добившись от Империи достижения своих основных целей и к тому же обеспечив постоянный приток довольно значительной суммы денег, царствующие братья могли обратиться к решению другой задачи — расширить свои владения в Северном Причерноморье[73]. Подчинив еще остававшиеся независимыми племена этого региона, они затем начали войну с некими соросгами. Этот этноним более ни разу не встречается, и поэтому совершенно невозможно ни определить характер этого этноса, ни локализовать его. Можно только весьма приблизительно (да и то в виде очень осторожной гипотезы) поместить соросгов где-то к востоку от «Скифии», ибо, как кажется, поход против них являлся продолжением подчинения племен этой страны.
Вслед за тем гунны вмешались в дела римского Запада. Аэций обратился к ним с предложением напасть на бургундов. К этому времени в ходе войны Аэций. действуя в союзе с аланами, сумел нанести бургундам тяжелое поражение, но, несмотря на него, силы бургундов не были окончательно сломлены, и их королевство представляло для римлян серьезную опасность. Это предложение было, видимо, с тем большим удовольствием принято братьями, что оно давало повод отомстить за смерть их дяди. В 436 г. гунны вторглись в Галлию и обрушились на Бургундское королевство. Бургунды были наголову разгромлены. 20 тысяч бургундов были убиты, причем речь идет только о боеспособных мужчинах[74]. По-видимому, физически была уничтожена большая часть всего бургундского народа. Хотя в позднейших преданиях виновником этой катастрофы назывался один Аттила (Этцель, Атли)[75], реально силами гуннов, вероятнее всего, руководили оба брата. Впервые в своей истории гунны перешли Рейн. Там они, однако, не задержались и ушли назад[76]. Те бургунды, которые еще жили на правом берегу реки и которые не так давно разбили гуннов и убили Октара, теперь, по-видимому, были подчинены.
Вскоре после этих событий гуннские воины появляются в Галлии в составе армии Литория, командующего римскими войсками в Галлии. Под его командованием они активно сражаются с багаудами и вестготами. Были ли они более или менее самостоятельными наемными отрядами, как это уже имело место в начале этого столетия, или контингентами, поставленными римлянам по просьбе Аэция? Обстоятельства показывают, что второе предположение гораздо более вероятно. Во-первых, власть гуннских королей была уже столь сильна, что самовольный уход на службу императору едва ли был теперь возможен. Жесткое противостояние с Восточной империей по поводу подобных случаев, о чем говорилось выше, показывает, что ни Руга, ни его племянники не могли потерпеть ухода части их подданных. Во-вторых, когда отношения между гуннами и Западной Римской империей ухудшаются, гуннские воины перестают воевать в Галлии. Если бы эти воины были «солдатами удачи», то никакие перипетии в отношениях не заставили бы их уйти из Галлии, тем более что они активно использовали свое пребывание в рядах римских войск для собственного обогащения, нещадно грабя местное население. Поэтому думается, что, как в свое время гунны дважды помогли самому Аэцию, так теперь, хотя и в других формах, они помогали его полководцу. Это могло быть результатом какого-то соглашения между Аэцием и Ругой, которое Бледа и Аттила продолжали выполнять.
Насколько известно, главное внимание гуннские короли все же обращали на Восток. Сравнительно недалеко от границ Восточной империи располагалось теперь ядро их державы, да и Балканы казались им более привлекательными и. во всяком случае, более привычными, чем далекая Галлия и земли по Рейну. В 440–441 гг. положение Восточной империи осложнилось. Вандалы захватили Карфаген, сделав его столицей своего королевства, а затем напали на Сицилию. Аэций. который был поглощен делами в Галлии, практически на вандальские набеги внимания не обращал, и Феодосий II решил взять дело в свои руки. В 440 г. на Сицилию была направлена довольно большая армия, которая оставалась там и в 441 г. В 441 г. через восточную границу в Империю вторглись персы, и в том же году против власти императора восстали некоторые арабские и кавказские племена, а также исавры уже в самой Малой Азии. Аттила и Бледа решили использовать эту ситуацию. Поводом стало опять же дезертирство некоторых гуннов, которых имперское правительство вопреки договору 434 г. не спешило выдавать гуннским королям. Другим и, может быть, даже более важным поводом стало поведение епископа пограничного города Марга. Этот епископ, оказавшись на гуннской территории, в своем антиязыческом рвении нарушил неприкосновенность гуннских царских гробниц, что, естественно, вызвало возмущение Бледы и Аттилы[77]. Воспользовавшись этими поводами, гунны в 441 г. вторглись на территорию Империи. Епископ Марга, к тому времени возвратившийся в свой город, не без основания боясь, что его сделают «козлом отпущения» и выдадут гуннам как единственного виновника войны, открыл гуннам ворота, надеясь таким образом приобрести их прощение. Практически не встречая сопротивления, гунны захватывали города и виллы, грабя и разоряя Фракию и Иллирик. Для местного населения это была катастрофа, причем не только экономическая, но и демографическая. Археология показывает, что после прохода гуннов в приграничных городах произошла смена населения. Константинопольское правительство сумело убедить Бледу и Аттилу заключить годичное перемирие. Но в следующем году война возобновилась. За это время Феодосий отозвал свою армию с Сицилии и заключил мир с вандальским королем. И все же сил для противодействия гуннам на Балканах было мало, и в 443 г. был заключен мир. Его точные условия неизвестны. Возможно, просто были возобновлены условия прежнего мирного договора. Во всяком случае, добыча, полученная гуннами в ходе этой войны, должна была быть весьма значительной.
До сих пор во всех крупных операциях Бледа и Аттила действовали совместно. С ними обоими вел переговоры Аэций. Казалось, что в отношениях между братьями царит полное согласие. Однако это только казалось. Еще раз можно вспомнить, что Бледа был старшим братом, и хотя в сложившейся ситуации это старшинство ему, как кажется, не давало реальных преимуществ, все же оно определяло его первенствующую позицию. Когда писатели называли королей по имени, они первым упоминали Бледу. Это не могло не вызвать соперничества братьев. В результате в 444 или 445 г. Аттила убил Бледу и стал единственным королем гуннов. Конечно, главной причиной этого государственного переворота было честолюбие Аттилы, который стремился остаться единственным главой гуннов и к тому же не мог перенести свою некоторую второразрядность по сравнению со старшим братом. Аттила вообще не терпел никаких ни реальных, ни потенциальных соперников и при первой же возможности стремился их уничтожить. Возможно, однако, что к этому примешивались и другие мотивы. Тот факт, что убийство Бледы произошло вскоре после заключения мира с Восточной империей, позволяет поставить вопрос о связи между этими двумя событиями. Может быть, не очень значительные, с точки зрения гуннов, результаты войны подтолкнули Аттилу к этому преступлению.
Вскоре после убийства Бледы начали, как кажется, ухудшаться отношения между гуннами и Западной империей, которые до того времени были превосходными. С другой стороны, восточное правительство именно после этого события стало принимать меры, чтобы по возможности устранить Аттилу руками самих же варваров. Видимо, приход к единоличной власти Аттилы рассматривался в Константинополе как непосредственная угроза. Возможно, что Аттила представлял более агрессивную и решительную группу гуннской знати. Конечно, дело было не в идеологии (и у Бледы, и у Аттилы она сводилась к стремлению получить доход) и, пожалуй, не в использовании разных средств для ее воплощения (нет никаких свидетельств, что Бледа, например, предпочитал дипломатические меры в ущерб военным), а в степени жадности. Может быть, Бледа предпочитал сохранение сложившихся альянсов, в том числе с Западной империей, в то время как Аттила и группирующаяся вокруг него гуннская знать, чьи аппетиты росли по мере достигаемых успехов, пытались создать новую политическую ситуацию, определяемую однозначным диктатом гуннского короля.
Вскоре после захвата единоличной власти Аттила подчинил акатиров, обитавших в крымских степях[78]. Вероятнее всего, это была группа гуннских племен, еще не подчинившаяся ни ему, ни ранее Руге, но находившаяся в союзе (видимо, равноправном) с общегуннскими королями. Не входя в состав империи Аттилы, акатиры сохранили ту социально-политическую структуру, какая была характерна для всего Гуннского союза в начале V в. Их возглавлял в качестве «первого короля» Куридах, в то время как каждое племя в их составе имело своего короля. Поводом для похода Аттилы против акатиров послужило обращение к нему самого Куридаха. Хотя между Восточной империей и гуннами был заключен мир, имперское правительство не могло не отдавать себе отчета в хрупкости и ненадежности этого мира. Переворот, совершенный Аттилой, по-видимому, побудил его принять соответствующие меры. С этой целью представители императора решили подкупить лидеров акатиров, чтобы те разорвали союз с Аттилой и заключили союз с Империей, явно направленный против гуннского короля. Однако они не разобрались в политической иерархии акатиров и преподнесли свои дары Курдиху только уже вторым. С точки зрения кочевой знати, это было не только оскорблением, но и попыткой противопоставить «первому королю» подчиненных ему королей «второго разряда». Это угрожало и престижу, и власти Курдиха, и тот, видимо, не имея собственных сил для соответствующей реакции, обратился за помощью к Аттиле. Атгила двинулся против акатиров. Акатиры были разгромлены, часть их знати была уничтожена, другая предпочла признать власть Аттилы. Сам Курдих сохранил власть над своей частью племени, в то время как остальная была поставлена под «прямое» управление старшего сына Аттилы Эллака.
С подчинением акатиров, вероятно, завершилось формирование Гуннской империи. Она охватывала огромные территории от Рейна до Волги и, может быть, даже Урала. Есть сведения, что гуннам подчинялись какие-то острова в океане. Если это так. то речь может идти о некоторых островах в Балтийском море. Насколько реальным было подчинение этой огромной территории, сказать трудно. Возможно, после подчинения готской державы Эрманариха гунны стали считать себя повелителями всех тех народов, которые в той или иной степени признавали власть этого готского короля. Может быть, те товары, которые время от времени приходили с севера, воспринимались гуннами как дань этих народов. Что же касается более южных районов, то там власть гуннов была, несомненно, реальной. Здесь под властью гуннов находились остготы, гепиды, ругии, скиры, свевы, герулы, аланы, сарматы, а также, может быть, часть аламанов. В погребальной песне, исполненной над телом Аттилы, он был назван великим королем гуннов и господином сильнейших племен[79]. Мы не знаем, ни какие гуннские термины стоят за латинскими rех и dominus, ни какое содержание вкладывали гунны в эти термины. Ясно одно: гунны различали власть Аттилы над ними самими и над покоренными племенами.
Власть Аттилы над гуннами основывалась в первую очередь на его происхождении. Недаром в той же песне подчеркивается, что он был рожден Мундзуком. И сам Аттила потребовал от своего посла, чтобы тот напомнил императору, что он принадлежит к славному роду, наследовал своему отцу Мундзуку и имеет благородных предков. Это заявление чрезвычайно важно. Как известно, Аттила (вместе с братом) наследовал не своему отцу, а дяде Руге. Теперь он стремился вычеркнуть это обстоятельство из памяти римлян, как явно и из памяти своих подданных.
Перед нами по существу новая концепция власти: власть принадлежит не всему царскому роду, а конкретной царствующей семье и передается от отца к сыну. В качестве самодержавного владыки Аттила возглавляет всю иерархию власти. Ее самодержавность подчеркивается сравнением положения даже его самых высокопоставленных подданных с рабством. Разумеется, речь идет не об обычном рабстве, а о системе полного подчинения всех абсолютной власти гуннского короля. Аттила выступал и как главнокомандующий, лично возглавляя армию в походах, и как судья, в своих решениях не связанный никакими рамками, установленными законами (если они у гуннов были), ни обычаями, руководствуясь только своим виденьем дела и собственной выгодой, и как администратор. Аттила, естественно, определял всю политику. Недаром один из его послов заявлял, что он будет говорить только то, чего желает его король. В политике по отношению к Империи это желание в основном сводилось к требованиям денег и даров. И деньги, и дары направлялись именно королю (сначала Бледе и Аттиле, а затем уже одному Аттиле). И именно король затем распределял их среди своих приближенных. И это становилось еще одним инструментом укрепления королевской власти. Высокое положение Аттилы, стоявшего выше всех своих подданных, наглядно подчеркивалось особым шатром, который во время походов и других передвижений должен был стоять выше любого другого шатра, а в ставке — неким подобием дворца, деревянным креслом, на котором он восседал, а также особым ритуалом его пиров и приемов. Другим средством подчеркивания величия Аттилы была его связь с божественным миром. Якобы случайная находка меча самого бога войны, врученного ему, стала пропагандистской основой его претензий на власть чуть ли не над всем миром[80]. Подчиненный ему Курдих сравнивал его с солнцем, на которое нельзя смотреть человеку. Разумеется, само это заявление было чистой лестью и прикрытием отказа прибыть ко двору Аттилы, но характерно, что оно возымело свое действие: Аттила разрешил Курдиху не прибывать ко двору. В других обстоятельствах римляне сравнили императора с солнцем, а гуннского короля с человеком, но когда об этом Аттила узнал, это вызвало его гнев. Аттила всячески настаивал на равенстве своего положения с положением императора. Едва ли он рассчитывал на признание этого равенства римлянами, так что объектом таких претензий были его собственные подданные. И этим он отличался от других варварских владык.
Аттила стоял на самой вершине властной и социальной иерархии. Вторую ступень в социальной иерархии образовывала родоплеменная знать, вершину которой составляли те, кого греческий автор называет логадами. Это были «избранные люди», приближенные к Аттиле и участвовавшие в управлении державой. Из их числа Аттила избирал послов для урегулирования наиболее важных проблем. Они могли выступать советниками короля. Когда во время своего последнего похода в Италию Аттила после побед задумал идти на Рим, люди из его окружения пытались отговорить его от этого похода. Впрочем, функции логадов в управлении, видимо, не были четко очерчены, и их роль в обществе определялась в первую очередь их близостью к самому Аттиле. Это подчеркивалось иерархией внутри логадов, что особенно ясно выступало во время пиров: более близкие к королю люди сидели справа от него, а члены другой группы — слева, да и внутри этих групп тоже существовала некая иерархия. Так, в первой группе на первом месте стоял Онегисий, сидевший рядом с самим Аттилой и игравший при его дворе первую роль (Аттила даже поручил ему опеку над сыном, посланным управлять недавно подчиненными акатирами). Во второй группе выделялся Берих, властвовавший над многими деревнями. Берих явно не был исключением в среде гуннской аристократии. Вдова Бледы, удаленная от двора после убийства мужа, осталась правительницей некоей деревни. Какова была зависимость населения деревни от своих управляющих, неизвестно. Но та же вдова Бледы послала имперским послам нескольких женщин из своей деревни для их удовольствия, и эти женщины даже не подумали возражать. Онегисий построил при своем доме баню (что было совершенно необычно для гуннов) из камней, взятых в разрушенных городах Паннонии. Это вполне можно рассматривать как вид военной добычи (хотя Паннония к этому времени, кажется, принадлежала гуннам). Добыча распределялась в соответствии с существующей иерархией: сначала выделялась доля короля, затем свою долю получали «избранные» гунны[81], а затем, видимо, уже те, «кто подчиняется», т. е. рядовые воины. Богатство позволяло аристократам содержать собственные дружины. То, что собственные дружины ранее имели гуннские «предводители». несомненно. Но и во времена Аттилы такие дружины существовали тоже. Они, в частности, состояли из собственных рабов аристократов. Такими, например, рабами были те, кто во время одного из сражений убили своего господина, за что и были распяты. Отличившиеся в войне рабы могли не только получить свободу, но и достичь сравнительно высокого положения, как бывший грек из Виминация, который за свои воинские подвиги был освобожден, женился на варварке (вероятнее всего, гуннке) и тем самым вошел в местную среду. Владение деревнями и, может быть, другим имуществом, обладание собственными дружинами, доля в военной добыче были экономической основой богатства гуннской аристократии. Эти богатства становились все значительнее. Наряду с типичным гуннским инвентарем в могилах знати появляются золотые пряжки поясов, диадемы и ожерелья.
Будучи верхушкой племенной аристократии, логады были гуннами[82]. В кочевом обществе принадлежность к господствующему племени всегда играла огромную роль, и гунны не представляли исключения. Однако Аттила, стремясь утвердить свою абсолютную власть, использовал и других людей. Таким был король гепидов Ардарих, отличавшийся своей верностью Аттиле. О нем говорилось, что он был среди советников Аттилы. Означает ли это, что наряду с «коллегией» логадов Аттила создал свой совет? Думается, что такой вывод был бы преждевременным.
Но ясно, что, стремясь укрепить свою абсолютную власть, Аттила пытался выйти за рамки родоплеменных установлений и наряду со старой знатью привлекать к себе негуннов, руководствуясь только принципом личной преданности. Определенную роль в управлении державой играли секретари, занимавшиеся самыми разными делами, в том числе и дипломатией. Поскольку таковых в гуннской среде никогда не было, то ими были римляне, по тем или иным причинам оказавшиеся в распоряжении Аттилы. Нам известны четыре таких секретаря — Орест, два Констанция и Рустиций. Вполне возможно, что их было больше. Этот «секретарский корпус» можно, по-видимому, рассматривать как эмбрион складывающегося государственного аппарата, не совпадающего с родоплеменными институтами. Все же люди, не относившиеся к гуннской знати, занимали более низкое положение. Гунны уже из-за своей принадлежности к правящему народу стояли выше других людей, несмотря на всю роль последних[83]. Войти в гуннскую среду можно было только путем брака, что вообще было характерно для родового общества. Это относилось не только к знати, но и к рядовым гуннам.
Основную массу гуннов составлял, естественно, «простой народ». Описывая войско Ульдина, греческий автор называет «подчиненных». Это и были рядовые воины. Во времена Аттилы едва ли произошло в этом какие-либо существенные изменения. В битве на Каталаунских полях, о которой речь пойдет позже, центр армии Аттилы составляли «храбрейшие воины» во главе с самим королем. Это. несомненно, были гунны, к которым перед битвой обратился Аттила, напоминая, в частности, что этим воинам ничто не привычно, кроме войны[84]. Может быть, это — преувеличение, вполне оправданное важностью момента. В связи с этим возникает вопрос о жителях деревень, подчиненных Бериху или вдове Бледы[85]. Ответить определенно на этот вопрос трудно, но все же можно предположить, что этими сельчанами были не гунны, а оседлое население, подчиненное гуннам. Сами гунны, скорее всего, оставались кочевниками и скотоводами. Недаром они были прекрасными кавалеристами, в то время как пехота формировалась из воинов зависимых народов. Те рабы, которые упоминаются (хотя и редко), были пленниками. Можно, видимо, говорить, что при всем несомненном имущественном и социальном расслоении гуннского общества порабощение его низшего слоя отсутствовало. Основная масса гуннов по-прежнему оставалась свободными воинами и в мирное время пастухами.
Гунны как целый народ господствовали над массой других племен. И Аттила. будучи королем гуннов, был господином этих племен. Гуннские правители, как правило, сохраняли социально-политическую структуру подчиненных народов и не вмешивались в их внутренние дела. Они ограничивались получением дани, размер которой неизвестен, и, что для них, пожалуй, было даже важнее, обязательным участием подчиненных в их походах. Если для сравнительно кратковременных грабительских набегов было вполне достаточно гуннской кавалерии, то для более длительных войн необходима была пехота, и ее-то, как говорилось выше, поставляли подчиненные народы. В битве на Каталаунских полях контингенты подчиненных войск стояли на флангах армии Аттилы. Их предводители безусловно выполняли все приказания гуннского господина. Подчиненные племена выполняли еще одну важную роль. Они как бы окружали область, в которой обитали сами гунны, и в случае нападения на Гуннскую державу они приняли бы первый удар, и это, с одной стороны, ослабило бы врагов, а с другой, дало бы самим гуннам время для собирания сил для ответного удара. Ни о каком слиянии подчиненных племен с гуннами не было и речи.
В целом по отношению к подчиненным племенам Аттила продолжал прежнюю политику. Но в зависимости от обстоятельств он мог принимать и нетривиальные меры. Так, он восстановил остготскую монархию. Королевская власть у остготов была ликвидирована после гибели воинственного короля Торисмуда, после чего сорок лет у остготов не было королей[86]. Эта реставрация произошла около 445 г., т. е. почти сразу после убийства Бледы. Видимо, в сложившейся ситуации Аттила счел за благо теснее привязать к себе остготов, которые все же являлись одними из крупнейших и сильнейших народов из числа подчиненных гуннам. Однако при этом он наряду с Валамиром сделал королями его братьев Теодемера и Вадимера. Правда, Валамир, как кажется, был признан «старшим» королем, и в битве на Каталаунских полях именно он командовал остготским войском. В более позднее время каждый из трех братьев владел частью остготской территории. Вполне возможно, что это разделение было произведено уже Аттилой. Так что, восстанавливая остготскую монархию. Аттила постарался свести к минимуму возможную опасность со стороны остготов.
Иначе обстояло дело с акатирами. Как некая социально-политическая единица акатиры были ликвидированы. Курдиху, который призвал Аттилу и тем самым предоставил ему повод для нападения, Аттила оставил власть над его собственным племенем, в то время как другие акатирские короли были или физически уничтожены, или лишены власти. Но важнее всего стало то, что все они были подчинены верховной власти старшего сына Аттилы Эллака. Аттилу даже не смутил юношеский возраст Эллака: в качестве опекуна он к нему приставил одного из самых доверенных логадов Эдекона. Таким образом, создавался некий вид «прямого управления» группой подчиненных племен. Может быть, это было связано с тем, что акатиры были не чужим племенем, а гуннами и поэтому должны были признать в лице Аттилы, если использовать латинскую терминологию в погребальной песне, не «господина», а «короля». В то же время территориальная отдаленность акатиров могла потребовать создания отдельного «вице-королевства». Впрочем, сколь долго оно существовало, неизвестно. Не исключено, что, укрепив свою власть, Аттила изменил статус акатиров. Во всяком случае, Эдекон скоро появляется уже выполняющим совсем другую миссию — посла в Константинополь.
Третий вариант новой политики по отношению к подчиненным представлял особое положение гепидского короля Ардариха. Как уже упоминалось. Ардарих был среди самых доверенных советников Аттилы и был безусловно ему предан. Это фактически, хотя и совсем не официально, ставило короля гепидов на один уровень с гуннскими логадами. Такое его положение представляло собой исключение. И насколько Аттила собирался расширить практику такого исключения, можно только гадать. По крайней мере, при его жизни никакой другой подчиненный король такого же положения, как Ардарих, не занимал.
Власть Аттилы над подчиненными племенами, как в свое время и власть шаньюя сюнну, в большой мере покоилась на предоставлении подчиненной знати выгод от их подчинения. А это возможно было только в случае все более увеличивающегося притока богатств, часть которых могла доставаться и подчиненным. Собственная экономическая база Гуннской державы была слишком слаба, чтобы удерживать свое единство. Мощная империя Аттилы могла быть достаточно прочной, пока сам Аттила одерживал дипломатические и военные победы, итогом которых были все новые богатства. Это (наряду с обычной жадностью) обусловливало постоянное увеличение денежных претензий, предъявляемых Аттилой (сначала вместе с Бледой) восточным римлянам. По условиям последнего договора с Империей, константинопольское правительство обязывалось выплачивать гуннам ежегодно огромную сумму в 6 тысяч фунтов золота, т. е. более полутора тонн. Характерно, что золото гунны получили не только в монете, но и в слитках. Более того, полученные монеты они переделывали преимущественно в украшения. Гуннская экономика не нуждалась в деньгах как таковых, они были для гуннов только эквивалентом престижа. Какую-то часть не только богатств, но и необходимых продуктов могла давать торговля. И гунны были заинтересованы в ней. Одним из пунктов договоров, заключаемых с Восточной империей, был и тот, что разрешал или регулировал трансдунайскую торговлю. Но все же главным источником все новых богатств, включая рабов, дорогие продукты, деньги, была война. Война становилась основой не только могущества, но и самого существования Гуннской державы.
Понимал ли это сам Аттила или нет, неважно. Важно то, что он действовал в соответствии с этой ситуацией. По мере гуннских успехов росли и амбиции их короля. Атгила даже задумал совершить поход против Персии, следуя по пути Барзиха и Курзиха. Разумеется, едва ли он надеялся подчинить себе Персию, но надежды хорошо пограбить персидскую территорию у него явно были. Однако от планов восточного похода Аттила все же отказался. То ли он счел эту далекую экспедицию слишком рискованной, то ли предпочел иметь дело с более привычными партнерами — римлянами.
Поводом к новой войне вновь стал вопрос о перебежчиках. К тому же восточное правительство, по-видимому, прекратило или, может быть, задержало выплату ежегодных субсидий. Все это нарушало условия предшествующего договора, и Аттила решительно потребовал и выдачи перебежчиков, и возобновления выплат, в том числе и за прошлое время. Для урегулирования спорных вопросов Феодосий II направил к Аттиле посольство во главе с бывшим консулом Флавием Сенатором[87]. Переговоры, однако, ни к чему не привели, и зимой 446/47 г. армия Аттилы перешла Дунай и вторглась на территорию Империи. В январе 447 г. страшное землетрясение разрушило Константинополь, в том числе его знаменитые стены. Это делало восточную столицу практически беззащитной перед гуннами. Префект претория для Востока Флавий Константин сумел мобилизовать все средства и всего за три месяца восстановить стены, но это потребовало таких усилий, что на эффективную оборону балканских провинций у имперского правительства сил уже не было. Почти не встречая сопротивления, разрушая крепости и города, Аттила дошел до Фермопил, а затем повернул назад и обрушился на Фракию. Только теперь правительству удалось собрать армию, которая под командованием Арнегискла выступила против гуннов. В ожесточенном сражении римляне были разгромлены, и сам Арнегискл погиб. В другом сражении, происходившем недалеко от самого Константинополя, гунны снова одержали победу. После этого у Феодосия не оставалось другого выхода, кроме возобновления переговоров. К Аттиле направился бывший консул и бывший командующий армией Анатолий. Аттила выставил ультиматум, и Анатолию, а затем и Феодосию пришлось с ним согласиться. По условиям нового договора, Восточная империя должна была выплатить 6 тысяч фунтов, т. е. почти две тонны, золота единовременно и в дальнейшем платить ежегодно 2100 фунтов (около 688 кг); кроме того, римляне должны были эвакуировать полосу вдоль Дуная на расстоянии пяти дней пути, что вело к демонтажу всей пограничной линии обороны и делало Восточную империю практически беззащитной перед возможным новым гуннским вторжением.
В 449 г. Аттила снова поднял вопрос о перебежчиках. В договоре, заключенном с Анатолием, этот вопрос даже не поднимался; Аттила, видимо, его «заморозил» для дальнейшего давления на Империю. Теперь он посчитал время удобным для его «размораживания». В Константинополь направилось гуннское посольство во главе с Эдеконом. Во время переговоров евнух Хрисанфий, игравший в то время «первую скрипку» при дворе Феодосия, задумал организовать убийство Аттилы. Он подкупил Эдекона и переводчика Бигилу, чтобы они убили Аттилу. Но Эдекон, вернувшись в ставку Аттилы, раскрыл ему этот замысел. В ответ на это Аттила потребовал выдачи Хрисанфия и в поддержку своего требования возобновил войну. Император направил к нему для переговоров того же Анатолия и еще одного видного чиновника, тоже бывшего консула, Нома, который к тому же являлся верным сторонником Хрисанфия. На этот раз переговоры прошли для римлян вполне успешно. Аттила практически отказался от своих требований, даже выпустил Бигилу (правда, за обещание выкупа, для чего сохранил в качестве заложника его сына) и отпустил без выкупа римских пленников. Такой неожиданный поворот в политике по отношению к Восточной империи объясняется, видимо, тем. что внимание Аттилы было в это время уже обращено на Запад.
Восточное правительство, в свою очередь, стремилось к урегулированию отношений с гуннами. С этой целью Феодосий II даже официально дал Аттиле титул магистра армии[88] и даже выплатил ему положенное жалованье. Конечно, это не означало, что в управление гуннскому королю передавалась какая-то значительная часть Империи. С точки зрения константинопольского правительства это, с одной стороны, было предоставление самого великого почета, какой можно предоставить варварскому королю, а с другой, означало признание власти Аттилы над всеми варварами, живущими за пределами Империи. Это в известной степени внесло бы некоторый порядок в отношениях между Империей (по крайней мере, ее восточной частью) и варварским миром к северу от дунайской границы. Наконец, в Константинополе могли надеяться, что, приняв этот титул, Аттила тем самым косвенно признает себя подданным императора. Аттила, действительно, принял титул, но особенного значения ему не придал и был готов в любое время от него отказаться. Как говорилось выше, Аттила считал себя равновеликим с императором и этим отличался от других варварских королей.
Аэций, в это время фактически возглавлявший правительство Западной империи, стремился сохранить хорошие отношения с гуннами. Дело было не только в силе гуннов, но и в том, что само существование Гуннской державы и возможный союз с ней Империи сдерживал тех варваров, которые уже обосновались на территории Западной Римской империи. Благодаря своим дипломатическим усилиям Аэций сумел долго поддерживать хорошие отношения с гуннами, тем более что гунны дважды помогли ему не только вернуться в Италию, но и занять высокое положение в правительстве. В какой-то степени само его высокое положение обеспечивалось союзом с грозными гуннами. Между Западной империей и Гуннской державой был заключен договор. В отличие от договоров с Восточной империей этот договор не предусматривал денежных выплат гуннам[89]. Гунны явно и сами были заинтересованы в таких отношениях и не хотели никаких обострений. Чтобы уберечься от таких обострений, они взяли в заложники сына Аэция Карпилиона. Однако Аттила такие отношения прервал. Он уже доказал свою силу Восточной империи, и для дальнейшего укрепления своего престижа ему были необходимы победы и над Западной империей. Римская империя все еще обладала огромным престижем у варваров, и победа над обеими ее частями резко возвышало бы Аттилу в глазах всего тогдашнего мира. Возможно, на конфронтацию с Западом Аттилу толкали и экономические соображения. Как гунны исчерпали возможности Северного Причерноморья и из-за этого переселились за Карпаты, так теперь, может быть, эти земли тоже уже не давали достаточных средств для существования гуннского скотоводства. Он мог рассчитывать приобрести какие-то земли на западе, но вероятнее всего, все же не непосредственно на территории Западной империи. Тем не менее он потребовал от Валентиниана III уступки половины территории его империи. Это могло бы дать гуннам новые богатства и компенсировать экономические потери, если они, конечно, были.
Как уже говорилось, Аттила отозвал гуннские контингенты, воевавшие в Галлии против вестготов и багаудов. В 448 г. гунны приняли бежавшего к ним вождя багаудов Евдоксия, что явно было недружественным жестом по отношению к Империи. Неожиданно возник еще один повод к конфликту. Во время осады Сирмия местный епископ передал золотую чашу одному из гуннских секретарей Констанцию, чтобы она в случае необходимости послужила выкупом за сирмийских пленных. Однако Констанций не только присвоил эту чашу, но и продал ее римскому финансисту Сильвану. Теперь Аттила потребовал либо возвращения чаши, либо выдачи Сильвана (Констанций к этому времени был казнен). Все это дело явно служило лишь предлогом: если бы возмущение Аттилы было совершенно искренним, то непонятно, почему он столь долго лет ждал, прежде чем эти требования выдвинуть. Аэций тоже понимал всю абсурдность ситуации и направил для ее урегулирования посольство к Аттиле. Чем это дело завершилось — неизвестно. Возможно, что Аттила, в конце концов, отступил, потому что возник другой и гораздо более весомый предлог для конфликта.
Сестра Валентиниана Гонория, поссорившись с братом и его женой, начала плести сеть интриг. После провала организованного ею заговора ей пришла в голову безумная идея привлечь на свою сторону Аттилу. С этой целью она отправила верного ей евнуха Гиацинта к Аттиле с некоторой суммой денег, своим портретом и собственным кольцом. Аттила воспринял кольцо как знак помолвки и объявил Гонорию своей невестой, а в качестве приданого потребовал себе половину западноимперской территории как долю Гонории в наследстве ее деда и дяди. Так как Феодосий считался старшим августом, то Аттила обратился со своим требованием именно к нему. В ответ восточное правительство переадресовало претензии гуннского короля к западному императору, а Феодосий даже посоветовал Валентиниану отослать Гонорию к Аттиле. Верный своей политике, Константинополь стремился отвлечь сильного врага от своих границ, фактически науськивая его на другую часть Империи, что явно соответствовало и планам самого Аттилы. Валентиниан отказался последовать совету Феодосия. Тогда Аттила заявил, что он возьмет свою долю силой. Война приближалась. Обе стороны начали активно к ней готовиться[90].
Собирался ли Аттила действительно жениться на Гонории или это был лишь повод для начала войны с Западной Римской империи, сказать трудно. Как уже говорилось, сам Аттила не считал императора фигурой более высокой, чем он. Но среди других варваров престиж император был очень высок, и вхождение в императорскую семью резко возвысило бы Аттилу именно в их глазах. С другой стороны, решительный отказ императора отдать руку своей сестры Аттиле столь же резко подрывал престиж Аттилы, а тем самым и одну из основ его власти. Этого Аттила, конечно, стерпеть не мог.
Во время подготовки к войне возник конфликт среди франков, король которых умер, а два его сына вступили в острый спор за наследование трона. Один из них обратился за поддержкой к Аэцию, другой — к Аттиле. Победа одного из них означала бы и усиление соответствующего влияния. Как кажется, перевес все же оказался на стороне ставленника Аттилы. Во всяком случае, во время войны с гуннами франки выступали союзниками Аттилы. Может быть, это было связано с тем, что в тот конкретный момент оказать реальную помощь своему протеже Аэций был не в состоянии[91]. Тем временем в 450 г. умер император Феодосий II, не оставив наследников. Всемогущий генерал Аспар при поддержке сестры Феодосия Пульхерии возвел на трон Маркиана, который официально женился на Пульхерии. Одним из первых дел нового правительства была казнь Хрисанфия. Это, конечно, было вызвано внутридворцовой борьбой в Константинополе, но не исключено, что Маркиан и Пульхерия этим пытались также устранить такой раздражающий момент в отношениях с гуннами, как вдохновитель неудавшегося убийства Аттилы Хрисанфий. Впрочем, по отношению к гуннам Маркиан занял более твердую позицию, чем Феодосий. Он наотрез отказался платить им деньги, явно зная, что Аттила в это время был целиком поглощен своими западными планами[92]. Расчет восточного императора оказался верным. Хотя отдельные отряды гуннов вторглись на территорию Империи, они были довольно легко отбиты. Сам же Аттила не обратил на жест Маркиана никакого внимания.
Собрав огромную армию, включающую войска всех подчиненных народов[93]. Аттила двинулся к Рейну. Гунны уже участвовали в войнах, которые римляне вели в Галлии, и поэтому были хорошо осведомлены о положении в этой стране. Они явно рассчитывали на слабость римской армии, находившейся в Галлии, и на взаимную борьбу различных сил, что, по их мнению, обеспечивало им несомненный успех[94]. Попытался Аттила также не допустить объединения римлян и вестготов. С этой целью он направил посольства к Валентиниану и вестготскому королю Теодориху, убеждая каждого, что он собирается воевать не с ним, а с другим. Однако Аэций проявил бурную энергию и сумел в кратчайший срок создать новую армию. С помощью Авита он договорился с Теодорихом и заключил с ним союз. К армиям Аэция и Теодориха присоединились и другие варвары, жившие в Галлии. Весной 451 г. Аттила вторгся в Галлию. Первые действия Аттилы имели успех. Его армия глубоко внедрилась в земли Галлии, дойдя до Литера. Король аланов, живших около этой реки, Сангибад заколебался и был готов перейти на сторону гуннов. Однако сопротивление горожан и энергичные меры Аэция предотвратили этот переход и заставили Сангибада присоединить аланов к римской армии. Несмотря на продолжавшуюся несколько недель осаду, город Аврелиан (Ценаб, совр. Орлеан) Аттила взять не смог и отступил. Не сумел он взять и Паризии (Париж), где организацию обороны возглавила местная благочестивая христианка Геновефа (Женевьева). В конце июня 451 г. на Каталаунских полях произошла страшная битва, в которой гунны были разбиты и отступили. В какой-то момент Аттила был готов покончить с собой, чтобы не попасть в руки врагов. Потери были ужасающи. По некоторым сведениям, с обеих сторон погибло 165 тысяч человек, не считая 15 тысяч франков и гепидов, павших несколько раньше. В бою погиб и вестготский король Теодорих. Боясь союзников не меньше врагов. Аэций уговорил его наследника Торисмунда уйти назад в свои владения, а преследовать Аттилу только своими силами он был не в состоянии. Поэтому гунны спокойно ушли за Рейн.
Эта неудача не сломила Аттилу. Он стал готовиться к реваншу. Аттила вновь потребовал от Влентиниана руку Гонории и половину Империи, на что снова последовал отказ. На следующий год армия Аттилы вторглась уже непосредственно в Италию[95]. После приблизительно месячной осады он взял Аквилею, и это открыло ему путь в Северную Италию. Гунны разорили долину Пада, взяли Медиолан и Тицин, и Аттила был уже готов идти на Рим. Сил сопротивляться гуннам у римлян почти не было. Правда, Маркиан прислал на помощь западным римлянам какие-то свои войска, возглавляемые дуксом Аэцием, тезкой всемогущего западного патриция, но их было мало. Валентиниану и Аэцию пришлось пойти на переговоры с гуннским королем. В делегацию вошли бывший консул Авиен, бывший префект (претория или Рима, неизвестно) Тригеций, который до этого успешно вел переговоры с вандалами, и. что было в тех условиях чрезвычайно важно, папа Лев I. Хотя Аттила был язычником, возможность вести переговоры с главой римской Церкви произвело на него большое впечатление. Послы, и прежде всего Лев, настойчиво уговаривали Аттилу увести его войска из Италии и отпустить пленников. К этому времени положение самого Аттилы осложнилось. Италия еще не оправилась от страшного голода, который поразил ее два года назад. Разорения и грабежи привели к тому, что и в армии Аттилы тоже начался голод. Одновременно разразилась какая-то эпидемия. И это все ослабило его войско. Одновременно Маркиан направил свои войска через Дунай, и они напали на территорию гуннов. Хотя этот удар был довольно слабым, он не мог не обеспокоить Аттилу. Успех восточноримской армии мог спровоцировать неповиновение подчиненных гуннам племен и тем самым поставить под вопрос само существование империи Аттилы. В результате Аттила согласился покинуть Италию и вернуться назад. Ему пришлось удовлетвориться только богатой добычей, захваченной в Италии.
Неудача двух походов на Запад заставила Аттилу снова обратиться к Востоку. Теперь он потребовал у Маркиана уплаты всех тех денег, которые ему обещал Феодосий и отказался платить Маркиан, грозя в противном случае начать войну. Маркиан направил к нему для переговоров командующего армией Аполлония. Однако, узнав, что Аполлоний не везет с собой ни денег, ни даров, Аттила отказался его принять. Аттиле была необходима новая война, чтобы ее успехом заставить подданных забыть о провалах на Западе. С другой стороны, эти же провалы не могли не вдохновить Маркиана на отказ требованиям Аттилы, тем более что внешнеполитическое положение Восточной империи в это время улучшилось: положение на персидской границе было относительно стабильным, мятеж арабов в Сирии был подавлен, а с африканскими блемиями, до того нападавшими на Египет, был заключен мир. Это позволяло бы Маркиану в случае войны сосредоточить все свои силы для борьбы с гуннами. Но войны так и не произошло. В дело вмешалась роковая случайность.
В 453 г. Аттила, уже до этого имевший несколько жен, женился в очередной раз на девушке по имени Ильдико. Поскольку происхождение Ильдико неизвестно[96], то говорить о каких-либо политических расчетах при заключении этого брака невозможно. Ночью после пышной свадьбы опьяневший Аттила неожиданно умер. Неожиданная смерть грозного короля сразу же породила различные слухи о его убийстве. Один из таких слухов делал убийцей саму Ильдико. По другому слуху, Аттилу убили его собственные телохранители, подкупленные Аэцием. Однако приближенные Аттилы решительно все эти слухи опровергли, заявив о естественной смерти Аттилы, объявив даже, что сама легкая смерть во сне явилась знаком покровительства богов королю. После традиционного ритуала похорон Аттила был торжественно погребен.
Смерть Аттилы породила политический вакуум на вершине гуннской иерархии. У гуннов, как кажется, не существовало твердых правил наследования власти. Как и у других кочевников, она принадлежала всему царскому роду, и вопрос о конкретном главе окончательно решал съезд знати, который в зависимости от обстоятельств либо реально избирал своего лидера, либо только легитимировал уже свершившийся факт. Однако деятельность Руги и Аттилы практически этот принцип разрушила. Власть теперь должна была принадлежать только сыновьям Аттилы, но их было слишком много, чтобы они могли мирно договориться. Во всяком случае, авторитет старшего сына Эллака братьями признан не был[97]. Возможно, дело вышло за рамки семьи и дошло до открытых, даже, может быть, военных столкновений между дружинами братьев. В конечном итоге братья решили разделить державу по жребию на относительно равные части. Подчиненных королей, разумеется, при этом не спрашивали. Это вызвало их возмущение. Смерть грозного Аттилы позволяла им надеяться на освобождение от гуннской власти, а споры в королевской семье делали эти надежды вполне реальными. Как уже неоднократно говорилось, только военные (и дипломатические) победы, дававшие богатую добычу, скрепляли кочевые империи, подобные Гуннской. Только неоспоримые успехи придавали верховному повелителю престиж, необходимый для удержания под своей властью различные подчиненные народы и их знать. Если неудачи в Галлии и Италии еще могли восприниматься как временные (тем более, если со стороны Аттилы и его окружения велась соответствующая пропаганда), то разделение империи между многочисленными братьями окончательно подрывало возможность возрождения гуннской мощи, а с нею и надежды на выгоды от этого возрождения. В результате ряд подчиненных племен восстал. Характерно, что инициатором восстания являлся гепидский король Ардарих, который до этого был одним из самых доверенных советников Аттилы и всецело ему преданным[98]. Короли, еще недавно подчинявшиеся малейшему кивку Аттилы, теперь решительно выступили против его наследников. Это заставило соперничавших сыновей Аттилы объединиться, но было уже поздно. В ожесточенном сражении на реке Недао, чье местонахождение до сих пор вызывает споры, гунны и их союзники (поскольку не все подчиненные племена отпали) потерпели страшное поражение, причем в битве погиб и сам Эллак. После этого о единой Гуннской державе уже не было речи. Она распалась. Подчиненные народы, в том числе и те. которые в битве на Недао поддерживали гуннов, освободились от их власти. Более того, гунны, вновь распавшиеся на отдельные орды, были вынуждены покинуть свои земли в современной Венгрии, и их (по-видимому, на правах победителей) заняли гепиды. Западная империя вернула себе Паннонию. Восточная империя восстановила свой реальный контроль над пограничной полосой вдоль Дуная, особенно во Фракии. Попытка сыновей Аттилы восстановить хотя бы торговые отношения на дунайской границе оказалась безуспешной. Часть гуннов отошла в Нижнее Подунавье, а другая ушла еще дальше на восток, возвратившись в Северное Причерноморье.
Гуннская держава как один из самых влиятельных игроков на политической сцене перестала существовать. Сами гунны еще пытались то нападать на имперскую территорию, то договариваться с имперскими властями. И императоры были вынуждены время от времени принимать энергичные меры против гуннов. В 458 г. западный император Майориан разгромил какой-то отряд гуннов и убил их предводителя Тульдилу. В 469 г. большая гуннская орда под руководством сына Аттилы Денгизиха после неудачной попытки договориться с восточным императором Львом вторглась во Фракию. Это нападение было столь грозным, что, только сумев притворными обещаниями разделить гуннов на несколько частей, римские полководцы сумели его отбить, причем сам Денгизих погиб, а его голова была привезена в Константинополь[99]. Но все это уже были арьергардные стычки. В 474 г. гунны последний раз вторглись во Фракию. Они были отбиты. После этого гунны вовсе исчезают из письменных источников[100]. А позже они, видимо, растворяются среди новых кочевников, пришедших им на смену. Правда, например, болгарский хан Кубрат, основатель первого Болгарского царства, претендовал на свое происхождение от сына Аттилы Эрнаха. На свою связь с гуннами претендовали авары и венгры. Но все это было лишь патриотическими мифами.
Гуннская держава радикально отличалась от других варварских королевств. Она была типичной кочевой (для гуннов V в, может быть, лучше говорить о полукочевой) империей. Она была довольно хорошо организована, но вся эта организация зависела от престижа и материальных возможностей ее главы. Экономическая база самих гуннских племен была довольно слабой. Их главной, хотя, видимо, и не единственной, отраслью экономики было скотоводство. Оно едва ли могло удовлетворить все более растущие аппетиты гуннов, особенно их знати. Поэтому гуннам был необходим приток богатств извне. Часть этих богатств, по-видимому, давала дань с оседлых или полуоседлых народов, подчиненных гуннами. Но еще большую долю составляли результаты войн с Империей. Богатства Империи были несоизмеримы с возможностями ни гуннских подданных, ни других варваров, ни тем более самих гуннов. Долгое время на земли римских провинций гунны практически не претендовали, хотя и приняли под свою власть уступленную им Паннонию. Положение изменилось к концу 40-х гг. Аттила, используя обращение к нему Гонории, потребовал себе половину Западной империи. Природные условия ни Галлии, ни Италии не подходили для гуннского скотоводства. Эти земли были нужны Аттиле не для переселения туда своего народа, а для возможностей беспрепятственно пользоваться богатствами этих стран. Ни о каком сосуществовании гуннов и римлян не могло быть речи. Империя Аттилы была паразитическим, военным государством, и существовать она могла до тех пор, пока была единой и победоносной.
Историю гуннов можно разделить на два больших этапа: до и после образования империи, не говоря о затянувшемся на несколько десятилетий эпилоге. К 70-м гг. IV в. варварский мир представлял собой более или менее стабильную систему. Время от времени варвары воевали с римлянами и между собой, но это не разрушало относительно устоявшийся мир. Приход гуннов резко нарушил эту систему. Севернее Дуная и восточнее Рейна воцарился хаос. Под натиском гуннов многие народы снялись со своих мест. Хаос еще более усилился, когда гунны в поисках новых пастбищ двинулись еще дальше на запад, перейдя Карпаты. Давление на римскую границу усилилось, и ряд варварских племен, прорвав границу, устремился на римскую территорию, ища там новые места для поселения и в немалой степени защиту от гуннов.
Подчинение гуннами относительно большого числа варварских народов и образование империи изменило ситуацию. В Барбарике возникло обширное и могущественное государственное образование. Гунны не были заинтересованы в грабежах и убийствах своих подданных. Наоборот, в их интересах было сохранение потенциала этих подданных, главной задачей которых была поставка воинских контингентов (прежде всего пехоты) в гуннскую армию. Это способствовало сохранению подчиненными народами их традиций и в конечном итоге их этничности. Более того, язык одного из подчиненных народов — готский — стал своеобразным lingua franca, на котором общались разноплеменные подданные Аттилы. Объектом грабежей являются преимущественно римские провинции[101]. Отношения Римской империи с гуннами становятся константой политической ситуации в 30-х — начале 50-х гг. V в. Не все варварские народы попали под власть Аттилы, но и те, кто находился вдалеке от его империи (например, вестготы или вандалы), в своих действиях были вынуждены принимать во внимание существование этой империи. В отличие от других варваров ни гунны, ни их король не испытывали никакого пиетета перед Римской империей и императором. Аттила совершенно серьезно считал себя фигурой, равной императору. В какой-то степени можно говорить (но не допуская преувеличений), что в Европе возник второй полюс притяжения, некая альтернатива Римской империи. И во время своего существования эта альтернатива выглядела вполне реальной. Однако империю Аттилы ничего не скрепляло, кроме его удачной внешней политики и заработанного его успехами огромного престижа. Как только гуннский король стал терпеть поражения, зашатались и устои его власти. Быстрый крах Гуннской державы ясно показал всю хрупкость подобной конструкции. Альтернатива исчезла, а вместе с ней исчезла и относительная упорядоченность (и в какой-то степени предсказуемость) взаимоотношений римского и варварского миров. В известной мере можно говорить о возрождении политического хаоса, но уже на новых основаниях. Что касается самих гуннов, то после смерти Аттилы и поражения на реке Недао они, в принципе, стали обычным варварским народом. Они. конечно, обладали своими особыми чертами, но эти черты не выходили за рамки общих характеристик варварского мира.
III. АЛАНЫ В ГАЛЛИИ
Аланы, как уже говорилось, были первым народом Европы, подчиненным гуннами. Их подчинение было обусловлено заключенным договором, по условиям которого они явно занимали более привилегированное положение в Гуннской державе, чем другие народы. Находясь, как кажется, в авангарде гуннских нашествий[102], аланы перешли Дунай и вместе с вестготами участвовали в битве при Адрианополе, причем именно удар аланской кавалерии сыграл в том сражении решающую роль. После этого они поселились в Паннонии, где. вероятно, вступили в союз с вандалами. Вместе с ними они двинулись вдоль берега Дуная на запад[103]. В этом движении на запад, вероятнее всего, участвовали не все аланы. Какая-то их часть оставалась подчиненной гуннам. Правда, в битве на Каталаунских полях в 451 г. аланы не упоминаются, но они могли рассматриваться лишь как часть армии Аттилы. Зато в битве на реке Недао, в которой после смерти Аттилы его бывшие подданные разгромили его сыновей, аланы принимали активное участие. Из сообщения об этой битве неясно, на чьей стороне сражались аланы. В данном случае, однако, важно не это, а сам факт участия аланов в сражении, ибо в нем участвовали только те племена, которые ранее подчинялись Аттиле[104]. Следовательно, какая-то часть аланов входила в состав Гуннской державы. Еще какая-то часть аланов оставалась вместе с готами на юго-западе Крыма.
Те аланы, которые вместе с вандалами и свевами двинулись на запад, в ночь на I января 407 г. перешли Рейн и начали грабить Галлию. Их опорная база находилась, вероятнее всего, в районе среднего течения Рейна, где ранее располагались вспомогательные воинские части родственных аланам сарматов. Отсюда аланы и совершали свои набеги в разных направлениях. Однако когда в 409 г. вандалы и свевы, воспользовавшись появлением возможности свободного перехода через Пиренеи, решили вторгнуться в Испанию, аланы разделились. Аланский король Респендиал[105], сохраняя верность союзу с вандалами, решил последовать за ними[106], но это решение вызвало сопротивление части аланов, которых возглавил Гоар. Ни о каких спорах, а тем более столкновениях между Респендиалом и Гоаром сведений нет. Вопрос, по-видимому; решился мирно: кто хотел, вместе с Респендиалом двинулся через Пиренеи, а кто этого не хотел, остался в Галлии под властью Гоара[107]. Поскольку после ухода столь значительных сил варваров в Галлии восстановилась эффективная римская власть, Гоар предпочел пойти на соглашение с ними и перейти на службу к Империи[108].
Это разделение аланов не было ни первым, ни последним. Аланы ни в коем случае не представляли некое сплоченное целое. Политическая связь между отдельными аланскими племенами и их союзами было довольно слабой. Аланские объединения (как и объединения аланов с другими народами) возникали и распадались в зависимости от конкретных обстоятельств, хотя, конечно, взаимные обязательства тоже играли определенную роль. В то время как аланы Респендиала и Гоара участвовали во вторжении вандалов и свевов в римскую Галлию, другие аланские отряды, начиная, видимо, с 380 г., служили в римской армии и активно участвовали в военных действиях Империи. Так, аланы, действуя под командованием Стилихона. сыграли большую роль в разгроме войск Радагайса, а еще раньше в войне с Аларихом[109]. После этого поселения аланских воинов еще долго находились в Северной Италии. Восточная империя также охотно включала аланские отряды в свою армию. Некоторые аланские офицеры могли занять довольно высокое положение. Три поколения аланской семьи Ардабуридов играли огромную роль не только в военной, но и в политической истории Восточной Римской империи, а один из них — Аспар, сын Ардабура, одно время фактически распоряжался троном Константинополя.
Аланы были кочевым скотоводческим народом. Однако природные условия Галлии не способствовали сохранению этой их экономики. Некоторое время аланы могли по-прежнему жить грабежом, но грабеж не мог быть достаточно прочной основой дальнейшего существования. Поэтому аланы начали, по-видимому, переходить к оседлому земледелию. Темп этой экономической трансформации неизвестен, но сам факт перехода несомненен. Однако для этого была необходима земля. Эту землю легально получить можно было только у императора. Отсюда и стремление варваров, и аланы здесь не были исключением, либо активно служить императору, либо заиметь своего «карманного» императора, от которого они и могли получить землю. В то время, когда аланы и их союзники разоряли Галлию, эта страна фактически находилась под властью узурпатора Константина, которого даже на какой-то момент был вынужден признать Гонорий в качестве своего соправителя. Идеологической базой правления Константина стала его последовательная борьба с варварами, от которых он спасал разоряемую ими Галлию. Конечно, открыто пропагандируемая идеология и реальная политика далеко не всегда совпадали, и Константин при необходимости заключал союзы с варварами. Однако к аланам, которые считались самыми дикими из варваров, это, по-видимому, не относилось. Они приняли участие в борьбе с войсками Константина. После же разгрома Константина аланы Гоара вместе с бургундами решили провозгласить императором знатного гало-римлянина Иовина. В 411 г. тот был облечен пурпуром в Могонциаке при активной поддержке Гоара и бургундского короля Гундахара (Гунтиария). Иовина также активно поддержали франки и аламаны, а в первое время и вестготы. Но скоро вестготский король Атаульф разочаровался в своей поддержке Иовина. По-видимому, аланы и бургунды видели в вестготах соперников, и, возможно, под их влиянием Иовин назначил своим соправителем брата Себастиана. Этим варвары, стоявшие за спиной Иовина, хотели гарантировать продолжение его политики и в случае различных непредвидимых обстоятельств, в том числе гибели самого узурпатора. В этих условиях Атаульф. выступавший против назначения Себастиана, решительно выступил и против Иовина. Силы оказались неравными. Выступление Иовина было подавлено, и он сам вместе с Себастианом был убит. Таким образом, попытка Гоара и его союзника бургундского короля заиметь собственного императора не удалась. В этих условиях они оба признали Гонория. С другой стороны, сил воспользоваться этой ситуацией и изгнать аланов и бургундов из Галлии у римлян не было. Аланы продолжали находиться в Галлии. Их пребывание там. вероятнее всего, пока никак легализовано не было, и никакой foedus заключен не был, и об их конкретных действиях некоторое время ничего не известно.
Сохранила ли свое единство орда Гоара или от нее отделились другие группы, неизвестно. Во всяком случае, какая-то группа аланов вскоре появилась в Юго-Западной Галлии, где аланы действовали совместно с вестготами. Их союз был, может быть, скреплен браком вестготского короля Атаульфа с аланкой. В частности, вестготы и аланы осадили город Васаты (Базас). Однако находившийся там видный представитель местной знати Паулин сумел расколоть готско-аланскую коалицию и даже привлечь аланов на свою сторону[110]. Он пообещал предводителю аланов дать землю в окрестностях города, и тот согласился перейти на сторону римлян[111]". В результате большое число аланов вместе с женами и детьми вошло в город и организовало его оборону. После разрыва аланами союза с вестготами и заключения ими соглашения с Паулином вестготы не решились продолжать осаду города и отступили. Констанций, по-видимому, подтвердил согласие Паулина на предоставлении аланам, покинувшим город после ухода вестготов, земли. Аланы были признаны воинами вспомогательных частей (auxiliarii) и на этом основании получили участки земли. Использование термина sors позволяет говорить, что поселение аланов было произведено на условии hospitalitas, как было обычно при принятии варваров в качестве федератов. Это означает, что галлоримское население не было вытеснено, но было вынуждено сосуществовать с аланами. Переход по крайней мере этой группы аланов к оседлости и земледелию несомненен. Судя по топонимическим данным, аланы были расселены между Гарумной и Средиземным морем, так что они могли контролировать коммуникации между Галлией и Испанией.
Намерения римских властей понятны. Они стремились усилить контроль над возможными действиями вестготов. Однако в 415 г. вестготы, вынужденные морской блокадой Констанция уйти из Галлии в Испанию, спокойно перешли Пиренеи именно через те территории, которые контролировали аланы. Не исключено, что это произошло не только с согласия, но и по приказанию Констанция. В 418 г. вестготы, во главе которых стоял уже не Атаульф, а Валлия, покинули Испанию и возвратились в Галлию, где получили землю для поселения в качестве федератов и образовали свое королевство (Тулузское королевство). Таким образом, вестготы снова оказались соседями аланов. Но каковы были их взаимоотношения, неизвестно. Сохранили ли аланы все земли, которые они получили по соглашению с Паулином и Констанцием, мы не знаем. Но они явно оставались жить в этом регионе. В своем стихотворном комментарии к Книге Бытия массилийский ритор Клавдий Марий Виктор (или Викторин) говорит о примитивной религии аланов. Следовательно, массилиец знал некоторые подробности жизни аланов, а это может косвенно свидетельствовать о проживании этого народа недалеко от Массилии.
Некоторые изменения в жизни аланов происходят в 40-е гг. V в. Аэций, в это время фактически правивший Западной Римской империей, счел необходимым консолидировать положение в Галлии. С этой целью он активно привлекал варваров. До этого гунны помогли ему подавить восстание в Арморике. С другой стороны, опасаясь возросшей силы Бургундского королевства, он сначала сам воевал с бургундами, а затем направил на них гуннов, которые уничтожили это королевство. Одновременно римляне активно воевали с вестготами, которые упорно стремились расширить подчиненную им территорию и пробиться к Средиземному морю. Территория. через которую стремились прорваться вестготы, была частично населена аланами. Об их участии в военных действиях ничего неизвестно, но можно предполагать, что они действовали в составе римских частей. В 439 г. Литорий, только что с помощью гуннов подавивший восстание в Арморике, двинулся против вестготов, но потерпел поражение, был взят в плен и там погиб.
В этих условиях Аэций обратил внимание и на аланов. Группу аланов, возглавляемую Самбидой, он поселил на пустующих землях на левом берегу среднего течения Родана (Рона) в районе города Валенции. Вероятнее всего, это были именно те аланы, которые до этого занимали земли между Гарумной и Средиземным морем[112]. Причины этого акта Аэция определить трудно. Вероятно, в условиях обострения ситуации на юге Галлии после поражения Литория он решил более не доверять аланам, опасаясь их союза с вестготами. Ни о каком сопротивлении аланов этому поселению неизвестно, и его явно и не было. Возможно, за прошедшее время аланы, не очень-то еще привычные к земледелию, истощили полученную ими землю и с удовлетворением приняли решение Аэция дать им новую территорию. Хронист, сообщая об акте Аэция, говорит о deserta… rurа. Исходя из термина rus, можно говорить, что аланам были представлены пахотные земли и поселения, оставленные прежними владельцами. Этим Аэций, как кажется, достигал нескольких целей. Он отвлекал аланов от возможного союза с вестготами, заново заселял оставленные прежним населением земли и создавал из аланов заслон против возможных вторжений в Юго-Восточную Галлию. Что касается аланов, то занятие ими rurа говорит о состоявшемся уже полностью переходе к оседлости и земледелию.
Хронист, говоря о поселении Аэцием аланов, не упоминает титула Самбиды. Он просто говорит, что Самбида возглавлял (praeerat) аланов. Для сравнения можно сказать, что Гоар в это же время считался королем (rех) аланов. Самбида, вероятно, такое положение не занимал. Можно, по-видимому, говорить, что аланы Самбиды не образовывали какого-либо вида автономного государства в рамках Римской империи. Сам Самбида. может быть, являлся командиром аланских auxiliarii, какими они оставались со времени Паулина и Констанция. В то же время совершенно ясно, что аланы были не просто воинами, а, скорее, военными колонистами, ибо землю около Валенции они получили для раздела между собой (partienda).
Через некоторое время Аэций обратил свое внимание на аланов Гоара. Возможно, по-прежнему их базой было побережье среднего Рейна, и в таком случае они должны были принимать участие в войне Аэция с бургундами[113]. Теперь Аэций принял решение переселить их в район среднего течения Лигера (Луары) и севернее его. После разгрома бургундов и уничтожения их королевства имперское правительство восстановило свой контроль над этой частью рейнской границы. В этих условиях воинственные и, с точки зрения римлян, дикие аланы[114] (которые к тому же были еще язычниками) могли стать новой угрозой для столь опасной и чрезвычайно важной для Империи границы. Переводя их во внутренние районы Галлии, Аэций ослаблял эту угрозу. Не менее важным для Аэция было использование аланов против армориканцев, восстания которых с все большим трудом подавлялись имперской властью. В отличие от южных аланов эти аланы получили не пустующие земли, а территории, уже занятые жителями, с которыми они должны были эти земли разделить (cum incolis dividendae). Однако местные жители не горели желанием уступать аланам ни земли, ни имущество. Они с оружием в руках выступили против аланов. Власти в эту ситуацию не вмешивались, а силы были неравными. Аланы сломили сопротивление землевладельцев и отняли у них все их имущество, включая и землю. Только посредничество автессиодурского епископа Германа остановило войну и привело к заключению соглашения между сторонами. Неизвестно, было ли это соглашение ратифицировано центральной властью[115], но оно явно смогло установить какой-то вид сосуществования между двумя группами населения.
Аланы поселились на территории между средними течениями Лигера и Секваны (Сена), а также частично и южнее Лигера. Их центром был Аврелиан (совр. Орлеан). Тот факт, что аланы должны были разделить земли, а затем они захватили и не принадлежавшие им земли, ясно говорит о том, что в это время их главным занятием было уже не скотоводство, а земледелие. Гоар, как уже упоминалось, считался королем аланов. Тот же титул (rex Alanorum) носил и Сангибан, возглавлявший эту группу аланов в 451 г. В отличие от южных аланов, поселенных на берегу Родана, северные аланы явно являлись относительно сплоченным целым, возглавляемым королем. Каков был характер и объем власти короля, мы не знаем. Ясно, что он мог от имени всего объединения заключать договоры и соглашения, а во время войн командовал своими воинами. Поскольку никаких сведений об отношениях между Сангибаном и Гоаром нет, то говорить о наследственной передаче власти или о каком-либо ином способе наследования мы не можем. Мы не можем даже сказать, являлся ли Сангибан непосредственным преемником Гоара или между ними аланов возглавлял какой-либо другой король.
Противоречия между аланами и галло-римлянами вновь обострились в связи с гуннским вторжением 451 г. Стратегической целью Аттилы был Аврелиан, взятие которого открывало бы путь к дальнейшему распространению гуннской экспансии к югу от Лигера. При подходе Аттилы к Аврелиану Сангибан был готов сдать город Аттиле. Однако сами горожане, возглавляемые местным епископом Ангианом, решительно этому воспротивились. В таких условиях Сангибан пойти на сдачу города не решился. Тем временем римские и союзные с ними вестготские войска вошли в Аврелиан. Сангибану пришлось резко изменить свою позицию и включить своих воинов в армию Аэция. Осада Аврелиана оказалась для гуннов неудачной, и Аттила отошел на восток. В битве на Каталаунских полях аланы стояли в центре, занимая положение между собственно римскими войсками и вестготами, действуя непосредственно против гуннов (а не их союзников и подчиненных, как это было на флангах). В этой битве, как известно, Аттила потерпел поражение и был вынужден уйти из Галлии. Есть сведения, что на следующий год Аттила снова вторгся в Галлию, направив свой удар на аланов, но был отбит с помощью вестготов. Однако в настоящее время в науке преобладает мнение, что в реальности второго похода Аттилы в Галлию не было. Возможно, это сообщение связано с неправильно понятыми событиями, произошедшими вскоре после битвы на Каталаунских полях.
Аланы, как только что было сказано, в этой битве сражались против главных сил Аттилы и явно понесли большие потери. Это чрезвычайно ослабило их. С этого времени история аланов в Галлии пошла по нисходящей линии. Ослаблением аланов воспользовался вестготский король Торисмунд. В 453 г. (или, может быть, 452 г.) он напал на аланов. Аланы были разбиты и покорены. Речь явно идет об аланах, живших южнее Лигера. Те, кто обитал севернее этой реки, не были подчинены; под властью вестготов не оказался и их центр Аврелиан, поскольку позже именно там происходили бои между наступавшими вестготами и римлянами. После убийства императора Майориана командовавший войсками в Галлии Эгидий отказался признать его преемника Либия Севера, являвшегося марионеткой могущественного Рицимера. Рицимер договорился с вестготским королем Теодорихом II, недавно убившим Торисмунда и ставшим его преемником, и тот направил против Эгидия армию во главе со своим братом Фредериком. Решающая битва произошла около Аврелиана, и в ней вестготы потерпели поражение, а сам Фредерик пал в бою. Наряду с армией Эгидия в этой битве участвовали франки. Аланы при этом не упоминаются, но само место сражения позволяет говорить, что они не могли уклониться от него. В отличие от франков, которые были союзниками Эгидия, аланские воины, вероятнее всего, составляли часть его армии.
Что касается южных аланов, живших в районе Родана, то они, вероятно, принимали какое-то участие в различных событиях, происходивших в Южной Галлии, в частности, в столкновениях бургундов с римлянами, но об этом можно только догадываться, ибо никаких сведений об их участии нет. Видимо, их роль была все же настолько незначительной, что позднеантичные и раннесредневековые авторы не считали необходимым их даже упомянуть. Эти аланы, по-видимому, участвовали в качестве федератов в армии Майориана, когда тот предпринял свой неудачный поход против вандалов. Единственный раз, когда южные аланы выступают как самостоятельная сила, были события 464 г. В этом году аланы под руководством короля Беорга (или Беоргора) вторглись в Италию и были там разбиты Рицимером. Речь явно идет о южных аланах, поскольку северные аланы в тот момент едва ли могли вмешаться в дела Италии. В Южной Галлии вестготы и бургунды, выступая то в официальном союзе с Империей, то откровенно ее противниками, стремились все более расширить свои владения. Аланы явно уступали им силами и не могли активно вмешаться в события. К тому же, расширяя свои владения на юго-востоке Галлии, бургунды могли вытеснять аланов с их мест в долине Родана. В то же время затруднения, испытываемые Рицимером, давали им надежду на возможность поселиться в еще более, как казалось, благодатной Италии. Речь, видимо, идет об аланах, которые остались «не у дел» после возвращения Майориана из Испании. Едва ли аланы были в курсе всех политических хитросплетений, и преувеличенные слухи о нестабильности тамошней ситуации могли подтолкнуть их к вторжению. Не исключено, что они могли надеяться и на помощь тех аланских военных колонистов, которые с начала столетия находились в Северной Италии. Однако их надежды не оправдались. Аланы были разгромлены, а сам Беорг убит. Какова была судьба разбитых аланов — неизвестно. Существует предположение, что по крайней мере часть их все же поселилась на севере Италии, перейдя на римскую службу.
После всех этих событий аланы, жившие в Галлии, полностью исчезают из источников[116]. Их все же было не так много, а потери, которые они испытывали в различных войнах, особенно в войне с гуннами, были весьма значительными. Оказавшись в окружении намного превосходящего числом галло-римского и варварского (вестготского, бургундского, позже франкского) населения, аланы относительно быстро стали ассимилироваться. В середине V в. они еще были язычниками, но во второй половине столетия, вероятнее всего, приняли христианство, причем в католической, а не в арианской форме[117]. Это еще более способствовало их ассимиляции и растворению в окружающей среде. После VI в., а может быть, еще и несколько раньше, об аланах в Галлии уже не было никакой речи. Аланы оставили некоторые археологические следы своего пребывания в Галлии. От них на территории современной Франции и частично Швейцарии остались различные топонимы, аланские имена встречаются в ономастике средневековой Франции, но как отдельный народ галльские аланы исчезли.
IV. ГЕРМАНСКИЕ НАРОДЫ ДО ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЛЕВСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Какую бы огромную роль ни играли гунны в последней четверти IV и первой половине V в., королевства на территории Западной Римской империи образовывали германские народы. Среди них значительную роль играли готы. И их историю до переселения на земли Империи надо выделить в отдельную главу.
Свевы. Свевы относились к западным германцам и довольно рано вступили в конфликт с римлянами. Уже Цезарь имел с ними дело. Были ли в это время свевы отдельным племенем или союзом племен, неизвестно, но в следующем столетии под свевами подразумевалась довольно значительная этническая общность, в которую входил ряд племен со своими названиями, которые объединялись общим происхождением, культом и некоторыми обычаями[118]. На первый план выдвигались то одни, то другие свевские племена. Сначала видное место занимали сем ноны, потом — маркоманы. К тому времени, когда под руководством маркоманов образовалась значительная коалиция германских племен, вступившая в 60–70 гг. II в. в ожесточенную борьбу с Империей, свевские народы жили уже довольно далеко от Рейна. В I–II вв. свевы переселились к востоку и населяли районы к северу от среднего течения Дуная. Очень возможно, что в ходе этого переселения произошла некоторая перегруппировка отдельных племен, входивших в свевское объединение, и одно их новых племен приняло название, которое ранее принадлежало всему объединению, — свевы[119]. В войнах маркоманов с Римом свевы участвовали уже как отдельное племя. Можно говорить, что к 166 г., когда начались Маркоманские войны, свевы уже были самостоятельным племенем со своей собственной этнической идентичностью. В III–IV вв. свевы вовсе не упоминаются. Они не участвовали в войнах с Империей и поэтому римских авторов не интересовали.
Положение меняется в начале V в. Около 400 г. под давлением гуннов различные племена начали различные передвижения. При этом некоторые из них распадались: одни оставались на старых местах, другие предпочитали долгий путь, имея целью, если это было возможно, поселиться на благодатной, как им казалось, земле Римской империи. Это относится и к свевам. Жившие в среднем Подунавье свевы разделились. Часть их осталась на старом месте и явно подчинилась гуннам[120]. После распада Гуннской державы дунайские свевы восстановили свою независимость и вскоре вступили в борьбу с остготами. При этом они разделились на две части, каждая из которых имела своего короля — Хунимунда и Алариха. Под руководством Хунимунда свевы пытались пройти в Далмацию, заодно отнимая скот у остготов. Остготский король Теодемир разбил их, взял в плен самого короля и заставил Хунимунда признать себя его «сыном по оружию», что означало признание подчинения остготскому королю. Однако подчинение остготам не входило в планы свевского короля. Он сумел заключить союз со скирами, и они вместе выступили против остготов. Готы восприняли это выступление как мятеж. В ожесточенном сражении погиб остготский король Валамир, но остготы одержали победу. После этого свевы вошли в новую и более обширную коалицию, созданную в значительной степени интригами императора Льва. В состав этой коалиции, кроме свевов, вошли герулы, ругии, скиры и сарматы. В 469 г. на реке Болии в Паннонии произошло кровопролитное сражение, в котором армия коалиции потерпела полное поражение. Стремясь защититься от готской угрозы, свевы вступили в союз с аламанами, но и этот союз не принес им пользы. Уже в 470 г. Теодемир, воспользовавшись замерзанием Дуная, перешел через реку и вторгся на территорию свевов. Свевы снова потерпели поражение. На этом остготско-свевские войны прекратились. Для остготов в этой время были гораздо важнее отношения с Империей, и они ограничились тем, что обезопасили свой тыл от новых ударов со стороны свевов. Свевы же, потерпев ряд весьма чувствительных поражений, больше не пытались воевать с остготами. Они ушли дальше на запад. При этом их королевство, видимо, распалось, и Хунимунд перестал быть королем. Много позже свевы присоединились к лангобардам и вместе с ними вторглись в Италию. История этих свевов полностью сливается с историей лангобардов. С лангобардами явно ушли не все свевы. Часть их осталась в Германии и заняла территорию, оставленную теми саксами, которые тоже присоединились к лангбардам. Когда саксы, отделившись от лангобардов, возвратились на свою прежнюю территорию, свевы одержали над ними победу и сохранили за собой эту землю[121].
Значительная часть свевов заключила союз с вандалами и аланами и вместе с ними двинулась на Запад. После неудачной попытки обосноваться в Реции союзники в ночь на 1 января 407 г. перешли Рейн и вторглись в Галлию. Они разоряли эту страну до тех пор, пока осенью 409 г. не перешли в Испанию[122]. Там союзники продолжали грабительские набеги. И лишь в 411 г. произошел раздел испанских провинций между различными племенами. Во всех этих событиях свевы, вероятно, играли подчиненную роль. Первую же роль играли сначала вандалы, а затем аланы. Характерно, что Сальвиан говорит о вандалах и аланах, но полностью умалчивает о свевах. Ясно, что почти трехлетнее пребывание свевов в Галлии не оставило никаких следов в памяти местного населения. Неудивительно, что при разделе испанских провинций свевы получили лишь западную часть Галлеции, т. е. самую удаленную область Пиренейского полуострова. Их соседями были вандалы-асдинги, занявшие восточную часть той же Галлеции.
Вандалы. Плиний, говоря о пяти группах германцев, одну из них называет вандилиями, т. е. вандалами. У Плиния, таким образом, вандалы-вандилии выступают как обобщенное название восточных германцев вообще. Недаром частью вандалов римский энциклопедист считал бургондионов (бургундов), варинов, харинов и гутонов (готов). У Тацита самым значительным восточногерманским народом названы лугии. Как и свевы, тацитовские лугии — не единое племя, а объединение нескольких племен. Поэтому было высказано мнение, что либо лугии — другое название вандалов, либо, вероятнее, вандалы были частью лугского объединения, подобно тому, как семноны или маркоманы — частью свевского. Правда, Тацит среди лугских племен вандалов не называет; по его мнению, наиболее значительные civitates лугиев — гарии, гельвеконы, манимы, гелизии и наганарвалы. С другой стороны, Тацит вандалов-вандилиев все же знает: он называет их среди германских племен, как свевы, марсы, гамбривии, которые носят древние и подлинные имена. При этом историк ссылается на древние германские песнопения, так что можно думать, что сами вандалы возводили свое происхождение непосредственно к одному из сыновей бога-прародителя Манна. Птолемей тоже упоминает лугиев, а одновременно с ними силингов, которые в позднейших источниках выступают как вандальское племя.
Все это не позволяет сказать практически ничего о ранней истории вандалов. Можно только предположить, что они были частью какого-то племенного объединения восточных германцев, в которое, возможно, входили и племена лугиев, так что для далекого римского наблюдателя это объединение могло выступать под именем и лугиев, и вандалов. Возможно, что вандалы были частью лугского объединения[123], но не казались информатору Тацита столь значительными, чтобы их упоминать: ведь Тацит ясно говорит, что он называет только наиболее значительные племена лугиев. Большую ясность вносит археология. Археологи полагают, что материальные комплексы, соответствующие лугиям и вандилиям/вандалам, были совершенно разными, так что речь идет о различных этносах.
Предполагают, что прародиной вандалов, как и многих других германских племен, была Скандинавия. В случае вандалов речь идет о юго-западной части Скандинавского полуострова и северной Ютландии. Отсюда предки вандалов на рубеже II–I вв. до н. э. переселились на южный берег Балтийского моря, а во времена Плиния и Тацита вандалы и лугии жили между Вислой и Одером. Здесь им. скорее всего, соответствует так называемая Пшеворская археологическая культура. Ее носителями были не только вандалы, но вандалы, несомненно, преобладали. Свое передвижение от балтийского берега вандалы совершали, может быть, вместе с готами[124] и на какое-то время подчинили себе готов. Во II в. готы освободились от власти вандалов. Взаимоотношения вандалов с другими германскими племенами были и мирными, и конфликтными. Так, например, вандалы воевали с лангобардами. В I в. они входили в Маркоманскую державу Маробода, а затем активно участвовали в свержении его второго преемника Ванния. Когда готы приблизительно в середине II в. начали свое движение к юго-востоку, они не могли пройти мимо вандалов, обитавших к югу от готов. Археология показывает, что элементы Пшеворской культуры начали заменяться соответствующими элементами Вельбаркской культуры. Все это не могло пройти мирно. Предание сохранило сведения о войнах между готами и вандалами[125]. Значительная часть вандалов осталась на месте, а другие тоже приняли участие в переселениях. Уже до времени Птолемея или, точнее, его источника вандалы разделились, и на старом месте остались силинги, от имени которых много позже эта область получила название Силезия. Да и позже современные Судеты назывались Вандальскими горами. Другая их часть под руководством Рауса и Рапта переселилась к югу. Эти переселенцы запросили у римских властей позволения поселиться в римской Дакии, обещая за этого стать римскими союзниками и помогать Римской империи в войнах против других германцев. Поcле отказа асдинги попытались вытеснить костобоков, чтобы завладеть их землями. Дальнейшие события не совсем понятны. По одним данным, вандалы помогали императору Марку Аврелию во время Маркоманских войн, по другим, они, наоборот. воевали против римлян и были ими побеждены. Одновременно вандалы воевали с другими варварами — костобоками и лакрингами[126], заняв территорию костобоков у границ римской Дакии. Около 270 г. вандалы уже жили на среднем Дунае (разумеется, не на римской, а на варварской его стороне). В это время они вновь воевали с римлянами, активно участвуя, в частности, в готских вторжениях в Империю. и потерпели поражение, после чего заключили договор с императором Аврелианом. По условиям этого договора они выдали римлянам знатных заложников и обязались поставить две тысячи всадников в римскую армию. В этой армии имелась octava ala Vandalorum, история которой может восходить к этим вандальским кавалеристам. Немного позже другие вандалы (по-видимому, силинги) участвовали в войнах с императором Пробом и тоже потерпели поражение[127].
Эти переселившиеся к югу вандалы позже именуются асдингами (или хасдингами). В то же время известно, что Асдингами именовался королевский род (regia stirps), считавшийся среди вандалов выдающимся и наиболее воинственным, из которого, в частности, вышел король Визимар. воевавший с готами[128]. Поэтому можно думать, что переселенцы приняли имя своего королевского рода[129]. Этот род мог выдвинуться еще во время пребывания вандалов (или протовандалов) в Ютландии, где его следы еще сохранились в некоторых топонимах. Королевское достоинство сохранялось в этом роде до самого конца существования вандальского государства. В первой половине IV в. вандалы-асдинги жили между маркоманами и готами. Потерпев поражение от готов, часть вандалов с согласия императора Константина около 335 г. перебрались на римскую сторону Дуная, поселившись там, возможно, на правах федератов. Основная же их часть оставалась жить в районе верхнего и среднего течения Тисы.
За время после выселения из Скандинавии в политическом строе вандалов происходят важные изменения. На начальных этапах этого периода вандалов фактически возглавляли военные вожди (герцоги). Вновь так же, как и у некоторых других германцев, во главе племени стояли два вождя. Два герцога — Амбри и Асси, возглавляли вандалов в неудачной войне с лангобардами[130]. Переселение к югу тоже возглавляли двое — Раус и Рапт. Были ли Амбри и Асси мифологическими фигурами или реальными людьми, сказать трудно. Их имена означали «Ольха» и «Ясень». Эти имена могут указывать на связь с божественным миром[131]. Амбри и Асси были связаны с богом Годаном (Вотаном, Одином), который, однако, по лангобардскому преданию, даровал победу не вандалам, а лангобардам. С другой стороны, значащие имена вполне могли иметь и реальные люди. Раус и Рапт, несомненно, являются историческими фигурами. Хотя и их имена тоже значащие («Сияние» и «Тростник»)[132], но их вполне могли получить реальные люди[133]. Их действия (переселение к югу, просьба о союзе и помощи, обращенная к римлянам, война с костобоками) не имеют никаких легендарных мотивов, они совершенно реальны. Были ли они королями или герцогами — неизвестно. Скорее всего, они все же были герцогами[134]. В рассказе о мире вандалов с Аврелианом в 271 г. упоминаются короли (во множественном числе) и архонты, под которыми, видимо, надо понимать герцогов. Визимар был первым, о ком прямо говорится, что он был rех (король), и он, судя по тексту Иордана, был уже единственным королем. Также прямо говорится, что он принадлежал к роду Асдингов. который у вандалов выделяется (eminet) и является самым воинственным (bellicosissimum). Теперь больше нет речи о двух предводителях. Все сведения о вандалах с этого времени говорят только об одном короле, их возглавляющем. Эпизод с Раусом и Раптом относится к концу 171 или началу 172 г. Визимар был королем до 337 г. Следовательно, в период между этими датами произошло очень важное изменение структуры власти у вандалов (по крайней мере, асдингов). Власть двух герцогов, совместно руководящих военными и «иностранными» делами вандалов, заменяется единоличной властью короля. При этом решающую роль опять же играет воинственность королевского рода. Произошло это. однако, не сразу. У многих германских племен имелись короли, избираемые в соответствии со знатностью рода, которые, однако, играли сравнительно ограниченную роль, явно уступая вождям. К 271 г. несколько (сколько, неизвестно) королей уже наряду с герцогами играют активную роль как в войне, так и в дипломатии. И именно короли как наиболее знатные представители племени дали императору в качестве заложников своих детей. По-видимому, между 172 и 337 г. военное руководство перехватили короли из рода Асдингов, которые и сумели, оттеснив герцогов, выйти на первый план. Переговоры и последующий договор между вандалами и Аврелианом отражают, вероятно, определенный этап формирования вандальской монархии. В это время короли уже выдвигаются на первый план, но монархия еще носит коллективный характер и сосуществует с властью герцогов. Надо заметить, что родовая знать еще очень долго играла у вандалов очень важную роль, в большой мере даже соперничая с королевской властью.
В конце IV в., когда под натиском гуннов весь племенной мир пришел в движение, вандалы тоже приняли в нем участие. К страху перед гуннами присоединился голод, также заставивший вандалов искать новые места для поселения. Вандалы-асдинги объединились с аланами и, продвигаясь вдоль Дуная, двинулись на запад. К концу IV в. часть аланов, не подчинившихся гуннам, поселилась в районе Паннонии в непосредственной близости от вандалов, так что их союз был вполне естественен. Вскоре к их союзу присоединились свевы и вандалы-силинги. Около 400 г. значительная часть последних покинула старые места и перебралась к югу[135]. Каждая из этих этнических групп сохраняла свой строй и подчинялась своим главам. Силингов возглавлял Хрок, свевов — Гермерих или, скорее, его предшественник, аланов — Гоар и Респендиал. Однако все они, как кажется, признавали высший авторитет короля асдингов Гондигисела[136]. В 401 г. союзники пытались обосноваться в Реции, но были отбиты и вынуждены продолжить свое движение к западу. В конце 406 г. союзники подошли к Рейну и начали переправляться через него. Римская граница по Рейну была практически оголена. Фактически правивший Западной империей Стилихон с целью защиты Италии от готов снял с Рейна практически все стоявшие там войска. Но против вандалов, являвшихся ядром этого союза, выступили франки. Они обрушились на них и, по преданию, в ожесточенном сражении убили 20 тысяч вандалов, в том числе Гондигисела[137]. Ему наследовал его сын Гундерих. Аланы, к тому времени уже успевшие переправиться через Рейн, вернулись на его правый берег и нанесли удар франкам. Те, в свою очередь, были разбиты. После этого в последний день 406 г. массы варваров перешли Рейн в районе Могонциака (Майнца) и обрушились на Галлию.
Сначала варвары опустошили провинции по среднему Рейну, затем они повернули к северу и разграбили Бельгику. Некоторые города пытались, иногда успешно, оказать сопротивление. Характерно, что это сопротивление организовывали не городские власти, а епископы. Так, оборону Ремов (Реймс) возглавил епископ Никазий, а Толозы (Тулузы) — Экзуперий. В 407 г. в Галлию переправилась из Британии армия узурпатора Константина. Эту переправу Константин осуществил под лозунгом защиты от варваров Галлии, брошенной на произвол судьбы властями Равенны. Константин, активно в этом поддержанный галлоримскими магнатами, энергично взялся задело. Его действия были весьма успешны. Он очистил от вандалов и их союзников приренйские территории, а затем отбросил варваров в Аквитанию. Трудно сказать, преследовали ли варвары, вторгнувшиеся в Галлию, цель поселения в этой стране. Воинов, несомненно, сопровождали их семьи, но где они находились во время всех передвижений варварских армий, точно неизвестно. Аланы на какое-то время обосновались на среднем Рейне, и возможно, что и вандалы со свевами тоже соседствовали с ними. Какая-то часть варваров, судя по археологическим данным, попыталась осесть в бассейне Родана. Когда же Константин заставил варваров уйти в Аквитанию, то с ними, конечно же, ушли женщины и дети. Может быть, именно тогда аланы раскололись, и в Аквитанию вместе с вандалами и свевами ушли аланы Респендиала. Аквитания была довольно богатой областью, но активные грабежи основательно разорили ее. Главное же, вандалы и их союзники, уже потерпевшие поражение от римлян (хотя и войск узурпатора), могли серьезно опасаться нового римского наступления. Поэтому они решили уйти еще дальше, в Испанию, надеясь, возможно, на защиту Пиренеев. И как только возникли соответствующие возможности, они вторглись в Испанию.
Бургунды. Бургунды (бургундии, бургундионы[138]) были восточными германцами и первоначально, по словам Плиния, входили в вандальское объединение, но позже явно от него отделились, превратившись в самостоятельный этнос. Прародиной бургундов был, по-видимому, остров Борнхольм[139], откуда они перебрались сначала на Скандинавский полуостров, а затем в устье Одера. Позже они жили между Одером и Вислой. По-видимому, именно тогда бургунды столкнулись с гепидами. возглавляемыми королем Фастидой, и потерпели полное поражение. Конечно, сообщение о почти полном истреблении бургундов гепидами является несомненным преувеличением, но урон, понесенный бургундами. явно был довольно значительным. Бургунды были вытеснены, и археология показывает, что бургундские могилы заменяются гепидскими. Какие-то бургунды (точнее, уругунды) засвидетельствованы в Придунавье. Это могла быть часть бургундов. которая после поражения от гепидов двинулась вместе с ними на юг и юго-восток. Там они, вероятно, в конце концов, и растворились среди других германских племен[140]. Основная же масса бургундов стала передвигаться на запад, выйдя во второй половине или, точнее, в последней четверти III в. в район верхней долины Майна. И там бургунды столкнулись, с одной стороны, с аламанами, от которых их отделял бывший римский limes, а с другой — с римлянами. С последними они впервые столкнулись в 279 г., когда император Проб предпринял мощное наступление на германцев в районе Рейна. Одержав блестящую победу, император с основными силами был вынужден отправиться на Восток, а его полководцы продолжали войну. и именно они. вероятно, и столкнулись с бургундами. Бургунды были побеждены, и часть их, взятых в плен, была включена в римскую армию и вместе с другими варварскими отрядами направлена в Британию. В 80-е гг. III в. бургунды вместе с некоторыми другими германскими племенами вторглись в Галлию, но император Максимиан отбил это нападение. После этого бургунды довольно долго дела с римлянами не имели. Даже когда в 359 г. Юлиан одержал блестящую победу над аламанами и дошел непосредственно до бургундских границ, он предпочел эти границы не переходить.
Более постоянны были столкновения бургундов с аламанами, с которыми они боролись как за земли для поселения, так и за месторождения соли, бывшей в то время одним из главных богатств. Эти борьба между различными германскими племенами, в том числе между бургундами и аламанами, на какое-то время отвлекла их от имперских границ и обеспечила Империи в течение нескольких лет спокойствие на рейнской границе. Спокойствие оказалось не очень длительным, но бургунды в бесконечных войнах с Римской империей участия не принимали.
Бургунды были довольно сильным и воинственным народом. Позже, в начале V в., по словам Орозия, их армия насчитывала 80 тысяч человек. Современные историки ставят эту цифру под сомнение и полагают, что Орозий говорит об общей численности всего народа[141]. Но и в более раннее время Аммиан Марцеллин говорит о многочисленности бургундов. Во всяком случае, бургунды являлись одним из самых больших и значительных народов Германии. Этим попытались воспользоваться римляне для борьбы с другими германцами, особенно аламанами, которые в то время являлись наиболее опасными врагами Рима на рейнской границе. С другой стороны, на почве общей вражды с аламанами и сами бургунды стремились к союзу с римлянами. Недаром в их среде возникла легенда об их якобы происхождении от римлян. В 370 г. император Валентиниан I стал инициатором заключения союза с бургундами, направленного против аламанов. Бургунды с удовольствием заключили союз и двинулись на соединение с римской армией, которая должна была перейти Рейн. Какая-то часть аламанов была разбита, бургунды захватили пленных и подошли к Рейну. Однако император испугался слишком большого бургундского войска и фактически отказался от соединения с ним. В результате бургунды ушли назад. Совместный римско-бургундский поход не состоялся, но с этого времени бургунды стали считать себя федератами Империи. Некоторые бургунды даже переходили на римскую службу. Таков был, например, Хариульф, сын Ханхавальда, из королевского рода, который, несмотря на свою молодость (он умер в 21 год), достиг довольно высокого ранга в императорской гвардии[142]. Возможно, и другие бургунды, как и многие варвары того времени, также служили в римской армии.
В IV в. бургунды представляли собой племенной союз, возглавляемый королями. Аммиан Марцеллин, говоря об этих королях, употребляет множественное число. По-видимому, единого правителя у бургундов тогда еще не было. Титулом королей было hendinos. Точное значение этого термина до сих пор спорно. Но все толкования сходятся в признании особости носителя этого титула и его превосходства над остальными соплеменниками. Видимо, речь все-таки идет о роде племенных вождей, совместно возглавлявших бургундский союз. Эти «гендинос» были в известной степени сакральными фигурами и своей властью отвечали за все удачи и неудачи. Любая неудача, как на войне, так и в мирное время (например, неурожай), приводила к их свержению, а может быть, даже и к убийству[143]. Разумеется. настоящими монархами считать их нельзя. Видимо, это были лишь вожди, авторитет которых основывался на их успехах в войнах и в мирной жизни. Наряду с «гендинос», представлявших светскую власть, у бургундов выделяются жречество и верховный жрец (sinistus), что означает «старейший», обладает авторитетом даже большим, чем короли.
В начале V в. бургундов возглавляет король Гундахар, которого позже называли последним в ряду королей из рода Гибихундов[144]. Этот род восходил к Гибиху, которому наследовали Гундомар, Гислахар и, наконец, сам Гундахар. Неизвестна продолжительность правления каждого из этих королей. Гундахар правил вплоть до своей гибели в 436 г., так что, вероятно, во время перехода через Рейн в 407 г. он был сравнительно молодым человеком. Можно думать, что в начале второй половины IV в., но после войн Юлиана в 359 г., о которых рассказывал Аммиан Марцеллин. Гибих становится королем и не очень значительную власть гендиноса начинает превращать в подлинную монархию. Процесс этот был, видимо, не быстрым. Современный греческий автор называет Гундахара (Гунтиария) филархом, т. е. главой племени. Каков был объем его власти в этот момент, сказать трудно, но то, что его власть в это время была далеко не только сакральной, несомненно. Когда в начале V в. под давлением гуннов германский мир снова пришел в движение, бургунды приняли в этом движении активное участие. Под руководством Гундахара они вытеснили аламанов из части их территории и подошли непосредственно к Рейну. Некоторая часть бургундов еще осталась на прежнем месте, но основная их масса уже вышла к Рейну. Когда вандалы, аланы и свевы в последний день 406 г. перешли эту реку, то бургунды последовали за ними. Часть бургундов все же осталась за Рейном, но большая часть теперь оказалась в Галлии. Возможно, что еще до этого бургунды заключили союз с вандалами и другими племенами и одновременно с ними обрушились на Галлию. По другому варианту, бургундов призвал себе на помощь узурпатор Константин. Когда же вандалы, аланы и свевы подошли к Пиренеям и затем перешли эти горы, бургунды предпочли остаться в Галлии[145]. Сними осталась и часть аланов во главе с Гоаром.
Франки. Если еще можно спорить, являются ли готы или вандалы теми же этносами, что и их предки, вышедшие из Скандинавии и поселившиеся на южном побережье Балтики, то по отношению к франкам никаких споров не возникает. Франки появились на исторической арене довольно поздно. Характерно, что у франков, как кажется, не было исторических преданий, рассказывавших об их отдаленном прошлом. Позже возникло стремление связать происхождение франков с троянцами: якобы последний царь Трои Приам не погиб, а со своими людьми ушел к Танаису (Дон), а затем уже его потомки повели бывших троянцев в другие земли, в том числе на запад. Одним из потомков Приама был Франк, или Франций, который и поселил свой народ между Рейном и морем[146]. Смысл этого предания совершенно ясен: франки, выводя, как и римляне, свой род от троянцев, доказывали свое равенство с римлянами. Оно носит совершенно искусственный характер и не имеет ничего общего с обычными германскими сказаниями. Да и возникло это предание довольно поздно. Франки явно не желали связывать свое происхождение с остальным германским миром. Это говорит не столько о противопоставлении франков остальным германцам, сколько об их появлении как сравнительно молодого этноса, не связанного с долголетней германской исторической (точнее, мифологической) традицией[147].
Франкский племенной союз образовался в III в. в период этнической перегруппировки среди западных германцев в результате объединения ряда племен, до того времени поодиночке упоминаемых античными авторами, как хамавы, бруктеры, хатты, батавы и некоторые другие Может быть, первоначальное ядро этого нового объединения составили сравнительно небольшие группы молодых и авантюрно настроенных воинов, отколовшиеся от упомянутых племен и совместно выступавшие в поисках добычи. Совместные предприятия сплачивали эти группы, объединяли их вокруг наиболее удачливых вождей, а их успехи привлекали к себе новых членов. В конечном итоге новый союз поглотил «старые» племена. Процесс это был, однако, далеко не мгновенным. Еще в IV в. на исторической арене действовали то франки, то их отдельные группы, сохранявшие старые племенные названия, как, например, хатты. По-видимому, только к концу этого столетия «старые» племена исчезли окончательно, слившись в единый этнический комплекс, в рамках которого возникли новые деления.
Само слово «франки» позже стало обозначать «свободные», но первоначально, вероятно, имело другое значение — смелые, яростные. Союз этот, однако, был не очень прочным, и в III в. на историческую сцену выступал не столько союз как целое, сколько его отдельные группы. Уже в 111 в., т. е. вскоре после образования своего союза, франки вошли в непосредственное соприкосновение с Римской империей. В условиях кризиса Империи они приняли активное участие в мощном вторжении в Галлию. В 259 г. они перешли Рейн и обрушились на северо-восточную часть этой страны. Затем они прошли через всю Галлию, разграбили Испанию, добрались до Африки и оттуда на захваченных кораблях вернулись на родину. С большим трудом римский полководец Постум сумел разбить один из франкских отрядов и отнять у них добычу. Римские воины тотчас провозгласили Постума императором, и приблизительно на полтора десятка лет Галлия отделилась от остальной Империи. Этим воспользовались прирейнские германцы, и в их числе франки, которые с этого времени стали почти постоянной угрозой Галлии. Подчинение Галлии императором Аврелианом изменило ситуацию на Рейне, но франки по-прежнему угрожали границе. После смерти Аврелиана они снова перешли Рейн и опустошили огромные территории в Галлии. Часть франков в свое время была захвачена в плен и поселена в устье Дуная. Эта часть франков захватила корабли и, пройдя проливы из Черного в Средиземное море, опустошила некоторые его берега, ограбив даже Карфаген, а затем через Атлантический океан вернулась к устью Рейна, воссоединившись с остальными соплеменниками.
С этого времени войны между римлянами и франками стали весьма частыми. Франки не раз вторгались в Галлию. Они часто использовали многочисленные гражданские войны, характерные для времени Поздней империи, которые оголяли рейнскую границу и давали франкам, как и другим варварам, почти беспрепятственно вторгаться на имперскую территорию. Это были грабительские походы. Франки не ставили себе задачу поселиться в римских провинциях. Они стремились только захватить как можно больше богатств, в том чисел и рабов, и с этой добычей уйти на свою территорию. В 306 г., воспользовавшись политической нестабильностью, возникшей после смерти Констанция Хлора, франки во главе с Аскариком и Мерогайсом в очередной раз перешли Рейн. Однако сын Констанция Константин разбил франков и подчинил часть их. Захваченные в плен Амкарик и Мерогайс вместе со многими другими пленниками были уведены в Треверы, тогдашнюю резиденцию Константина, и там эти вожди на потеху собравшейся толпе были брошены на растерзание диким зверям. Уже на правом берегу Рейна Константин создал ряд укреплений, одно из которых было непосредственно связано мостом с римским городом Колонией Агриппиной. В 50-е гг. того же века упорную борьбу с франками вел Юлиан, посланный в Галлию императором Констанцием II для борьбы с германцами. Юлиан разгромил франков и углубился довольно далеко в их земли. Но он понимал, что подчинить франков, как и других германцев, он не сможет, и поэтому пошел по пути, уже проложенном римским правительством. Он дал части франков для поселения землю на крайнем северо-востоке Галлии, так называемую Токсандрию, и заключил с ними соответствующий договор[148]. Франки признали верховную власть императора и обязались помогать ему в войнах, а за это получили землю и жалованье. Потомки этих франков, живущие на нижнем Рейне и вдоль побережья Северного моря, стали называться салическими (салиями).
Те франки, которые остались жить на правом берегу среднего течения Рейна и граничили с аламанами, получили называние рипуарских, т. е. береговых[149] (рипуарии). Так салические франки стали федератами Империи. Салии стали первыми германскими федератами в западной части Римской империи. Они помогали римлянам бороться, прежде всего, с аламанами, которые в то время представляли главную угрозу римской границе по Рейну. Некоторые франкские вожди со всеми своими подчиненными переходили на римскую службу и поселялись на римской территории. Их статус не очень ясен. В северо-восточной части современной Франции обнаружен ряд франкских кладбищ IV в., и долгое время считалось, что речь идет о летах. Однако более поздние и внимательные исследования показали, что речь идет о погребениях людей довольно высокого ранга. Это были, по-видимому, предводители франкских отрядов.
Существовал и другой путь проникновения франков в Империю. Многие франки индивидуально вступали на римскую военную службу и часто делали на ней блестящую карьеру. Так, Бонит принимал активное участие в войне Константина с его соперником Лицинием, а его сын Сильван на службе у сына Константина Констанция II достиг высокого положения магистра пехоты. В 355 г. Сильван, командуя войсками в Галлии, провозгласил себя императором. Правда, все его правление продолжалось не больше месяца, но убит он был лишь в результате предательства. Позже известен был Меробауд, поступивший на службу при Юлиане. Особенного успеха он достиг при императоре Валентиниане I. При нем он достиг должности начальника воинов, т. е. фактически главнокомандующего римской армией, а когда император в 375 г. умер, в огромной степени способствовал признанию августом его сына Валентиниана II. Фактически правивший старший брат Валентниана II Грациан еще более возвысил Меробауда. Одно время Меробауд фактически управлял всей западной частью Империи. Трижды он был консулом. Во время его третьего консульства в 388 г. Валентиниан II, оставшийся к тому времени уже без соправителя, потерпел поражение от узурпатора Магна Максима, и Меробауд в этих условиях покончил с собой. В это же время служили франки Маллобауд, Баутон, Рихомер, которые тоже достигли высоких постов в римской армии. Дочь Баутона Элия Евдоксия даже стала женой восточного императора Аркадия. Племянником Рихомера был Арбогаст, служивший восточному императору Феодосию. В 385 г. он стал начальником воинов, а затем принял активное участие в войне Феодосия против Магна Максима. После победы над узурпатором Арбогаст остался на Западе и стал советником и фактическим опекуном восстановленного на троне Валентиниана. Когда же император в 392 г. умер, вся власть в западной части Римской империи сосредоточилась в руках Арбогаста. Он, естественно, не мог стать императором и поэтому решил возвести на трон Евгения, за спиной которого мог бы самовластно управлять государством. Но на этот раз он ошибся. Феодосий выступил против Евгения и Арбогаста. Потерпев поражение, Арбогаст покончил с собой. Это — наиболее яркие примеры. Число франков на службе в римской армии (не только на Западе, но и на Востоке) все более увеличивалось, хотя таких высот, как Меробауд и Арбогаст, они и не достигали.
Но важно, что многие из них входили в правящий класс Империи, получали на ее территории земли, становились римскими магнатами. Они проникались римским духом и становились типичными представителями позднеримской элиты.
В ходе распада Римской империи франки становились все более активными. Фактический правитель Западной Римской империи Стилихон, вынужденный увести регулярную римскую армию на защиту Италии, заключил соглашение с франками и другими германцами, чтобы обезопасить рейнскую границу. С этого времени на Рейне регулярных войск Империи практически не было, и границу защищали германские федераты, в том числе франки. Когда в конце 406 г. к Рейну подошли огромные силы вандалов и других варваров, рипуарские франки пытались их остановить. Сначала они одержали победу над вандалами, убив даже их короля Гондигисела, но потерпели поражение от возвратившихся на правый берег Рейна аланов. Это поражение франков открыло варварам путь в Галлию, с чего фактически и началось завоевание германцами Западной Римской империи. Захвативший Галлию узурпатор Константин III заключил союз с некоторыми варварами, среди них были, вероятно, и франки. Позже франки вместе с бургундами, аланами и аламанами поддерживали узурпатора Иовина. Через какое-то время после этого события франки предприняли попытку расширить свои владения, но были отбиты римлянами. На рубеже 40-50-х гг. среди франков возникли острые разногласия по поводу кандидатуры одного из королей. За обоими кандидатами на трон стояли группировки, одна из которых ориентировалась на Империю, а другая — на гуннского правителя Аттилу. Ставленник Аттилы победил, и большая часть франков сражалась на стороне гуннов в битве на Каталаунских полях. В это же время другая часть франков в этой битве находилась в рядах имперского войска. Особенностью участия франков в так называемом Великом переселении народов было то, что они в отличие от многих других германцев не уходили далеко от своей основной территории. Они предпочли оставаться преимущественно на прежнем месте (или лишь сравнительно недалеко передвигаясь) и подчинять себе окрестные территории как за счет римлян, так и за счет своих германских соседей — аламанов, саксов и других. Первые попытки расширения франкской территории в Галлии были отбиты Аэцием. Но резкое ослабление Западной Римской империи во второй половине V в. позволило франкам расширить свою экспансию.
В Северной Галлии в это время самовластно распоряжался Эгидий, создавший там практически независимое государство. Франки активно помогли ему и в борьбе с вестготами, и в его самостоятельной позиции по отношению к Равенне[150]. Именно они, по-видимому, составляли основную часть армии Эгидия, которая разгромила вестготов на берегах Лигера (Луара) около Аврелиана (Орлеан). Поддержали франки и преемника Эгидия Павла. Вместе с войсками Павла армия короля Хильдериха разбила вестготов, в результате чего было окончательно остановлено наступление вестготов на Северную Галлию. Одновременно римлянам и франкам пришлось воевать с саксами, захватившими острова на Лигере. В этой борьбе Павел был убит, но франки сумели выбить саксов с островов, после чего, однако, между ними был заключен союз. Франки явно действовали исключительно в своих интересах, и их позиция определялась не верностью римскому полководцу и Империи вообще, а только этими интересами. После гибели Павла власть в римской Северной Галлии перешла к сыну Эгидия Сиагрию, которого Григорий Турский называет королем римлян (rex Romanorum). Едва ли Сиагрий официально носил этот титул. Он скорее отражает реальное положение Сиагрия, самостоятельно правившего тем, что еще осталось римским в Северной Галлии. Официально же Сиагрий, по-видимому, считался командующим имперскими войсками (magister militum per Gallias). Приблизительно в это же время власть в Треверах на Рейне оказалась в руках Арбогаста, имевшего ранг комита. Этот Арбогаст явно был потомком упомянутого выше Арбогаста и, следовательно, по крайней мере, по своему отдаленному происхождению франком, но выступал он исключительно как римский военачальник. Каковы были размеры подчиненной ему территории и как строились его отношения с франками, неизвестно.
По-видимому, во время всех этих бурных событий происходит изменение в потестарной структуре франков. Долгое время различные боевые действия франков возглавляли герцоги (duces). Размеры их власти в мирное время неизвестны. В рассказах о вторжениях франков на римскую территорию и о войнах римлян с франками называется несколько таких герцогов. Так, когда франки воспользовались очередной гражданской войной в Империи в 80-е гг. IV в. и вторглись в Галлию, во главе их стояли герцоги Генобавд, Маркомер и Суннон. Каждого из них римский историк называет и dux, и subregolus. Последнее название подчеркивает, что в глазах римлян ни один из них не был королем. В то же время речь идет не просто о regolos (царьки). Приставка sub предполагает их подчинение какой-либо более высокой властной инстанции. Что это была за инстанция и существовала ли она в действительности? Или же это только оборот речи? Пока на эти вопросы ответить невозможно[151]. В другом месте эти же предводители названы regales, т. е. царственными или подобными царям (королям). Римские авторы, говоря о них, сами не могут понять, были ли они герцогами или королями (ducibus… regalibus). Все это ясно говорит о том, что еще в конце IV в. королевской власти как высшей властной инстанции у франков не существовало. Возможно, что еще в начале следующего столетия франки королей не имели. Когда под новый, 407 г. вандалы и их союзники переходили Рейн, франки, как об этом говорилось выше, напали на них, но никаких упоминаний о королях, которые возглавляли бы франкское войско, не упоминается. В V в. во главе франков уже засвидетельствованы короли. История со спором двух братьев, претендующих на королевскую власть и апеллирующих при этом к иностранным деятелям Аэцию и Аттиле, показывает, что правил наследования власти у франков не было, что эта власть принадлежала скорее семье (или роду), чем конкретной личности, в результате чего смерть короля приводила к острому противостоянию в самой франкской среде, что франкская элита, с одной стороны, была столь сильна, что могла не допустить представителя соперничающей группировки к власти, но, с другой, не имела сил утвердить своего кандидата без поддержки могущественных соседей. О каких франках идет в данном случае речь, не говорится, но, скорее всего, это были рипуарские франки. По-видимому, то же самое можно сказать и о салических франках.
По словам Григория Турского, ссылающегося на более ранних историков, франки стали избирать себе королей, когда они перешли Рейн и поселились в Торингии. Эта Торингия, как признают современные исследователи, — та же Токсандрия, так что речь идет о салиях, являвшихся, как было сказано выше, потомками тех франков, которых поселил в этой области Юлиан. Следовательно, короли появились у них не ранее 60-х гг. IV в. Если же учесть сведения, что и в 80-х гг. этого века во главе франков стояли не короли, а герцоги, то появление монархической власти у салических франков можно отнести к рубежу IV–V вв. Первый король был избран «по округам и областям» (iuxta pagus vel civitates) из среды самого знатного рода (de prima… et nobiliore suorum familia). Упоминание familia в единственном числе ясно говорит о том, что у салических франков уже выделяется один род (или, может быть, даже одна семья), представители которого и становятся королями. То, что это был тот род, из которого позже вышел Хлодвиг, о котором еще пойдет речь, несомненно. Если верить одной из хроник, то первым королем являлся Фарамунд, современник Аркадия и Гонория. Ему наследовал его сын Клодион (или Клодий, или Хлогион), ставший королем на пятый год правления Феодосия II, т. е. в 412 г. Это были предки королевского рода Меровингов. Сомнения в стройности наследования власти Меровингами возникает из сообщения того же хрониста, что Фарамунд являлся сыном Приама, мифологического предка франков. Возникает естественный вопрос, не является ли и Фарамунд мифологической, а не исторической фигурой. Во всяком случае, стремление Меровингов связать свой род непосредственно с предком всего народа очевидно.
Что касается Клодиона, сына Фарамунда, то в его историчности едва ли надо сомневаться[152]. То, что о нем известно, полностью вписывается в ход исторических событий того времени. Он правил в Токсандрии, и его столицей была крепость Диспарг[153]. Действуя отсюда, он захватил ряд римских городов и крепостей в Северо-Восточной Галлии и около 445 г. или несколько раньше был разбит римлянами около Вик Элене. Клодион считался самым знатным в своем племени (nobilis-simus in gente sua)[154]. Это, однако, не означало, что он был единственным королем франков. Другим королем приблизительно в это же время был Теодемер, сын Рихимера, убитый вместе со своей матерью Асцилой. Собственно ничего более ни о Теодемере, ни о Рихимере неизвестно. Поэтому даже нельзя сказать, правил ли Теодемер салическими или, как иногда предполагают, рипуарскими франками. Но тот факт, что Григорий Турский, ссылаясь на Консульские фасты, счел необходимым отметить его гибель, говорит о значимости этого короля.
Из рода Клодиона происходил Меровей (или Меровех), эпоним рода Меровингов. Впоследствии возникли рассказы о его чудесном рождении и даже происхождении от морского бога. Этот рассказ, естественно, не мог возникнуть до прихода Меровея к власти и, будучи, несомненно, чисто языческим, предшествовал обращению франкского короля Хлодвига в христианство, что произошло в 496 или 506 г.[155] Так что возникновение этого рассказа надо отнести ко второй половине V в. Такие рассказы обычно связываются с легендарными или историческими фигурами, ставшими (или считавшимися) основателями государств, городов или династий. Между тем ничего подобного о Меровее неизвестно. Меровей наследовал Клодиону. Был ли он сыном своего предшественника, точно неизвестно. Однако обращает на себя внимание, что Григорий Турский говорит лишь о том, что Меровей происходил из того же рода, что и Клодион, но в той же фразе отмечает. что сыном Меровея был Хильдерих. Такое различие оценки происхождения Меровея и Хильдериха позволяет говорить, что Меровей не был сыном Клодиона и с ним. скорее всего, на трон взошла другая ветвь королевского рода, представленная Хильдерихом и его потомками. Поэтому очень вероятно, что и сам рассказ о чудесном рождении Меровея стал религиозно-мифологическим основанием прихода к власти (может быть, насильственного после поражения Клодиона у Вика Элене) именно этой ветви. Недаром и сам королевский род после этого стал называться Меровингами.
Сын Меровея Хильдерих вступил на трон после смерти своего отца, и он, как об этом говорилось выше, активно вмешивался в военные события в Северной Галлии, выступая на стороне римских генералов. Хильдерих, по-видимому, даже получил официальное назначение правителя римской провинции Бельгики Второй. С этого времени франки становятся постоянным фактором политической и военной жизни Северной Галлии, и роль их все более возрастает. Женитьба на тюрингской принцессе Базине не только обезопасила его восточный тыл, но и обеспечила поддержку тюрингов. Активное и удачное участие в борьбе в Северной Галлии укрепили авторитет Хильдериха. Его богатая могила свидетельствует не только о его могуществе, но и о довольно значительных и разнообразных связях франков с внешним миром. В вещах, там обнаруженных, смешаны германские (собственно франкские), римские и дунайские элементы. На кольце была выгравирована надпись Childerici regis, и это доказывает его королевский титул. Но сам он на том же кольце представлен в римской одежде. Верховную власть Хильдериха, может быть, признали и другие франкские короли. Сыном Хильдериха (следовательно, внуком Меровея) и Базины был Хлодвиг (Хлодовех, Кловис), с которым связано завоевание Галлии.
Лангобарды. Лангобарды своей прародиной считали Скандинавию, откуда они под угрозой голода около 100 г. до н. э.[156], по преданию, под руководством герцогов Ибора и Айона (или Агиона) переселились на южный берег Балтийского моря[157]. Там они столкнулись с вандалами и были вынуждены переселиться на запад в район нижнего течения Эльбы. Как рассказывает лангобардское предание, первоначальное имя переселившегося племени было виннилеры (или виннилы). Это название связано с германским глаголом winnen — сражаться, добывать. Изменение названия было связано с богом Годаном, которого якобы обманули виннилерские женщины, подвязав себе волосы под подбородком в виде длинных бород, после чего Годан назвал их лангобардами (длиннобородыми) и даровал им победу над вандалами. Возможно, что виннилеры и лангобарды первоначально были отдельными племенами, которые по каким-то причинам слились, причем новое племенное объединение приняло имя лангобардов, хотя правящий род мог остаться виннилерским, а потому и сохранившим воспоминание о прежнем наименовании. Возможно, однако, что изменение названия было связано с изменениями в религиозной практике этого германского племени, когда его покровителем становится бог Годан, одним из культовых имен которого было, как кажется, Лангобарт (Длиннобородый). Во всяком случае, в скандинавской мифологии длиннобородость являлась характерной чертой Одина, т. е. того же Годана. В 5 г. н. э. римские войска под командованием императорского пасынка Тиберия (будущего императора) напали на лангобардов. О виннилерах нет речи. Ясно, что, как бы ни решать вопрос о замене виннилеров на лангобардов, это произошло не позже рубежа эр. Это событие рассматривается как первый этап лангбардского этногенеза.
Поскольку от лангобардского языка почти ничего не осталось, то об их месте внутри германского комплекса можно говорить только на основе некоторых косвенных данных. Судя по тому, что их одежда была похожа на одежду англосаксов, делается вывод о родственности лангобардов с ними и, следовательно, о принадлежности лангобардов к западным германцам. Страбон, Тацит и Птолемей включают лангобардов в число свевских племен, которые также были западными германцами. Поэтому в настоящее время можно почти с полной уверенностью говорить о принадлежности лангобардов именно к западным германцам[158]. Среди свевов, по словам Тацита, они отличаются особой воинственностью при сравнительно небольшой численности. Лангобардское предание, действительно, заполнено рассказами об их переселениях и многочисленных войнах, сопровождавших это переселение.
Потерпев поражение от армии Тиберия,[159] лангобарды отошли на восточный берег Эльбы. Там они не задержались надолго, а отступили еще дальше на юго-восток к истокам Эльбы. На какое-то время лангобарды стали частью государства Маробода, но затем выступили против него и восстановили свою независимость. Они активно поддержали соперника Маробода Италика, и эта помощь оказалась решающей в победе последнего. Позже лангобарды отошли далее к юго-востоку, оказавшись во второй половине II в. в дунайском бассейне[160]. В 166 г. лангобарды в союзе с соседним племенем убиев вторглись в римские владения. Они были разбиты и заключили мир. Это вторжение явилось первым актом Маркоманских войн императора Марка Аврелия. Однако в эти войнах лангобарды далее не участвовали. В V в. лангобарды переселились на юг. В конце 80-х гг. V в. они воспользовались разгромом племени ругиев и заняли их область. Но тамошние условия показались им неблагоприятными, и они под руководством короля Татона, по-видимому, не сразу, а в несколько этапов, отошли на восток и заселили Паннонию[161]. Во время этого переселения лангобарды на какое-то время попали в зависимость от герулов и платили им дань, но, одержав в 508 г. над ними победу, вернули себе независимость. До этого герулы играли ведущую роль среди германских народов, граничивших с Империей. После поражения в кровавой битве с лангобардами их держава распалась, и на первый план выходят лангобарды. Резиденцией их короля стала, по-видимому, бывшая ставка правителя герулов.
В первой половине VI в. в Подунавье сложилась обширная держава лангобардов, и лангобарды становятся мощной силой, с которой приходилось считаться и императорам, и остготам. Эго событие стало чрезвычайно важной вехой в истории лангобардов. Характерно в этом отношении изменение в именах лангобардских королей. Имена всех прежних правителей, начиная с Ибора и Айона (неважно, легендарных или исторических), были связаны в особенности с животным миром (Ибор — кабан, Айон — змей). С первой половины VI в. в королевских именах появляются и становятся обычными элементы, говорящие о военной доблести, о воинской славе, о предводительстве в битвах — bert или pert (знаменитый), hari (военный предводитель), oald (вести, управлять). Давая такие имена своим сыновьям и предполагаемым наследникам, их отцы старались подчеркнуть значимость подвигов будущих королей в жизни этноса. Военный этос явно заменяет собой прежний, связанный с тотемными фигурами и крестьянской (в основной скотоводческой) жизнью.
За время многолетних передвижений лангобардов у них произошло изменение системы власти. Само по себе предание о начальном этапе лангобардской истории мифологическое, как и герои этого предания Ибор и Айон и их мудрая мать Гамбара[162]. Однако, как и во многих других мифологических рассказах, в нем содержатся определенные элементы историчности. К таким элементам надо прежде всего отнести сообщение о том, что во главе лангобардов (или еще виннилеров) стояли не король (как, например, у готов), а два герцога. Такой дуализм руководства племенем не был исключением. Достаточно вспомнить Хенгиста и Хорса, возглавивших, по преданию, переселение германцев в Британию. Возможно, власть уже тогда принадлежала одному роду, два старших представителя которого и вставали во главе племени. Аристократический род, таким образом, оказывался тем ядром, вокруг которого группировалось остальное племя. Если верить традиции, то братья во всем поступали по советам Гамбары, которая была явно связана с божественным миром[163], По-видимому, герцоги являлись не сакральными фигурами, а чисто военными предводителями. В сакральной же сфере значительную роль играли женщины.
После смерти Ибора и Айона лангобарды якобы не захотели дальше жить под властью герцогов и решили по примеру других народов поставить себе короля, каковым и стал сын Айона Агельмунд. На рассказ об этом событии, как он передан Павлом Диаконом, несомненно, повлиял ветхозаветный рассказ о постановке царем Саула, но сам переход от двойной власти герцогов к правлению одного короля несомненен. При этом власть сохранилась в руках того же рода. Согласно преданию, Агельмунд после 33 лет правления был убит болгарами. Сейчас принято, что в действительности речь идет о гуннах, которых в более поздние времена часто смешивали с болгарами. Если это так, то война, в которой погиб первый лангобардский король, не могла иметь место раньше конца IV в., а, скорее всего, такая война могла происходить в период создания Гуннской державы Ругой и Октаром, т. е. в 20-е гг. V в. Таким образом, если верить преданию, король появился у лангобардов не раньше 80-90-х гг. IV в.[164] В таком случае Агельмунд не мог быть сыном Айона, возглавившего вместе с братом переселение из Скандинавии. Перед нами сгущение времени, столь характерное для фольклора. Вероятнее всего, он, так же, как его отец и дядя, был персонажем мифа. Это, однако, не отменяет самого факта смены герцогской власти королевской. В условиях длительных переселений и постоянной борьбы с соперниками, какая сопровождала эти переселения, явно была необходима более сильная и интегрирующая власть, чем герцогская. Что королем становится сын или потомок одного из герцогов, неудивительно. Видимо, тот герцог, который прославился как военными подвигами, так и происхождением[165], и сумел подняться на более высокую ступень властной иерархии. Само имя рода Гугинги явно восходит к слову kuninga, которое в германских языках связано с родом (kuni) и королевским достоинством. Видимо, уже с очень раннего времени (и вплоть до своего исчезновения) этот род выделялся своей знатностью, и его право на руководство всем этносом не оспаривалось. Переход к королевской власти, однако, не означал ликвидацию герцогства как института. Герцоги продолжали действовать в качестве командующих отдельными частями лангобардов и сохранять значительное влияние на всю жизнь этноса. Дальнейшая история лангобардов характерна относительно частой сменой королевских родов, и это ясно говорит о сравнительной слабости королевской власти. Значительную роль в этой слабости играло влияние герцогов. В рассказе о поражении и гибели Агельмунда и последующей победе над «болгарами» его преемника и приемного сына Ламиссиона. вероятнее всего, отразилось сначала подчинение лангобардов гуннам, а затем освобождение лангобардов от гуннской власти.
За время своих странствий лангобарды из довольно небольшого, хотя и воинственного племени превратились в значительную и относительно многочисленную силу. Это не могло произойти только за счет естественного роста населения, тем более что частые войны наносили несомненный ущерб лангобардским мужчинам[166]. В рассказе о решительной битве с «болгарами» говорится, что Ламиссион обещал рабам, участвовавшим в сражении, свободу и явно сдержал свое обещание. Освобожденные рабы, таким образом, пополнили ряды боеспособных лангобардов. Как будет об этом сказано позже, во время своего вторжения в Италию лангобарды присоединили к себе различные другие этнические группы, большинство которых затем (и относительно быстро) слилось с лангобардами. Такое усиление лангобардов за счет ранее чуждых элементов, по-видимому, было постоянным явлением в истории этого этноса. Оно прослеживается вплоть до вторжения в Италию и даже после этого.
Как уже говорилось, после победы над герулами держава лангобардов становится важной политической силой. Однако среди самих лангобардов вскоре вновь начинаются раздоры. Племянник Татона Вахой сверг его и сам стал королем. Сын Татона Хильдехис попытался ему противостоять, и это привело к гражданской войне, завершившейся победой Вахона, после чего Хильдехис бежал к гепидам. Вахон сумел распространить свою власть на значительную территорию Юго-Восточной Европы. В частности, он подчинил остатки свевов, еще остававшихся в Подунавье. После смерти остготского короля Теодориха Вахон захватил Паннонию, ранее принадлежавшую остготам. Здесь ланобарды расположили свои жилища вблизи римских вилл и других поселений, оставшихся от римского времени. Оставшееся римское население было обложено налогом, который оно платило лангобардскому королю. Лангобарды поддерживали торговые связи с Империей, откуда они получали стекло, бронзовые сосуды, некоторые виды особо изящной керамики и даже слоновую кость[167]. Вахон оказался не только умелым воином, но и искусным дипломатом. В то время династические браки играли большую роль в политической жизни. Вахон выдал свою дочь замуж за франкского короля Теудериха, который после раздела Франкского королевства получил его восточную часть и оказался тем самым в опасной близости к владениям лангобардов. Два его собственных брака связали его сначала с тюрингами, а затем с герулами. Вахон также заключил союз с императором Юстинианом[168]. Все это обезопасило Лангобардскую державу и укрепило ее положение.
Императорское правительство, обеспокоенное усилением варваров на дунайской границе, стремилось противопоставить одних варваров другим. Так как гепиды в то время казались Константинополю более опасными, то был заключен союз с лангобардами, направленный, прежде всего, против их гепидских соседей. Но союз этот сыграл византийцам добрую службу и в другом месте. В 539 г. остготы, теснимые византийцами, обратились за помощью к Вахону, но тот отказался эту помощь оказать, ссылаясь на свои обязательства перед императором Юстинианом. Вскоре после этого Юстиниан официально предоставил лангобардам земли в Норике и Паннонии и стал выплачивать им еще и субсидии, как это обычно делалось по отношению к федератам. Видимо, императорское правительство рассматривало лангобардов именно в этом качестве. Но считали ли себя федератами Империи сами лангобарды, это еще вопрос. Вполне возможно, что они рассматривали себя в качестве равноправных союзников императора.
Вахон к этому времени умер, и лангобардским королем стал его сын Вальтари. Но т. к. Вальтари был еще несовершеннолетним, регентство было вручено Авдоину из знатного рода Гаузус. Через семь лет Вальтари умер, и королем официально стал Авдоин. В науке была высказана мысль, что эпоним нового королевского рода Гауз был тем же Гаутом-Гаптом, что и божественный предок остготских Амалов. Если это так, то такое происхождение должно было оправдать взятие власти представителем нового рода, хотя и родственного старому (Авдоин считался сводным братом Вахона), и это вызывает подозрение, была ли смерть юного Вальтари естественной. Не без помощи Юстиниана Авдоин женился на дочери тюрингского короля Германфрида. Это еще более усилило лангобардов, что в то время было выгодно императору. Он всячески старался подогревать соперничество между лангобардами и гепидами, и когда между ними стала ясно вырисовываться перспектива войны, направил на помощь лангобардам большой конный отряд. Испуганные союзом между лангобардами и Империей, гепиды обратились за помощью к другим варварам — котригурам, которые кочевали в Северном Причерноморье, и те вторглись в пределы Империи. Юстиниан, однако, сумел натравить на котригуров утигуров. В 552 г. лангобарды, возможно, подстрекаемые Юстинианом, все же напали на гепидов. Те, в свою очередь, запросили помощи у императора. Авдоин напомнил Юстиниану о его обязательствах перед лангобардами. Конечно, не эти обязательства толкнули Юстиниана на отказ гепидам (он всегда следовал не обязательствам, а только выгоде). Под предлогом помощи, которую якобы гепиды оказали славянам в переправе через Дунай, он не только отказался поддержать их, но и направил к лангобардам своих двоюродных братьев Юстина и Юстиниана с войсками. Правда, принять участия в войне эти войска не успели, ибо по пути их застала весть о мятеже в Империи, и они вернулись для его подавления. Но на помощь лангобардам пришли тюринги, возглавляемые зятем Авдоина Амалафридом. Гепиды были разбиты и вынуждены заключить «вечный мир» и с лангобардами, и с Империей. Это было выгодно Юстиниану, ибо лангобарды тогда казались императору гораздо менее опасными, чем гепиды.
Помогли лангобарды Юстиниану и на другом театре военных действий — в Италии. К тому времени отношения между лангобардами и остготами были довольно дружескими. При раскопках лангобардских местонахождений находят остготские предметы, иногда довольно дорогие, как украшенный шлем, которые явно являлись дарами остготских королей. Императору пришлось применить довольно действенные приемы, чтобы толкнуть лангобардов на войну с остготами. Чтобы это сделать, Юстиниан в 547 или 548 г. предоставил им часть Норика. Основная масса лангобардов туда не переселилась, но в укрепленных поселениях (кастеллах) Норика появились лангобардские гарнизоны. Местное римское (лучше сказать — романизованное) население продолжало жить там, но оно было вынуждено терпеть лангобардских воинов и, может быть, их семьи. В то время, однако, Авдоин уклонился от прямого вмешательства в войну в Италии. Но в 552 г. он направил более 5 тысяч воинов на помощь императорскому полководцу Нарсесу на заключительном этапе войны с остготами. Они приняли активное участие в решающей битве с готами. Но после этой битвы лангобарды, активно использовавшие свое участие в войне для грабежа местного населения, уже сами стали опасными, и Нарсес постарался увести их за пределы Италии, что ему полностью удалось. Во время этого своего италийского похода лангобарды познакомились с Италией, где условия жизни были бесконечно комфортнее, чем там, где жили они сами. Оставалась для лангобардов гепидская опасность. В 567 г. уже после смерти Юстиниана лангобардский король Альбоин[169], сын Авдоина и тюрингской принцессы Роделинды, заключив союз с аварами, невзирая на «вечный мир», напал на гепидов. Гепиды были не только разгромлены, но и практически уничтожены. Императорское правительство сыграло в этих событиях немаловажную роль, надеясь уничтожить варваров варварскими руками. Но, уничтожив гепидов и тем самым ликвидировав опасность с их стороны, Альбоин решил не оставаться на прежнем месте.
На это его толкнул ряд обстоятельств. Хотя гепиды были разгромлены и почти уничтожены, они еще оставались потенциальными противниками. Но гораздо более важной представлялась аварская опасность. На рубеже 50-60-х гг. VI в. авары, возможно, теснимые тюрками, сначала подчинили себе племена Северного Причерноморья, а затем двинулись дальше на запад. В 562 г. они оказались уже на нижнем Дунае. Их каган Байан вел с позиции силы переговоры сначала с Юстинианом, а затем с Юстином II. Байан активно и успешно воевал с франками. Под его руководством создавалась новая мощная кочевая держава. В этом отношении авары были подобны гуннам и, может быть, были им родственны[170]. Во всяком случае, авары принадлежали к тому кочевому миру, который в огромной степени определял исторические судьбы «степного коридора», по которому и двигались, сменяя друг друга, орды кочевников с востока на запад. Авары представлялись народам, жившим к северу от имперской границы, да и самой Империи тоже не менее грозными врагами, чем гунны. Их иногда, следуя уже установившейся традиции, и называли гуннами. Авары в это время находились на вершине своего могущества. Они уничтожили остатки Гепидского королевства[171]. Хотя лангобарды и сумели избежать непосредственного столкновения с ними, иметь их близкими соседями казалось им чрезвычайно опасным. Паннония, в которой в это время жили лангобарды, в течение многих десятилетий переходила из рук в руки, и это резко уменьшало ее экономический потенциал. Она могла все меньше удовлетворять нужды лангобардов, а добыча, полученная лангобардами в ходе войны с гепидами, не была столь значительной, чтобы удовлетворить их растущие аппетиты. В этих условиях Италия являлась очень заманчивой целью. Несмотря на разорения, вызванные многолетней войной, она все равно была много богаче, чем Паннония. К тому же ситуация в Италии представлялась удобной для попытки захвата этой страны. В Италии, особенно в северной ее части, разразилась страшная эпидемия[172], ставшая почти неизбежным следствием долгой войны. Она опустошила значительную часть Северной Италии, и заброшены были не только деревни и некоторые города, но и многие крепости, что делало страну почти беззащитной перед лицом нового варварского вторжения. Другие части Италии переживали наводнения. И все это сопровождалось голодом. Не менее важной оказывалась и политическая ситуация. Нарсес, фактически самовластно управлявший от имени императора Италией, вступил в противоречия с некоторой частью италийской знати. Италийские аристократы, недовольные Нарсесом, обратились к новому императору Юстину II с жалобой на жадность и притеснения Нарсеса. Отношения между Нарсесом и Юстином, а особенно его женой Софией, не сложились, и император воспользовался жалобой италийских аристократов и снял Нарсеса с его должностей. Позже возник слух, что смещенный и оскорбленный Нарсес тайно призвал лангобардского короля Альбоина вторгнуться в Италию. В таком виде это предание едва ли правдиво[173]. Однако вполне возможно, что интриги на вершине имперской власти и ее администрации в Италии если и не создали политико-административный вакуум, то, во всяком случае, ослабили власть в стране. Это, естественно, облегчало лангобардам завоевание Италии[174].
V. ГОТЫ
Среди германских народов, с которыми пришлось иметь дело римлянам в III–VI вв., огромную роль играли готы, которые сами себя называли GutPiada (народ готов)[175]. Когда они столкнулись с римлянами, они жили в нижнем Подунавье и Северном Причерноморье, где когда-то обитали скифы. Поэтому римляне, следуя установившейся географо-этнографической традиции, долгое время называли их скифами. Позже, наоборот, они распространили название «готы» и «готские народы» на некоторые другие германские племена, действовавшие в этом регионе, и отличали их от «германцев», которыми именовали варваров, с какими им приходилось иметь дело на Рейне и в Альпах.
Проблема происхождения готов и их появления у границ Римской империи, казалось бы, довольно легкая, поскольку сохранилось произведение Иордана, подробно рассказывавшего о ранней истории этого народа. Однако в последние десятилетия это произведение в части, относящейся к ранней истории, многими учеными признается совершенно неисторическим и более того, произвольно сконструированным по заказу остготского королевского дома Амалов. Не входя сейчас в подробное рассмотрение вопроса о возникновении дошедшей до нас традиции, надо все же отметить, что анализ соответствующей части сочинения Иордана показывает, что речь идет о народной традиции, которая вначале является почти полностью мифологической (хотя, как и во многих таких мифах, смешанной с воспоминаниями о подлинных событиях), а затем все более наполняется историческим содержанием. Конечно, политическая конъюнктура времени создания и Getica («О происхождении и деянии гетов», т. е. готов) Иордана, и активно используемой Иорданом «Истории готов» Кассиодора не могли не повлиять на эти произведения. Однако отразилась она, как кажется, не в изобретении истории, а в группировке тех или иных фактов (включая мифы), их освещении, как, может быть, и в опускании неудобных событий. На примере готов в настоящее время строится модель этногенеза, когда возникновение известных народов оказывается результатом объединения отдельных, хотя и родственных, групп. Это противоречит ранее принятой модели, которая также строилась на примере ранней готской истории, согласно которой две известные ветви готов (вестготы и остготы[176]) появились в ходе распада единой до этого готской общности. Доводы сторонников новой модели не представляются настолько убедительными, чтобы отказаться от традиционного взгляда на эту проблему.
Готы относились к восточным германцам. Как и многие другие германские народы, сами готы выводили себя из Скандинавии. В принципе, это признают и современные ученые, хотя они и спорят относительно точной локализации готской прародины[177]. Отсюда они. по-видимому. в I в. до н. э. перебрались на южное побережье Балтийского моря на трех кораблях, возглавляемые королем Беригом. Если принять это сообщение на веру, то речь, конечно, не может идти о целом племени. Поэтому были предложены различные трактовки этого рассказа. Вероятнее всего, что речь идет о готском этногенетическом мифе. Цифра «три» в германской мифологии играла, как кажется, очень большую роль в рассказах о начале племенной истории. На три части разделились жители острова Скандзы, т. е. Скандинавии, и те, кому выпал соответствующий жребий, должны были переселиться на материк, и они стали предками лангобардов. Жители острова Готланд тоже из-за голода разделились на три части, и две трети покинули остров. На трех кораблях прибыли в Британию первые германцы, начавшие завоевание острова. Как бы то ни было, предки готов, скорее всего, действительно, переселились из Скандинавии, по-видимому, на рубеже эр и в I в. жили в низовьях и среднем течении Вислы. Здесь расположилась Готискандза, Скандия готов, воспоминания о которой еще долго жили в готской среде. Как полагают некоторые лингвисты, названия городов Гданьск и Гдыня связаны с пребыванием в устье Вислы готов. Археологи ассоциируют готов и некоторые другие родственные им германские народы с Вельбаркской культурой, а римские авторы локализуют в этом регионе гутонов, или готонов. Готы вступили, естественно, в контакты с другими этническими группами, причем не только германскими, но и балтскими и, может быть, протославянскими. В начале I в. готы (гутоны), по-видимому, вошли в обширную и довольно мощную конфедерацию, возглавляемую маркоманом Марободом. Позже Маробод был свергнут Катуальдой, который, судя имени, мог быть готом. Это, однако, не привело к тому, что готы заняли в этой конфедерации господствующее положение. Несколько позже Катуальда был свергнут Ваннием и, как и Маробод, бежал к римлянам. Создается впечатление, что все эти события происходили «на вершине», мало задевая сами племена. И готы как целое племя, видимо, принимали в них относительно небольшое участие. Какое-то время они, по-видимому, подчинялись вандалам, но затем явно освободились от их власти. Около 150 г. Вельбаркская культура начинает распространяться в юго-восточном направлении. Это хорошо согласуется с готским преданием, что по решению короля Филимера готы покинули свои поселения и двинулись в Скифию, т. е. в Северное Причерноморье. Здесь они окончательно утвердились в III в. Едва ли речь в действительности идет о целенаправленном и планомерном переселении целого народа. Скорее всего, имело место поэтапное движение (хотя, может быть, и не очень растянутое во времени), которое, в конце концов, и привело готов в причерноморские степи и лесостепь, где с готами связана Черняховская культура[178], имеющая черты, роднящие ее с Вельбаркской. Эта культура появилась, вероятнее всего, в середине — второй половине III в. Она не была чисто готской, но среди ее носителей готы, по-видимому, преобладали. По преданию, Филимер был пятым королем готов. Его отец Гадарих назван в предании Великим, хотя ничего о его подвигах, которые стали бы основанием для такого прозвища, ничего не говорится. Возможно, это было связано с освобождением от подчинения другим племенам[179]. Какая-то часть готов приняла, по-видимому, участие в так называемых Маркоманских войнах в 70-е гг. II в.[180] И это стало первым столкновением готов с Римской империей.
Еще тогда, когда готы жили в районе Вислы, у них в отличие от многих других германских племен была довольно сильна королевская власть. Переселение на новые земли, возглавляемое королем, способствовало еще большему ее укреплению. Так. Филимер, возглавивший, по преданию, готское переселение на юго-восток, принял решение о миграции самостоятельно, без всякого совета с племенем. Нет и никаких сведений об избрании Филимера королем. Он просто наследовал своему отцу Гадариху. Это, однако, не означало, что королевская власть была жестко связана с определенным родом. Принадлежали ли Гадарих и Филимер к тому же роду, что и легендарный предводитель переселения Бериг, неизвестно. Филимер явно совершенно спокойно наследовал своему отцу, но передал ли он королевское достоинство своему сыну, мы не знаем. Никаких сведений о готских королях после Филимера не сохранилось[181]. Лишь позже на исторической сцене появляется король Острогота, и он был уже представителем нового королевского рода — Амалов. Амалы возводили свой род к Гапту, или, как полагают филологи, правильнее — Гауту, правнуком которого был Амал. давший имя всему роду. Был ли Амал королем, весьма сомнительно. Ни о нем, ни о его сыне Хисарне не говорится как о королях. Только Острогота выступает уже как король. По-видимому, именно с ним произошла смена готской королевской «династии». Впрочем, забегая вперед, надо сказать, что и после Остроготы королевская власть порой принадлежала представителям других родов.
Гапт-Гаут являлся, вероятнее всего, мифическим прародителем готов. Его нельзя не связать с таинственным народом гаутов англосаксонского эпоса, явно сохранившего воспоминания о континентальной родине англосаксов недалеко от данов. С ним же можно связать героев готландской легенды о братьях Гуте, Грай-пе и Гуннифьяне, считавшихся прародителями готландцев. Предки Амалов и, следовательно, Гапт-Гаут принадлежали к полубогам, т. е. ансам. Может быть, ансов надо сопоставить с асами — одним из двух родов богов скандинавской мифологии. Но в данном случае важнее другое: Амалы явно возводили свой род к божественному миру. Когда возникло это представление, сказать трудно[182]. Возможно, опираясь на него, Острогота и захватил власть. Он утвердил ее в борьбе с родственными готам гепидами. Возможно, вначале Острогота правил только частью готов — гревтунгами и только позже подчинил себе и другую часть готского племенного объединения — тервингов[183]. После смерти Остроготы его держава явно распалась. Сыном Остроготы был Хунуил, но после смерти короля ведущую роль стал играть Книва, который никак в генеалогию Амалов не вписывается. Удержать власть и королевское достоинство Амалы не смогли. По-видимому, после смерти Остроготы начался процесс разделения готов на две части. Значительные размеры территории, на которой утвердились готы, при тех средствах коммуникации, какие существовали в то время, способствовали разделению готского этноса. Границей между ними становится современный Днестр. Тервинги все чаще называются везами, или везеготами, или визиготами (вестготами), что. вероятно, первоначально означало «хорошие готы»[184]. Позже это наименование стали понимать как «западные готы». За гревтунгами закрепляется наименование «остроготы» (остготы). Суть этого наименования является предметом многочисленных дискуссий. Его связывают и с географическим положением остготов (восточные готы или. точнее, готы, живущие там. где восходит лучезарное солнце), и с гордым названием «лучезарные», и с культом солнца. Вполне, однако, возможно, что. как и утверждает готская традиция, эта часть готов стала называться по имени Остро-готы. Известно, что по имени тех своих правителей, под руководством которых началась эра великих завоеваний, называли себя турки — сельджуки и османы. Вероятнее всего, наименование королевского рода Астингов стало названием одного из двух подразделений вандалов. Сколь скоро бывшие соплеменники Остро-готы стали себя так называть (а за ними так стали делать и римляне), точно сказать трудно. Если Острогота умер, как полагают, приблизительно в середине III в.[185], а наименование «остроготы» становится общеупотребительным в начале V или в конце IV в., то процесс стихийного переименования мог занять около столетия, хотя надо сказать, что обычная для античных авторов традиционность заставляла их еще очень долго использовать старые названия народов и племен, когда реальность была уже совершенно другой[186]. Как бы то ни было, личность Остроготы. вероятно, произвела большое впечатление на его соплеменников. С Остроготой связано и первое столкновение готов с римлянами.
Готы, поселившиеся у римских границ, вступали с римлянами в самые разнообразные отношения. Часть готов могла уже в это время поселиться на территории Римской империи на Балканском полуострове. Один из этих готов — Микка женился на местной аланке Габабе, или Абабе, и стал отцом будущего императора Максимина Фракийца[187], правление которого открыло период «военной анархии» в Империи. Некоторые готы в это время могли даже служить в римской армии. Пока трудно сказать, были ли это сначала отдельные авантюристы, поступавшие на римскую службу в поисках добычи и славы, или целые отряды, вливавшиеся в римскую армию. Позже готские отряды, несомненно, служили в армии Римской империи. Так. готские войска в 260 г. участвовали в битве с персами, в которой римляне потерпели катастрофическое поражение, и сам император Валериан попал в персидский плен. Но в целом отношения между готами и Империей были враждебными. Готы не были врагами империи, они просто рассматривали ее как огромный и желанный источник доходов. Их вторжения на имперскую территорию были чисто грабительскими. Они разоряли те местности, через которые проходили, грабили их, унося с собой добычу и пленных, за которых затем стремились получить выкуп. Свой отказ от нападений готы обусловливали получением от римских властей денежных субсидий. Однако зачастую они не держали своего слова и снова прорывались через имперские границы или. нападая с моря, разоряли берега.
Первое готское вторжение произошло, вероятно, в 238 г. Уже до этого готы захватили некоторые греческие города в Северном Причерноморье, в том числе Ольвию, а затем напали и разорили Истрию, находившуюся южнее устья Дуная. В условиях фактически начавшей гражданской войны наместник провинции Нижней Мезии не решался использовать имеющиеся у него силы для отпора варварам, разорившим Истрию. Может быть, выжидая исхода событий, он предпочел откупиться. Сил в распоряжении сменившего его Менофила, вероятно, тоже было не так же много, и он был вынужден маневрировать. Не имея достаточных сил для вооруженного отпора варварам, он просто откупился от них. Однако несколько позже Менофил был казнен, и готы, по-видимому, испугались, что римляне не будут выполнять договор, заключенный с ними Менофилом. К ним примкнули и другие варвары. Но на этот раз их вторжение закончилось поражением. Тем не менее императорское правительство, как кажется, продолжало выплачивать какие-то деньги готам и другим варварам этого региона. Однако пришедший затем к власти император Филипп Араб отказался платить эту субсидию. И это осложнило положение на Дунае. Сначала в войну с римлянами вступили карпы, но Филипп, сам явившийся на театр военных действий, нанес им ряд поражений и вытеснил с имперской территории. Готы в первое время еще вели себя спокойно, но затем обстановка на Дунае изменилась. Против императора выступил его наместник в этом регионе Пакациан. Этот мятеж явно ослабил оборону дунайской границы, и этим воспользовались готы, недовольные отменой Филиппом денежных субсидий. Под командованием уже упомянутого готского короля Остроготы образовалась довольно сильная коалиция варварских племен, включавшая не только готов, но и другие племена, в том числе карпов, с которыми сравнительно недавно воевал Филипп[188]. Варвары разрушили город Марцианополь, находившийся довольно далеко от границы. Следовательно, они проникли в глубь территории Мезии, практически не встречая сопротивления. Они опустошили Мезию и Фракию. Филипп направил на борьбу с ними своего полководца Деция, но успеха тот не добился, и готы с большой добычей вернулись в свои земли. Вскоре после этого на них напали гепиды. Не исключено, что это нападение было каким-либо образом спровоцировано римлянами, и именно гепидская угроза заставила готов покинуть римскую территорию. Неудача в борьбе с готами не помешала Децию крутыми мерами восстановить дисциплину в самой римской армии. Его меры, видимо, были столь крутыми, что часть воинов даже предпочла обратиться за помощью к готскому королю, и это обращение послужило для Отроготы поводом к вторжению на территорию Империи. Тем временем армия провозгласила Деция императором, он двинулся в Италию и сверг Филиппа.
Воспользовавшись очередным витком нестабильности, готы, возглавляемые королем Книвой, вместе с присоединившимися к ним какими-то «союзниками» (вероятно, карпами) в 250 г. вновь прорвались через имперскую границу. Местные власти не сумели противостоять варварам, и Децию пришлось лично отправиться на театр военных действий. Видимо, в связи с этим он направил какие-то войска и корабли на Боспор. Положение Боспора в это время было довольно трудным. Боспорские цари уже не имели сил отражать варварские нападения. И Деций, вероятно, решил своими силами обеспечить этот фланг римской обороны перед решающей, как ему казалось, схваткой с варварами. В это время карпы грабили Дакию, а готы двинулись дальше на Балканы. Деций разгромил карпов, но главным противником оставались готы. Деций разбил значительные силы готов под Никополем, и те даже попытались вести с ним переговоры, но император отказался от этих переговоров. Но неожиданно армия Деция потерпела значительное поражение. Готы осадили Филиппополь. Наместник Македонии Л. Приск попытался защитить город, но неудачно. Более того, после взятия Филиппополя готы провозгласили того же Приска императором, противопоставляя его Децию. Они явно заключили с Приском союз. Провозглашая целью союза войну с законным императором. Книва надеялся занять какие-то земли к югу от Дуная или же с помощью той части римских войск, которая пошла за Приском, еще активнее пограбить население Фракии и Мезии. Или же, наоборот, Приск надеялся с помощью готов захватить трон. Децию пришлось все силы сконцентрировать на борьбе с готами. Однако в жестоком двухдневном бою у Абритта, недалеко от Филиппополя, готы разгромили римлян, и в бою пал сам Деций. Его преемник Требониан Галл был вынужден пойти на заключение мира с готами на довольно тяжелых условиях. Император обязался платить готам ежегодную твердо установленную сумму денег и оставил им всю захваченную ими добычу и всех римских пленных, особенно знатных, захваченных варварами в Филиппополе. За это готский король, по-видимому, согласился гарантировать или даже защищать от других варваров дунайскую границу. Договор, ранее заключенный Требонианом, хотя и считался римским общественным мнением позорным, на какое-то время обезопасил дунайскую границу и обеспечил некоторую паузу в военных действиях. Но скоро пауза закончилась. Готы снова перешли Дунай и стали грабить приграничные провинции. Правда, эту атаку готов римляне, как кажется, сумели отбить. Но в 253 г. готы повторили свое вторжение. Они заняли значительную часть Европы и перешли в Малую Азию, опустошив значительную часть полуострова вплоть до Каппадокии. Готы действовали, почти не встречая сопротивления римской армии. Только наместник Мезии М. Эмилий Эмилиан сумел все-таки дать отпор варварам. Разбив их. он со своей армией даже перешел на вражескую территорию и разрушил их поселения. Победоносный Эмилиан был тотчас провозглашен своими солдатами императором.
Римскую империю все туже затягивала адская спираль узурпаций, гражданских войн, внешних вторжений. Готы активно участвовали в этих вторжениях. В период совместного правления Валериана и Галлиена несколько племен объединились для грабежа приграничных римских территорий. Кроме готов и карпов это были еще бораны и уругунды (возможно, какая-то часть бургундов). Речь идет, видимо, не об оформленной коалиции, а, скорее, об одновременном нападении различных племен, хотя, разумеется, возможность предварительного сговора тоже вполне вероятна. Возможно, что вестготы, карпы и таинственные уругунды прорвались через Дунай, а бораны и остготы использовали боспорские корабли, чтобы грабить восточные и юго-восточные берега Черного моря. Боспорское царство переживало в это время серьезный экономический и политический кризис. Воспользовавшись им, остготы проникли в Крым и представляли большую опасность для боспоритов с суши. Защищать Боспор римляне уже не могли. Все это, вероятно, вызвало политическое напряжение на Боспоре. Власть захватил узурпатор Фарасанд, и в его правление боспориты и предоставили своим корабли боранам и остготам для выхода в Понт Эвксинский. Бораны и остготы обрушились на Питиунт (Пицунда). Однако гарнизон города, возглавляемый энергичным Сукцессианом, отбил все атаки варваров, и те были вынуждены уйти обратно. Но вскоре Валериан отозвал Сукцессиана с Понта. Остготы и бораны воспользовались этим. Уже на следующий год они снова появились перед Питиунтом. На этот раз они сумели захватить и разграбить город, после чего двинулись дальше. Другие войска варваров в это время (или немногим позже) разоряли Дакию, Мезию, Фракию, проникли в Малую Азию, а часть их, двигаясь другим путем, ворвалась в Паннонию, угрожая даже непосредственно самой Италии. В 260 г. Валериан потерпел тяжелое поражение от персов и сам попал в персидский плен. Этот катастрофа открыла недолгий, но чрезвычайно жестокий период острейшего политического кризиса. Однако оставшийся единственным августом Галлиен проявил недюжинную энергию и ум и сумел справиться с ситуацией. В частности, он учел уроки недавнего варварского вторжения и реорганизовал оборону дунайской границы. Это, однако, не сдержало готов. В 267 г. они вместе с герулами и некоторыми другими варварскими племенами вновь вторглись на имперскую территорию. Варвары во главе с Респой, Ведуком и Тарваром не ограничились грабежом и разорением балканских провинций. Они перешли Геллеспонт и разрушили ряд городов малоазийского побережья, в том числе Халкедон, а также знаменитый храм Артемиды Эфесской. Готы обрушились также на Грецию. После упорной борьбы варвары захватили Афины. Вслед за этим были сожжены Коринф, Аргос, Спарта. Сначала Галлиен решил поручить ведение войны с готами своим командирам. Римляне сумели одержать несколько побед, но добиться полного успеха не смогли. Это заставило императора самого отправиться на театр военных действий в Иллирию. Он также одержал победу, заставив врагов бежать. Однако в это время он узнал, что против него выступил его старый и, казалось, самый преданный полководец Авреол. Это заставило Галлиена спешно вернуться в Италию, поручив дальнейшую борьбу с готами Марциану. Одновременно Галлиен предпринял и дипломатические шаги. Он сумел расколоть варварскую коалицию. Разбив герулов и заставив сдаться их вождя Навлобата, он не только милостиво с ним обошелся, но и наградил его почестью консуляра. Таким образом, герулы были выведены из игры, и это должно было помочь римлянам справиться с остальными варварами.
Исход этого вторжения не совсем ясен. Скорее всего, готы и их союзники, нагрузившись добычей, покинули территорию Империи. Но уже в 269 г. мощная и невиданная ранее коалиция варварских племен, среди которых большое место занимали готы (точнее, четыре отдельных готских племени или отряда), двигаясь по суше и по морю, вторглась в балканские провинции и попыталась разграбить малазийское побережье. Укрепленные города варвары взять не смогли. Зато они почти беспрепятственно грабили сельскую местность. Клавдию пришлось со всеми своими силами двинуться против нападавших. Морские операции были поручены Тенагинону Пробу. Правда, через какое-то время Проб был вынужден явно по приказу императора направиться в Египет, но извлечь из этого выгоду германцы не смогли. После бесплодного крейсирования в водах Крита и Родоса они отступили. В ожесточенном сражении у Наисса в Мезии римляне одержали блестящую победу. Часть готов отошла к горам Гемм (Родопы), где в следующем году была вторично разгромлена. Это поражение было для германцев столь чувствительным, что Дунай превратился в некий вид священного рубежа, отделяющий страну готов от Империи. Клавдий получил титул Готского (Gothicus maximus), став первым римским императором, носившим этот титул[189]. Это вторжение носило уже иной характер, чем предыдущие. Вместе с воинами двигались женщины и дети. Они явно искали места для поселения на территории Римской империи. В некотором смысле это была репетиция Великого переселения народов. В целом она провалилась. Все же можно говорить о частичном успехе готов. Значительная часть захваченных в плен была, естественно, превращена в рабов, но другая — зачислена в римскую армию, а третьим была предоставлена земля для поселения, чего, собственно, германцы и добивались. Вероятно, значительное обезлюденье пограничных территорий, частично, по-видимому, связанное с начавшейся в это время эпидемией, заставило римское правительство принять такие меры. И какие-то государственные (или императорские) земли могли быть переданы в аренду пленникам. Их положение могло быть похоже на положение летов, хотя сам термин появился несколько позже. Представители же варварской знати, попавшие в плен или перешедшие на сторону римлян, могли занять относительно высокое положение. Известно, что при Клавдии находился герул Андонобалл. Занимал ли такое положение кто-нибудь из готских аристократов, неизвестно, хотя и вполне возможно.
Важным событием, случившимся в начале правления Аврелиана, было оставление им Дакии. Будучи реальным политиком и хорошим знатоком военного дела, он понял, что удерживать римские владения за Дунаем чрезвычайно трудно, и в 271 г. сделал Дунай естественной границей Империи на всем протяжении этой реки. К тому же он рассчитывал на то, что территория Дакии, несомненно, станет тем местом, заселить которое будут стремиться и готы, и гепиды, и вандалы, и можно было надеяться, что их взаимное соперничество надолго отвлечет варваров от нападений на Империю. Готы, действительно, заняли часть Дакии, но они, по-видимому, расценили уход римлян с левого берега Дуная как проявление их слабости. Восстановив частично свои силы после катастрофического разгрома Клавдием, готы подготовили новое вторжение на римскую территорию. К ним, видимо, присоединились и некоторые другие племена. Они воспользовались отвлечением сил и внимания Аврелиана к пальмирскому походу и перешли Дунай. Первоначально варвары явно сумели достичь некоторых успехов, но затем вернувшийся в Европу Аврелиан в 272 г. нанес им новое жестокое поражение и выбил их с территории Империи. Он, кажется, даже перешел Дунай, разгромив там и убив готского короля Каннаба или Каннабауда, но явно за Дунаем не задержался. После этого готы то в одиночку, то в союзе с другими варварами еще не раз нападали на Империю, но эти натиски были уже не столь сильными и значительными. По-видимому, поражения, понесенные ими от Клавдия и Аврелиана, в огромной степени подорвали их силы. И когда варвары снова вторгались на территорию Римской империи, готов среди них уже не было. Правда, император Проб поселил некоторых остготов на имперской территории, и они даже подняли мятеж, но никакой поддержки от своих соотечественников за Дунаем мятежники явно не получили. Только приблизительно через полстолетия готы возобновили свои нападения на Империю.
В 322–323 гг. готы в союзе с сарматами снова вторглись на территорию Империи. Против них со всей своей армией выступил Константин. Он разбил союзников, но мир на Дунае просуществовал недолго. В 328 г., когда Константин находился на Западе, готы снова перешли Дунай. Император спешно вернулся на Восток. Весной 329 г. готы были разгромлены и отброшены за Дунай. Но Константин этим не ограничился. Он велел построить новый мост через реку, перешел по этому мосту Дунай и нанес готам тяжелое поражение. Мост позволил римлянам создать на левом берегу Дуная плацдарм, контролирующий движение варваров и защищающий римский берег. Наряду с этим предмостным укреплением тоже на левом берегу реки было построено несколько небольших фортов. Все это должно было обезопасить римскую границу от варварских набегов. Однако если Константин полагал решенной варварскую проблему на нижнем Дунае, то он ошибался. В это время происходят важные изменения в варварском мире. Растет могущество готов. Часть готов — вестготы, или тервинги — пытаются навязать свою власть соседям. Под их давлением племя тайфалов наседает на римские границы. Римляне отбили тайфалов, но их победа стала лишь временной передышкой. За помощью к императору обратились сарматы. На них напали готы, и хотя сарматы в упорной битве сумели уничтожить часть врагов, в том числе их предводителя Видигойю, все же они потерпели поражение. Просьба сарматов давала Константину прекрасную возможность использовать варваров в борьбе с другими варварами. И он этой возможностью не пренебрег. Вначале Константин сам возглавил армию и разбил готов. Для продолжения войны он вызвал своего старшего сына Константина и поручил ему командование. Константин-младший успешно справился с поручением отца. Готы были разбиты и загнаны в безлюдную местность, где стали погибать от голода и холода. По явно преувеличенным сообщениям, так погибло 100 тысяч готов. Готский король Ариарих был вынужден просить мира. В 332 г. был заключен мир. По условиям этого мира готам разрешалось вести торговлю на Дунае, но зато они должны были не только прекратить всякие нападения на римскую территорию, но и ежегодно поставлять воинов в римскую армию. 40 тысяч готов были поселены на римской территории. Побежденные готы дали заложников, среди которых был и сын короля. Возможно, это был Аорих, который позже сам стал королем. Беря в заложники королевского сына, император явно намеревался не только обеспечить верность готов условиям мира, но и иметь свою кандидатуру на готский трон после смерти Ариариха. Мир 332 г. еще на тридцать лет обеспечил спокойствие на нижнем Дунае.
Поводом для нового выступления готов послужили события в восточной части Римской империи, где против императора Валента выступил Прокопий. Захватив власть в Константинополе, Прокопий обратился к готам, потребовав от них помощи на основании договора, в свое время заключенного с ними Константином, и ссылаясь при этом на свое родство с этим императором. В глазах готов Прокопий явно являлся законным императором, и вестготский лидер Атанарих прислал на помощь Прокопию десять тысяч воинов, выделенных, вероятно, различными готскими племенами[190]. Готам, кроме того, этот призыв Прокопия предоставлял прекрасный повод пограбить богатые имперские земли. Однако Прокопий был разгромлен. и Валент восстановил свою власть. Чтобы обезопасить себя от повторения готского вмешательства в римские дела, Валент решил начать войну с вестготами. Он понимал всю трудность предстоящей кампании и стал тщательно ее подготавливать, и после тщательной подготовки летом 367 г. Валент во главе армии перешел Дунай. Три последовательные кампании успешно разворачивались на готской территории за Дунаем. Вестготы потерпели полное поражение и бежали в горы. На левом берегу Дуная Валент восстановил старые и создал новые укрепления, которые должны были защитить дунайскую границу от возможных новых готских вторжений. Наконец, в феврале 370 г. во время личной встречи Валента и Атанариха был заключен мир. В общих чертах он повторял мир 332 г., заключенный между готами и Константином, но, видимо, на более жестких условиях. В частности, трансдунайская торговля была ограничена только двумя пунктами, что ставило вестготов в довольно тяжелое положение. Значение этого договора выходит, однако, далеко за пределы конкретных договоренностей. Тот факт, что император был вынужден пойти на личную встречу с готским предводителем и вести с ним переговоры практически (или почти) на равных, говорит об изменениях в отношениях между Империей и варварским народом. Отныне варвар становится фактически равноправной стороной, партнером в римско-варварских взаимоотношениях.
Через пять лет после этих событий готы столкнулись с гуннами. Это положило начало новой эпохи в истории не только готов, но и всего европейско-средиземноморского мира.
Возвращаясь к более раннему времени, надо сказать, что в период готского переселения из Повислья в Причерноморье все племя состояло из войска и семей и возглавлялось королем. Можно говорить, что все готы-мужчины и составляли войско. В Северном Причерноморье среди них уже отмечаются, кроме королей, «меньшие люди», а также «благороднейшие и благоразумнейшие мужи», из числа которых выходили и жрецы. Таким образом, готское общество уже состояло из народной массы, светской и духовной аристократии и короля с его семьей. Если эти сведения отражают эволюцию готского общества, то выделение родоплеменной знати надо отнести ко времени переселения готов на юго-восток. Конечно, она не могла не существовать и раньше. Существование у германцев, и готы здесь не могли быть исключением, людей из знати отмечено, по крайней мере, с I в. Однако в период переселения с его опасностями и неизбежными столкновениями с другими этническими группами эта знать могла институализироваться как отдельный социальный организм. Это, вероятнее всего, те люди, которых называли maistans (знатнейшие) и sinistans (старейшины). Выделение знати доказано археологическими данными. В Северном Причерноморье происходят важные изменения в материальной культуре готов. С одной стороны, оказавшись в тесном взаимодействии с сарматами, а с другой, вступая во все более тесные контакты с римлянами, готы стали перенимать и у тех и у других многие элементы их культуры. Появляются диадемы, нового вида шлемы, роскошно украшенные фибулы. Активно используются драгоценные и полудрагоценные камни. Все такие предметы, отсутствовавшие во время пребывания готов на Висле, могли принадлежать, естественно, только высшему слою общества. Важным было и то, что от сарматов готы переняли умение ездить верхом, и с этого времени конница стала играть определенную роль в готском войске. Конниками были опять же представители знати.
Из состава аристократии могли выходить претенденты на королевскую власть, соперничавшие и с Амалами, и с другие родами, также претендующими на королевскую власть. Явно к таким аристократическим родам принадлежали Балты, которые заняли в соответствии с готской традицией второе место после Амалов, а после разделения готов на две ветви возглавили вестготов. В отличие от Амалов Балты не возводили свой род к мифическому божественному или полубожественному предку, а получили свое название из-за мужества и храбрости (Балт — отважный). Это ясно говорит, что Балты относились к той группе родоплеменной аристократии, которая выделилась уже в более позднее время и, может быть, не принадлежала к непосредственным потомкам выходцев из Скандинавии. По-видимому, к Балтам принадлежал Геберих[191], который успешно воевал с вандалами. Его победа над вандальским королем Визимаром относится ко времени правления Константина и произошла, по-видимому. незадолго до смерти этого императора, т. е. в середине 30-х гг. IV в. Первым известным предком Гебериха был его прапрадед Нидада. Время жизни предков Гебериха неизвестно, но все же три поколения должны были охватить приблизительно сто лет. В таком случае выдвижение на одно из ведущих мест Нидады должно было относиться примерно к 30-м гг. III в. или немного позже. Видимо, Балты заняли это место при разделении готов на две ветви после смерти Остроготы. В таком случае, вполне вероятно, как это уже давно предполагается, что Нидада был тем же Книвой, который возглавлял готов (точнее, вестготов) во время войн с римлянами в самом начале 50-х гг. III в. Очень возможно, что с Книвой-Нидадой Балты вышли на первый план в вестготском обществе. Это, однако, не означает, что с этого времени они имели власть у вестготов. Геберих стал королем после смерти не своего отца Хильдерита, а Ариариха и Аориха. Ни о какой связи между Геберихом и этими королями сведений нет, и если бы они были, то прославлявший всех готских королей, в том числе Балтов, Иордан не преминул бы это отметить.
В готской традиции, передававшей имена королей (как общеготских, так и отдельно остготских и вестготских), далеко не всегда указывается их филиация.
Поэтому вероятнее всего, что прямого наследования королевской власти у готов долго не было. Амалы и Балты, несомненно, претендовали на исключительное положение среди своих соплеменников, но эти претензии далеко не всегда последними принимались. Каким образом и на каких основаниях выдвигался король, точно неизвестно, по крайней мере, для этого времени. Однако некоторые данные о более поздних событиях позволяют ретроспективно все же сделать выводы. Из истории короля Теодориха, о котором подробно будет говориться позже, видно, что он сначала возглавил свое войско, а затем после победы над сарматами этим войском был провозглашен королем. Еще позже, уже после обоснования в Италии, готы, недовольные «бесполезностью» своего короля Теодахада, свергли его и избрали королем Витигиса, уже известного своими воинскими деяниями[192]. Таким образом, основанием для избрания королем является в первую очередь его воинская доблесть и связанные с ней победы. Предпочтительней, чтобы победа предшествовала провозглашению. Или же, по крайней мере, воины должны быть уверены в победоносности своего избранника. Король, таким образом, является прежде всего военным лидером, и его военная активность составляет основу его власти. Что касается знатности рода, то она, конечно, тоже играет свою роль, ибо победоносные предводители войска могли принадлежать только к знати, но выбор конкретного человека определялся его воинскими подвигами.
В этом отношении интересна фигура Атанариха, возглавлявшего вестготов с 360 или 361 г.[193] Его отцу, имя которого неизвестно, Константин поставил статую в своей столице. Но это не означает, что власть перешла к Атанариху от его отца. То, что он был Балтом, несомненно, ибо позже вестготские короли из этого рода возводили свою королевскую власть именно к Атанариху, который, таким образом, в более поздней традиции считался первым вестготским королем. Однако королем Атанарих не был. Его называют судьей, предводителем, вождем, архонтом, т. е. правителем, но не королем. Более того, когда римляне пытались назвать его так (басилевс), он сам решительно отклонил такое наименование. В то же время Атанарих возглавлял войско, после неудачной войны с Валентом заключил с ним мир, являлся организатором антихристианского гонения. Одним словом, он обладал реальной властью и во внешней, и во внутренней политике. Может быть, потому что он не был «правильным образом» избран войском, он и не мог считаться королем. А когда вестготы стали терпеть чувствительные поражения от гуннов, то его власть вообще почти рухнула, и с ним остались только его приближенные («близкие»), которые потом все же попытались от него отделаться, и его дружина. Его не свергли, как позже остготы Теодахада, а просто покинули его. По-видимому, в свержении не было необходимости, поскольку его и не провозглашали. Но каким образом он оказался у власти? Чтобы хотя бы гипотетически ответить на этот вопрос, надо уже сейчас сказать о существовании державы Эрманариха, о которой еще пойдет речь. Под властью этого короля находились все готы, но в какой-то момент вестготы неизвестно по какой причине отделились от всего готского сообщества и отошли на запад. После этого Атанарих и стал действовать совершенно самостоятельно. Можно предположить, что вестготы, находясь под властью Эрманариха, собственного короля не имели, а в качестве автономного правителя во главе их стоял правитель, которого римские авторы и называли то судьей, то предводителем, то правителем, то архонтом. После выхода из-под власти Эрманариха вестготы так и остались под управлением этого «судьи». Еще раньше у вестготов имелся какой-то «судья», который организовывал антихристианское гонение. Это не мог быть тот же Атанарих, т. к. Атанарих правил вестготами значительно позже. Следовательно, он не был первым, кто занимал такое положение. Когда значительная часть вестготов отказалась повиноваться Атанариху и решила перейти на римскую сторону, это решение принимали вельможи (primates) и вожди (duces)[194]. Первыми были, скорее всего, вожди вестготских родов[195], вторыми — командиры воинских контингентов. Таким образом, в вестготском обществе того времени можно выделить судью, игравшего роль верховного правителя[196], но не избранного в соответствии с «обычаем предков», а потому и не могущего иметь королевское достоинство. родовых старейших и военных вождей. Вероятнее всего, и в остготском обществе существовали такие же институты.
Несмотря на все еще большую роль родоплеменных институтов, в целом можно уже говорить о государстве, возглавляемом королем. Государство считалось thiudangardi. королевским двором. Первоначальным обозначением короля было тиуданс (thjiudans), что значило «владыка народа». Само это название показывает связь короля и народа (thiuda), который рассматривается как составная часть двора. В IV в., во времена Ульфилы, название «тиуданс» отошло в сакральную сферу, и обозначением короля становится «рикс» или «рейкc»[197]. Из земных правителей тиудансом готы теперь называли императора, подчеркивая этим вполне сознаваемую ими разницу между римским августом и собственным королем.
Король, или «судья», как Атанарих, обладал довольно большой властью. Однако рядом с ним всегда были «свои», «близкие», «вельможи». Без совета с ними не принимались важнейшие решения. Так, организатором гонения на христиан был Атанарих, но это решение он принял после совета с μεγιστãνες, (вельможами). И дело было не в том. что Атанарих был судьей, а не королем. Позже Аларих тоже принимал решение о вторжении в Италию после совещания с приближенными. Роль этого высшего слоя готского общества была довольно велика. Некоего Атанарида греческий автор даже называет «царьком» (βασιλiσκος). Его подчиненные называли его «господином». Известно имя его отца Ротестея, который тоже занимал такое же положение. Правда, роль этого Атанарида относительно второстепенная:
в то время как Атанарих организовывал антихристианское гонение, Атанарид воплощал это решение в жизнь. В качестве «короля» упоминается также Ингурих, который, видимо, тоже был подчиненным «судьи». Само наличие таких «царьков» свидетельствует о значительной роли знати в социально-политической структуре Готии. Явно существовало у готов и народное собрание. Даже во время войны не всегда готы подчинялись решениям своего главы. И позже вестготы, поселившиеся в Галлии, некоторые важные решения принимали на народном собрании. Тем более этот институт должен был существовать в IV в. Можно говорить, что королевская власть в это время была еще только на пути к подлинной монархии, какой она стала позже.
Готское общество этого времени было в большой степени стратифицировано. И знать, и основная масса остальных готов являлись свободными людьми (freie), но существовали и рабы. В основном рабами были, конечно, пленники, которых готы во время своих вторжений массами уводили из захваченных городов и полей. Часть этих пленников они затем продавали или отпускали за выкуп, но значительная часть использовалась самими готами, в частности, для фортификационных работ во время войны. Наряду с ними появились, по-видимому, рабы и из числа самих готов. Явно таких рабов захватывали и покупали за бесценок у вестготов коррумпированные римские командиры, когда варвары оказались в безвыходном положении. В готском языке уже были такие слова, как «долг», «задолженность», «залог», «нищий» и т. п. Может быть, именно долговое рабство распространялось в готской среде. Наряду с сохранением большого значения родственных институтов (kuni) все большее значение приобретает сельская общины (haims или weihs). Но она тоже и в имущественном, и в социальном отношении не представляла единства, ибо в ней тоже выделяются старейшины и более богатые ее члены. Такая община совпадала с деревней. В готском языке было и слово для обозначения города — baurg, но сами готы городов не любили. Те города, которые находились на территории, подчиненной готам (в основном в бывшей римской Дакии), были, вероятнее всего, римскими городами и населенными потомками бывших римских горожан. Готские же деревни являлись большими поселениями, площадь которых могла доходить до 35 га, и объединяли несколько фамильных единиц; их объединение и составляло общину. Хотя ремесло в готской среде и существовало, основным занятием готов были земледелие и животноводство, но их продуктов не хватало, и готы постоянно нуждались в поставке товаров из Империи. Часть этих товаров они приобретали в результате вторжений и грабежа, другие покупали в строго установленных пограничных пунктах. Ясным свидетельством торговли являются многочисленные находки римских монет, причем подавляющее большинство их относится к 320–360 гг., особенно к правлению Констанция И. Стремясь нанести готам как можно больший урон, римские власти порой ограничивали количество таких пунктов, и это ставило готов в довольно трудное положение.
В IV в. политической проблемой для готов стало христианство. На Никейском соборе в 325 г. присутствовал готский епископ Теофил, но его подопечными были либо готы, уже служившие в римской армии, либо те готы, которые жили на Дунае, но на римской его стороне, либо, в крайнем случае, крымские готы, которые могли заимствовать христианство у греков Тавриды. Основная масса готов оставалась языческой. Постепенно, однако, христианство стало проникать и к этой готской массе. Поскольку отношения готов с Империей оставались напряженными даже в мирное время, а христианство становится религией Римской империи, готская элита смотрела на эту религию как на еще одно оружие Империи. Еще до Атанариха происходило какое-то гонение, которое, по-видимому, не приняло большого масштаба из-за сравнительно небольшого количества христиан в готской среде. Ко времени Атанариха положение изменилось. В 341 г. в Готию для проповеди христианства был направлен Ульфила (Вульфила).
Ульфила родился в 310 или 311 г. на нижнем Дунае и прекрасно знал готский язык. Его предки был, видимо, среди тех пленных, которые были уведены готами во время одного из их вторжений в Малую Азию. Не исключено, что один из его родителей был готом. Во всяком случае, его имя — готское и означает «волчонок». В 341 г. Ульфила был рукоположен в епископы и направлен с миссией к вестготам. Христиане среди готов уже были, но Ульфила не ограничился руководством местной общиной, а стал широко проповедовать христианство. Для лучшей проповеди он перевел на готский язык Библию (правда, не всю, но большую часть) и создал готскую азбуку, взяв за основу греческие буквы. У готов, как и у других германцев, уже существовало руническое письмо. Ульфила его, несомненно, знал: недаром греческое слово «мистерион» (таинство) он перевел как runa, связывая его с неким видом сакральности. Однако эта сакральность была языческой, и христианский епископ счел невозможным использовать языческое письмо для передачи библейского текста. В огромной степени именно благодаря переводу Ульфилы и сохранился готский язык, когда он уже давно перестал быть разговорным. Первыми новыми адептами христианства стали пастухи. Христианство стало распространяться преимущественно в низах готского населения, в то время как его элита, настроенная особенно антиримски, решительно ему противилась. Ульфила был арианином, и именно в форме арианства христианство и распространялось в готской среде, а затем уже, вероятнее всего, от готов его переняли и многие другие германцы. Арианство с его идеей неравенства членов Троицы и подчиненного положения Сына по отношению к Отцу хорошо подходило германскому менталитету. В период деятельности Ульфилы императором был ярый арианин Констанций 11, и это делало проповедь Ульфилы, с одной стороны, более действенной, ибо он явно пользовался поддержкой Империи, а с другой, чрезвычайно подозрительной в глазах вестготской знати, тем более что христианами становились готские «низы». Это явно и стало причиной первого гонения, в ходе которого сам Ульфила вместе со всей своей общиной бежал в Империю. Он поселился недалеко от имперской границы и продолжал оттуда вести христианскую пропаганду. Как бы ни старались правящие круги готского общества уничтожить христианство среди своих соплеменников, оно продолжало распространяться. Результатом стало второе, еще более масштабное, гонение, которое произошло после поражения вестготов в войне с Валентом. Оно было развернуто Атанарихом и продолжалось не менее трех лет. Вероятно, жертвами именно этого гонения стали епископ Савва и канонизированные позже Инна. Пинна и Римма. «Верхи» готского общества видели в христианстве угрозу и их политической гегемонии, и этнической идентичности. Ирония судьбы заключается в том, что позже, когда арианское христианство станет религией большинства германцев, живших на римской почве, оно будет восприниматься как «готская вера» в противоположность католической «римской вере» и служить таким же средством сохранения этнической идентичности, как язычество во времена Атанариха.
В это время на исторической сцене снова появляются остготы. Во главе их стоит праправнук Остроготы Эрманарих[198]. Способ его прихода к власти неизвестен. Предание утверждает, что он наследовал королевскую власть (in regno successit), но это не означает, что он наследовал своему отцу Агиульфу. Там же Эрманарих называется «знатнейшим из Амалов» (nobilissimus Amalorum). Следовательно, он оказывается знатнее своих предков. Не означает ли это, что он после долгого перерыва после смерти Остроготы вернул королевское достоинство в род Амалов?[199]Время его прихода к власти определяется смертью у вестготов Гебериха; следовательно, Эрманарих стал остготским королем приблизительно в конце 30-х — начале 40-х гг. IV в. По преданию, он умер в возрасте 110 лет. Произошло это в 375 г. Если принять это сообщение (в принципе, оно вполне может быть историческим), то Эрманарих родился в 265 г. или около этого. Следовательно, королем он стал в довольно продвинутом возрасте, и за его плечами вполне могли быть деяния, приведшие, в конце концов, к провозглашению его королем. Традиция прославляет рассудительность (или опытность — prudentia) и доблесть (virtus) Эрманариха. Эти качества, как считали готы, и помогли ему создать обширную державу.
Упорядочить в хронологическом порядке походы и войны Эрманариха довольно трудно. Возможно, сначала его целью было подчинение племен, живших к северо-востоку от готов вплоть до Урала, а затем уже он обрушился на герулов (или эрулов), живших в районе Меотиды (Азовского моря). Потом пришла очередь росомонов, венетов и эстов. В результате всех этих войн создается обширная держава, охватывающая практически всю Восточную Европу[200]. Едва ли речь идет о централизованном государстве, как и навязывании всем столь многочисленным и, главное, очень разнородным племенам единого законодательства. Целями Эрманариха являлись, вероятно, дань, в том числе мехами, может быть, военная помощь в случае необходимости (но в решающий момент ее так и не было) и контроль над торговыми путями, прежде всего путями янтаря, мехов и золота. Подчиненные племена явно сохраняли свою этническую идентичность и социальную структуру и даже своих правителей, которые, однако, должны были предоставлять заложников.
Такой заложницей стала видная представительница (возможно, королева) племени росомонов Сунильда. Когда ее муж изменил Эрманариху, тот без колебаний жестоко казнил Сунильду. В то же время предотвратить уход из-под его власти вестготов король предотвратить не смог. Вестготы по каким-то своим причинам отделились от сообщества готов, и Эрманарих не предпринял никаких мер для их нового подчинения. Ясно, что никаких заложников вестготы остготскому королю не давали. По-видимому, для всех готов Эрманарих являлся легитимным традиционным королем, который не мог принять жесткие меры против соплеменников, в то время как для подчиненных народов он был властителем, подчинившим их силой и поэтому имевшим право и возможность жестко поддерживать свою власть.
Несмотря на внешний блеск, держава Эрманариха оказалась весьма хрупкой. Она не выдержала удара гуннов. В середине 70-х гг. IV в. гунны оказались у границ этой державы. В 375 г. они, к тому времени разгромившие и подчинившие аланов, напали на остготов. Готы потерпели полное поражение. Рассказывают, что сам Эрманарих был к тому времени ранен братьями казненной им Сунильды и потому был не в состоянии организовать достойное сопротивление. В страхе перед гуннами Эрманарих покончил с собой. Остготы избрали королем Витимира[201], который пытался сопротивляться гуннам. Ему даже удалось, применив вульгарный подкуп, переманить на свою сторону какую-то часть гуннов, с помощью которых он и вступил в бой с аланами, выступавшими в авангарде гуннского вторжения. Однако он потерпел поражение и погиб. Королем вместо него стал его малолетний сын, опекунами которого и фактическими правителями были Алатей и Сафрак. Вероятнее всего, Витимир и его сын не относились к Амалам[202]. Наиболее вероятным представляется такой ход событий. После самоубийства Эрманариха остготы избрали королем его внучатого племянника Винитария, который отказался воевать с гуннами и признал их власть, за что сохранил все знаки королевского достоинства и власть над своим народом. Однако другая часть остготов отказалась подчиняться гуннам, а поскольку Амалы возглавили ту, явно большую, часть, которая признала гуннскую власть, то они поставили во главе представителя другого рода. Возможно, уже тогда наряду с королем значительную роль стали играть военные вожди (duces) Алатей и Сафрак. Недаром ко времени их выдвижения в качестве регентов они были известны своим мужеством. Проявить его они могли только в предыдущее время, может быть, в борьбе с гуннами. Сафрак, скорее всего, был не готом, а аланом. Видимо, часть аланов во главе со своим предводителем примкнула к борющимся остготам (или была нанята ими), и Сафрак, как и Алатей, проявивший свои военные качества, занял в окружении Витимира важное место, позволившее ему быть наравне с готом Алатеем. Может быть, их взаимная конкуренция или какие-либо другие причины заставили их не становиться самим королями, а, выдвинув на первый план малолетнего сына павшего Витимира, фактически править этой частью остготов. К ним присоединилась даже какая-то часть гуннов. Именно они решили вслед за вестготами перейти Дунай, активно помочь вестготам в битве при Адрианополе, а затем двинуться на запад и после грабительской войны получить от императора Грациана земли для поселения в Паннонии. Какова их дальнейшая судьба и судьба малолетнего короля, неизвестно; ни римских, ни готских авторов (последние — поклонники Амалов) эти люди больше не интересовали.
Вестготы, возглавляемые Атанарихом, тоже попытались сопротивляться, но также были разбиты. После этого Атанарих ушел в горы, где надеялся отсидеться и подготовиться к новому раунду борьбы с гуннами. Однако против него выступили duces Фритигерн и Алавив. Они отказались подчиняться «судье»[203] и, встав во главе большей части вестготов, двинулись к Дунаю, а затем попросили у императора Валента разрешения поселиться на римской стороне реки. Чтобы придать больший вес своей просьбе, Фритигерн пообещал взаимен этого позволения принять христианство. Содействие в этой просьбе им оказал Ульфила. Позволение было получено, и в 376 г. огромная масса вестготов перешла Дунай. Это было первый раз в римской истории, когда целый народ поселялся на территории Римской империи не по воле победившего его императора, а по собственной просьбе. Позже и Атанарих, изгнанный своими вельможами, больше ему не доверявшими, несмотря на свою клятву никогда не вступать на римскую землю, был вынужден просить сменившего Валента Феодосия тоже принять его и оставшийся с ним отряд, который, видимо, являлся его дружиной. Кроме личных приверженцев у бывшего всевластного «судьи» никого более не осталось.
События 375–376 гг. имели большое историческое значение. Именно они считаются несколько условной датой начала Великого переселения народов, которое, в конце концов, стало одной из важнейших причин гибели Западной Римской империи. Не меньшее значение они имели и непосредственно для готов. В результате этих событий «сообщество готов» (societas Gothorum) окончательно распалось. Обе ветви готов еще долго чувствовали свою родственность и принадлежность к некогда обширному объединению. Они могли, в частности, вступать в брак друг с другом. Но все же история остготов и вестготов будет отныне проходить различно. Иными будут и конкретные пути социально-политической эволюции остготского и вестготского обществ. Только на какое-то время в совершенно иных условиях возникнет временное объединение готов под фактической властью остготского короля Теодориха, хотя и тогда официально сохранятся два отдельных королевства — Остготское и Вестготское. После смерти Теодориха это фактическое единство снова распадется, но об этом пойдет речь ниже.
VI. ВЕСТГОТЫ. ОТ ДУНАЯ ДО ГАРУМНЫ
В 376 г. огромная масса вестготов, возглавляемая Фритигерном и Алавивом, перешла Дунай и начала расселяться во Фракии. Само себе переселение на римскую территорию значительного количества варваров не было новым в истории Римской империи. Со времени первого императора Августа такие случаи зафиксированы не менее сорока раз. Однако до этого каждый раз это переселение навязывалось побежденным в интересах Империи. Теперь варвары сами просили позволения поселиться на имперской земле. Возможно, что между Фритигерном и Валентом существовала какая-то договоренность, определявшая положение его и, может быть, вестготов, но в целом никакого официального договора заключено не было. Поэтому переселившиеся на имперскую территорию вестготы не являлись федератами, а воспринимались константинопольским правительством и местными командирами и чиновниками как dediticii — сдавшиеся, подданные. Это были все же не обычные «сдавшиеся», т. е. совершенно бесправные поселенцы. Они получили некоторые права и гарантии. Отсутствие четко оформленного договора создавало, конечно, некоторую неопределенность в отношениях между Империей и вестготами. Однако, несмотря на это, договоренность казалась выгодной обеим сторонам. Империя могла широко использовать вестготов для набора среди них войск, что было чрезвычайно важно, ибо это не только усиливало римскую армию, но и уменьшало необходимость набора солдат среди остального населения[204]. К тому же Валент в это время планировал начать новую войну с персами, и вестготское войско было очень кстати. Император, недавно одержавший победу над готами, был уверен в их подчинении. Вестготы получали новую землю для поселения, а подчинение императору предохраняло их от гуннской опасности. К тому же вестготам было обещано на первое время, пока они не встанут на ноги, полноценное снабжение. Однако реализация этой договоренности оказалась совершенно другой.
Переселение практически целого народа создало необыкновенные трудности, тем более что количество переселенцев первоначально было явно недооценено. Но местные власти не проявили ни административных способностей, ни желания справиться с этими трудностями. Восточные римляне того времени рассматривали готов вообще как рабов, и римские чиновники не считали необходимым стесняться в обращении с ними. Более того, они использовали возникшие у вестготов трудности для собственного обогащения. Коррупция уже настолько проникла в государственный механизм Империи, что ни чиновники, ни военные командиры вовсе не принимали во внимание государственные интересы и не пытались предусмотреть возможные последствия своих действий. Они не только не организовали снабжение вестготов необходимыми продуктами, но и стали продавать эти продукты по сильно завышенным ценам. Оказавшиеся в безвыходном положении вестготы были вынуждены соглашаться на все условия, не только отдавая деньги и имущество, включая рабов, но даже и продавая в рабство собственных детей. Готские предводители пытались как-то договориться с властями, но сами оказались почти заложниками. В результате уже в 377 г. вестготы восстали. Попытка комита Фракии Лупицина подавить это восстание не увенчалась успехом. К восставшим вестготам присоединились рабы, часть, по крайней мере, которых была, видимо, германцами, горнорабочие и другие люди, увидевшие в готском восстании возможность не только выступить против угнетения, но и пограбить богатые виллы этого региона. Находившиеся на римской службе готские отряды под командованием Суериды и Колия тоже перешли на сторону восставших. Валент, находившийся в это время в Сирии, где он готовился к очередной кампании против персов, сначала не обратил особого внимания на события во Фракии. Однако поражение местных войск заставило его действовать более энергично. Он покинул Сирию и сам двинулся в Европу. Посланный вперед авангард потерпел поражение, и Валент сам во главе армии принял участие в войне. Он запросил помощи у своего племянника, западного императора Грациана, но вопреки совету опытных командиров решил вступить в бой, не дожидаясь западной помощи. Со своей стороны, Фритигерн и Алавив обратились за поддержкой к Алатею и Сафраку, которые, не дождавшись официального разрешения императора, уже переправились на римскую сторону. После некоторых колебаний те согласились помочь своим соплеменникам. Вместе с ними к вестготам присоединились какие-то отряды аланов и гуннов. 9 августа 378 г. около Адрианополя произошла ожесточенная битва, в ходе которой римляне потерпели сокрушительное поражение. Был убит и сам Валент. Захватить ни Адрианополь, ни Константинополь вестготы не смогли, но сельская местность стала ареной их постоянных грабежей и разорений.
Поражение римлян было очень тяжелым. Дело было даже не в самом поражении, а, скорее, в гибели императора. А варвары уже не собирались с награбленным добром и пленниками уходить. Им вообще-то и уходить было некуда. Поэтому, чувствуя себя победителями, они стали захватывать земли для поселения. Отныне в глазах не только вестготов, но и других варваров Римская империя становится лишь богатой территорией, которая может стать местом их нового расселения. Это радикально меняет принципы взаимоотношений римского и варварского миров.
Первыми новой ситуацией решили воспользоваться сарматы, которые тоже вторглись на римскую территорию. Поскольку восточной армии после адрианопольской катастрофы фактически уже не существовало, Грациан направил на Балканы новую армию во главе с Феодосием. Феодосий разбил сарматов и тем самым не дал им соединиться с готами. После этого, понимая, что сам он в сложившейся ситуации не может эффективно управлять огромным государством, находившимся в состоянии огромной опасности. Грациан назначил Феодосия восточным августом[205]. Феодосий набрал новую армию. Одновременно против готов стала действовать и армия, посланная Грацианом. Эта политика дала некоторые успехи. Готское войско в это время разделилось. Часть готов, среди которых были и остготы, под руководством Алатея и Сафрака грабила Паннонию, а другая, руководимая Фритигерном, разоряла Македонию и Грецию. Кроме них действовали и отдельные отряды. В борьбе с этими отрядами войска Феодосия одерживали победы. Впечатляющей была победа, одержанная под командованием Модареса. Это был гот, принадлежавший к знатному (говорили, что королевскому) роду, который перешел на римскую службу. Наряду с военными действиями Феодосий применил и дипломатию. Первые успехи предоставили ему пространство для различных дипломатических маневров. Большим дипломатическим успехом Феодосия стало прибытие в Константинополь тех вестготов, которых возглавлял Атанарих. Теперь и они были вынуждены просить римского императора принять их на имперской территории. Феодосий стопроцентно использовал предоставившуюся возможность. Атанарих был с почетом принят в столице и при дворе и осыпан дарами. Все мужчины-вестготы, пришедшие с ним, были приняты на императорскую службу. Правда, сам Атанарих умер всего лишь через несколько дней после торжественного приема[206], но его воины остались на службе Феодосия. Эго не только значительно усилило его армию, но и показало еще враждебным готам возможности соглашения с императором. И это явно подействовало. К тому же среди варваров началась какая-то эпидемия, так что силы их были ослаблены, и они охотнее пошли на переговоры с римлянами.
3 октября 382 г. действовавший по поручению Феодосия магистр воинов Фракии Флавий Сатурнин заключил с готами договор. По условиям этого договора готам была представлена территория для поселения на правобережье нижнего Дуная. Они получали не только землю, но и аннону, а за это их боеспособные мужчины должны были служить римскому императору. Служить они должны были, однако, под командованием не римских офицеров, а своих вождей, и не по римским правилам, а по собственным обычаям. Поселившиеся на имперской территории готы (точнее — вестготы) управлялись собственными правителями в соответствии с собственными установлениями. Фактически на этой территории создавалось автономное готское государство с совершенно иными принципами управления, чем в Римской империи. Оно было связано с Империей определенным договором (foedus) с взаимными обязательствами. Вестготы становились формальными федератами Империи[207]. По форме это было лишь возобновлением прежнего договора, заключенного еще Константином, но на деле этот договор стал новым этапом в развитии договорных отношений между римлянами и варварами и в значительной степени прообразом будущих подобных соглашений. Хотя императорская пропаганды представила его как великую победу, на деле заключение такого договора явилось поражением Рима, ибо римской власти пришлось принять все условия вестготов, которые и не собирались захватывать всю территорию Империи, но требовали себе лишь определенную ее часть. Феодосий, со своей стороны, следуя своей политике обороны всех имперских границ, поселял в этом районе готов и надеялся создать из них мощный заслон, который бы оградил Империю от становящейся все более грозной гуннской опасности. По существу, с этого договора начинается история варварских королевств на территории Римской империи.
После этих событий Фритигерн и Алавив исчезают из исторических источников. Поэтому сколь долго они еще стояли во главе вестготов и стояли ли вообще, неизвестно. Но приблизительно в 390 или 391 г. у вестготов появляется новый лидер — Аларих из рода Балтов[208]. Иордан говорит, что вестготы сами поставили его руководить ими в качестве короля (ordinate super se rege), а несколько ниже, что он был поставлен (creatus) королем. Эти указания довольно неопределенные, но они все же позволяют говорить о значительной роли самих вестготов в возвышении Алариха. Можно почти уверенно говорить об избрании Алариха на народном или войсковом (что в принципе одно и то же) собрании. Играли ли при этом какую-либо роль его происхождение и, следовательно, связь с Атанарихом, неизвестно. Но некоторые цифры заставляют задуматься. Аларих родился между 365 и 370 гг. Следовательно, в момент избрания ему было всего от 25 до 30 лет, что, разумеется, слишком мало для племенного вождя. В момент битвы при Адрианополе Алариху было не больше, а может быть, и меньше 13 лет, а ко времени заключения договора с Феодосием — от 12 до 17 лет. Так что он едва ли мог принимать участие в войнах вестготов с римлянами и в их грабительских походах по Балканскому полуострову, а если и принимал участие на последнем этапе, то едва ли играл в них значительную роль. Поэтому единственным основанием избрания Алариха могло быть все же именно происхождение из рода Балтов. Можно предположить, что после обоснования вестготов во Фракии и после торжественного приема Феодосием Атанариха и принятия его воинов на службу Империи значимость у вестготов рода Балтов резко увеличилась. Какова была при этом судьба Фритигерна, являвшегося решительным противником Атанариха, мы не знаем[209]. Ясно только, что в 390 или 391 г. он уже во главе вестготов не стоял.
Хотя иногда Алариха называют королем уже для этого времени, в момент прихода к власти он королевского достоинства явно не имел. Авторы, лучше знающие реальное положение в это время и в этом регионе, называют его филархом (главой племени) или гегемоном (руководителем, вождем), т. е. в латинской терминологии — дуксом (dux), а в готской — drauhtins. Тем не менее его власть была уже большей, чем у Фритигерна. Тогда все основные решения принимали готские «оптиматы», а Фритигерн вместе с Алавивом лишь выполнял эти решения и командовал в бою. Аларих же, хотя и советовался со своими приближенными, решения принимал самостоятельно. Став во главе вестготов, Аларих фактически разорвал договор с Феодосием. Может быть, он считал, что этот договор связывал только Фритигерна, а он сам был свободен от договорных обязательств. У него могли быть и другие соображения. Несколько раньше, в 388 г., армия Феодосия воевала с войсками узурпатора Максима, и в этой армии, вероятнее всего, находился и вестготский контингент. Если это так, то в том году вестготы еще оставались верными договору 382 г. Возможно, между 388 и 390 (или 391) г. Фритигерн и сошел со сцены, а Аларих занял совершенно иную позицию. Однако его действия против имперских войск оказались неудачными, и он пошел на возобновление договора, и вестготы снова признали себя федератами Империи. В 394 г. они во главе с Аларихом приняли активное участие в войне Феодосия против его нового западного противника — Евгения и его полководца Арбогаста. В решающем сражении на реке Фригид (Холодная река) вестготы составляли авангард армии Феодосия. Император намеренно выдвинул их в авангард битвы, дабы именно они понесли самые тяжелые потери и поэтому в случае победы в будущем не представляли серьезной опасности. Этот план полностью удался. Готы в этом бою потеряли не менее половины своих сил и фактически потерпели поражение. В возобновившейся на следующий день битве они, как кажется, уже не участвовали.
Битва на Холодной реке закончилась победой Феодосия, и после этой победы император отправил вестготов Алариха назад во Фракию. Потеряв большую часть своих товарищей, не получив, как они считали, заслуженного вознаграждения, озлобленные на римлян, готы на своем пути грабили местное население, как бы компенсируя неполученные награды. Вскоре после их возвращения умер Феодосий, и его преемником на Востоке стал его сын Аркадий, за спиной которого фактическим правителем являлся Руфин, занимавший пост префекта претория для Востока. Руфин и опекун западного императора Гонория ненавидели друг друга и постоянно соперничали. Вестготы решили использовать сложившееся положение. Аларих после совета с другими лидерами решил открыто выступить против Империи. Вестготы стремились получить новое продовольствие и, что было для них еще важнее, более подходящую землю для окончательного поселения, поскольку занятые ими земли были уже истощены и их не удовлетворяли. К тому же старые враги, гунны, уже столь усилились, что начали переправляться через Дунай, и вестготы не могли не воспринять это как непосредственную угрозу. Соперничество между Руфином и Стилихоном, которое ни для кого не было тайной, давало, как им казалось, благоприятную возможность добиться своих целей. Как и 17 лет назад, вестготы, опустошив Фракию, двинулись к Константинополю. Город они, конечно, взять не смогли, но в его окрестностях разорили многие владения константинопольской знати, в том числе богатейшие имения самого Руфина. Не имея достаточно сил противодействовать вестготам, Руфин пошел на переговоры с ними. Переодевшись в готскую одежду, он сам явился в их лагерь. Добиться, однако, он смог только одного: вестготы отошли от Константинополя и двинулись на юг. Они обрушились на Грецию, разрушив Коринф, Аргос и многие другие города, а также афинскую гавань Пирей[210]. Разрушения были столь сильными, что их последствия ощущались и через несколько десятков лет. Стилихон со своей армией явился на Балканы, чтобы начать войну с варварами. Он соединился с восточной армией под командованием Тайны. Тайна тоже был готом, но уже давно служил в римской армии. Теперь он, командуя восточной армией, соединился с войсками Стилихона. Это объединение всех римских сил давало такой огромный перевес над войсками вестготов, что едва ли кто-либо сомневался в их победе. Однако победа Стилихона не входила в планы Руфина. Он уговорил Аркадия приказать Стилихону уйти назад в Италию. Так как жена и ребенок Стилихона находились в Константинополе (они там жили со времени похорон Феодосия), то тот был вынужден подчиниться. Армия Тайны, оставшись одна, тоже покинула театр военных действий и направилась в Константинополь. Там был совершен переворот, в ходе которого Руфин был убит, а первое место возле императора занял евнух Евтропий.
Если Стилихон надеялся, что смерть Руфина даст ему возможность завладеть фактической властью и на Востоке, то он ошибся. Евтропий был не менее честолюбивым и властолюбивым, чем Руфин. Поняв это, Стилихон начал действовать. Он укрепил свою армию, набрав, в частности, новых германских воинов, и с этой армией весной 397 г. высадился в Греции, вступив в войну с вестготами. Теперь семья Стилихона находилась в Италии, и он мог действовать без особой оглядки на восточное правительство. Несколько сражений были нерешительными, но в целом перевес оказался на стороне римлян. В какой-то момент готы были окружены и могли если не быть уничтожены, то понести очень большой урон. Однако Стилихон неожиданно пошел на соглашение с Аларихом. Вестготы согласились покинуть Грецию и уйти в Эпир. Причиной столь неожиданного решения Стилихона мог стать начавшийся в это время мятеж в Африке. Но, пожалуй, еще важнее было то, что в планы Стилихона, как и его восточных соперников, не входили ни разгром, ни тем более уничтожение вестготов. В их интересах было сохранение сил Алариха, которые в случае необходимости можно было использовать в борьбе друг с другом. Чтобы не дать объединиться Алариху и Силихону, константинопольское правительство официально назначило Алариха командующим войсками в Иллирике (magister militum in Illiricum). Это назначение давало Алариху легальное право властвовать над частью римской территории и возвышало в глазах соплеменников. После этого вестготы поселились в Иллирике.
Однако долго вестготы в Иллирике не остались. Их безраздельное хозяйничанье в Иллирике привело к опустошению этой страны, и они решили найти новое место для поселения. Возможно, что их целью была Галлия, тогда еще не затронутая варварскими вторжениями. Осенью 401 г. Аларих вторгся непосредственно в Италию. Готы прошли через Альпы и направились к западу. Взяв несколько городов, жители которых часто сами открывали ворота, вестготы двинулись к Медиолану. Взять город Аларих не смог и начал осаду. Стилихон сам возглавил армию, двинувшуюся против Алариха, и заставил того в феврале 402 г. снять осаду с Медиолана. А вскоре в жестокой битве армия Стилихона одержала победу, и Аларих через некоторое время был вынужден уйти из Италии. Аларих попытался пройти на север в Рецию, чтобы таким кружным путем достичь все же своей цели. Но Стилихон перерезал ему этот путь, и Аларих, потерпев новые поражения, был вынужден уйти на восток. Стилихон, понимая, что сил для полной победы у него недостаточно, предпочел пойти на переговоры и дал возможность вестготам не только более или менее спокойно покинуть Италию, но и поселиться в Далмации и частично Паннонии. Летом или осенью 402 г. под страхом возможного нового готского нашествия правительство и двор западной части Империи переехали из Медиолана в более защищенную Равенну, которая и стала столицей Западной Римской империи. В 405 г. группа различных варварских племен под командованием гота Радагайса вторглась в альпийские провинции Норик и Рецию, а оттуда ворвалась и в Италию. По некоторым данным, под командованием Радагайса собралось от 200 до 400 тысяч человек. Армия Радагайса, почти не встречая сопротивления, опустошала Северную Италию. Затем он осадил Флоренцию, которая уже была готова сдаться. Однако ей на помощь пришла армия Стилихона. В ожесточенном сражении Радагайс был разбит, отступил в горы, там окружен и сдался.
В 408 г. в результате внутренней борьбы в правящей элите Западной Римской империи был казнен Стилихон. Аларих, испугавшись, как бы новое правительство не отказалось от условий его договора со Стилихоном, решил действовать. Он снова вторгся в Италию и на этот раз двинулся на Рим. Не встречая никакого сопротивления, он дошел до Города и осадил его. В Риме начался голод, к которому прибавилась эпидемия. Римский сенат, не получая никакой помощи от Равенны, пошел на переговоры с Аларихом. Тот сначала потребовал все золото, все серебро, что имелось в Риме, все практически имущество, а также освобождение всех рабов-германцев. Но затем Аларих согласился на более мягкие условия: 5 тысяч фунтов золота, 30 тысяч фунтов серебра, 4 тысячи шелковых туник и некоторые другие предметы. Кроме того, сенат должен был добиться у Гонория утверждения этого договора и официального назначения Алариха командующим римской армией, а его воинов — федератами с выплатой им жалованья[211]. Получив выкуп, Аларих отошел от Рима, но остался в Италии. А римляне направили в Равенну посольство с просьбой удовлетворить требования Алариха. В Равенне отказались это сделать. Тогда Аларих, задумав провести новую военную демонстрацию, призвал себе на помощь своего родственника Атаульфа, находившегося в Паннонии. В тот момент римляне сумели предотвратить соединение Алариха и Атаульфа, но позже Атаульф все же сумел соединиться с Аларихом.
Равенна повела двусмысленную игру, то ведя переговоры с Аларихом, то отказываясь от всяких уступок. Когда Алариху эта игра надоела, он снова двинулся на Рим и осадил его. На этот раз он призвал римлян избрать нового императора вместо Гонория. И римляне согласились. Сенат объявил о свержении Гонория и избрании на его место префекта Города Приска Аттала. Аттал, являвшийся до этого язычником, официально крестился, но не в католицизм, а в арианство, которое было верой вестготов. Высшие должности были официально разделены между римлянами и вестготами. Аларих официально возглавил армию Аттала. Консулом на 410 г. был назначен Тертулл (но вопреки обычаю не сам Аттал). Аттал и Аларих пытались силой свергнуть Гонория. Однако командовавший войсками в Африке Гераклиан прервал поставку продовольствия в Рим. Это вызвало страшный голод, приводивший часто к людоедству, что изменило настроения в Риме, и поддержка Аттала резко уменьшилась, в том числе и в сенате. Фактически правивший Востоком Антемий прислал помощь Гонорию. Эта помощь была не очень-то значительной, но сам факт соединения сил Запада и Востока против варваров и их марионетки имел большое политическое и психологическое значение. Все это изменило ситуацию в Италии. Аларих понял, что Аттала никогда не признают ни западный, ни восточный императоры, что если не исчезновение, то радикальное уменьшение поддержки Аттала в Риме грозит обратиться и против него самого, и он стал готскому королю ненужным и даже вредным. Весной или в начале лета 410 г. на собрании войск в торжественной обстановке Аттал был лишен пурпура, но Аларих все же решил его на всякий случай сберечь. Вместе с сыном Ампелием Аттал был укрыт в вестготском лагере. После этого Аларих вступил в переговоры с Гонорием. Однако решительно против Алариха выступил Сар. После убийства Стилихона он, сохраняя свою небольшую, но верную армию, укрылся в Пицене и некоторое время выжидал исхода событий. Сар тоже был готом, но в то же время непримиримым личным врагом Алариха и стремился любым путем не допустить его соглашения с законным императором. Поэтому он напал на лагерь Алариха и этим спровоцировал срыв переговоров. Не сумев добиться своих целей ни от Аттала, ни от Гонория, Аларих решил провести впечатляющую военную демонстрацию. Он двинулся снова на Рим и в августе подошел к нему. По одним данным, некая богатая дама Проба, испугавшись повторения голода и болезни, приказала своим рабам ночью открыт ворота вестготам. По другим сведениям, это сделали рабы-германцы, в свое время специально выданные Аларихом римлянам. Как бы то ни было, 24 августа 410 г. вестготы через Соляные ворота вошли в Рим и в течение трех дней планомерно грабили и сжигали Город. Будучи христианами, они пощадили церкви, в том числе базилики Св. Петра и Павла. Аларих якобы заявил, что готы воюют с римлянами, а не с апостолами. Тем не менее значительная часть Города, включая здание сената и многие дворцы, была уничтожена.
Захват Рима вестготами произвел оглушающее впечатление на римлян. Но огромное значение этот захват имел и для вестготов. Вестготы, захватившие столицу мира, еще более уверились в своих силах. Резко вырос авторитет самого Алариха. Теперь соплеменники могли простить ему все прошлые неудачи. Они сплотились вокруг Алариха. Отныне он был уже не предводителем войска, находящегося на службе императора, как его личный враг Сар, а правителем победившего народа. Эпизод с золотой чашей, которую Аларих приказал вернуть монахине, показывает, что его власть уже не встречала никакого противодействия. Захват Рима, таким образом, оказывается чрезвычайно важным этапом в сплочении вестготов и превращении власти племенного и военного вождя в подлинную монархию.
Вестготы не задержались в Риме. Они не любили городов и не знали, что там делать, кроме, разумеется, грабежа. Поскольку Италия была уже основательно разорена, Аларих задумал поселить свой народ в Африке, самой богатой стране Западной империи. Поэтому вестготы двинулись на юг, по пути разоряя то, что еще оставалось не разграбленным. С собой они везли награбленные богатства и вели множество пленных, среди которых были неудачливый император Аттал Приск и сводная сестра Гонория Галла Плацидия[212]. Но планам Алариха было не суждено сбыться. Попытка переправиться на Сицилию кончилась катастрофой, и потрясенный этой неудачей Аларих вскоре умер. Он был торжественно похоронен со всеми своими сокровищами на дне реки Бузент, причем все пленники, копавшие эту могилу, были уничтожены. Хотя вестготы были уже христианами (арианами), но в захоронении Алариха ясно проступают языческие черты. Погребение вместе с сокровищами было несомненным языческим обрядом, а убийство римских пленников могло рассматриваться и как жертва духу великого человека. Преемником Алариха был избран его шурин Атаульф, к тому времени все же соединившийся с ним. Атаульф изменил планы Алариха. Он повернул на север, вновь взял уже совсем не сопротивляющийся Рим и основательно его пограбил, а затем двинулся к Альпам, чтобы поселиться в Галлии. Неизвестно, как реагировали Гонорий и Констанций на это движение Атаульфа. Возможно, они рассчитывали использовать вестготов в борьбе против своих врагов в Галлии.
В 412 г. вестготы появились в Галлии. Там в это время при активной поддержке бургундов и аланов был провозглашен императором Иовин. Атаульф решил тоже поддержать Иовина, надеясь с его помощью получить разрешение вестготам поселиться в Галлии. Но бургунды и аланы не хотели делить с готами влияние на «своего» императора. Этим воспользовался префект претория для Галлии Дардан, который уговорил Атаульфа выступить против Иовина. Иовин и его союзники были разбиты, а сам он казнен. Атаульф активно участвовал в этой борьбе. Когда на помощь Иовину пришел Сар. то Атаульф разгромил его и заставил остатки его войск уйти из Галлии. Атаульф вправе был надеяться, что его услуги по восстановлению власти законного императора будут вознаграждены. Этой наградой стало бы предоставление вестготам для поселения земли в Галлии. Однако равеннское правительство, в котором ведущую роль играл Констанций, вело двусмысленную политику. К тому же очень скоро вестготы встали перед проблемой нехватки продовольствия. Атаульф предложил вернуть Гонорию его сестру Галлу Плацидию в обмен на поставку хлеба из Африки. Но в Африке вспыхнул очередной мятеж, и о поставке оттуда хлеба не могло быть и речи. Переговоры, естественно, были прерваны. Тогда Атаульф перешел к более решительным действиям. Он двинулся на Массалию, чтобы, овладев этим чрезвычайно важным средиземноморским портом, установить прямые связи с Африкой. Захватить Массалию готы не смогли, но они завоевали и разграбили некоторые другие города Южной Галлии, в том числе Нарбонн.
Вестготы превращались в постоянный фактор, действующий в Галлии. До сих пор они жили в основном грабежами, но это только разоряло страну, не давая варварам никаких долговременных перспектив. Необходимо было каким-то образом урегулировать отношения с римским населением и получить легитимное право остаться в этой стране. Сначала Атаульф пошел по пути Алариха. Он снова объявил находившегося в вестготском лагере Аттала императором[213], а тот «назначил» его командующим армией. Как и ранее Алариху в Иллирике, так теперь Атаульфу в Галлии этот пост давал возможность практически самовластно распоряжаться захваченными вестготами землями. Однако расчеты Атаульфа не оправдались. Аттала воспринимали лишь как марионетку варваров, а его провозглашение императором было воспринято в Равенне как открытый мятеж. Это никак не приближало Атаульфа к желанной цели. И он решил изменить тактику. Аттал был снова лишен пурпура, хотя остался среди вестготов. Сам же Атаульф в недавно захваченном Нарбонне 1 января 414 г. вступил в брак с Галлой Плацидией и торжественно отпраздновал свадьбу. Торжество состоялось в доме знатного римлянина Ингения. Оба новобрачных были одеты в римские одежды. Эпиталаму в честь новобрачных пропел бывший дважды императором Аттал. Все эти было неслучайно. Атаульф стремился представить себя не варваром, грозящим уничтожением Риму и римлянам, а спасителем Рима. В своей речи на свадьбе он заявил, что его цель не уничтожить Римскую империю, а восстановить и увеличить могущество римского народа с помощью готов, чтобы остаться в памяти потомков создателем римского возрождения. Он даже сравнивал себя с Августом, став основателем новой империи. И эта империя должна основываться на римских законах, но власть в ней принадлежать готам, ибо их силами империя будет восстановлена. По существу, это — программа готско-римского политикоюридического синтеза. При этом, конечно, вставал вопрос о роли самого Атаульфа. Поскольку вестготы уже дважды захватывали «главу мира» (caput mundi) Рим, то Атаульф мог законно, с его точки зрения, считать себя наследником римских императоров. Правда, в Равенне сидел на троне Гонорий, а в Константинополе — его племянник Феодосий II, но после его свадьбы с Галлой Плацидией они становились его родственниками, так что в мысли варварского вождя вполне мог возникнуть план своеобразного властного триумвирата при решающей роли его самого. В таком случае перед местным галло-римским населением Атаульф представал бы как законный правитель, равный по меньше мере правящим императорам. Но Атаульф, возможно, глядел еще дальше. Когда Плацидия родила сына, тот был красноречиво назван Феодосием. Внук Феодосия I, двоюродный брат Феодосия II и племянник Гонория, этот Феодосий вполне мог рассматриваться как будущий объединитель Римской империи.
Это событие не могло не изменить и положение Атаульфа среди вестготов. Был ли Аларих королем, сказать трудно. Королем его называли западные авторы, которые не очень хорошо знали ситуацию на Востоке, а также более поздние писатели, которые проводили прямую линию вестготских королей, начиная с Атанариха. Но Атанарих королем не был, и это ставит под вопрос и непрерывность королевского наследования, начиная от него. Восточные авторы, как уже говорилось, называли Алариха филархом или гегемоном, но не королем. Но когда Аларих взял Рим, он, видимо, уже был королем, риксом, а не просто племенным вождем. Как и когда произошло это изменение, сказать трудно[214]. Пышность и необычность похорон Алариха показывает его громадную власть и высочайший авторитет среди вестготов. Ему, правда, решительно отказывался подчиниться Сар, но тот, находясь на римской службе, соперником среди собственно вестготов не был. Атаульф, по-видимому тоже уже имел королевский титул, был риксом. Однако этот старый племенной титул, который, возможно, закреплялся теперь за Байтам и, как за Амалами у остготов, не делал еще Атаульфа подлинным монархом. Иное дело после свадьбы с Галлой Плацидией. Теперь он мог быть равным самому императору. Теперь, как и тот, он мог быть уже тиудансом. владыкой народа. Теперь он уже подлинный монарх. Это, конечно, не означает, что старые родоплеменные институты исчезли. Как показали более поздние события, даже народное, или войсковое, собрание еще сохранилось. Король может с ним и со своими вельможами советоваться, но повлиять на его решения они уже не могут. Отныне король распоряжается всеми делами вестготского общества. Видимо, с это времени можно говорить о подлинной вестготской монархии. Разумеется, это усиление королевской власти не ликвидировало противоречий и борьбы различных группировок среди вестготов. Но теперь эта борьба проходила в виде придворных интриг и государственных переворотов, жертвами которых могли становиться и сами короли. Первой жертвой новой политической ситуации, как мы увидим далее, стал сам Атаульф.
Свадьба с Галлой Плацидией укрепила положение Атаульфа в вестготском обществе и, может быть, примирила с ним какую-то часть местного римского населения. Однако ни Равенна, ни Константинополь его новое положение не признали. Более того, неприкрытые претензии Атаульфа на власть во всей Империи были восприняты как вызов законным властям римского государства. Эти претензии в первую очередь основывались на браке Атаульфа с Галлой Плацидией. Сама Плацидия, как кажется, Гонорию была неинтересна, но оставлять свою сводную сестру в руках варвара было позорно и политически опасно. Констанций же, который сам имел виды на Галлу Плацидию, воспринял этот брак как личное оскорбление, а вестготского короля как нежеланного соперника. Западному правительству к этому времени удалось справиться со многими трудностями, и Констанций сосредоточил свои усилия на борьбе с вестготами. Все же соотношение сил было таково, что добиться достижения всех целей было римлянам достаточно трудно. Поэтому программой-минимум для Констанция стало вытеснение вестготов из Галлии. Он фактически организовал блокаду вестготов и с моря, и с суши. Вестготы были отрезаны от всех возможных баз получения продовольствия. Атаульфу пришлось пойти на переговоры с Констанцием. Констанций потребовал от него покинуть Галлию. Единственным путем, каким вестготы могли оставить эту страну, был переход через Пиренеи в Испанию. Констанций явно рассчитывал не только на очищение Галлии от вестготов, но и на их столкновение с варварами, уже хозяйничавшими на Пиренейском полуострове. Атаульф хорошо понимал это, но выхода у него не было. Он решил «сделать хорошую мину при плохой игре» и заявил, что он желает служить Империи и воевать в Испании с варварами, чтобы восстановить там власть Империи. Вполне возможно, что он надеялся теперь уже на новой территории осуществить свой план слиянии готов и римлян под своей властью. Летом 415 г. вестготы после опустошительного прохода по южной части Галлии перешли Пиренеи и оказались в Испании.
В Испанию опять же перешла не только армия, но и весь народ. Атаульф надеялся обосноваться в Тарраконской Испании, единственной провинции Пиренейского полуострова, еще не занятой другими варварами. Своей резиденцией он избрал Барселону (Барцинон). Этот город был уже значительным экономическим центром, но в то же время не являлся провинциальной столицей. Поэтому там не было римской провинциальной администрации, и Атаульф мог чувствовать себя более свободно. Поскольку в Испанию вестготы пришли по приказу правительства, то никакого сопротивления со стороны испано-римлян они не встретили. В окрестностях Барцинона они поселились, по-видимому, в качестве hospites и, может быть, получили какую-то часть земли и рабов. В Барциноне вскоре умер младенец Феодосий. Это был тяжелый удар не только по отцовским чувствам Атаульфа,[215]но и по его политическим планам. Теперь выдвигать фигуру внука Феодосия было уже невозможно. С другой стороны, ярко выраженная проримская позиция Атаульфа вызвала недовольство в некоторых кругах вестготской знати. Судя по всему, возник заговор, организатором которого был, вероятно, брат Сара Сигерих. Когда Сар погиб, два десятка тысяч его воинов перешли к Атаульфу. Хотя они и признали его власть, старая вражда, видимо, не исчезла. Используя личный мотив ненависти к королю некоего Эвервульфа или Дубия[216], Сигерих подговорил его убить Атаульфа. что тот и сделал. Умирая, Атаульф завещал своему брату сохранить дружбу с римлянами и вернуть им Галлу Плацидию. Возможно, он видел в брате своего наследника. У него еще были и сыновья от первого брака, но, вероятно, старшинство в роде сыграло свою роль. Однако передать власть брату Атаульф не смог. «Старанием и силой» вопреки правилам наследования и законам (вероятнее всего, установившимся обычаям) Сигерих захватил власть. Перед нами совершенно неприкрытый государственный переворот.
Сигерих сразу же продемонстрировал, что власть перешла от Балтов к другой группе вестготов (может быть, бывших сподвижников Сара). Бежавшие под защиту барселонского епископа первая жена и дети Атаульфа были убиты. А вслед затем Сигерих организовал некую пародию на римский триумф, и в триумфальном шествии, как это было и у римлян, были проведены Галла Плацидия. снова ставшая из королевы рабыней, и другие все еще находившиеся в готских руках римские пленники. В ответ на это другая группа вестготской аристократии выступила против Сигериха. Тот был убит на восьмой день своей власти. Два последующих почти сразу друг за другом убийства королей создали, по-видимому, политический кризис в вестготской верхушке. В этих условиях на первое место выдвигается группировка, которая выступала и против Сигериха и группировавшихся вокруг него бывших воинов Сара, и против проримской группы сторонников Атаульфа. Королем был избран (electus) Валлия, который был известен своей враждебностью к римлянам. Принадлежал ли Валлия к роду Балтов, неизвестно. Возможно, что. несмотря на все усилия и успехи Алариха и Атаульфа, закрепить королевское достоинство за своим родом они все же не смогли.
Став королем, Валлия решил претворить в жизнь старый план Алариха и переправиться в Африку. Она еще не была затронута варварскими вторжениями и считалась, как об этом упоминалось, самой богатой страной Западной Римской империи. Но и Валлия потерпел неудачу. Переправиться в Африку вестготы не смогли. Посаженный на корабли авангард был уничтожен бурей в проливе, и Валлии пришлось вернуться. Оставшись в Испании, вестготы оказались враждебными и находившимся там варварам, и римлянам. К тому же давал себя знать голод. С другой стороны, Констанций вернулся к старой мысли об использовании вестготов в борьбе с уже находившимися на Пиренейском полуострове варварами. Он предложил Валлии договор, который тот принял. По его условиям, римляне поставляли вестготам 600 тысяч мер (модиев, или медимнов, как пишет греческий автор) хлеба, а за это вестготы должны были вернуть Галлу Плацидию и воевать с другими варварами от имени Рима. При этом речи о предоставлении вестготам земли для поселения не было. Валлия согласился на эти условия[217]. Галла Плацидия не только уже была не нужна готам, но и стала обузой и раздражающим фактором. Воевать с римлянами, имея рядом других варваров, Валлия не решался, а, наоборот, воевать от имени Рима вестготам было выгодно, поскольку они получали легальное право вести военные действия от имени императора. А в случае победы можно было поднять вопрос и о земле.
Действуя теперь от имени императора, вестготы разгромили вандалов-силингов и аланов. И побежденные силинги и аланы, и не вступавшие в сражения с вестготами свевы и вандалы-асдинги поспешили просить мира у Империи. Они его. как кажется, не получили, но вестготы в Испании стали лишними, может быть, даже подозрительными. Валлия заключил какое-то соглашение со свевским королем Гермерихом и выдал за него свою дочь[218]. Этот шаг вестготского короля создавал угрозу возникновения готско-свевского союза, перспективы которого были неясны, но в любом случае опасны для Империи[219]. Понимая это. Констанций в 418 г. приказал Валлии прервать военные действия, покинуть Испанию и вернуться в Галлию. За это вестготам были обещаны земли для поселения на юго-западе Галлии в провинции Аквитании Второй и некоторых смежных с ней civitates. Вестготские победы в Испании показали, что этот народ можно использовать и для других целей. Валлия, не имея сил для сопротивления, тем более после войн с вандалами и аланами, был вынужден согласиться. Он покидал Испанию явно против своей воли. Но в действительности вскоре оказалось, что это переселение в Галлию было вестготам весьма выгодно. Они, наконец, получили признанную императорской властью землю для окончательного поселения, причем в довольно богатой области в районе реки Гарумны (Гаронны). Долгий путь, начатый переправой через Дунай в 376 г., через 42 года завершился обоснованием на берегах Гарумны.
VII. ОСТГОТЫ ДО ПОХОДА В ИТАЛИЮ
После уничтожения державы Эрманариха большая часть остготов подчинилась гуннам. Другая часть присоединилась к вестготам и перешла вместе с ними на римскую сторону Дуная, приняв затем участие в их восстании и разгроме императорской армии у Адрианополя. Несколько позже эта коалиция распалась, и остготы, к которым присоединилась, как кажется, и некоторая часть аланов, под руководством Алатея и Сафрака (который, кажется, был не готом, а аланом) самостоятельно вела войну с римлянами, грабя Паннонию. Некоторые готы откочевали на запад. А когда гунны тоже двинулись в том же направлении, эти готы, к которым присоединились и некоторые другие народы, под руководством Радагайса попытались захватить земли в Италии, но были разбиты. Хотя большинство остготов вместе с гуннами вовлеклись в общее движение и покинули прежние места в Северном Причерноморье, там еще оставались жить некоторые остготы. Еще до гуннского нападения на территории Империи существовала группа, называемая малыми готами. Наконец, существовала еще какая-то часть готов, которая служила в римской армии и порой даже воевала с другими готами. Таким образом, можно говорить о распаде остготского массива на несколько частей. Против остготов, опустошавших Паннонию, двинулся западный император Грациан, в то время как с вестготами сражалась армия его восточного коллеги Феодосия. Грациан заключил с остготами договор, согласно которому они поселились в Паннонии. Став федератами Империи, эти остготы активно участвовали и в защите дунайской границы от других варваров, и в гражданских войнах в самой Римской империи.
Что касается тех остготов, которые подчинились гуннам, то они, как и другие народы, входившие в состав Гуннской державы, сохранили свою автономию и свою социально-политическую структуру. Во главе их по-прежнему находились короли, вероятнее всего, из рода Амалов, которые даже могли без всякого разрешения гуннского гегемона воевать с другими племенами, как подчиненными гуннам, так и находившимися вне их державы. Однако чрезмерное, с точки зрения гуннского владыки, усиление остготов привело к быстрому вмешательству и разгрому остготов. Правда, и при этом собственная королевская власть у остготов не была уничтожена; только передана она была другому представителю того же рода Гунимунду, сыну Эрмананриха, который тоже, как и его сын Торисмуд, действовал более или менее самостоятельно. Только после гибели Торисмуда. павшего в войне с гепидами, которые тоже, как и остготы, подчинялись гуннам, королевская власть у остготов была ликвидирована. В течение нескольких десятилетий (по преданию, сорок лет) у остготов королей не было. Как в это время управлялись остготы, неизвестно. Около 445 г. Аттила, ставший недавно единственным правителем гуннов, восстановил остготскую монархию, но разделил при этом власть между тремя братьями — Валамиром, который, по-видимому, был признан «старшим королем». Теодемиром и Видимиром. Все братья во главе своих войск приняли активное участие в походе Аттилы в Галлию и в битве на Каталаунских полях.
После поражения гуннов в Галлии и бесславного их ухода из Италии положение изменилось, а неожиданная смерть Аттилы привела очень скоро к распаду Гуннской державы. Выступление против сыновей Аттилы возглавил гепидский король Ардарих, и в результате кровавой битвы на реке Недао недавно столь мощная держава гуннов перестала существовать. В этом сражении остготы, как кажется, воевали на стороне гуннов[220]. Но их помощь гуннам не помогла, и те вместе со всеми своими союзниками потерпели страшное поражение. После этого остготы вновь стали самостоятельными[221], но положение их было довольно сложным.
Антигуннскую коалицию возглавили гепиды, и они на правах победителей заняли ту территорию, которую ранее населяли сами гунны. Отношения между гепидами и готами никогда не были хорошими, несмотря на относительную этническую близость (а может быть, именно поэтому). Даже когда оба народа находились под властью гуннов, они воевали между собой. Теперь, побежденные вместе со своими бывшими гегемонами, остготы были вынуждены искать новые места для своего поселения. Они обратились к императору Маркиану с просьбой поселиться на территории Империи в качестве федератов. Тот с этой просьбой согласился. Остготы поселились в северной части Паннонии. Это событие произошло, вероятнее всего, в 456–457 гг.[222] Они разделились на три части, и каждая часть заняла свою территорию. Во главе этих частей стояли те же три брата. К этому времени за родом Амалов уже явно закрепилось королевское достоинство. Не говоря о тех остготах, которые еще оставались в Северном Причерноморье, в том числе в Крыму, и вообще не принимали никакого участия в событиях, разворачивавшихся на Балканах, какая-то часть народа, отказавшись, по-видимому, признать власть трех братьев, повела отдельные переговоры с императором. Эти люди, во главе которых стоял то ли еще Триарий, то ли уже его сын Теодорих Страбон,[223] были приняты непосредственно на императорскую службу. Подчиненные Теодориху Страбону остготы заняли земли во Фракии.
Обе части остготов враждебно относились друг к другу. Константинопольское правительство, со своей стороны, пыталось играть на их противоречиях. Лев I, сменивший Маркиана, всячески поощрял Теодориха Страбона, в то же время решительно отказавшись от выплаты тех сумм, которые Маркиан обещал Валамиру и его братьям. Но на этот раз император просчитался. Паннонские остготы, возмущенные таким, как они считали, коварством императора, обрушились на римские провинции. Уничтожая все вокруг, они огнем и мечом прошли через весь Иллирик. прорвались в Эпир и дошли до Диррахия. Получив, вероятно, значительную добычу, готы вернулись на занимаемую ими территорию. Несмотря на прекращение этого по существу грабительского похода, угроза его повторения оказалась столь значительной, что константинопольское правительство было вынуждено пойти на переговоры с остготами. Остготы потребовали не только возобновления ежегодных «даров», правда, в довольно скромном размере — 300 фунтов золота в год, но и выплаты этих денег за пропущенное время. Императору не оставалось ничего другого, как согласиться на такие сравнительно легкие условия. В обмен остготы обязывались более на имперские земли не нападать, а в знак верности слову согласились отправить заложником в Константинополь сына Теодемира семилетнего Теодориха[224].
Под властью Аманов образовалось Паннонское королевство остготов. Власть в нем принадлежала всему королевскому семейству. При этом территория королевства была разделена таким образом, что каждый из трех братьев имел свой «удел». Такое территориальное разделение королевства не подрывало его единства, ибо младшие братья признавали высший суверенитет старшего Валамира, который занял это положение еще при гуннах. Однако в пределах своих «уделов» подчиненные короли действовали вполне самостоятельно. Так. Теодемир успешно воевал со свевами, когда те пытались через его территорию пройти в Далмацию, а заодно угнать скот, принадлежавший самим готам. В результате нанесенного готами поражения свевский король Хунимунд был вынужден стать «сыном по оружию» Теодемира. т. е. признать себя младшим партнером остготского короля. Правда, это не помешало Хунимунду выступить против остготов, когда он счел это полезным для себя.
Варварский племенной мир находился в состоянии постоянного брожения. Никакой интегрирующей силы, какую при всей ее рыхлости представляла Гуннская держава, более не существовало. Границы племенных и раннегосударственных образований не были четко обозначены, и каждое стремилось приобрести те или иные выгоды за счет соседей. Воевали за землю, за скот, за прочую добычу. С бывшими врагами заключались союзы, а друзья и союзники оказывались врагами. В одной из таких войн со свевами погиб Валамир, и его место «старшего» короля занял Теодемир.
Имперское правительство (в данном случае это было константинопольское правительство) активно использовало такую ситуацию, направляя одних варваров на других. В это время, по-видимому, именно Остготское королевство в Паннонии восточным римлянам казалось наиболее опасным. В результате действий восточноримской дипломатии возникла обширная антиготская коалиция, в которой приняли участие германские племена свевов[225], герулов, скиров и ругиев и иранское племя сарматов[226]. Одновременно император Лев I мобилизовал свою армию, которая в случае весьма ожидаемой победы варварской коалиции могла докончить разгром остготов. Однако в ожесточенном сражении на реке Болии остготы одержали решительную победу. После этого поражения антиготская коалиция распалась, а имперская армия, естественно, воздержалась от нападения на победителей. Более того, Лев решил изменить свою тактику. Вместо конфронтации, хотя и косвенной, он попытался привлечь остготов. С этой целью император отпустил из Константинополя находившегося там уже в течение десяти лет в качестве заложника Теодориха, снабдив его даже ценными дарами. Этот отпуск не был ничем обусловлен и выглядел как жест доброй воли императора (что в реальности, конечно, очень трудно представить). Может быть, он надеялся иметь в лице Теодориха своего «агента влияния», поскольку тот пробыл в имперской столице долгое время, причем в таком возрасте, когда внешний мир особенно влияет на молодого человека, и поэтому мог считаться человеком, дружески расположенным к Империи. Не исключено, что таким жестом Лев стремился найти в паннонских остготах союзников для противостояния как с другими варварскими племенами, так и со своим честолюбивым патрицием Аспаром, которого активно поддерживал Теодорих Страбон.
Расчет Льва в первый момент оправдался, по крайней мере, частично. Возвратившись на родину, Теодорих собрал свой отряд из шести тысяч человек, в который входила какая-то часть дружинников его отца, клиенты (видимо, леты) и добровольцы, и напал на сарматов (язигов). Недавно эти сарматы во главе с королем Бабаем участвовали в неудачной для них битве на реке Болии, так что Теодорих вполне мог рассматривать их как врагов. После этого поражения Бабай выступил против римлян и разбил действующую в Мезии армию Камунда[227]. Эта победа сделала сарматского короля грозной фигурой, и нападение на него Теодориха, несомненно, полностью отвечало римским интересам. Удар, нанесенный Теодорихом, был, по-видимому, неожиданным для сарматов. Теодорих не только разбил сарматов, но и убил самого Бабая и захватил город Сингидун. Этот город был важным форпостом Империи на дунайской границе и местом римско-варварских контактов, и он был захвачен сарматами. Возможно, что, натравливая Теодориха на Бабая, Лев надеялся на возвращение этого важно пункта Империи. Однако Теодорих, захватив Сингидун, отказался его вернуть императору и подчинил себе.
После победы над сарматами воины провозгласили Теодориха королем[228]. Разумеется, это было сделано не в ущерб его отцу. Теодемир остался «старшим» королем, но теперь его сын получил свой «удел» наряду с отцом и дядей. Каков был размер этого «удела», неизвестно, но в него, несомненно, входил захваченный Теодорихом Сингидун. Таким образом. Остготское королевство снова было разделено на три части. Однако в отличие от предшествующего периода двумя частями королевства управляли отец и сын, и это резко увеличивало власть Теодемира. Это обстоятельство вскоре сказалось на дальнейшей истории остготов.
Довольно скоро положение остготов в Паннонии ухудшилось. До своего исхода из Северного Причерноморья и Нижнего Подунавья готы активно занимались в том числе и земледелием, но и тогда их жизнь в значительной степени зависела от внешних контактов. Недаром вопрос о трансдунайской торговле всегда вставал при их переговорах с императором. Паннония, в которой поселились остготы, была ранее процветающей страной с крупными и мелкими городами, многочисленными виллами, хорошими дорогами. Однако к тому времени, когда остготы здесь осели, она была почти полностью разорена варварскими походами и войнами римских императоров. В этих условиях роль земледелия в остготской экономике еще более уменьшилось и значение внешних контактов соответственно увеличилось. В сложившейся ситуации эти контакты были преимущественно грабительскими. Однако возможности грабежей в варварском окружении готов уменьшились, т. к. постоянные войны и грабительские набеги, в том числе и остготов, в огромной степени разорили эти племена. Эго привело к голоду среди остготов, и они решили искать новые земли для проживания. На этот раз остготы разделились. Меньшая их часть во главе с Видимиром двинулась на запад. Остготы вторглись в Норик, но во время похода Видимир умер, и власть над этой частью остготов перешла к его одноименному сыну. В целом этот поход прошел неудачно, и остготы пошли на заключение мира с Империей. Западный император Глицерий, понимая, что, несмотря на эти неудачи, остготы непосредственно к северо-востоку от Италии остались бы слишком опасными, прислал Видимиру дары, снабдил его людей одеждой и предложил уйти в Галлию на соединение со своими сородичами вестготами. Хотя Италия, по-видимому, оставалась желанной мечтой остготов, Видимир-младший был вынужден согласиться и увести свою часть остготов в Галлию.
Иначе сложилась судьба тех остготов, которых возглавлял Теодемир, рядом с которым находился и молодой Теодорих. Их дальнейшие действия во многом определило изменение в политической ситуации, сложившейся в это время в Восточной империи. Противостояние императора Льва и командующего войсками Аспара достигло своей кульминации и завершилось убийством Аспара и его сына. Первое место возле императора занял исавриец Зенон. Однако свои претензии на наследство убитого Аспара выдвинул Теодорих Страбон, недавно активно поддерживавший Аспара и назначенный «правителем» готов во Фракии. Под лозунгом мести за Аспара он, сестра (или тетя) которого была женой Аспара, начал открытую войну с императором. Льву пришлось пойти на компромисс с ним. Он не только назначил его магистром обеих армий praesentalis, т. е. главнокомандующим, но и автократором готов. Для самих готов этот титул был, вероятно, равнозначен королю (rex, rix). В то же время он не только поднимал Страбона в глазах его части остготов, но и делал (во всяком случае, теоретически) его главой всех готов, находившихся в Империи. Для еще большего укрепления авторитета Теодориха Страбона (для того, конечно, чтобы еще и откупиться от него) император назначил ему и его готам огромную ежегодную субсидию в 2 тысячи фунтов золота, т. е. почти в семь раз большую, чем выплачиваемую паннонским остготам. Все это наносило огромный ущерб авторитету Амалов, и они допустить этого не могли. И в то время, когда Видимир со своими остготами двинулся на запад, Теодемир и Теодорих пошли на юг и юго-восток. Возможно, что Лев и рассчитывал на их такую реакцию. Однако вместо нападения на войска Теодориха Страбона Теодемир предпочитал грабить римские провинции Балканского полуострова. Во время этого похода он в 474 г. умер, и его наследником стал Теодорих. Его младший брат Теодимунд явно королевского титула не получил[229]. С делением Остготского королевства на отдельные «уделы» было покончено.
В это время изменилась ситуация в Константинополе. В январе 474 г. умер Лев I, и императором был официально провозглашен его малолетний внук Лев И, сын Зенона. Сам Зенон тоже скоро был объявлен соправителем сына с титулом августа, а в конце того же года после смерти сына стал единственным официальным императором восточной части Римской империи. Приход к власти Зенона, являвшегося врагом Теодориха Страбона, изменил и положение последнего. Чтобы не допустить объединения всех остготов, Зенон пошел на сближение с Теодорихом. Тот к этому времени предпочел отойти снова к Дунаю, но, разумеется, уже не на старое, достаточно разоренное, место, а в Нижнюю Мезию. Когда в 475 г. Зенон был свергнут Василиском, Теодорих Страбон выступил на стороне узурпатора, в то время как Теодорих, сын Теодемира, как кажется, остался верным Зенону. Возвращение Зенона к власти в августе 476 г. сказалось и на положении Теодориха. Зенон не решился пойти на открытый конфликт с Теодорихом Страбоном и подтвердил его должности, но одновременно начал демонстративно оказывать различные благодеяния сыну Теодемира. Он торжественно принял его в Константинополе и даже даровал ему ранг патриция.
Отношения между остготами и Империей не были постоянными. Императорское правительство постоянно меняло свое отношение к ним и к их отдельным частям в зависимости от складывающейся конъюнктуры. С другой стороны, и сами остготы меняли свою позицию так, как они считали в данный момент более выгодным. Поэтому дружба часто сменялась войной и наоборот. Для самого Теодориха важны были оба момента, ибо служба императору и получение за нее высокого имперского титула возвышало его в глазах своих варваров, но не в меньшей степени активные и, главное, победоносные войны с тем же императором тоже увеличивали его авторитет. В какой-то момент даже объединились оба Теодориха, что представляло для императора серьезную угрозу. Союз этот, однако, был недолгим, ибо каждый из союзников стремился занять первенствующее положение за счет другого. Поэтому Зенону было нетрудно его разрушить. После неудачной попытки привлечь на свою сторону Амала Зенон сделал щедрое предложение Страбону, и тот пошел на примирение с императором. Другой же Теодорих потерпел несколько поражений и решил отступить на запад Балканского полуострова.
Эти действия Теодориха не были грабительским походом. По Балканскому полуострова двигалась не армия, а весь народ, включая женщин и детей. Все они искали новое и более благоприятное место для поселения. Теодорих решил, что лучшим таким местом будет Эпир. Может быть, эту мысль ему подал Сидимунд. Сидимунд тоже принадлежал к роду Амалов и возглавлял какую-то группу остготов, которая не подчинялась ни трем братьям, ни их наследнику. Эти готы перешли на службу к императору, но в тот момент, когда Теодорих искал новые места для поселения на Балканах, Сидимунд был в отставке, владея большим имением в районе Диррахия и получая императорскую субсидию. По каким причинам он решил изменить Зенону, точно неизвестно; возможно, он в свое время поддерживал те римские круги, которые были враждебны этому императору, и теперь опасался мести Зенона. Он, видимо, вступил в какие-то отношения с Теодорихом, и тот просил его помочь овладеть Эпиром. Сидимунд согласился и, обманув и жителей, и солдат, оставил Эпир беззащитным перед готами. Однако овладеть Эпиром остготы не смогли. Против них выступила римская армия, которая окружила остготов. В отчаянном положении Теодорих предложил не только перейти на службу к императору, но и восстановить на западном троне Непота, которого Зенон все еще признавал законным августом Запада. Находившийся в сложной ситуации Зенон не решился на эту авантюру.
Хотя армия Теодориха снова потерпела ряд поражений и в одном из сражений погиб брат короля Тиудимир, завершить разгром остготов помешала угроза императору снова со стороны Теодориха Страбона. Армия последнего резко выросла, и это вызвало беспокойство императора. Верный своей тактике, Зенон натравил на него болгар, но Страбон сумел их разбить и сам двинулся на Константинополь. Взять город он не смог и стал отступать в Грецию. Однако в результате несчастного случая Теодорих Страбон погиб, и это освободило Теодориха Амала от опасного соперника в рядах соплеменников. Более того, он сумел переманить большинство воинов Страбона, и это резко усилило его позиции. Остатки остготов Страбона перешли под власть его двух братьев и сына Рецитаха. Но скоро Рецитах убил своих дядей и один возглавил эту группу готов. Однако занять то же положение, какое занимал отец, он не смог. Тем временем усилившийся Теодорих начал новое наступление, и на этот раз Зенон решил пойти на примирение с ним.
В 483 г. был заключен договор между императором и Теодорихом. По условиям этого договора остготы получили землю для поселения во Фракии, сам Теодорих и явно вся его семья становились римскими гражданами и получили гордое (практически императорское) имя Флавиев. Теодориху не только возвращали отнятый было сан патриция, но и признавали магистром воинов, а к тому же еще и обещали наследующий год почетный, хотя и безвластный, пост консула. 1 января 484 г. Теодорих в Константинополе торжественно вступил на этот пост. Его западным коллегой был назначенный Одоакром знатный римлянин Деций Василий. Никаких особых полномочий консульство не давало, но занятие этого поста было знаком великого почета, и одно это в огромной степени увеличивало авторитет Теодориха среди соплеменников. Это становилось и знаком вхождения варварского короля в имперскую элиту. Император еще более подчеркнул возвышение Теодориха решением поставить ему конную статую в Константинополе.
Несмотря на все такие демонстративные знаки почета, отношения между Зеноном и Теодорихом оставались сложными. Теодорих использовал свое пребывание в столице, чтобы прямо на его улице убить Рецитаха и этим окончательно упрочить свое положение в остготской среде. Вполне возможно, что это было сделано не без ведома императора, но само по себе усиление Теодориха вызвало его подозрения. Направив Теодориха в качестве командующего против восставших исавров, Зенон вскоре отозвал его. Теодорих воспринял отзыв и замену его вождем ругиев Эрманарихом как знак разрыва. И через некоторое время он снова открыто выступил против императора и даже попытался захватить Константинополь. Хотя эта попытка кончилась закономерной неудачей, потому что захватывать такие укрепленные города готы не умели, угроза со стороны Теодориха была столь явной, что Зенон решил сделать нетривиальный шаг. Он задумал использовать Теодориха для борьбы с Одоакром[230].
В это время отношения между Зеноном и Одоакром резко ухудшились. Попытка Зенона свергнуть Одоакра с помощью ругиев провалилась. После этого он сделал ставку на Теодориха. К остготам Теодориха в это время присоединились остатки ругиев под руководством Фредерика. Не исключено, что и тот тоже уговаривал остготского короля выступить против Одоакра, тем более что его матерью была остготка Гизо. Кроме того, Теодориху становилось все яснее, что на Балканском полуострове он так и не сможет найти прочное и благополучное место для поселения, потому что Зенон никогда этого не допустит в пределах Восточной империи. Поэтому таким местом могла стать только Италия. Она все еще была относительно богатой страной и манила этим многих варваров. Кто непосредственно стал инициатором выступления, спорно, ибо источники дают разные сведения об этом. Но это не так важно. Важно то, что желания Теодориха и Зенона совпали. Император официально поручил Теодориху двинуться в Италию и свергнуть там власть узурпатора. Более того, Теодорих по решению Зенона (или, может быть, по условия договора, заключенного между ними) должен будет после свержения Одоакра управлять Италией от имени императора, пока тот сам не прибудет в эту страну. Фактически Зенон пообещал Теодориху то положение, которое он юридически так и не признал за Одоакром. Отправляя Теодориха в поход в Италию, император решал сразу несколько задач. С одной стороны, он окончательно удалял остготов с Балканского полуострова и вообще из пределов Восточной империи. С другой, он с помощью тех же остготов решал проблему Одоакра. Даже если остготы потерпели бы такое же поражение, как только что ругии, это все равно пошло бы на пользу Империи, ибо и уничтожало бы такого опасного врага, как остготы, и резко ослабило бы Одоакра, дав в недалеком будущем возможность снова попытаться его уничтожить. Так что для Константинополя поход Теодориха был выгоден при любом его исходе. Выгоден он был и для Теодориха, ибо в случае успеха (в котором он едва ли сомневался) остготы могли бы поселиться в столь, как они считали, богатой и чрезвычайно желанной стране, как Италия, а сам Теодорих получал бы прочное и, что очень важно, юридически оформленное положение правителя этой страны. Поход в Италию стал началом новой эпохи в истории остготов.
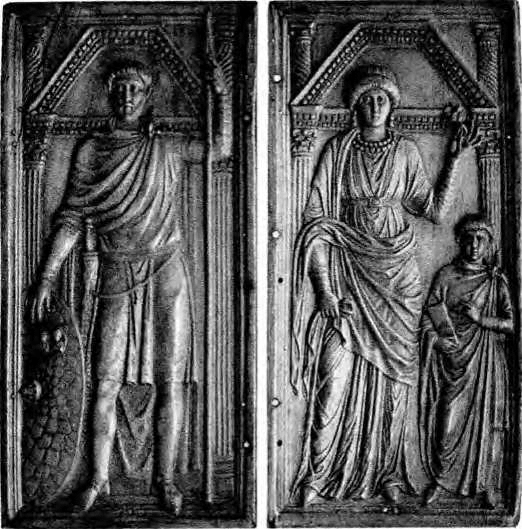
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ