V. «ЭПОХА КОРОЛЕНКО»
…Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86–96 было для Нижнего «эпохой Короленко». В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью

Год первый
Стоит закрыть глаза, как представляется, что ты не в санях, везущих тебя по льду Волги к Нижнему Новгороду, а в гостеприимном доме Анненских в Казани. Встреча рождества в обществе немногих близких людей: сверкающий остроумием, неизменно веселый Николай Федорович, дородная спокойная Александра Никитична — «теточка», десятилетняя Таня, Илларион, живущий здесь после глазовской ссылки…
Через день они с братом собрались. Анненский раздобыл рекомендательные письма. Друзья все никак не могли расстаться. Уже одетый в дорожный тулуп и шапку, Короленко, полуобняв Анненского, в который раз доказывал ему преимущества переезда в Нижний — это самый близкий к столицам крупный город, где разрешено жить поднадзорным, центр губернии, связан Волгой с другими большими городами края. Здесь жизнь бьет ключом — оживленная река, ярмарка, в губернии кустарные промыслы, большие заводы. Есть надежда, что возвращающиеся через Нижний из Сибири ссыльные станут оседать в нем и со временем соберутся значительные культурные силы.
Николай Федорович обещал подумать.
Ни звездочки в темном небе. Тишину нарушают только скрип полозьев по снегу, да пофыркивание усталых лошадей, да негромкий звук колокольчика. Скоро рассвет. Думы, думы… Вот так же, как и они с братом, возвращаются ныне из отдаленных мест люди его поколения, так и не обретя «пупа земли» — тех рычагов, с помощью которых хотелось им повернуть землю в ином, более разумном направлении, и не встретив того крестьянского сына Микулушки, которому они приписывали желание и умение совершить эту важную работу. Лично он сам уже после Березовских Починок прочно утратил веру в правоту многих рациональных народнических схем, но в отличие от других не растерял своего жизнелюбия, не обиделся на людей, на Россию и Микулушку за то, что жизнь оказалась сложнее схем…
Трудная была это пора — середина 80-х годов.
Расчет народовольцев на то, что вслед за убийством Александра II начнется крестьянская революция, оказался неверным. Последствием титанических усилий революционеров-террористов было только то, что оказался освобожденным трон для другого монарха.
Оправившись от первого испуга и растерянности, вызванных небывалым в России событием, правительство ответило свирепыми преследованиями. Народовольческая организация уже не смогла восполнить потерь, понесенных после 1 марта: агония была короткой и сильной. Самой заметной фигурой на политическом горизонте стал архиреакционер Победоносцев. Реакция правительственная соединялась с реакцией общественной. По-прежнему молчало крестьянство. А рабочий класс был сравнительно малочислен и еще плохо организован. Идейный разброд среди народничества достиг кульминационных пунктов, «Подлыми годами» назвал этот период середины 80-х годов Глеб Успенский. Старые идеи не оправдали себя, а нового знамени никто не подымал. Реакция. Глухая, «подлая» пора разгрома надежд, утраты веры в общественные идеалы…
И тем не менее необходимо было начать новую жизнь — хотя бы для того, чтобы внести в нее свою мысль, и свои искания, и негодование, и надежды на лучшие времена. Как это сделать, Короленко, как и многие его современники, еще не знал. Правда, в его расчетах на будущее особое место занимали несколько исписанных тетрадок, лежащих сейчас в его портфеле.
Показался город — казарменного типа дома на набережной, темные окна. Никто их здесь не ждет. Послышался звук трещотки ночного сторожа. Братья Короленко и ямщик сошли с саней и стали медленно подниматься по крутому извилистому въезду. Прямо на длинной каменной стене качался большой фонарь, освещая неровным светом огромные буквы странной надписи: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся».
Короленко усмехнулся в ответ на это суровое лапидарное красноречие отцов города:
— Где здесь то кольцо, за которое дозволительно зачалить и мою утлую лодочку?
Так для Короленко начался памятный январский день 1885 года.
Остановились в гостинице на Нижнем базаре. Здесь продавали и покупали с зазываниями, божбой, хлесткими ругательствами. Покрикивали в толпе полицейские офицеры, орали и толкали кого-то городовые, монументами возвышались конные полицейские с нагайками. И даже две церкви в разных концах базара стыдливо предоставили свои нижние этажи под торговлю. Короленко с трудом выбрался из этого сонмища яростного торга и не совсем чистой наживы.
В тот же день отправился с рекомендательными письмами.
Местный мировой судья А. А. Савельев принял радушно.
— Какая у нас теперь, батюшка, оппозиция? — Александр Александрович отвечал на вопрос гостя с легким удивлением. — Одни открыто воруют и хотят сохранить эту приятную традицию. Это консерваторы. А мы и хотели бы эту традицию прекратить, да не можем. Вот и вся оппозиция. Да и немного нас. Живем по старинной поговорке: блюдите да опасно ходите… Вы вот, видно, не ходили опасно — и очутились в Якутии. А мы выучились — с опаскою ходим… У нас, батюшка, крамолой тут считается и ревность излишняя к народному просвещению, порой даже и больницы, вообще всякое «баловство» мужика. А вы говорите — оппозиция…
Александр Серафимович Гацисский, статистик, этнограф и литератор, принял Короленко не менее радушно, чем Савельев. В отличие от сдержанного, добродушно-насмешливого Савельева Гацисский являл собой тип восторженного ученого-идеалиста.
— Наш девиз, уважаемый Владимир Галактионович, — мягко говорил Гацисский, поблескивая стеклами пенсне, — мосты мостити и гати гатити. Но и этого нам не позволяют. Мы тихо, очень тихо движем свое дело. Растут школы, городские и земские стипендиаты кончают гимназии, университеты. «И се видех, яко добро есть». Но…
Светлая улыбка осветила интеллигентное, доброе лицо Александра Серафимовича и тут же погасла.
Короленко угадал, что давило Гацисского, Савельева и их друзей.
— Громко кричащая ложь, — сказал он, — всегда сильнее робко бормочущей истины… По-прежнему обыватель самому факту восхождения солнца готов поверить не иначе, как по соответствующем о том извещении с пожарной каланчи или из полицейской будки. Так я вас понял?
Гацисский как-то странно взглянул на говорившего. Вот она, первая ласточка оттуда, из областей весьма отдаленных. Строптивец, настоящий якобинец. Он ищет, на кого можно опереться. Он полон молодого задора, несомненно талантлив, его имя приобрело уже некоторую политическую известность. Над его косвенным предложением союза стоит подумать.
Как и Савельев, ничего определенного не обещая, Гацисский приветливо прощается. Короленко хотя и понимает причины осторожности этих людей, но досада от этого не меньше.
Братья решили, что за матерью и сестрой с детьми, вернувшимися из Красноярска в столицу, поедет Владимир.
В Москве Короленко остановился на несколько дней и повидался с Авдотьей Семеновной Ивановской. Встреча была радостной, неожиданно новой, полной самых светлых и радужных надежд для обоих.
Короленко понес своего «Макара» в редакцию журнала «Русская мысль». (В окончательном варианте автор исключил несколько строк в сцене «бунта» Макара, где тот готовится драться до смерти: цензура могла «зарезать» из-за них весь рассказ.) Редакторы приняли Короленко приветливо. Но они не могут гарантировать ничего. Цензурные строгости… Обилие беллетристического материала…
Через две недели, когда Владимир Галактионович, забрав мать и семью Лошкаревых, проезжал через Москву, в редакции его ждало радостное известие — рассказ принят журналом.
Зимний солнечный день был особенно радостен еще и потому, что на вокзале семью Короленко — на правах старой знакомой — встречала Душа Ивановская и, провожая в Нижний, обещала приехать навестить.
На вокзальной площади Нижнего все уселись в несколько извозчичьих санок и с шумом и смехом помчались «домой» — в нанятую скромную квартирку. Вот и Варварка, прямая, в одноэтажных домиках, а в перспективе улицы — белое здание с решетками на окнах.
— Опять… — тихо сказала Эвелина Иосифовна, и ее доброе лицо исказилось, словно материнское сердце опять почуяло недоброе.
— Ничего, мамашенька, — беззаботно возразил сын. — Я ведь только что приехал на новое место, предосудительного ничего сделать не успел…
В шуме, смехе, суете проходило устройство на новом месте. Но ему помешали.
Под вечер 1 февраля 1885 года в коридоре зазвенели шпоры. «Кого это носит нелегкая?..» Громкий стук: «Отворите». Входят жандармы. Офицер оглядывает схожих друг с другом братьев:
— Кто из вас Владимир Галактионович Короленко?
— Я, — отвечает один из них, кареглазый, веселый, крепкий. — Что вам угодно?
Прочитав предписание, он бледнеет и закусывает губу. Все сначала — обыск, арест, тюрьма/а там, может быть, опять путь сибирский дальний. Пересиливая себя, Короленко утешает плачущую мать, одевается и уходит, окруженный позванивающими шпорами, к белому зданию с черными воротами. Еще полчаса назад за семейным столом царили уют, и мир, и веселье. Чей-то знак, чей-то приказ — и все разрушено, изломано, ввергнуто в горе и отчаяние…
Где только можно, Короленко неистово протестует — в Нижнем, в Москве, в Доме предварительного заключения в Петербурге, куда его привезли 8 февраля. В жандармском управлении старый знакомый ротмистр Ножин, арестовывавший его шесть лет назад, предъявляет нелепейшее обвинение. Письмо какого-то хвастуна, подписанное «Вл. Корол.», где автор сообщает, что покрыл уезд сетью нелегальных организаций.
— Это не я писал, — сердито заявляет Короленко, отдавая письмо.
Нет худа без добра. За те несколько дней, что он пробыл в одиночке Дома предварительного заключения им был дописан начатый еще в Амге рассказ «В дурном обществе», о сирых и бездомных людях — их он мальчиком видел в Ровно, — о детях, из которых серый камень высосал жизнь. Серый камень давит сейчас и на него самого — не оттого ли обратился он в тюрьме к теме сирых, обездоленных и бесправных?..
Через три дня дело разъяснилось, и Короленко был отпущен. Так закончилось в жизни его еще одно «недоразумение».
Когда он снова зашел к кому-то из нижегородских либералов за ответом на принесенное до ареста письмо, хозяин дома встретил его с плохо скрытым ужасом.
— Извините, ничего не могу. Вы только что приехали и… уже были арестованы. Прощайте-с…
Больше Короленко ни к кому не пошел.
Вот оно, одно из проявлений рабского молчания людей, их страха перед жестокостью жандармских преследований. Нечего ждать вскоре «нового неба и новой земли». Но в нем не задавить страстное желание вмешиваться в эту застойную жизнь, желание открыть форточки в затхлых помещениях, громко крикнуть, чтобы рассеять кошмарное молчание общества. Нет ни партий, ни классов, которые бы вели сплоченную борьбу за права общества и народа, создавать их — не его призвание. Значит, остается одно — выступить партизаном на защиту права и достоинства человека всюду, где это можно сделать пером. Пока он начнет борьбу сам, а там наверняка окажется не один скиталец, ищущий партизан какой бы то ни было борьбы во тьме бесправия и забитости. Свидетельства о благонадежности не требуется лишь для работы в газетах — он возьмется за работу в провинциальной прессе.
И Короленко начал эту работу. Ко времени его возвращения в Нижний из казанского «Волжского вестника» — единственной, кажется, порядочной газеты Поволжья — пришел ответ редактора; Н. П. Загоскин соглашался на его сотрудничество. Короленко тотчас же отослал заметку, вскоре еще одну и еще.
Их печатали охотно, редакция принимала все, что он посылал, но цензура… Она кромсала заметки с таким ожесточением, что автор сам едва их узнавал. Приходилось мириться и учиться писать так тонко, так отчетливо, чтобы был заметен и значителен каждый оттенок, но не было бы наивной подчеркнутости, которую свирепо искореняли казанские цензоры И Короленко оттачивал свое перо, не жалея сил и времени.
В «Волжском вестнике» Короленко напечатал первое после возвращения из Якутии беллетристическое произведение — рассказ «В ночь под светлый праздник».
…В пасхальную ночь из тюрьмы бежит арестант. Молоденький часовой прицеливается и, закрыв глаза, объятый ужасом перед тем, что должно случиться, стреляет. В час, когда неправедный мир фарисейски возвещает о любви и братстве, человек, захотевший свободы, гибнет от руки другого человека, в сущности не повинного в убийстве. Но кто же виновен? Автор не говорит об этом прямо — пусть сам читатель делает вывод о том, что в обществе, построенном на притеснении и насилии, ежедневно, ежечасно — ив серые будни, и в светлые праздники — кто-то гибнет, кто-то страдает…
Почти одновременно с рассказом, в мартовской книжке «Русской мысли», появился «Сон Макара», сразу привлекший к имени автора пристальное внимание читателей и критиков.
А между тем нижегородская либеральная гора сдвинулась и пошла к Магомету. Первым явился доктор Позерн, потом зашел Гацисский, а позднее Короленко сблизился и с Савельевым. В молодом человеке, искрящемся здоровьем, умом, веселостью, энергией, была такая притягательная сила, что померкли страхи и зароки кружка перед «опасным хождением».
Короленко правильно оценил поведение этих местных, почвенных людей: они хорошо понимали, что им недостает чего-то, и это могут дать люди не местные, а бродяги, «якутяне», «сибиряки», не пустившие еще прочных корней в Нижнем, которым нечего терять и которые не разучились называть вещи своими именами. И вот в Нижнем зародился союз благонадежно-оппозиционных земцев-почвенников и заведомо неблагонадежных корреспондентов из людей, хорошо знавших отдаленнейшие места Сибири.
Первые давали материал, вторые — свою отчаянность.
Вербовал «отчаянных» Короленко.
Он познакомился с Ангелом Ивановичем Богдановичем, бывшим студентом-медиком, который находился в Нижнем на положении поднадзорного. Жил частными уроками, был одинок и в свои двадцать пять лет успел разочароваться в жизни и идеалах, к былой своей революционности относился скептически. В семье Короленко обласкали молодого пессимиста, отогрели. Богданович ответил на предложение стать корреспондентом усмешкой, однако через несколько дней принес заметку для «Волжского вестника», которая под пером Короленко приняла пригодный для печати вид и вскоре появилась в газете.
Затем последовала вторая, третья.
Несколько позднее Короленко приехал с семьей из Сибири врач Сергей Яковлевич Елпатьевский и тоже примкнул к «отчаянным».
В период учебы в Московском университете во второй половине 70-х годов Елпатьевский был одним из руководителей московского студенчества; позднее, когда работал земским врачом в Рязанской губернии, оказывал различные услуги членам партии «Народная воля». До ссылки в Сибирь он уже напечатал в народническом журнале рассказ. Его большая повесть о семидесятниках «Озимь», написанная до ссылки, появилась уже после возвращения автора — в «Северном вестнике».
Короленко и Елпатьевский очень привязались друг к другу — особенно неизменно веселый, добродушный оптимист Елпатьевский.
Переехали из Казани Анненские. Кружок «отчаянных» быстро рос. Они стали получать отовсюду сведения о тайных сторонах местной жизни. Когда за «обиженных» вступалась цензура, «отчаянные» не очень смущались. Им ли, некогда обвиненным в настоящей крамоле, было бояться гнева предводителя дворянства или председателя земской управы.
Однако материальное положение семьи Короленко заставляло желать лучшего. Нередко приходилось перебиваться мелкими займами и даже прибегать к закладам. Лошкарев определился капитаном на небольшой пароход «Охотник», был все время в разъездах, но жалованье получал скромное. Илларион организовал слесарную мастерскую, которая приносила только убытки. Юлиан и Веля, жившие в Петербурге, зарабатывали мало и могли помогать только эпизодически.
Короленко очень скоро занял в «Волжском вестнике» лестное положение одного из ведущих беллетристов. Он получал построчную плату такую же, как и Мамин-Сибиряк — четыре копейки со строки, но писал мало, тщательно работая над каждым своим рассказом. В апреле 1885 года Короленко поместил в газете своего любимого «Старого звонаря» — рассказ о больших горестях в жизни маленького человека, к лету отдал туда большой рассказ «Глушь», к осени — очерк «На станке» (первоначальная редакция «Ат-Давана»).
Он окончательно убедился, что потребность писать — результат глубокого внутреннего побуждения, без этой работы жизнь для него потеряет главный смысл, поблекнут ее краски. Но невыносимо было видеть нужду в семье, а работать наскоро, ради денег — Короленко знал, что все равно не сможет.
И он поступил, правда ненадолго, кассиром на пристань крупного волжского пароходства Зевеке.
Молодой писатель Короленко
В сентябре 1885 года Короленко напечатал в «Северном вестнике» «Очерки сибирского туриста (Убивец)», через три месяца тот же журнал опубликовал первый из «Рассказов о бродягах» — «Соколинец».
Сибирская тема введена была не Короленко в русскую литературу. О суровом «гиблом» крае писали еще протопоп Аввакум, Рылеев, Достоевский. Непосредственные предшественники Короленко, в том числе народнические беллетристы, не увидели в сибирских бродягах, поселенцах, беглых каторжниках ничего незаурядного, в лучшем случае их герои были протестантами-обличителями сектантского толка.
Но у Короленко, первого из русских писателей, тема изгоев среды обрела общественно-социальное звучание. Герои его сибирских произведений предстали перед растревоженным читателем как люди, в которых предельно суровая жизнь не сумела загасить стремлений к свободе, к независимости, к счастливой доле.
Вот герой рассказа «Убивец» Федор Силин, темная, ищущая правды и справедливости душа. Обиженный начальством, он медленно и трудно приходит к выводу, что «настоящий грабитель» не тот, кто «в кандалах закован идет», а тот, кто обижает простого, немудрого человека, толкает его на преступление. К числу последних Федор относит и себя. К их числу относится и бродяга «Иван тридцати восьми лет». Он с детства «на тюремном положении», ему «острог — батюшка, тайга — матушка». И в трудную минуту у него — угрозой несправедливо устроенному миру — вырываются слова: «Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался… А надо бы. Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленного осталось…»
Яркий, цельный образ настоящего рыцаря вольной бродячей жизни создал писатель в «Соколинце». Старый Буран, чьи глаза смотрят на мир «тускло и с угрюмым равнодушием», по-своему честен и верен главной заповеди неписаного бродяжьего закона: не бросать друга в беде. Несчетное число раз бежал он из неволи, и никакая сила не может погасить в нем жгучей тоски по воле. Смертельно раненный во время последнего в его жизни побега, Буран торопится дать товарищам наставления, как избежать опасностей по пути на родину.
Вот молодой бродяга Василий, он своим рассказом о лихом побеге с Сахалина — Соколиного острова — «всю кровь взбудоражил» в своем собеседнике. «Я видел в нем, — писал Короленко в «Соколинце», — только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю…»
Писатель не скрывал своей симпатии к изображаемым им героям. Он показывал читателю множество теневых сторон их жизни — не всегда оправданную жестокость, оторванность от общества и трудовой среды, бесперспективность и трудность существования, но его привлекало в этих людях и их судьбах другое: романтика суровой борьбы с тысячами препятствий на своеобычных, труднейших путях их жизни.
Образы вольнолюбивых протестантов, не желающих терпеть насилия над собою, Короленко выводил и в «Федоре Бесприютном», и в «Содержающей», и в «Черкесе». И по-прежнему протест его героев звучал как суровое обвинение несправедливому общественному строю.
Бродяга Бесприютный, как и Федор Силин, ищет ответа на трудный вопрос: почему все в жизни устроено так, что один обречен на скитания, другой живет в свое удовольствие? Судьба сводит его с революционером-народником, товарищем по этапам, и свой вопрос Бесприютный задает ему.
Этот рассказ Короленко был первым из произведений писателя, запрещенных цензурой. Рассказ пришлось радикально перерабатывать, смягчать его социальное звучание. Под измененным заглавием — «По пути» — он появился только в начале 1888 года в «Северном вестнике».

«Мушкетер» у входа в камеры Рогожской полицейской части в Москве. Рисунок В. Г. Короленко 1879 года.

Внутренность избы в Березовских Починках, где жил В. Г. Короленко, Рисунок В. Г. Короленко 1880 года.
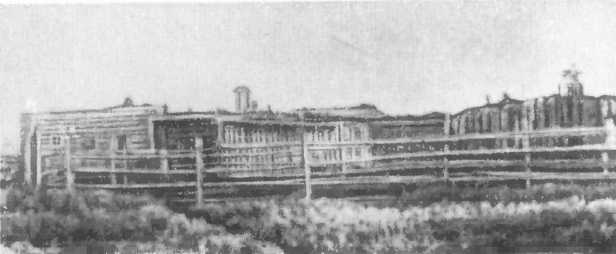
Юрта Захара Цыкунова, в которой жил В. Г. Короленко. Позднейшее фото.

Захар Нефелович Цыкунов, послуживший В. Г. Короленко прообразом Макара в рассказе «Сон Макара». Позднейшее фото.
В 1886 году готовился первый сборник рассказов и очерков писателя, куда вошли также его произведения о Сибири. Цензура неохотно дала разрешение, мотивируя это тем, что по своей тенденциозности они «могут принести значительную долю вреда в среде читающей публики».
Тема социального протеста зазвучала у молодого писателя и в произведениях другого цикла — так называемого волынского, связанного с воспоминаниями детства и юности.
«Проблематические натуры» из рассказа «В дурном обществе», как и сибирские бродяги, — изгнанники обывательской среды, многие из них «отмечены чертами глубокого трагизма». В этих людях дна — ворах, нищих, пьяницах — умеет автор найти и человеческое достоинство, и товарищескую взаимопомощь, и великое чадолюбие, а главное — протест, прямо направленный в адрес всего общества, которое обрекло их на подобную участь.
В полесской легенде «Лес шумит» Короленко утверждал право человека на месть насильнику, напоминал о тех эпизодах прошлых времен, когда кончалось терпение угнетенных и они поднимались на «панов».
И снова вернулся Короленко, теперь уже в большом рассказе «Тлушь», к вопросу о «ненастоящих городах».
У «бывшего города» Пустолесье тот же «прототип», что и у «Ненастоящего города», — Глазов. Здесь жизнь застыла на «мертвой точке», нет ни новых промыслов, ни фабрики, ни железной дороги. «Стоячая трясина, а не жизнь», — говорит герой рассказа пустолесский учитель. Так появляются «люди смирения» вроде попа Ферапонта и присных, темные изуверы, как дьячок Стратилат, а «людей гордыни» ждет участь безвременно погибшего учителя Иванова. «Какой же путь лучше, какое мировоззрение надежнее?» — спрашивает автор. По-прежнему вопрос о путях к будущему, о формах общественной жизни волнует его. Путь поисков или «ненастоящее» прозябание, спокойствие затхлой жизни или путь искания, смятения и страдания? «…Всегда были и всегда — да, всегда — будут гордые безумцы, которые предпочитают спотыкаться, страдая, и падать в изнеможении на трудном пути, чем смиренно и с улыбкой спокойствия идти рядом с другими по хорошо протоптанной дороге». Так отвечал Короленко, к этому звал он своих читателей.
«Но кто же они, эти люди, которые изберут для себя трудные пути?» — задумывался Короленко. Интеллигенция? Да, отдельные ее представители. А в массе — кто способен идти нехожеными, тернистыми, неизведанными дорогами протеста? Крестьянство? Рабочие? Кустари?
Еще осенью 1885 года Короленко, оторвавшись на несколько дней от беллетристической работы, ездил в Горбатов, уездный город, где слушалось дело о крестьянских беспорядках. (Отчет о процессе, напечатанный в «Русских ведомостях», явился началом его сотрудничества в газете.) Короленко решительно принял сторону крестьян. В конце зимы следующего года он намеревался поехать во Владимир на судебное разбирательство дела о стачке орехово-зуевских ткачей на Морозовской мануфактуре, и только необходимость срочной работы над повестью «Слепой музыкант» заставила его отложить эту поездку.
В начале 1887 года в «Русской мысли» (книжки 1-я и 2-я) началось печатание повести «Прохор и студенты»; и хотя в февральском номере значилось «Продолжение следует», читатели больше не встретились с выселковским жуликом Прошкой.
Продолжения не последовало потому, что Короленко понял: «цензурная скала» преградит путь. Очень было обидно: интерес к повести все увеличивался, замысел разрастался.
В повести Короленко предполагал вывести народнически настроенных людей, которые в дни своей молодости страстно призывали «пробуждение господина грядущего», а позднее не менее страстно принялись уверять: и хорошо случилось, что этот господин не проснулся. Писатель заострял свое произведение против народнических эпигонов, призывавших в 80-х годах к примирению с действительностью. Сам он был уверен, что обновление может быть достигнуто только в борьбе.
Поиски среды, способной к борьбе и протесту, продолжались. Они нашли отражение в работе над другой повестью — «Табельщик», — которая началась еще в 1885 году.
Через месяц после появления второй (и последней) книжки журнала «Русская мысль» с повестью «Прохор и студенты», в марте 1887 года, Короленко напечатал в «Русских ведомостях» новое произведение— «На заводе», снабдив его подстрочным примечанием: «Предлагаемые читателю две главы составляют часть большой повести, под заглавием «Табельщик».
Во время работы над «Табельщиком» «цензурная скала» маячила особенно грозно. Еще бы: он говорит о рабочих, об их трудной, суровой жизни, о стихийном бунте на заводе. Повесть писалась почти наверняка «на зарез», но не писать Короленко не мог. Замысел поглотил его.
…Большой завод за высоким крепким забором. Фигуры рабочих, бредущих в полутьме рассвета от слободки к темному зданию, над которым взвиваются клубы пара и вечно грохочет молот. Угрюмая дыра проходной будки с табельщиком, скрежет сотен напильников, стон паровой пилы, шуршание ремней на шкивах… Двое мальчишек-сирот попадают на завод в обучение к забитому беспросветной жизнью угрюмому шорнику. Однажды они уснули в уголке среди грохота и шума большого завода и подверглись жестокой трепке. Барышня, дочь управляющего, случайно оказавшаяся на заводе, вступилась за мальчиков.
…Но вот они выросли. Один из них, монтер Фома, в противоположность своему приятелю, мечтательному, безвольному табельщику Ивану, вырос в человека сильного и волевого. В нем рабочая масса увидела своего руководителя, вожака. Он и был настоящим рабочим вожаком. В бурную минуту возмущения рабочих против «начальства» Фома сумел показать себя подлинным руководителем; его волю толпа приняла как приказание.
Повесть осталась в архиве писателя в виде многочисленных набросков. Писатель опубликовал только две вполне безобидные в цензурном отношении главы о детстве мальчиков. Кроме опасений, что цензура не пропустит повесть о рабочих, поднявшихся против «хозяев жизни», была еще одна причина, из-за которой работа над «Табельщиком» была прекращена. Писатель предстоящую борьбу за обновление страны связывал не с пролетариатом, смутно представляя себе, какой исторической силе принадлежит будущее.
Читающая публика как-то сразу выделила Короленко среди других авторов. Имя его очень скоро — менее чем за год — стало одним из популярных, любимых передовым читателем. Критика припомнила, что несколько лет назад Короленко уже опубликовал ряд своих произведений; читатели стали разыскивать редкий в столицах «Волжский вестник», где печатался, молодой писатель.
Быстрый рост популярности Короленко показал, что общественный подъем мятежных 70-х годов не забыт, что освободительные идеи даже теперь, в глухую пору правительственной и общественной реакции, способны тревожить сердца — особенно молодые сердца — непогасшей верой в народные силы, в человека, в грядущую светлую, обновленную жизнь. Читатель понял и принял романтическую приподнятость образов короленковских героев — строптивцев, протестантов.
Короленко привлек всеобщее внимание прежде всего как писатель четко выраженных социальных симпатий. В отличие от беллетристов-народников молодой автор настойчиво стремился освободиться от формул, говорить ярким языком образов, как это делали писатели его поколения — восьмидесятники, и прежде всего Всеволод Михайлович Гаршин. Глеб Успенский в своем художественном методе сочетал образы и авторские формулировки. В очерках, начиная с «Ненастоящего города», Короленко усвоил эту манеру своего предшественника и учителя, но одновременно в художественных произведениях стремился отойти от канонов демократической беллетристики 70-х годов с ее публицистичностью, настойчивым подчеркиванием автором своих идейных позиций, ее четкими формулировками. Человеческие судьбы в произведениях Короленко — всегда отражение исторической расстановки сил в стране; лучшие стороны человеческой. натуры вызывает к жизни борьба за социальную справедливость.
Он «страстно любил красоту — справедливость, искал слияния их в единое целое», — сказал о Короленко М. Горький. По его словам, Короленко был одержим «неутомимою жаждою «правды — справедливости» и «проникновенно чувствовал… необходимость воплощения этой правды в жизнь».
В Москве. «Слепой музыкант». У Толстого в Хамовниках
В конце весны 1885 года приехала погостить Авдотья Семеновна. Не забыть Владимиру Галактионовичу чудесных майских дней, прогулок по откосу и в лодках, долгих часов бесед, объяснения. 27 января 1886 года в Троицкой церкви на Большой Печорке они обвенчались. Потом немногочисленный «брачный поезд» разместился в обыкновенной, вовсе не поэтической конке и отправился на квартиру Короленко близ набережной, где и состоялось «свадебное пиршество» — по обычаю семейства, как и всякое веселье, с небольшим количеством вина, но с обилием смеха, шуточных перепалок и тостов.
На следующий день молодые уехали в Москву.
Супруги поселились в Большой московской гостинице близ Кремля. В городе предполагалось прожить месяц — по возможности беззаботно: познакомиться с литературной Москвой, побывать в театрах, у знакомых. Днем Короленко сидел в Румянцевской публичной библиотеке, делая выписки из исторических сочинений для нового рассказа (будущего «Сказания о Флоре».)
Велики были удивление и граничащая с ужасом растерянность Владимира Галактионовича, когда утром в воскресенье 2 февраля он увидел на первой странице газеты «Русские ведомости» знакомое заглавие — «Слепой музыкант (этюд)» и в конце — «Продолжение будет».
Редакция пригласила его выступать с беллетристическими вещами, и в конце прошлого года Короленко послал в газету первую главу начатой повести «Слепой музыкант». Послал только для того, чтобы доказать свое согласие на беллетристическую работу, не больше: даже второй главы еще не было. Повесть рисовалась пока очень смутно, в виде основного мотива — борьбы слепого за возможную полноту существования.
И вот перед ним номер газеты с первой главой… Есть отчего прийти в ужас! Пришлось отложить рассказ из античной истории, мечты о беззаботном «медовом» литературном месяце в Москве и засесть за работу тут же, в номере московской гостиницы. Отдельные главы пришлось писать прямо набело. Впоследствии Короленко говорил друзьям, что без этого «недоразумения» с первой главой «Слепой музыкант» так мог бы и остаться в виде начала. Зато с этих пор Короленко всей душой возненавидел работу «к сроку» и прилагал все усилия к тому, чтобы не приневоливать свое творческое воображение.
Если бы его спросили впоследствии, как и когда именно зародилась в его сознании идея «Слепого музыканта», он затруднился бы ответом. Первичным, исходным было стремление противопоставить теперешней умственной реакции и мракобесию извечное человеческое стремление к свету, преодоление личной неполноценности и борьбу за свое место в общественной жизни.
Итак, основной психологический мотив будущего произведения — инстинктивное, органическое влечение к свету. И это лучше всего можно было проследить у человека, рожденного слепым. Могли возразить, что не видевший света не должен чувствовать лишения в том, чего вовсе не знает. Неверно! Мы не летали, как птицы, но как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Человек должен тосковать по неизведанному и недостижимому, он всегда должен стремиться к возможной полноте своей личности, ведь он — человек! Это первый и главный мотив, который должен зазвучать в произведении.
Трудное себе взял писатель задание!
В «Слепом музыканте» перед ним почти terra incognita — земля неведомая. Правда, он встречал в своей жизни несколько слепых. Мальчиком в Ровно он наблюдал девушку, дочь их домовладелицы. Она бралась оценивать красоту материй, которые ощупывала, и очень обижалась, когда над ней смеялись. А однажды она даже почувствовала в небе падающую звезду. В Амге его учеником был мальчик, постепенно теряющий зрение. Наконец, в Нижнем слепой музыкант Духовский, человек взрослый, развитой и культурный, рассказал о себе (он ослеп вскоре после рождения). И тем не менее подтверждения главного тезиса о тоске слепорожденных по свету у него пока нет. Так пусть она будет у его слепого — Петра Попельского. Петр будет бороться за свою долю «света» в жизни, в обществе. В этом ему помогут близкие люди — старый воин-гарибальдиец дядя Максим, «маленькая женщина» Эвелина, подруга, возлюбленная, жена, а потом мать его зрячего сына, Иохим со своей дудкою… Темное, слепое, казалось бы, неисходное горе должно быть преодолено, эгоистическое страдание — отвергнуто. Слепой должен прозреть!
И в подготовленной для «Русских ведомостей» повести, в сцене рождения сына, слепой действительно видит въявь и огромный сверкающий купол синего неба, и черную землю, и деревья с причудливыми листьями, и дядю Максима с коротко остриженными волосами и длинными серебристыми усами, и голубые глаза своей белокурой Эвелины…
Мог ли Короленко тогда, зимою 1886 года, лихорадочно работая над повестью, предположить, что это произведение принесет ему мировую известность, выдержит еще при его жизни множество изданий на родине, перешагнет континенты?..
Не закончилось печатание «Слепого музыканта» в газете, как Короленко получил от «Русской мысли» предложение напечатать его в журнале. Неудовлетворенный первоначальной редакцией, автор частично переработал повесть. Прежде всего он связал момент прозрения слепого со звуковыми ощущениями. Теперь Петр воспринимает «звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков».
Повесть появилась в июльской книжке «Русской мысли» за 1886 год.
Новой переработке «Слепой музыкант» подвергся в отдельном издании, которое вышло в конце 1887 года. Автор усилил социальное звучание повести: дядя Максим стремился вывести племянника из тесного усадебного мирка в большой мир, полный жизни, страданий, борьбы, движения.
Но наиболее существенные изменения были внесены Короленко в шестое издание, вышедшее в 1898 году. Толчком к этому явился эпизод, который подтвердил правильность тезиса писателя о неизбежности стремления у слепых к свету.
Это случилось летом 1890 года во время посещения Короленко Саровского монастыря в Тамбовской губернии. На колокольне писатель разговорился со слепорожденным звонарем.
С волнением, словно предчувствуя, что ответят ему, спросил автор «Слепого музыканта»:
— Не казалось ли вам когда-нибудь, хоть в сновидении, что вы видите?
— Нет, не доводилось… Это дело бывает, ежели человек ослеп… А я родился таким.
Брови звонаря поднялись. Много раз виденное Короленко выражение слепого страдания проступило на бледном лице. И вдруг слепец с тоскою добавил:
— Хоть бы ты, господи, хоть во сне дал свет-отраду повидать. Хоть в сонном видении. Да нет, не дает…
Короленко услышал как раз то, что так хотел услышать.
Он включил сцену на колокольне в окончательный вариант повести. Петр слышит эти слова от слепца-звонаря. Жизнь подтвердила предположение художника!
Много позднее, в 1916 году, приват-доцент Московского университета по кафедре психологии А. М. Щербина, слепой с двухлетнего возраста, пытался публично и печатно оспаривать точку зрения писателя. Он даже читал лекцию в Полтаве и посетил Короленко. Но Владимир Галактионович остался при своем мнении.
…Через московских знакомых, у которых бывал Толстой, Короленко стало известно, что Лев Николаевич, узнав о судьбе молодого писателя, заинтересовался им. «Мне кажется, что я знаю Короленко, — передавали слова Толстого. — Если бы он захотел прийти ко мне и разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад бы его увидеть и поговорить с ним».
Поначалу Короленко обрадовался предстоящему знакомству, но, поразмыслив, решил, что уже своим приходом он солжет. Спорить с Толстым, перед художественным гением которого он преклонялся, Короленко не хотел. Но у него не было никаких иллюзий относительно толстовского учения о «непротивлении злу насилием». Он не террорист, но необходимость противления казалась ему до такой степени очевидной, ясной, обязательной, что слушать иное мнение без возражений, даже от Толстого, Короленко равнодушно не смог бы. Он решил, что приглашение Толстого не примет и к нему не пойдет.
Прошло несколько дней, и Короленко все же пошел к Толстому. У редакции «Русской мысли» зародилась идея сборника в память двадцатипятилетней годовщины «освобождения» крестьян, и редакция просила Владимира Галактионовича и известного писателя-народника Николая Николаевича Златовратского посетить Толстого и пригласить участвовать в издании.
Они пришли к известному всей Москве дому в Хамовниках вечером.
По широкой лестнице оба писателя, изрядно волнуясь, поднялись на второй этаж.
На верхней площадке, среди группы людей, стоял Толстой, известный Короленко по портретам, — высокий, худощавый, широкоплечий, с большой седеющей бородой, в блузе. Когда Короленко назвал себя, Толстой взял его руку и, задерживая в своей, договорил, обращаясь к группе:
— …Да, да„я действительно нашел истину. И она мне все объясняет — большое и малое и все детали. Вот это вот пришел Короленко. Он был в Сибири и отказался от присяги. Теперь он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел, и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.
Короленко густо покраснел. Опасение оказалось не напрасным — его приход все же выглядел как ложь. Но Толстой вдруг резко перебил себя:
— Пойдемте ко мне… Счастливый вы человек, Владимир Галактионович, — произнес он на ходу. — Не удивляйтесь, что я так говорю… Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у бога, чтобы он дал и мне пострадать за мои убеждения, нет, не дает этого счастья. За меня ссылают — на меня не обращают внимания.
В большой, просторной комнате, служившей Толстому кабинетом и приемной, стало тесно от людей. Здесь были художник Ге с сыном, тоже Николаем Николаевичем, бывший нечаевец Орлов, то принимавший веру Толстого, то отвергавший ее, некто Озмидов, толстовец, и другие, кого Короленко не знал.
На предложение участвовать в сборнике Толстой, не задумываясь, согласился и обещал дать что-нибудь для него, но выразил сомнение, пропустит ли сборник цензура (впоследствии оказалось, что опасения были справедливы).
— Цензура, Владимир Галактионович, — говорил Толстой, — вычеркивает у нас все то, что ярко, что ново, что движет мысль, и оставляет одно бесцветное, ненужное. Пока цензура занята таким непохвальным делом, не стоит писать…
Сказал — и быстро оглядел из-под мохнатых бровей обоих писателей: не обиделись ли? Но Короленко и бровью — не повел, у него на сей счет было свое, особое мнение: писать стоит!
Когда Орлов, позабыв об общественном и воспитательном значении литературы, заявил, что незачем описывать, как некий Остап играет на глупой бандуре, Короленко, до сих пор молчавший, не выдержал. Намек был слишком прозрачен. Толстовца возмутил появившийся в январском номере «Русской мысли» рассказ «Лес шумит». Да, там, конечно, не найти мыслей о смирении и непротивлении злу насилием. Пришел конец панской злой власти — загуляли хлопцы с рушницами (ружьями) по большим дорогам да по панским хоромам. Грозно тогда шумел лес над убитым паном и его доезжачим — шла буря. Разве только пан перед смертью стал бы проповедовать идею смирения своим взбунтовавшимся холопам… «Глупая бандура» для бывшего народника Орлова только предлог, чтобы обрушиться на искусство, литературу, втоптать их в грязь — и все под флагом «великих христианских идей Льва Николаевича».
Короленко ответил на выпад спокойно, умно, лукаво. В ответ самодовольный Озмидов разразился длиннейшей наставительной речью, но все почувствовали в тоне его холодное, неискреннее резонерство, и Толстой поспешно прервал своего апологета:
— Нет… Это не то… Я думаю, что Владимир Галактионович прав.
Короленко покидал дом Толстого взволнованный и усталый от всего увиденного и услышанного. Сам Толстой произвел на него очень сильное и в целом хорошее впечатление, но его окружение ужаснуло. Люди вокруг гениального писателя более толстовцы, чем он сам. Они не дают ему и задуматься над чужими возражениями, тотчас вываливая готовые формулы и примеры. Слова правды заглушаются их расшаркиванием, а самого Толстого они окуривают фимиамом.
Да, он прежде всего художник, а не мыслитель. Художник огромный, какие рождаются веками, и творчество его кристально-чисто, светло и прекрасно. Он поражен христианством, но его мучит противоречие этого учения и конкретных жизненных фактов. Жизнь всколыхнулась до глубины, и Толстой остановился в недоумении перед сложностью ее.
Уже была глубокая ночь, когда хозяин пошел провожать гостей. Тишина стояла над Хамовниками. Скрипел снег под ногами бодро шагавшего Толстого. Он крепко, вовсе не по-стариковски пожал руку Короленко, ласково заглянул в глаза, пригласил заходить еще. Когда Короленко около Садовой оглянулся, в тусклом свете редких фонарей высокой фигуры Толстого уже не было видео. Исчез чудный старик…
При всем уважении к Толстому Короленко не мог не протестовать против его вредного учения. И в своем новом произведении — «Сказание о Флоре Римлянине и Агриппе-царе» — Короленко заговорил о том, что борьба необходима, что насилие питается покорностью, как огонь соломой. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро. Камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу — силой.
И еще верит герой «Сказания», мудрый и храбрый Менахем, предводитель восставших иудеев против римских завоевателей-насильников, что придет время, когда исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека!
Это будет в будущем, а пока надо бороться.
Боритесь же за свою идею. Но не осмеливайтесь забыть человека в вашем враге. Никогда цель не может оправдать средств, употребленных для ее достижения. Так утверждал Короленко.
«Сказание» появилось в октябрьской книжке журнала «Северный вестник» за 1886 год.
«Братья-писатели»
Короленко возвратился из Сибири никому не известным скромным «сапожником и живописцем», как именовал его один из полицейских документов, теперь он стал российски известным и любимым писателем. Его согласия на сотрудничество добивались лучшие журналы и видные газеты, его переводили на европейские языки.
Слава, настоящая слава писателя, выражающего думы и запросы передовых слоев общества, пришла к Короленко. Его ставили теперь в один ряд с такими художниками, как Чехов, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк.
В начале 1887 года Короленко начал работать в редакции «Северного вестника», и отныне в его обязанности вошло чтение рукописей, поступающих в беллетристический отдел журнала. К нему непосредственно стали обращаться молодые авторы за советом и помощью. Как-то незаметно, миновав литературную юность, вступил писатель в пору творческой зрелости.
Это был период особенно напряженных раздумий Короленко над путями и судьбами русской литературы и ее служителей — писателей, отдающих свое перо, свое сердце служению народу. В эти же годы завершилось формирование миросозерцания Короленко, хорошо понимавшего, что писатель не может не быть в то же время и общественным деятелем, не может не принимать горячего участия в политической жизни страны.
Думы свои он поверял друзьям и заветному хранилищу его мыслей — дневнику, который с начала «оседлой» нижегородской жизни стал вести систематически.
Крупным, прямым, красивым почерком исписываются страницы дневника, записных книжек, писем. Самые различные вопросы жизни интересуют писателя Короленко, и он знает, что не одинок в своих думах и поисках. Немало в России писателей, которые так же, как и он, бьются в поисках жизненных путей, страстно ищут связи с народом, одержимы теми же скорбями, радуются теми же радостями, что и он. Это поистине его братья по перу, братья-писатели.
Самый близкий из них — Глеб Иванович Успенский, чистая, возвышенная душа, русский писатель всеми помыслами прикованный к роковым этапам общественной жизни, свидетелем которых он стал.
В одну из своих поездок в Петербург Короленко отправился к Глебу Ивановичу знакомиться. Это было в последних числах февраля 1887 года. Над столицей спускались ранние сумерки, когда Короленко подошел к громадному серому дому на Васильевском острове.
В квартире на пятом этаже было шумно и людно. Посетитель назвал себя, и тут к нему, отодвигая в сторону столпившуюся в прихожей молодежь, кинулся высокий худощавый человек, обнял и заговорил негромко, ласково, радостно. Это был Глеб Иванович. Он увел гостя в маленький кабинет, усадил, предложил папиросу. От печальных, удивительных глаз хозяина, его ласковой, с приметной грустью улыбки повеяло на гостя чем-то давно знакомым, совсем родным и близким.
— Какой вы счастливый, — говорил Успенский, — ссылка позволила вам сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы, виновны уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которого не вытравишь ничем. — И, стряхивая пепел, он задумчиво, с горькой и словно виноватой улыбкой взглянул на собеседника, такого крепкого, ладного, спокойного.
А Короленко думал, что именно таким должен быть автор «Будки», «Выпрямила», «Власти земли». Ни одной натяжки. Все говорится с глубочайшей, предельной искренностью.
— Вы любите Достоевского? — спросил Успенский, и, когда Короленко ответил, что не любит, но такие вещи, как «Преступление и наказание», перечитывает с величайшим интересом, в них много жизненной правды, Глеб Иванович переспросил с удивлением:
— Перечитываете?.. А я не могу… Не могу… Много правды, говорите, в нем… — Он задумался. — Вот посмотрите сюда, много тут за дверью уставится?.. Пара калош, ничего больше.
— Пожалуй.
— А он сюда столько набьет… человеческого страдания… горя… подлости человеческой… на четыре каменных дома хватит…
И выразительное лицо говорившего при словах «страдание», «горе» искажалось стократ испытанными собственными страданиями и болью за человека униженного, страдающего, оскорбленного.
Короленко долго бродил по пустынным набережным и проспектам, потрясенный личностью этого человека, чувствуя, что, как раньше Успенского-писателя, полюбил теперь Успенского-человека за этот особенный душевный склад, за эту чистую, глубокую искренность и боль за людей, за человека.
Это была уже вторая встреча с товарищем по профессии. За несколько дней до посещения Успенского, во время остановки в Москве, Короленко познакомился с Антоном Павловичем Чеховым.
Двухэтажный особнячок Чеховых на Садово-Кудринской был полон молодого, шумного веселья. Тон задавал сам Антон Павлович. Услышав о госте, он сбежал по лестнице. Чехов был выше гостя, поуже в плечах, легкий, гибкий, подвижной. В светло-карих лучистых глазах его Короленко увиделись одновременно глубокая мысль и детская непосредственность.
Пили чай в маленькой гостиной. За самоваром сидела старушка — мать трех молодых людей: Чехова, его брата и сестры, которые все показались Короленко веселыми и беззаботными. Но чем дальше присматривался Короленко к Чехову, тем больше казался ему этот молодой жизнерадостный человек похожим на молодой дубок, пускающий ростки в разные стороны, порой еще как-то коряво, бесформенно, но обещающий в недалеком будущем крепость и цельную красоту могучего роста.
— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — спросил Чехов. Быстро оглядел стол, под руки попалась пепельница, он взял ее, окинул внимательным, смеющимся взглядом, поставил перед Короленко. — Вот… Хотите… завтра будет рассказ… Заглавие — «Пепельница».
Брат и сестра улыбнулись сочувственно: видно, они по опыту знали, что в этом нет ничего невозможного. А Короленко показалось, что над пепельницей уже зароились какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих готовых форм, но уже проникнутые юмористическим настроением. Это, без сомнения, образы беззаботного, удачливого Антоши Чехонте. Они теснятся к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но, пожалуй, редко волнуя.
А позже, в кабинете, Короленко словно увидел другого Чехова, сознающего, что талант его не просто игрушка, которая тешит душу и приносит некоторый доход семье, а великая драгоценность, за которую он в ответе. На лице Чехова во время разговора проступило какое-то особенное выражение, и Короленко вспомнилось старинное изречение, очень точно его характеризующее, — «первые отблески славы».
Тонкое, чистое лицо Чехова стало грустным, когда он слушал рассказ Короленко о его ссыльных скитаниях. Сидел молча, с тихой лаской глядя на гостя, и внезапно вскочил, осененный созревшей мыслью.
— Владимир Галактионович, я приеду к вам в Нижний.
— Буду очень рад, только смотрите — не обманите.
— Непременно приеду… Будем вместе работать. Напишем драму в четырех действиях. В две недели.
Короленко рассмеялся.
— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Я работаю медленно. Драму вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте.
Почти в каждый приезд в Москву Короленко посещал Чехова, их отношения становились все более близкими и сердечными. По совету Короленко Чехов взялся за повесть, и в начале 1888 года в «Северном вестнике» появился один из его шедевров — «Степь».
Многое сближало обоих писателей, и однажды Чехов высказал мысль, удивившую Короленко близостью к его собственным раздумьям.
— Мы, писатели, сообща, артельно делаем большое и важное дело, делаем усилиями целого поколения. Всех нас будут когда-нибудь звать не Чехов, не Короленко, не Баранцевич, не Тихонов, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия».
Короленко сделал поправку на чеховскую скромность, но в целом мысль была ему близка. В переломные, трудные эпохи необходим коллективный труд «братьев-писателей».
Вместе Короленко и Чехов не создали «драмы в четырех действиях», но совместная деятельность еще ждала их впереди.
«Личность весьма неблагонадежная, а не без таланта»
Семья Короленко росла. 28 октября 1886 года родилась дочь Софья. Чтобы обеспечить семью, надо было много работать, часто ездить не только по губернии, но и в столицы. Короленко написал заявление директору департамента полиции Дурново с просьбой разрешить ему жительство в столицах и в местностях, состоящих под усиленной охраной. Разрешено было жительство только в Москве. Для въезда же в Петербург всероссийски известный писатель вынужден был каждый раз просить разрешения у департамента, и только в конце 1888 года его уведомили, что освобожденному от гласного надзора полиции дворянину В. Г. Короленко министерством внутренних дел разрешено жительство в С.-Петербурге.
Однако и теперь, когда Владимир Галактионович приезжал в столицы, он и его знакомые тотчас попадали под пристальное наблюдение петербургских и московских соглядатаев — это называлось «негласным надзором».
Особенно трудно было выносить надзор, в Нижнем, — здесь он оказывался весьма явным. Переодетые жандармы ходили за Короленко по пятам, увязывались за его знакомыми и друзьями, среди которых были преимущественно лица поднадзорные, неблагонадежные. Очень скоро Короленко и его домашние узнали шпионов в лицо, и это постоянное нахождение под нескромно-назойливыми взглядами новых «знакомых» изрядно отравляло существование, К этому времени у писателя появилась вторая дочь — Наталья, которая родилась 1 августа 1888 года. Даже выходя на прогулки с детьми, Короленко не избавлялся от преследования шпионов.
Не избежал писатель и допросов в нижегородском жандармском управлении.
В конце 1889 года в руки Александра III попало одно из произведений Короленко. Царь прочел и заинтересовался личностью писателя. Вскоре ему был представлен пространный доклад. Здесь сообщались основные факты биографии Короленко в период отбывания им ссылок, особо отмечался отказ от присяги.
«Сочинения Короленко, — признавалось в докладе, — пользуются большой известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями. Лучшие произведения Короленко, независимо от помещения в журналах, издаются отдельно, и некоторые из них выдержали уже три издания».
По прочтении доклада император всероссийский, которому Короленко так и не принес верноподданнической присяги, начертать изволил глубокомысленную резолюцию: «По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта».
В политическом обзоре по Нижегородской губернии за 1891 год генерал Познанский, начальник жандармского управления, доносил, что Короленко «лично сам стал влиять на некоторые общественные дела. Около него группируются положительно все поднадзорные Нижегородской губернии, и все, что он им высказывает, — для них закон».
Был и другой источник, из которого Петербург черпал сведения о Короленко. Нижегородский губернатор Баранов сначала заигрывал с популярным писателем, надеясь, что Короленко воздаст должное его «просвещенному» управлению губернией. Когда писатель решительно отклонил генеральские ухаживания, Баранов тоже принялся писать на него доносы, вполне успешно соперничая в этом с Познанским.
Жизнь трудна и сложна
— Тише, Володя пишет!..
Когда раздавалось это предостережение — все в доме утихали. Это означало, что в маленькой угловой комнатке, где тесно от шкафов с книгами, письменного стола, рабочей конторки, кушетки, стульев, — работает Короленко. Писал он чаще всего стоя, заложив одну ногу за другую, слегка наклонив голову, торопливо откладывая в сторону исписанные листы. Если появлялись друзья или знакомые, они тихо проходили в столовую и — ждали. Посетителей, которых с каждым годом в доме Лемке на Канатной улице появлялось все больше, Авдотья Семеновна поила чаем, и они терпеливо дожидались, когда из кабинета раздадутся быстрые твердые шаги, на пороге появится бодрый, освеженный работой писатель и пригласит к себе.
— Пишет? — переспрашивал посетитель, незнакомый с порядками в семье Короленко. — Значит, нельзя его увидеть?
— Да, — твердо отвечала Авдотья Семеновна. — Пока он не кончит, он все равно не способен воспринимать окружающее.
Если кто-нибудь все же прерывал работу писателя, он отвечал невпопад, искоса жадно поглядывая на свою конторку с заметным желанием возобновить работу.
— Когда я что-нибудь описываю, — делился Короленко с друзьями, — я ясно вижу всю картину. Однажды, во время работы над сибирским очерком, я вдруг поймал себя на том, что перестал писать и рисую пером знакомый пейзаж…
Писал Короленко самозабвенно, увлеченно, с огромным удовольствием. Ему трудно было только начать, а затем, когда появлялось начало «в нужном тоне», работа шла быстро, легко. Публицистические статьи он нередко писал прямо набело, беллетристические произведения — со значительными поправками.
Когда Короленко дольше обычного задерживался за своей конторкой, друзья тихонько заглядывали в кабинет, покашливали, звали оторваться. Анненский был шумливее других. И когда он «на цыпочках» следовал из прихожей в столовую, Владимир Галактионович в своем, кабинете по тяжелым шагам и шумному дыханию отличал его от всех и поскорее старался закончить работу — он очень любил Николая Федоровича.
Если работа все же увлекала Короленко и он забывал о времени, раздавался топот маленьких ножек, и в дверь, несмотря на предостережения матери, начинала ломиться Соня:
— Папа, титистик писоль… (статистиком она звала Анненского, возглавлявшего статистическое бюро губернии).
Появление Владимира Галактионовича в столовой встречается градом шуток. Он ловко парирует их, сам необидно высмеивает друзей и домашних.
— Мамашенька, — говорит он, — я заглянул в вашу расходную тетрадку, вижу всюду: рысь, рысь. Вы что же это — нас вместо риса рысями кормите?
Все смеются. Эвелина Иосифовна ласково и смущенно улыбается шутке сына, отвечает тихим голосом, не утратившим мягкого музыкального акцента родного польского языка. Она постоянно занята работой: вяжет носки и варежки внукам и чужим детям, кому-то шьет одеяла, ручные мешки, кофточки. Она ведет хозяйство умно и расчетливо — семья большая, а доходы невелики.
Особенно весело бывает в доме Короленко по вечерам. Приходят бывшие «сибиряки» — кроме Анненских, Елпатьевский с женой, журналист Дробыш-Дробышевский, нижегородские «коренные» жители, Богданович, поднимаются живущие внизу Лошкаревы. Тогда каламбурам, шуткам, веселым рассказам не бывает конца. Особенно удачно выступают Анненский и Мария Галактионовна. Когда они «распускают своих собачек», достается всем. Владимир Галактионович сам никогда не нападает, зато среди удачно обороняющихся первое место принадлежит ему. Его шутки всегда мягки, они никого не ранят, но от них смеются не менее заразительно.
Нередко объектом шуток становится сам Короленко с его неутомимой готовностью помочь людям.
Когда друзья вышучивали эту его особенность, Короленко отвечал серьезно:
— Говорите, пропьет? На то, что я ему дал, много не выпьет.
— Несимпатичный? Да и монета, которую он получил, не бог весть какая симпатичная.
— Почему поехал на извозчике с дрянной клячей? А как же ему поправиться, если его не будут брать? Пусть хоть на мне заработает.
В кругу друзей Короленко получил прозвище «банкир» — за его стремление выручать людей из беды. Но так как личные скудные ресурсы «банкира» иссякали много раньше его готовности помочь, то он отправлялся отыскивать средства, писал записки знакомым, тормошил всех до тех пор, пока проситель не получал самого необходимого и не «вставал на ноги», по любимому выражению Короленко:
«Податель сей записки вопиет о 35 рублях, — я собрал все, что было, теперь ничего не имам. Не поможете ли?
В. Короленко».
Особенно чуток, внимателен и сердечен Короленко был в семье — «клане». Мать свою он обожал и очень внимательно относился к ее желаниям. Именины Эвелины Иосифовны совпадали с рождественским сочельником, и в этот день соблюдался старинный польский обычай: собирались самые близкие люди, за трапезу принимались только с появлением первой звезды, стол накрывался на сене и подавались только кутья, взвар, жареный лещ. Правда, потом появлялся русский самовар и разговоры велись отнюдь не религиозного содержания, но Эвелина Иосифовна и не сетовала. Она всю жизнь прожила в России, сыновья и дочери ее были русские, она сама говорила по-русски.
Дети Лошкаревых любили «дядю Володю» беззаветно. Он возился с ними подолгу, когда они были здоровы, и превращался в «брата милосердия», если они заболевали.
Осенью 1888 года дом на Канатной посетила смерть. Заболела воспалением легких четырехлетняя дочь Лошкаревых Женя. Девочка жестоко страдала, и с ней мучились все остальные. Владимир Галактионович почти насильно взял из рук обезумевшей сестры забившуюся в предсмертных судорогах девочку и носил ее, и грел, и дышал на нее, и сам закрыл ей глаза…
Женя лежала в гробике, словно живая, спящая.
Короленко не захотел оставлять сестру одну. В комнате одуряюще пахло цветами, и ему сделалось дурно. Попил воды, каких-то капель — и снова тут же сел к столику: нужно было срочно выслать в «Северный вестник» рассказ.
— Пойди отдохни, — говорит Мария Галактионовна.
— Нет, я побуду с тобой. Постараюсь писать здесь…
И он пишет. Пишет о том, что было давным-давно, когда мать умершей Жени сама была девочкой, а он, сейчас уже бородатый мужчина, отец двух детей, был большеголовым мальчуганом, впервые задумавшимся в такую же ночь о великом таинстве жизни и смерти. В доме тогда тоже скрипели двери, шепотом разговаривали люди, и все было проникнуто тревогой. Старая нянька Гандзя гнала детей в кровати, а они недоуменно прислушивались к звукам, которые доносились из той комнаты, где у мамы в эту ночь родилась «детинька».
Он пишет свой рассказ, который называется «Ночью». Тогда ночью родилась новая жизнь, теперь — тоже ночью — он сидит у гробика умершего ребенка. Многое ли он узнал о жизни и смерти за эти тридцать лет?..
Люди рождаются, люди умирают — такова жизнь. Просто и сложно, как все в этом мире. Короленко долго смотрит на усыпанный цветами крошечный гробик, на мерцающие огоньки погребальных свечей, на застывшую в горе сестру. Потом опять берет в руки перо. Какое читателю дело до того, что он в момент работы над рассказом о появлении новой жизни на земле сидел подле гроба близкого существа? Он взялся описать не смерть, а жизнь, и он сделает это, как бы ни тяжко было на душе.
Едва успев отослать «Ночью» в «Северный вестник», Короленко принимается за рассказ «С двух сторон», который был написан меньше чем за два месяца. В октябре был подготовлен для гаршинского сборника отрывок «На Волге». Во всех этих произведениях отразились настроения, властно овладевшие впечатлительным писателем после смерти Жени.
«Мы были с Николаем Гавриловичем словно родные…»
Летом 1889 года Авдотья Семеновна с девочками и сестрой А. С. Малышевой жила на хуторе в Саратовской губернии, а Короленко совершал свои обычные летние странствия по Нижегородью. В начале августа он заехал за женой, и они отправились в Саратов, на свидание к Николаю Гавриловичу Чернышевскому, который получил, наконец, разрешение выехать из Астрахани и поселиться в родном городе.
С Николаем Гавриловичем и его женой несколько лет назад познакомился Илларион Короленко. Он писал и рассказывал брату о Чернышевском, который очень интересовался автором «Сна Макара», считал его человеком талантливым, симпатизировал ему, как писателю, и предрекал блестящую будущность. Однако, когда Илларион Галактионович передал ему о желании брата познакомиться, Чернышевский ответил: «Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем, как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют».
Это был намек на их вконец испорченные в глазах начальства репутации. Приходилось Короленко довольствоваться рассказами Иллариона, его письмами и сообщениями о «дяде Коле», как конспиративно назвал писатель Николая Гавриловича в одном из писем. Но затем по просьбе Чернышевского Короленко собрал и выслал ему материалы для биографии Добролюбова. Вскоре было получено приглашение посетить Чернышевских в Саратове.
Жили они против общественного сада, в деревянном флигеле в глубине двора. На звонок вышла кухарка:
— Николай Гавриловича нету дома.
Короленко оставил визитную карточку — он придет завтра. Адреса не указал.
Рано утром супруги ушли в Гостиный двор за покупками, а когда в половине десятого вернулись, номерной подал записку. Крупным, слегка дрожащим почерком в ней было написано:
«Владимир Галактионович!
Зайду к Вам между 10 часами и четвертью 11-того.
17 авг. Ваш Н. Чернышевский».
За номерным еще не успела закрыться дверь, как кто-то, невидимый из-за перегородки, заговорил. Голос был глуховатый, старческий, но приятный.
— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел… А, вот вы какой, Владимир Галактионович… Ну, каково поживаете, каково поживаете?.. Ну, очень рад.
И, протягивая руку точно старому знакомому, Чернышевский подошел к столу. Длинные каштановые, без единой серебряной нити, волосы Чернышевского обрамляли темное, землистое, все перерезанное сетью морщинок, знакомое по портретам лицо.
Желтая астраханская лихорадка! Из студеной Якутии его нарочно послали в знойную Астрахань — в расчете на эту верную помощницу престола в борьбе с революционерами.
— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел…
Чернышевский говорил оживленно, почти весело. Короленко по рассказам ссыльных знал эту его черту; даже в самое тяжкое для него время Николай Гаврилович страдал молча, на людях был ровен, неизменно приветлив и даже весел — мужественный русский человек, отдавший себя революции до конца.
Целый рой мыслей и чувств всколыхнула эта встреча в молодом писателе. Бурное половодье русской жизни почти трех десятилетий прошло вдали от Чернышевского. В свое время он твердой рукой разрушил преграды, и в русское общество хлынул мощный поток освободительных идей.
С прежним блеском и умом, мастерски владея оружием диалектики, обрушился Чернышевский на учение Толстого о «непротивлении злу насилием».
Когда Владимир Галактионович вышел попросить, чтобы подали еще самовар, Авдотья Семеновна спросила Николая Гавриловича, какие произведения мужа ему нравятся больше всего. Стали перечислять вместе все лучшее из написанного Короленко: «Сон Макара», «Старый звонарь», «В дурном обществе», «Соколинец», «Убивец», «Слепой музыкант», «Лес шумит»… Авдотье Семеновне особенно нравилось «Сказание о Флоре».
Чернышевский улыбнулся:
— Я ругаю Толстого, а вы тут же: «Мне нравится «Сказание», — в нем развенчивается непротивление злу…» Помните, у Некрасова есть одно стихотворение: сидит на улице каменщик, бьет камни:
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
И из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!
— Так вот и у Владимира Галактионовича, — закончил мысль Чернышевский, — что бы он ни писал, всюду искры. Надо, чтобы он работал и не отходил в сторону. Это большой талант, это тургеневский талант.
Он оглянулся на вошедшего в комнату Короленко и лукаво закончил:
— Я только не примирюсь с ним до тех пор, пока он не напишет большое что-нибудь из общественной жизни.
За эти дни пребывания в Саратове Короленко дважды посетил Чернышевского на его квартире. Они подолгу беседовали, и не проходило ощущение, появившееся у Короленко еще в первое свидание их, что они с Николаем Гавриловичем были словно родные, свидевшиеся после долгой разлуки.
Последнее свидание было особенно теплым и сердечным. Владимир Галактионович подарил хозяину своего «Слепого музыканта», недавно вышедшего вторым изданием, с надписью: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому от глубоко уважающего В. Короленко».
Чернышевский проводил гостя до ворот. В мерцающих сумерках позднего вечера в последний раз смотрел Короленко в глаза «яркого светоча науки опальной», в последний раз обнимал худые, старческие уже плечи.
Уехал далеко от Саратова — в Крым — и там все думал о человеке, ставшем близким и дорогим за несколько коротких летних дней.
Вспоминались беседы с Чернышевским. Цельный, твердый, несломленный человек, активный борец против пассивного смирения, против общественного зла, против условий, отнимающих у людей счастье и долю.
Накануне отъезда из Крыма Короленко лихорадочно, торопливо, словно боясь, что остынет гнев против пассивного человечьего существования, этого страшного зла жизни, принялся набрасывать рассказ «Тени».
Мудрый строптивец Сократ, не боясь смерти, отстаивает свое право на поиски истины. Если ошибаются даже сами боги — они услышат слова протеста. «Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак».
Короленко не видел новой веры, но твердо знал, что старая вера — зло и поэтому разрыв с ней необходим. Смирение перед злом — это то же самое, что сопротивление добру.
Учитель и ученик
… Ясным декабрьским утром 1889 года у дома Лемке остановился высокий молодой человек лет двадцати, широкоплечий, крепкий, но худой и одетый скорее по-летнему, чем по-зимнему. Огляделся и решительно полез в худых сапогах напрямик через сугроб к крыльцу.
— Вам кого?
Невысокий коренастый мужчина в коротком тулупчике отставил лопату, смотрит внимательно, добро. Большая курчавая борода в инее, лицо разрумянилось от работы, а глаза карие, хорошие, с веселой искоркой.
— Мне нужен Короленко.
— Это я.
Молодой человек сконфузился, пробормотал, что его зовут Пешков, Алексей Максимович Пешков. Он принес писателю Короленко свою поэму, хочет узнать его мнение.
Пешков читал рассказы Короленко, и они вызывали в нем чувство, не схожее с тем, какое испытывал он при знакомстве с произведениями народнических писателей — Каронина, Златовратского, Засодимского, Наумова, Мачтета. Короленко не требовал истовой, безоглядной веры в мужика, и поэтому его творчество в кругах нижегородских и казанских народников — «радикалов» — не пользовалось симпатиями, В нем они видели вредного скептика, отказавшегося следовать святой традиции поклонения народу. По правде сказать, Пешков чувствовал себя в среде «радикалов», как чиж в стае мудрых воронов, а их отзывы о Короленко только увеличивали его острый интерес к писателю.
Пешков уже шесть лет писал стихи, но желания показать их кому-нибудь из писателей-«радикалов» не испытывал, — очень уж много в стихах было такого, что вовсе не соответствовало взглядам его знакомых. В один из трудных периодов трудной своей молодости и пришел Пешков к Короленко. Свою поэму в стихах и прозе под названием «Песнь старого дуба» молодой автор искренне считал вещью замечательной: ведь он вложил в нее свои размышления о судьбах мира и человечества, тревожившие его всю недолгую сознательную жизнь. Он был уверен, что, прочитав его творение, все грамотное человечество будет потрясено им, после чего мир радикально переустроится, начнется иная, честная, чистая, веселая жизнь. Других желаний у Пешкова не было.
Листая объемистую рукопись, Короленко больше смотрел на автора, чем на его тетрадь, в которой оказалось еще и несколько листков со стихами.
— Почитаем! Тут у вас написано «зизгаг», это, очевидно… описка. Такого слова нет, есть — «зигзаг».
Пауза дала Пешкову понять, что Короленко знает: здесь ошибка, но щадит самолюбие автора. Таких «описок» нашлось немало.
— Какое суровое лицо у вас, — сказал Короленко, глядя прямо в лицо смущенному Пешкову, и вдруг широко, понимающе улыбнулся: — Трудно живется?
— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной необходимости, — мягко наставлял писатель. — Вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли… Вы часто допускаете также грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это бывает.
— Я это знаю, — отвечал Пешков. — И о своей малограмотности знаю. У меня не было ни времени для того, чтобы обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где я мог бы это сделать.
Короленко согласно кивнул головой: он сумел проникнуть в настроение автора и в причины, побудившие его взяться за перо.
— В юности мы все немножко пессимисты, не знаю, право, почему, — говорил Короленко. — Кажется, потому, что хотим многого, а достигаем мало…
Пешков ушел расстроенный. Твердо решил больше не писать. Ничего. Ни стихов, ни прозы.
Через две недели знакомый принес ему рукопись.
— Владимир Галактионович думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что способности у вас есть, но надо писать с натуры, не философствуя. У вас есть юмор, хотя и грубоватый, но это хорошо! А о стихах он сказал: это бред!
На обложке тетрадки Пешков прочел запись карандашом характерным короленковским почерком:
«По «Песне» трудно судить о Ваших способностях, но, кажется, они у Вас есть. Напишите о чем-либо пережитом Вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, Ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие.
Вл. Кор.».
Пешков разорвал тетрадку, листочки, со стихами и затолкал в печь. «С этим покончено…»
Полгода спустя летней теплой ночью сидел он, задумавшись, на Откосе, высоком волжском берегу, и не услышал шагов Короленко.
Во Владимире Галактионовиче было что-то, напоминавшее Пешкову волжского лоцмана: плотная широкогрудая фигура, зоркий взгляд умных глаз, благодушное спокойствие во всем облике.
И молодой человек задал вопрос, который мучительно тревожил его давно:
— Почему вы, Владимир Галактионович, такой ровный, спокойный? Мы с вами несколько раз встречались у знакомых, и я ни разу не видел, чтобы вы взволновались, доказывая свою правду. Подо мною все колеблется, вокруг начинается брожение, а вы спокойно прислушиваетесь к спорам. Почему вы спокойны?
— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю, — отвечал Короленко просто и, отодвинувшись, чтобы лучше видеть лицо собеседника, улыбаясь, задал встречный вопрос: — А почему вы об этом спрашиваете?
Почему?! — хотелось крикнуть Пешкову. — Почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых кажется, да и есть на самом деле, совершенно бесполезной, насыщена духовной нищетой, диковинной скукой, равнодушной жестокостью во взаимных отношениях?..
Пешков говорил долго, горячо, а собеседник его, глядя на него — большого — снизу вверх, слушал молча, внимательно, добро.
Помолчав, заговорил дружески, негромко:
— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения… всякая.
Короленко помолчал, слушая, как проснувшаяся река встречает новый день плеском пароходных колес, гудками, людскими голосами, потом положил руку на плечо собеседника, и это вышло у него само собой, очень просто, по-дружески. Он продолжал:
— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера… веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции… — И он взволнованно, как о давно продуманном и очень близком, заветном, стал говорить об интеллигенции. Да, она всегда и везде оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, в этом ее историческое значение. Она — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, декабристы, Перовская, Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее… Необходима справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость!
Пешков пошел провожать Короленко через город.
— Что же — пишете вы? — спросил Короленко.
— Нет. Времени не имею.
— Жаль и напрасно. Если бы вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь…
Хлынул проливной дождь. Они дружески распрощались и расстались надолго. Весною следующего, 1891 года Пешков отправился в дальние странствия по Руси, а Короленко продолжал делать то дело, в полезности которого он был убежден.
«Волга-матушка бурлива, говорят…»
В летние месяцы Короленко отправлялся «в народ», как он шутливо называл свои странствия по России. Чаще всего пешком, с котомкой за плечами, или на подводе, на лодке, на пароходе он устремлялся туда, где сходилось множество людей, где движение народной жизни казалось ему особенно характерным. Брал он с собой неизменную спутницу — записную книжку, а к ней небольшой альбом для зарисовок. Записи приходилось делать часто на ходу, ощупью в кармане, чтобы не возбудить подозрение собеседника, или во время отдыха. Из материалов записных книжек» как колос из зерна, вырастали потом очерки и рассказы. Странствия писателя начались вскоре после его поселения в Нижнем и следовали почти каждое лето. Обремененная семьей, Авдотья Семеновна обосновывалась либо на даче, либо уезжала в Румынию к брату — политическому эмигранту и вынуждена была довольствоваться письмами мужа с описаниями его «хождений».
Короленко, собираясь в путь, одевался по-дорожному — в свои «странницкие» сапоги, брал посох.
Дорога вела к девичьему монастырю. Сюда ежегодно 22 июня приносилась «чудотворная» икона божьей матери, принадлежащая Оранскому мужскому монастырю, расположенному в пятидесяти верстах от города. Икону встречало и сопровождало в Оранки большое количество богомольцев и «поклонников» из ближних и дальних сел и городков — Балахны, Городца, Василя. Это были главным, образом крестьяне, мещане. Рабочим из Сормова, Кунавина не до богомолья.
Ослепительно сияет золото на иконе, босые ноги богомольцев шлепают по мягкой пыли. Молебны у каждой часовенки, искаженные страданиями лица людей, пришедших в надежде на исцеление.
Короленко с волнением смотрит на эти картины. Такая волна человеческого горя, упований, надежд — неужели она останется без ответа?
Люди доверчиво простираются под иконой, и над сермяжными и ситцевыми спинами, над скрюченными руками, искаженными болью лицами недоступно, горделиво, величаво сияет золото венца, загадочно смотрит чуждый, неподвижный лик богородицы. Говорят, что она приносит исцеление, но никто еще не видел исцеленных ею.
Вот и монастырь.
Среди жителей окрестных деревень идет о нем худая слава. Местные раскольники упорно доказывают, что скоро ему уготована участь Содома и Гоморры за грехи черной братии. И, кажется, не без оснований: монахи пьянствуют, развратничают, вымогают деньги у богомольцев.

Глеб Иванович Успенский. Фото 80-х годов.

Николай Гаврилович Чернышевский. Фото 1888–1889 годов.

Владимир Галактионович Короленко. Фото 80 — 90-х годов.

Алексей Максимович Пешков (М. Горький). Фото 1891 года.

Нижний Новгород. Сафроновский съезд.

Балчуг и кремль
Сразу же после первого посещения Оранок летом 1887 года Короленко принялся за работу над рассказом «За иконой», который появился в сентябрьской книжке «Северного вестника».
В герое рассказа — беспокойном строптивце Андрее Ивановиче — писатель соединил черты своего давнего знакомого по Глазову сапожника Семена Нестеровича и нижегородского приятеля, публициста и общественного деятеля Ангела Ивановича Богдановича, с которым путешествовал в Оранки.
Едва рассказ был отослан, как писатель отправился в город Юрьевец на солнечное затмение, которое произошло 7 августа 1887 года (вскоре в «Русских ведомостях» появился его очерк «На затмении»). Наблюдая поведение простых, темных людей во время затмения, Короленко вспомнил полузабытые стихи:
На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси…
«Ох, скоро ль будет день на святой Руси, — с горечью подумал писатель, — тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто затмение считает наказанием грозного бога?..»
Короленко продолжал свои «хождения» по Руси. В последующие три года посещал озеро Светлояр, с которым народная молва связывала легенду о невидимом граде Китеже. Здесь писатель наблюдал слушал, ловил живую струю народной поэзии среда пестрого человеческого сонмища — паломников, людей, «взыскующих града», расстриг и просто жуликов. Многое поражало и умиляло его, многое отталкивало. Наивного чувства и слепой веры было здесь предостаточно, да только мало видел он людей живой мысли.
Дважды после посещений озера Короленко покупал лодку и отправлялся вниз по течению бойкой красавицы Ветлуги и узкого задумчиво-красивого Керженца. По пути посещал раскольничьи скиты, деревни этого глухого края.
Одно было несомненно: умирает старая Русь древних мрачных икон, Русь темной веры в прошлое— умирает под широким веянием иного, нового духа. Писатель привез из этих путешествий материал для рассказов «Птицы небесные», «Ушел», для очерка «В пустынных местах», но не нашел главного — того «настоящего», подлинного народа, который хотел здесь найти.
Как приятно было после лесов и чащоб, нищих слепцов, суровых раскольничьих начетчиков, гнусавых нищих и похотливых монахов встретить вечно похмельного, ленивого и милого перевозчика Тюлина, увидеть взыгравшую Ветлугу, широкий, могучий волжский простор!..
Тюлин подвез «проходящего» к пароходу. Пароход, шлепая плицами по воде, спешил вниз по реке. Кто-то запел негромко:
Волга-матушка бурлива, говорят,
Под Самарою разбойнички шалят…
Часто слышит Короленко эту песню.
Неужели в невозвратное прошлое отошли бунтари-волжане, удалые разбойники, наводившие страх на купцов и воевод? Где сейчас мирские защитники, кто оборонит народ, кто разожжет искру, которая только вспыхивает и тотчас гаснет? Нет ответа, туманно будущее. Когда еще «взыграет» бурливая могучая Волга, какой клич раздастся на ее берегах?.. На Волгу вступает его величество капитал, пароходы свистом распугивают бурлацкие песни.
Скоро Нижний, дом, небольшой отдых. А там опять путешествия по краю, проселки, люди, их скорби и радости — жизнь, которую так интересно, и нужно, и важно знать ему, русскому писателю этой трудной для России поры.
Короленко убежден, что даже самое глухое и мрачное время не может в народе погасить «искры». Эти «искры» видны и в умении простого человека в трудную минуту встретить опасность лицом к лицу, и в том, что народная память цепко хранит воспоминания о добрых молодцах, бунтарях, «мирских заступниках», и во многом другом.
Перевозчик Тюлин больше молчит и лениво покряхтывает с похмелья, но в критическую минуту он словно вырастает, голос его гремит над взыгравшей рекой.
Василий Косой, ямщик, однажды возивший Короленко, поразил его своим ярким рассказом о прошлом, крепостном времени, когда в ответ на издевательства господ «вскипело холопье сердце».
Но есть в них и другое — то, что принадлежит уже не будущему, а прошлому. Тюлин вывел паром из быстрины и — сник, в его глазах угас задорный, живой огонек. Василий-в момент рассказа показался писателю мудрым и величественным, а потом оказалось, что этот маленький, невзрачный мужичонка до смерти робеет перед полицейским начальством.
А, да разве главное в том, что Тюлин пьет, а Василий робок и неприметен?! В них есть то, что в какие-то минуты расправляет их во весь рост, делает красивыми, сильными, отважными, значительными. Может быть, измененная жизнь распрямит их или они, разогнувшись, изменят жизнь.
В рассказах «Река играет» и «В облачный день», повествуя о «героях на час» — Тюлине и ямщике Силуяне Кривоносом (прототипом его стал Василий Косой), Короленко создал необычайный пейзаж. «Взыгравшая» Ветлуга принуждает Тюлина к борьбе с ней. Рассказ ямщика ведется в момент, когда в природе оживает «какое-то тревожное, пугливое трепетание»— собирается гроза… Это были словно символы грядущей бури, когда «взыграют» всегда привычно тихие реки, «взыграют» привыкшие к покорности людские сердца…
Горький не раз говорил впоследствии, что Короленко в образе Тюлина сумел отразить «национальный русский характер», создать «исторически сложившийся» «тип великорусского мужика», который в революционные годы «сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле».
«Когда у меня перо в руках, я не знаю жалости».
Эти слова не раз слышали от Короленко соратники боевого публициста. Некий господин, умный и злой, из числа тех, кого больно задели корреспонденции Владимира Галактионовича, метко сказал однажды:
— Короленко как раскольничий епископ: появился здесь и основал целую секту корреспондентов…
— Короленко основал в Нижнем академию для писателей и журналистов, — говорили люди, понимавшие истинное значение подвижничества знаменитого писателя.
— Ищет популярности, — пытались объяснить себе деятельность Короленко люди недалекие и завистливые.
Те же, кто трепетал перед начальством, но не прочь бы и порадоваться редким победам правды и справедливости, добытым людьми мужественными и смелыми, осторожненько шептали по гостиным, что «Короленко убивает людей корреспонденциями».
Но всем — и врагам, и друзьям, и людям «золотой середины», было ясно, что с появлением в Нижнем Короленко пришел конец застойной — «провинциальной» — жизни, что нет в мире явлений, чуждых художнику и публицисту.
Несколько раз посетил писатель знаменитое кустарное село Павлово и был потрясен «трудовой нищетой» мастеров-умельцев, их горькой, беспросветной долей. Осенью 1890 года в «Русской мысли» появились «Павловские очерки» — страстный призыв к помощи людям труда, гневное обвинение всей системе чудовищной эксплуатации трудящихся кустарей.
Короленко напечатал ряд корреспонденций в «Волжском вестнике», «Русских ведомостях» о более или менее значительных местных событиях и вот, наконец, дал открытый бой дворянству, «первенствующему сословию», бесцеремонно, нагло захватившему все командные высоты в Дворянском банке, суде, земстве.
Это была трудная, неравная борьба, все перипетии которой благодаря Короленко и его друзьям стали известны далеко за пределами Нижнего Новгорода. Начать бой против дворянства — значило посягнуть на святая святых, на «устои» существующего правопорядка. Незадолго перед выступлением писателя последовал ряд правительственных мер, которые должны были еще более увеличить дворянские льготы и привилегии, упрочить неограниченное господство «первого сословия»: учрежден Дворянский банк, введены земские начальники.
В «Волжском вестнике» появилась большая корреспонденция «Темные деньги», подписанная «В. К.»
Из земской управы ее председателем Андреевым получена некоторая сумма для раздачи погорельцам. Но, попав к Андрееву, деньги вдруг потемнели — он использовал их для очередных своих мошеннических операций.
«Что же это, наконец, такое? — спрашивает Короленко — «В. К.» — Кто же и когда разъяснит г-ну Андрееву, что деньги погоревших людей — это «кровные», а не… «темные деньги»?!»
Передовой читатель по достоинству оценил общественное значение смелого выступления. Вору прямо сказали, что он вор, и главное — печатного опровержения не последовало.
Корреспонденты, сгруппировавшиеся вокруг Короленко, составили теперь внушительную силу, с которой приходилось считаться и ретроградам, и поддерживавшему их начальству, и даже неблагосклонной к ним цензуре.
— Когда вы пишете обличения, — наставлял Короленко своих товарищей по перу, — воображайте себе, что все это вы говорите спокойно и открыто в лицо обличаемому. Если вы почувствуете, что все вами написанное вы и сказать можете ему в глаза, значит и тон и мера соблюдены. А главное — будьте чрезвычайно точны с фактической стороны, потому что люди забудут сотни ваших истин и заслуг и придерутся к самой маленькой ошибке.
Теперь, когда нанесен был сокрушительный удар по Андрееву, можно было приняться и за цитадель нижегородской реакции — за Дворянский банк. Была разработана «диспозиция», и сражение началось.
В «Волжском вестнике» появилась сухая заметка о финансовых делах банка, грубые нарушения устава которого дворянскими заправилами вели к тому, что в случае краха должны были пострадать интересы мелких вкладчиков — крестьян, городских ремесленников, небогатых торговцев, служащих в невысоких чинах.
Началось дворянское собрание, на котором обычно ставился отчет дирекции банка. Короленко вместе с Богдановичем отправился в Дворянский дом, но их не пропустили. Корреспонденты ушли. В этот же день в несколько столичных газет и в Казань были отправлены телеграммы: перед обсуждением банковского отчета предводитель нижегородского дворянства не пустил на заседание корреспондентов, хотя по уставу дворянского собрания отчет банка должен быть гласным.
Дворянское собрание еще не закончилось, когда появились газеты с телеграммами. Вкладчики тотчас ринулись в банк за своими деньгами. Денег не оказалось. Директора банка пришли в ужас. И тут-то одна за другой в «Волжском вестнике» появились восемь корреспонденций Короленко, статистический материал для которых подготовил Анненский. Скандальное дело получило настолько широкую огласку, что правительство было вынуждено назначить ревизию. Она обнаружила миллионные хищения. Все факты, изложенные в статьях, подтвердились полностью. Несколько директоров пошли на скамью подсудимых. Банк изъяли из рук дворянства и передали в казну. Мелкие вкладчики были спасены от разорения.
Дело о Нижегородском Александровском дворянском банке было прекращено «по высочайшему повелению». Андреева убрали, и на его место был избран Савельев. (Впрочем вскоре ушедшему было в отставку Андрееву дали хорошее казенное место.)
Победа над «дворянской диктатурой» оказалась столь убедительной, что трудно было теперь отрицать значение печатного слова, гласности в борьбе с произволом властей и сильных мира сего.
Когда выяснилось окончательно, что поле сражения остается за Короленко и его корреспондентами, отовсюду посыпались изъявления признательности писателю за его последовательную и мужественную борьбу.
В отделение «Волжского вестника», незадолго перед тем возникшее по инициативе Короленко в Нижнем, как-то однажды пришел человек, одетый очень скромно. Он спросил писателя:
— Это вы пишете в газеты?
— Я.
— Пришел вам низко поклониться. По правде сказать, когда вы начали писать о банке, очень я на вас был сердит. Ведь там и мои деньги были. «Вот, — думаю, — погибнет банк, и пропадут последние мои гроши». А теперь вижу: если бы вы вовремя не подняли тревогу, они бы всех нас по миру пустили. А теперь все-таки спаслось кое-что. Спасибо вам за это!
Короленко понимал, чувствовал, знал, что в будущем ждут его новая борьба, новые трудности. Чем больше он боролся, чем смелее выступал в защиту Простого народа, тем чаще к нему приходили скромные трудовые люди со своими жалобами на начальство, с просьбами помочь им словом и делом.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ