Миф о геноциде: репрессии советских властей в официальной эстонской историографии
Впервые опубликовано: Дюков А.Р. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953) / Предисл. С. Артеменко. М., 2007. Перевод на эстонский язык: Dyukov A. Deporteerimised Eestis: Kuidas see toimus tegelikult. Tallinn, 2009. Отдельные положения исследования нашли отражение в статьях: Дюков А.Р. Советские репрессии против прибалтийских коллаборационистов Гитлера: Новые документы // Русский сборник: Исследования по истории России. Т. V. М., 2008. С. 241–251; Дюков А.Р. Советские репрессии в Эстонии: мифы и реальность (июнь 1940 — начало июня 1941 г.) // Звенья. Серия «Международные отношения». 2008. № 1. С. 73–99; Дюков А.Р. Эстонский миф о «советской оккупации»//Великая оболганная война — 2: Нам не за что каяться! М., 2008. С. 266–303. Специально для настоящего издания исследование исправлено и дополнено.
Введение
Предметом настоящего исследования является официальная эстонская историография советских репрессий в Эстонии 1940–1953 гг. Под «официальной историографией» мы понимаем работы эстонских историков, готовившиеся под эгидой государственных органов и переведенные на иностранные языки. Эти работы содержат несомненный политический подтекст, однако мы будем рассматривать исключительно их научную составляющую.
Всплеск интереса к проблеме советских репрессий в Эстонии произошел в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. и оказался тесно связан с процессом распада Советского Союза. Если раньше исследованиями советских репрессий на территории Эстонии занимались исключительно представители эмигрантской диаспоры на Западе[453], то после начала перестройки к этому процессу подключились журналисты и историки из Прибалтийских республик. Исследование советских репрессий стало элементом политической борьбы с союзным Центром. 12 ноября 1989 г. Верховный совет ЭССР принял решение о создании при Академии наук ЭССР комиссии для изучения ущерба, нанесенного оккупацией. Комиссия сработала оперативно и уже через три с небольшим месяца обнародовала доклад под названием «Вторая мировая война и советская оккупация Эстонии: отчет об ущербе». Год спустя его опубликовали на английском. Согласно этому «Отчету», за время «советской оккупации»[454] Эстония потеряла более 200 тысяч человек казненными, погибшими в боях и в ходе депортации и эмигрировавшими в другие страны[455].
Однако отчет АН ЭССР по каким-то причинам не устроил эстонских политиков. В 1993 г. парламент Эстонии создал государственную комиссию по расследованию репрессивной политики оккупационных сил. Перед ней была поставлена задача подготовить «Белую книгу о потерях, нанесенных народу Эстонии оккупациями». Если комиссия АН ЭССР предоставила свой отчет в невероятно сжатые сроки, то комиссия парламента Эстонии, напротив, потратила на подготовку документа более десяти лет. 10 мая 2004 г. председатель эстонской Государственной комиссии по расследованию репрессивной политики оккупационных сил профессор Велло Сало в торжественной обстановке передал спикеру парламента Эстонии отчет под названием «Белая книга о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями, 1940–1991»[456].
Неторопливость, с которой комиссия парламента готовила «Белую книгу», по всей видимости, стала причиной создания еще одной комиссии — Эстонской международной комиссии по расследованию преступлений против человечности при президенте республики. Эта структура, впрочем, также не отличилась оперативностью и лишь в 2001 г. обнародовала первый «Рапорт» о событиях «первой советской» и немецкой оккупаций[457]. Зато в начале 2006 г. в свет вышел подготовленный Комиссией монументальный сборник статей под названием «Эстония, 1940–1945» — первая работа в официальной эстонской историографии советских репрессий, которая может быть названа научной в полном смысле этого слова[458]. В этом сборнике приведено огромное количество интереснейших данных о советских репрессиях, однако одновременно в нем можно найти поразительные примеры манипуляции цифрами. Так, например, в статье историков Мелиса Марипуу и Арго Куусика, с опорой на архивные документы, показано, что в 1940–1941 гг. советскими военными трибуналами в Эстонии было осуждено на смертную казнь более 400 человек[459]. Однако в итоговый отчет включают иную, восходящую к нацистской пропаганде и абсолютно необоснованную цифру казненных — 1850 человек[460]. В опубликованной в том же сборнике статье историков Питера Каасика и Тыниса Мюлдре говорится о том, что во время боевых действий летом 1941 г. советскими войсками и истребительными батальонами было уничтожено 819 эстонских «лесных братьев»[461]. Однако в итоговом отчете число уничтоженных «лесных братьев» занижается до сотни — для обоснования идеи о терроре против гражданского населения, якобы осуществлявшегося советскими истребительными батальонами[462].
Исследованием советских репрессий в Эстонии занимаются еще несколько специализированных полугосудар-ственных структур, как, например, Центр исследований советского периода (S-Centre), Эстонское бюро регистра репрессированных (ERRB) и фонд Кистлер-Ритсо (Kistler-Ritso Foundation). При поддержке последнего таллинским Музеем оккупации была опубликована коллективная работа под названием «Обзор периода оккупации»[463]. Еще одним полуофициальным изданием стали работы бывшего премьер-министра Эстонии историка Марта Лаара, изданные в 2005 г. на русском, английском и немецком языках. Эти красочные брошюрки одно время активно предлагались посещавшим Эстонию туристам[464].
Представители официальной эстонской историографии не устают подчеркивать, что их работы по истории советских репрессий в Эстонии — исчерпывающий, практический, беспристрастный и в полном смысле этого слова научный анализ событий минувшего. Насколько эти утверждения соответствуют действительности, мы попробуем разобраться в данном исследовании.
Начиная работу, автор ставил перед собой две взаимосвязанные задачи: во-первых, с опорой на документы органов государственной безопасности и внутренних дел максимально точно определить масштабы советских репрессий в Эстонии и, во-вторых, сравнить эти данные с цифрами советских репрессий, приводимыми в эстонской официальной историографии.
Основой исследования стали документы советских органов государственной безопасности и внутренних дел, извлеченные из фондов Государственного архива Российской Федерации и Центрального архива ФСБ России, часть из которых к настоящему времени опубликована в подготовленных российскими историками документальных сборниках[465]. Эти документы изначально носили гриф «совершенно секретно» и были предназначены для очень ограниченного круга лиц. Они преследовали не пропагандистские, а информационные цели; за ложность сообщаемой руководству страны информации в то время легко было поплатиться головой.
Отвечая на вопрос, можно ли доверять подобного рода документам, историки из общества «Мемориал» высказываются совершенно определенно. «Полагаем, что да. Подлинность самих документов сомнений не вызывает — и внешний вид, и атрибутика убеждают в том, что они составлены именно в 1939–1941 гг. А разумного обоснования, зачем надо было фальсифицировать данные в ту эпоху, мы не находим. Союзные статсводки были предназначены лишь для крайне узкого круга лиц в НКВД — для наркома, его заместителей и начальников двух-трех основных отделов, а также для высших руководителей Политбюро и СНК; все эти лица имели свои дополнительные источники информации — лгать им в цифровых показателях арестов было просто бессмысленно. Сводки к тому же являлись базовым документом, на основании которого НКВД испрашивал у СНК бюджетные средства на проведение операции (которая, безусловно, стоила очень дорого — командировочные и другие сопутствующие расходы, увеличение штатов оперативников и тюремных работников и т. д.), на содержание и перевозку арестованных. Странно было бы для НКВД в этой ситуации сознательно преуменьшать масштабы своей деятельности. Наконец, многие отдельные цифры из представленных в сводках мы встречали (с небольшими отклонениями в ту или иную сторону) в различных документах независимого происхождения — в справках по отдельным линиям работы НКВД, в отчетных материалах судебных органов и т. д.»[466].
Именно внутренние документы органов государственной безопасности и внутренних дел позволяют историкам перейти от конъюнктурных рассуждений общего характера к по-настоящему научному исследованию советской репрессивной политики. Только располагая содержащимися в документах органов НКВД-МГБ статистическими данными, мы можем проследить масштаб, динамику и направленность репрессий, выдвигать предположения об их целях и задачах[467].
В российских архивах отложилось большое количество внутренних документов органов НКВД-МГБ, содержащих статистические данные по репрессивной политике этих ведомств. Количество этих документов огромно; здесь есть и первичные данные, собранные территориальными органами внутренних дел и госбезопасности, и их обобщения, подготовленные уже в центральных аппаратах соответствующих ведомств, и итоговые справки, направлявшиеся руководству страны. К сожалению, в настоящее время далеко не все эти документы выявлены и рассекречены. Поэтому в ряде случаев автору приходилось прибегать к методам экстраполяции, выдвигая предположения о численности арестованных на основе данных о количестве осужденных.
Первое издание этой книги было сдано в печать незадолго до событий «Бронзовой ночи» — беспорядков, спровоцированных выкорчевыванием памятника советским воинам-освободителям из центра Таллина. Эти трагические события наглядно показали, к чему может привести «конфликт памяти» — столкновения двух различных восприятий прошлого. Для русских память о Великой Отечественной войне является одной из главных основ национального самосознания. Для значительной части эстонцев с некоторого времени более важными стали воспоминания о страданиях, причиненных их предкам советской властью; их новыми национальными героями стали не военнослужащие 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, а солдаты Эстонского легиона СС.
Разумеется, в том, что историческая память эстонцев отличается от исторической памяти русских, нет ничего плохого. Беда заключается в том, что эти представления о прошлом конфликтны, они ведут к наглядному ухудшению отношений между Эстонией и Россией на международной арене и формированию полноценных «образов врага» — на внутренней. Очень часто это выливается в настоящую демонизацию оппонента, представление его как извечного, жестокого и коварного врага. И тогда на смену добрососедским отношениям приходит межнациональная ненависть, искусно разжигаемая радикальными политиками.
Выход из этой ситуации видится в реабилитации истории как науки, в максимально беспристрастном изучении нашего общего прошлого.
Это вполне выполнимая задача. Разумеется, историческая наука имеет свою специфику. Национальные и политические симпатии ученого-историка всегда оказывают влияние на результаты его исследования. Этот субъективизм неустраним. Недопустимым, однако, является искажение или фальсификация исторических фактов. Факты не зависят от симпатий или антипатий историка; можно бесконечно спорить относительно обоснованности или необоснованности депортации из Прибалтики летом 1941 г., но численность депортированных и их судьбу мы можем выяснить абсолютно точно. В этом, собственно говоря, и состоит профессия историка.
В новом издании работы исправлены выявленные в первом издании ошибки, учтены выявленные за истекшее время новые архивные документы. Несмотря на это, автор по-прежнему не считает свою работу исчерпывающей и лишенной недостатков и будет рад конструктивной критике.
Глава 1 РЕПРЕССИИ С ИЮНЯ 1940-го ПО НАЧАЛО ИЮНЯ 1941 г.
1.1. Официальная эстонская версия
В официальной эстонской историографии советские репрессии «первого года» рассматриваются как заблаговременно спланированные мероприятия, носившие характер геноцида. «Советский Союз начал подготовку к развязыванию террора еще до оккупации Эстонии советскими войсками, — пишет Март Лаар. — Как и в других местах, целью коммунистического террора было подавление на корню зачатков всякого сопротивления и рассеивание в народе массового страха, что сделало бы невозможным широкое движение сопротивление и в будущем. К повальному террору в Эстонии прибавилось также планомерное истребление национальной элиты, т. е. видных людей и активистов, и обессиливание эстонского народа как нации»[468]. В официальной «Белой книге» эти события характеризуются как «геноцид эстонского народа»[469], а авторы изданного таллинским Музеем оккупации «Обзора периода оккупации» без затей озаглавливают соответствующий раздел своей работы «Уничтожение народа».
Однако приводимые в официальной историографии количественные характеристики «геноцида» ставят под вопрос столь категоричные утверждения.
Март Лаар утверждает, что «в течение первого оккупационного года в Эстонии было арестовано около 8000 человек, из которых не менее 1950 человек было приговорено к смерти еще в Эстонии»[470].
В коллективной работе «Обзор периода оккупации», размещенной на сайте эстонского Музея оккупации, приводятся немного иные данные: «В 1940 г. в Эстонии было арестовано около 1000, а в 1941 г. — около 6000 человек. Подавляющее большинство из них были признаны виновными и отправлены в тюремные лагеря СССР, где большинство из них погибло или было казнено. По имеющимся данным, по крайней мере 250 человек из заключенных в 1940 г. были казнены… из заключенных 1941 г. были казнены более 1600 человек»[471].
Из «Белой книги» можно узнать, что «в течение первой советской оккупации было арестовано около 8000 человек, из которых по меньшей мере 1950 были казнены в Эстонии»[472]. В другом месте этой же работы уточняется, что за шесть месяцев 1940 г. было арестовано «по меньшей мере 1082 человека», а в 1941 г. было зарегистрировано 1622 смертных приговоров[473].
Наконец, в подготовленных комиссией историков при президенте Эстонии «Рапортах» говорится, что «в 1940 г. НКВД арестовал почти 1000 граждан и жителей Эстонской республики, а в 1941 г. НКВД и НКГБ арестовали около 6000 человек… По имеющимся данным, из числа арестованных в 1940 г., по крайней мере, 250 человек были казнены… из арестованных в 1941 г. более 1600 были казнены»[474].
Таблица 1. Сводные данные эстонских историков о репрессиях в Эстонии в 1940–1941 гг.

Как видим, во-первых, официальная эстонская историография оперирует круглыми цифрами. Во-вторых, авторы рассматриваемых работ никак не могут определиться, сколько же все-таки было арестованных: 7 или 8 тысяч? С определением числа казненных дело обстоит несколько лучше, но консенсуса все равно не наблюдается.
1.2. Первоисточники официальных данных
Причины, по которым в официальной эстонской историографии приводятся различные данные о количестве репрессированных, проясняются сразу, как только нам удается установить первоисточники этих данных. Дело это не самое легкое (поскольку авторы рассматриваемых работ упорно пренебрегают ссылками на источники), но выполнимое.
Данные о 8 тысячах арестованных и 1950 расстрелянных впервые были обнародованы в 1943 г. т. н. «Комиссией Центра поиска и возвращения увезенных». Эта структура была создана немецкими оккупационными властями в сентябре 1941 г. для расследования «преступлений большевиков»; характерно, что в современной эстонской историографии ее название фигурирует на немецком — «Zentralstelle zur Erfassung der Verschleppten» (ZEV). Именно сотрудники ZEV «насчитали» 7926 (по другим данным — 7691) арестованных в 1940–1941 гг. и заявили, что 1950 из них были расстреляны[475].
Практически одновременно с обнародованием «данных» ZEV нацистскими пропагандистами была издана книга под названием «Год страданий эстонского народа». И в этой книге говорилось не о 1950, а о 1850 расстрелянных в период «советской оккупации»[476]. Возможно, причиной расхождения в цифрах была примитивная опечатка.
Таким образом, официальная историография просто-напросто воспроизводит заявления нацистских пропагандистов. Разница заключается лишь в том, что авторы «Белой книги» и М. Лаар взяли приводимые ими цифры из данных ZEV, а авторы «Обзора» и «Рапортов» в качестве источника использовали цифры из книги «Год страданий эстонского народа».
Неудивительно, что и те, и другие предпочитают не распространяться о первоисточниках своих данных. О каком объективном исследовании может идти речь, если кропотливой работе с архивными документами авторы предпочитают повторение измышления нацистской пропаганды без какого-либо критического анализа?
1.3. Вопрос периодизации
Еще один важный вопрос звучит следующим образом: «К какому периоду относятся эти цифры?» Охватывают ли они всю «первую советскую оккупацию», то есть период с июня 1940-го по сентябрь 1941 г., или же только предвоенный этап?
Официальная эстонская историография четкого ответа на этот вопрос не дает. В «Белой книге» сначала говорится об аресте 8 тысяч человек и расстреле 1950 из них, потом — о депортации 1941 г., потом о казненных и убитых во время войны[477]. Такая последовательность изложения наводит на мысль, что цифра в 8 тысяч арестованных и 1950 расстрелянных относится лишь к предвоенному периоду «первой оккупации». В правильности этой мысли читателя убеждает и тот факт, что чуть позже в «Белой книге» утверждается, что после начала войны в республике было убито 179 человек по приговорам суда и 2199 — без суда[478]. По вполне понятным причинам число казненных и убитых в заключительный период «первой оккупации» не может превышать число казненных за всю «первую оккупацию». Следовательно, цифры 8 тысяч арестованных и 1950 казненных относятся только к довоенному периоду. На эту мысль наводит и формулировка, используемая Мартом Лааром: «в течение первого оккупационного года в Эстонии было арестовано около 8000 человек…»[479]. «Первый оккупационный год» закончился как раз 22 июня.
Однако историки Меелис Марипуу и Арго Куусик в выпущенном Комиссией по расследованию преступлений против человечности сборнике «Эстония, 1940–1945» относят цифры в 7 тысяч арестованных и 1850 казненных ко всей «первой оккупации»[480].
При этом М. Марипуу и А. Куусик приводят первоисточник этих цифр — данные комиссии ZEV о количестве арестованных с разбивкой по годам и месяцам. Как выясняется, в июне — декабре 1940 г., по данным ZEV, было арестовано в общей сложности 1034 человека (см. табл. 2).
Таблица 2. Численность арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1940 г. по данным ZEV[481]
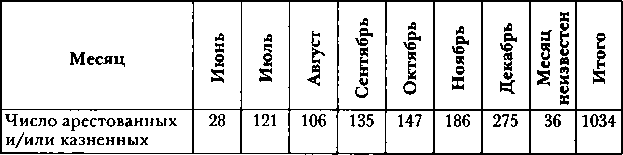
В 1941 г., по данным ZEV, было арестовано еще 5599 человек (см. табл. 3).
Таблица 3. Численность арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1941 г. по данным ZEV[482]

Кроме того, комиссия ZEV не смогла определить дату ареста еще 1058 человек. С их учетом получалось, что с июня 1940-го по сентябрь 1941 г. в Эстонии было арестовано 7691 человек (см. табл. 4).
Таблица 4. Итоговые данные ZEV о численности арестованных и/или расстрелянных в Эстонии в 1940–1941 гг. [483]

Опубликовав столь подробную раскладку данных ZEV, М. Марипуу и А. Куусик закрыли вопрос о том, какому периоду относятся приводимые эстонскими историками данные. Эти данные относятся ко всей «первой советской оккупации», включая и ее военный период [484].
Совершенно понятна причина, по которой Март Лаар и авторы «Белой книги» предпочли этот момент не афишировать, а, напротив, усердно маскировать. Ведь даже по данным немецких пропагандистов получается, что предвоенные советские репрессии в Эстонии носили достаточно умеренный характер: с июня 1940-го по июнь 1941 г. было арестовано от 3 до 4 тысяч человек. Даже если правдой являются утверждения о том, что подавляющее большинство арестованных было осуждено[485], на концепции «геноцида» можно сразу ставить крест.
1.4. Сравнение статистических данных
Однако даже эти цифры при ближайшем рассмотрении вызывают серьезные сомнения в их адекватности. Дело в том, что они противоречат статистике НКВД СССР — ведомства, располагавшего на этот счет исчерпывающими данными. К счастью, в настоящее время значительная часть документов НКВД, касающихся данной проблемы, рассекречена, введена в научный оборот или даже опубликована.
Возьмем, например, приговоренных к высшей мере наказания. Официальная эстонская историография утверждает, что в 1940–1941 гг. в Эстонии было казнено от 1850 до 1950 человек. Однако, согласно обнародованной российским историком-архивистом Олегом Мозохиным подробной статистике репрессивной деятельности советских органов госбезопасности, за 1940 г. во всем Советском Союзе к смертной казни было приговорено 1863 человека[486]. В 1941 г. число приговоренных к высшей мере увеличилось до 23 786 человек[487], из которых лишь 8001 человек был казнен по политическим мотивам[488] , причем большая часть смертных приговоров была вынесена после начала Великой Отечественной войны (см. табл. 5).
Таблица 5. Статистика репрессивной деятельности НКВД — НКГБ СССР в 1939–1941 гг. [489]

* Рассчитано по: Статистические сведения… С. 348–351.
Проведя простые вычисления, мы обнаружим, что за год «первой советской оккупации Эстонии» (с июня 1940-го по июнь 1941-го) во всем Советском Союзе было казнено от 2 до 3 тысяч человек. Было бы совершенно абсурдно предполагать, что подавляющее большинство из казненных в 1940–1941 гг. составляли эстонцы. Напомним, что одновременно с Эстонией к СССР были присоединены Латвия и Литва, а чуть раньше — Западная Украина и Западная Белоруссия. Неужели на этих территориях практически никого не приговаривали к смертной казни? И разве во всех остальных республиках СССР действовал мораторий на смертную казнь?
Российскими историками уже давно опубликованы данные о масштабах репрессий на территории присоединенной к СССР Западной Украины. С сентября 1939-го по май 1941 г. по делам УНКВД западноукраинских областей и ДТО НКВД Ковельской и Львовской железных дорог был вынесен 801 приговор к высшей мере наказания[490]. Неужели в маленькой Эстонии за тот же период смертных приговоров было вынесено в два с половиной раза больше, чем на Западной Украине?
Цифры расстрелянных, приводимые немецкими пропагандистами и эстонскими историками, совершенно явно не соответствуют документально подтвержденным сведениям о репрессивной деятельности органов НКВД СССР.
Любопытно, что цифры в 1850 и 1950 казненных не находят подтверждения не только в статистике НКВД, но и в немецких документах. Так, например, в годовом отчете командира полиции безопасности и СД за июль 1941 г. — 30 июня 1942 г. говорится о 623 казненных НКВД в Эстонии, причем в эту цифру, по всей видимости, входят и казненные после начала войны[491]. В отличие от материалов ZEV или книги «Год страданий эстонского народа», годовой отчет полиции безопасности и СД был документом внутренним, предназначавшимся не для пропаганды, а для информирования вышестоящего начальства. За год оккупации сотрудники СД имели достаточно времени, чтобы установить общее число казненных органами НКВД, и поэтому их цифры вызывают гораздо большее доверие, чем приводимые пропагандистами.
Таким образом, фигурирующее в официальной эстонской историографии число казненных в довоенной ЭССР противоречит как статистике НКВД, так и документам немецкой полиции и СД. Следовательно, эти цифры нельзя рассматривать как адекватные.
1.5. Численность заключенных
Попробуем разобраться, каким было реальное число арестованных и казненных граждан Эстонии в период «первой советской оккупации». При этом с целью последовательности изложения в этой главе мы будем рассматривать число арестованных и казненных в довоенный период, т. е. с июня 1940-го по июнь 1941 г. Аналогичные данные за период с 22 июня по сентябрь 1941 г. будут рассматриваться в главе 3.
Для начала определим реальное число граждан Эстонской ССР, осужденных в 1940-м — начале 1941 г. к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа. Полную ясность в этот вопрос могут внести документы НКВД Эстонской ССР. К сожалению, к настоящему времени соответствующие материалы еще не выявлены и не введены в научный оборот. Однако определить число осужденных эстонцев можно и другим путем.
Дело в том, что состав и движение заключенных ГУЛАГа детально исследованы российскими историками. Благодаря этому выяснить данные о наличии в советских лагерях и колониях эстонцев не составляет труда (см. табл. 6).
Таблица 6. Наличие эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа, 1937–1944 гг.[492]

* По данным, справки 2-го отдела ГУЛАГа НКВД СССР. В.Н. Земсков без ссылки на источник приводит цифру в 2371 чел.
Располагая этими данными, мы можем вычислить количество эстонцев, попавших в лагеря за время «первой советской оккупации».
Начнем с 1940 г. К началу этого года (то есть еще до присоединения Эстонии к Советскому Союзу) в лагерях ГУЛАГа находилось 2720 эстонцев — жителей СССР. К концу 1940-го заключенных-эстонцев стало чуть-чуть больше — 2781 человек. Из этого, однако, не следует, что в 1940 г. к заключению в лагерях был осужден 61 житель Эстонской республики. Чтобы получить реальную цифру осужденных за год, нам следует учесть следующие обстоятельства. Во-первых, некоторое количество эстонцев, находившихся в лагерях на начало года, к концу года умерло. Во-вторых, часть эстонцев содержалась не в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ), а в исправительно-трудовых колониях (ИТК), сведений о составе заключенных которых за 1940 г. нам обнаружить не удалось. В-третьих, кроме эстонцев на территории Эстонской ССР проживали представители других национальностей, также попадавшие в лагеря. В-четвертых, эстонцы проживали и в других республиках Советского Союза, и, соответственно, определенная часть осужденных эстонцев арестовывалась не на территории Эстонии.
Данные о смертности заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа, рассчитанные на основании документов НКВД, также хорошо известны. Поскольку мы еще не раз будем обращаться к этим цифрам, приведем таблицу смертности заключенных за 1940–1956 гг.:
Таблица 7. Смертность заключенных в системе ГУЛАГ, 1940–1956 гг.[493]

Как видим, в 1940 г. смертность заключенных в системе ГУЛАГ составила 2,72 % к числу заключенных. Мы не имеем никаких оснований предполагать, что среди эстонцев умерших было больше, чем среди заключенных других национальностей; следовательно, число умерших за год составило примерно 75 человек.
Число эстонцев в колониях за 1940 г., как уже говорилось, нам неизвестно. Известно, однако, что в 1941 г. соотношение эстонцев, заключенных в лагерях, к эстонцам, находящимся в колониях, составляло четырнадцать к одному. Поскольку в 1940 г. серьезных изменений в составе эстонцев-заключенных не наблюдалось (смертность, как мы помним, была относительно невелика, новых осужденных тоже немного), можно предположить, что соотношение эстонцев в ИТЛ и ИТК в 1940-м было таким же, как и в 1941-м. Следовательно, число заключенных в ИТК на начало года можно определить примерно в 200, а к концу года — в 210–220 человек.
Теперь учтем, что в новообразованной Эстонской ССР арестовывали не только эстонцев, но и проживавших там граждан других национальностей, в том числе русских. Определить численность этой категории не представляется возможным без обращения к документам органов госбезопасности ЭССР; по понятным причинам сделать этого мы не можем. Несомненно, однако, что эстонцы составляли большую часть арестованных и осужденных. С другой стороны, в лагеря попадали и эстонцы, арестованные в других областях СССР. Будем считать, что эти категории были примерно равны, и пренебрежем ими.
Таким образом, мы можем определить число жителей Эстонии, приговоренных в 1940 г. к заключению в лагерях и колониях, примерно в 150 человек.
Перейдем теперь к 1941 г. К концу года в ИТЛ и ИТК находилось 7052 эстонца. Годовая смертность заключенных в системе ГУЛАГ составила около 6,1 % от списочного состава; следовательно, общее количество заключенных-эстонцев вместе с умершими за 1941 г. может быть оценено в 7500 человек. Как мы помним, на начало года в лагерях и колониях имелось около 3 тысяч человек; следовательно, за год в систему ГУЛАГ поступало около 4,5 тысячи новых заключенных-эстонцев.
Итак, за весь 1941 г. в советские лагеря было отправлено 4,5 тысячи эстонцев. Однако, как уже говорилось, в этом разделе мы рассматриваем более узкий период: с июня 1940-го до середины июня 1941 г. Как известно, 14 июня 1941 г. была проведена масштабная депортация из Эстонии «антисоветского» и уголовного элемента. Эту тему мы будем рассматривать отдельно; пока же приведем лишь цифры: в результате депортации было арестовано 3178 человек, выслано — 5978[494]. Таким образом, из 4,5 тысячи арестованных в 1941 г. эстонцев большая часть — почти 3,2 тысячи — была отправлена в лагеря ГУЛАГа в результате июньской депортации и должна учитываться отдельно.
Таким образом, число жителей Эстонии, попавших в лагеря ГУЛАГа в январе — начале июня 1941 г., можно определить в тысячу человек, а общее число осужденных к заключению в период с июня 1940-го до начала июня 1941 г. — примерно в 1200 человек. В случае ошибки в наших расчетах это число может возрасти до 1,5 тысячи.
Окончательную ясность в этот вопрос может внести только привлечение новых документов союзного и республиканского НКВД — к сожалению, пока не введенных в научный оборот ни эстонскими, ни российскими историками. Однако даже из имеющейся статистики о наличии заключенных в ГУЛАГе понятно, что ни о трех, ни о четырех тысячах осужденных в июне 1940-го — начале июня 1941 г. граждан Эстонии речи не идет.
Упомянем о дальнейшей судьбе осужденных. В официальной эстонской историографии утверждается, что большая часть из них погибла в сибирских лагерях. Авторы «Белой книги», например, утверждают, что из арестованных в 1940–1941 гг. выжило лишь от 2 до 8 % заключенных-эстонцев[495]. Такого же мнения придерживаются и остальные историки: например, Март Лаар в своей книге рисует поистине апокалипсическую картину: «Большая часть заключенных, осужденных на тюремное заключение в России, скончалось в 1942–1944 гг. Дополнительные допросы и расстрелы продолжались и в лагерях. В некоторых лагерях органами госбезопасности готовились сфабрикованные материалы о заговорах и попытках к восстаниям, за которые люди, опять-таки, подвергались расстрелу. Из людей, арестованных в 1940–1941 гг., в живых осталось лишь около 5 %»[496].
Эти утверждения не соответствуют действительности. Статистические данные о численности эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа в 1941–1944 гг. (см. табл. 6) явно противоречат утверждениям официальной эстонской историографии. На 1 января 1942 г. в системе ГУЛАГ, как мы помним, в общей сложности находилось более 7 тысяч эстонцев, а на 1 января 1944 г. — более 4 тысяч. Что и говорить, во время войны смертность среди заключенных ГУЛАГа действительно была очень велика — однако все же не так, как это описывается в официальной эстонской историографии.
Кроме того, следует помнить, что столь высокая смертность была обусловлена не злой волей Кремля — это был результат тяжелых и изнурительных испытаний военного времени, от которого страдали не только заключенные ГУЛАГа, но и все население Советского Союза.
1.6. Численность казненных
Теперь обратимся к числу приговоренных к высшей мере наказания — расстрелу. Как мы помним, согласно статистике деятельности органов НКВД, во всем Советском Союзе с июня 1940-го по июнь 1941 г. было расстреляно около 2–3 тысяч человек, а после оккупации Эстонии немецкими войсками сотрудники полиции и СД насчитали 623 казненных НКВД, включая расстрелянных во время войны[497]. Сопоставление этих данных позволяет предположить, что общее количество казненных за первый календарный год «советской оккупации» составляло несколько сотен человек.
В уже упоминавшейся коллективной работе «Обзор периода оккупации» помимо цифры в 1850 расстрелянных мы можем обнаружить гораздо более правдоподобные данные: «в 1940–1941 гг. особые трибуналы, действовавшие в Эстонии, приговорили к смерти по крайней мере 300 человек, примерно половину из которых — еще до начала войны»[498]. Далее авторы «Обзора» пишут, что смертные приговоры в Эстонии в 1940–1941 гг. выносились не гражданскими судами, а именно военными трибуналами — сначала трибуналом Ленинградского военного округа, а затем трибуналом войск НКВД Прибалтийского округа. При этом дела вместе с предложениями о наказании прокуратура направляла одновременно и трибуналам, и Особому совещанию НКВД СССР[499].
Таким образом, согласно авторам «Обзора», с июня 1940-го по июнь 1941 г. к высшей мере наказания в Эстонии были приговорены не 1950, а около 150 человек.
Неожиданное подтверждение этой цифре мы находим в книге Марта Лаара. «Если в 1940 г. известно лишь несколько случаев юридического убийства, — пишет Лаар, — то в 1941 г. количество людей, приговоренных к смерти, постепенно стало расти. В Эстонии самым известным местом приведения в действие смертных приговоров являлись дачи на участке бывшего банкира Клауса Шеэля, расположенном на Пирита-Косе, которые с апреля 1941 г. использовались как место расстрела и погребения. На участке Шеэля было найдено 78 трупов расстрелянных людей, большая часть жертв позднее была перезахоронена на кладбище Лийва. Возможно, что часть жертв была расстреляна еще в Патарейской тюрьме или во Внутренней тюрьме, и их трупы были позднее погребены на участке Шеэля»[500].
Как видим, здесь Лаар опровергает и самого себя, и остальных авторов официальных работ о советских репрессиях в Эстонии. Авторы «Белой книги», «Обзора» и «Рапортов» единодушно утверждают, что в 1940 г. было расстреляно от 250 до 330 человек, а Лаар пишет: «в 1940 г. известно лишь несколько случаев юридического убийства». Несколько, а не несколько сотен. И на территории основного захоронения расстрелянных за год «советской оккупации» было найдено 78, а не полторы тысячи тел.
Есть еще один любопытный момент: в 1996 г. все тот же Март Лаар вместе с еще одним эстонским историком Яаном Троссом издал в Стокгольме на эстонском языке книгу под названием «Красный террор», в которой были опубликованы списки эстонцев, казненных по приговору суда в 1940–1941 гг. В этих списках значится 179 человек[501].
Об адекватности этих цифр свидетельствует еще одно обстоятельство. Согласно документам НКГБ ЭССР, к 11 июня 1941 г. в республике проживало 367 членов семей участников контрреволюционных националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН[502]. Сделав поправку на то, что часть членов семей осужденных к ВМН также арестовывалась, мы получаем все ту же цифру — около 150–200 расстрелянных.
Окончательно вопрос о численности осужденных к ВМН был закрыт в 2006 г., когда в приложениях к уже упоминавшейся статье эстонских историков М. Марипуу и А. Куусика был опубликован основанный на материалах Эстонского государственного архива детальный список граждан Эстонии, расстрелянных по приговору советских военных трибуналов в 1940–1941 гг[503].
В этом списке — 324 человека, 184 из которых были расстреляны до 22 июня 1941 г., а 140 — после. Из 184 человек, казненных до 22 июня 1941 г., двое был осуждены к ВМН в 1940 г. и 182 — в 1941-м. По национальному составу казненные распределяются следующим образом: 138 эстонцев (75 %) и 46 русских (25 %).
Конечно, казнь даже 184 невинных людей — преступление. Однако между 1950 и 324 расстрелянными все-таки существует весьма и весьма существенная разница — разница между политической ложью и исторической истиной. В конце концов, если бы разницы не существовало, авторам официальных работ о советских репрессиях в Эстонии не было бы нужды на порядок завышать численность расстрелянных. Кроме того, почему всех этих казненных следует считать невиновными?
Не будем углубляться в дискуссии, казнили ли в СССР 1930-х — 1940-х гг. невиновных (безусловно, казнили) и каково было среди казненных соотношение виновных и невиновных. Подобные дискуссии интересны, но малопродуктивны. Давайте просто посмотрим, за что советские военные трибуналы в Эстонии приговаривали к ВМН (см. табл. 8).
Таблица 8. Состав преступления осужденных к ВМН граждан Эстонии, 1940 — июнь 1941 г.[504]

Приведем несколько конкретных дел.
Александр Пилтер и Вело Весило приговорены к ВМН 11 декабря 1940 г. военным трибуналом ПрибОВО за дезертирство из 22-го Эстонского стрелкового корпуса РККА и попытку побега в Финляндию.
Владимир Лебедев, осужден 5 января 1941 г. Белогвардейский офицер, воевал в армии Деникина, с 1932 г. — осведомитель эстонской тайной полиции в Петсери.
Арвед Лаане, командир 42-го стрелкового полка 22-го Эстонского корпуса. Похитил казенные деньги (5000 крон), пытался с ними скрыться, но был арестован в ресторане.
Питер Таранадо, бывший офицер царской армии, после революции — командир 2-го Петроградского полка Красной Армии. Перешел на сторону белых, воевал в армии генерала Юденича, в Эстонии сотрудничал с местной политической полицией, а во время советско-финской войны 1939–1940 гг. собирался отправиться в Финляндию, чтобы воевать с большевиками.
Эвальд Мадиссон, секретный агент эстонской тайной полиции, а после присоединения Эстонии к Советскому Союзу — секретный сотрудник НКВД. О том, что служил в тайной полиции, он, естественно от руководства НКВД утаил; кроме того, передавал начальству дезинформацию.
Ханс Педак, эстонский военный, кавалер Креста Свободы. В 1919 г. командовал подразделением, занимавшимся расстрелами военнопленных красноармейцев[505].
Как видим, основная масса смертных приговоров выносилась за «старые грехи»: военные преступления во время гражданской войны и репрессии против коммунистов. Назвать «необоснованными» большинство из этих приговоров проблематично. Исключение составляют приговоры, вынесенные за разведывательную деятельность против СССР: очевидно, что сотрудники эстонских разведорганов, которым выносились эти приговоры, были виновны лишь в выполнении своего служебного долга — если, разумеется, параллельно они не взаимодействовали с разведорганами третьих стран.
1.7. Выводы
Подведем предварительные итоги. В официальной эстонской историографии утверждается, что число арестованных граждан Эстонии в период с июня 1940-го по июнь 1941 г. составило от 7 до 8 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена. Число приговоренных к расстрелу определяют в 1850–1950 человек.
При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется интересный момент. Названные цифры восходят к данным действовавшей во время нацистской оккупации комиссии ZEV и уже поэтому выглядят сомнительными. Кроме того, эти цифры относятся ко всему периоду т. н. «первой советской оккупации» (с июня 1940-го по сентябрь 1941 гг.). Число же арестованных в довоенный период, по данным ZEV, составляет примерно 3–4 тысячи человек.
По понятным причинам в официальной эстонской историографии этот факт не афишируется — ведь эти данные опровергают концепцию «геноцида». О каком геноциде может идти речь, если из 1,1 миллиона граждан Эстонии были арестованы несколько тысяч? Тем более что среди арестованных было много русских?
Однако даже эти показатели репрессивной деятельности советских властей в Эстонии не соответствуют действительности. Это выясняется при сопоставлении их со статистикой НКВД, опубликованной российскими учеными.
На самом деле за период с июня 1940 г. по сентябрь 1941 г. в Эстонии было приговорено к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа не 7–8 тысяч человек, а около 1,7 тысячи[506]. Число осужденных к ВМН за тот же период составило не 1950–1850, а около 400 человек[507].
Реальное число осужденных в довоенный период также значительно отличается от данных ZEV. По данным ZEV, с июня 1940-го по июнь 1941 г. в Эстонии было арестовано около 3–4 тысяч человек, большинство из которых было осуждено. Однако на самом деле число приговоренных к заключению в системе ГУЛАГа составило около 1350 человек. К ВМН было осуждено 184 человека.
Таким образом, к заключению в лагерях ГУЛАГа и ВМН было осуждено примерно 0,15-0,2 % населения республики. Следовательно, вопреки утверждениям официальной эстонской историографии, репрессии как «первой советской оккупации», так и ее предвоенного периода невозможно рассматривать как геноцид.
Глава 2 ИЮНЬСКАЯ ДЕПОРТАЦИЯ 1941 г.
2.1. Официальная эстонская версия
14 июня 1941 г. в Эстонии, как и в остальных Прибалтийских республиках, была проведена операция по выселению в отдаленные районы СССР «антисоветского и уголовного элемента». Вне всякого сомнения, это была самая масштабная репрессивная акция со времени вхождения Эстонии в состав Советского Союза; достаточно сказать, что число арестованных в ходе июньской депортации значительно превысило число арестованных за весь предыдущий год. А ведь кроме арестованных были еще и ссыльные…
Неудивительно, что тема июньской депортации пользуется особой популярностью у эстонских историков и политиков.
Утверждается, что депортацию из Эстонии советские власти начали готовить то ли в первые дни после присоединения республики к СССР, то ли еще раньше. В качестве причины депортации называется желание Кремля «создать среди народа чувство постоянного страха и повиновение правящему режиму»[508]. Согласно утверждениям официальной эстонской историографии, сама депортация проводилось с крайней жестокостью, сопровождалась расстрелами и массовой гибелью депортируемых — как в пути, так и в ссылке.
«Кульминацией геноцида первого года советской оккупации стала массовая депортация 14 июня 1941 г., - говорится в «Белой книге». — В Сибирь, в окрестности Новосибирска и Кирова, в нечеловеческие условия были насильственно вывезены умирать тысячи эстонских семей, в том числе младенцы, старики и беременные женщины… Проведенная 14 июня 1941 г. массовая депортация представляла собой совершенное советским правительством преступление, не имеющее срока давности — геноцид против эстонского народа»[509].
С этой точкой зрения согласен и Март Лаар. «Крупнейшим актом геноцида или народоубийства стала высылка семей в Сибирь в рамках начавшегося 14 июня 1941 г. процесса принудительного переселения», — утверждает он[510].
Как видим, депортацию 1941 г. называют актом геноцида; однако соответствует ли это действительности?
2.2. Численность депортированных
Прежде всего, разберемся с численностью депортированных. В официальной эстонской историографии единодушия по этому вопросу не наблюдается.
В «Белой книге» говорится о 9267 депортированных[511]. Март Лаар приводит похожую цифру — 9254 депортированных[512]. Зато в «Рапортах» комиссии историков при президенте Эстонии приводятся принципиально иные данные: «14 июня 1941 г. более 10 000 человек (по некоторым данным 10 861) были депортированы из Эстонии целыми семьями»[513]. Авторы «Обзора периода оккупации» даже не пытаются разрешить это противоречие. «Точное количество людей, депортированных в июне 1941 г., назвать сегодня невозможно, — пишут они. — По различным данным, это число составляли от 9000 до 10 000 человек»[514].
В чем же причина этих расхождений?
И Март Лаар, и авторы «Белой книги», и авторы «Рапортов» используют один и тот же источник: поименные списки Эстонского бюро регистра репрессированных (ERRB). Однако используют они их по-разному.
Авторы «Белой книги» и Лаар учитывают лишь тех, кто был депортирован в ходе операции 14 июня[515]. Авторы «Рапортов» поступили менее добросовестно: в цифру 10 861 депортированных ими включены не только депортированные семьи, а еще и дети, родившиеся в депортации, и даже те, кто был включен в списки депортированных, но депортирован не был[516].
Март Лаар и авторы «Белой книги» не решаются серьезно завышать число депортированных по вполне уважительной причине. Дело в том, что проблема депортации 1941 г. из Прибалтики вообще и из Эстонии в частности достаточно хорошо исследована российскими историками. Итоговая статистика депортационной операции 1941 г. приводится в направленной Сталину докладной записке наркома НКГБ СССР Меркулова от 17 июня 1941 г. Этот документ давно опубликован и хорошо известен историкам.
«Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, — сообщается в записке. — По Эстонии: арестовано 3178 чел., выселено 5978 чел., всего репрессировано 9156 чел.»[517].
Как видим, цифры «Белой книги» и М. Лаара лишь незначительно превышают данные, содержащиеся в докладной наркома госбезопасности СССР Меркулова. Зато количество депортируемых по версии «Рапортов» явно неадекватно и превышает данные Меркулова практически на две тысячи.
О показательной манипуляции цифрами можно судить еще по одному примеру. Среди 3178 арестованных во время депортационной операции были офицеры 22-го эстонского территориального стрелкового корпуса РККА. В «Обзоре периода оккупации» утверждается, что число арестованных в рамках депортации эстонских офицеров составило около 300 человек[518].
Эта цифра не соответствует действительности. Еще раз обратимся к докладной Меркулова: «Бывших офицеров литовской, латвийской и эстонской армий, служивших в территориальных корпусах Красной армии, на которых имелся компрометирующий материал, арестовано — 833, в том числе по Литве — 285, по Латвии — 424, по Эстонии — 224»[519]. Как видим, авторы «Обзора» завышают реальное число арестованных эстонских офицеров примерно в полтора раза.
К сожалению, именно завышенные цифры депортированных пользуются наибольшей популярностью среди эстонских политиков. Например, посол Эстонии в России Тийт Матсулевич заявил в интервью газете «Известия» следующее: «Наверное, вообще неэтично ссылаться на количественные показатели. 14 июня 1941 г. из нашей страны вывезли более 10 тысяч человек»[520].
На самом же деле из Эстонии было депортировано не «более 10 тысяч», а «более 9 тысяч», что в процентном отношении составляло менее 1 % от населения республики.
2.3. Кто подлежал депортации
Данные о численности депортированных делают крайне сомнительными попытки отождествить июньскую депортацию с геноцидом. Даже самому пристрастному человеку понятно, что насильственная высылка менее 1 % населения не может быть названа «народоубийством».
Не желая отказываться от идеи «геноцида», представители официальной эстонской историографии пытаются доказать, что, хотя собственно депортации были подвергнуты немногие, под угрозой выселения находилась значительная часть населения Эстонии. Например, Март Лаар утверждает, что «по директиве, составленной в 1941 г. органами советской госбезопасности, принудительной высылке со вновь присоединенных территорий СССР подлежали все члены бывшего правительства, крупнейшие государственные чиновники и представители суда, военнослужащие высших чинов, члены политических партий, члены добровольных организаций по защите государства, члены студенческих организаций, люди, активно участвовавшие в вооруженном сопротивлении против советских властей, полицейские и члены военизированной организации Kaitseliit (Союз защиты), представители зарубежных фирм и вообще все, кто имел хоть какие-то связи с заграницей (в т. ч. филателисты и интересующиеся эсперанто), а также крупнейшие предприниматели и банкиры, церковнослужащие и члены Красного Креста. В общей сложности, в данную категорию входило 23 % всего населения Эстонии»[521].
Это утверждение М. Лаара является явной и несомненной ложью. Давайте обратимся к ключевому документу депортации — постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г.
«В связи с наличием в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, бывших полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпионских целях, ЦКВКП(б) и СНК СССР постановляют:
1. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать с конфискацией имущества и направить в лагеря на срок от 5 до 8 лет и после отбытия наказания в лагерях сослать на поселение в отдаленные местности Советского Союза следующие категории лиц:
а) активных членов контрреволюционных организаций и участников антисоветских националистических белогвардейских организаций (таутинники, католическая акция, шаулисты и т. д.);
б) бывших охранников, жандармов, руководящий состав бывших полицейских и тюремщиков, а также рядовых полицейских и тюремщиков, на которых имеются компрометирующие их материалы;
в) бывших крупных помещиков, фабрикатов и крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии;
г) бывших офицеров польской, литовской, латвийской, эстонской и белой армий, на которых имеются компрометирующие материалы;
д) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной деятельностью.
2. Разрешить НКГБ и НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР арестовать и направить в ссылку на поселение в отдаленные районы Советского Союза сроком на 20 лет с конфискацией имущества следующие категории лиц:
а) членов семей указанных в п. 1. - “а”, “б”, V, V категорий лиц, совместно с ними проживающих или находившихся на их иждивении к моменту ареста;
б) членов семей участников к.-р. националистических организаций, главы которых перешли на нелегальное положение и скрываются от органов власти;
в) членов семей участников к.-р. националистических организаций, главы которых осуждены к ВМН;
г) лиц, прибывших из Германии в порядке репатриации, а также немцев, записавшихся на репатриацию в Германию и отказавшихся выехать, в отношении которых имеются материалы об их антисоветской деятельности и подозрительных связях с иноразведками.
3. Разрешить НКВД Литовской, Латвийской и Эстонской ССР выслать в административном порядке в северные районы Казахстана сроком на 5 лет проституток, ранее зарегистрированных в бывших органах полиции Литвы, Латвии, Эстонии и ныне продолжающих заниматься проституцией.
4. Рассмотрение дел на лиц, арестованных и ссылаемых согласно настоящему постановлению, возложить на Особое совещание при НКВД СССР…»[522]
Как видим, вопреки утверждениям М. Лаара, высылке не подлежали члены политических партий, военизированных и студенческих организаций, служители церкви, члены Красного Креста и «вообще все, кто имел хоть какие-то связи с заграницей (в т. ч. филателисты и интересующиеся эсперанто)». Это утверждение эстонского историка является ложью. Полуправдой является утверждение о том, что высылке подлежали полицейские, тюремщики и офицеры; на самом деле эти категории депортировались только при наличии на них компрометирующих материалов. Если же мы обратимся к документам, то узнаем, что на многих тюремщиков и офицеров в НКВД ЭССР компромата не имелось.
Вот, например, хранящиеся в фондах Государственного архива РФ показания эстонца Карла Метса, до присоединения Эстонии к СССР служившего надзирателем в тюрьме города Выру: «Примерно в июле месяце 1941 г., после того, как части Красной Армии покинули гор. Выру, ко мне на квартиру зашел надзиратель Адер, который сказал мне следующее: “Пойдем работать обратно в тюрьму, там уже собираются старые работники”. Я послушал совета Адера и пошел в тюрьму, где меня принял временный директор тюрьмы Унде, который во время Советской власти работал начальником мастерских в тюрьме гор. Выру. Придя на работу в тюрьму, я там застал прежних надзирателей тюрьмы: Рохланд Кустава, Раудспе Ви-дрик, Нагби Бенегард, Симуль Ян, Потсен Август, Селль Яков, Рааг Эрих, Вяхи Юханес, Тоом Август»[523]. Как видим, изрядное число тюремщиков в городе Выру депортировано не было.
История Карла Метса не является единичной. В период независимости Эстонии в тюрьме города Таллина служил надзиратель Кристиан Паусалу, замеченный в жестоком обращении с заключенными. Как тюремщик, на которого имелся компромат, он в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г. должен был быть депортирован. Однако Паусалу не только не подвергся высылке и аресту, но даже был призван в армию после начала Великой Отечественной войны[524].
2.4. Численность подлежавших депортации
Очевидной ложью является также утверждение М. Лаара, что в категорию подлежащих депортации входило 23 % населения Эстонии. Категории населения, подлежащие депортации, практически полностью совпадают с категориями учтенного антисоветского и уголовного элемента в справке НКГБ СССР от 5 июня 1941 г. Вот этот документ:
«СВЕДЕНИЯ о количестве учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента по НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР

Примечание:1. По Литовской ССР сведения даны по состоян. на 3/VI.
По Латвийской и Эстонок. ССР — на 26/У
2. В графе 10 по Латвийской ССР включены и немцы, отказавшиеся выехать в Германию.
3. В графе 5 по Эстонской ССР включены проститутки.
Нач. 3-го. отд. 4-го отдела 3-гоуправл. НКГБ СССР Ст. лейтенант гос. безопасности РУДАКОВ». [525]
Как видим, к началу июня 1941 г. общая численность учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента в Эстонии составляла 14 471 человек, что составляет около 1,3 % населения Эстонии — а вовсе не 23 %.
Авторы официальных работ по истории советских репрессий в Эстонии осведомлены как о существовании справки НКГБ СССР от 5 июня 1941 г., так о ее содержании. Однако в «Белой книге» этот документ почему-то выдается за «плановое задание депортации» — дескать, Кремль распорядился выселить все 14,5 тысячи человек, значащихся в справке [526].
На самом же деле далеко не все политически неблагонадежные подлежали депортации. Это хорошо видно из документов, хранящихся в Центральном архиве ФСБ. Начиная с 6 июня 1941 г. НКГБ и НКВД Эстонии ежедневно высылали в Москву телефонограммы, в которых указывалось число выявленного и намеченного для депортации антисоветского и уголовного элемента по состоянию на 24:00 предыдущего дня. Дело в том, что сведения, приведенные в «Справке о количестве учтенного антисоветского и социально-чуждого элемента по НКГБ Литовской, Латвийской и Эстонской ССР», носили весьма приблизительный характер. Для повседневной деятельности органов НГКБ этого, может быть, и было достаточно, однако для проведения масштабной депортационной акции были необходимы максимально точные цифры.
Согласно первой телефонограмме от 6 июня 1941 г., НКВД и НКГБ ЭССР выявили 9205 подлежавших депортации представителей антисоветского и уголовного элемента, 2721 из которых предполагалось арестовать, а 6484 — выселить. По категориям намеченные к депортации распределялись следующим образом (см. табл. 9).
Таблица 9. Численность намеченных к депортации из Эстонии по состоянию на 6 июня 1941 г.[527]

Телефонограммы с постепенно увеличивавшимися цифрами намеченных к депортации из Эстонии направлялись в Москву ежедневно. Окончательные данные были переданы за два с половиной дня до начала операции, ранним утром 12 июня (см. табл. 10).
Таблица 10. Численность намеченных к депортации из Эстонии по состоянию на 24:0011 июня 1941 г. [528]

Дальнейших телефонограмм из Таллина о численности намеченных к депортации в Центральном архиве ФСБ не обнаружено; впрочем, из хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации записки замнаркома внутренних дел СССР В.В. Чернышова замнаркому НКГБ СССР И.А. Серову об эшелонной разнарядке по репрессируемым элементам от 13 июня 1941 г. видно, что число намеченных к депортации из Эстонии было еще немного увеличено и составило 11102 человека [529]. Казалось, это была окончательная.
Однако в период с 12 по 14 июня что-то произошло. Это четко прослеживается по документам НКГБ ЭССР. Еще 11 июня из Эстонии планировалось депортировать 11 033 человека. А в день проведения операции, 14 июня, план был уже другой: депортировать 9596 человек, почти на 1,5 тысячи меньше[530]. Кто принял решение об уменьшении количества депортируемых, к настоящему времени остается неизвестным, однако факт принятия такого решения налицо.
Как видим, численность намеченных к депортации из Эстонии постоянно корректировалась то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения. Однако даже максимальное число намеченных к депортации никогда не достигало 23 % населения Эстонии. Ошибочным оказывается и утверждение авторов «Белой книги» о том, что «плановое задание на депортацию» составляло около 14,5 тысячи человек. На самом деле окончательное число намеченных к депортации из Эстонии было в полтора раза меньше — не 14 471, а 9596 человек.
2.5. Количество убитых при депортации
В официальной эстонской историографии утвердилось мнение; что депортация сопровождалась расстрелами депортируемых. «Несколько сотен из них были убиты еще до отправки, мужчины арестованы и отправлены в трудовые лагеря, женщины и дети — депортированы», — говорится в работе, изданной таллинским Музеем оккупации[531].
В размещенной на сайте все того же Музея оккупации статье Ханнеса Вальтера мы читаем: «14 июня 1941 г. на поселение было выслано более 10 тысяч человек. Около 2200 было казнено на месте»[532]. Ставки, как видим, растут: оказывается, на месте было убито не «несколько сотен», а более 2 тысяч.
Обратившись к документам, мы обнаруживаем, что ни «нескольких сотен», ни «2200» убитых при депортации не существовало в природе. Возьмем уже упоминавшуюся докладную записку наркома госбезопасности СССР Меркулова: «Подведены окончательные итоги операции по аресту и выселению антисоветского, уголовного и социально опасного элемента из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР… Во время проведения операции имели место несколько случаев вооруженного сопротивления со стороны оперируемых, а также попыток к бегству, в результате которых убито 7 чел., ранено 4 чел. Наши потери: убито 4 чел., ранено 4 чел.»[533]. Как видим, в ходе депортации были убиты 7 человек во всей Прибалтике, а не несколько сотен в одной Эстонии. Что же касается Эстонии, то здесь при попытке сопротивления представителям НКВД было убито два и ранен один человек[534].
2.6. Гибель депортируемых при перевозке
Весьма популярным в официальной историографии является утверждение о том, что условия перевозки депортируемых вызвали массовую смертность. «Всего для проведения операции было запасено 490 вагонов, — пишет, к примеру, Март Лаар. — Депортирующие действовали с необычной жестокостью, так, в переполненные с ног до головы вагоны заталкивались также беременные женщины и смертельно больные старики»[535]. Что же подразумевается под переполненными «с ног до головы» вагонами? Лаар уточняет: людей из Эстонии увозили в вагонах для скота, причем «в каждый вагон было размещено 40–50 переселенцев»[536].
В еще более черных красках проведение депортации описал в 70-х гг. XX в. «президент Эстонии в изгнании» Август Реи: «Депортируемым приказывали сесть в грузовики и ехать по направлению к железнодорожной станции, где их ожидали вагоны для скота с заколоченными окнами. В полу вагонов были отверстия, которые должны были служить уборной. На станциях мужчин и женщин разделяли и помещали в разные вагоны. В один вагон заталкивали до 40 человек, вагоны были так переполнены, что людям приходилось по очереди ложиться на пол, чтобы поспать. Двери “загруженного” вагона запирались снаружи железной скобой. Поезда сопровождались энкаведешниками и солдатами Красной Армии, по три дня стояли на станциях, пока офицеры НКВД готовили свой отчет. Все это время депортируемые не получали ни воды, ни пищи. Некоторые взяли с собой еду, но того, что не будет даже воды, никто не предвидел. Изнемогая от жажды под горячим летним солнцем, люди тянули руки через железные прутья окон, умоляя дать им поесть, а чаще — попить. Их мольбы не находили отклика, стража отказывалась открывать двери или передавать воду в окно. Некоторые от жары и жажды теряли рассудок, маленькие дети умирали, беременные женщины раньше времени рожали детей на грязном полу вагонов, но охранники этого не замечали. Не убирали ни трупов, ни сумасшедших. Лишь несколько дней спустя, когда поезда уже пересекли эстонскую границу, в первый раз были открыты двери, и узникам дали немного воды и жидкого супа»[537].
Это красочное описание до сих пор воспроизводится в работах эстонских авторов[538]. Однако прежде чем ужасаться жестокости советских оккупантов, зададимся вопросом: откуда Август Реи об этом всем мог знать? Ведь хорошо известно, что бывший посол Эстонии в Советском Союзе Реи еще в июле 1940-го бежал в Швецию и с тех пор в Эстонии не появлялся. Описанные им ужасы не могут рассматриваться как свидетельство очевидца.
Для того чтобы понять реальные условия перевозки депортируемых, прежде всего следует обратиться к хорошо известной эстонским историкам «Инструкции начальникам эшелонов по сопровождению заключенных из Прибалтики». В связи с важностью этого документа (и, разумеется, понимая неизбежную дистанцию между любыми инструкциями и реальностью, но учитывая также, что дистанция эта не может быть слишком велика) мы приведем его полностью.
«ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКАМ ЭШЕЛОНОВ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ПРИБАЛТИКИ
1. Для сопровождения эшелонов заключенных группы “А” и “Б” к месту назначения на каждый эшелон выделяются распоряжением УКВ НКВД СССР:
а) начальник эшелона (из командиров конвойных войск НКВД)
б) врач -1, мед фельдшер -1 (распоряжением НКВД) и конвой в составе 39 человек (из состава конвойных войск).
2. Заключенные подразделяются на две группы “А” и “Б”.
В группу “А” входят все главы семей, члены их по указанию НКВД-НКГБ с отметкой в личном деле.
Группа "Л" конвоируется конвоем, в составе 65 чел. Прием их производится на пунктах концентрации по отдельному акту, составленному в 2-х экз.
В группу “Б” входят все члены семей по указанию НКВД и НКГБ с отметкой в личном деле.
Группа “Б” конвоируется конвоем в составе 30 чел. Прием их конвоем производится на первичных станциях от представителей НКВД-НКГБ без личных дел по списку. Личные дела ведутся представителем НКВД-НКГБ на пункты концентрации, где окончательно сдается весь состав эшелона с личными делами начальнику конвоя. Акт составляется в 3-х экз., один в НКВД, один для сдачи в месте назначения и один для конвойных войск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Охрана вагонов с заключенными на местах и прием осуществляются конвоем, согласно УСКВ СССР по окончании приема.
3. Заключенных с первичных пунктов, конвой совместно с представителями НКВД и НКГБ конвоирует на пункты концентрации согласно схемы, где формирует общий эшелон в составе 50–55 вагонов.
4. Отправка заключенных к месту назначения производится эшелонами в составе, оборудованных по летнему для людских перевозок, в том числе для конвоя — один оборудованный санизолятор и один вагон-ларек.
В каждый вагон с отметкой “Б” помещается 30 чел. взрослых и детей с их имуществом.
Главы семей по отметке НКВД-НКГБ помещаются в отдельном вагоне с отметкой “А” и следуют отдельным эшелоном.
Для громоздких вещей на каждый эшелон выделяется по 2 товарных вагона.
5. Заключенным разрешается брать с собой следующее имущество и мелкий хозяйственный инвентарь: 1) одежда, 2) белье, 3) обувь, 4) постельная принадлежность, 5) посуда столовая (ложки, ножи, вилки), чайная и кухонная, ведра, 6) продовольствие, 7) мелкий хозяйственный и бытовой инструмент, 8) деньги (сумма не ограничивается) и бытовые ценности (кольца, часы, серьги, браслеты, портсигары и т. п.), 9) сундук или ящик для упаковки вещей. Общий вес указанных вещей не должен превышать 100 кгр. на семью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Громоздкие вещи, в том числе хозяйственный инвентарь, перевозятся в специально выделенных вагонах.
6. Начальник эшелона принимает заключенных группы “Б” без личного обыска и досмотра вещей по именному списку и личные документы на них по описи от местных органов НКВД, размещает заключенных по вагонам — семьями.
Группа “А” — НКГБ обыскивается в вагонах после посадки.
После приема заключенных в эшелон, начальник эшелона полностью отвечает за состояние эшелона и доставку всех принятых к месту назначения.
7. Начальник эшелона предупреждает заключенных о том, что при попытке к побегу охраной эшелона будет применено оружие. Против женщин и детей оружие применять воспрещается.
8. В случаях тяжелых заболеваний заключенных в пути — начальник эшелона передает больных через местные органы УНКВД на излечение в ближайшие пункты органов здравоохранения, о чем составляет соответствующий акт и сообщает в Главное Управление НКВД СССР.
При обнаружении случаев эпидемических заболеваний начальник эшелона отцепляет соответствующий вагон и оставляет для карантина под наблюдением местного органа НКВД, о чем доносит в Главное Управление НКВД СССР.
9. На оплату расходов, связанных с сопровождением заключенных (питание, телеграфные и др. расходы) НКВД УССР и НКВД БССР выделяют начальнику эшелона под отчет денежный аванс, в том числе на питание заключенных по 3 р. 50 к. на человека в сутки.
10. В пути следования по жел. дороге заключенные группы “Б” получают бесплатно один раз в сутки горячую пищу и 800 грамм хлеба на чел.
Горячая пища и хлеб выдаются в железнодорожных буфетах треста ресторанов и буфетов НКГорга СССР.
Для получения питания, начальник эшелона за 24 часа до прибытия на станцию телеграфно сообщает директорам буфетов станции и соответствующим ДТО НКГБ по форме: “Приготовьте эшелону переселенцев НКВД ‘Литер’Ко… число… часам… обедов… кгр. хлеба — начальник эшелона — подпись”.
Обеды выдаются на вынос в собственной посуде заключенных. Для получения обеда и кипятка, начальник эшелона выделяет необходимое количество людей из заключенных группы “В” с каждого вагона под наблюдением сопровождающих из состава конвоя.
После выдачи обедов, начальник эшелона производит расчеты за отпущенное питание заключенным по счетам ресторана или буфета.
11. Проверка наличия заключенных по вагонам производится не реже одного раза в сутки. Группа “А” содержится на общих основаниях с заключенными.
12. О движении и местонахождении эшелона и его состоянии — начальник эшелона ежедневно доносит по телеграфу в Главное Управление НКВД СССР и Управление Конвойных Войск НКВД по форме: “Москва, Главное Управление НКВД СССР и Управление Конвойных Войск НКВД эшелон Ко… проследовал станцию… тогда-то… подпись”.
О всех важных происшествиях, имевших место в пути следования (побеги, заболевания, перебой с питанием и т. п,), начальник эшелона немедленно доносит в Главное Управление НКВД СССР и в ближайший ДТО НКВД.
13. Начальники эшелонов в пути следования за содействием обращаются в транспортные органы НКВД и железнодорожную милицию.
14. По прибытии на станцию назначения — начальник эшелона сдает людей в вагонах представителю местного отдела или управления НКВД по акту с приложением именного списка и личных дел заключенных по описи. Акт составляется в 3-х экз. за подписями: принимающего, сдавшего и сопровождающего эшелон врача.
Один экземпляр акта направляется в отдел трудовых поселений ГУЛАГ в НКВД СССР, второй экземпляр передается представителю местного органа НКВД (принимающему) и третий экземпляр остается на руках у начальника эшелона для отчета»[539].
Читая «Инструкцию», следует помнить об одном важном обстоятельстве. Этот документ не вполне достоверен с источниковедческой точки зрения — публикуя его, эстонские историки ссылаются не на архивные фонды, а на тартускую газету «Postimees» за 13 июня 1942 г. Таким образом, мы имеем дело с документом, захваченным немцами и потом прошедшим через руки пропагандистов доктора Геббельса. Соответственно, никто не может поручиться, что в документе нет внесенных немцами искажений[540].
Однако даже в этом виде «Инструкция» совершенно явно рисует картину, отличную от утвердившейся в официальной эстонской историографии. Эстонские авторы утверждают, что в один вагон помещалось то ли 40, то ли 50 депортируемых. Однако в «Инструкции» четко говорится: «В каждый вагон с отметкой “Б” помещается 30 чел. взрослых и детей с их имуществом».
Далее, согласно «Инструкции» заболевания депортированных являются «важными происшествиями», о которых следует немедленно доносить в центр. Каждый эшелон сопровождают медработники, а при серьезном заболевании депортируемых снимают с поезда и передают на лечение в местные больницы. Все это явно противоречит заявлениям о массовой гибели среди депортируемых.
Не соответствует реальности и утверждение о том, что депортированных не кормили. Читаем «Инструкцию»: «В пути следования по жел. дороге заключенные группы “Б” получают бесплатно один раз в сутки горячую пищу и 800 грамм хлеба на человека». Заключенные группы «А», по всей видимости, питались в соответствии с тюремными нормами. Перебои с питанием опять-таки расцениваются как «важные происшествия», о которых следует докладывать в центр.
Характерно еще одно положение «Инструкции»: «Против женщин и детей оружие применять воспрещается».
Ну и, конечно, речь не идет о каких бы то ни было «вагонах для скота». В «Инструкции» об этом говорится совершенно четко: «Отправка заключенных к месту назначения производится эшелонами в составе, оборудованных по-летнему для людских перевозок».
Тут, правда, могут возразить, что «Инструкция» могла не исполняться. Посмотрим, как обстояло дело на практике, обратившись к документам, чья подлинность неоспорима.
Начнем, опять-таки, с количества людей, перевозимых в одном вагоне. Как пишут эстонские историки (и это подтверждается документами, хранящимися в российских архивах), для депортируемых из Эстонии было подготовлено 490 вагонов. Если бы в каждом вагоне перевозили 40–50 человек, то общее количество депортированных составило бы 20–25 тысяч человек — очевидно фантастическая цифра. Впрочем, если в каждом из 490 вагонов находилось по 30 человек, как указывается в «Инструкции», то мы все равно получим неправдоподобное общее число депортированных — около 15 тысяч (реальное число депортированных составило, как мы помним, 9156 человек).
Дело в том, что цифра в 490 вагонов — общая; она включает в себя и вагоны «для людских перевозок», и грузовые вагоны. Для того чтобы понять, сколько вагонов было грузовыми, обратимся к документам. Согласно «Инструкции», на один эшелон из 50–55 вагонов полагалось иметь 2 товарных вагона. Однако непосредственно перед депортацией число товарных вагонов было увеличено — в связи с существенным увеличением веса имущества, которое депортируемые могли взять с собой. Согласно указанию НКВД СССР от 21 апреля 1941 г. высылаемые семьи получили право взять с собой к месту не по 100 кг на семью, как это указывалось в «Инструкции», а по 100 кг на каждого члена семьи, включая детей[541]. Естественно, что грузовых вагонов понадобилось больше.
Согласно «Смете расходов по переселению с территорий Прибалтики и Молдавии» от 11 июня 1941 г., для перевозок имущества депортируемых выделялось по 7–8 вагонов на эшелон[542]. Из Эстонии было отправлено 10 эшелонов, общее число товарных вагонов в которых можно определить примерно в 75 единиц.
Таким образом, из 490 подготовленных для депортации вагонов 415 (85 %) были пассажирскими и 75 (15 %) грузовыми. Соответственно, в каждом пассажирском вагоне планировалось перевезти не 30, как предписывала «Инструкция», а примерно 26–27 человек. Однако реальность разошлась с планами: из Эстонии было депортировано не 11 102, а 9156 человек — приблизительно по 22 человека на один пассажирский вагон. Конечно, это «средняя температура по больнице»; мы, к счастью, располагаем более конкретными данными.
Как отмечают эстонские исследователи, «депортированные были отправлены в район Новосибирска (233 вагона), Кирова на севере России (120 вагонов), Бабынино (57 вагонов) и Старобельска (80 вагонов)»[543]. В свою очередь, российские историки еще в 1990-х гг. ввели в научный оборот детальную информацию о движении эшелонов с депортированными (см. табл. 11). Сопоставим эти данные.
Таблица 11. Движение эшелонов с депортируемыми из Эстонии в июне 1941 г.[544]

*Эшелонная» численность депортированных несколько выше цифр, приведенных в докладной Меркулова. Это объясняется тем, что НКВД ЭССР использовало депортацию для пересылки ранее осужденных из эстонских тюрем в лагеря. В трех эшелонах, отправленных в Старобельский и Юхновский лагеря, кроме 3178 человек, арестованных 14 июня, находилось около 500 человек, осужденных в предыдущие месяцы.

Как мы помним, депортируемые разделялись на две категории: арестованных, которых направили в Старобельский и Юхновский лагеря, и ссыльных, которых вывезли в Новосибирскую и Кировскую области.
В Старобельский лагерь были направлены эшелоны № 290 и № 292, численность которых составляла соответственно 994 и 1028 человек. Общее количество вагонов в этих эшелонах, согласно данным эстонских исследователей, равнялось 80. Из 80 вагонов примерно 15 были грузовыми; соответственно, в каждом пассажирском помещалось примерно по 30 человек.
В Юхновский лагерь (на станцию Бабынино) был отправлен эшелон № 291 из 57 вагонов (из них 7 грузовые). Число перевозимых в эшелоне арестованных составляло 1666 человек, то есть примерно 33 человека на пассажирский вагон.
Для перевозки ссыльных в Новосибирскую область было выделено 4 эшелона (№ 286–289) в составе 233 вагонов, примерно 30 из которых были грузовыми. Общая численность выселяемых составляла 3593 человека. Соответственно, в каждом пассажирском вагоне размещалось около 18 человек.
Наконец, в Кировскую область были направлены два эшелона (№ 293–294) из 120 вагонов (в том числе около 15 грузовых). Общая численность выселяемых — 2303 человека. На один пассажирский вагон приходилось примерно по 22 человека.
Как видим, арестованные в ходе депортации перевозились примерно по 30–33 человека в вагоне. Выселяемые, среди которых были женщины и дети, перевозились в существенно лучших условиях — по 18–22 человека в вагоне. Утверждения о том, что в переполненные «с головы до ног» вагоны загонялось по 40–50 человек, являются ложными и не соответствуют ни запланированным при подготовке к депортации, ни реальным показателям.
Ложью является и утверждение, что депортированных перевозили в вагонах для скота. В полном соответствии с «Инструкцией» депортируемых везли в вагонах, «оборудованных для людских перевозок». Вот сделанное очевидцем описание подобного вагона: «В вагоне — железная печка, нары в три этажа, у задней стены складываются вещи»[545].
Теперь перейдем к беременным женщинам и смертельно больным старикам. Эстония была не первой республикой, из которой советской власти пришлось организовывать депортацию. Месяцем раньше, например, была проведена депортация семей оуновцев с Западной Украины. Там при проведении депортации больных не трогали[546] — как, впрочем, и в Латвии и Литве, где депортационная акция проводилась одновременно с эстонской[547]. Почему же в Эстонии должны были действовать иначе? В типовой инструкции по депортации специально указывалось: «Больные члены выселяемых семей временно оставляются на месте и по выздоровлении отправляются к месту выселения остальных членов семьи»[548]. Как свидетельствуют документы Центрального архива ФСБ, больных, оставленных на месте, оказалось 170 человек[549].
На случай же, если кто из депортированных заболеет в пути, в каждом эшелоне с выселяемыми имелся специальный санитарный вагон на пять коек и медперсонал. И если «Инструкцией» предусматривалось наличие в эшелоне врача и фельдшера, то в реальности кроме этих двоих каждый эшелон сопровождали также две медсестры[550].
Эстонские историки утверждают, что, вопреки инструкции, питание депортируемых обеспечено не было. «На самом деле никто не получил какого бы то ни было бесплатного питания и вследствие недостатка денег было трудно приобрести какую-нибудь еду в плохо снабжаемых вагонах-магазинах, — читаем мы в статье М. Марипуу и П. Касика. — Депортируемые были вынуждены полагаться на свою собственную провизию»[551].
Это утверждение противоречит имеющимся в нашем распоряжении документам. В Центральном архиве ФСБ хранится телефонограмма об организации питания депортируемых из Прибалтики, подписанная заместителем наркома внутренних дел Абакумовым. Ее содержание с некоторым поправками воспроизводит положения «Инструкции»: «Питание возложено на ж.д. буфеты, которые обеспечат раз в сутки горячей пищей стоимостью 3 руб. на человека, включая 600 гр. хлеба. Оплата наличными начальниками эшелонов, которым прошу выдать по[д] отчет необходимые средства на весь путь»[552].
Эти нормы в целом выполнялись; порою выселяемые даже выкидывали в окна вагонов казавшийся им «невкусным» хлеб. Об этом, в частности, упоминается в письме одного из депортированных. «Путь продолжался мимо Вологды, Кирова, Молотова, Свердловска. Это было то единственное время, когда кислый русский хлеб выбрасывался в окна…»[553]
Если мы еще раз обратимся к данным о движении эшелонов с депортируемыми из Эстонии (табл. 12), то получим исчерпывающий ответ на вопрос, имела ли место массовая смертность среди депортируемых. Рассмотрим несколько конкретных случаев. Вот эшелон № 286. 17 июня он был отправлен из Таллина, неделю спустя, 23 июня, прибыл в Новосибирск. При выезде из Таллина в эшелоне имелся 781 депортированный, по прибытию в Новосибирск — 778, трое сданы в пути.
Эшелон № 287 отбыл из Таллина 20 июня и из-за начавшейся войны добирался до Новосибирска две с половиной недели. При отправлении в эшелоне было 786 человек, по прибытии на место — 783, еще трое были сданы в пути. «Сданы в пути», кстати говоря, вовсе не значит «умерли». С поездов снимали либо в случае серьезной болезни, либо в случае какого-нибудь правонарушения.
А вот информация о тех эшелонах, которые перевозили не выселенных, а арестованных.
Эшелон № 290 из Таллина был направлен в Старобель-ский лагерь (Ворошиловградская область). Сколько из пункта назначения выехало, столько в пункт назначения и прибыло — 994 человека, которых потом тем же эшелоном отправили в Севураллаг.
Эшелон № 291 численностью в 1666 человек прибыл на станцию Бабынино Тульской области также без потерь, однако во время конвоирования в Юхновский лагерь при попытке к бегству был убит бывший офицер эстонской армии.
Так что распространяемые Департаментом прессы и информации МИД Эстонии заявления о том, что «люди стали умирать уже по дороге в Сибирь»[554], не соответствуют действительности. Массовой смертности среди высланных из Эстонии в пути не наблюдалось.
2.7. Судьба депортированных
Официальная эстонская историография утверждает, что большая часть депортированных впоследствии погибла. «Большинство депортированных было вывезено в Кировскую и Новосибирскую области, — читаем мы в «Обзоре». — Там от голода и болезней погибло около 60 % женщин и детей; более 90 % мужчин, арестованных и отправленных в ГУЛАГ, погибло или было убито»[555].
Однако подобные заявления выглядят предельно сомнительно.
Прежде всего не соответствует действительности утверждение, что всех мужчин арестовали, а женщин и детей — депортировали. Согласно постановлению ЦК ВПК(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г., аресту подлежали не мужчины вообще, а участники антисоветских организаций, «бывшие» и уголовники[556]. Среди этих категорий были и женщины: «Примерно 3000 мужчин и 150 женщин были отделены и других и помещены в лагеря», — читаем мы в «Рапортах»[557]. Точно так же высылке в отдаленные районы СССР подлежали не «женщины и дети», а члены семей арестованного антисоветского элемента[558]. Члены семей — это далеко не только женщины и дети; например, в Новосибирскую область в ходе июньской депортации из Эстонии было выслано 269 мужчин, 687 женщин и 663 ребенка[559].
Это, конечно, мелочь, но мелочь характерная, свидетельствующая о пренебрежении научной точностью. Гораздо интереснее то, что действительности не соответствуют данные о гибели 60 % ссыльных и 90 % арестованных.
Начнем с арестованных и отправленных в лагеря ГУЛАГа. Вот что пишет об их судьбе Март Лаар: «Большинство арестованных мужчин были направлены в лагеря Старобельска и Бабино, небольшая часть сразу же была отправлена в тюремные лагеря Кировской области. Однако заключенные, направленные в Старобельск и Бабино, в результате быстрого продвижения немецких войск оказались в районе боевых действий, поэтому были сразу направлены в военные лагеря Сибири. Из-за морозов, плохого питания и непосильных принудительных работ уже в первую сибирскую зиму скончалась большая часть арестованных. В конце 1941 г. в военных лагерях стали действовать комиссии по расследованию, которые проводили допросы и выносили смертные приговоры на местах. На основании таких приговоров многие заключенные были расстреляны. К весне 1942 г. из почти что 3500 мужчин, отправленных в тюремные лагеря, осталось в живых около 200»[560].
В этом отрывке правда и ложь перемешаны друг с другом. Арестованные во время депортации действительно были направлены в Старобельский и Юхновский лагеря (Лаар ошибочно называет последний «Бабино» — по всей видимости, из-за того, что в Юхновский лагерь арестованные доставлялись через железнодорожную станцию Бабынино), а после этого — в «сибирские» лагеря. Однако вопреки утверждениям Лаара, эти лагеря не были «военными». Это были обычные лагеря ГУЛАГа — например, Севураллаг. А вот дальше идет сплошная ложь.
Мы уже обращались к статистическим данным о наличии заключенных-эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа. Посмотрим на эти данные еще раз.
Таблица 12. Наличие эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа, 1941–1943 гг.[561]

К концу 1941 г. в системе ГУЛАГа находилось более 7 тысяч эстонцев, 3,2 тысячи которых были направлены в лагеря в результате июньской депортации. К концу следующего, 1942 г. это число уменьшилось на 1600 человек — примерно до 5,5 тысяч. Среднестатистический показатель смертности для заключенных ГУЛАГа в 1942 г. — 24,9 % (см. табл. 7); то есть из 7 тысяч человек погибло примерно 1750. Разница между балансом заключенных и расчетной смертностью свидетельствует о том, что в течение 1942 г. к заключению в лагеря было осуждено еще не менее 200 эстонцев. За весь 1941 г., как мы помним, умерло около 450 эстонцев. Таким образом, общее количество всех умерших заключенных-эстонцев во второй половине 1941-го — 1942 г. составляет чуть более 2 тысяч человек, в то время как в официальной эстонской историографии утверждается, что только из арестованных во время июньской депортации уже к весне 1942-го умерло почти 3 тысячи.
Как видим, утверждения о практически поголовной смертности арестованных во время июньской депортации являются очередной ложью. На самом деле расчетная смертность для этой категории в 1941–1942 гг. составляет примерно 900 человек. С учетом смертельных приговоров это число может увеличиться до тысячи — но никак не до трех[562]. В целом же за 1941–1953 гг. расчетная смертность среди арестованных во время июньской депортации составляет около 1900–2000 человек.
Теперь обратимся к ссыльным эстонцам, которых, как мы помним, было 5978 человек. Две трети из них, как утверждается в официальной эстонской историографии, умерли от голода, холода и болезней. В очередной раз обратимся к документам. К сожалению, статистика Отдела трудовых и специальных поселений (ОТСП) ГУЛАГа не столь детальна и точна, как статистика по лагерям и колониям, и может быть превратно истолкована.
В октябре 1941 г. в ОТСП была подготовлена итоговая справка о расселении ссыльнопоселенцев по состоянию на 15 сентября 1941 г. Согласно этому документу, ссыльные из Прибалтики были расселены в следующих областях.
Таблица 13. Данные о расселении ссыльнопоселенцев из Прибалтики по состоянию на 15 сентября 1941 г.[563]

* Так в оригинале таблицы.
Изучив приведенную выше таблицу, мы обнаруживаем, что общее число находящихся в ссылке эстонцев, по данным ОТСП, составляет 3668 человек, то есть более чем на 2 тысячи меньше, чем число высланных из Эстонии [564]. Однако не следует торопиться зачислять пропавших эстонцев в погибшие. Как замечает в этой связи российский исследователь А. Гурьянов, «большинство расхождений между региональными “эшелонными” и “расселенческими” оценками численности ссыльнопоселенцев либо вызваны явными ошибками в отчетных документах в отчетных документа УНКВД/НКВД регионов расселения и центрального ОТСП, либо допускают правдоподобные объяснения»[565] . И действительно, если мы внимательно рассмотрим данные ОТСП и сопоставим их с данными докладной Меркулова, то без труда обнаружим «пропавших».
Таблица 14. Баланс высылки и расселения депортированных из Прибалтики в июне 1941 г.[566]

Как видим, в общей сложности из Прибалтики было выслано на ссыльнопоселение 25,7 тысячи человек и почти столько же (25,6 тысячи) было расселено в отдаленных районах СССР. Однако при этом число эстонцев почему-то уменьшилось на 2,3 человек, латышей — на 310 человек, а вот число литовцев увеличилось на 2,5 тысячи. Не приходится сомневаться в том, что мы имеем дело с ошибкой сотрудников ОТСП, которые учли часть эстонцев и латышей как депортированных из Литвы.
Из-за этой ошибки мы не можем проследить судьбу всех ссыльнопоселенцев-эстонцев; впрочем, информация об «учтенных» эстонцах наглядно свидетельствует, что массовой смертности среди депортированных не наблюдалось — в том числе в первую, самую страшную зиму. В отчетах местных органов НКВД отмечается, что ссыльнопоселенцы из крестьян, как правило, быстро адаптировались к условиям на новых местах, начали устраиваться в колхозы, приобретать коров и интересоваться возможностью получения кредитов на строительство домов[567]. В Новосибирской области к началу 1942 г. таких было около 30 %, и всем необходимым эти поселенцы себя обеспечивали[568].
Бывшие горожане (а их среди эстонцев было достаточно много) были непривычны к физическому труду и потому находились в более сложном положении. Однако они, как правило, располагали деньгами. Согласно уже упоминавшемуся указанию НКВД СССР от 21 апреля 1941 г. при выселении действовали следующие правила:
«Высылаемые семьи имеют право взять с собой к месту выселения лично принадлежащие им вещи весом не свыше 100 кг на каждого члена семьи, включая детей.
Бытовые ценности (кольца, серьги, часы, портсигары, браслеты и проч.), а также деньги конфискации не подлежат и могут быть взяты выселяемыми с собой без ограничения количества и суммы.
Остальное имущество выселяемые имеют право реализовать следующим образом:
Выселяемые обязаны назвать доверенное лицо (соседей, знакомых, родственников), которому они могут поручить реализацию оставленного в квартире лично им принадлежащего имущества.
На реализацию имущества и освобождение квартиры доверенному лицу дается срок не свыше 10 дней.
После реализации имущества доверенное лицо является в органы НКВД и сдает при заявлении вырученные деньги для пересылки выселенной семье по месту ее выселения.
Освобожденные от имущества жилые и хозяйственные помещения выселенной семьи опечатываются органами и передаются местным органам власти…»[569]
Даже несмотря на то, что деньги за реализацию оставленного в Эстонии личного имущества многие ссыльные в большинстве своем так и не получили (помешала война), взятых с собой денег и драгоценностей более или менее хватало на первоначальное обустройство. Часть ссыльных и вовсе имела достаточно денег, чтобы не работать — или почти не работать. Как говорилось в отчете УНКВД по Новосибирской области, «особо пренебрежительное отношение к работе со стороны нетрудового элемента. Большинство из них имеют крупные запасы денег и запасы разных ценностей, естественно, что такой элемент в работе не нуждается»[570].
Было среди ссыльнопоселенцев достаточно и тех, кто откровенно бедствовал. В том же отчете Новосибирского УНКВД читаем: «Имеются случаи, что часть ссыльнопоселенцев, которая составляет около 20 % к общему числу контингента, сейчас не имеет одежды и обуви, а значительная часть из них и средств на покупку продуктов в местных сельпо. Эта категория состоит главным образом из беременных детьми женщин, престарелых и инвалидов»[571]. Таким местные власти по возможности оказывали материальную помощь.
Медицинской помощью ссыльные обеспечивались наравне с местными жителями, благодаря чему отдельные вспышки болезней были локализованы, а возникновение эпидемий оказалось предотвращено[572] .
Благодаря перечисленным выше мерам массовой смертности среди ссыльнопоселенцев удалось избежать, о чем наглядно свидетельствуют документы. Так, согласно отчетам местного УНКВД, на 17 сентября 1941 г. в Новосибирской области насчитывалось 1619 эстонцев, а на 10 февраля 1942 г. — 1601 человек (см. табл. 15). Как видим, смертность оказалась минимальной.
Таблица 15. Численность ссыльнопоселенцев из ЭССР в Новосибирской области, 1941–1942 г. [573]

Дальнейшую судьбу ссыльнопоселенцев, конечно, нельзя назвать радужной, однако на 1 января 1953 г. на поселении оставалось 14 301 из 25 711 человек, высланных из Прибалтики в 1941 г.[574], численность эстонцев среди которых можно определить примерно в 3300 человек[575]. Как видим, говорить о 60-процентной смертности не приходится. Кстати говоря, разницу между 25 и 14 тысячами нельзя скопом записывать в умершие: дело в том, что изначально у выселенных в 1941 г. прибалтов был статус ссыльнопоселенцев, а потом их стали переводить на спецпоселение. Но не всех — часть осталась на ссыльнопоселении и учитывалась отдельно. Кроме того, некоторое количество ссыльных возвратилось в Эстонию в 1945–1947 гг[576].
Даже по данным уже упоминавшегося Эстонского бюро регистра репрессированных, число погибших среди ссыльных составило не 60 %, а 33,1 % (2333 человека)[577]. Правда, и здесь мы натыкаемся на подтасовку: если 33,1 % — это 2333 человека, то 100 % — 7048 человек. А в ссылку из Эстонии, как мы помним, было направлено менее 6 тысяч. Кого в ERRB записали в погибшие, неизвестно. Но цифра в 2333 умерших — недостоверна, хотя и более близка к истине, чем заявления о 60 % погибших.
Весьма правдоподобные данные приводит в предисловии к размещенной на интернет-сайте исторического факультета Тартуского университета электронной версии списка депортированных эстонский историк П. Варю. Он определяет общую численность депортированных в 9300 человек. Это, конечно, не совсем верно, однако погрешность относительно невелика[578]. Согласно Варю, судьба депортированных сложилась следующим образом:
погибли — 3873 человека,
без вести пропали — 611,
с неясной судьбой — 110,
бежали — 75,
освобождены — 4631[579].
Таким образом, общая численность умерших в 1941–1956 гг. жертв депортации составляет от 3873 до 4494 человек. Эти данные хорошо согласуются с нашими расчетами. Конечно, обе эти цифры являются крайними; на самом деле общее число погибших можно оценить примерно в 4 тысячи человек, 2 тысячи среди заключенных и 2 — среди ссыльных. Таким образом, смертность среди заключенных составила не 90 %, а менее 60 %. Среди ссыльных же смертность равнялась не 60 %, а примерно 30 %.
Необходимо также учитывать, что в число умерших входят и те, кто скончался по вполне естественным причинам, например от старости, — 15 лет срок немалый.
2.8. Причины депортации
Июньскую депортацию 1941 г. официальная эстонская историография объясняет исключительно замыслами Кремля. В Таллине непременно подчеркивают, что планы «депортации эстонцев» советские власти лелеяли очень давно. В «Белой книге» утверждается, что первый «сверхсекретный» приказ о депортации из Прибалтийских республик был утвержден еще до включения их в состав Советского Союза — в 1939 г[580].
Об этом же «сверхсекретном документе» подробно рассказывается в изданной в 1972 г. в книге под названием «Балтийские государства 1940–1972»: «10 октября 1939 г., когда в Кремле состоялся прием в честь литовской делегации, днем раньше поставившей свои подписи под Пактом о взаимопомощи с Советским Союзом, генерал Серов, комиссар НКВД 3-го ранга, подписал угрожающий документ. Этот документ, отнесенный к разряду “чрезвычайно секретных”, представлял собой инструкцию для офицеров НКВД, получивших направление на советские военные базы в Балтийские государства. Он назывался “Депортация антисоветских элементов из Балтийских государств” и представлял собой длинную и подробную инструкцию в семи частях. После вступления, где описывалась общая ситуация и подчеркивалось величайшее политическое значение операции, инструкция переходила к конкретным указаниям для персонала о том, какие документы следует выдавать депортируемым, как забирать депортируемых из домов, как проводить отделение мужчин от семей, как организовывать конвой и как должна происходить погрузка депортированных на железнодорожных станциях»[581].
Даже с точки зрения элементарной логики подобное утверждение выглядит крайне сомнительным. Во-первых, совершенно непонятно, как советские власти могли готовить депортацию из Прибалтийских стран до их присоединения. Во-вторых, серьезные сомнения вызывают сроки: неужели подготовка к депортациям из Прибалтийских республик велась более полутора лет?
Обращение к первоисточнику окончательно убеждает, что мы имеем дело с очередной ложью. Дело в том, что пресловутая «инструкция Серова» была впервые опубликована в 1941 г. в напечатанной в Каунасе книге «Советский Союз и Балтийские государства» («Die Sowjetunion und die baltische Staaten»). Издана эта книга на немецком, и готовили ее, как нетрудно догадаться, сотрудники ведомства доктора Геббельса[582].
Более того, в начале 1990-х гг. российскими историками была обнародована реальная инструкция «для офицеров НКВД, получивших направление на советские военные базы в Балтийские государства» — директива НКВД СССР № 4/59594 от 19 октября 1939 г. «Об оперативном обслуживании частей, дислоцированных на территории Эстонии, Латвии и Литвы».
Излишне говорить, что никаких упоминаний о подготовке к депортации в этой директиве не обнаружилось; начальникам особых отделов частей, расположенных на территории Прибалтийских республик, предписывалось всего лишь активизировать борьбу со шпионажем, а также следить за поведением командиров и красноармейцев «в целях своевременного выявления и пресечения случаев дискредитации высокого звания представителя Красной Армии и Флота Советского Союза»[583].
Поиски «инструкции Серова» в Центральном архиве ФСБ результатов, естественно, не дали. Зато выяснилось обстоятельство, свидетельствующее о поддельности этого документа. Дело в том, что 11 октября 1939 г., когда Серов якобы подписывал этот документ, он работал наркомом внутренних дел УССР и, как справедливо замечает российский историк Павел Полян, «ни при каких обстоятельствах не мог издавать документы общесоюзного уровня»[584].
Именно поэтому сегодня эстонские историки предпочитают говорить о подготовке депортации уже не в 1939-м, а в 1940 г. «Подготовка к исполнению широкой акции принудительного переселения эстонского народа началась не позднее 1940 г., - пишет, например, Март Лаар. — Первые признаки депортации эстонцев можно найти из бумаг специального уполномоченного Сталина Андрея Жданова, руководившего разрушением самостоятельности Эстонии летом 1940 г., - здесь имеется замечание о том, что эстонцев следует выслать в Сибирь»[585].
Авторы «Белой книги» ссылаются на другой документ: «Хотя т. н. “документ Серова”, касающийся Балтийских государств, датирован неправильно, это не изменяет сути произошедшего… В Эстонии подготовка к массовым депортациям т. н. социально опасного элемента началась в соответствии с распоряжением НКВД № 288 от 28 ноября 1940 г.»[586].
При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что и эти заявления не соответствуют действительности.
Начнем с якобы найденного в бумагах Жданова «замечания о том, что эстонцев следует выселить в Сибирь», о котором пишет Лаар. Прежде всего следует заметить, что изложение этого документа Лааром выглядит весьма сомнительным. «Эстонцев следует выселить в Сибирь». Неужели всех поголовно? Возможность подобного мероприятия в 1940 г. выглядит как минимум абсурдно (тем более если учитывать, что в 1940–1941 гг. интенсивность репрессий в Эстонии была низкой — см. гл. 1). Да, советская власть осуществляла «переселения народов»: чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков и балкарцев. Но эти депортации, проводившиеся в годы войны (1943–1944), окрещены современными историками «депортациями возмездия» — коллективного «возмездия» за сотрудничество с врагом. Неужели в Кремле обладали даром предвидения и уже в 1940 г. знали, что после прихода немцев эстонцы начнут массово записываться в батальоны вспомогательной полиции и участвовать в карательных акциях против мирного населения по всей оккупированной территории СССР?
Допустим, документ, на который ссылается Лаар, действительно существует. Можно ли из этого сделать какие-либо выводы о намерениях советского руководства? Нет, нельзя — потому что в Кремле исходящие «снизу» предложения могли и не одобрить.
Например, после присоединения Прибалтийских республик командующий войсками Белорусского особого военного округа генерал-полковник Павлов отправил наркому оборону маршалу Тимошенко служебную записку следующего содержания:
«Существование на одном месте частей Литовской, Латвийской и Эстонской армий считаю невозможным. Высказываю следующие предложения:
Первое. АРМИИ всех 3-х государств разоружить и оружие вывезти в Сов. Союз.
Второе, или После чистки офицерского состава и укрепления частей нашим комсоставом — допускаю возможность на первых порах — в ближайшее время использовать для войны части Литовской и Эстонской армий — вне БОВО, примерно — против румын, авганцев или японцев.
Во всех случаях латышей считаю необходимым разоружить полностью.
Третье. После того, как с армиями будет покончено, немедленно (48 часов) разоружить население всех 3-х стран.
За несдачу оружия расстреливать.
К выше перечисленным мероприятиям необходимо приступить в ближайшее время, чтобы иметь свободу рук». [587]
Если мы будем пользоваться методикой М. Лаара, то, обнаружив этот документ, начнем писать о том, что советские власти в 1940 г. планировали разоружить прибалтийские армии, а их личный состав отправить воевать в Афганистан. Однако на самом деле все обстояло прямо противоположным образом. В Кремле предложения Павлова были отвергнуты, а 17 августа 1940 г. нарком обороны маршал Тимошенко издал приказ, согласно которому армии Прибалтийских республик переформировывались в территориальные стрелковые корпуса Красной Армии. При этом в корпусах сохранялась старая форма, офицерский состав был лишь незначительно разбавлен русскими и местными коммунистами [588], а командующим 22-го Эстонского корпуса стал генерал-майор Густав Ион-сон, бывший командующий вооруженными силами независимой Эстонии[589].
Так что даже если записка Жданова о необходимости депортации, на которую ссылается М. Лаар, и существует в природе, делать на этой основе какие бы то ни было выводы о намерениях советских властей нельзя.
В существовании распоряжения НКВД № 288 от 28 ноября 1940 г., на которое в качестве доказательства подготовки депортации ссылаются авторы «Белой книги», сомневаться не приходится. Однако никакого отношения к подготовке депортации этот документ не имеет. Согласно распоряжению № 288 НКВД Эстонской ССР предписывалось всего лишь «завести картотеку по т. н. контрреволюционному и антисоветскому элементу»[590].
Создание картотеки учета контрреволюционного и антисоветского элемента никак не может рассматриваться в качестве доказательства подготовки депортации. Во все времена и во всех странах соответствующими структурами велись картотеки политически неблагонадежных лиц. Это — одна из основ деятельности служб государственной безопасности[591]. В 30-х — 40-х гг. XX в. подобные картотеки имелись далеко не только в Советском Союзе; имеются они и сейчас, в том числе и в современной Эстонии. Прежняя эстонская политическая полиция также располагала чем-то подобным — не зря же в ее составе имелся отдел по борьбе с инакомыслием. Следует ли из этого, что в независимой Эстонии готовились или готовятся массовые депортации?
Таким образом, никаких доказательств тому, что подготовка к депортации начала проводиться еще в 1940 г., эстонскими историками не предъявлено. Это не удивительно — ведь представить доказательства того, чего не было, весьма проблематично.
Российские историки давно обнародовали факт, ставящий крест на любых рассуждениях о начале подготовки депортации из Эстонии в 1940 г. Июньская депортация 1941 г. осуществлялась в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально-опасного элемента». Постановление это разрабатывалось руководством НКВД; первоначально депортацию планировалось провести лишь с территории Литвы. Латвия и Эстония были добавлены в проект постановления в самый последний момент. Проект даже не успели перепечатать — слова «Латвийская и Эстонская ССР» вписаны в него от руки[592]. Таким образом, решение о депортации из Эстонии не готовилось заблаговременно, а было принято под влиянием момента.
Что же заставило Кремль отказаться от прежней умеренной политики в Прибалтике (как мы помним, за «первый год советской оккупации» число осужденных в Эстонии составило менее 1,5 тысячи человек) и перейти к действительно массовой репрессивной акции?
Официальная эстонская историография не дает ответа на этот вопрос. И не случайно — ведь ответ этот очень неприятен для современного Таллина. Дело в том, что депортация 1941 г. организовывалась не для геноцида эстонского народа, как рассказывают нам сегодня. Кремль преследовал гораздо более рациональные цели. Депортация была способом борьбы со связанной с нацистскими спецслужбами «пятой колонной» из прибалтийских националистов. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР необходимость депортации обосновывалась предельно ясно: «в связи с наличием в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР значительного количества бывших членов различных контрреволюционных националистических партий, бывших полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников бывшего государственного аппарата Литвы, Латвии и Эстонии и других лиц, ведущих подрывную антисоветскую работу и используемых иностранными разведками в шпионских целях»[593].
Иными словам, как заметил посол Великобритании в СССР Криппс, «они [советское руководство] не хотели, чтобы их пограничные районы были заселены пятой колонной и людьми, подозрительными в смысле враждебности к советскому режиму»[594].
Имелись ли у Кремля основания для опасений? С высоты сегодняшнего дня мы можем ответить на этот вопрос вполне определенно. Да, такие основания имелись и были более чем серьезными. В ожидании нападения Германии на Советский Союз прибалтийские националисты устанавливали связи с германской разведкой и готовились к вооруженным выступлениям в тылу советских войск. «Политические эмигранты, бежавшие в свое время из Прибалтики в Германию, приложили немало усилий для организации и согласования действий групп сопротивления в этих странах, — отмечает в этой связи один из американских исследователей. — И конечно, без прямого одобрения и поддержки со стороны немцев эти силы вряд ли сумели бы даже начать подобные выступления. А немцы были заинтересованы в том, чтобы в день их нападения на СССР восстание за линией фронта разгорелось бы как можно шире и ярче»[595].
О масштабности приготовлений прибалтийских националистов к диверсионной борьбе можно судить по докладу, отправленному в мае 1941 г. в Берлин восточнопрусским отделением «Абвера II»: «Восстания в странах Прибалтики подготовлены, и на них можно надежно положиться. Подпольное повстанческое движение в своем развитии прогрессирует настолько, что доставляет известные трудности удержать его участников от преждевременных акций. Им направлено распоряжение начать действия только тогда, когда немецкие войска, продвигаясь вперед, приблизятся к соответствующей местности с тем, чтобы русские войска не могли участников восстания обезвредить»[596].
О заблаговременной подготовке эстонских националистов к войне свидетельствует то, что уже 22 июня 1941 г. ими было совершено вооруженное нападение на солдат Красной Армии, в ходе которого один красноармеец был убит и пятеро ранены[597].
Советские спецслужбы разгромить связанное с нацистскими спецслужбами подполье не смогли. Конечно, отдельные успехи были — так, например, незадолго до начала войны была пресечена деятельность т. н. «Комитета спасения Эстонии». У арестованных участников «Комитета» было изъято множество оружия, радиоаппаратура и шифры, использовавшиеся для поддержания связи с немецкой и финской разведками[598]. Однако этого было недостаточно — и тогда в Кремле было принято решение о депортации[599].
Это решение можно (и должно) назвать жестким. «Необоснованным» его назвать нельзя, учитывая, что в первые же дни после нападения Германии на СССР на территории Эстонии в тылу Красной Армии начали действовать десятки групп «лесных братьев», устанавливавшие связи с немецкими войсками[600].
2.9. Готовилась ли вторая депортация?
В официальной эстонской историографии встречаются утверждения, что депортация 14 июня 1941 г. была лишь первой из запланированных советским руководством. «На июль месяц была запланирована новая акция по депортации, но в связи с начавшейся войной между Германией и Советским Союзом провести депортацию успели только на западных островах Эстонии», — пишут авторы «Обзора»[601]. С ними солидарен Март Лаар. «В то время, когда первые эшелоны с репрессированными прибывали в пункты назначения, в Эстонии уже готовилась следующая волна репрессий, — пишет Лаар. — Однако этому помешало нападение Германии на Советский Союз. В результате быстрого продвижения фронта по территории СССР, вторую депортацию в первые дни июля успели провести только на о-ве Сааремаа»[602].
Подобные заявления, однако, не подкреплены документальными свидетельствами. Российскими историками исследован комплекс документов, касающихся депортаций июня 1941 г. В документах нет даже упоминаний о возможности проведения повторных депортаций. С точки зрения логики проведение двух депортационных акций с перерывом в несколько недель выглядит совершенно абсурдно.
Что же касается упоминаемой М. Лааром и авторами «Обзора» июльской депортации с о-ва Сааремаа, то эта акция проводилась в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г. Согласно этому документу, военные власти получали право принимать решение о выселении в административном порядке с территорий, объявленных на военном положении, лиц, признанных социально опасными[603]. Указ Президиума Верховного Совета был принят в связи с началом войны и никакого отношения к довоенным депортационным акциями не имел[604].
«Вторая депортация» — всего лишь миф, по всей видимости восходящий к нацистской пропаганде[605].
2.10. Выводы
Описание июньской депортации 1941 г. в официальной эстонской историографии содержит множество искажений и ложных утверждений. Не соответствуют действительности утверждения о том, что количество депортированных составило более 10 тысяч человек, что под угрозой депортации находилась значительная часть граждан Эстонии, что депортация сопровождалась расстрелами и массовой гибелью депортируемых во время перевозки. Не соответствуют действительности и приводимые в официальной историографии данные о числе депортированных, умерших в период с 1941-го по 1956 г.
На самом деле в ходе июньской депортации из Эстонии было выслано 9156 человек (из намеченных 9596), 3178 из которых были арестованы и отправлены в лагеря, а 5978 — на поселения в отдаленные районы СССР. Общая смертность среди этих людей была существенно ниже утвердившихся в эстонской историографии оценок, однако достаточно высокой. В общей сложности за 15 лет (с 1941-го по 1956 г.) умерло около 2 тысяч заключенных. Точными данными о смертности среди ссыльных за этот период мы, к сожалению, не располагаем, однако, по всей видимости, число умерших не превышало 2 тысяч. Следует еще раз отметить, что столь высокая смертность обуславливалась не планами Кремля, а лишениями военных лет. Вне всякого сомнения, депортация была достаточно жесткой репрессивной акцией, в результате которой пострадали и невинные люди; однако «геноцидом» депортацию 1941 г. назвать нет никаких оснований.
Необходимо также учитывать, что июньская депортация из Прибалтики была для Кремля вынужденной мерой, обусловленной приближением войны и деятельностью сотрудничавшего с абвером националистического подполья.
Глава З РЕПРЕССИИ НАЧАЛА ВОЙНЫ
3.1. Официальная эстонская версия
В официальной эстонской историографии утвердилось мнение, что после начала войны репрессии советских властей резко активизировались, приобрели еще более массовый и зверский характер. Март Лаар и авторы «Белой книги» определяют общее число убитых в 179 казненных по приговору военных трибуналов и 2199 «убитых без суда»[606]. Кроме того, эстонские историки характеризуют как преступления поводившиеся советскими войсками в Эстонии мобилизацию и эвакуацию, в ходе которых в Россию было вывезено соответственно 33 и 25 тысяч человек[607].
Эти цифры, однако, вызывают серьезные сомнения. Как признает сам Лаар, они восходят к «данным», собранным комиссией ZEV во время немецкой оккупации[608]. Однако хорошо известно, что немецкие пропагандисты записывали в «жертвы большевизма» не только погибших во время военных действий, но и убитых нацистами.
Например, в июле 1941 г. в белорусском Пинске немецкие солдаты расстреляли 15 молодых евреев. Когда родственники убитых обратились к немецким властям с просьбой отдать им тела для захоронения, немцы потребовали от них подписей, подтверждающих, что их детей застрелили отступающие русские. «Понятно, что требуемые подписи были получены, — писал впоследствии один из очевидцев. — Немцы сфотографировали родителей рядом с жертвами и использовали этот снимок для лживой пропаганды против Советского Союза»[609].
Документально подтверждены случаи, когда в Латвии в число «расстрелянных большевиками» записывали вполне живых людей. Об этом, в частности, сообщалось в служебной записке НКГБ СССР, датируемой апрелем 1945 г.: «Установлено, что в книге “Обвинительные доказательства” была помещена статья, описывающая подробности ареста и “расстрела большевиками” латышского музыканта Рейтгарса А.Э. Фактически Рейтгарс А.Э. в 1941 г. был осужден народным судом г. Риги за хулиганство к одному году тюремного заключения, этапирован в Печерский лагерь НКВД, и после отбытия наказания Рейтгарс находился на службе в Красной Армии в запасном латышском полку. В настоящее время Рейтгарс вернулся в г. Ригу и работает в Республиканском Радиокомитете в должности концермейстера»[610].
Нет никаких оснований предполагать, что в Эстонии немецкие пропагандисты действовали иначе, чем в Латвии и Белоруссии.
Все это само по себе ставит под вопрос достоверность цифр, приводимых в официальной эстонской историографии. Однако существует еще одно крайне любопытное обстоятельство. Дело в том, что впервые цифра в 179 казненных по приговору военных трибуналов и 2199 убитых без суда появилась в изданной в 1996 г. в Стокгольме книге «Красный террор». Эстонский историк Айги Рахи (кстати говоря, одна из авторов «Белой книги») пишет об этой работе следующее: «Предварительные списки казненных в Эстонии в 1940–1941 гг. как по приговору суда (179 человек), так и без оного (2199 человек) были опубликованы в книге “Красный террор”»[611].
Таким образом, эстонские историки никак не могут определиться, относятся ли приводимые ими цифры в 2199 и 179 человек ко всей «первой советской оккупации» или только к ее военному периоду. Упомянутая нами Айги Рахи в опубликованной в 2003 г. статье «Текущее состояние исследований советских и нацистских репрессий в Эстонии» пишет о том, что эти цифры охватывают весь период «первой советской оккупации»[612]. Зато в изданной год спустя «Белой книге» та же самая Айги Рахи совершенно бестрепетно утверждает, что эти цифры относятся лишь к военному времени[613].
Столь явная манипуляция цифрами (к тому же восходящими к нацистской пропаганде) дает все основания не верить им вообще.
Попробуем разобраться, что имело место на самом деле.
3.2. Обстановка в Эстонии летом 1941 г.
Прежде всего нам следует рассмотреть обстановку, в которой осуществлялась репрессивная политика советских властей.
С первых же дней войны на территории Эстонии широкий размах приобрела деятельность антисоветских вооруженных формирований. В Государственном архиве РФ хранится перевод «Отчета о деятельности “Омакайтсе” в 1941 г.», составленного эстонскими коллаборационистами в первые месяцы 1942 г. Согласно этому документу, в Эстонии действовало более 300 отрядов и групп «лесных братьев», в том числе в уезде Выру — 150, в уезде Виру -70, в уезде Ляэне — 48 и в уезде Вильянди — от ЗО до 40[614]. Некоторые из отрядов насчитывали несколько сотен человек — как, например, отряд бывшего командира полка «Кайселийта» майора Лиллехта, действовавший в районе Киллинге-Нымме[615].
Вот как описывали свои действия сами «лесные братья»: «В меру имеющихся возможностей старались дезорганизовать тыл фронта Красной армии: разрушали линии связи, мосты, обстреливали и нападали на группы двигающихся по дорогам команд Красной Армии, милиции и истребительных батальонов, мешали движению автомобилей на шоссе, арестовывали местных волостных исполкомов и препятствовали функционированию коммунистической власти. В тоже самое время ободряли и привлекали к себе в лес подлежащих призыву и мобилизации, препятствовали исполнению приказаний по реквизиции лошадей и скота и отдаче обязательных норм… Также выступали силой против групп истребительных батальонов и Красной Армии, являвшихся на места для совершения истреблений или облав на лесных братьев. Так произошли во многих уездах столкновения лесных братьев, из которых некоторые развились в продолжительные бои… Партизанская деятельность лесных братьев стала с приближением фронта все обширнее и смелее, главным образом в Южной Эстонии, откуда регулярные части Красной Армии быстро отступали и обороны не организовывали… Уже в первые дни июля месяца, больше всего в промежутке времени от 3 до 6 июля, в уездах Вырумаа, Валгамаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Пьярнумаа совершили захваты зданий волостных управлений и аресты да истребления членов исполкомов»[616].
Всего, по данным «Отчета о деятельности “Омакайтсе”», «лесными братьями» было убито 946, ранено 146 и захвачено 287 советских солдат и бойцов истребительных батальонов[617]. Возможно, конечно, что эти данные несколько завышены, однако они прекрасно отражают размах развернувшейся в тылу Красной Армии вооруженной борьбы.
Захваченные впоследствии советскими органами безопасности документы свидетельствуют, что свою деятельность «лесные братья» проводили в координации с немецкими диверсионными группами, а впоследствии — с немецкими войсками. Так, например, «лесные братья» волости Тали 6 июля установили связь с немецкими войсками в Северной Латвии и получали от них вооружение. В свою очередь, «лесные братья» осуществляли разведывательно-диверсионную работу в интересах немецких войск и помогали сбитым немецким летчикам переходить линию фронта[618].
Когда линия фронта непосредственно приближалась к территории, на которой действовали отряды и группы «лесных братьев», наиболее боеспособные формирования продолжали вести боевые действия вместе с немецкими частями. Отдельные «лесные братья» вступали в ряды германской армии[619].
В городах действовали подпольные антисоветские организации, осуществлявшие разведывательную и диверсионную работу, а при приближении немецких войск переходившие к открытым вооруженным выступлениям. Подобные выступления, в частности, имели место в городах Вильянди и Тарту[620].
Плохо обстояли дела и в подразделениях 22-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. В первые же недели войны обнаружилось, что эти подразделения крайне неустойчивы. «Значительная часть командиров и красноармейцев эстонцев перешла на сторону немцев. Среди бойцов царит вражда и недоверие к эстонцам», — докладывал 14 июля 1941 г. прикомандированный к разведотделу штаба Северо-Западного фронта майор Шепелев[621]. Речь шла о 180-й дивизии 22-го стрелкового корпуса. Находившиеся при этой же дивизии уполномоченные Военного совета фронта капитан Баркунов и военинженер 3-го ранга Буссаров описывали сложившуюся ситуацию следующим образом: «В дивизии имеет место переход на сторону врага части командного и рядового состава эстонцев, что затрудняет выяснение точных потерь в дивизии»[622].
В результате уже 27 июня начальник Генштаба Жуков приказал командующему Северо-Западного фронта 22-й Эстонский и 24-й Латышский стрелковые корпуса «в полном составе отвести в район Боровичи, Порхов, Дно на переформирование и дообучение»[623]. Как явствует из документов, из корпусов предполагалось изъять нелояльный элемент, пополнить и переформировать[624].
Насколько можно понять, этот приказ не был своевременно выполнен. И пока одни эстонцы бок о бок с русскими сражались против немецких войск, другие дезертировали и перебегали на сторону противника. Современные эстонские историки оценивают общее число перебежчиков примерно в 4,5 тысячи человек[625].
Ситуация была усугублена быстрым продвижением немецких войск. Оборонявшим Эстонию войскам 8-й армии лишь в середине июня удалось задержать противника на рубеже Пярну — Тарту, а к 7 августа подразделения вермахта вышли на побережье Финского залива в районе Кунда, тем самым окружив Таллин и защищавшие его советские войска. Оборона Таллина, тем не менее, продолжалась вплоть до 27–28 августа.
Таким образом, обстановка в Эстонии была крайне напряженной. Перед советскими и военными властями республики встала задача пресечь активную деятельность националистического подполья и формирований «лесных братьев». Поскольку эстонские националисты действовали в интересах противника, борьба с ними была обоснованной и необходимой.
3.3. Деятельность военных трибуналов
Сформировав представление об обстановке, в которой проводились репрессии военного времени, перейдем теперь к разбору конкретных форм репрессий. Прежде всего следует рассмотреть деятельность военных трибуналов.
В «Белой книге» и работах М. Лаара утверждается, что общая численность осужденных к ВМН советскими военными трибуналами с 22 июня по октябрь 1941 г. составляет 179 человек. При этом Лаар дает понять, что приговоры были необоснованными: «В Эстонии начали действовать военные трибуналы, закрывавшие многие залежавшиеся судебные процессы смертными приговорами»[626].
Оба этих утверждения не соответствуют действительности. Как мы помним, в приложениях к сборнику «Эстония 1941–1945» опубликованы поименные данные на людей, осужденных к смертной казни приговорами военных трибуналов. Эти данные основаны на внушительном комплексе архивных документов, и усомниться в них проблематично.
Согласно этому списку, с 22 июня по 12 августа 1941 г. военными трибуналами к ВМН было осуждено 140 человек, 19 из которых (13,5 %) были русскими[627]. Этот список неполон; согласно данным эстонских историков, от 100 до 180 человек были осуждены к ВМН военным трибуналом пограничных войск Прибалтийского особого военного округа[628]. Если эти данные соответствуют действительности (а проверить мы их, к сожалению, не можем), то общее число граждан Эстонии, казненных по приговорам военных трибуналов за три военных месяца, составляет от 240 до 320 человек. Говорить о том, что военные трибуналы массово штамповали приговоры, как видим, не приходится.
Приведенные в приложениях к сборнику «Эстония 1940–1945» данные также не позволяют утверждать о необоснованности приговоров военных трибуналов (см. табл. 16).
Таблица 16. Состав преступления осужденных к ВМН граждан Эстонии, 22.06–12.08.1941 г.[629]
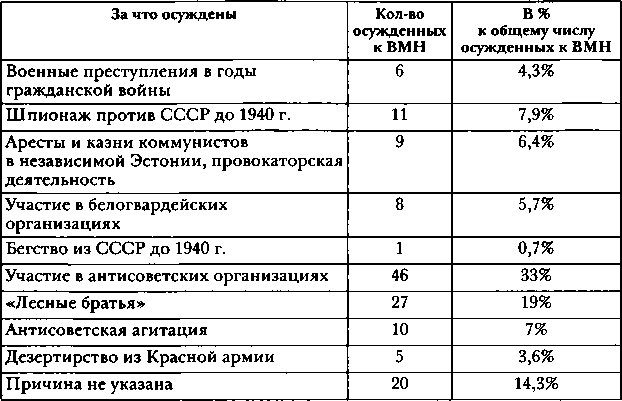
Подавляющая часть казненных была осуждена за принадлежность к антисоветским подпольным организациям и формированиям «лесных братьев»; по сравнению с довоенным периодом резко уменьшилось количество осужденных за «старые грехи».
Выявленные в Государственном архиве РФ документы свидетельствуют о том, что военные трибуналы подходили к вынесению смертных приговоров достаточно осторожно. Например, летом 1941 г. из Красной Армии дезертировал Кристиан Паусалу. До присоединения Эстонии к Советскому Союзу он работал тюремщиком и был уличен в жестоком обращении с заключенными. Как тюремщик, на которого имелся компромат, он в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 мая 1941 г. должен был быть депортирован. Однако Паусалу не только не подвергся высылке и аресту, но даже был призван в армию, откуда вскоре дезертировал. Военный трибунал присудил Паусалу к ВМН — расстрелу, с заменой на 10 лет лишения свободы с направлением на фронт. Однако в октябре месяце Паусалу вторично дезертировал и перешел на сторону немцев вместе с 60 эстонцами-красноармейцами[630].
Военные трибуналы выносили не только смертные приговоры; часть арестованных отправлялась в лагеря и колонии ГУЛАГа. В первой главе мы подробно рассматривали движение эстонцев-заключенных ГУЛАГа в 1941 г. В общей сложности в течение года было осуждено около 4,5 тысячи эстонцев, в том числе 3,2 тысячи — в рамках депортации 14 июня, около тысячи — до начала войны и около 300 — после.
3.4. Расстрелы в тюрьмах
Однако не все арестованные летом 1941 г. в Эстонии были осуждены к ВМН или заключению в лагеря. Часть из них была расстреляна в тюрьмах без суда при приближении немецких войск.
В эстонской официальной историографии утверждается, что расстрелы заключенных в тюрьмах были массовыми, однако общие цифры не называются. Из упоминаемых ими случаев можно понять, что расстрелы имели место в пяти тюрьмах. В тюрьме города Тарту было расстреляно 192 человека, в Лихула — 6 человек, в Хаапсалу — 11 человек, в Вильянди — 11 человек, в Печорах — 6 человек, в Хииумаа — 41[631]. В этот же ряд пытаются включить состоявшиеся в сентябре расстрелы в Курессааресском замке на о. Саарема. Однако подобная «добавка» неправомерна: если расстрелы заключенных в тюрьмах Тарту, Вильянди, Лихула и Хаапсалу проводились без судебного решения, то на Саареме расстрелы были приведением в исполнение смертных приговоров, вынесенных военным трибуналом (см. п. З.З)[632].
Таким образом, в общей сложности, по данным официальной историографии, в тюрьмах было расстреляно 267 человек. Следует отметить, что при определении численности расстрелянных в тюрьмах эстонские историки ориентируются на результаты эксгумаций, проводившихся сразу после оккупации республики немецкими властями. Соответственно, нет никакой гарантии, что в число эксгумированных трупов не были включены тела расстрелянных до начала войны.
Более точные цифры расстрелянных в тюрьмах Эстонии мы можем получить, обратившись к хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации документам НКВД СССР. Согласно «Справке о количестве заключенных, выбывших в ходе эвакуации» от 22 января 1942 г., в Эстонской ССР было расстреляно в тюрьмах 205 человек и еще 40 было освобождено при эвакуации[633].
Разумеется, в неразберихе отступления из Эстонии и эти данные могут не быть исчерпывающими; общую численность расстрелянных заключенных тюрем, таким образом, можно определить примерно в 250 человек.
Важным обстоятельством является то, что эти расстрелы были проведены 8–9 июля. К этому времени немецкие войска заняли южную часть Эстонии и продолжали наступление. Удастся ли частям Красной Армии сдержать наступление противника, было неизвестно. Пока советские войска обороняли подступы к Вильянди и Тарту, в этих городах начались организованные националистическим подпольем вооруженные выступления; на улицах шли бои истребительных батальонов и групп эстонских националистов[634].
В этой напряженной обстановке возник вопрос о том, что следует делать с находящимися в городских тюрьмах заключенными. Все эти люди были арестованы уже во время войны, о чем, в частности, свидетельствует Март Лаар. «2 июля все заключенные Тартуской тюрьмы были отправлены в Сибирь, однако за следующую неделю тюрьма была снова переполнена, — говорится в работе Лаара. — Сюда были переведены заключенные из других мест заключений Южной Эстонии, а также люди, задержанные ополченцами истребительных батальонов»[635]. Содержавшиеся в тюрьмах заключенные подозревались в активной антисоветской деятельности; учитывая сложившуюся в Эстонии обстановку, эти подозрения были в большинстве случаев обоснованными.
Отпустить их было нельзя, а на эвакуацию вглубь СССР не оставалось времени. Решение местных властей было вполне предсказуемым. «За два дня до отступления советских властей из Тарту на заседании местного комитета ЭКП(б) по требованию председателя Тартуского отделения НКВД П. Афанасьева и секретаря ЦК ЭКП(б) Абронова было принято решение расстрелять заключенных. По распоряжению П. Афанасьева, решение было приведено в исполнение в ночь с 8 на 9 июля»[636].
При этом расстрелу подлежали не все заключенные, а только те, кто содержался под стражей по обвинению в опасных преступлениях; так, например, из 223 заключенных, находившихся, в Тартуской тюрьме, было расстреляно 192[637]. Всего же, как уже упоминалось, в ходе эвакуации эстонских тюрем было освобождено 40 человек[638].
Решение о расстреле заключенных в тюрьмах, безусловно, было внесудебным. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, оно было достаточно обоснованным. Необходимо принимать во внимание, что заключенные расстреливались только в том случае, когда создавалась угроза освобождения их немецкими войсками. Это была общесоюзная практика, вполне обоснованная в условиях войны[639].
Здесь следует упомянуть еще об одном важном обстоятельстве. Некоторые эстонские историки пишут, что расстрелы заключенных проводились в соответствии с распоряжением Москвы[640]. Однако документы опровергают это заявление.
Соответствующее решение действительно было принято, но принято достаточно поздно. Лишь 4 июля начальником тюремного отдела НКВД Никольским была подготовлена докладная записка на имя наркома внутренних дел СССР Берии. Вот этот документ:
«Дальнейший вывоз заключенных из тюрем прифронтовой полосы, как вновь арестованных после проведенной эвакуации тюрем, так и в порядке расширения зоны эвакуации считаем нецелесообразным, ввиду крайнего переполнения тыловых тюрем и трудностей с вагонами. Необходимо предоставить начальникам УНКГБ и УНКВД, в каждом отдельном случае, по согласованию с военным командованием решать вопрос о разгрузке тюрьмы от заключенных в следующем порядке:
1. Вывозу в тыл подлежат только подследственные заключенные, в отношении которых дальнейшее следствие необходимо для раскрытия диверсионных, шпионских и террористических организаций и агентуры врага.
2. Женщин с детьми при них, беременных и несовершеннолетних, за исключением диверсантов, шпионов, бандитов и т. п. — освобождать.
3. Всех заключенных по Указам Президиума Верховного Совета СССР от 26.6, 10.8 и 28.12 — 1940 г. и 9.4 с.г., а также осужденных за бытовые, служебные и другие маловажные преступления, или подследственных по делам о таких преступлениях, которые не являются социально опасными, использовать организованно на работах оборонного характера по указанию военного командования, с досрочным освобождением в момент эвакуации охраны тюрьмы.
4. Ко всем остальным заключенным (в том числе дезертирам) применять ВМН — расстрел.
Просим ваших указаний»[641]
К настоящему моменту точная дата утверждения предложения Никольского остается неизвестной; однако, как мы помним, расстрелы 8–9 июля в Тартуской тюрьме проводились не на основании директивы НКВД СССР, а на основании решения уездного комитета КП(б) Эстонии[642]. Таким образом, расстрелы заключенных в эстонских тюрьмах осуществлялись не по приказу из Москвы, а по инициативе местных властей.
3.5. Результаты борьбы с «лесными братьями»
Официальная эстонская историография утверждает, что из 2199 «убитых без суда» было около 100 «лесных братьев» — членов вооруженных антисоветских формирований[643]. Это утверждение совершенно явно не соответствует действительности. На самом деле деятельность эстонских «лесных братьев» летом 1941 г. была более чем масштабной, и потери антисоветских вооруженных формирований значительно превышали 100 человек. Об этом однозначно свидетельствуют как документы самих «лесных братьев», так и документы советских органов внутренних дел и государственной безопасности.
В уже упоминавшемся «Отчете о деятельности “Ома-кайтсе” в 1941 г.» мы находим следующие данные о потерях «лесных братьев»: 111 убитых в бою, 1 умерший от ран, 58 раненых и 40 без вести пропавших, «из которых многих позднее нашли убитыми»[644]. Получается, что общее число уничтоженных «лесных братьев» — около 150 человек. Однако авторы «Отчета» специально оговариваются, что эти данные не полны: точных сводок пока не имеется[645].
Сохранившиеся документы истребительных батальонов НКВД ЭССР ясно свидетельствуют, что на самом деле число убитых «лесных братьев» значительно больше. Вот один из этих документов: «В конце июля 1941 г. на территории Эстонской ССР оперировала крупная банда из дезертиров и кулаков. На ликвидацию этой банды были направлены два истребительных батальона. При столкновении с бандитами группой бойцов истребительных батальонов под командой капитана Пастернак 1 августа было убито 46 бандитов, в том числе финский офицер и унтер-офицер. Захвачена мелкокалиберная пушка»[646]. Как мы видим, только при ликвидации лишь одной банды было уничтожено 46 «лесных братьев».
8 июля тот же самый истребительный батальон капитана Пастернака вел настоящие бои с антисоветскими формированиями в городе Вильянди, на который наступали немцы. В отчете о боевых действиях оборонявшего Вильянди 5-го мотострелкового полка 22-й мотострелковой дивизии об этом сообщается следующее: «Город горел, на улицах шел бой между истребительным батальоном т. Пастернака и пятой колонной, валялись убитые и раненные»[647]. Едва ли эстонские националисты обошлись в этом бою без серьезных потерь.
Бои между советскими частями и антисоветскими эстонскими формированиями численностью около 300 человек также имели место в городе Тарту[648], а действовавший в районе Киллинге-Нымме крупный отряд «лесных братьев» под командованием майора Лиллехта был разбит советскими частями и распался на отдельные группы, что само по себе свидетельствует о значительности потерь[649].
К сожалению, общая статистика по борьбе истребительных батальонов с формированиями «лесных братьев» была утрачена во время отступлений лета и осени 1941 г.; в документах штаба истребительных батальонов НКВД СССР по Эстонии по этому вопросу имеется лишь отрывочная и неполная информация. Согласно этим данным, в Эстонии было задержано и/или уничтожено не менее 422 бандитов и бандпособников[650].
Однако кроме истребительных батальонов борьбой с вооруженными отрядами «лесных братьев» вели подразделения Особых отделов 8-й армии и Краснознаменного Балтийского флота, а также части пограничных войск. Только за пять дней с 16 по 20 июля 1941 г. бойцами Особого отдела 8-й армии было уничтожено 7 бандитов, арестовано 13 бандитов и бандпособников[651]. 9 июля группой 6-го пограничного отряда было убито 3 и захвачено 8 бандитов[652].
Кроме того, с 22 июня по 12 августа 1941 г. по приговорам военных трибуналов было казнено как минимум 27 «лесных братьев» (см. табл. 17).
Советские данные находят подтверждение в документах, составленных эстонскими националистами. Так, в отчете «Омакайтсе» уезда Пярну за 1941 г. числится 53 убитых в боях с «Советами»[653]. И это — только по одному уезду, в котором, кстати говоря, деятельность «лесных братьев» была не особо активной.
Американский исследователь А. Штромас оценивал общие потери эстонских «лесных братьев» в 541 человека[654]. Исследовавшие документы «Омакайтсе» историки П. Касик и Т. Мюлре называют еще большую цифру — 819 погибших «лесных братьев»[655]. Эту цифру следует рассматривать как минимальную; перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что потери националистических вооруженных формирований могли оказаться еще больше и достигнуть тысячи человек.
3.6. Обвинения в издевательствах и пытках
В работах эстонских историков можно встретить неоднократные упоминания о том, что репрессии военного времени сопровождались насилием и пытками населения — преимущественно со стороны бойцов истребительных батальонов. Значительную часть своей книги «Красный террор» Март Лаар уделяет описаниям зверств, якобы совершенных над мирными эстонцами. В этом списке фигурируют насилие над женщинами, выкалывание глаз, отрезание носов и ушей — словом, все то, о чем в свое время писали немецкие пропагандисты[656].
Нет сомнений, что в ходе достаточно ожесточенной борьбы, которую истребительные батальоны вели с «лесными братьями», имела место гибель мирных жителей. Однако следует учитывать тот факт, что с самого начала своей деятельности формирования «лесных братьев» также совершали убийства мирных граждан, сочувствовавших советской власти. Одна из первых касающихся эстонских «лесных братьев» записей в журнале учета боевых действий пограничных войск НКВД Ленинградского военного округа гласит: «Участились случаи налета бандитских контрреволюционных шаек на мирное население»[657]. Упоминания о расстрелах сочувствующих советской власти мы находим и в документах самих «лесных братьев»[658].
Так, например, отряд «лесных братьев» под командованием бывшего фабриканта Хермана Юсаара летом 1941 г. арестовал и расстрелял свыше 50 коммунистов и активистов в волостях Тихуметса и Тали. Группа «лесных братьев» в Тартуском уезде расстреляла около 35 коммунистов и представителей советских властей, а в районе города Каллисте националисты захватили председателя местного горсовета Маркела Феклистова, которому «рвали нос железными крючками, простреливали плечо, а на второй день полуживого закопали в землю»[659].
Жестокость вызывала жестокость; летом 1941 г. на территории Эстонии фактически шла гражданская война, в которой эстонцы из формирований «лесных братьев» сражались с эстонцами из истребительных батальонов. Как всякая гражданская война, она не обошлась без невинных жертв. Однако правомерно ли обвинять бойцов истребительных батальонов в изуверских пытках, со вкусом описываемых Мартом Лааром?
Сравнительно недавно выявленный в Центральном архиве ФСБ документ позволяет отвергнуть эти обвинения. Это подписанная наркомом государственной безопасности СССР Меркуловым служебная записка, датирующаяся апрелем-маем 1945 г. Записка носит внутренний характер, и сомневаться в ее достоверности не приходится. К настоящему времени этот документ уже опубликован, однако в связи с важностью записки мы приведем ее здесь с незначительными сокращениями.
«В 1941 г., после оккупации Латвии, немецким командованием в гор. Риге был создан т. н. “Организационный центр”, который в конце 1941 г. был переименован в “Директорию”.
По заданию гестапо председателем организационного центра КРЕПШМАНИСОМ (бежал с немцами) была создана “Комиссия по расследованию зверств большевиков в Латвии”…
Вскоре после создания этой “Комиссии”, работавшей под руководством начальника пропаганды рейхскомиссариата Латвии ДРЕСЛЕРА и начальника рижского гестапо ЛАНГЕ, она через печать и радио широко оповестила население о том, что в гор. Риге и его окрестностях обнаружены массовые могилы латышей, “зверски замученных чека”.
Показаниями арестованных членов “Комиссии” ПУКИТИСА и ГРУЗИСА и допрошенных свидетелей установлено, что в распоряжении ЗУҐИСА находилась специальная команда в количестве 40 человек, которая занималась специальной “обработкой” трупов, всячески их уродуя, а члены “Комиссии” на этом основании составляли и подписывали фиктивные акты о “зверствах” большевиков.
Изуродованные трупы выставлялись для широко обозрения населения и опознания их родственниками.
Чтобы скрыть факт умышленного изуродования трупов, предназначавшихся для широкой демонстрации населению в качестве доказательств “большевистских зверств”, немцы расстреляли и закопали в местечке “Волтозер” [Балтэзерс] близ Риги 10 евреек, взятых ими из гетто для работы в специальной команде ЗУТИСА.
Немецкая пропаганда активно использовала “материалы” указанной комиссии для клеветнической антисоветской кампании по всей Прибалтике. Организовывались торжественные похороны “жертв большевизма”, проводились антисоветские митинги, публиковались статьи в газетах и журналах, были изданы книги под названием “Год ужаса”и “Обвинительныедоказательства”и выпущен “документальный” фильм “Красный туман”, который с некоторыми изменениями был также сделан для Эстонии и Литвы.
В ходе следствия НКГБ ЛССР задокументирован фальсификаторский характер немецкой пропаганды о “зверствах большевиков”.
В частности, документально и показаниями свидетелей установлено, что основные кадры “документального”фильма “Красный туман” были сделаны лабораторным путем, для чего на трюковом столе кинолаборатории из фотоснимков отдельных трупов фабриковались кадры “массовых жертв большевиков”, а “камера смертников в тюрьме НКВД с надписями осужденных” была бутафорно сооружена и заснята в Рижской киностудии…»[660]
Едва ли нацистские пропагандисты действовали в Эстонии иначе, чем в Латвии; таким образом, мы имеем основание утверждать, что приводимые Мартом Лааром «данные» являются всего лишь измышлениями нацистской пропаганды. Впрочем, Лаар не одинок в использовании заведомо фальсифицированных источников; так, например, упоминающаяся в записке Меркулова пропагандистская книга «Год ужаса» до сих пор используется латвийскими историками в качестве не подлежащего сомнению источника. Более того, она переиздана, а фотографии изуродованных нацистами трупов выложены в сети Интернет и по сей день используются для разжигания ненависти.
3.7. Эвакуация лета 1941 г.
Летом 1941 г. из Эстонии, как и из остальных прифронтовых территорий СССР, проводилась эвакуация населения. В Таллине эту эвакуацию описывают достаточно странно. «Примерно 25 000 человек, в основном граждан Эстонской Республики, были эвакуированы в Россию летом 1941 г., - читаем мы в «Рапортах» Эстонской международной комиссии по расследованию преступлений против человечности. — Промышленные предприятия, общественные организации и государственные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, транспортные предприятия и т. п. эвакуировались в СССР вместе с оборудованием, имуществом и персоналом. Многие из эвакуированных ехали в СССР добровольно (члены партии, так называемые “активисты” и члены их семей). Также от немцев в СССР бежали примерено 2000 эстонских евреев. Тысячи людей эвакуировались насильно, под страхом ареста и расстрела»[661].
При этом остается совершенно непонятным, зачем советским властям требовалось эвакуировать кого бы то ни было насильно — ведь хорошо известно, что многие тысячи лояльных советской власти людей не были эвакуированы из Эстонии и впоследствии уничтожались нацистами и их пособниками.
На самом деле рассматривать эвакуацию как репрессию невозможно — это эстонским историкам приходится признать. Однако в общее число «потерь населения Эстонии», за которые планируется предъявить претензии России, эвакуированных все равно включают[662].
3.8. Мобилизация и трудовые батальоны
В качестве жертв советских репрессий военного времени эстонские историки называют эстонцев, мобилизованных в Красную армию. «Как своеобразную дополнительную депортацию можно рассматривать и проведенную в Эстонии летом 1941 г. принудительную мобилизацию в Советскую Армию, в результате которой было отправлено в Россию 33 000 мужчин, — пишет Март Лаар. — В августе 1941 г. мобилизованных и оставшихся в живых ополченцев как “неблагонадежных” поселили в военные лагеря, находящиеся в системе ГУЛАГ НКВД. По господствующим там условиям они практически не отличались от тюремных лагерей. Зимой 1941 г. в бесчеловечных условиях т. н. трудовых батальонов погибло около 8000 эстонцев. Остальных спасло от смерти формирование стрелкового корпуса, в составе которого эстонцы сражались до конца войны»[663].
В изданном в 1991 г. «Отчете» комиссии АН ЭССР утверждалось, что число погибших в трудовых батальонах составило не 8, а 12 тысяч человек[664]. Авторы «Белой книги» отмечают, что эта цифра не подтверждена архивными источниками, однако именно ее называют в качестве итоговой[665]. Называют они и еще одну цифру погибших в трудовых батальонах — 10 440 человек[666]. С этой цифрой согласны авторы «Обзора». «Около 10 000 человек из тех, кто попал в трудовые батальоны, умерло к весне 1942 г.», — утверждают они[667]. Комиссия историков при президенте Эстонии в своих «Рапортах» благоразумно обходит стороной вопрос о численности мобилизованных, погибших в трудовых батальонах.
Таким образом, в официальной эстонской историографии называют крайне противоречивые цифры погибших — от 8 до 12 тысяч человек; при этом, как обычно, никаких ссылок на архивные документы ими не предъявляется.
Попробуем внести ясность в эту проблему.
Прежде всего отметим, что идея об отождествлении мобилизации и депортации родилась у сотрудников организованной нацистскими оккупантами комиссии ZEV[668]. Повторение подобных измышлений в наше время выглядит как минимум странно. Очевидно, что мобилизация в армию не может расцениваться как репрессия.
Тем не менее вопрос о судьбе направленных в трудовые батальоны эстонцев требует внимательного рассмотрения. Нет необходимости говорить о том, что в трудовых батальонах были вовсе не курортные условия.
По данным российского историка Ю. Абрамова, около 9 тысяч военнообязанных эстонцев были направлены в трудовые батальоны, дислоцировавшиеся на территории Архангельской области[669]. К этому времени в Архангельске сложилась очень сложная ситуация со снабжением. «Тысячи северян ушли на фронт, а для строительства и модернизации Архангельского морского порта и подъездных железнодорожных путей к нему требовалось большое количество рабочей силы. В строительные и рабочие батальоны из внутренних областей призывали рабочих непризывного возраста, а также тех, кому нельзя было доверить оружие. В то же время более тридцати тысяч жителей городов и районов области было направленно на оборонные и фортификационные работы в Карелию и Мурманскую область. Недовольство рабочих бойцов усиливалось плохим питанием и бытовой неустроенностью, но городские власти не могли удовлетворить все нужды прибывающих. Продовольственное положение в городе ухудшилось с каждым днем. Население городов было на грани голода, сравнимого разве что с блокадным Ленинградом. Люди умирали от истощения и на производстве, и на улицах. В рабочих батальонах росло число дезертиров, которые подчас занимались бандитизмом и мародерством… Военный трибунал привлекал к ответственности руководителей хозорганизаций, по халатности или злой воле срывавших создание необходимых жилищнобытовых условий личному составу рабочих колонн, а также виновников, допустивших гибель четырнадцати бойцов, замерзших из-за отсутствия зимнего обмундирования в пути следования из Пинежского и Холмогорского районов»[670].
Даже в советское время никто не отрицал, что у эстонцев, переданных в 1942 г. из трудовых батальонов на формирование эстонского стрелкового корпуса, были проблемы со здоровьем[671]. Однако проблемы со здоровьем — это одно, а массовая смертность — совсем другое. Действительно ли в трудовых батальонах погибло от четверти до трети направленных туда эстонцев?
Статистика о смертности эстонцев в трудовых батальонах к настоящему времени еще не обнародована. Однако одновременно с эстонцами в трудовые батальоны направляли граждан немецкой национальности — как служивших в Красной Армии, так и военнообязанных. Этот сюжет детально исследован российскими и немецкими историками, которые, в частности, ввели в научный оборот детальные данные о смертности немцев в трудовых батальонах.
Например, по данным Вятского ИТЛ, с февраля 1942-го по 1 июля 1944 г. в распоряжение руководства лагеря поступило 8207 немцев-«трудоармейцев». За это же время убыло 5283 человека, в том числе умерли — 1428, осуждены — 365, этапированы в другие ИТЛ — 823, демобилизованы — 1581, бежали — 7, находились в отпуске для лечения или по семейным обстоятельствам 1079 человек[672].
Таким образом, в процентном отношении смертность среди немцев-«трудоармейцев» Вятского ИТЛ за 2,5 года составила 17,4 %[673]. Эстонцы находились в трудовых колоннах и трудовых батальонах гораздо меньше времени, чем немцы — с осени 1941-го по весну 1942 г. К тому же на рубеже 1941/1942 г. «мужчин более ранних годов призыва (родившихся в 1896–1906 гг.) и более благонадежный элемент (членов истребительных батальонов, работников милиции и др.) стали перемещать в колхозы или на предприятия»[674]. Очевидно, что эта мера должна была существенно снизить смертность.
Однако согласно официальной эстонской историографии за эти 6–8 месяцев смертность эстонцев была значительно выше, чем общая смертность немцев за 29 месяцев — от 25 % (8 из 33 тысяч) до 36 % (12 из 33 тысяч).
Столь значительное расхождение явно свидетельствует о том, что данные официальной эстонской историографии не соответствуют действительности. Это можно доказать и другим путем.
Уже в начале 1942 г. в соответствии с решением Государственного комитета обороны СССР началось формирование эстонских национальных дивизий — сначала 7-й стрелковой, а затем 249-й стрелковой, на основе которых в мае 1942 г. был создан 8-й эстонский стрелковый корпус.
К ноябрю 1942 г. численность военнослужащих эстонских соединений корпуса составляла 27 331 человек, 88,5 % из которых составляли эстонцы. Всего за время войны в корпусе воевало около 70 тысяч человек, процент эстонцев среди которых оставался на уровне 80 % (см. табл. 17). При этом более 80 % воевавших в корпусе эстонцев до войны проживало в Эстонии[675] .
Таблица 17. Национальный состав 8-го Эстонского стрелкового корпуса, 1942–1944 гг. [676]
Национальность 15 мая 1942 г. 9 декабря 1942 г. 30 июня 1943 г. 11 июля 1944 г.
Эстонцы 88,8% 88,5% 75,6% 80,55%
Русские 9,9% 10,2% 18,22%
Другие 1,3% 1,3% 1,23%
Таким образом, за все время войны в 8-м эстонском стрелковом корпусе сражалось в общей сложности около 45 тысяч граждан Эстонии. Сопоставление этой цифры с данными эстонских историков о количестве мобилизованных (33 тысячи человек) и эвакуированных (около 25 тысяч человек, включая женщин и детей) ясно свидетельствует об отсутствии массовой смертности в трудовых батальонах[677].
Мобилизованные в 1941 г. эстонцы не были замучены в трудовых батальонах, как утверждают сегодня в Таллине. Они сражались в рядах Красной Армии, гибли под Великими Луками, шли по улицам освобожденного Таллина, бились в Курляндии. А уже в наше время, на открытии мемориала эстонским эсэсовцам в Синимяэ, вице-спикер эстонского парламента Туне Келлам скажет, указывая на заросшую кустарников линию окопов 8-го эстонского стрелкового корпуса: «Там могилы наших врагов».
3.9. Выводы
Исследование репрессий военного времени требует крайней осторожности. Война неизбежно связана с гибелью гражданского населения: во время бомбардировок и артобстрелов, во время боев в городах и поселках. Это трагично, но не имеет никакого отношения к репрессиям.
Мы уже имели возможность неоднократно убедиться, что при описании советских репрессий официальная эстонская историография пользуется изготовленными нацистскими пропагандистами фальшивками. Данные комиссии ZEV, изданные немцами пропагандистские книги «Год страданий эстонского народа» и «Советский Союз и Балтийские государства» занимают видное место среди используемых эстонскими историками источников.
Это особенно заметно при описании репрессий военного времени. Именно к измышлениям немецких пропагандистов восходят регулярно повторяемые рассказы о садистских убийствах мирных эстонцев бойцами Красной Армии и истребительных батальонов и о насильственном угоне эстонцев в Сибирь под видом эвакуации и мобилизации.
Недостаточность источниковой базы не дает нам возможности привести точные данные о советских репрессиях в Эстонии в начале войны. Однако даже имеющаяся информация противоречит данным официальной эстонской историографии. На самом деле в июне-октябре 1941 г. советскими военными трибуналами было вынесено от 240 до 320 смертных приговоров. Кроме этого, при приближении немецких войск в эстонских тюрьмах было расстреляно около 250 заключенных, содержавшихся там по обвинению в антисоветской деятельности. Около 300 граждан Эстонии было осуждено к заключению в лагеря и колонии ГУЛАГа, а от 800 до тысячи боевиков антисоветских формирований «лесных братьев» — уничтожено в ходе боевых действий.
Таким образом, репрессии военного времени в Эстонии нельзя назвать ни массовыми, ни необоснованными.
Глава 4 ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ, 1944–1953 гг.
4.1. Официальная эстонская версия
Репрессии послевоенного периода в официальной эстонской историографии описываются гораздо менее подробно, чем репрессии «первой советской оккупации». Однако приводимые данные по-прежнему крайне противоречивы.
Март Лаар пишет, что «в послевоенные годы по политическим соображениям в Эстонии было арестовано не менее 53 000 человек, на сегодня опубликованы имена 34 620 арестованных. В принудительные трудовые лагеря в промежутке с 1944 по 1953 годы было отправлено от 25 000 до 30 000 человек, из них скончалось около 11 000»[678].
Однако в «Белой книге» утверждается, что эти же самые цифры относятся к обоим «советским оккупациям»: «В ходе расследования советских репрессий к 2003 г. было задокументировано более 53 000 политических арестов, а также опубликованы данные о 34 620 арестованных. Эти цифры охватывают обе советские оккупации… В 1944–1945 гг. было арестовано примерно 10 000 человек, половина из которых умерла в течение двух первых тюремных лет. По разным оценкам, в 1944–1953 гг. в концентрационные лагеря было отправлено 25 000-30 000 человек, из которых примерно 11 000 не вернулись»[679].
Данные «Белой книги», безусловно, выглядят гораздо более адекватными, чем информация, приводимая Лааром. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что даже эти данные не выдерживают проверки.
4.2. Обстановка в Эстонии в 1944–1945 гг.
Прежде всего необходимо понять, насколько репрессивная деятельность органов НКВД-НКГБ ЭССР была обоснованной. В сегодняшнем Таллине пытаются сделать вид, что репрессии 1944–1945 гг. были ужасающим и ничем не обоснованным террором против эстонского народа. Однако подобная точка зрения является, мягко говоря, сомнительной.
В годы нацистской оккупации значительное число эстонцев сотрудничало с оккупационными властями, охраняло многочисленные концлагеря на территории республики и за ее пределами, участвовало в карательных операциях против населения России и Белоруссии, воевало против советских войск на фронте.
Масштабы поддержки, которую нацисты получили в Эстонии, не могут не поражать. Уже к концу 1941 г. в созданные немцами отряды «самообороны» — «Омакайтсе» — добровольно вступило 43 757 человек[680]. Члены «Омакайтсе» участвовали в облавах на оказавшихся в окружении советских военнослужащих и партизан, арестовывали и передавали немецким властям «подозрительных лиц», несли охрану концлагерей, участвовали в массовых расстрелах евреев и коммунистов. Конечно, в определенной мере это было всего лишь желанием выслужиться перед новой властью; как отмечается в одном из документов «Омакайтсе», «с приближением немецких войск недовольный элемент города [Таллин] стал подымать голову. Это были такие лица, которые во время советской власти перешли в подполье и скрывались от мобилизации, или же по другим различным причинам, предпочитали прятаться, отчасти же и такие лица, которые в общем ни в чем не были уличены, но ввиду создавшегося нового положения считали выгодным выйти на улицу и присоединиться к группам Омакайтсе»[681]. Не все члены «Омакайтсе» были замешаны в преступлениях, но готовность к сотрудничеству с врагом ими была выражена достаточно ясно. По состоянию на 1 января 1943 г. численность формирований «Омакайтсе» составляла 43 053 человека[682]. Всего через формирования «Омакайтсе» прошло не менее 90 тысяч эстонцев[683].
Помимо «Омакайтсе», нацистам удалось сформировать в Эстонии 26 батальонов вспомогательной полиции, 6 полков пограничной стражи и 20-ю дивизию войск СС[684]. По данным Марта Лаара, в общей сложности к середине 1944 г. «общее количество эстонцев в рядах Германской армии составило около 70 000 человек»[685].
Учитывая масштабы сотрудничества эстонцев с нацистами, следовало ожидать, что после освобождения Эстонии советскими войсками в ней развернутся действительно массовые (и вполне обоснованные) репрессии — тем более что на территории республики действовали вооруженные формирования «лесных братьев». Документы НКВД ЭССР свидетельствуют, что активность националистических вооруженных формирований была достаточно высока:
«Вооруженными бандгруппами и бандодиночками совершаются налеты и теракты.
Деятельность бандитствующих элементов в основном проявляется:
а) в налетах на здания волисполкомов, конно-прокатных пунктов, на отдельные совхозы и местные предприятия;
б) нападения на конвой и на места временного содержания захваченных бандитов, с цель освобождения из-под стражи.
в) в убийствах советско-партийного актива деревни, сельских уполномоченных, бойцов истребительных батальонов, участковых уполномоченных милиции и друг. Лиц, помогающих органам Советской власти;
д) в убийствах новоземельников, получивших кулацкую землю, инвентарь и скот от советской власти, физического истребления членов их семей, разорения и уничтожения хозяйства;
г) в налетах с целью овладения оружия и боеприпасами;
е) обстрела из засады и убийства проезжающих офицеров и бойцов Красной Армии, сотрудников НКВД-НКГБ, других должностных лиц и советских служащих». [686]
Только в апреле — августе 1945 г. НКВД ЭССР было зарегистрировано 201 подобное бандпроявление[687].
Таким образом, после освобождения Эстонии от немецких оккупантов перед органами НКВД-НКГБ республики встали две основные задачи: разоблачение и наказание сотрудничавших с нацистами коллаборационистов, во-первых, и борьба с формированиями «лесных братьев», во-вторых.
4.3. Репрессии 1944–1945 гг.
Как мы уже видели, авторы «Белой книги» и Март Лаар единодушно утверждают, что в 1944–1945 гг. было арестовано около 10 тысяч человек, «половина из которых умерла в течение двух первых тюремных лет». Посмотрим, соответствует ли это утверждение действительности.
Прежде всего, обратимся к опубликованной российским историком Олегом Мозохиным статистике репрессивной деятельности органов НКГБ-МГБ. Согласно этим данным, в 1945 г. НКГБ ЭССР было арестовано 6569 человек[688].
Безусловно, эти данные не являются исчерпывающими. Во-первых, отсутствует информация о количестве арестованных в 1944 г. Во-вторых, приведенные О. Мозохиным данные — результаты деятельности органов НКГБ-МГБ. Однако борьба с бандитизмом (в том числе с формированиями эстонских «лесных братьев») велась органами НКВД-МВД; естественно, что ее результаты учитывались отдельно.
Обращение к архивным документам Государственного архива РФ позволяет нам в определенной степени восполнить эти пробелы. Прежде всего, обратимся к направленному в Государственный комитет обороны сообщению наркома госбезопасности СССР Меркулова от 14 ноября 1944 г.
«За период работы на освобожденной территории Эстонии до 6-го ноября т. г. органами НКГБ было арестовано всего 696 человек.
В результате пересмотра имеющихся разработок, усиления агентурной работы и следствия дополнительно за период с 6 по 14 ноября т. г. Нами арестовано, по неполным данным, 420 человек (сведения о проведенных операциях в уездах еще полностью не получены).
Таким образом, на 14-е ноября арестовано всего 1116 человек, из них по гор. Таллину — 575 человек.
В числе арестованных: агентов разведывательных и контрразведывательных органов противника — 48 человек; официальных сотрудников разведывательных и контрразведывательных органов противника — 97 человек; участников эстонской националистической военно-фашистской организации “Омакайтсе” — 421 человек; предателей, немецких ставленников и пособников — 206 человек; разного антисоветского элемента — 344 человека» [689]
Эти данные не являются исчерпывающими, поскольку в них говорится только о репрессиях, осуществлявшихся органами НКГБ. Согласно хранящимся в Государственном архиве РФ данным, с 1 октября по 31 декабря органами НКВД ЭССР было задержано 356 «лесных братьев», членов «Омакайтсе» и полицейских, 620 военнослужащих немецкой армии и 161 бывших красноармейцев, сражавшихся на стороне немцев (см. табл. 18).
Таблица 18. Результаты борьбы НКВД ЭССР с антисоветским подпольем и вооруженными бандами за период с 1 октября по 31 декабря 1944 г.[690]

Однако необходимо учитывать, что «задержано» не значит «арестовано». Например, в первом квартале 1945 г. НКВД Эстонии был задержан 1991 человек, из которых арестовано -806, легализовано — 230, передано в военкоматы — 569, в военную прокуратуру — 96, в органы НКГБ и ГУКР «Смерш» — 47 и на фильтрацию в проверочные лагеря — 243[691].
Таким образом, общую численность арестованных органами НКВД-НКГБ в Эстонии в 1944 г. можно определить примерно в 3,5 тысячи человек, около 2 тысяч (примерно 60 %) из которых составили коллаборационисты.
Репрессии против коллаборационистов в Прибалтике, разумеется, не были закончены в 1944 г. В Эстонии в 1945 г. органами НКВД-МВД по антисоветским обвинениям было арестовано 3445 человек (см. табл. 19). Кроме того, в 1945 г. было арестовано 286 человек уголовного и «прочего преступного элемента». Таким образом, общее число арестованных органами НКВД-МВД ЭССР в 1945 г. составило 3731 человека. Из этого числа 1476 человек (около 40 % от общего числа арестованных) были арестованы как немецкие ставленники и пособники.
Таблица 19. Результаты борьбы НКВД-МВД ЭССР с антисоветским подпольем и вооруженными бандами в 1945 г.[692]

Подведем промежуточные итоги. В 1944 г. органами НКВД-НКГБ в Эстонии было арестовано около 3,5 тысячи человек, в 1945 г. — 6569 по линии НКГБ и около 3731 по линии НКВД. Всего за 1944–1945 гг. — около 14 тысяч. Как видим, в данном случае авторы «Белой книги», не утруждавшие себя архивными изысканиями, достаточно существенно занизили число арестованных. А вот судьба арестованных на поверку оказывается гораздо менее трагичной, чем рассказывают в Таллине.
Прежде всего нам следует разобраться, сколько арестованных было осуждено. Эстонские историки со странным правовым нигилизмом игнорируют этот вопрос, по всей видимости отождествляя арест и осуждение. Однако даже в Советском Союзе 1930-х — 1940-х гг. далеко не каждый арестованный становился осужденным.
Обратимся к данным о наличии эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа (табл. 20).
Таблица 20. Наличие эстонцев в лагерях и колониях ГУЛАГа, 1944–1947гг.[693]

С учетом данных о смертности среди заключенных ГУЛАГа (см. табл. 4) мы без труда можем определить число новых заключенных-эстонцев в 1944–1947 гг.
На 1 января 1944 г. в системе ГУЛАГа содержалось 4050 эстонцев, из них 2933 — в ИТЛ и 1117 — в ИТК. Подавляющее большинство из этих заключенных было осуждено еще до войны, а заметная часть — до присоединения Эстонии к СССР. Среднестатистическая смертность заключенных в 1944 г. составила 9,2 %, т. е. из 2933 эстонцев-заключенных ИТЛ умерло около 270 человек, а из 4050 эстонцев-заключенных в целом — около 370 человек. Если бы в 1944 г. в лагеря ГУЛАГа не поступило новых эстонцев, общая численность эстонцев-заключенных ИТЛ составила бы приблизительно 2660 человек. Однако по состоянию на 1 января 1945 г. в ИТЛ содержалось 2880 эстонцев. Данные о количестве эстонцев в ИТК на 1 января 1945 г. отсутствуют, но мы можем предположить, что баланс между умершими и вновь поступившими в колонии был таким же, как и в лагерях. Следовательно, в 1944 г. к заключению в лагерях и колониях было осуждено около 300–350 эстонцев. Необходимо отметить, что эти данные охватывают весь 1944 г. Число эстонцев, осужденных после освобождения Эстонии (за последние три месяца 1945 г.), по всей видимости, не превышало 100 человек.
В 1945 г. наблюдается резкий скачок численности эстонцев в системе ГУЛАГа. Если на 1 января в ИТЛ находилось 2880 эстонцев, то на 1 января 1946 г. их было уже 9017. С учетом годовой смертности (5,95 %) это говорит о том, что к заключению в ИТЛ было осуждено около 6300 эстонцев. В определении численности новых заключенных ИТК точные данные отсутствуют; однако если предположить, что в ИТК, как и в ИТЛ, общее число заключенных к 1 января 1945 г. осталось примерно на уровне 1 января 1944 г., то получается, что в 1945 г. в колонии поступило примерно 1200 новых заключенных.
Таким образом, общее число эстонцев, осужденных к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа в 1944–1945 гг., составляет около 7,5–8 тысяч человек из 14 тысяч, арестованных в этот период на территории Эстонии. Разумеется, некоторая часть арестованных в 1945 г. была осуждена уже в следующем, 1946 г.
Точными данными об эстонцах, приговоренных к смертной казни, за этот период мы не располагаем. Однако общесоюзная статистика свидетельствует, что таких было немного. За весь 1944 г. в СССР к ВМН было приговорено 3110 человек, 3027 из которых были расстреляны, а 83 — повешены. В 1945 г. общее число смертных приговоров составило 2308 человек (2260 — расстрел, 48 — повешение)[694]. Абсурдно предполагать, что эстонцы составляли значительное число среди казненных; скорее всего, их было не больше 100–200 человек.
Ложным оказывается и утвердившееся в официальной эстонской историографии мнение о том, что около половины осужденных умерло в первые два года. На самом деле в 1945 г. смертность среди заключенных составила 5,95 %, в 1946 — 2,2 %, в 1947 — 3,59 % (см. табл. 7). Как видим, о 50 % смертности говорить не приходится.
4.4. Милость к падшим
К сожалению, политика советского руководства в отношении коллаборационистов (в том числе прибалтийских) до сих пор не стала предметом специального исторического исследования. Сегодня и в России, и в Прибалтике бытует очень популярный миф о том, что после войны всех сотрудничавших с нацистами ждало жесткое наказание: расстрелы за измену и сибирские лагеря ГУЛАГа. Одни считают такую кару справедливой, другие — сталинским произволом. Однако на самом деле это — не более чем миф, практически не имеющий связи с реальностью.
Подобное утверждение кажется парадоксальным, однако при обращении к архивным документам оно находит полное подтверждение.
Общие принципы репрессий против коллаборационистов были сформулированы в совместной директиве наркомов внутренних дел и госбезопасности СССР № 494/94 от 11 сентября 1943 г[695]. Согласно этой директиве, аресту органами НКВД-НКГБ подлежали далеко не все коллаборационисты. Арестовывались офицеры коллаборационистских формирований, те из рядовых, кто участвовал в карательных операциях против мирного населения, перебежчики из Красной Армии, бургомистры, крупные чиновники, агенты гестапо и абвера, а также те из сельских старост, кто сотрудничал с немецкой контрразведкой.
Всех прочих коллаборационистов призывного возраста направляли в проверочно-фильтрационные лагеря, где проверяли на тех же условиях, что и вышедших из окружения бойцов Красной Армии и военнопленных. Исследования современных российских историков свидетельствуют о том, что подавляющее большинство направленных в проверочно-фильтрационные лагеря благополучно проходили проверку и впоследствии направлялись в армию или на работу в промышленность[696]. Коллаборационисты же непризывного возраста, согласно директиве от 11 сентября 1943 г., освобождались — хоть и оставались под наблюдением органов НКГБ.
Решение, принятое Кремлем по коллаборационистам, сегодня может показаться невероятным. Рядовые коллаборационисты, коль скоро они не были замешаны в преступлениях против мирных жителей, по своему статусу оказывались приравненными к вышедшим из окружения или освобожденным из плена красноармейцам! Однако парадоксальным это решение кажется лишь для нас. В Кремле хорошо знали, что в условиях нацистского оккупационного режима вступление в коллаборационистские формирования было зачастую лишь средством выживания как для советских военнопленных, так и для местных жителей. И именно с учетом этой вынужденности поступления на немецкую службу рядовым коллаборационистам было фактически даровано прощение.
Отношение к прибалтийским коллаборационистам не отличалось от отношения к коллаборационистам в целом (хотя в данном случае о вынужденности сотрудничества с нацистами, как правило, говорить не приходилось). Однако в преддверии освобождения Прибалтики руководство НКГБ СССР сочло необходимым уточнить механизм репрессий против прибалтийских коллаборационистов. Это было сделано в директиве об организации агентурнооперативной работы на освобожденной территории Прибалтийских республик, подписанной наркомом госбезопасности СССР Меркуловым 3 марта 1944 г[697]. Этот документ не изменял положений директивы № 494/94. Он лишь конкретизировал их применительно к ситуации, сложившейся в Прибалтийских республиках. Однако когда после освобождения Прибалтики органы НКВД-НКГБ приступили к репрессиям против коллаборационистов, стало ясно, что работа им предстоит весьма масштабная. Возникли даже сомнения: следует ли в Прибалтике придерживаться директивы № 494/94 и не подвергать репрессиям рядовых коллаборационистов, не замешанных в преступлениях против мирных жителей и военнопленных. 5 октября 1944 г. начальник Управления контрразведки «Смерш» Ленинградского фронта генерал-лейтенант Быстров отправил в Москву докладную записку, в которой предлагал провести массовые репрессии против членов эстонской организации «Омакайтсе»:
«1941 год и последующее время со всей очевидностью показали исключительную враждебность организации “Омакайтсе” советскому строю. Наличие большого количества скрывающегося и в настоящее время актива этой организации на территории Эстонии, который лишь в силу сложившейся неблагоприятной для него обстановки временно прекратил свою организованную деятельность, но не отказался от нее и при наличии малейшей возможности, несомненно, явится реальной силой для вооруженных выпадов против Красной Армии и Советской власти.
На основании изложенного полагал бы необходимым проведение органами НКГБ и НКВД массового изъятия членов организации “Омакайтсе” путем ареста активной ее части и административной высылки остальных за пределы Эстонской ССР»[698].
Общая численность членов «Омакайтсе» составляла не менее 90 тысяч человек, причем если в 1941–1943 гг. в формирования «Омакайтсе» входили только добровольцы, то с февраля 1944 г. в эти формирования мобилизовывались все мужчины от 17 до 60 лет[699]. Таким образом, начальник контрразведки Ленинградского фронта фактически предлагал выслать за пределы Эстонии значительную часть мужского населения республики.
В Кремле с подобным предложением, разумеется, не согласились, и репрессии против коллаборационистов на территории Прибалтики осуществлялись в полном соответствии с директивой № 494/94. Репрессиям подвергались преимущественно офицеры и те из коллаборационистов, чье участие в преступлениях против мирных граждан было доказано. Последних, впрочем, было достаточно много.
Обратимся к уже называвшимся нами цифрам. Согласно хранящимся в Государственном архиве РФ данным, с 1 октября по 31 декабря органами НКВД ЭССР было задержано 356 «лесных братьев», членов «Омакайтсе» и полицейских, 620 военнослужащих немецкой армии и 161 бывший красноармеец, сражавшиеся на стороне немцев[700]. В 1945 г. НКВД ЭССР было арестовано 1476 немецких ставленников и пособников[701]. По линии НКГБ ЭССР в 1945 г. было арестовано 6569 человек[702], о количестве коллаборационистов среди них приходится лишь догадываться.
Интересны данные о численности легализованных органами НКВД-МВД ЭССР коллаборационистов. В 1945 г. НКВД ЭССР обезвредило 1683 немецких ставленников и пособников, 1476 (87,8 %) из которых были арестованы, 43 (2,5 %) легализованы и 164 (9,7 %) — «переданы в другие организации» (преимущественно в НКГБ)[703]. В 1946 г. соотношение легализованных и арестованных среди обезвреженных НКВД-МВД Эстонии коллаборационистов резко изменилось. Всего за этот год было задержано 1050 немецких ставленников и пособников; из них 11 (1 %) было убито, 30 (2,8 %) арестовано, 993 (94,75) легализовано и 16 (1,5 %) — передано в другие организации[704]. Таким образом, подавляющее большинство обезвреженных НКВД-МВД ЭССР в 1946 г. коллаборационистов было оставлено на свободе. Это, кстати говоря, подтверждается данными ежемесячного учета; так, например, в докладе отдела по борьбе с бандитизмом МВД ЭССР от 10 октября 1946 г. сообщается: «В отчетном месяце задержано и явилось с повинной 105 чел. немецких ставленников и пособников, бывших членов “Омакайтсе” и военнослужащих немецкой армии… Из общего количества 105 чел. арестован 1, легализованы 104»[705].
Как видим, в целом аресту была подвергнута лишь малая часть служивших в коллаборационистских формированиях — в полном соответствии с директивой от 11 сентября 1943 г.
Однако кроме коллаборационистов, оставшихся на освобожденной советскими войсками территории, были и те, кто ушел месте с немцами. После войны часть из них осталась на Западе; другие были репатриированы обратно в СССР.
Отношение Кремля к репатриированным коллаборационистам было более жестким, чем к оставшимся на освобожденной территории. Уход с немцами сам по себе свидетельствовал о враждебности этой категории. Несмотря на это, от масштабных репрессий советское руководство опять-таки воздержалось. Офицеры коллаборационистских формирований, естественно, арестовывались; а вот не замешанные в военных преступлениях рядовые были всего-навсего направлены на шестилетнее спецпоселение в отдаленные районы страны[706].
Первоначально к репатриантам-прибалтам относились так же, как и ко всем остальным. В этой связи очень показательна история 20-й эстонской дивизии СС, остатки которой в 1944 г. отступили из республики вместе с немецкими частями. Из уцелевших эстонских эсэсовцев и военнослужащих полицейских батальонов германское командование сформировало боевую группу, брошенную против советских войск на Одере. Остановить советские войска, естественно, не удалось, и в конце апреля 1945 г. остатки 20-й дивизии отступили в Чехословакию. Чешские партизаны по понятным причинам не испытывали к эсэсовцам никаких теплых чувств; поэтому попадавших им в руки эстонцев партизаны без лишних слов расстреливали.
От уничтожения солдат эстонской дивизии СС спас приход советских войск. Вот воспоминания одного из эстонских легионеров: «По лестнице спустился человек с погонами русского капитана. Он спросил, что здесь происходит. Майор Сууркиви, который говорил по-русски, разъяснил ему ситуацию, добавив, что он эстонец. Русский разозлился и захотел посмотреть, кто это осмелился так вести себя с “нашими людьми” (т. е. эстонцами). Сууркиви показал на чеха. Русский передернул наган и чеха спасла только его прыткость. Теперь русский приказал принести воду и напоить всех… Расстрел прекратился, с чем чехи не могли согласиться. Когда чуть позже подошел другой русский, они стали жаловаться ему, что тут все эсэсовцы, военные преступники и т. д., и требовали, чтобы нас тут же расстреляли. Русский разъяснил, что война окончена и самовольные расстрелы нужно прекратить»[707].
В конечном итоге чехи передали всех захваченных эстонских эсэсовцев советским властям: коль скоро это «ваши люди», вы с ними и разбирайтесь. Согласно оценкам эстонских историков, всего чехами было убито около тысячи военнослужащих эстонской дивизии СС; от 5 до 6 тысяч сдались в плен западным союзникам, а примерно 2,5 тысячи были пленены частями Красной Армии[708].
Попавшие в советский плен военнослужащие 20-й дивизии войск СС были направлены в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД; логично было предположить, что, подобно прочим коллаборационистам, офицеры эстонской дивизии войск СС пойдут в лагеря ГУЛАГа, а солдаты — на шестилетнее спецпоселение.
Однако уже в марте 1946 г. выяснилось, что к прибалтам Кремль относится иначе, чем к советским гражданам прочих национальностей. Сначала привилегии получили гражданские репатриированные прибалты. Дело в том, что гражданские репатрианты также проходили проверку, после которой направлялись либо к месту жительства, либо (мужчины призывного возраста) в армию и рабочие батальоны. Однако для прибалтов этот принцип был изменен. Согласно директиве наркома внутренних дел № 54 от 3 марта 1946 г., все благополучно прошедшие проверку эстонцы, латыши и литовцы направлялись к месту жительства[709]. В армию и рабочие батальоны их не брали. Директива не распространялась на репатриированных прибалтийских коллаборационистов, которые должны были направляться на спецпоселение. Однако в скором времени отпущены были и они.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 13 апреля 1946 г. репатриированные литовцы, латыши и эстонцы, служившие по мобилизации в немецкой армии, легионах и полиции в качестве рядовых и младшего командного состава, были освобождены от отправки на шестилетнее спецпоселение и из проверочно-фильтрационных и исправительно-трудовых лагерей подлежали возвращению в Прибалтику[710].
В Центральном архиве ФСБ хранится директива МВД СССР № 00336 от 19 апреля 1946 г., позволяющая понять, как, собственно говоря, проходил процесс освобождения коллаборационистов. Согласно этому документу, репатриированные прибалтийские коллаборационисты призывного возраста направлялись на работу в промышленность Латвии, Литвы и Эстонии до тех пор, пока из Красной Армии не будут демобилизованы их сверстники. Коллаборационисты непризывного возраста сразу же направлялись к месту жительства своих семей[711]. Таким образом, вместо того, чтобы направиться на шестилетнее спецпосление в отдаленные районы страны, репатриированные коллаборационисты-прибалты вернулись на родину. При этом в Прибалтику возвращались не только рядовые, но и офицеры; 13 июля 1946 г. специальное распоряжение на этот счет отдал замминистра внутренних дел генерал-лейтенант Рясной[712]. А менее чем через год, 12 июня 1947 г. Совет Министров СССР принял постановление, которое с некоторыми оговорками распространяло действие постановления от 13 апреля 1946 г. на лиц других национальностей (кроме немцев), являвшихся уроженцами и постоянными жителями Литвы, Латвии и Эстонии[713].
Итоги выполнения постановления от 13 апреля 1946 г. были подведены год спустя в справке ГУББ МВД СССР от 24 марта 1947 г.:
«Органами МВД — УМВД выявлено на территории Советского Союза репатриированных советских граждан прибалтийских национальностей — 41.572 человека. Из них латышей — 28.712 чел., эстонцев — 6.819 чел., литовцев — 6.041 чел.
Из общего количества выявленных репатриантов национальностей Прибалтийских республик:
а) лиц призывного возраста — 12.527 человек, из которых направлено в промышленность и направленно в промышленность и на строительство в прибалтийские республики — 11.787 чел.;
б) лиц непризывного возраста — 29.045 человек, из которых направлено к месту постоянного жительства — 26.375 чел. Из них в Латвийскую ССР — 19.116 чел., в Эстонскую ССР — 2.898 чел., в Литовскую ССР — 4.361 чел.
Из общего количества выявленных репатриантов (41.572 человека) освобождено из ИТЛ, ПФЛ, спецпоселений, рабочих батальонов и направлено в Латвийскую, Эстонскую и Литовскую ССР 38.162 чел.
Осталось неотправленными на родину 3.410 чел., из них: латышей - 2.301, эстонцев — 842 чел., литовцев — 267 чел.»[714].
Подведем итоги. После освобождения Прибалтики от нацистов органами НКВД-НКГБ арестовывались лишь офицеры коллаборационистских формирований, крупные чиновники организованной оккупантами администрации, а также те, кто был замешан в преступлениях против мирного населения. Все остальные были фактически амнистированы. Еще больше повезло тем прибалтийским коллаборационистам, кто убежал с немцами, а потом был репатриирован обратно в СССР — среди них были арестованы лишь замешанные в преступлениях против человечности, а все прочие, включая офицеров, были возвращены на родину. Привилегиями по сравнению с остальными репатриированными пользовались и гражданские из Прибалтийских республик; после проверки они отправлялись на родину; в армию и рабочие батальоны их не призывали.
Все эти факты заставляют серьезно усомниться в адекватности выстроенной современными прибалтийскими историками картины 1944–1946 гг. Нам рассказывают, что «вторая советская оккупация» ознаменовалась массовыми репрессиями, что в Прибалтийских республиках был устроен настоящий геноцид, причем заранее запланированный. Однако, как мы видим, документы свидетельствуют об ином.
Документы свидетельствуют, что у Кремля не было ни намерения, ни желания устраивать в Прибалтике геноцид. Напротив, в отношении прибалтийских коллаборационистов проводилась существенно более мягкая политика, чем в отношении прочих пособников врага[715].
4.5. Репрессии 1946–1953 гг.
После окончания Второй мировой войны на территории Эстонии продолжали действовать формирования «лесных братьев» и антисоветское подполье. Только за два с половиной года (с октября 1944-го по январь 1947 г.) «лесными братьями» было убито не менее 544 человек, 456 из которых были гражданскими лицами (см. табл. 21). Это ясно свидетельствует о том, что деятельность «лесных братьев» была направлена не столько против «оккупационных властей», сколько против собственных сограждан, поддерживавших советскую власть.
Таблица 21. Число убитых в ходе бандпроявлений на территории ЭССР, октябрь 1944 г. — январь 1947г. [716]

Естественно, органы НКВД-НКГБ Эстонской ССР продолжали борьбу с «лесными братьями» — равно как и выявление нацистских преступников и пособников. В 1946 г. органами внутренних дел Эстонской ССР было арестовано 573 представителя антисоветского элемента («лесных братьев», членов националистических организаций и нацистских пособников) и 314 грабителей и дезертиров. Документы свидетельствуют, что деятельность НКВД ЭССР была дифференцированной; значительное число участников националистических формирований, дезертиров, немецких пособников легализовывалось и не несло наказания.
В общей сложности из 3987 человек, задержанных в 1946 г. НКВД ЭССР, аресту подверглись всего 887 человек (22 %), а 2825 человек (71 %) было легализовано (см. табл. 22–23).
Таблица 22. Результаты борьбы НКВД ЭССР с антисоветским националистическим подпольем, 1946 г. [717]

Таблица 23. Результаты борьбы НКВД ЭССР с бандитизмом и дезертирством, 1946 г. [718]

Приведенные выше данные характеризуют деятельность НКВД ЭССР. В свою очередь, органами НКГБ ЭССР в 1946 г. было арестовано 690 человек [719].
Таким образом, в целом по Эстонии в 1946 г. было арестовано 1577 человек — в шесть раз меньше, чем в предыдущем году. Это подтверждается и статистикой движения заключенных в системе ГУЛАГа; за 1946 г. численность эстонцев в лагерях и колониях увеличилась примерно на 1,5 тысячи человек[720].
Репрессии 1947–1953 гг. по линии НКГБ ЭССР характеризуются данными, приведенными в табл. 24.
Таблица 24. Статистика репрессивной деятельности НГКБ-МГБ ЭССР, 1946–1953 гг.[721]

Данные о деятельности НКВД ЭССР за аналогичный период, к сожалению, не выявлены. Известно только, что в 1948-м — первой половине 1949 г. было арестовано 938 членов антисоветских организаций, банформирований и их пособников[722].
Впрочем, данные о численности эстонцев в системе ГУЛАГа позволяют сделать некоторые оценки о репрессиях по линии НКВД ЭССР. С 1 января 1947 г. по 1 января 1951 г. численность эстонцев в лагерях ГУЛАГа увеличилась с 10 241 человека до 18 185 человек. В целом по лагерям и колониям ГУЛАГа за это время численность эстонцев увеличилась с 14–15 тысяч до 24 618 человек[723]. Таким образом, с учетом смертности число заключенных эстонцев увеличилось примерно на 9-10 тысяч человек, из которых около 6 тысяч было арестовано и осуждено органами НКГБ. Соотношение между осужденными по линии НГКБ-МГБ и НКВД-МВД ЭССР — приблизительно два к одному. Следует отметить, что среди арестованных органами внутренних дел было значительное число уголовного элемента.
Общее число арестованных по Эстонии в 1946–1953 гг. можно определить примерно в 12–13 тысяч человек. При этом большая часть арестованных была осуждена. Смертность среди заключенных в системе ГУЛАГа за этот период составила около 14 % в целом (см. табл. 7).
4.6. Депортация 1949 г.
В официальной эстонской историографии описание проведенной в марте 1949 г. депортации из Эстонии сопровождается уже привычными нам манипуляциями: завышением числа людей, намеченных к выселению, использованием неадекватных сведений о составе депортированных, завышением числа погибших в ссылке. Разумеется, депортация отождествляется с геноцидом.
«25 марта 1949 г. в Балтийских государствах была проведена вторая массовая депортация, — читаем мы в «Белой книге». — Из Эстонии, в соответствии с секретной директивой Советского правительства № 390–138 от 29 января 1945 г., навечно в Сибирь было отправлено, предположительно, 20 072 человека — главным образом, женщины, дети и старики с хуторов, так как почти все мужчины уже были репрессированы… Общая численность жертв мартовской депортации составляет 32 536, в том числе 10 331 человек т. н. не депортированных, но оставшихся без дома, существующих на птичьих правах и живущих в условиях постоянного преследования со стороны КГБ. В принудительной ссылке в Сибири в период 1949–1958 гг. умерло 2896 человек»[724].
Март Лаар, как обычно, рисует произошедшее в еще более черных тонах: «В ходе операции “Прибой”, которая началась ранним утром 25 марта, в течение двух дней из Эстонии было вывезено и размещено в глубинных областях Сибири около 3 % тогдашнего населения Эстонии, большинство из них составляли пожилые, женщины и дети. Если людей, включенных в список, не удавалось доставить, брали с собой первых встретившихся. Людей, приговоренных к высылке, преследовали при помощи специально обученных собак… По имеющимся данным, количество депортированных достигло до 20 702 человек, по дороге в Сибирь и другие поселения из них умерло около 3000 человек. Однако большая часть людей, включенных в список подлежащих высылке, сумела спрятаться. Всего из людей, оформленных на переселение, осталась невысланной 2161 семья, т. е. 5719 человек. Многие из оставшихся невысланными оказались на нелегальном положении и преследовались органами госбезопасности, большинство были убиты или арестованы в результате облав в последующие ГОДЫ»[725].
Прежде всего обратим внимание на противоречия между утверждениями Лаара и авторов «Белой книги». В «Белой книге» утверждается, что общее число депортированных - 20 072 человека, а Лаар пишет о 20 702 депортированных. Судя по всему, в «Белой книге» имеет место опечатка; по крайней мере, автор цитируемого раздела «Белой книги» Айги Рахи в одной из своих статей приводит те же цифры, что и Лаар, — 20 702 депортированных[726].
Еще одной опечаткой обусловлена датировка постановления Совета Министров СССР № 390–138; этот документ датируется не 29 января 1945 г., а 29 января 1949 г[727]. А вот последующие расхождения объяснить опечатками нельзя.
В «Белой книге» утверждается, что 2896 человек умерло на поселении с 1949-го по 1958 г., а М. Лаар утверждает, что уже во время перевозки умерло около 3 тысяч человек. У Лаара мы читаем, что депортации избежало 5719 человек, а в «Белой книге» приводится значительно большее число — 10 331 человек. Понять, насколько все эти утверждения соответствуют действительности, можно, только обратившись к документам.
Ключевой документ о депортации 1949 г. — докладная записка уполномоченного МВД СССР В. Рогатина заместителю министра внутренних дел СССР В. Рясно-ву «О проведении переселения из ЭССР», датируемая 31 марта 1949 г.
Эстонские историки не могут сетовать на недоступность этого документа: впервые выдержки из него были опубликованы в двухтомнике Г. Саббо «Невозможно молчать», изданном в 1996 г. в Таллине.
В связи с важностью этого документа позволим себе обширную цитату.
«Операция по выселению кулаков, бандитов, националистов и их семей была начата органами МГБ на периферии с 6-ти часов утра, а по городу Таллин с 4-х часов утра 25 марта 1949 г.
Поступление на пункты погрузки контингента выселенцев в первое время, за исключением гор. Таллин, протекало медленно и операция, намеченная провести в течение 25 марта 1945 г., затянулась до поздней ночи с 28 на 29 марта с. г.
Отправление эшелонов началось во второй половине дня 26 марта 1949 г. и последний эшелон убыл в 21 час. 10 мин. 29 марта 1949 г., отправка эшелонов производилась по указаниям оперативного руководства МГБ, при этом первые эшелоны убывали со значительной недогрузкой выселенцев и количеств вагонов против намеченного по плану. Последние эшелоны фактически ушли сборными, собирая в пунктах погрузки дополнительно загруженные переселенцами вагоны…
По плану МГБ ЭССР ориентировочно из Эстонии подлежало к выселению 7540 семей, с общим количеством 22 326 чел. По предварительным данным, 19-ю эшелонами вывезено 7488 семей, в количестве 20535 человек, в том числе: мужчин — 4579, или 22,3 % к общему количеству, женщин — 9890, или 48,2 %, и детей — 6066, или 29,5 %.
Процесс приема выселенцев в эшелоны протекал нормально и производился на основании посемейных карточек. Имущество выселенцев принималось беспрепятственно и в рамках норм, установленных инструкцией. Однако ряд семей и одиночек, особенно из городских местностей, прибывали с весьма незначительным багажом или вовсе без такового.
Имели место случаи отказа в приеме в эшелоны из-за неправильного составления посемейных карточек, ошибочно привезенных и не подлежавших выселению, по причине тяжелой болезни, беременности на последнем месяце.
В момент погрузки в эшелон № 97307 на станции Кейла 27 марта 1949 г. имел место побег двух выселенцев. Один из них был тут же задержан. Другому удалось скрыться, меры к розыску приняты.
Недостатком в работе являлось то, что в состав эшелонов прибывали люди, по состоянию здоровья больные. Медперсонал эшелонов в Москве был обеспечен недостаточно медикаментами, в связи с чем начальникам эшелонов было предложено приобретать в пути следования необходимые дополнительные медикаменты при содействии местных органов МВД и МГБ.
За период операции с 25 по 29 марта 1949 г. существенных нарушений общественного порядка и уголовных проявлений в Республике зафиксировано не было. Однако имели место ряд проявлений политического и диверсионного характера…
В процессе операции, погрузки и отправки эшелонов от руководства МГБ каких-либо претензий к МВД не поступало. Наоборот, по общему отзыву, привлеченные к участию в операции силы МВД оказали МГБ ЭССР значительную помощь и проявили себя достаточно выдержанно и дисциплинированно»[728]
Сравнение приведенных в докладной Рогатина данных с утверждениями официальной эстонской историографии позволяет выявить целый комплекс фальсификаций.
По какой-то непонятной причине Март Лаар утверждает, что депортация была проведена за два дня. Но на самом деле на эту операцию ушло четыре дня, о чем ясно пишет Рогатин: «Операция, намеченная провести в течение 25 марта 1945 г., затянулась до поздней ночи с 28 на 29 марта с. г. Отправление эшелонов началось во второй половине дня 26 марта 1949 г. и последний эшелон убыл в 21 час. 10 мин. 29 марта 1949 г.». Зачем Лаару понадобилось это искажение, непонятно.
А вот причины, по которым искажается численность депортированных, объяснять не надо. В «Белой книге» утверждается, что к депортации было намечено 32,5 тысячи человек, Лаар пишет о 26,5 тысячи (20 702 депортированных + 5719 человек, оставшихся невысланными). Оба этих утверждения являются ложными. В докладной Рогатина мы читаем: «По плану МГБ ЭССР ориентировочно из Эстонии подлежало выселению 7540 семей, с общим количеством 22 326 человек».
Данные докладной Рогатина подтверждаются документами, хранящимися в Центральном архиве ФСБ. Вот справка, подготовленная сотрудниками МГБ ЭССР непосредственно перед депортацией:
«По состоянию на 15 марта с. г. выявлено подлежащих выселению 7500 семей в количестве 22 326 чел., из них:
семей кулаков — 3077, численностью — 9846 чел.
семей бандитов и националистов — 4423, численностью 12 440 чел»[729].
Таким образом, Лаар завышает количество подлежавших депортации примерно на 4 тысячи человек, а авторы «Белой книги» — на 10 тысяч.
Соответственно оказывается завышенным и число людей, подлежавших депортации, но не высланных. Согласно «Белой книге», таковых было 10 331 человек; Март Лаар называет цифру 5719 человек. Однако на самом деле при плановом задании в 22 326 человек было депортировано 20 535 человек, т. е. высылки избежало менее 2 тысяч. При этом число семей, намеченных к депортации (7540), незначительно отличается от числа реально депортированных семей (7488). А Лаар заявляет, что высылки якобы избежала 2161 семья.
Лаар утверждает, что в ходе депортации было вывезено «около 3 % тогдашнего населения Эстонии». Это утверждение является просто-напросто абсурдным — ведь если 3 % — это 20 702 человека, то 100 % — это 690 тысяч человек. Однако, согласно данным демографа Тартуского университета Эне-Маргит Тийт, в 1945 г. в Эстонии проживало 854 тысячи человек, а в 1950-м — почти 1,1 миллиона человек[730]. Таким образом, соотношение числа депортированных к общему числу граждан Эстонии составляло около 2 %.
Не соответствует действительности утверждение «Белой книги», согласно которому депортации подвергались, «главным образом, женщины, дети и старики с хуторов, так как почти все мужчины уже были репрессированы…». Мы уже рассмотрели статистику арестов граждан Эстонии органами НКВД-МВД и НКГБ-МГБ; она опровергает заявления о том, что «почти все мужчины уже были репрессированы». На самом деле, как следует из приведенной выше докладной Рогатина, в ходе мартовской депортации из Эстонии было выслано «мужчин — 4579, или 22,3 % к общему количеству, женщин — 9890, или 48,2 %, и детей — 6066, или 29,5 %».
Полностью ложным является утверждение Лаара о том, что, «если людей, включенных в список, не удавалось доставить, брали с собой первых встретившихся». Из докладной Рогатина хорошо видно, что при погрузке депортируемых эшелонов охрана обязательно проверяла документы, на основе которых проводилось выселение конкретных лиц («посемейные карточки»). При этом «имели место случаи отказа в приеме в эшелоны из-за неправильного составления посемейных карточек, ошибочно привезенных и не подлежавших выселению, по причине тяжелой болезни, беременности на последнем месяце». Информация Рогатина находит полное подтверждение в докладной записке министра внутренних дел ЭССР генерал-майора Резева от 18 апреля 1949 г.: «Во многих случаях, по требованию начальников эшелонов и пунктов погрузки от МВД, посемейные карточки уточнялись и пересоставлялись в комендатурах МГБ, отдельные семьи возвращались на местожительство. С эшелона № 97306 уже в пути было снято 4 человека, ошибочно изъятые МГБ и не подлежащие выселению»[731].
Следует отметить, что сотрудники НКВД и НКГБ ЭССР действовали в полном соответствии с «Инструкцией» о проведении депортации. В этом документе было четко оговорено: «Выселение кулаков и их семей производится на основании списков, утвержденных Советом Министров республики… Никаких пометок и исправлений в списках, полученных из Совета Министров, не допускается»[732].
Не соответствуют действительности утверждения о смерти в пути 3 тысяч человек. Подобная смертность, как мы помним, не имела места даже во время июньской депортации 1941 г. — а ведь депортация 1949 г. проводилась гораздо деликатнее. Если депортация 1941 г. проводилась за один день, то депортация 1949 г. — за четыре. В 1941 г. депортированным было разрешено брать с собой 100 кг груза на человека. В 1949-м каждая семья могла увезти с собой 1500 кг[733]. В 1941-м вопрос о размещении депортируемых на месте ссылки был практически не решен, а депортации 1949-го предшествовала длительная переписка центрального аппарата МВД СССР с территориальными УМВД, в ходе которой выяснялось, сколько какая область может принять и трудоустроить спецпоселенцев[734]. Наконец, в 1941 г. около трети депортированных (главы семей) было арестовано и направлено в лагеря; в 1949-м арестов и разделения семей не было.
Сомнительной является и информация «Белой книги» о смерти 2896 спецпоселенцев с 1949-го по 1958 г. Согласно данным МВД СССР, к 1 января 1953 г. на учете состояло 19 520 спецпоселенцев, высланных из Эстонии в 1949 г. (см. табл. 25).
Таблица 25. Соотношение депортированных и спецпоселенцев, 1949–1953 гг.[735]

Как видим, разница между численностью депортированных в 1949 г. и находившихся на поселении к 1 января 1953 г. составляет около тысячи человек. Между тем именно на первые годы спецпоселения приходилась наиболее высокая смертность. После того как спецпереселенцы обустраивались на новом месте, смертность сокращалась, а рождаемость повышалась. Документы свидетельствуют, что у эстонцев, депортированных в 1949 г., рождаемость начала превышать смертность уже в начале 1950-х гг., о чем ясно свидетельствуют документы (см. табл. 26).
Таблица 26. Депортированные из Эстонии в 1949 г. на спецпоселение, 1953–1954 гг.[736]

Таким образом, утверждения о смерти на спецпоселении 2896 эстонцев несколько противоречат имеющимся данным. Кроме того, остается открытым вопрос о естественной смертности среди депортированных за 10 лет.
Последняя тема, которую необходимо рассмотреть в связи с депортаций 1949 г., - какие задачи решала эта репрессивная акция. Март Лаар совершенно справедливо пишет, что основной целью депортации был подрыв социальной базы «лесных братьев», продолжавших действовать на территории Прибалтики вообще и Эстонии в частности[737]. Об этом прямо говорилось в документах МВД-МГБ: «Постановлением Совета Министров СССР № 390-138сс от 29 января 1949 г. на МГБ СССР возложено выселение с территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР кулаков с семьями, семей бандитов, националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятельность, и их семей, а также семей репрессированных пособников бандитов»[738].
Дело в том, что, несмотря на активную деятельность органов НКВД-НКГБ, в 1946–1949 гг. активность эстонских «лесных братьев» оставалась на довольно высоком уровне. В период с января по август 1945 г. в Эстонии был арестован 961 бандит и бандпособник, в 1946 г. — 543[739]. За 1947 г. данных нет, однако в 1948 г. количество арестованных эстонских «лесных братьев» и их пособников превысило уровень 1946 г., составив 568 человек[740]. Это означало, что «лесные братья» продолжали убивать советских работников, милиционеров и мирных граждан. Такое положение вещей, естественно, не могло устраивать Москву; депортация 1949 г. стала жесткой мерой по борьбе с националистическим вооруженным подпольем в Эстонии. Безусловно, при этом пострадали невинные люди; с другой стороны, как признают эстонские историки, после депортации деятельность «лесных братьев» пошла на убыль[741].
4.7. Выводы
Рассмотрение советской репрессивной политики в Эстонии в 1944–1953 гг. свидетельствует о несостоятельности утвердившегося в официальной эстонской историографии мнения политиков о «геноциде», якобы проводившемся в это время.
Политика руководства СССР в прслевоенной Эстонии была в целом обоснованна и достаточно умеренна — особенно на фоне массовой коллаборации эстонцев с нацистскими оккупационными властями. Репрессиям и арестам подвергались лишь те, кто во время войны принимал участие в организованном нацистами уничтожении мирного населения оккупированных советских земель, те, кто после освобождения Эстонии вел вооруженную борьбу против советской власти, а также их пособники.
По данным эстонских историков, в целом органами МГБ и МВД ЭССР было уничтожено около 3 тысяч «лесных братьев»[742]. Возможно, эта цифра завышена, однако очевидно, что борьба с вооруженными бандами и их пособниками была более чем обоснованна.
Всего с 1944-го по 1953 г. органами внутренних дел и госбезопасности Эстонской ССР было арестовано около 26–27 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена к заключению в лагеря и колонии ГУЛАГа. Утверждения эстонских историков о том, что арестованных было от 30 до 53 тысяч, противоречат архивным данным и являются ложными.
Кроме того, в рамках борьбы с вооруженным националистическим подпольем в марте 1949 г. советскими властями была проведена массовая депортация, в ходе которой в отдаленные районы СССР на поселение было выслано около 20,5 тысячи человек. Эта достаточно жесткая операция подорвала социальную базу «лесных братьев» и способствовала прекращению развернутого ими террора против поддерживавших советскую власть эстонцев.
В отличие от периода 1941–1944 гг. смертность среди заключенных системы ГУЛАГа и спецпоселенцев была на низком уровне. После отбытия заключения большинство осужденных в 1944–1953 гг. эстонцев было благополучно освобождено. Освобождены были и находившиеся на спец-поселении депортированные.
Таким образом, репрессии 1944–1953 гг. затронули около 5–6% населения Эстонии, причем большая часть репрессированных впоследствии благополучно вернулась на родину. Утверждать, что в послевоенной Эстонии имел место геноцид, невозможно.
Заключение
Результаты многолетней деятельности эстонских историков на первый взгляд выглядят замечательно. За последние 15 лет в Таллине и Тарту был издан целый ряд работ о «советской оккупации», трудолюбиво переведенных на английский и русский языки. На основании этих работ эстонские политики выдвигают претензии к России; Европарламент и Конгресс США принимают резолюции, осуждающие «советскую оккупацию» Прибалтики в целом и Эстонии в частности.
Проблема заключается в том, что официальная эстонская историография советских репрессий в Эстонии не может быть названа научной в полном смысле этого слова. Эстонские историки используют наработки нацистской пропаганды времен Второй мировой войны в качестве достоверных источников, игнорируют данные документов НКВД-МГБ СССР, жонглируют цифрами и даже идут на явные фальсификации. Все это естественно в работе пропагандистов, однако с точки зрения элементарной научной порядочности подобные методы исследования не могут быть оправданы.
Наиболее масштабно искажается период т. н. «первой советской оккупации» (с июня 1940-го до осени 1941 г.). Официальная версия, настойчиво продвигаемая эстонскими историками и политикам на международной арене, гласит, что после присоединения Эстонии к Советскому Союзу в республике немедленно был развернут беспричинный и массовый террор. Именно этим, говорят нам из Таллина, объясняется то, что эстонцы радостно встречали немецкие войска и более чем активно участвовали в карательных операциях на всей оккупированной советской территории — от Ленинградской области на севере до Сталинградской на юге.
Вот что пишет в книге с характерным названием «Красный террор» Март Лаар: «Общие потери эстонского населения в результате советской оккупации 1940–1941 гг. достигли до 52 750 человек. Это оставило неизгладимый след в памяти эстонского народа. Во многом именно из-за пережитого в 1940–1941 гг. эстонцы с отчаянной храбростью воевали в 1944 г. в рядах Германской армии»[743]. Детальное рассмотрение проблемы свидетельствует о ложности подобных заявлений.
Эстонские историки заявляют о том, что число арестованных граждан Эстонии составило от 7 до 8 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена. Число осужденных к расстрелу в Таллине определяют в 1850–1950 человек.
При ближайшем рассмотрении, однако, выясняется интересный момент. Названные цифры восходят к данным действовавшей во время нацистской оккупации комиссии ZEV и уже поэтому выглядят сомнительными. Кроме того, эти цифры относятся ко всему периоду «первой советской оккупации» (с июня 1940-го по сентябрь 1941 г.). Число же арестованных в довоенный период, по данным ZEV, составляет примерно 3–4 тысячи человек. По понятным причинам официальная эстонская историография предпочитает не афишировать этот факт — ведь эти данные уже опровергают концепцию «геноцида». О каком геноциде может идти речь, если из 1,1 миллиона граждан Эстонии были арестованы несколько тысяч? Тем более что среди арестованных, как признают сами эстонские историки, было много русских? Однако даже эти весьма скромные показатели репрессивной деятельности советских властей в Эстонии не соответствуют действительности. Это выяснятся при сопоставлении их со статистикой НКВД, опубликованной российскими учеными.
На самом деле за период с июня 1940 г. по сентябрь 1941 г. в Эстонии было осуждено к заключению в лагерях и колониях ГУЛАГа не 7–8 тысяч человек, а около 1,7 тысячи[744]. Число осужденных к ВМН за тот же период составило не 1850–1950, а около 400 человек.
Реальное число осужденных в довоенный период также значительно отличается от данных ZEV. По данным ZEV, с июня 1940-го по июнь 1941 г. в Эстонии было арестовано около 3–4 тысяч человек, большинство из которых было осуждено. Однако на самом деле число осужденных к заключению в системе ГУЛАГа составило около 1350 человек. К ВМН было осуждено 184 человека.
Таким образом, к заключению в лагерях ГУЛАГа и ВМН было осуждено примерно 0,15-0,2 % населения республики. Следовательно, вопреки утверждениям официальной эстонской историографии, репрессии как «первой советской оккупации», так и ее предвоенного периода невозможно рассматривать как геноцид.
При описании июньской депортации 1941 г. официальная эстонская историография также прибегает к искажениям и прямой лжи. Не соответствуют действительности утверждения о том, что количество депортированных составило более 10 тысяч человек, что под угрозой депортации находилась значительная часть граждан Эстонии, что депортация сопровождалась расстрелами и массовой гибелью депортируемых во время перевозки. Не соответствуют действительности и приводимые в «экспортных историях» данные о числе депортированных, умерших в период с 1941-го по 1956 г.
На самом деле в ходе июньской депортации из Эстонии было выслано 9156 человек, 3178 из которых были арестованы и отправлены в лагеря, а 5978 — на поселения в отдаленные районы СССР. Общая смертность среди этих людей была существенно ниже выдаваемых эстонскими историками оценок, однако достаточно высокой. В общей сложности за 15 лет (с 1941-го по 1956 г.) умерло около 2 тысяч заключенных. Точными данными о смертности среди ссыльных за этот период мы, к сожалению, не располагаем, однако, по всей видимости, число умерших не превышало 2 тысячи.
Описание советских репрессий в Эстонии в начале войны в официальной эстонской историографии практически полностью базируется на «данных» немецких пропагандистских органов, причем одни и те же цифры сначала выдаются за количество жертв всей «первой советской оккупации», а затем — за количество жертв военного времени. В качестве репрессий по непонятным причинам рассматриваются проводившиеся перед приходом немецких войск мобилизация и эвакуация из Эстонии. Недостаточность источниковой базы не дает нам возможности привести точные данные о советских репрессиях в Эстонии в начале войны. Однако даже имеющаяся информация противоречит данным официальной эстонской историографии. На самом деле в июне — октябре 1941 г. советскими военными трибуналами было вынесено от 240 до 320 смертных приговоров. Кроме этого, при приближении немецких войск в эстонских тюрьмах было расстреляно 226 заключенных, содержавшихся там по обвинению в антисоветской деятельности. Около 300 граждан Эстонии было осуждено к заключению в лагеря и колонии ГУЛАГа, а от 800 до тысячи боевиков антисоветских формирований «лесных братьев» — уничтожено в ходе боевых действий.
Таким образом, в результате «первой советской оккупации» в Эстонии было расстреляно 650–700 человек (в том числе около 250 в тюрьмах при приближении немецких войск), около 4,6 тысячи граждан Эстонии были направлены в лагеря и колонии ГУЛАГа, а около 6 тысяч — на поселения в отдаленные районы страны. Из числа арестованных и высланных впоследствии умерло в общей сложности около 5 тысяч человек, что, впрочем, обуславливалось не политикой Кремля, а лишениями военных лет, от которых страдало все население Советского Союза. Кроме того, в начале войны было уничтожено около тысячи боевиков из вооруженных формирований «лесных братьев». В целом репрессии периода «первой советской оккупации» затронули около 1–1,5 % населения Эстонии; они не могут быть названы массовыми и в значительной степени являются обоснованными. Отождествление этих репрессий с геноцидом невозможно.
Репрессии периода «второй советской оккупации» в эстонской официальной историографии описываются менее подробно. Однако и тут в ход идут прямые фальсификации. Утверждения о том, что после освобождения Эстонии в республике был развернут массовый террор против населения, не соответствуют действительности. На самом деле политика руководства СССР в послевоенной Эстонии была в значительной степени обоснованна и относительно умеренна — особенно на фоне массовой коллаборации эстонцев с нацистскими оккупационными властями. Репрессиям и арестам подвергались лишь те, кто во время войны принимал участие в организованном нацистами уничтожении мирного населения оккупированных советских земель, те, кто после освобождения Эстонии вел вооруженную борьбу против советской власти, а также их пособники. По данным эстонских историков, в целом органами МГБ и МВД ЭССР было уничтожено около 3 тысяч «лесных братьев»[745]. Возможно, эта цифра завышена, однако очевидно, что борьба с вооруженными бандами и их пособниками была более чем обоснованна.
Всего с 1944-го по 1953 г. органами внутренних дел и госбезопасности Эстонской ССР было арестовано около 26–27 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена к заключению в лагеря и колонии ГУЛАГа. Утверждения официальной эстонской историографии о том, что арестованных было от 30 до 53 тысяч, противоречат архивным данным и являются ложными. Кроме того, в рамках борьбы с вооруженным националистическим подпольем в марте 1949 г. советскими властями была проведена массовая депортация, в ходе которой в отдаленные районы СССР на поселение было выслано около 20,5 тысячи человек. Эта достаточно жесткая операция подорвала социальную базу «лесных братьев» и способствовала прекращению развернутого ими террора против поддерживавших советскую власть эстонцев. Заявления о том, что жертвами депортации стало около 32,5 тысячи человек, не соответствуют действительности.
В отличие от периода 1941–1944 гг. смертность среди заключенных системы ГУЛАГа и спецпоселенцев находилась на низком уровне. После отбытия заключения большинство осужденных в 1944–1953 гг. эстонцев было благополучно освобождено. Освобождены были и находившиеся на спец-поселении депортированные.
Таким образом, репрессии 1944–1953 гг. затронули около 5–6% населения Эстонии, причем большая часть репрессированных впоследствии вернулась на родину. Утверждать, что в послевоенной Эстонии имел место геноцид, опять-таки невозможно, хотя общее число репрессированных, вне всякого сомнения, является весьма значительным.
Подводя итоги нашего исследования, невозможно не согласиться с мнением германского историка Эрвина Обер-лендера: «Если следовать принципам Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г., в которой, так же как в опирающейся на нее судебной практике, главным признаком геноцида объявляется намерение или знание о намерении “уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую”, сталинские преступления в Прибалтике нельзя считать геноцидом с точки зрения современного международного права»[746].
В «Белой книге» приводится таблица примерных «потерь населения в Эстонии», на основании которой планируется предъявлять финансовые и политические претензии к России. В табл. 27 проведено сравнение этих «данных» с реальными.
Таблица 27. Сопоставление «данных» «Белой книги» с архивными документами

Примечание. Данные, приведенные в таблице, являются примерными. В общее число арестованных во время «первой советской оккупации» не включены арестованные в ходе июньской депортации 1941 г.; они учтены в категории «Депортировано».
Как видим, приводимые в «Белой книге» сведения, мягко говоря, не точны.
Однако эстонские политики не удовлетворяются даже этими завышенными цифрами. Не так давно чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в РФ госпожа Марина Ка-льюранд заявила, что «во время советской оккупации 1940–1941 годов в Эстонии погибло 60 тысяч человек… И, по данным историков, в период с 1944 г. погибло более 100 тысяч человек»[747]. Излишне напоминать, что приведенные послом Эстонии цифры не имеют ничего общего с исторической правдой — как, впрочем, и данные официальной эстонской историографии.
Основанный на архивных документах анализ официальной эстонской историографии советских репрессий на территории республики показывает, что рассказы о «советском геноциде» — не более чем миф.
Но в исторической науке мифам нет места.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ