Я покоряю мир
От Темзы до Рейна
 Первые триумфальные успехи Мирей разделяла вся ее семья. После выступления в Париже
Первые триумфальные успехи Мирей разделяла вся ее семья. После выступления в Париже
Начало 1967 года было озарено для меня общением с Морисом Шевалье. Слова эти могут показаться несколько странными, ибо речь идет о человеке преклонных лет, о котором в наших краях сказали бы: «Он уже ближе к полуночи, чем к полудню». Когда я приехала на его виллу, он просто сиял, потому что Пьер Деланоэ (он пишет тексты песен для Беко и Юга Офрея) принес ему песню, которая привела Мориса в восторг.
— Я приберегу ее к моему восьмидесятилетию, оно будет отмечаться 12 сентября будущего года. В конце своего сольного концерта в театре на Елисейских полях, когда публика будет думать, что я уже все сказал, я вновь появлюсь на сцене, поклонюсь зрителям и запою:
Когда я проживу сто лет, сто лет, сто лет
И призовет меня Господь держать ответ,
Скажу я: «Подожди! О подожди!
Ведь я влюблен — и счастье впереди!»
Какая превосходная мысль! Я буду иметь бешеный успех! А кстати, знаете, что произошло, милая Мирей? Меня приглашают выступать в июле с песенной программой на Всемирной выставке в Монреале. В огромном зале, рассчитанном на двадцать пять тысяч зрителей, будут показывать двадцать дней подряд грандиозный спектакль со множеством сногсшибательных номеров; и внезапно во время этого необычайного представления я появлюсь на сцене в лучах прожекторов, а за роялем будет сидеть мой постоянный аккомпаниатор Фред, которому почти столько же лет, сколько мне! И я подумал: «Все идет на лад, Морис, тебя еще не считают маразматиком! Держи и впредь хвост трубой!»
Я обожаю Мориса Шевалье («Зовите меня просто Морис, — сказал он мне, — иначе я буду чувствовать себя восьмидесятилетним стариком!»). Я чувствую, что он искренне хочет мне помочь. Он подходит к платяному шкафу, роется в нем и достает костюм бродяги, в котором снимался в фильме «Мое яблоко» 17 лет тому назад; костюм этот поможет мне войти в роль, когда я буду исполнять его песню в программе «Искры из глаз», которую готовит Жан Ноэн.
— Главное, не следует выходить на сцену одетым как настоящий бродяжка! Это произведет унылое впечатление. Нужна, скорее, пародия: заплаты на брюках, шнурок вместо галстука, спадающие с ног башмаки… И, самое важное — не злоупотребляйте гримом!
— Ах, господин Шевалье! Если бы вы могли напоминать ей об этом каждый день, — говорит Джонни. — Пристрастие к косметике — это ее мания!
— Обещаю вам, господин Шевалье.
— А она, видать, упрямица?
Начинаем репетировать. Морис находит, что я добилась немалого успеха по сравнению с моим выступлением в Нью-Йорке. Мой дуэт с Дэнни Кэем показывали в «Теле-Диманш», и Морис смотрел ее. Он считает, что я гораздо удачнее исполнила семь песен в прямой передаче из Парижа. Джонни объясняет ему, в чем дело, подробно рассказывая о моем сумасбродном поведении в китайской кухне.
— Ах, Мими, Мими! Да послужит это для вас хорошим уроком! У нас ведь ужасная профессия: мы не вправе нарушать режим. Разве вы не заметили, как поступает Дэнни. Он, можно сказать, совсем не ест и только делает вид, что пьет!
Поскольку Морис будет в Иоганнесбурге в день, когда покажут представление «Искры из глаз», нас с ним объединят. Потому-то он и заставляет меня столько репетировать. Снова, снова и снова. Затем он спрашивает, нравится ли мне участвовать в такой программе.
— Это моя мечта! Я обожаю наряжаться! Менять свой облик! Сперва разыгрывать скетч с Роже Пьером, а затем вальсировать с Шазо! Какое чудо танцевать вальс Штрауса в балетной юбке и бархатном корсаже! И это после исполнения роли бродяжки. Я бы танцевала и танцевала до упаду, ведь это так весело!… Как бы это вам лучше объяснить: в жизни я очень застенчива, но когда выхожу на сцену, мне все доступно! Вы меня понимаете, господин Шевалье?
— Прекрасно понимаю. Это доказывает, что вы прирожденная актриса. И я подтверждаю то, что уже говорил прежде: вы по натуре комик!
Это я-то комик!.. Ведь я плачу по любому поводу и без всякого повода, даже любуясь красивым закатом. Потому что мне хочется, чтобы он длился дольше.
Джонни верен себе: он включает в представление «Искры из глаз» мою песню «Внезапно сердце запоет», которую я должна исполнять по-английски. Это вызывает у меня тревогу. Лина Рено — она тоже принимает участие в этой передаче — сжалилась надо мной, и мы вместе старательно репетируем фразу за фразой.
— Наши песни приносят больше пользы Франции, чем речи политических деятелей! Всегда помни об этом, Мими. И ты будешь черпать в этом поддержку. Продолжим:
All of a sudden my heart sings
When I remember little things. [3]
Песни, как и книги, имеют порой свою судьбу. Эта песня была написана Жамбланом. Затем, после войны, Шарль Трене сочинил для нее новые слова. Их-то и перевели на английский язык, на котором я надеюсь с успехом исполнить песню «Внезапно сердце запоет».
Представление «Искры из глаз» обслуживают те же рабочие сцены, что обслуживали «Теле-Диманш». Они очень хорошо ко мне относятся, словно я их амулет. После концерта они подносят мне шампанское. Все вокруг довольны: мой дуэт с Морисом Шевалье имел успех. Жан Ноэн был просто растроган. Пьют за здоровье каждого из участников. Я знаю, что тетя Ирен и Джонни не спускают с меня глаз. А в ушах все еще звучат слова Мориса: «Мы не вправе нарушать режим». И я, широко улыбаясь и желая всем доброго здоровья, только делаю вид, будто пью, а это гораздо лучше, чем пить, теряя достойный вид!
До сих пор Джонни вел мои дела, не делясь со мной своими планами. Но после «кризиса» в Лос-Анджелесе он заметно сблизился с тетей Ирен и теперь обсуждает с ней все, что связано с намеченными контрактами и другими проблемами. Он настаивает, чтобы и я присутствовала при этом:
— Речь идет о твоей карьере, Мими. Надо, чтобы ты была в курсе дела!
— Да, ноя. мне скучны все эти разговоры о деньгах.
— Однако тратить их тебе не скучно.
— Ну, когда они есть.
— Если ты и впредь будешь так рассуждать, то в один прекрасный день у тебя их совсем не станет. Ты должна знать, Мими, сколько мы вкладываем денег, зачем и во что мы их вкладываем, в какую сумму, к примеру, обошлись нам поездки в Америку. В этом месяце мы отправимся в Лондон.
И он подробно нам все объясняет, говоря, что если я, как он надеется, успешно выступлю там в телевизионных шоу, это поможет мне потом выступить и в Америке, потому что все эти передачи транслируются за океан.
Он исподволь подготавливает эту поездку уже с сентября, когда повидался с одним из своих друзей Лесли Грейдом, который ведает в Англии каналом «Независимое телевидение»; Лесли — брат лорда Бернарда Делфонда, широко известного продюсера, отвечающего за программу «Royal Performance»[4]. Лесли, у которого своя вилла в Сент-Максиме, часто проводит дни отдыха во Франции, и потому видел почти все мои выступления по телевидению. Он находит, что у меня wonderful[5] голос, и хочет, чтобы во время моего первого посещения
Лондона я приняла участие в передаче «Sunday Night at the Palladium[6]».
Это очень популярная передача. Она ведется из театра, который вполне можно сравнить с нашей «Олимпией». Английский закон запрещает играть спектакли по воскресеньям, британское телевидение не преминуло этим воспользоваться, и публика, которой в воскресные дни недоступны иные развлечения, естественно, проводит время у телевизора. Другими словами, смотрит программу «Sunday Night…».
— Ставка тебе теперь известна. Остается хорошо сыграть свою роль!
Лондон. Мне безумно хочется взобраться на империал красного автобуса, прокатиться на катере по Темзе, полюбоваться вблизи на гвардейцев в меховых шапках, поглядеть на громадный колокол, погулять в парке, рассмотреть фотографии артистов у входа в театры на Пиккадилли… Но в субботу всюду очереди. А вот и уличные музыканты. Какие у них необычные наряды! На костюме столько перламутровых пуговиц, что они образуют причудливый узор. Дядя Джо объясняет мне, что кокни, обитатели бедных кварталов Лондона, решили подобным способом бросить вызов унылой буржуазной моде конца прошлого века. А мюзик-холл взял эту причуду на вооружение. Я бы с удовольствием спела какую-нибудь песню в подобном наряде!
— Ты действительно обожаешь побрякушки! — неодобрительно замечает Джонни.
Приходится признать, что мне и в самом деле нравятся блестки, перья на шляпе и, как теперь выяснилось, перламутровые пуговицы! Сама понимаю. не станешь же петь в платье с такими пуговицами «Мой символ веры». Но ведь можно приобрести их хотя бы как сувенир? Но на это нет времени! Мы ведь не развлекаться сюда приехали. Если я удачно выступлю по телевидению, мы еще попадем в Англию. Но пока что мы попали в транспортную пробку. Со всех сторон нас окружают неповоротливые такси на высоких колесах, они медленно ползут, как громадные черные жуки; дядя Джо с раздражением похлопывает по стеклу своих ручных часов, указывая на стрелки водителю нашего лимузина. Невозмутимый британец что-то бормочет.
— Что он сказал?
— Насколько я понимаю, он мне советует, если я так тороплюсь, пуститься в путь на своих двоих. и не упустил при этом случая обозвать нас лягушатниками. Здесь любят так именовать французов.
Я всегда принимаю слова Джонни за чистую монету. Заглядываю в свой франко-английский разговорник: нахожу там перевод слова «лягушка», а заодно и слова «застенчивая». И первому журналисту, которого я встречаю за кулисами театра «Палладиум», выпаливаю с извинительной улыбкой:
— I am a shy frog[7].
И неожиданно обнаруживаю, что англичанин способен заглушить своим смехом хор дюжины лягушек.
— Что он мне сказал?
— Что ты по натуре комик!
Я уже где-то слыхала эти слова…
Существуют театры, которые мне нравятся, едва я переступаю их порог. Особенно старинные театры. Им свойствен особый дух. Таков и «Палладиум», чей фасад достоин оперного театра, с его колоннами и балконами. Зрительный зал тоже достойный. Королевская ложа. и 2 300 мест. Здесь и проводится «Royal Performance», знаменитый гала-концерт в пользу ветеранов сцены. На нем присутствует королевская семья. Знаю, Джонни мечтает, чтобы я выступила в одном из таких концертов. Это и в самом деле большая честь для артиста, ибо никто не смеет навязать ту или иную программу королеве. В прошлом году ее звездами были Сэмми Дэвис-младший и Джерри Льюис. выступали Жюльетт Греко и Жильбер Беко; английскую песню представлял Томми Стил, который благодаря своим шоу уже десять лет является звездой.
All of a sudden ту heart sings When J remember little things The wind and air up on your face. [8]
— Я толком не понимаю, что ты поешь. но звучит это очень красиво, — говорит мне тетя
Ирен.
А Лесли Грейд восклицает: «Lovely! Lovely! Lovely!»[9] Должно быть, я буду участвовать в передаче «Sunday at the Palladium». Но когда? Ведь наш график и без того уже напряженный! Джонни листает записную книжку: вскоре мы отправимся в Монако для участия в телевизионном фестивале по личной просьбе княгини Грейс, которая уверяет, что у них во дворце возник целый клуб поклонников Мирей Матье. А затем присоединимся к Морису Шевалье в Гстааде. Нет, отнюдь не для отдыха, а для выступления в гала-концерте!
— Джонни! Нельзя ли будет хотя бы дня на два задержаться там на горнолыжной станции? Я бы хоть раз в жизни покаталась на лыжах!
— И сломала бы себе ногу! После чего пришлось бы отказаться от поездки в Монреаль! И в Нью-Йорк, где ты должна выступить в представлении «Апрель в Париже»!

Встреча с патриархом французского шансона Морисом Шевалье для Мирей Матье стала судьбоносной
Лесли, однако, настаивает. Лорд Делфонд, судя по всему, в восторге от меня. Я должна непременно приехать в Лондон еще два или три раза и выступить в телепередаче «Sunday at the Palladium», и тогда королева, которая обожает Францию и французскую песню, почти наверняка пригласит Мирей Матье.
— «Royal Performance»! Вы понимаете, Джонни? — спрашивает Лесли. — Все артисты мечтают выступить в этом концерте!
Джонни отлично все понимает. Я уверена, что решение им давно уже принято. Но дядю Джо не переделаешь. Как говорят в наших краях: «Священник решает, а служка только подпевает!»
— Успокойтесь, Лесли. Мы выкроим одно воскресенье, быть может, еще до отъезда в Монреаль, если Мирей успеет хорошо подготовить свои песни. А другое воскресенье найдем после возвращения из Советского Союза.
— Давно ли вам пришла в голову мысль проповедовать Евангелие русским?
— В ту самую пору, когда вы стакнулись с ними, чтобы разделить шкуру Наполеона!
После этого они выпивают по бокалу вина, а я_ лишь делаю вид, что пью. Мне так хочется снова побывать в Лондоне… Ведь я в нем ничего почти не видела.
— Алло, Мими! Это я, папа. Мы подыскали себе дом!
— Правда? О, как я рада! А где он находится? Какой он? Кто же его подыскал?
— Погоди! Не говори так быстро, я не успеваю тебе отвечать! Мне предлагали чуть ли не замки! И ссылались при этом на то, что я отец Мирей Матье! Но я отвечал всем таким «доброхотам», что это не резон! Каждый сверчок — знай свой шесток. Быть владельцем замка мне не по вкусу. Я был и остаюсь каменотесом, а потому хочу жить недалеко от кладбища.
— Ну и что же?
— А то, что произошло чудо! Может, все дело в том, что ты не скупилась на свечи святой Рите.
Тут до меня доносится мамин голос: «Да нет, Роже! О доме молят Деву Марию. Мирей это хорошо знает». Отец продолжает:
— Короче говоря, помнишь улицу Эспри-Реквием?
— Помню. Она возле церкви.
— Так вот, по правую руку там стоит большой белый дом.
— Большой белый дом? Представляю его себе, хорошо представляю! Это ведь совсем недалеко от нашего прежнего дома с островерхой крышей.
— Вот именно.
— О, это очень приятно. Вы останетесь в привычном месте!
— Одно только будет непривычно: в новом доме одиннадцать комнат!
— Для нашей семьи это в самый раз! Отлично!
— Там большой балкон, а вокруг — сад. Юки будет, где разгуляться. Ты сумеешь приехать и осмотреть его? Потому что ведь это «твой дом».
— Это очень трудно. Мы должны съездить в Германию, вернуться в Лондон, а затем отправиться в Нью-Йорк для участия в программе «Апрель в Париже». И все за один месяц. Папа, насчет денег ты не тревожься. Я могу, уверена, что могу заплатить за него. Сколько он стоит?
— Я все еще путаюсь с этими новыми франками. Словом, двадцать два миллиона старых франков. Это не слишком дорого?
— Нет-нет, не слишком. Придется еще немного потрудиться, ведь сейчас дела мои пошли на лад. Я даже сделала успехи в английском языке. Беру уроки у одного шотландца.
— Стало быть, у него шотландский акцент?
— Это не имеет значения, для меня английский — все равно что китайская грамота.
— Он ходит в юбке?
— Нет. Во всяком случае, в Париже не ходит. Может, когда живет у себя на родине. Я спрошу у него. Завтра позвоню тебе из конторы дяди Джо, скажу о нотариусе и обо всем прочем. Подумать только: четырнадцатый ребенок в нашей семье родится уже в новом доме!
До чего я рада!
— Нет! Я пойду в родильный дом, — говорит мама, беря телефонную трубку — Я уж так привыкла. А потом мы уже вдвоем с младенцем заявимся на улицу Эспри-Реквием!
За несколько часов до отъезда в Баден-Баден я узнаю новость: мама только что родила прелестного мальчика, он весит три килограмма восемьсот граммов. Папа говорит, что она и крошка Венсан чувствуют себя хорошо. Я вешаю трубку не без грусти: мне бы так хотелось быть дома, как при рождении Беатрисы… Тот день кажется мне таким далеким… Когда ж это было? 10 мая 1964 года. Не прошло еще и трех лет, а у меня такое чувство, будто я прожила все десять.
В самолете по пути в Карлсруэ я пытаюсь представить себе Венсана. У него, как у всякого младенца, шелковистая кожа, крошечные пальчики цепляются за ваш указательный палец, как птичьи лапки хватаются за насест; я, увы, не услышу его первый лепет, не увижу пока еще незрячий взгляд человеческого детеныша, как бы еще пребывающего в ночи, взгляд, который мало-помалу становится осмысленным по мере того, как он начинает осознавать, что находится в добром к нему мире. вспоминаю, как все это поразило меня, когда появился на свет Роже. Будет ли он таким живым, как Жан-Пьер, или таким кротким, как Реми? Чувствую, что мне чего-то не хватает. Не хватает его.
— Дядя Джо, госпожа Коломб будет крестной матерью Венсана. Не согласитесь ли вы стать его крестным отцом?
— Охотно, Мирей
— Я бы хотела положить на его имя деньги в сберегательной кассе. Могу я это сделать?
— Разумеется, Мирей. Твой счет в банке позволяет это сделать.
— … Но если я положу деньги только на его имя, это будет, пожалуй, несправедливо по отношению к другим? Могу я положить деньги также для Матиты, Кристианы, Мари-Франс.
— Не перечисляй мне весь список, он мне и так известен. Да, можешь. Однако не замахивайся на миллионы. Обсуди этот вопрос с тетей Ирен. Она знает твои возможности. — И Джонни прибавляет с чуть лукавым видом, который неизменно вызывает у меня смех. — Надеюсь, теперь, когда ты уже зарабатываешь себе на жизнь, твой отец немного умерит прыть?
— До чего славная страна, эта Германия!
Дядя Джо находит мой восторг недостаточно обоснованным: судить о Германии по Баден-Бадену — все равно что судить о Франции по курортному городку Эвиану Но меня тут все приводит в восторг: свежий воздух, живописные горы, которые вас приветливо окружают, не подавляя при этом, многочисленные кондитерские («Осторожно, Мирей, не слишком налегай на пирожные!»), набережные реки Оос, ведущие к центру города. Наша машина проезжает мимо павильона, где толпятся больные, привлеченные сюда целебными источниками, и великолепного обширного парка, где расположен музыкальный киоск. К сожалению, чуть ли не все встречные скрючены или бредут, опираясь на палку.
— Мне тоже скоро придется пожаловать сюда, чтобы лечиться от ревматизма и подагры! — восклицает дядя Джо.
— Но ведь у вас этих болезней нет!
— Чувствую, что скоро будут. из-за всех тех хлопот, какие ты мне приносишь! Смотри-ка. а вот и казино.
— Ив нем театр?
— В нем есть все: театр, ресторан, игорный зал, несколько танцевальных залов и даже концертный зал.
— Я бы с удовольствием там спела!
— В другой раз. Сейчас ты должна выступить по телевидению. Это куда важнее. Тебя увидит вся Германия.
Конечно же, он прав. Но мне больше по душе концертные залы. Я тоскую по отсутствующей публике не меньше, чем по моим младшим братьям.
Наша гостиница находится на Лихтенталер-аллее; это красивый бульвар, обсаженный прекрасными деревьями, он тянется вдоль реки Оос…
— А ну-ка, повтори название нашей улицы, — говорит Джонни.
— Лихтенталер-аллее.
— Ты хорошо произносишь. Можно сказать, что немецкий язык дается тебе гораздо легче, чем английский.
— Аонив самом деле легче. Ведь все слоги произносятся!
У дяди Джо довольный вид. Он говорит, что по возвращении домой найдет для меня учителя немецкого языка.
— Ох! Да я стану путать немецкие слова с английскими!
— Не бойся, не станешь. Будешь по-прежнему брать уроки английского у Гарри. Мне придется только пополнить запас виски!
Наш шотландец и вправду большой любитель спиртного. Иногда я спрашиваю себя: он так охотно приходит учить меня потому, что хорошо ко мне относится, или потому, что после каждого урока (но никогда до начала занятий!) Джонни вручает ему бутылку виски? Гарри рекомендовала нам Лина Рено, которую он тоже учил английскому языку. Время от времени он говорит со вздохом:
— Ах, Лина! Лина!. She is terrific!.[10]
Я понимаю, что мне до нее далеко. Потом он прибавляет:
— You'll have your V-Day too![11]
Участник последней войны, Гарри сохранил священную память о Дне победы. И он желает мне победы в моих скромных занятиях.
А пока дядя Джо купил мне франко-немецкий разговорник и с удивлением наблюдает, как смело я «кидаюсь в воду» — обращаюсь по-немецки к официантам, горничной, заведующему постановочной частью, рабочим сцены.
— Признайтесь, Ирен, у вас ненароком не было прабабушки, которая заглядывалась на немца-кавалериста? А может, какой-нибудь из ваших предков, старый служака, соблазнил некую белокурую Гретхен?
— Как вам не совестно говорить такие вещи! — негодует возмущенная тетушка.
— Не сердитесь, пожалуйста. Такие вещи случаются. К тому же я шучу. Но согласитесь сами: странно видеть, как Мирей, которая с трудом выговаривает английское слово, лихо лопочет по-немецки! Впрочем, тем лучше. Она сумеет записать пластинку на языке Гете, который дается ей гораздо легче, чем язык Шекспира!
— Послушайте, дядя Джо: прочесть и произнести слово «Гете» очень просто, в нем на два слога — всего четыре буквы! А вот в слове «Шекспир» на те же два слога — целых семь букв!
По приезде в Дюссельдорф Джонни тотчас же замечает:
— Барклей недурно поработал. Видишь? Твои пластинки тут, как и в Баден-Бадене, в витринах всех магазинов, где продают диски.
Рейн здесь так же широк, как наша Рона… Человек, встречающий нас в аэропорту, видимо, очень доволен тем, что я нахожу его город красивым.
— Вам надо непременно сюда вернуться! Вы увидите, как живописны берега Рейна летом! Вас проводят на широкую площадь над рекой. На ней танцуют и устраивают концерты под открытым небом. А обедать вы будете в самом старинном ресторане нашего города «Zum Schiften»[12], он существует с 1628 года! А еще надо.
Но как я сумею все это осмотреть, если после репетиций и концерта я валюсь с ног от усталости?!
— Алло! Это ты, мама?
— Мими! Откуда ты звонишь? Я совсем запуталась, куда ты уезжаешь и откуда возвращаешься.
— Я в Гамбурге! Знаешь, это необыкновенный город! Джонни называет его город-театр. И это верно, чувствуешь себя так, будто ты в зрительном зале.
— Он был сильно разрушен?
— Да, но сейчас уже полностью восстановлен.
— А живете вы в хорошей гостинице?
— Что за вопрос! Ты ведь знаешь Джонни! Отель называется «Vier Jahreszeiten», что по-нашему значит «Четыре времени года». Он очень красив, а из окон открывается вид на бассейны.
— На бассейны? Такие, как в Тюильри?
— Нет! Тут огромные бассейны, точно озера, представляешь? По ним плавают суденышки, их полным-полно, а по берегам стоят прекрасные дома. Просто загляденье! В одном павильоне открыт ресторан и все время играет музыка. А уж порт в Гамбурге потрясающий. Там стоят большие корабли, их разрешают осматривать. Ты ведь помнишь, я в свое время побывала на крейсере «Ришелье» и потому хорошо представляю себе, что такое большой корабль. К тому же у меня времени нет на осмотр.
— А ты хорошо ешь?
— Ты когда-нибудь слыхала слово «гамбургер»? Оно означает «рубленый шницель». Я раньше думала, что это американское блюдо. А оно, оказывается, из Гамбурга! Здесь едят много рыбы. особенно любят суп из угря. А еще тут любят гороховый суп со свиными головами и ножками. Поешь его и с трудом встаешь из-за стола! Но у них есть и тефтели из телятины в мясном соусе и с манной крупой. Мне все очень нравится.
— Я спокойна, потому что с тобой тетя Ирен. Она измерила тебе давление перед отъездом?
— Да. Не беспокойся. А как ты? Как малыш?
— Все хорошо. Он прибавляет в весе столько, сколько надо.
— Я привезу вам отсюда кекс с засахаренными фруктами, такой вкусный, что просто пальчики оближешь. А для папы — бутылку тминной водки, тут ее называют «доппелькюммель».
— Но у тебя не хватит времени сделать все эти покупки, бедная моя девочка!
— Не беспокойся, мама. Возле гостиницы и даже в ней самой множество лавочек.

Зал Берлинской филармонии совершенно не похож на Гамбургский театр, который помещается в очень красивом деревянном здании. Берлинская филармония была торжественно открыта четыре года тому назад. Здание для нее, чем-то напоминающее громадную восьмерку, построено совсем недавно. Расположено оно неподалеку от памятника русскому солдату. Возле него постоянно несут караульную службу советские воины. Это поражает, ибо ты находишься на Западе… И возле самой Берлинской стены.
В зале Филармонии звук свободно уносится ввысь. Петь здесь — одно удовольствие. Телевизионный канал «Европа-1» осуществляет прямую трансляцию моего первого сольного концерта. Когда я ухожу со сцены, тетя Ирен укутывает мне плечи шалью, а дядя Джо говорит, что я еще никогда так хорошо не исполняла песню «Вернешься ли ты снова.».
Вернешься ли ты снова
И скажешь о своей любви?
Вернешься ли ты снова?
Как прежде приходил?…
У меня не идет из головы Берлинская стена. Даже вечером, когда, выйдя из гостиницы «Кемпински», я вижу вокруг море огней, разноцветную световую рекламу, буйно веселящуюся молодежь, так что невольно начинает казаться, будто идешь по Пиккадилли или Бродвею…
Как странно очутиться затем в атмосфере шумного бала «Апрель в Париже»: он проходит в Нью-Йорке в «Уолдорф Астории». Обстановка более чем светская. Размеренные жесты. Роскошные платья. Настоящие драгоценности. Громкие титулы. Что ни имя — то знаменитость. Я с удовольствием вдыхаю аромат цветов и изысканные запахи духов… Но все еще вспоминаю о Берлине.
— Как это объяснить, тетя? Америка выиграла войну Германия ее проиграла. Берлин разделен надвое, а между тем веселятся там гораздо больше!
— Я и сама не знаю, — отвечает тетя Ирен. — Быть может, когда город, который чуть не стерли с лица земли, возрождается, он походит на человека, который был при смерти, но выздоровел. И тогда все веселятся и радуются.
Я же думаю, что дело не только в этом: ведь немцы сейчас живут в мире, а американцы — в состоянии войны. Однажды утром молоденькая горничная, которая принесла нам дополнительные плечики для одежды, внезапно разрыдалась: во Вьетнаме погиб ее брат.
Германия вдруг снова напоминает о себе. Как только мы возвращаемся в Париж, нам наносят визит два Мориса — Жарр и Видален. Жарр сочинил музыку к фильму Литвака «Ночь генералов». Видалену она так понравилась, что он написал к ней слова, и оба хотят, чтобы я исполнила получившуюся песню «Ночь, прощай…».
Ты идешь, ты понуро идешь
По пустыне без миража.
Но однажды придется сказать:
«Ночь, прощай навсегда!»
И мне брести довелось
По бесславным дорогам,
Пить из ручьев пересохших,
И все ж я надеюсь.
— Как ты находишь песню? — спрашивает меня Джонни.
Он знает, что когда мне песня не нравится, я заучиваю ее с трудом.
— Очень нравится.
Мелодия хороша, и слова, по крайней мере, некоторые, запоминаются легко. Бывало, в юности, когда мне становилось грустно на душе и ничего не хотелось делать, я ставила на проигрыватель пластинку с песней «Милорд» и принималась за работу.
Посмотрев фильм, я убеждаюсь, что песня с ним мало связана, впрочем, Морис Жарр меня об этом предупреждал. Это мрачный детектив, навеянный войной.
Вскоре становятся известны результаты опроса общественного мнения: я набрала 39 процентов голосов, от меня заметно отстали Шейла, Петула Кларк и Далида.
Я спрашиваю дядю Джо, доволен ли он.
— Да, ты обогнала всех, но знаешь, итоги опроса напоминают температурный лист. температура то повышается, то падает. Сейчас у тебя тридцать девять, и ты дала им жару! Но никогда не забывай, что скатиться вниз очень легко.
Какой ужас!
— Но что ж тогда делать? Постоянно быть в напряжении? И так всю жизнь!
Я говорю упавшим голосом, и он понимает, что я устала.
— Когда устаешь, поступай, как пловец: ложись на спину. А отдохнув немного, снова плыви стилем баттерфляй!
В тот же вечер тетя Ирен подает мне сверток, который только что принес рассыльный. Он перевязан красивой лентой и прислан из магазина «Фошон». Взвешиваю его на руке: коробка не очень тяжелая. Стало быть, это не шампанское и не фрукты — их присылают в корзинке. Ох! Внутри коробки — другая, чуть поменьше. и тоже перевязанная лентой. Может, засахаренные каштаны? Но теперь не то время года. Тогда конфеты? Шоколад? В этой коробке еще одна, разумеется, меньшего размера. Гусиная печенка? Ох! Внутри совсем маленькая коробка!
Развязываю ленточку… и покатываюсь со смеху. Немного шпината и записка: «Выше голову, крошка!»
Джонни любит говорить, что за 20 лет я нарушила всего три контракта, и это совсем немного.
Первый случай произошел в Инсбруке. В Германии я записывала пластинки для фирмы «Ариола». Ее владелец Монти Луфтнер родом из Австрии и очень привязан к этой стране.
Он пригласил меня выступить в Инсбруке в очень популярной игровой телепередаче; на репетиции были отведены три или четыре дня.
Работа шла очень успешно, быстрее, чем мы предполагали, так что накануне прямой передачи чудом выдался свободный день. И Монти решил повезти нас в горы, где в восьми километрах от города расположена небольшая гостиница. мечта каждого австрийца! Вокруг — необыкновенно романтичный пейзаж, а в гостинице обстановка самая простая; содержит ее тучная матрона весом не менее ста килограммов, оказывается, она — моя страстная поклонница.
— Господи, Мирей Матье!. Хозяйка будет сама нас обслуживать.
Воспоминание о последовавшей трапезе сохранилось у меня в голове и в желудке гурмана Джонни, который обожает хорошую кухню. Говядина, приправленная ясменником — душистой альпийской травкой, фрикадельки из телячьей и куриной печенки. а на десерт — пресловутый австрийский омлет с ванильным соусом. Чудесный обед! Такой надолго запоминается.
Три года спустя я была приглашена для участия в гала-концерте. И вот с утра — у меня неладно с голосом. Болит горло, сиплю. должно быть, простудилась.
— Надо послать за доктором, — говорит Джонни.
— Да нет, все пройдет. Пополощу горло синтолом.
— Мирей, дело обстоит очень серьезно! Передача транслируется в тридцать городов Германии, к тому же тебе надо записать здесь несколько пластинок.
Появляется врач. Глотка у меня действительно вся красная.
— Вы ставите под удар ее будущее! — говорит доктор, обращаясь к Джонни, который рассказал ему о предстоящей мне программе. — Ей необходимы два дня полного покоя.
Он выписывает медицинское свидетельство. Джонни приглашает другого врача. Тот ставит такой же диагноз и составляет второе медицинское заключение. Мое участие в гала-концерте отменяется. Это, понятно, приводит в отчаяние устроителей концерта, потому что зал снят заранее и все билеты проданы. Я усердно полощу горло, пью свои отвары, глотаю мед. Голос звучит, конечно, не слишком хорошо, но выступить, пожалуй, было бы можно.
— Славно придумала: петь с двумя медицинскими свидетельствами в руках! — усмехается Джонни. А немного погодя спрашивает:
— Может, ты хорошо закутаешься, и мы съездим пообедать в ту маленькую гостиницу?
Я так никогда и не узнала, о чем он больше заботился: о моем здоровье или о своем желудке. Так или иначе, но мы отправились к моей страстной поклоннице — толстухе, которая встретила наше появление в гостинице радостными возгласами:
— Мирей! Джонни! Я угощу вас таким же обедом, как в тот раз.
— Да-да, — ответил просиявший Джонни. — Нам другого и не надо!
На следующий день я уже пела в Линце, расположенном в ста километрах от Инсбрука, а затем — в Граце. Местные газеты писали о моем «замечательном голосе». С тех пор мы больше ни разу не возвращались в Инсбрук!
Несмотря на мой южный акцент, в Германии, как ни странно, меня считают немецкой звездой. Подобно тому, как Роми Шнайдер, которую любили во Франции, считают французской звездой. Германия почти сразу и безоговорочно приняла меня, и я выступаю там особенно часто.
С этой страной у меня связаны особые воспоминания. Когда в 1968 году мы были в Штутгарте, генерал де Голль посетил Баден-Баден. А в день его смерти мы находились в Гамбурге.
В нашей семье все перед ним преклонялись, его кончина потрясла меня, будто я потеряла кого-то из близких. Только позднее я осознала: люди, которые выражали мне соболезнование, — приходя за кулисы, встречая меня в холле гостиницы или на улице, — были немцами…
В течение девяти лет мы сотрудничали в Германии с одним и тем же антрепренером, талантливым композитором Христианом Вруном; в трудную пору моей жизни он помог мне записать на пластинку песню «Прощай, голубка». С его помощью с большим успехом распродавались многие мои пластинки: «Прощай, Акрополь», «Пресвятая дева морей», «Тысяча голубок». Но первым толчком для моей успешной карьеры в Германии послужили два ловких хода, на которые отважился Джонни.
В начале 1969 года в Германии продавалась лишь одна моя долгоиграющая пластинка, на ней были записаны песни «Последний вальс» и «Как она хороша» в оркестровке Мишеля Леграна. От пластинки пришел в восторг Франц Бурда. Этот меценат и политический деятель стоял во главе крупнейшей издательской фирмы. Джонни познакомился с ним, когда был импресарио Холлидея и задумал отправить своего подопечного служить в Германию… По примеру Элвиса Пресли! (Так Холлидей и получил сержантские лычки.)
На сей раз Франц Бурда устроил в Мюнхене грандиозное зрелище — костюмированный бал. В нем должны были принять участие такие знаменитые артисты, как Элла Фитцджеральд и Том Джонс, а также. юная Матье. Ко всеобщему изумлению, Джонни настаивал на том, чтобы я выступала последней. Поль Мориа, приехавший со своим оркестром из 25 музыкантов, пришел в ужас:
— Ты просто спятил!
Джонни ответил, что так оно и есть, но он твердо решил, что я выступлю в конце представления и исполню две песни — «Мой символ веры» и «Париж во гневе». Поль ужаснулся еще сильнее:
— Да ты сознаешь, что делаешь?! Исполнять в Германии «Париж во гневе»! Песню Сопротивления! Песню из фильма «Горит ли Париж?»!
Джонни не меняет своего решения. Первыми выступают знаменитости, и выступают с большим успехом. В зале много молодежи, дамы в роскошных вечерних туалетах. Элла добивается триумфа. А мой друг Том Джонс, мой единомышленник в Лондоне, голос эпохи, — супертриумфа. Я вижу, как Мориа меняется в лице. По правде говоря, меняется в лице и Джонни. Особенно после того, как зал встречает совершенно равнодушно песню «Мой символ веры», хотя ведущий концерт конферансье, которого немецкая публика обожает, весьма любезно представил меня как вновь открытую французскую звезду. Продолжаю борьбу:
Когда свободе угрожают,
Париж испытывает гнев,
Он в ярости рычит как лев,
И парижане в бой вступают.
Мертвая тишина.
А затем — взрыв аплодисментов. Сидящие во всех трех ярусах молодые люди срывают с декораций цветы и бросают их на сцену. В зале стоит шум, несколько ветеранов вермахта выкрикивают: «Это провокация!», но их голоса тонут в громе аплодисментов.
Когда я ухожу со сцены, Джонни говорит мне: «Ты чуть не разнесла балаган!» Я с ним согласна, но думаю, что немалую роль в моем успехе сыграла сама песня.
Кто же появляется на следующий день на первой полосе газет? Не знаменитые артисты, а юная Мирей, «победительница костюмированного бала». Никто не упрекает меня за то, что я исполнила песню «Париж во гневе», напротив, все сходятся на том, что эта песня зовет к согласию и к миру.
Франц Бурда очень доволен. Я сразу становлюсь кандидатом на получение «олененка Бэмби» — приза, который он учредил, чтобы наградить им лучшего эстрадного артиста (или артистку) года.

С самого первого выступления Мирей Матье в «Олимпии» Далида восторгалась ее талантом. Они даже выступали вместе
Через несколько месяцев я выступала с песнями по Берлинскому телевидению. Джонни вновь применил уже однажды испытанный прием:
— Она будет петь в конце… или не будет петь вовсе!
Первую песню я исполняла по-немецки. Название ее можно перевести «За кулисами Парижа», но написана она в чисто немецком духе: слушая ее, так и подмывает бить в ладоши и стучать ногами. Мне пришлось исполнить ее «на бис». А наутро мои пластинки рвали из рук, как… кружки с пивом!
Вечер закончился в очень славном кабачке, где нам подавали колбаски с квашеной капустой. Далида, которая тоже выступала в телевизионной передаче, была вместе с нами. Хорошо помню, что она пылко говорила мне: «Ты прекрасно пела! Какой превосходный финал! Просто потрясающе!»
С самого моего первого выступления в «Олимпии», когда Далида взобралась на четвертый этаж и вошла в мою маленькую артистическую уборную дебютантки, чтобы поздравить меня, она всегда была верна себе: ни одного завистливого взгляда, ни одной мелочной мысли, ни одной недоброй фразы (редчайший случай в «театральных джунглях»)! Дали всегда шла своим путем — прекрасная, неповторимая. Ее уход поверг меня в глубокую печаль. Мы, увы, редко говорили ей, как она нам дорога. Мы охотно поем о любви, но у нас всегда не хватает времени сказать о ней тем, кого мы любим. Казалось, она спит в своем белоснежном платье и ждет, чтобы ее разбудили. Мне бы так этого хотелось.
Я открываю для себя СССР
Все сильно взволнованны. Нам предстоит поездка в СССР. Звонит телефон. Это мама. Она очень гордится, что у нее в новом доме есть теперь свой телефон.
— Знаешь, бакалейщица из квартала Круа-дез-Уазо скучает с тех пор, как ты перестала туда звонить. Я на днях зашла и купила у нее какую-то мелочь, чтобы не порывать связь. Она мне сказала, что прежде, благодаря тебе, она вроде бы путешествовала. Могла разговаривать даже с Нью-Йорком! Ее беспокоит, что ты едешь в Москву. Она заявляет, что такой верующей девушке, какты, опасно оказаться в стране большевиков!
— Какая чепуха, мама! Ты ей передай, что революция там совершилась давным-давно. И лучшее тому доказательство — сейчас ее пятидесятилетие! И еще скажи, что едет туда не одна девушка, а две!
— То есть, как это — две?
Я объясняю. Джонни спросил, доставит ли мне удовольствие взять с собой в Советский Союз кого-либо из членов семьи. Сама понимаешь, я ответила утвердительно. Но на ком остановиться? Когда я в затруднении, то всегда полагаюсь на судьбу. Написала на листочках имена сестер и бумажки положила в шляпу: Маткта, Кристиана, Мари-Франс, Режана. Остальные еще слишком малы. Жребий выпал Кристиане. Послышались возгласы изумления, радостные крики. Надо быстро получить ее паспорт. Но как это сделать? Как?
— Мама, я передаю трубку тете Ирен. Она тебе все объяснит.
— Но нужно взять с собой теплые вещи. Там, должно быть, морозы?
— Да что ты, мама, сейчас в Москве тоже весна.
— Ты мне будешь оттуда звонить?
— Конечно, как всегда.
Тетушка замечает, что я, пожалуй, немного тороплюсь. Бруно Кокатрикс, который устраивает наши гастроли, просто выходит из себя от досады, когда безуспешно пытается связаться по телефону с Госконцертом (эта организация ведает всем, что относится к музыке, эстраде и цирку). Надо сказать, что дядюшка Бруно не в первый раз имеет дело с русскими. Я до сих пор помню его слова: «Мюзик-холл не знает границ. Это еще один довод для того, чтобы их преодолевать!» Кокатрикс побывал во многих странах, особенно в странах Востока, где немало зрелищ, которых мы никогда не видели. Джонни рассказывал мне о международном фестивале 1957 года, когда в «Олимпии» наряду с таиландскими боксерами и индийскими танцорами выступали силачи и акробаты из Восточной Европы. Как бы мне хотелось на нем побывать, но я тогда была слишком мала.
В конечном счете, под названием «Французский мюзик-холл» едет труппа из 85 человек. Среди них — Поль (Мориа) со своим оркестром из 35 музыкантов, Артур Пласшер и его 18 танцоров (поддавшись соблазну, я тоже буду танцевать вальс с Жаком Шазо), Жерар Мажакс и — в качестве «американской звезды» — Мишель Дельпеш. Всем нашим «инвентарем» ведает, разумеется, Малыш. Нам предстоит за 26 дней преодолеть 13 000 километров. Все это впечатляет. И такая перспектива всем очень нравится. Мы вылетаем на арендованной для нас «Каравелле». Все в приподнятом настроении. Стюардессы «Эр Франс» разносят шампанское. Мажакс развлекает нас карточными фокусами, а я, конечно, репетирую «мои песни».
Прибытие оказывается куда менее веселым, чем отъезд. Мы испытываем такое же разочарование, как все, кто прилетают в Москву с Запада: здешний аэропорт не выдерживает сравнения с парижским. И мы тут же оказываемся в очереди… длинной очереди к пункту проверки паспортов. Бруно и Джонни (особенно Джонни, он выше ростом и поэтому видит дальше) ищут глазами Головина из Госконцерта.
— Госконцерт! Госконцерт! — громко взывают они.
В ответ — молчание. И мы беспомощно топчемся на месте, словно 85эмигрантов, среди которых только два или три человека говорят на русском языке, но таком ломаном, что их никто не понимает. Лишь одно очевидно, безусловно и непререкаемо: мы покорно стоим в общей очереди и пытаемся получить свой громоздкий багаж.
Джонни выходит из себя:
— До чего же невоспитанные люди!
— Успокойтесь, Джонни. — останавливает его тетя, которая не любит привлекать внимание посторонних.
Внезапно Джонни радостно восклицает:
— Ах, Ник! How are you!
Ник — американец из Лас-Вегаса. Недавно, он открыл там необычайное казино под названием «Как в цирке»: посетители толпятся у игральных автоматов, а в это время над их головами воздушные гимнасты показывают свое искусство. Он приехал поближе познакомиться с прославленным Московским цирком. Взаимные приветствия.
— А вы что тут делаете?
Джонни отвечает, что ждем, когда за нами приедут из Госконцерта. Ник, судя по всему, находится в привилегированном положении: у входа его ожидает лимузин, в котором сидит переводчица.
— Поехали со мной!
— Но ведь нас тут восемьдесят пять человек!
— Ну, восемьдесят придется оставить в аэропорту!
И вот мы впятером с помощью переводчицы Ника, прикомандированной к нему как к важному лицу, легко проходим через контрольный пункт и втискиваемся — тетушка, Кристиана, дядюшка Бруно, Джонни и я — в черную машину, достойную главы государства; а наша злополучная труппа остается под наблюдением Жан-Мишеля Бори, племянника Кокатрикса, о сохранности багажа должен позаботиться бедный Малыш, который не сводит глаз с нашего «драгоценного» имущества.
Мы уже целый час находимся в холле гостиницы «Советская», которая считается одной из самых лучших в столице; она построена лет десять назад неподалеку от стадиона «Динамо». Если аэропорт нас разочаровал, то гостиница поражает своими колоннами и обилием мрамора.
Бруно Кокатрикс говорит: «Это напоминает метро!»
Московское метро заслуживает того, чтобы в нем поездить; каждая станция отделана по-своему и весьма пышно.
Уже полтора часа мы ожидаем приезда труппы…
Начинаем даже тревожиться. С господином Головиным созвониться не удалось: работа в его учреждении давно закончилась! Хорошо еще, что номера в гостинице для нас оставлены.
Наконец наши спутники появляются! Их автобус, должно быть, сохранился со времен революции: так сильно в нем трясет. Вновь прибывшие разделились на две группы: тех, кто недоволен, и тех, кто относится к происходящему терпимо. Каждый уже составил собственное мнение о «советском рае». С нас не сводит беспокойного взгляда переводчица, дама из Госконцерта, — она опоздала в аэропорт, потому что самолет прилетел раньше времени!
Приготовленные для нас комнаты отнюдь не дурны. Кристиана, прожившая многие годы в квартале Круа-дез-Уазо, находит их даже прекрасными. Как обычно, не обходится без сюрпризов. Например, почему ванны без пробок? Нам объясняют: когда проектировали санитарные узлы, о пробках забыли. Придется ждать очередного ремонта. А он предполагается, как сообщили нам по секрету. года через четыре.
Обед ожидает нас в отдельном зале. Вернее сказать, мы ожидаем его там. Надо привыкать. Страна эта славится терпением. Бруно своим, как всегда, мягким и ровным голосом старается разрядить обстановку.
— Не забывайте, — говорит он, — что если бы двадцать миллионов русских не погибли во время войны, нас бы всех не было на свете…
Наступает короткое молчание, и тут подают водку. Она быстро сглаживает первое, не совсем приятное впечатление. Бруно по-прежнему продолжает разряжать обстановку:
— У москвичей много юмора. Они и сами посмеиваются над собой. Хотите, я расскажу вам анекдот, который услышал от одного здешнего жителя, когда в последний раз приезжал сюда? Маленький мальчик спрашивает свою мать: «Скажи, мама, что такое коммунизм?» — «Когда у всех есть всё необходимое. И больше не стоят в очереди за мясом». — «Мама, а что такое мясо?»
Входят очень приветливые официантки, они ставят на стол икру и осетрину-гриль. Один из музыкантов интересуется, обычное ли это меню. Нет. Эта гостиница для иностранцев, то есть для людей привилегированных.
— Ну, как? Нравится тебе «чечевица из Морбиана»? — шутливо опрашивает Джонни.
И объясняет тем, кто не понимает смысла этой фразы, что не так давно он едва уговорил меня отведать икры, назвав ее «чечевицей».
«Око Москвы» — так Джонни сразу же окрестил нашу переводчицу — просит извинить господина Головина, который задержался на работе. Дядя Джо, пребывающий в дурном расположении духа, осведомляется: разве работа господина Головина не состоит именно в том, чтобы нас встретить? Разве мы не представляем здесь Французский мюзик-холл? Бедняжка опускает свои красивые зеленые глаза и краснеет до ушей. На помощь ей приходит Мажакс: он заставляет мгновенно исчезать и вновь появляться рюмку с водкой. Когда в очередной раз неизвестно откуда появляется полная до краев рюмка, он, следуя русской традиции, произносит очередной тост.
На следующее утро Бруно и Джонни встречаются с господином Головиным. Малыш устанавливает нужную аппаратуру в очень популярном в городе недавно открытом Театре эстрады — этой московской «Олимпии». Танцоры начинают работать «у станка»; в порядке исключения Артур будет заниматься со мной во второй половине дня, и я получаю возможность осмотреть город вместе с Кристианой и тетей Ирен. Нас сопровождает второе «око Москвы» — некая Галина, очаровательная молодая женщина; у нее чуть певучее прекрасное произношение, и с трудом верится, что она не училась во Франции. Но нет… она только мечтает побывать вашей стране, и надеется попасть туда вместе с ансамблем Советской Армии, когда он поедет в Париж. Париж — волшебное слово. навстречу ему распахиваются сердца и освещаются лица. Это замечаешь даже на лице, когда прохожие узнают, что мы — французы.
— Если мадемуазель Матье должна быть в театре к часу дня, то времени у нас немного. Поэтому давайте прежде всего осмотрим Соборную площадь.
Я и представить себе не могла, что на свете может существовать такая площадь.
— Мы — в самом сердце Кремля. Вы не видели оперу «Борис Годунов»? Все русские испытывают волнение, когда эта площадь предстает перед ними на сцене!.
Площадь и вправду напоминает театральную декорацию: булыжная мостовая, поодаль блестит Москва-река, а справа, слева, позади нас — дворцы и соборы. Господи! Как запомнить все эти названия, когда я их сейчас путаю!
— Нет, мне ни за что не удержать их в памяти! — восклицает Кристиана.
— Не это главное. Самое важное, что это — удивительное зрелище, — замечает тетя Ирен. — Но я никак не возьму в толк, почему у них было столько соборов.
— И церквей! Просто непостижимо! А ты видела, как на меня смотрела Галина? Я только и делала, что крестилась!.
— А ведь все эти церкви были не для народа, а только для царского двора! — замечает Кристиана.
— Как видно, им приходилось отмаливать много грехов! — говорит тетя Ирен.
— Ох, тетушка!. Ты, кажется, меняешь свои взгляды? Не станешь ли ты коммунисткой?
— Не забывай, что твой дедушка был коммунист! Да, непростая эта семья Матье.
Тем временем возвращается Галина с входными билетами в руках. У нее ушло на это шесть минут.
— Вы не стояли в очереди?
— Разумеется. Вы проходите вне очереди! Ведь вы — иностранные гости. Люди «привилегированные».
Положительно, все везде меняется.

Приехав в театр, я замечаю, что почти все наши артисты охрипли — кто больше, кто меньше. Для одних душ оказался слишком холодным, другие не могли принять ванну (потому что отсутствовали пресловутые пробки); одним не хватило рогаликов, другие опоздали на автобус. Я с утра пила чай. До чего он вкусен, русский чай! После салата с капустой мне подали незнакомое питье — стакан кефира, он такой вкусный и так приятно холодит нёбо в этот весенний день.
Мою костюмершу Тамару все называют бабушкой. Это дородная дама, как и многие здешние женщины. Дело в том, что они употребляют очень сытную пищу: едят много картофеля, хлеба и других мучных изделий. А также сладостей. Редко кто из них придерживается диеты.
Внезапно доносится громкий голос Джонни:
— Малыш! Малыш! Что они там делают, шут их побери! Да они перепортят нам все динамики!
— Понимаете, сударь…
— Они, видно, спятили! Остановите их!
— Дело в том, сударь. они хотят проверить, что там внутри!
— Что они надеются там обнаружить! Бомбы? Листовки? Микрофоны? Может, это в их духе, но не в нашем! Соедините меня с Головиным! Я с ним сам поговорю!
Жаль, что здесь нет тети Ирен! Вчера вечером она мне сказала: с такими рассуждениями, как у Джонни, недолго и в ГУЛАГ попасть! Я пытаюсь его успокоить. Он советует мне лучше заняться моим голосом и помнить, что я не туристка, а артистка и мне пора уже с помощью Артура репетировать вальс. Дело пока не ладится. Не ладится…
Все наладилось, отлично наладилось!
Мое первое выступление проходит в атмосфере, с какой я до сих пор никогда не сталкивалась.
Когда я, готовясь выйти из-за кулис, перекрестилась, глаза у Галины округлились от удивления. И вот я на сцене; полная тишина, царящая в зале, поражает меня. А впереди — неподвижная масса людей. Живы ли они? Отчего же так застыли? Никто даже не шевельнется. И тут я бросаю им прямо в лицо первые слова песни: «Да, я верю!.»
Поначалу мне кажется, что пение мое подобно «гласу вопиющего в пустыне». Но внезапно, едва я кончаю петь, раздается гром аплодисментов, и 2000 зрителей ритмично хлопают в ладоши. А потом из зала направляются к сцене один, два, пять, десять человек; они поднимаются по ступенькам и, поклонившись, кладут к моим ногам букеты цветов. В их глазах светится радость. Публика не ломала кресел, не вопила, но впервые в жизни я ощутила себя ее кумиром.
Французское телевидение направило Кристиана Бренкура с группой помощников для съемок на Красной площади. И вот что удивительно: площадь была перед этим «очищена» от прохожих, которые стояли поодаль. В положенное время произошла смена караула у мавзолея Ленина: солдаты шли, четко печатая шаг. Галина сказала, что я непременно должна побывать в мавзолее. Весь день вдоль Кремлевской стены медленно движется длинная очередь людей, которые хотят увидеть Ленина. Приходят сюда и новобрачные — такова традиция. В очереди соседствуют голубоглазые блондины и брюнеты с узкими глазами.
— Мы большая страна, — говорит мне Галина. — Вот почему вы видите рядом и славянина, и уроженца Азии.
— Понимаю. Моя мама родилась на Севере Франции, а замуж вышла за южанина.
Должна же и я хоть немного пропагандировать наши порядки! Галина напоминает о своем предложении. Но Бренкур еще собирается нас снимать. А так как снимать мавзолей не положено. Когда же кончились съемки, кончилась и очередь, но, увы, завершился и доступ в мавзолей. По другую сторону площади расположен ГУМ — здешние «Галери Лафайет». Это весьма своеобразное здание. В нем на трех этажах разместились личные киоски, между рядами которых переброшены мостики, а все здание увенчано стеклянной крышей. Галина объясняет мне, что зимой это очень удобно: можно делать покупки, не страдая от холода. У прилавков, где торгуют предметами первой необходимости, стоят плотные очереди, и вдруг я замечаю открытую витрину: здесь продают значки. Русские очень любят всевозможные значки. Особенно много значков с изображением Ленина, и это вполне понятно, ведь в стране готовятся отметить пятидесятилетие революции. У меня просто глаза разбегаются: есть тут значки из разных республик, на них изображены люди, памятники, пейзажи, и на всех — надписи, которых я, конечно, не понимаю. Эти маленькие эмалированные брошки стоят несколько копеек, я покупаю их дюжинами, чем привожу в восторг продавщицу; три значка тотчас же прикалываю к своему жакету.
— Красивый. Спасиба.
Джонни смотрит на меня с некоторым раздражением:
— Подумать только, у тебя есть брошь от Ван Клифа, а ты ее не носишь! И, кажется, ты уже говоришь по-русски?
— Я попросила Галину научить меня нескольким словам.
— Берешь платные уроки английского языка, но в голове у тебя ничего не удерживается. А здесь, даже не зная русского алфавита!…
— Это совсем другое дело, я запоминаю слова на слух!
Надин привезла из Парижа важную новость. Собравшись в Венеции, критики из 15 стран учредили приз «Европремия», его присуждают за выступления по телевидению. Приз этот получили Элизабет Шварцкопф — за исполнение камерных произведений, Нуриев — за балетные номера ия — как эстрадная певица. Здесь об этом, понятно, ничего не знают. Какое несчастье — все эти надуманные границы. Было бы гораздо проще, если бы все жили на единой планете. Я благодарна своей судьбе. Ведь я могу преодолеть «железный занавес», а возможно, и пресловутую «стену» и все другие стены, сколько их есть. Я все время говорю тете Ирен, что мечтаю не столько петь «повсюду» в мире, сколько петь «для всего» мира.
— У меня замечательная профессия, правда, тетя? Пусть даже слушатели не знают языка, на котором звучит песня, она доходит до их сердец. В этом — тайная власть музыки. Я не знаю сольфеджио, не играю ни на одном музыкальном инструменте, инструментом мне служит голос. Он открывает мне путь в любую страну. Хочу тебе еще вот в чем признаться. В поездках я чувствую себя прекрасно. Джонни — другое дело, ему недостает домашнего уюта. А для меня это не имеет значения.
— Да… я бы никогда не поверила, но ты по натуре просто бродячий акробат.
— В какой-то мере. Я люблю возвращаться домой. но ведь для того, чтобы возвратиться, надо прежде куда-то уехать! И еще одно: я люблю путешествовать, но ездить бы одна не могла. Мне необходим мой «фургон». Вот Кристиана завтра уезжает. и знаешь, мне от этого так грустно.
Да! Завтра в Париж возвращаются несколько человек из нашей труппы, и не без удовольствия: Джонни говорит, что у него там много неотложных дел, Бруно скучает по своей «Олимпии», а Эдди хочет сам проследить за тем, будут ли вовремя выпущены нужные пластинки.
Я завожу на ночь будильник, чтобы рано утром проститься с Кристианой. Она везет домой большой чемодан: мы привезли сюда в нем целый запас снадобий и отваров из лечебных трав — теперь он доверху набит прелестными деревянными игрушками. Главное место среди них занимают медведи, которые слывут «эмблемой» России. Воображение резчиков по дереву поистине беспредельно: игрушечные медведи сидят на качелях, рубят дрова, играют в шахматы, забавляются с мячом. В роли их партнеров выступают то медвежонок, то волк, то кролик. Эти бесхитростные игрушки очень дешевы, каждая из них стоит рубль или два, но детям они доставляют немало радости. Гуляя по улицам, я заметила, что к детям здесь относятся, как к маленьким принцам. О них заботятся, их холят. Все они очень чисто одеты. Конечно, их наряды не назовешь «шикарными»; здешние дети напоминают мне, какими были мы, маленькие Матье, — мы тоже были всегда аккуратно одеты, и нас все забавляло. Правда, таких красивых игрушек у нас никогда не было. Неподалеку от Кремля находится многоэтажный магазин, где продают только товары для детей. Там всегда полно покупателей.
— Это вполне понятно, — говорит мне Галина. — В нашей стране, где война унесла столько жизней, к детям относятся, как к святыне.
Московские дети необыкновенно милы: в ответ на вашу улыбку они широко улыбаются. Впрочем, так же поступают и взрослые.
Я еще дремлю, как вдруг — стук в дверь, и на пороге появляется. Кристиана!
— Что случилось? Почему ты не уехала?! А где дядя Джо?
— Он-то уехал! Но был вне себя от ярости! В аэропорту он достает наши паспорта и протягивает их Галине для регистрации багажа. Она внезапно бледнеет: «Господин Старк!
Кристиана не может улететь: вместо ее паспорта у вас оказался паспорт Мирей!» Ну и сцена была! Джонни заявил, что мы с тобой похожи и все «сойдет благополучно»! Галина возразила, что это невозможно, она рискует лишиться работы. И тогда Джонни гневно обрушился на Надин (к счастью, ее там не было!) за то, что «эта разиня» перепутала наши паспорта. В конечном счете, я осталась по эту сторону барьера, и вот я тут!
Она вне себя от радости, и я тоже. Мне еще предстоит пробыть в Москве целых три дня, и сестра станет «моими глазами»: осмотрит то, что я не успею осмотреть! Кристиана просто замучила Галину: Новодевичий монастырь, Пушкинский музей и даже Большой театр… Подробно описав мне свои впечатления, она скажет:
— Знаешь, тебе непременно нужно будет сюда вернуться.
Сколько раз мне так говорят. Эти слова сопровождают меня всю жизнь.
Льет дождь. В Ленинграде льет дождь. Мы объезжаем в машине город.
Сквозь пелену дождя он представляется мне каким-то призрачным: фасады домов покрыты лепным орнаментом, напоминающим крем, стены украшены каменными кружевами — они кажутся мне фисташками, карамельками, шоколадными конфетками. Все это выглядит так аппетитно, что просится в рот, но город остается недостижимым: быть может, виной тому завеса дождя.
Мы по-прежнему на привилегированном положении, и потому, минуя вереницу туристов, стоящую перед Эрмитажем, входим через особую дверь.
— Эрмитаж — один из богатейших музеев мира, — говорит Галина, — если не самый богатый! Подсчитано, что в нем более двух миллионов произведений искусства! Что бы вы хотели посмотреть?
Я не решаюсь ей признаться, что совершенно не знаю живописи, что не была даже в Лувре, о котором она часто упоминает. Так что же мы будем смотреть? Предметы первобытной культуры? Римское искусство? Греческое? Египетское? Китайское? Японское? Художников итальянской школы? Испанской? Фламандской? Голландской? Немецких художников? Английских? Французских?
— Я бы больше хотела французских (уж лучше начинать со своих!).
— Хорошо. Но какой период вас интересует? Французская живопись занимает у нас сорок три зала?
— Сорок три зала?
— У нас удивительная коллекция импрессионистов.
Галина говорит, что прежде всего нам надо зайти в гардероб, чтобы переобуться. Мы с тетей Ирен растерянно переглядываемся. Там, должно быть, сотни пар обуви ждут своих владельцев. Как мы потом разыщем свои туфли?! Дежурная бабушка подает нам большие войлочные туфли. В них может поместиться шесть таких ступней, как моя.
И вот мы пускаемся в путь, скользя по паркету.
— Они придумали прекрасный способ, как бесплатно натирать полы! — шутит тетушка.
К сожалению, мы проходим по залам очень быстро. Я предпочла бы подолгу постоять перед картиной, которая мне нравится, чтобы мысленно «прогуляться» по изображенному пейзажу. скажем, по «Полю маков» Моне или по «Большим бульварам» Писсарро. Первая картина напоминает мне поля моего детства, которых мне иногда так не хватает, а глядя на вторую, я думаю о том, что хотела бы жить в то время, когда люди ездили в фиакрах и в моде были платья с турнюром… А вот и полотно Дега! Как жаль, что с нами нет Джонни, он так любит холсты этого художника! На картине изображена не танцовщица, а обнаженная дама, она расчесывает свои волосы.
И тут я вспоминаю, что в шесть вечера в гостинице назначена встреча с журналистами и
тете Ирен надо успеть вымыть мне голову.
На сегодня, пожалуй, довольно, ведь вечером я пою! Впрочем, слово «вечером» здесь не совсем уместно. Стоит пора белых ночей! Так что вечеров не бывает, все время длится день, правда, довольно странный — похожий на сумерки.
Очень жаль, что пора белых ночей очень часто сопровождается весенними ливнями. Но все же мы не скучаем. Когда остаемся в гостинице, Мажакс играет с нами в карты, музыканты импровизируют, и все мы много смеемся.

Однако вскоре мне уже не до смеха: я узнаю, что нам предстоит лететь в Казань на самолете марки «Ильюшин».
Казань по-своему прекрасный город, но он, увы, закрыт для туристов. Здесь мы тоже — и даже больше, чем в других местах, — на положении «привилегированных». В аэропорту нас разглядывают как диковинных зверей. Мы находимся в главном городе Татарской Республики.
— Для вас, как для певицы, — говорит Галина, — этот город представляет особый интерес. Здесь родился Шаляпин.
— Шаляпин! Я должна сообщить об этом по телефону папе! Он так восхищается этим великим певцом!
Увы! Если даже в Москве приходилось ожидать заказанного международного разговора, то после нашего приезда в Ленинград добиться такого переговора было практически невозможно. Видимо, это объяснялось тем, что 5 июня началась очередная война между Израилем и арабскими странами[13]. Международные телефонные разговоры были затруднены. Я так и не сумела позвонить в Авиньон. А уж дозвониться туда из Казани, города, закрытого для туристов, не было никакой надежды.
Внезапно я захворала.
Татары отличаются завидным здоровьем. Днем здесь стоит палящая жара, не менее 40 градусов по Цельсию. А вечером температура опускается до 10–12 градусов тепла. Должно быть, поэтому я, несмотря на все меры предосторожности, заболела ангиной. Температура у меня поднялась до 39 градусов. Отменить мое выступление было просто невозможно: все билеты во Дворец спорта (он даже больше такого же Дворца в Ленинграде и вмещает 8 000 зрителей) проданы. Нужен врач.
— Но кто станет тебя лечить, — беспокоится тетя Ирен, — ведь здесь никогда не бывает туристов?
— В городе есть очень хорошие врачи! — успокаивает ее Галина. — Мы ведь не на краю света!
Приходит доктор с необыкновенно узкими глазами. Тетушка хочет во что бы то ни стало узнать, что за укол он мне собирается сделать.
— Мсье, мсье! Я непременно должна петь сегодня вечером!
— Он говорит, что вы будете петь, — говорит Галина.
Я и вправду пою. Уж не знаю, каким образом звуки вылетают из моего горла, но я пою.
На следующее утро я опять потеряла голос. Чудеса, да и только!
Вновь появляется врач, делает мне такой же укол, как вчера, и к нужному часу голос ко мне возвращается. Когда я выхожу на сцену, у меня уже нет жара. Может, он и есть, но я его не чувствую.
Так продолжается всю неделю до последнего дня нашего пребывания в Казани. До вечера я лежу в постели, и мои спутники изо всех сил стараются меня развлечь. Комната, где я живу, не блещет комфортом, окна ее, как и во всех номерах гостиницы, выходят на сортировочную станцию.
Наш артист-звукоподражатель Жак Перро просто бесподобен: постукивая себя пальцами по горлу, которое у него — в отличие от моего горла — в прекрасном состоянии, он издает самые неожиданные звуки. Жак может имитировать кого и что угодно. Внезапно он отворяет окно и громко свистит, подражая свистку начальника станции. Как видно, такие свистки одинаковы во всех странах, потому что… какой-то состав трогается с места!
Сперва мы думаем, что это всего лишь совпадение. Жак снова свистит, и второй товарный поезд, стоявший на путях, в свою очередь трогается с места! Сомнений не остается: Перро вызвал неразбериху на станции. Железнодорожные служащие бегают по перрону. Жак поспешно захлопывает окно! Мы помираем со смеху. «К счастью, Галина оставила нас без присмотра», — замечает Жан-Мишель Бори. Про себя я думаю, что она не похвалила бы нас за эту неуместную шутку! Тем не менее, этот случай останется одним из самых веселых моих воспоминаний о нашей поездке в Советский Союз.
От триумфа к катастрофе
Как и в прошлом году, день своего рождения я праздную в пути.
За два с половиной месяца гастролей мы побывали в 75 городах. Ни дня передышки. Я немного отдыхаю только тогда, когда у меня несколько сольных концертов в одном городе.
За рулем нашего черного автомобиля, как всегда, шофер Рене. Я устроилась на заднем сиденье и стараюсь вздремнуть. Джонни вынужден напоминать водителю: не ехать быстрее 80 километров в час, иначе меня мутит.
Обидно, но все складывается так, что я не могу попасть в Авиньон 22 июля… Ничего не поделаешь. Я и сама вижу, как трудно все распланировать. Настоящая головоломка! Надо выбирать кратчайшие маршруты, учитывая при этом пожелание муниципалитетов. Если пути наши и других звезд эстрады пересекаются, надо следить за тем, чтобы дни выступлений не совпадали и даже проходили с некоторым интервалом: ведь кошельки у зрителей не резиновые. С некоторых пор летние гастроли пользуются дурной славой у импресарио, ибо проходят со скрипом. Концерты с участием известных артистов нередко собирают мало публики. Отчего бы это? Иногда нам помехой служат телевизионные передачи, поясняет Джонни. Иногда играют роль финансовые соображения. Мне пока везет. Я таких трудностей еще не испытала. На моих концертах залы всегда полны. Но я понимаю, что все это может внезапно рухнуть. И потому стараюсь быть в самой лучшей форме, чтобы зрители чувствовали, что не зря потратили деньги. Впрочем, концерты доставляют удовольствие и мне самой. Ведь я так люблю выходить на сцену и петь!
22 июля. Мы в курортном городке Пале. Это прелестное местечко. Мне чудится, что из-за поворота вот-вот может появиться императрица Евгения. В гостинице нам с тетей Ирен отвели соседние номера, их окна смотрят на море. Итак, с этого дня я — совершеннолетняя. Но взрослой себя не ощущаю. Тетушка подает мне пакет, присланный из дома. Матита перевязала его красивой ленточкой. Бумага, в которую он завернут, покрыта рисунками моих братьев и сестер. А внутри. праздничный пирог, традиционный сладкий пирог, который мама собственноручно печет для нас: такой же пирог она прислала мне два года назад в летний лагерь!
К нам пришли друзья: два товарища по профессии — Жак Дютрон и Ги Маршан. Пришел и Марсель Сердан, отца которого хорошо знал Джонни. Марсель очень славный молодой человек. Мы веселимся, танцуем. А назавтра я узнаю из местной газеты, что мы с ним — жених и невеста!
— Просто ужас какой-то, — жалуюсь я тетушке. — Стоит мне с кем-нибудь потанцевать, и его тут же объявляют моим суженым!
— Подумаешь! Такое будет происходить с тобой еще не раз! — замечает Джонни. — Ты могла бы досадовать, будь он уродлив, как Квазимодо, но прослыть невестой Марселя Сердана-младшего вовсе не обидно!
— Что ж теперь делать? Послать в газету опровержение?
— Зачем? О тебе уже складывается легенда. И она будет существовать, независимо от твоей воли.
Мне это не по душе. Не вижу причин, почему у меня должна быть двойная жизнь: та, которой я живу на самом деле, и та, которую мне приписывают.
— Наверное, у артиста всегда двойная жизнь, — говорит тетя Ирен своим тихим и ровным голосом. — А может, у него даже несколько жизней. Каждый по-своему представляет себе жизнь любимого артиста. Так что ты сейчас живешь в воображении тысяч зрителей в разном облике.
Не мешай им придумывать твою жизнь, а сама живи собственной жизнью. Не понимаю, почему тебя все это тревожит.
Потому что я не люблю, когда обо мне выдумывают разные небылицы.
— Возможно, журналист искренне думал, что между тобой и Марселем что-то есть… У тебя был такой веселый, такой счастливый вид.
— Но ведь был день моего рождения. Все ко мне так хорошо относились, мы все были довольны и веселы. Слушай, тетя, ведь ты там тоже была! Разве я дала хоть какой-нибудь повод так предполагать?
— Да нет, нет. Но люди часто видят то, что им хочется.
Джонни закуривает сигару. Меня раздражает его спокойствие: ведь как-никак дело идет о том, как освещают мою жизнь.
— Вот так и возникают многие судебные ошибки! — произносит он. — Люди утверждают, что своими глазами видели то, что им только показалось. Не станешь же ты портить себе праздник из-за этой истории. Кстати, у меня есть гораздо более важная новость. Ее мне только что сообщила по телефону Надин. Получена телеграмма от Лесли Грейда. Все улажено, милая. Ты примешь участие в «Королевском представлении»!
— В присутствии самой королевы?
— Да, в присутствии самой королевы. Оно состоится 13 ноября в театре «Палладиум». И Грейд прибавляет, что выступать ты будешь в достойной компании.
— Подумать только! Сама королева! Папе так хотелось увидеть ее коронацию! Но телевизор у нас появился гораздо позже! Он просто с ума сойдет от радости!
— Когда я говорил о достойной компании, я имел в виду не тех, кто будет в зале, а тех. кто на сцене. Одновременно с тобой выступают Том Джонс и Боб Хоуп.
— Том Джонс!
Я его страстная поклонница: покупаю все записанные им пластинки! И к тому же Боб Хоуп. Он принадлежит к числу друзей Джо Пастернака!
— Там-то журналисты вволю пройдутся на твой счет.
Пастернак. мы опять в его конторе на Пеладжио Роуд, в Голливуде. Речь снова заходит о задуманном им фильме «Город гитар». Джонни сильно нервничает, потому что съемки предполагают начать 20 сентября. Он хорошо знает, что, выступая в Советском Союзе, я отнюдь не преуспела в освоении английского языка.
Джо заявляет, что у него есть замечательный преподаватель, который быстро меня обучит. Джонни возражает: нельзя идти на риск, который грозит мне провалом в Соединенных Штатах. Джо отвечает: он берется за это дело, так как уверен, что меня ждет не провал, а успех. И приводит доводы в пользу того, почему я должна преуспеть, — сильный голос, красивое личико, молодость. В ответ Джонни приводит свои доводы, грозящие неудачей: я не говорю по-английски, никогда не играла на сцене. Джо замечает, что если бы я не отправилась на гастроли к русским, а пожила бы годик в Соединенных Штатах, то сумела бы. Джонни говорит, что, выступая непосредственно перед публикой, я совершенствую и голос, и умение держаться на сцене. И тут Джо просит меня высказать свое мнение.
Передо мной встает трудная задача: я очень хорошо отношусь к господину Пастернаку, мне нравится Америка и к тому же — какой сумасшедший откажется от долларов?! Как объяснить Джо, не обижая его, что английские слова будто застревают у меня во рту, быть может, из страха перед Голливудом?
Джонни говорит нашему собеседнику, что я вскоре буду выступать перед английской королевой, — это, кажется, немного успокаивает Джо, — а потом приму участие в других концертах в Лондоне: таким образом, я, можно сказать, на практике научусь английскому языку и, когда приеду в Америку, буду чувствовать себя гораздо увереннее…
— Стало быть, вы отказываетесь сниматься в фильме «Город гитар»? Вместе с Джоном Уэйном?!
— Думаю, что этого требует благоразумие.
— Ладно, — говорит Пастернак со вздохом. — Дело не в том, что у нас нет подходящих актрис! Грейсон превосходно справится с этой ролью. Но Мирей… с ее french[14] обаянием… я уверен, прекрасно сыграла бы. Не будем же мы ждать той поры, когда она состарится настолько, чтобы играть мамаш, а я должен буду удалиться от дел! У всех нас, Джонни, только один настоящий враг — Время.
— Но оно тем, не менее, работает на нас, Джо. Мирей с каждым днем совершенствуется. Поверьте мне, через год она гораздо лучше справится с тем, что вы надумаете ей предложить!
Когда мы оказываемся в своем бунгало на Беверли-Хиллз (оно все то же), Джонни говорит мне:
— Знаешь, что я тебе скажу? Ты достигнешь вершины своей карьеры годам к сорока.
Легко сказать! Я спрашиваю себя, продержусь ли я до тех пор.
— Что с тобой? Ты нынче вечером какая-то странная, — говорит тетя Ирен.
Мы попросили принести нам ужин домой, чтобы не выходить на улицу. Я говорю ей, что мы отказались от участия в задуманном фильме, где я должна была бы играть вместе с Джоном Уэйном.
— Какая досада! — восклицает тетушка. — А мне так хотелось с ним познакомиться. Чем же ты теперь займешься?
— Приму участие в фильме о Джеймсе Бонде.
— Сыграешь Джеймса Бонда — girl[15]?
— Нет. Я просто спою песню в начале фильма «Королевское казино».
— Стало быть, ты не увидишь Шона Коннери?
— Нет, тем более что на этот раз роль Бонда исполняет не он.
— Какая досада! Я бы охотно познакомилась с Шоном Коннери!

Тетушка раскрепощается на глазах. Она непринужденно чувствует себя в самом роскошном отеле и разговаривает с любым человеком так же свободно, как с бакалейщицей в Авиньоне. За время наших гастролей художник-декоратор навел лоск в нашей новой квартире, расположенной против американского госпиталя. Она просторнее прежней. Теперь в моем распоряжении большая комната, где я могу репетировать с несколькими музыкантами. И принимать там гостей. Есть у нас теперь и балкон.
— Достаточно ли низко я кланяюсь?
— Слишком низко!
Жак Шазо репетирует со мной «реверанс перед королевой». Этому научиться гораздо труднее, чем танцевать вальс.
— Надень свое платье…
— Оно еще не готово!
— Надень любое другое! Очень важно, чтоб ты училась делать реверанс в длинном платье. Это избавит тебя от резких движений.
Одно дело репетировать реверанс в своей гостиной, и совсем другое — выполнять его в присутствии королевы. Я отлично понимаю, что она такой же человек, как все, как я… но, что ни говори, ее присутствие меня подавляет.
Стоя за кулисами, я вижу, как она усаживается в королевской ложе, напоминающей корзину цветов: ложа увита ими снизу доверху На голове у королевы сверкает диадема, на шее у нее — великолепное ожерелье. И тут я внезапно вспоминаю о гадалке, у которой я была с подружками на другом берегу Роны; она в тот день сказала мне: «Ты повидаешь на своем веку королей и королев.» Я приняла ее за сумасшедшую. Но, оказывается, ясновидящие существуют.
— Присядь-ка, — говорит Джонни, — тебе еще не скоро выступать.
— Я не решаюсь. Боюсь помять платье.
Знает ли она, что я родилась в бедной семье? Наверняка знает. Кстати, среди выступающих сегодня артистов многие выросли в бедных семействах: Том Джонс — сын шахтера, а Боб Хоуп перепробовал множество профессий, прежде чем начал сниматься в Голливуде.
— О чем он говорит?
— Говорит, чтобы ты не боялась. Королева — прелестная женщина.
— Я не боюсь петь в ее присутствии. Напротив. Вы ведь хорошо знаете, Джонни, что всякая премьера меня воодушевляет. А особенно такая!. Меня тревожит, как получится реверанс.
— Тут уж ничего не поделаешь. Ведь не можешь ты взять и пожать королеве руку!
— А если она мне ее сама протянет?
— Лесли уже говорил тебе: бережно возьмешь ее руку и сделаешь реверанс.
— Уж лучше бы она мне руки не протягивала! Одновременно сделать и то, и другое слишком трудно!. Вы будете сидеть в зале?
— Что ты, Мирей, как я могу! Ты совсем не разбираешься в обстановке! В зале будут только особо приглашенные.
— А Лесли Грейд попал в их число?
— Он примостится где-нибудь в уголке.
По крайней мере, хотя бы он сумеет сказать мне, как я выступила. Моя очередь выходить на сцену.
Публика в зале «будто неживая», как говорят артисты. Никто не шевелится. Плотной пеленой нависла тишина. Вперед!
Самое трудное — то, что я не знаю, на кого смотреть. На нее?. На это я не решаюсь, хотя ведь пою именно для нее. Я наугад выбираю какую-то даму в голубом платье (чье лицо я не различаю), представляю себе, будто на ее месте сидит тетя Ирен, которой я и дарю свою песню. Надо сказать, что при свете прожекторов я вообще смутно различаю лица сидящих в зале, так что никого узнать не могу. Публика для меня сливается в некое чудище со множеством глаз. И всякий раз оно иное. Поначалу это занятно. Даже чарует. И вместе с тем страшит. Порой мне кажется, что в эти минуты мы ощущаем себя как тореадор перед быком. Для тех, кто выходит на арену, это — «минута откровения». Для нас — тоже.
Любви нет в сердце моем,
Но вальс так дивно звучит,
Что мы, танцуя, поем:
Ля, ля-ля, ля-ля.
Так заканчивается моя вторая песня, и я ухожу за кулисы. И почти тотчас возвращаюсь на сцену. Теперь предстоит самое трудное — реверанс.
— Когда королева бурно аплодирует, все в порядке! — говорит мне Боб Хоуп.
Я с ним согласна. Публика в зале смотрит на королеву, следует ее примеру и тоже бурно аплодирует.
Когда я возвращаюсь за кулисы, то вижу, что тетя Ирен плачет. Джонни не плачет никогда, но я знаю: когда он сильно взволнован, то морщит нос, чтобы сдержать слезинку. Теперь уже ни он, ни она не увидят того, что вскоре произойдет. Одних только артистов представляют королеве, они стоят, как бравые солдаты в строю, а она обходит их с любезной улыбкой и говорит каждому несколько приветливых слов. В ответ нужно снова сделать реверанс. Но теперь это уже не так страшно, ведь первый реверанс сошел удачно. Меня гораздо больше беспокоит, что именно она мне скажет. А главное — пойму ли я ее.
Она приближается. Вблизи она гораздо миловиднее, чем издали. И меньше ростом, чем я думала. А улыбка у нее совсем не высокомерная. Она улыбается как зрительница, которая хорошо провела вечер и не жалеет, что потратилась на билет! Она смотрит мне прямо в лицо. Глядя на ее точеный нос и красиво очерченный рот, я понимаю, что она привыкла к тонким духам и к изысканным блюдам. Она окончательно покоряет меня, когда обращается ко мне по-французски! После обычных комплиментов, она говорит:
— Прекрасное выступление… Давно ли вы начали петь?
— С самого раннего детства! (Я забываю прибавить «Ваше величество»!)
— Надеюсь, вы еще долго будете радовать людей своим пением и непременно опять приедете в Лондон!
Когда королева в сопровождении свиты удаляется, первым меня крепко обнимает лорд Делфонд:
— Да, вы непременно приедете! Мой брат все устроит!
Он говорит о Лесли Грейде. А Лесли тут как тут. Дрожа от нетерпения, он посвящает меня в свои уже созревшие планы:
— Мы несколько раз покажем по телевидению «Шоу Мирей Матье», — говорит он.
На следующий день Джонни не приходится даже разворачивать «Таймс», чтобы узнать, что думает о моем выступлении эта весьма солидная газета: ни Боб Хоуп, ни Том Джонс не сфотографированы рядом с королевой, такой чести удостоилась только я, и снимок — редкий случай в практике этого издания — помещен на первой полосе. Впервые так отметила мой успех парижская газета «Франс-суар», но там подобным вещам не удивляются. Теперь «Франс-суар» написала, что я «выиграла свою битву за Англию».
Джонни долго смотрит на первую полосу «Тайме», будто не веря собственным глазам.
— Чудеса, да и только!… - произносит он. Я смеюсь. Никогда еще не видела его таким.
— Чудо, говорю я тебе. Ты даже не представляешь себе, что означает твой успех. Победить Лондон — это победить также Канаду и Америку.
— Знаю. Это мне уже объясняли.
— Но я не думал, что тебе это удастся.
Несколько дней спустя в Париж прибывает из Москвы Ансамбль песни и пляски Советской Армии; он будет выступать во Дворце спорта. И в день премьеры я — в некотором роде участница культурных обменов между нашими двумя странами — неожиданно для публики выступлю вместе с хором этого ансамбля как солистка с песней «Товарищи, когда придет рассвет?». У этой песни целая история.
В издательстве Робера Лаффона вышла в свет книга об Октябрьской революции. Ее автор — Жан-Поль Оливье, а предисловие к ней написал его друг Гастон Бонэр. Красивое имя. И оно мне хорошо знакомо! Я чуть ли не каждый день сталкиваюсь с ним: Джонни, который знает, как я люблю историю, подарил мне в прошлом году книгу Бонэра «Кто разбил вазу в Суассоне?». До чего она мне нравится! Я полюбила ее, как только взяла в руки и увидела обложку (на ней изображена трехцветная карта Франции, которую школьник, совсем малыш, несет на плече, — сердце какого патриота останется к этому равнодушным!); а затем книга стала мне близким другом. Я могу открыть ее на любой странице и всегда обнаружу для себя что-нибудь интересное: стихотворение или написанный прозой отрывок, принадлежащий перу великого писателя. Этот сборник — настоящее сокровище для меня, которая так мало знает. Он как бы распахивает передо мной двери в незнакомый мир, а если порой я наталкиваюсь на то, что мне уже известно, то испытываю радость узнавания.
Наш Гастон Бонэр, который любит на досуге сочинять песни, написав предисловие к книге Оливье, почувствовал, что тема захватила его. «Какую прекрасную песню можно было написать на этот сюжет!» — подумал он. А потом возникла цепочка: издатель книги Робер Лаффон поддержал эту идею, заинтересовался этой мыслью и Эдди Барклей, он сказал, что запишет песню на пластинку; посоветовались также и с Джонни. Мориа в свою очередь вдохновился и написал музыку на слова Гастона Бонэра; была покорена песней и я.
Так вот и родилась эта песня. Но если бы мне сказали, что я буду исполнять ее на сцене Дворца спорта в окружении двухсот бравых молодцов в мундирах воинов Красной Армии, которые славятся своими прекрасными голосами… я бы, наверное, испугалась больше, чем перед «Королевским представлением»!
Слушать певцов этого ансамбля — одно удовольствие. Их мастерство таково, что они играючи справляются с любыми трудностями и легко переходят от песни «Время ландышей» к арии из «Фауста». Их танцоры также изумительны. Артисты ансамбля доносят до нас красочную природу России и черты ее народа: мы слышим, как ветер свистит над степью, как в березовой роще звучит балалайка, видим, как под тенью ели девушка ждет своего милого, ощущаем суровую красоту пейзажа и человеческой души; перед нашим мысленным взором предстают разнообразные картины, хотя на сцене перед нами — только люди в мундирах на фоне серого полотнища. И тут, к удивлению публики, на сцене появляюсь я — крошечная, в туфельках 33-го размера — и начинаю петь, а хор, каждый участник которого смело мог бы стать солистом, подхватывает песню.
Мы репетировали три дня подряд. Не жалея усилий, они выучили ее французский текст. Им перевели содержание, и оно глубоко тронуло их. Слушая их прекрасные голоса, понимаешь, с каким глубоким чувством они исполняют эту песню. Для них она воплощает не только образ Октябрьской революции. Она напоминает им о событиях более поздних — о мужественной защите Москвы и стольких других городов во время последней войны.
Товарищи, когда придет рассвет?
Упрямо кулаки
Они сжимали,
С улыбкою
Гавроша вспоминали.
Сквозь вихри шли они вперед,
Надеясь твердо, что заря взойдет:
Однажды
День настанет —
Жизнь лучше станет!.
Товарищи, когда придет рассвет?
В моих ушах вопрос звучит
Тот самый, что они решали,
Когда из пушек выстрел дали —
С крейсера, что на Неве стоит…
В наших краях говорят: «Давши слово, держи его крепко, как собаку на поводке». Когда я познакомилась в Кремле с полковником Александровым, то пригласила его к себе в гости и, разумеется, сдержала свое слово. И вот он у меня дома, конечно, не со всем своим ансамблем -200 человек не поместились бы в квартире, — ас десятком своих солистов. Они принесли с собой водку, а Джонни купил на закуску икру и семгу. Тетя Ирен со вчерашнего дня не отходит от плиты, готовит кушанья для гостей; по ее словам, она «очень довольна, что может наконец-то принять столько людей!». (В Авиньоне у нас по праздникам нередко собиралось человек 30, хотя мяса, строго говоря, было только на десятерых).
— Ни катите ли паесть?
— О чем ты спросила полковника? — задает мне вопрос Джонни.
— Не голоден ли он.
С некоторым раздражением дядя Джо тихо говорит:
— А ты могла бы сказать это по-английски?
— I am angry[16].
— Чепуху городишь! Надо сказать: «Hungry!» [17] Произносишь неверно и тем самым искажаешь смысл.
— Теперь вы сами видите, почему русский язык легче. Там я не думаю об орфографии!
График выступлений у меня очень жесткий. Из Марселя мы ненадолго приезжаем в
Авиньон на крестины Венсана, которому исполнилось семь месяцев.
Я видела его всего один раз, и то наспех, когда он только-только родился.
— Сколько времени я тебя уже не видела?
— С прошлого воскресенья, мама, когда я выступала по телевидению!
— Да. знаю. Но я не это имею в виду.
Она собирается укладывать младенца спать. Я прижимаю его к груди. Он такой хрупкий, такой тепленький, такой красивый. совсем как Реми в его возрасте. И как я купала Реми, так купаю и его.
Из Канады я привезла чудесное мыло для малышей. Замечаю, что у Венсана все тельце в крошечных волдырях.
— Это от комаров! Их в этом году видимо-невидимо.
— Как глупо, что я этого не знала. В Канаде есть замечательное средство от комаров!
— Остается надеяться на снадобье бабули.
Я даже не могу дождаться, пока Венсан заснет. Надо снова отправляться в дорогу. Успеваю только погладить Юки: бедный пес так радостно встретил меня! Но зайти в мастерскую отца я уже не успеваю.
— Сейчас я тружусь над камином для нашего дома. К зиме его закончу. Увидишь — просто залюбуешься, на изразцах будет герб Авиньона: три ключа и два кречета, — говорит отец.
— Если бы он теперь вместо детей стал делать камины, — шутит мама, — мне жилось бы
куда легче!

Когда камин был уже закончен, я долго не могла выбраться, чтобы посмотреть на него. Шли репетиции: я готовилась к новому выступлению в «Олимпии». Предыдущее состоялось год назад, и ставка теперь была гораздо серьезнее.
— На сей раз ты либо останешься в «Олимпии» на годы, либо вообще не будешь там выступать, — говорит мне Джонни.
Но я забываю обо всем этом на несколько часов.
Родители решили, чтобы крестины прошли скромно — без лишнего шума, без суматохи, без фотографов. Осуществить это в Авиньоне было бы очень трудно. И потому церемония происходит в церквушке на горе Ванту. Никто посторонний сюда не придет! С этой горы открывается великолепный вид на всю округу. В ясную погоду виден даже Марсель. А уж гор и горушек окрест — не сосчитать. Папа может назвать их все «по именам»… но сегодня нас занимает только одно имя — Венсан. Малыш Венсан, которого держит на руках его крестная мать — госпожа Коломб (а крестный отец у него — Джонни). Все мы молим Бога, чтобы ребенок вырос таким же благородным, как его святой патрон, и был бы счастлив, как всякий добрый христианин. Эта церквушка с поэтичным названием «Часовня на Светлой горе» особенная: сюда приходят молиться и католики, и протестанты. Затерянная в горах «вселенская» церквушка располагает к духовной сосредоточенности, побуждает благодарить Бога за все те блага, что он нам ниспосылает.
Вдохнув полной грудью необычайно чистый воздух Воклюза, унося в сердце нежность к родному краю и сохраняя в памяти неповторимую красоту его природы, я бесстрашно выхожу на сцену «Олимпии». В очередной раз.
Холлидей зашел ко мне в артистическую уборную, чтобы обнять меня: он уезжает из Парижа на гастроли. В зале присутствуют мои надежные приверженцы, те, в чьей любви я не сомневаюсь: Азнавур, Саша Дистель, Лина Рено, Далида и, конечно, Морис Шевалье. Для него я пою «Яблоко», песню, которую неожиданно для всех включила в свой репертуар. Шарль Трене сидит в первом ряду, он пришел послушать, как я исполню его песню «Я слышу сердца гулкий стук». Собрались все друзья «Олимпии» — от адмирала Тулуз-Лотрека до Грегуара (из мира автомобилей), здесь и спортивные звезды — Кики Карон и Жак Анкетиль… За четверть часа до моего выступления заведующий постановочной частью вручает изумленному Джонни телеграмму. Тот читает: «Милому моему дяде Джо, которому я всем обязана. Сегодня вечером я буду сражаться за Вас! Мими».
Я знаю, как важен этот концерт и для него. Я должна разрушить в умах некоторых людей искаженное представление обо мне как о «марионетке Джонни Старка». Довольно устойчивое представление!
— Вы видели газету «Монд»? — спрашивает Надин. — Какой крутой поворот!
И она читает вслух:
«На этот раз мы должны признать: певица наконец-то обрела свой образ, не слишком резкий, но и не расплывчатый; осанка хороша, жесты естественны. Новый облик, который Джонни Старку удалось придать своей подопечной, нуждается разве что в легкой ретуши, и тогда он станет совершенным».
— Они не пишут, какую ретушь имеют в виду?
— Нет.
— Жаль.
— А вот что пишет «Кура»! — продолжает Надин:
«Я сдаюсь. Признаю, что Мирей Матье, к которой я относился весьма сдержанно, сегодня меня покорила. Пиаф была забыта. На сцене, где Мирей Матье совсем недавно дебютировала, нам предстала — в платье цвета заходящего солнца — хрупкая певица с удивительно сильным голосом».
Я довольна. Впервые чувствую, что меня признали без всяких оговорок.
68-й год начинается для меня хорошо.
В технике грамзаписи произошел некий переворот, и Эдди Барклей оказался, как всегда, на высоте. «Последний вальс» — первая пластинка «на 45 оборотов, моно», которая появилась в продаже. Она имела бешеный успех. До сих пор пластинки «на 45 оборотов» выпускались с записью четырех произведений и стоили они десять франков. На пластинке нового образца записаны только два произведения, но стоит она шесть с половиной франков. Молодежь накинулась на нее.
Вместе с Эдди Барклеем мы отправляемся в Канн для участия в передаче «Говорит Юг». Сюда съехались певцы из 36 стран. Францию представляем Адамо и я. Каждый из нас получает приз. Эдди и Джонни втихомолку приготовили мне «классный» сюрприз. В ресторане «Мажестик» я нахожу в своей тарелке, покрытой салфеткой, листок со словами «Олимпийского гимна»; он прозвучит в фильме Лелуша и Рейшенбаха, который посвящен Олимпийским играм. Таким образом, едва закончив выступать в «Олимпии», я тут же начну гастроли по городам Франции; их самый важный этап — Гренобль!
— Вы довольны, Джонни?
— А ты, Мими?
— Еще бы… Я с успехом выступала в Англии, в Советском Союзе, в Германии и… в Париже. Впервые у меня такое чувство, что я твердо встала на рельсы. Остается только катить по ним. Впереди у нас — Соединенные Штаты. Вот увидите, в марте я удачно выдержу «экзамен» у Пастернака. Я уже без всякого акцента исполняю по-английски песню «The look for love»[18]. Что мне может помешать?
— Катастрофа на рельсах.
— О, Джонни, вечно вы шутите!
— Ты ведь хорошо знаешь, тетя Ирен, что Джонни обожает игру слов!
— Это вовсе не игра слов. Катастрофа всегда возможна. Увы.
Остается только катить, как сказала я, и мы катим. Но едем мы не в поезде, а в машине — по дороге в Лион. За рулем, как всегда, Рене. Я люблю такие огромные залы, как в Зимнем театре Лиона. Шесть лет тому назад он сгорел, но через год его отстроили, и самые известные певцы выступают тут во многом потому, что их связывает дружба с его директором Роже Ламуром. Я должна петь в субботу и в воскресенье вечером. А в воскресенье днем мне предстоит участвовать в «Теле-Диманш» в Гренобле. Там я впервые буду петь «Олимпийский гимн». Ехать недалеко, всего сто километров.
Утром тетя Ирен говорит Надин:
— Если тебе это доставит удовольствие, поезжай в Гренобль вместо меня. Я побуду в гостинице и посмотрю по телевизору, как будет выступать Мими.
И вот мы катим по дороге. То и дело попадаем в заторы, так как в это воскресенье — 18 февраля — закрываются Олимпийские игры.
Тем не менее, мы приезжаем вовремя. Надин помогает мне одеться, и вот я, в парадном платье (положение обязывает!), пою «Олимпийский гимн» и еще одну новую песню, «У меня есть только ты». Телезрители звонят даже из Парижа и просят спеть ее «на бис». Олимпийские чемпионки — Анни Формоз, Мариелла Гойтшел, Изабелла Мир — восторженно приветствуют меня. На концерте царит удивительная атмосфера, положительно «Теле-Диманш», как я сказала Роже Ланзаку, приносит мне удачу. Я бы охотно задержалась в обществе милой Нану Таддей, Раймона Марсийака и всей нашей «команды», но Джонни призывает меня к порядку, напоминая, что вечером я пою в Лионе. Мы пускаемся в обратный путь в половине шестого.
— Не торопитесь, Рене. Мирей выступает только в десять вечера.
— Как обычно, господин Старк, я еду не быстрее восьмидесяти километров в час.
Джонни сидит рядом с водителем, а мы втроем — на заднем сиденье: Надин устроилась между мной и Бернаром Лелу, фотографом из «Салю ле Копэн», который готовит репортаж. Все в машине подремывают. И вдруг — как в жутком кошмаре — наш «Ситроен-ПС» отрывается от земли, несколько раз переворачивается в воздухе и с адским грохотом разбивается.
Сама не знаю как, я оказываюсь на утрамбованной земле. До меня доносятся крики Надин. Уж не придавило ли ее чем-нибудь? А может, машина загорелась? Перед моим мысленным взором стремительно проносятся лица Рене-Луи Лафорга, Франсуазы Дорлеак, Николь Берже, которые несколько месяцев назад погибли в дорожных катастрофах. Я приподнимаюсь: наша машина превратилась в груду железа, нет больше ни крыши, ни дверец. Все, кто в ней сидел, вылетели наружу. Хорошо еще, что не разбились насмерть.
Бернар лежит на земле, держась за руку, Джонни прихрамывает, удрученный Рене то и дело повторяет:
— Ничего не могу понять…
Оторопевший Джонни произносит:
— Пальто мое в полном порядке, но пуловер весь в грязи.
В результате шока, вызванного аварией, все мы ведем себя странно, я, например, кричу:
— Мои платья! Что с ними? Ведь вечером я должна петь!
К счастью, в одной из машин, ехавших вслед за нами, находится кузен Старка, он же и его врач; он приезжал в Лион повидаться с нами, а затем, как истинный любитель спорта, отправился на закрытие Олимпийских игр. Он первым оказывается на месте аварии и сразу замечает, что Надин в крови: она пострадала больше всех. Другие автомобилисты также выходят из своих машин, чтобы оказать нам помощь. Я бегаю от одного к другому, крича:
— Благодарение Богу, мы все остались живы! Я цела и невредима, но вечером я должна петь! Пусть кто-нибудь отвезет меня в Лион! Вечером я должна петь!
Довольно быстро появляется машина «скорой помощи». Доктор усаживает в нее Надин и Бернара: он сам решил ехать с ними в больницу имени Эдуарда Эррио в Лионе. Джонни и меня доставляют к врачу в соседнее селение. Тот делает перевязку Джонни, у которого повреждена надбровная дуга, и обрабатывает порезы на моих руках и ногах. Он наспех выслушивает и осматривает нас: переломов нет, но мы перенесли шок. и отсюда головная боль и боли в спине.
Нас отвозят в лионскую гостиницу «Руаяль». В этот вечер я петь не буду. Концерт отменен. Ночью я сплю очень плохо. У меня болят ребра и поясница. Доктор настаивает на рентгеновском снимке позвоночника, кисти и левого колена. Меня уже собираются везти в больницу. но тут появляется Джонни, сильно прихрамывая. Я не могу удержаться от смеха: подвыпивший ковбой выходит из кабачка! Но это не проходит мне даром — ощущаю острую боль в спине. Что касается Джонни, то ему не до смеха.
— Надин чувствует себя очень плохо, — говорит он. — Сегодня рано утром ей удалили селезенку. Кроме того, обнаружили у нее перелом в трех местах: один — в области таза и два — в области грудной клетки, а ко всему еще у нее повреждена левая почка.
— Боже мой! Ее жизнь в опасности?
— Ничего определенного они не говорят.
Эта новость очень сильно меня огорчает. С первого дня знакомства Надин была для меня не просто нашим секретарем, но подругой, в которой я очень нуждалась. Приехав в больницу, я сразу же хочу ее повидать, но меня ведут на рентген. Там обнаруживается, что у меня сломаны два позвонка: 12-й спинной и первый поясничный. У Джонни, который жалуется на сильную головную боль, слегка повреждены, как выясняется, шейные позвонки. Он тоже должен оставаться под наблюдением врачей; один из них настаивает на том, чтобы нас переправили в Париж. Я и слышать не хочу о поездке в автомобиле; вечером мы уедем экспрессом «Мистраль». Мне не удается повидать ни Бернара — его оперировали накануне вечером, и он спит, ни Надин — она еще не очнулась после операции.
Из Авиньона приехали папа и мама в сопровождении Реми, все они очень испуганы и встревожены.
— Не плачь, мама, подумай: ведь я же могла погибнуть. Всем нам очень повезло. Ничего страшного не произошло. Через месяц я снова буду петь!
— И все-таки… я говорю себе: останься ты простой авиньонской девушкой, такой беды с тобой бы не приключилось!
Я смотрю на их расстроенные лица, полные нежности ко мне. До чего они славные все трое: хорошо одетые, такие ласковые. Их вид вознаграждает меня за все!
— Судьба оказалась ко мне благосклонной. Вы скоро сами убедитесь — мои дела опять пойдут на лад! Единственно, чего я хочу, — чтобы судьба была благосклонна и к Надин.
Вместе с тетей Ирен мы прибываем на Лионский вокзал, я сижу в кресле на колесах, прижимая к себе свой талисман — белую плюшевую собачку. Рядом шагает Джонни, опираясь на палку.
— Ты чуть было не осталась прелестной вдовой! — говорит он Николь, которая нас встречает. Вокруг теснятся фотографы и просто любопытные. Но все это кажется мне каким-то наваждением: дело в том, что доктор дал мне сильное успокоительное средство.
Катастрофа. Она действительно может произойти в любую минуту, принять самую неожиданную, самую невероятную форму, и никогда нельзя забывать об этом.
— Но каким образом все это произошло?
Такой вопрос задают друзья, которые приходят меня навестить.
— Я и сама не знаю. Наш шофер Рене — человек собранный, не был уставшим, автомобиль куплен всего десять месяцев назад, на этих шинах мы проделали всего полторы тысячи километров. Быть может, дело в том, что у края дороги был насыпан мелкий гравий. Думаю, машину занесло, накренившись, она проехала метров пять или шесть, а потом перевернулась. Вот и все. Автомобиль опломбировали и отправили на экспертизу.

Тетя Ирен со вчерашнего дня не отходит от плиты, готовит кушанья для гостей, по ее словам, она очень довольна, что может наконец-то принять столько людей! (В Авиньоне у нас по праздникам нередко собиралось человек тридцать, хотя мяса, строго говоря, было только на десятерых.)
Я прикована к постели, не могу даже пошевелиться, по 14 часов в сутки лежу на доске. И так будет продолжаться целый месяц.
Морис Шевалье, недавно вернувшийся из гастрольной поездки в Англию, навещает меня; в руках у него цветы и недавно записанная им пластинка «Мне 80 лет»; на ней дарственная надпись: «С нежностью и преклонением».
— То, что с тобой случилось, Мими, — это испытание, которое преподносит жизнь, из него человек выходит, повзрослев и окрепнув. Самое главное — не падать духом. Когда я сидел в лагере, то использовал это время для того, чтобы изучить английский язык! Ты тоже должна использовать свою вынужденную неподвижность, чтобы учиться. И прежде всего — читать.
— Я уже начала читать «Сказки кота-мурлыки»…
Морис еще несколько раз приходит повидать меня, он пишет мне письма, и они неизменно начинаются словами: «Моя юная невеста».
Мой вынужденный отдых продолжается не 30 дней, а все 60! Пришлось отменить не только гастроли, но и намеченную поездку в Америку, где меня ожидал Джо Пастернак с заманчивыми предложениями.
После двух лет беспокойной жизни, когда я неслась вперед, будто на крыльях ветра, долгая неподвижность порой пугает меня.
— Как бы меня не забыли.
А может быть, это — необходимая пауза, которую мне уготовила моя «звездная» судьба?
Время, чтобы многое осмыслить.
Мама снова в больнице. Нет, не для того, чтобы произвести на свет 15-го ребенка, а для того, чтобы оперировать ногу. В ее отсутствие, как и раньше, старшие дети опекают малышей. Если бы мое дальнейшее движение вперед остановилось, для них бы это обернулось возвратом к прошлому. Дом, вероятно, пришлось бы продать. Вот почему я каждый день исступленно распеваю вокализы и упорно тренируюсь. Тороплю дядю Джо. Надо еще месяц лечиться? Но я уже снова могу петь. Я уже иду на поправку!
Наступает день, когда он мне сообщает, что подписал контракт на поездку в Абиджан и что мы восстановим связи с Лондоном, Берлином и 14-ю другими городами Германии. И тут я вспоминаю слова бабули.
Она никогда не сказала бы на модном ныне франко-английском жаргоне: «Это моя cup of tea!»[19], но всегда говорила: «Это мой эликсир!»
Я обретаю Лондон и теряю Голливуд
Очень часто, в кошмарном сне, я вновь вижу картину дорожной аварии. Мне кажется, с тех пор я не постарела, но, пожалуй, немного повзрослела. Совсем немного. В 20 лет я уже познала цену успеха и усвоила уроки неудачи. Неудача — это моя несостоявшаяся американская карьера, на которую так рассчитывал Джонни. Блестящая могла быть карьера! Не просто сольный концерт или телевизионная передача, но такие выступления, которые укореняют ваше имя на американской земле столь прочно, что вы становитесь звездой с пометкою «made in US»[20]. А ведь я прилагала усилия, которые при моих возможностях (а они не так уж велики!) казались мне чрезмерными. С тех пор как Морис Шевалье посетил меня, когда я была прикована к постели, я, следуя его совету, усердно занимаюсь английским языком. Милый мой учитель Гарри говорил:
— Мими, возьми в рот горячую картофелину и у тебя будет прекрасное английское произношение!
Горячая картофелина… И это говорилось человеку, страдающему косноязычием! Я даже с трудом произношу имя «Том Джонс». Как ни стараюсь, все время путаю буквы «м» и «н»! Дядя Джо в ярости.
Том Джонс, как и Джулия Эндрюс, регулярно выступает со своим шоу по «Независимому телевидению». Мы познакомились с ним во время «Королевского представления», и — с благословения нашего патрона Лесли Грейда — я стала постоянной партнершей Тома. Мы подготовили номер, имевший успех: он пел по-английски «I am coming home»[21], а я вторила ему по-французски. И была в полном восторге от этого дуэта. Джонни — гораздо меньше.
— Я знаю, что по-французски ты петь умеешь! Но меня интересует твой английский язык. Английский!
Я все больше привыкаю к башенным часам «Big Ben»[22]. Грейд, как было условлено, три или четыре раза показал по телевидению «Шоу Мирей Матье», в котором участвовали и приглашенные мной артисты. Естественно, Том Джонс, а также Клифф Ричард, выдающийся певец, который мне особенно нравился, потому что он с огромным успехом дебютировал уже в семнадцать лет. Участвовал в шоу и комический актер Гарри Сикем (он также выступал в «Королевском представлении») — я нахожу, что внешне он похож на Рэда Скелтона.
Мы выкроили время, чтобы посмотреть на живого Рэда Скелтона. Он выступал в театре «Друри-Лейн». Помнится, я там громко хохотала… и с удивлением заметила: когда в Париже я смеялась во все горло, соседи оглядывались на меня; англичане же, видимо, считали, что это в порядке вещей. Ведь они и сами, если смеются, то оглушительно! Я, правда, уже научилась умерять свой смех. Но, во-первых, это дается мне с трудом, а к тому же я думаю, что артистам нравится, когда зрители не сдерживают смеха.
Самыми приятными из приглашенных артистов были для меня «Битлз», ведь я их страстная поклонница. В одной из своих передач я даже отважилась исполнить попурри из их песен — до такой степени я их люблю.
Но когда выступаешь вместе с иностранными артистами, надо разговаривать на их — пусть даже ломаном — языке. В Лондоне, как и в Париже, для подобных телепередач текст скетчей получаешь лишь за день или за два до записи! Поэтому Джонни решил, что мы должны поселиться в Лондоне, чтобы меня ничто не отвлекало. Точнее, не в самом городе, а в его окрестностях, так как студии Элстри расположены в 40 километрах от столицы. Агентство по найму жилья подобрало для нас замечательный коттедж. Его можно было бы назвать даже усадьбой. Я была в восторге при мысли, что проживу целое лето в таком чудесном месте. Большой парк вокруг дома — просто мечта! Есть даже конюшня с верховыми лошадьми, на них можно покататься, разумеется, если сумеешь удержаться в седле. Но я, увы, никогда не брала уроков верховой езды, а без этого никуда не поскачешь!
День начинался со звонка будильника в шесть часов утра. В студии нас ждали уже к восьми. Мне нередко приходилось наряжаться в разные костюмы, когда я, тая от восторга, выступала вместе с Анри Сальвадором. Но теперь я спрашиваю себя, не будут ли англичане шокированы, увидя меня в роли самой Елизаветы Английской! Я просто обожала ее наряд, брыжжи и необыкновенную прическу. Королева Елизавета с авиньонским акцентом напутствовала в дорогу Христофора Колумба, который уходил в плавание на трех небольших каравеллах, чтобы открыть Америку. Правда, Колумб жил на целый век раньше, чем Елизавета, но эта историческая неточность никого не смущала. Все в зале помирали со смеху!
Не менее парадоксальной выглядела сцена, которую я разыгрывала с Роже Пьером для Карпантье несколько лет спустя: Роже исполнял роль учителя музыки, который принуждает юного Моцарта (эту роль исполняла я) играть на клавесине мелодию «Ча-ча-ча». Как только он поворачивался ко мне спиной, я говорила;
— Не по душе мне эта музыка. Я люблю сочинять маленькие сонаты. или, к примеру, такую вот пьеску — я назвал ее «Турецкий марш». Это — забавная штучка. Со временем ее оценят!
В Лондоне я очень много работаю, но успеваю и поразвлечься. Запись продолжается с девяти утра до пяти вечера, но предусмотрен «break»[23], чтобы поесть и выпить чаю. Земля может расколоться, но англичанин все равно допьет свою чашку чая!
Мне нравился этот перерыв. «Tea-time»[24] помогло мне обрести немало друзей среди артистов английской эстрады (которые, кстати сказать, отличаются завидным здоровьем). Среди них был «мой» Христофор Колумб — артист Рич Литл, он пользовался широкой известностью. Я выступала вместе и с Дэзом О'Коннором, актером-певцом — признанной звездой театра «Палладиум». Я смеялась до упаду, едва завидя забавную голову Кена Додда — у него была лохматая шевелюра, зубы как у кролика и глаза, точно бусинки. Встречалась я там и с Дэнни Ларю, пожалуй, самым удивительным из актеров, исполняющих роли с переодеванием. Дэнни походил на очень красивую даму, он носил платье с плюмажем с таким изяществом, которое мне даже и не снилось! Поражая своей женской осанкой, он время от времени начинал вдруг говорить басом, достигая этим необычайного комического эффекта. Он никогда не отступал от своего амплуа. И потому за несколько месяцев вперед договаривался с дирекцией театра «Палладиум» о том, что будет там выступать с новогодним представлением, которое приходили смотреть целыми семьями — при этом родители забавлялись не меньше, чем их дети. Надо сказать, что у него было два репертуара: один предназначался для всех, а другой — весьма «соленый» — он исполнял в своем излюбленном кабаре, куда я благоразумно ни разу не ступала ногой. Впрочем, с моим более чем скромным знанием английского языка я бы все равно ничего не поняла.
Этот удивительный мастер сцены, исполнив свой комический номер, стирал грим с лица, удалял приклеенные ресницы и надевал мужской костюм; этот элегантный костюм с накладными кармашками, белоснежная сорочка и «дипломат» в руках (он никогда с ним не расставался, потому что все время сочинял для себя новые скетчи) придавали ему вид важного господина. И всякий, кто видел, как он садится в собственный «Роллс-Ройс», принял бы его за лорда или банкира.
В числе моих новых знакомых и конферансье Джон Дэвидсон, очень красивый молодой человек. Естественно, в газетах нас вскоре превратили в жениха и невесту. Работать с ним — одно удовольствие: он настоящий профессионал и умеет буквально все — петь, танцевать, играть на нескольких инструментах, вступать в диалог со зрителями, очаровывая их своим остроумием. Раз в неделю мы выступали вместе с ним; таких шоу было 13, их показывали и в Америке.
Когда в пять часов вечера заканчивалась работа в студии, я торопилась домой, чтобы успеть подготовить завтрашнюю программу.
В нашем просторном трехэтажном доме хозяйство ведет тетя Ирен, ей помогает опытная кухарка, чье жалованье включено в арендную плату за жилье (к сожалению, женщина эта сильно пьет, и нередко рано утром ее находят на лестнице в окружении целой батареи пивных бутылок). Живут здесь также Матита, дирижер оркестра Жильбер Руссель, Надин и молоденькая учительница английского языка, которая так никогда и не узнала, что я прозвала ее «Miss Potatoes»[25], вспомнив совет Гарри о горячей картофелине во рту!
Есть в коттедже и седьмая комната, она предназначена для Джонни, который время от времени навещает нас, чтобы проверить, как мы себя ведем. Венсане еще слишком мала, и ее с собой не взяли. Поэтому дядя Джо уезжает на уик-энд к себе домой, а мы наслаждаемся жизнью в своем уютном доме, где окна в мелких переплетах. По воскресеньям я немного работаю в розарии, фруктовом саду и огороде, что приносит мне немало удовольствия. Это может показаться странным, но собирать овощи — крупные, свежие, покрытые росой — мне так же приятно, как собирать цветы.
И все же воскресные дни в Англии кажутся мне не слишком веселыми. Впрочем, как и в Париже. Я вообще скучаю в воскресенье. Только на гастролях я мирюсь с этим днем, так как всегда нахожу для себя какое-нибудь дело. А в Париже я всегда прошу Джонни проводить запись пластинок именно в воскресенье. На студии в этот день гораздо спокойнее, чем в будни, музыканты всегда в хорошем настроении (им платят за сверхурочную работу!), а я избавляюсь от тягостного ощущения даром потерянного дня. Когда же записывать пластинки не нужно, я приглашаю музыкантов к себе, репетирую песни, словом — тружусь. Сознаю, что нарушаю Божью заповедь, но надеюсь, что Бог меня простит, ибо всякий день — где бы я ни находилась — я начинаю с мыслей о Нем.
В нашем лондонском доме в воскресенье надо готовиться к понедельнику — рабочему дню. И потому я рано ложилась спать, что напоминало мне образ жизни в Круа-дез-Уазо… Конечно, мы были совсем небогаты, но у нас были свои радости: я до сих пор помню воскресные прогулки, когда мы всей семьей отправлялись к Домской скале и по дороге пели!. Но сейчас я могу быть довольна судьбой: мне удалось построить для родных швейцарский домик на склоне горы Ванту, он прекрасно вписался в местный пейзаж. Теперь все мои братья и сестры могут заниматься зимними видами спорта. Они это вполне заслужили: близнецы трудятся сейчас вместе с отцом, Кристиана стала медицинской сестрой, а Режана — продавщицей. Остальные еще слишком малы. Они ходят в школу. Я прошу их не следовать моему «дурному» примеру, а хорошо и усердно учиться, чтобы приобрести прочные знания. Тогда они не попадут в такое же трудное положение, в каком оказалась я после окончания школы.
— Алло, Реми! Хорошо ли ты занимаешься в школе? Учись получше, мой милый. Ты даже не представляешь, до чего глупым чувствует себя человек, когда он не понимает, о чем говорят другие. Он ощущает себя просто калекой!

В 1978 году я по приглашению королевы в третий раз приехала в Лондон, чтобы принять участие в «Королевском представлении» на сцене театра «Палладиум».
В Лондоне я узнала о рождении Виржини (она весила три килограмма!) — дочки моей сестры Мари-Франс. Я присутствовала на ее свадьбе в начале зимы, заехала ненадолго, потому что в тот же вечер выступала в другом месте. Бракосочетание совершал наш славный священник Гонтар в небольшой церкви Лурдской богоматери. А затем на площади перед мэрией собралось около 3 000 горожан, чтобы поглядеть на новобрачных и на свояченицу молодого меховщика, который женился «на сестре Мирей Матье».
Я думаю о своих близких поздно вечером, посмотрев перед тем короткую телепередачу (на слух я лучше запоминаю английское произношение… и в этом я нахожу оправдание потраченному времени)! Назавтра день начинается, как всегда, в шесть часов утра.
Огудин Элстри образуют целый городок со своими улицами, перекрестками, павильонами для телевизионных и кинематографических съемок. Тут снимают и полнометражные фильмы, для этого оборудованы специальные помещения: в одних монтируют, в других просматривают уже готовые фильмы; немало здесь и различных контор.
Однажды мы не стали обедать в столовой для артистов, где вкусно кормят и всегда бывает весело, а отправились в ближайший ресторан, потому что нас приехал навестить Поль Мориа. И кого же мы увидели за соседним столиком? Лиз Тейлор и Ричарда Бёртона! Находившийся в нашей компании сотрудник студии представил нас. У меня перехватило дыхание. До чего же красива эта женщина! У нее фиалковые глаза, изумительная кожа и такой цвет лица. А он, Бёртон!. Я вновь встретилась с ним много лет спустя, за два месяца до его кончины, когда мы оба выступали в Женеве, где давался гала-концерт в пользу ЮНИСЕФ. Как же он к тому времени переменился.
На меня произвело незабываемое впечатление знакомство с четой самых известных киноактеров, но последний эпизод этого обеда был весьма забавным. Мы заказали лангустины. Официант забыл принести майонез. Он извинился, ненадолго отлучился и вскоре вернулся с внушительным сосудом. Зацепился ногой за ковер, и струя майонеза ударила, точно ядро, в сторону нашего столика; я успела нагнуть голову, и весь заряд угодил в физиономию Поля Мориа. Комический номер, достойный самих братьев Маркс! Бедный Поль старательно вытирал салфеткой свой забрызганный костюм, а я тем временем уставилась на хохотавшую во все горло Лиз Тейлор и Бёртона, застывшего с раскрытым ртом.
В начале зимы я вновь приехала в Лондон, заключив контракт на выступления в известном кабаре не менее известного отеля «Савой».
Знаменитые артисты из разных стран не только выступают на этой сцене, но нередко сидят и в зале. Я помню, какой приятный сюрприз преподнес мне Дэнни Кэй, когда однажды вечером он зашел меня обнять.
Нас поселили в номерах, в которых, как говорят, останавливался Чарли Чаплин. Он их предпочитал всем другим, потому что отсюда открывается чудесный вид на Темзу. Если в городе протекает река, для меня не существует большего удовольствия, чем любоваться ею. Коровы, кажется, любят смотреть на проходящие мимо поезда, а я не устаю смотреть на бегущую воду. И это может длиться целыми часами.
В «Савойе» шеф-поваром служит француз, чье имя окружено славой.
— Алло, папа! Угадай, кто нам здесь готовит обед? Повар самого генерала де Голля.
Услышав мои слова, отец надолго умолкает! Думаю, хотя и не могу в том поклясться, что в эту минуту он снял свою шляпу.
Узнав о моем преклонении перед генералом, шеф-повар однажды подошел к нашему столику с многозначительной улыбкой и сказал:
— Я приготовил для вас любимое блюдо генерала де Голля!
То были телячьи ребрышки с ломтиками жареного картофеля. При этом у повара был такой вид, будто он исполняет «Марсельезу» (так и слышалось «бум-бум, бум-бум!»)…
Наконец появилась пластинка с моей песней на английском языке: «Can a butterfly cry?» («Может ли бабочка плакать?»); этой песней я обязана двум победителям конкурса Евровидения — Филу Колтеру и Биллу Мартину. Я подготовила и другие песни для «Королевского представления». Королева пригласила меня выступить вторично. Было решено, что мне лучше всего спеть по-английски две песни: «Hold me»[26] и «I live for you»[27]. Театр «Палладиум» — в пышном убранстве, все балконы увиты цветами; вместе со мной выступают артисты, с которыми я уже участвовала в телевизионных передачах: Дэз О'Коннор, Дэнни Ларю, Гарри Сикем, Том Джонс… Я ощущаю новый прилив сил, глядя в глаза Джинджер Роджерс, которая исполняет арию из музыкальной комедии «Мейм». Чаще всего в светло-голубых глазах женщин царит безмятежность, ее же глаза все время сверкают как бриллианты.
Королева, любящая французский язык, говорит мне с приветливой улыбкой:
— Я рада вновь встретить вас через два года! Английская публика, как и моя семья, высоко вас ценит. Отныне вы франко-английская звезда. Да здравствует «Сердечное согласие!».
Она упоминает о своей семье не без юмора. В газетной хронике не раз отмечалось, будто принц Чарлз неоднократно слушал мое пение. Разумеется, не обошлось и без намека на романтическую подоплеку этого интереса.
Мне пришлось даже обратиться в «Журналь дю диманш» с письмом: «Не стоит вашей газете сочинять романы с продолжением. По-моему, их и без того достаточно! Ничто — ни единая строчка, ни одно словечко — не позволяет мне воображать, будто бедный принц Чарлз проявляет ко мне особый интерес».
Я постоянно употребляю слова «славный», «бедный», «бедняжка», но в моем произношении слово «бедный» звучит как «бэдный». В полном смятении я обнаружила, что в газете черным по белому так и напечатали: «бэдный принц». Я невольно подумала, что, если в Букингемском дворце читают «Журналь дю диманш», это произведет на них неважное впечатление! Судя по всему, эта история не помешала мне и впредь приезжать в Лондон, а ведь мои выступления там должны были, по расчетам Джонни, широко распахнуть передо мной двери Америки, которые до сих пор были лишь полуоткрыты.
Мне предложили на свой лад принять участие в первом показе в Париже фильма «Битва за Англию».
Грандиозная постановка этого фильма, снятого Гаем Гамилтоном, обошлась продюсеру Гарри Залцману в 80 миллионов франков. В нем участвовали английские кинозвезды Майкл Кэйн, Тревор Хоуард, Лоренс Оливье, Майкл Редгрейв, Сьюзен Йорк. Эта эпопея посвящена Британским военно-воздушным силам, которые противостояли вражескому вторжению в Великобританию в начале войны. Жорж Гравен вновь повторил свой опыт проведения празднества, который он так удачно применил при показе фильма «Самый длинный день». На этот раз в первом ярусе Эйфелевой башни — на фоне английского и французского флагов — стояла маленькая Матье. Для того чтобы попасть на площадь, надо было миновать шесть или семь полицейских кордонов… Я заранее знала программу вечера, потому что год назад присутствовала на таком же празднестве: гости Залцмана смотрели фильм в большом зале Дворца Шайо. Потом выходили в фойе, где был приготовлен ужин. Каждый находил в своей тарелке на сей раз мою пластинку с прекрасной песней Мориса Видалена «Друг, небо гибелью грозит.»; он написал ее, вдохновившись содержанием и музыкальной темой фильма.
Итак, стоя в первом ярусе Башни в длинном красном платье, я, пока приглашенные сидели за десертом, пела эту песню вслед за исполнением гимнов: «God save the Queen»[28] и «Марсельеза». Я ничего не видела вокруг: лучи прожекторов (которые, по моему выражению, «обшаривают небо») слепили меня, и перед моими глазами зияла черная дыра. Едва я закончила петь, дыра эта взорвалась фейерверком, столь мощным, что Эйфелева башня, казалось, задрожала, вибрируя своим железным кружевом, и готова была рухнуть. Однако пиротехники — их было девять — невозмутимо продолжали свою работу, сохраняя полное спокойствие.
Оказавшись в облаке порохового дыма, все мы — в том числе механики и электрики — утирали слезы, которые были вызваны отнюдь не фильмом «Битва за Англию». Внизу — в садах Трокадеро — веселилась многочисленная толпа парижан. Я очень удивилась, услышав на фоне аплодисментов не только возгласы «Да здравствует Франция!», «Да здравствует Англия!», но и возглас «Да здравствует Мирей!».
В промежутке между концертами в «Савойе» и на Эйфелевой башне я в том же 69-м году совершила кратковременную поездку в Вашингтон для участия в транслировавшемся по телевидению представлении, приуроченном к съезду республиканцев; там выступил и сам Никсон.
В этой передаче выступали многие известные артисты, среди них такие звезды, как Дайана Росс (правда, в ту пору она еще не была той Дайаной Росс, которая известна сейчас), обладатель самого красивого профиля в Соединенных Штатах Джимми Дьюрент и мой давний партнер Том Джонс. На этот раз со мной не было Джонни, он заболел гриппом во время эпидемии, которая свирепствовала в Париже. Вместо него поехала Надин, открывшая для себя Америку. Чувствовала она себя плохо: уже в самолете выяснилось, что у нее тоже грипп; бедняжку, видимо, заразила при прощании тетушка или наша служанка, которая чихала и кашляла.
Надо сказать, что с некоторых пор я боюсь самолетов. Никак не могу избавиться от этого безрассудного страха. Чтобы побороть его, мне нужно во время полета с кем-нибудь разговаривать. У Надин поднялась температура, и в собеседницы она не годилась. Тогда я попросила разрешения осмотреть кабину пилотов, что мне охотно позволили. И я принялась болтать с ними. Задавала вопросы, казавшиеся им, должно быть, смешными. Например, такой:
— Скажите… вам не кажется, что мы падаем?
Боязнь эта возникла у меня во время гастролей, когда мы решили, что можно гораздо быстрее — и меньше устав при этом — попасть в нужное место, воспользовавшись не громоздким автомобилем, а небольшим самолетом. Речь шла о том, чтобы добраться из городка Шателайон-Пляж (в окрестностях Ла Рошели), где я выступала накануне вечером, в Кассис, где мне предстояло петь через день. В те годы Джонни состоял в авиационном клубе и мог заказать двухмоторный самолет. Приземлившись в Марселе, я могла бы отдохнуть несколько часов в селении Ла Бедуль, где у Старков был уютный дом с бассейном, сохранивший очарование провансальского жилища. Сначала воздушное путешествие казалось мне очень приятным, но когда мы приблизились к марсельскому аэропорту, все пошло как нельзя хуже. Движение в небе было слишком интенсивным, нам предложили освободить воздушный коридор и совершить посадку на аэродроме в Кастле. Дело принимало для нас невеселый оборот. Ведь Джонни ожидал нас в марсельском аэропорту, и ни о каком выигрыше времени думать не приходилось. Внезапно пилот объявил:
— Черт побери! Мы наткнулись на летние дождевые тучи! А от них хорошего не жди… Пристегните ремни!
Я не люблю, когда во время полета звучат слова вроде «наткнулись» или «падаем»! А особенно, если, подтверждая опасения, дождевые тучи враждебно встречают самолет. И действительно разразилась гроза, да еще с градом. Вокруг стоял адский шум. Это походило на кошмарный сон. Пилот выключил двигатель, я не поняла почему, но всех нас это ужасно напугало. Микрофон, висевший над креслом Надин, свалился ей на голову, бедняжка в ужасе завопила. Лицо у тети Ирен позеленело. Я торопливо крестилась. Пилот снова запустил двигатель, и самолет совершил невообразимый скачок. Нам показалось, будто мы неумолимо падаем. При посадке все остались целы и невредимы, но на нас лица не было.
Позднее, когда из Лондона мне предстояло отправиться уж не помню в какой немецкий город с промежуточной посадкой (мы должны были там пересесть с маленького самолета на большой), я громко разрыдалась; Джонни так и не смог меня уговорить. Несмотря на то, что это затруднило соблюдение графика гастролей, мы предпочли автомобиль. Впрочем, после аварии вблизи Гренобля я побаивалась пользоваться и машиной. Но лучше уж дрожать от страха на земле, чем в воздухе!
Вспоминаю я и о том, как однажды, поднявшись в воздух из лондонского аэропорта, нам тут же пришлось совершить посадку: загорелся один из реактивных двигателей. На летном поле нас ожидала многочисленная пожарная команда. Я чувствовала себя совсем разбитой.
Вот почему, хотя я пользуюсь надежными самолетами, в пути я никогда не сплю и, чтобы успокоиться, все время разговариваю. Со стюардессами, с пилотами. Самолет — единственное место, где я употребляю алкоголь. Выпиваю рюмку водки до дна.
В Вашингтоне, несмотря на грипп (как выяснилось, температура у нее поднялась до 40 градусов), Надин сопровождала меня до могилы президента Кеннеди. Но мечтала она только об одном — быстрее добраться до своей постели. Наконец мы очутились в роскошном отеле, где нам отвели двойной номер. Внезапно поздно ночью Надин, испуганная и бледная, разбудила меня: «Кто-то ломится к нам в комнату!»

Мое первое выступление проходит в атмосфере, с какой я до сих пор никогда не сталкивалась. Поначалу мне кажется, что пение мое подобно гласу вопиющего в пустыне… Но внезапно, едва я кончаю петь, раздается гром аплодисментов, и две тысячи зрителей ритмично хлопают в ладоши. А потом из зала направляются к сцене один, два, пять, десять человек; они поднимаются по ступенькам и, поклонившись, кладут к моим ногам букеты цветов… В их глазах светится радость. Публика не ломала кресел, не вопила, но впервые в жизни я ощутила себя ее кумиром.
Я возражаю, что этого не может быть; дрожа от страха, она настаивает. Говорит, что смотрела в глазок и увидела двух субъектов, пытавшихся взломать дверь.
— Но ведь дверь на цепочке?
— Да. Однако они такие здоровенные.
Я встаю с постели: оказывается, Надин уже придвинула к входной двери столик с телевизором. Что делать? Звонить? От волнения мы никак не можем управиться с телефоном! И поймут ли нас? Надин владеет английским языком не лучше меня, пользуется разговорником. Теперь я тоже слышу шум, доносящийся из коридора, какой-то странный шум, чье-то рычание, неразборчивые слова… Помогаю своей спутнице укрепить нашу оборону: мы воздвигаем баррикаду из кресел и стола. Это удается нам с большим трудом, так как мы обе очень устали: она ослабела от гриппа, а меня сильно утомила передача.
— Мне кажется, это — цветные! — ужасается Надин.
— Как ты могла их разглядеть, Надин, ведь в коридоре темно!
Мы так и не узнали разгадки ночного происшествия. Впрочем, нам кто-то сказал, что телевизионные передачи такого рода часто завершаются обильными возлияниями. И в самых разных местах подбирают мертвецки пьяных конгрессменов.
Джонни до сих пор иногда подшучивает:
— Надин, расскажите-ка нам, как вас чуть было не изнасиловали в Вашингтоне!
Наш милый Джо Пастернак сохраняет верность дружбе и не отказывается от своих замыслов. В конце августа 1968 года я снова сижу в его кабинете на Пеладжио Роуд, а на столе передо мной — новый сценарий. На этот раз речь идет о фильме «Великолепный Лас-Вегас», к участию в котором он хочет привлечь Мастроянни и Чакириса.
— В нем есть роль, будто специально для Мирей! Я жду ее приезда целый год. На сей раз я совершенно уверен, что она превосходно сыграет героиню, и потому даже договорился снять для нее дом, где раньше жила Ким Новак!
— Сыграть-то она, я думаю, сыграет… — говорит Джонни.
— Ага! — с торжеством восклицает Джо.
— Но что касается произношения.
— Прибегнем к помощи Сьюзен Уэйт. Она замечательная учительница.
— Гораздо важнее другое — чтобы ученица была замечательная. Я понимаю, что он прав.
Милейший Пьер Грело переводит мои сбивчивые объяснения. Я уже почти не боюсь петь, но как только пытаюсь говорить по-английски, меня охватывает страх. Это может показаться непонятным, нелепым проявлением злой воли. Просто болезнь какая-то.
Пять месяцев спустя меня записывали на телевидении, в соседнем павильоне вел съемки Ли Мэйджорс. Мы нанесли ему дружеский визит. По глазам Джо Пастернака я поняла, что в голове у него уже возник новый план. Возможно, потому, что он заметил, как я очарована Ли Мэйджорсом: я впервые встретила настоящего ковбоя! Он снимался в фильме «Большая долина».
— Мирей будет прелестна в роли юной девушки, которую похищают индейцы! — повторял Джо.
В другой раз он познакомил меня с Зануком, великим Зануком (но ростом он невелик), который курил необыкновенно длинную сигару. И тут снова всплыл на поверхность проект фильма: теперь в нем кроме меня и Джона Уэйна должны были участвовать Роберт Митчем и Дин Мартин. Съемки должны были продолжаться 16 недель. И опять зашла речь о пресловутом контракте на семь лет. Цифра «семь», считала я, приносит счастье, однако.
Когда мы оказались в бунгало на Беверли-Хиллз, где мы останавливались в свой каждый приезд, Джонни спросил меня:
— Ну, так как?
— А что вы об этом думаете, Джонни?
— А что думаешь ты?
— Целых семь лет. не видеть родины.
— Почему же? Ведь бывают отпуска. Кроме того, американцы все чаще снимают теперь фильмы в Европе. особенно в Италии.
Но я-то хорошо знала, что значит впрячься в работу! Помнила, что, даже находясь в Париже, с большим трудом вырывалась в Авиньон, до которого было всего 700 километров. В ту ночь я почти не спала. Тетя Ирен молчала, не говорила ни «да» ни «нет». Оба они с Джонни ждали моего решения. А я хорошо знала, что не умею ни заниматься двумя делами сразу, ни делать что-либо наполовину.
Наступило утро. За утренним завтраком Джонни, который хорошо меня изучил, понял, что я решила.
— Чувствую, что я не готова. Не готова все бросить ради Америки. Он мягко спросил меня:
— Ты хотя бы понимаешь, что отказываешься от блестящей карьеры в Америке?
Я, смеясь, обняла его:
— Но, дядя Джо… быть может, мне еще представится подобный случай, ведь я же, в конце концов, не так стара, хотя вы меня то и дело называете старушкой!
— Некоторые поезда никогда не проходят дважды.
Тем не менее, такой поезд прошел. И совсем недавно. в этом году. Продюсер Хэл Бартлет приехал в Париж. Он — поклонник моего искусства.
— У меня дома есть все ваши пластинки, — сказал он. — Мои дети, как и остальные члены семьи, от них без ума. Когда у нас бывают гости, мы непременно предлагаем им послушать «Мирей».
Случилось так, что в то время в Париже находились мои немецкие антрепренеры и те, кто пишет для меня песни в Германии, а также мои друзья с мексиканского телевидения. Мы решили пообедать все вместе, пригласив и даму из посольства, которая знакомила меня с китайским языком перед моим отъездом в Пекин. Хэл присоединился к нашей компании. Настоящее сообщество наций! За десертом — как это принято на свадьбах и банкетах — я поднялась, чтобы исполнить песню на языке каждого из присутствующих.
— Сегодня вам повезло, — пошутила я, — будете бесплатно присутствовать на сольном концерте!
Я люблю петь без музыкального сопровождения и знаю, что это обычно производит большое впечатление на слушателей. Для меня это совсем нетрудно — я пою от всей души (когда Жак Ширак принимал в Парижском муниципалитете китайскую делегацию, я — как всегда за десертом — запела к восторгу мэра Пекина популярную в его стране песню «Цветок жасмина», которую я и сама очень люблю). Изумление присутствующих слегка забавляет меня. Вокруг раздаются возгласы: «Как, должно быть, трудно петь без музыки!.. Да еще после обеда! И без подготовки!» Я невольно вспоминаю то время, когда пела для своих подружек. Правда, публика теперь другая. И репертуар тоже.
Моим немецким антрепренерам я посвятила баркаролу из оперы «Сказки Гофмана», а моим мексиканским друзьям — песенку «La muneca fea»[29] (когда я была в Мехико, то исполняла ее в новогодней телевизионной передаче вместе с Пласидо Доминго, причем третьим персонажем была марионетка, которую мексиканские дети любят так, как наши дети любят
Полишинеля). В заключение для Хэла я исполнила две песни: «The man I love»[30] и «After you»[31]. Он восхищен и говорит мне:
— Я закажу сценарий для вас, специально для вас!
Это напомнило мне замысел Питера Ханта, снявшего фильм о Джеймсе Бонде «На службе ее величества» (единственный фильм, где «агент 007» женится!). Он задумал картину «Маленький мир больших людей» — некий «сплав» из истории жизни Жозефины Бекер и моей собственной! Рассказ о супружеской чете, которая воспитывала как родных дюжину приемных детей разных рас и национальностей (мне предназначалась роль старшей из них). Приемные родители погибают в автомобильной аварии, а я становлюсь певицей, чтобы прокормить детвору. План этот так и остался планом.
Пять лет спустя я выступала по телевидению в Лос-Анджелесе. Только что появился фильм «Челюсти». Но мне довелось там встретиться не со Стивеном Спилбергом, с которым я хотела познакомиться, а с другим прославленным режиссером, Робертом Олдричем, который поставил фильмы «Грязная дюжина», «Апач», «Вера-крус» — называю только те, какие сама видела. Вообще, я посмотрела и до сих пор смотрю много фильмов. Во-первых, для удовольствия: и в этом случае, если развязка фильма несуразная или попросту мне не по душе, я придумываю для себя другой конец. Во-вторых, для дела: тогда я смотрю фильмы сдублированные. Всегда с одной целью — усовершенствовать знание языка и произношение. Потому что живую речь я воспринимаю гораздо лучше, чем печатный текст.
— Я предлагаю вам роль, — сказал мне Олдрич, — в которой вам не придется петь, хотя героиня фильма, неприкаянная девчонка, повсюду таскает с собой старую гитару. Она знакомится с двумя молодыми людьми; дядя одного из них скончался в Мексике, спрятав перед смертью свои сокровища. Несмотря на свой ангельский вид, девица очень хитра и коварна. Иногда она удерживает своих приятелей от ложного шага, внушая каждому, будто она любит именно его. Кончается все кровавой развязкой.
Олдричу нравилась моя внешность. Он сказал, что партнером у меня будет Берт Рейнолдс. И спросил, знаю ли я его. Я ответила, что видела Берта только в фильме Вуди Аллена «Всё, что вы всегда хотели знать о сексе…». Конечно, это неожиданное предложение было заманчиво и чудесно, но. у меня веские основания, чтобы отклонить его. Я не могу отменить гастроли в Германии и Японии, куда должна ехать со всей моей труппой. Правда, можно было бы попытаться вступить в переговоры с антрепренерами. Но была еще другая причина, о которой я умалчивала: в себе, как в певице, я была уверена, но актрисой себя не чувствовала. Да, на телевидении я разыгрывала скетчи со своими добрыми друзьями — Сальвадором, Роже Пьером и Жак-Марком Тибо, но при одной мысли, что мне придется участвовать в любовной сцене с Бертом Рейнолдсом!. Я оставила вопрос открытым. Олдрич не настаивал. И сценарий отправился в шкаф, где уже покоилось множество мертворожденных проектов. О Берте Рей-нолдсе Олдрич отнюдь не забыл и снял его в фильме «Город, полный опасностей», где партнершей этого артиста была Катрин Денёв; она сыграла роль «call-girl», любовницы полицейского. Сыграла она эту роль превосходно, и я еще раз убедилась в том, что мое призвание — быть певицей, певицей мне и надлежит оставаться, а не стремиться стать актрисой.
— Но в моем фильме, сценарий которого будет написан специально для вас, вы будете петь, — настаивал Хэл. — Играть тоже, но главное — петь. Там не будет выдуманной героини. Воплощать вы станете себя.
Он заверил меня, что непременно осуществит свой замысел. Я жду.
Помешанные, почитатели, претенденты
Все те, кто соприкоснулся со смертью, проникаются уверенностью: их час еще не настал, но он непременно наступит. Теперь они уже иначе, чем прежде, следят за бегом часовой стрелки. Отныне время для них идет быстрее. Ход его ускорился.
У меня всегда с собой небольшой магнитофон — в машине, в самолете, везде. Надев наушники, я постоянно что-то слушаю: песни, с которыми готовлюсь выступать, те, с которыми только знакомлюсь, те, что исполняют другие певцы; а когда мне хочется отдохнуть и расслабиться, я слушаю оперные арии в исполнении Каллас или Паваротти, либо классическую музыку, главным образом Моцарта и Бетховена. Когда я смотрю фильм и вижу, как к концу кассета пленки движется все быстрее и быстрее, я говорю себе, что так происходит и в жизни. Мой фильм мог оборваться уже 19 лет тому назад на шоссе, в 20 километрах не доезжая Лиона. Я уже многое испытала: безвестность и славу, бедность и богатство, приветливость и враждебность. Последние два слова, пожалуй, не совсем точно передают мою мысль. Я жила в
атмосфере пугающего накала страстей, ощущая любовь одних и ненависть других.
О дорожной аварии, которую я только что упомянула, писали в газетах. В это время в нашу контору на авеню Ваграм пришло анонимное письмо, в нем я прочла:
— На этот раз ты уцелела, но в следующий раз ты от нас не уйдешь.
Джонни тут же обратился к своему адвокату. Мы еще находились в Лионе, наша опломбированная машина все еще ждала экспертизы, а в суд уже была направлена жалоба по обвинению неизвестного в попытке покушения на нашу жизнь (факт покушения так никогда и не был установлен). Джонни успокаивал меня, как только мог: по его словам, все артисты получают такие анонимные письма. Пишут их обычно люди ненормальные, которые никогда не приводят в исполнение своих угроз.
Тем не менее, несколько месяцев спустя полиция задержала какого-то юнца, позднее отправленного в сумасшедший дом. Это довольно грустная история. Двадцатилетний Филипп Т. был отчислен из педагогического учебного заведения. В армию его тоже не взяли. За полгода он перепробовал десяток профессий… И однажды — произошло это 18 октября 68-го года — он сел в такси; денег, чтобы расплатиться, у него не оказалось, и шофер отвез его в полицию; там его обыскали и были несказанно удивлены: при нем обнаружили домашние туфли и. пилу.
— Я хотел взломать дверь в квартиру Мирей Матье и улечься в постель в ожидании ее прихода, — заявил он. — А домашние туфли захватил, чтобы не наделать лишнего шума.
По его словам, он решился на это потому, что Мирей Матье многозначительно поглядывала на него, когда выступала на празднике газеты «Юманите».
Он показал, что уже два года следует за мной, когда я гастролирую в провинции, что я вдохновляю его и он даже написал для меня несколько песен (в лихорадочном возбуждении он привел некоторые их названия: «Ночной незнакомец», «На улице твоей живет любовь».), что он добивался аудиенции у Джонни Старка, приезжая на авеню Ваграм, думая, что я там живу, и был сильно разочарован, не застав меня, ибо надеялся, что я расплачусь с таксистом. Психиатр, доктор Лафон, который его обследовал, пришел к заключению, что имеет дело с эротоманом.
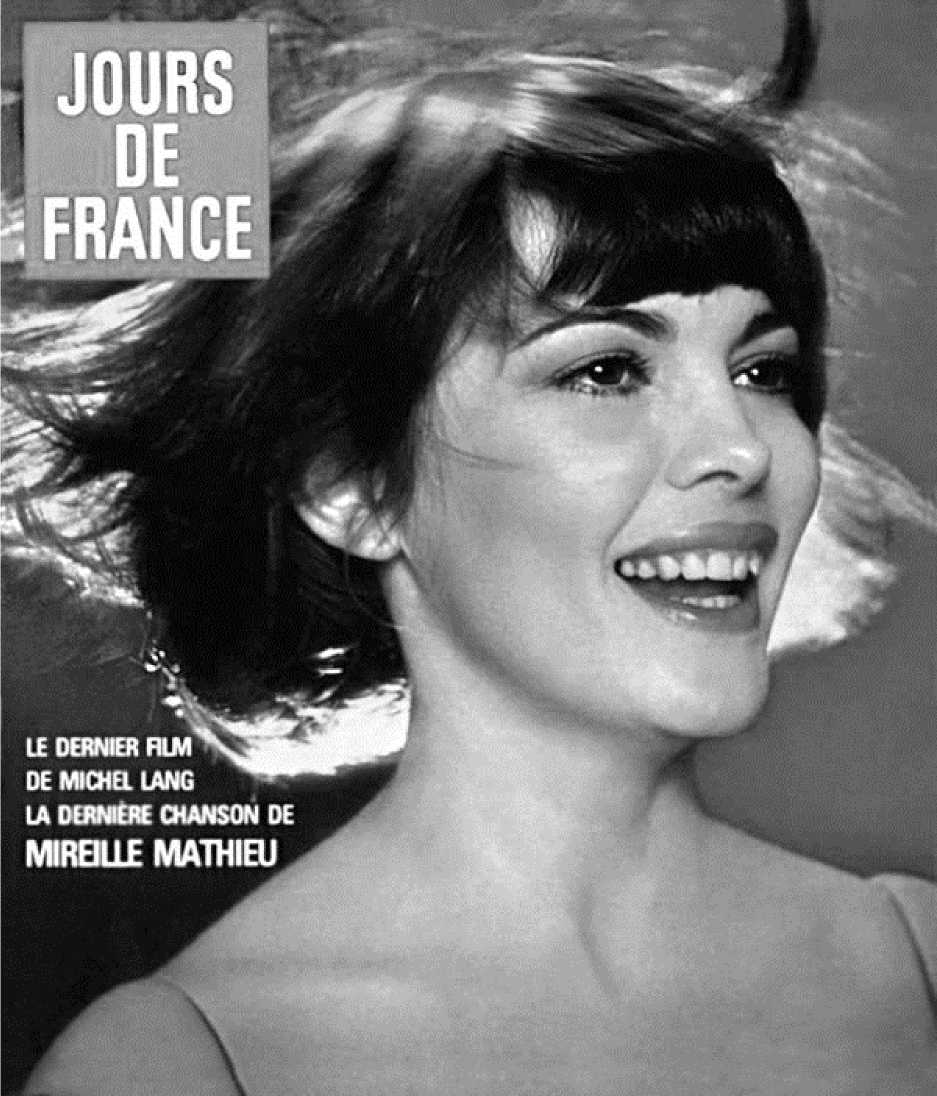
В другой раз какой-то мужчина, говоривший с бельгийским акцентом, позвонил маме и сказал, что он хотел бы получить мою фотографию с автографом. (У мамы всегда имелись такие фотографии… она дарила их своим друзьям и владельцам соседних лавок, которым это доставляло удовольствие.) Незнакомец подъехал к ее дому как заправский турист, в машине с бельгийским номером; это был симпатичный на вид мужчина лет 50 с заметными залысинами. Однако, войдя в дом, он внезапно заговорил угрожающим тоном:
— Я вас сейчас прикончу. И тогда Мирей придется возвратиться из Соединенных Штатов. Она обещала выйти за меня замуж!
Мама, проявив хладнокровие, которого я в ней не подозревала, обратила все в шутку, дала ему фотографию, и он ушел. На всякий случай она записала номер его машины. На следующий день он заявился в контору на авеню Ваграм. Я и в самом деле была в Лос-Анджелесе, где вместе с Полом Анкой записывала пластинку.
Он пришел в контору в половине седьмого вечера. Надин перед тем ушла в соседнее почтовое отделение, чтобы отправить корреспонденцию. В помещении находились только Малыш и секретарша Ивонна. Внезапно дверь отворяется, и на пороге возникает человек с револьвером в руках. Начинается вторая серия «детективного фильма»! Неизвестный заставляет обоих встать лицом к стене и поднять руки вверх. Он требует назвать номер моего телефона в Америке и говорит:
— Если она откажется вернуться, вы станете моими заложниками! И тогда Ивонна обращается к нему кротким голосом… напоминает о разнице во времени, объясняет, что в такой час его со мной не соединят (это была чистая правда: я спала!). Она все говорит, говорит. как с малым ребенком, которого убаюкивают. Он, в самом деле, успокоился и удалился так же незаметно, как пришел. Когда Надин возвратилась в контору, она застала Малыша и Ивонну которые все еще не могли прийти в себя.
— Мы только что испытали адский страх!…
Разумеется, они сообщили о случившемся в полицию, но мне ничего не рассказали, чтобы не напугать. От журналистов тщательно скрыли дату моего предстоящего возвращения. И, выйдя в аэропорту из самолета, я с изумлением увидела, что меня окружила группа полицейских в штатском!
— Мы охраняем вас, потому что какой-то помешанный угрожает вас убить.
Такое известие способно, по меньшей мере, омрачить радость возвращения домой! Между тем, мне предстояло на протяжении целой недели участвовать в записи новогодней передачи «Капризы Мими». Полицейские, не отставая ни на шаг, провожали меня в студию и обратно. Согласитесь, в подобной атмосфере не слишком приятно петь, даже такие песенки, как «Я безумно люблю тебя!» или «Дождь заливает мне очки» Жака Мартена. Либо танцевать кадриль в наряде пастушки!
Дней через пять этот человек был арестован в окрестностях Льежа. У него нашли целый арсенал: автомат, винтовки, два пистолета. и черновики пламенных посланий, адресованных мне, которые, естественно, мне не передавали. Следствие провели без труда. Полицейский из какого-то небольшого городка вспомнил о том, что владелец местной станции обслуживания автомобилей постоянно хвастался «своим близким знакомством с Мирей Матье». Он продал некоторое время назад свою станцию и сделался фотографом. Пристрастился посещать концерты, садился в первом ряду и «обстреливал» из своего фотоаппарата выступавших на сцене артистов. Особенно меня. И, видимо, так вошел во вкус, что надумал обстрелять меня в прямом смысле слова!.
Некоторое время спустя какой-то садовник из Ванса объявил, что несколько раз видел в своей округе инопланетян. Он описал их во всех подробностях: все они были высокие блондины атлетического телосложения, такими он представлял себе архангелов. Они доверительно сообщили ему, что всего их 7 465 000 и они прибыли на своих межпланетных кораблях для того, чтобы обследовать Землю и спасти человечество. По его словам, некоторые люди, к которым он относил, без сомнения, и себя, попали в число «избранных». И однажды он рассказал некоему журналисту: «Я оказался в одной из гостиниц Довиля, а у моих ног очутилась Мирей Матье. Я утверждаю, что таинственный посланец представил нас друг другу и мы вместе с ней сочинили песню во славу Братства. Затем я неоднократно писал Мирей, желая с ней встретиться, но она мне так ничего и не ответила».
Стоит рассказать еще об одном немце из Швейцарии, который писал оперную музыку. Он прислал партитуру в контору господина Старка, и ее показали дирижеру нашего оркестра.
Ознакомившись с партитурой, тот сказал мне:
— Нет. Эта музыка не для тебя.
Партитуру вернули автору. С тех пор он преследует меня. Всюду и везде. Однажды я увидела этого человека в Нейи на авеню Виктора Гюго. Он стоял перед моим домом, прячась за деревьями: бежевое пальто, темные брюки, черные очки на бледном изможденном лице.
Когда мы вышли на улицу, он приблизился к нам и сказал:
— Это я… Вы получили партитуру моей оперы…
— Но, сударь. она мне не подходит. Яне оперная певица.
— Я написал эту оперу специально для вас. Ее арии вы сумеете спеть. Я уверен, что сумеете!.
Он дрожал как в лихорадке и походил на помешанного.
В 1978 году я по приглашению королевы в третий раз приехала в Лондон, чтобы принять участие в «Королевском представлении» на сцене театра «Палладиум». За кулисами стоял телевизор, на экране которого можно было видеть зал, в частности королевскую ложу И вдруг мне показалось, что я вижу кошмарный сон: он был здесь, сидел в другой ложе, неподалеку от королевской, как всегда, в черных очках, устремив на сцену пристальный взгляд, от которого становилось просто не по себе.
— Смотрите, Джонни! Это он!
— Ты ошибаешься. это невозможно. как мог он проникнуть в зал?. Впрочем, кажется, ты права.
Дядя Джо обратился к лорду Грейду. Мой преследователь действительно сидел в особой ложе для иностранных гостей. Как он попал туда, мы так и не узнали.
Другой случай произошел в Канаде, где гостиницы тщательно охраняются. Когда мы вернулись после спектакля, нам сообщили:
— Какой-то человек заявил, что вы назначили ему встречу, и он будет вас ждать; вел он себя очень странно, вошел в лифт и просидел там шесть часов, отказываясь выйти!
Я уже все поняла и попросила описать мне внешность незнакомца: черные очки, очень бледное худое лицо, на вид ему лет 40.
— В конце концов, его препроводили в полицию. Там ждут ваших указаний.
Я отправилась туда и заявила, что готова переговорить с ним, но только в присутствии полицейского.
— Прошу вас, мсье, перестаньте меня преследовать, оставьте меня в покое! Я не хочу и не могу исполнять арии из вашей оперы! Ваши песни не для меня!
Он сказал мне просительным, жалобным тоном:
— Но я трачу из-за вас столько денег.
— Мсье. я ведь не прошу вас ездить за мной. Думаю, что вы и впрямь тратите кучу денег. Причем бессмысленно. У меня есть свой стиль, свой репертуар. Я не утверждаю, что вы лишены таланта, я не вправе об этом судить! Потому что в оперном искусстве не разбираюсь.
— Я уверен, что мне удастся вас переубедить! Вы можете исполнять мои арии! Вы сами не понимаете своего подлинного призвания! Моя опера создана именно для вас, это вы меня вдохновили!.
Он оставался в полиции два дня, до тех пор, пока я. не уехала из Монреаля.
Следующая встреча состоялась в Рио-де-Жанейро. Каждый раз, когда я попадаю в этот город, то совершаю паломничество туда, где высится Корковаду[32].
И вдруг я увидела его. Как он мог знать, что я приду сюда, хотя час тому назад я и сама этого не знала: просто освободилась в театре раньше, чем думала. Видимо, он следовал за мной по пятам. И тут я не на шутку испугалась. Взяла под руку тетю Ирен, и мы торопливо стали спускаться по ступенькам, пробираясь сквозь толпу верующих, чтобы уйти от погони.
Случается, несколько месяцев либо даже год или два я ничего не слышу о нем. И внезапно он вновь возникает на моем пути. Где он пропадал все это время? Может, в психиатрической больнице? Джонни навел справки: выяснилось, что этот человек — сын пастора из Швейцарии; приезжая в Париж, он находит приют у какой-то графини, она живет в Нейи, недалеко от меня. Однажды я не выдержала и позвонила ей по телефону. Трубку взяла какая-то дама. Голос у нее был немолодой.
— Да, я все знаю, — грустно сказала она. — Но прошу вас, повидайте его, поговорите с ним!
— Мадам, я уже с ним говорила… И могу только повторить то, что уже сказала: я не могу и не хочу петь арии из его оперы!… Пора ему это понять.
— Я знаю… но вы тоже должны понять его. Ведь он только вами и живет. Среди ночи вскакивает и, впадая в транс, зовет вас.
Я не решилась спросить ее о характере их отношений. То была слишком деликатная тема. Но он мне мешал жить. Все так же неожиданно появлялся на моем пути. Особенно я была травмирована во время Международного фестиваля песни во Франкфурте, когда он в приступе безумия ворвался в нашу гостиницу. Он кричал, что убьет Джонни Старка! Служители гостиницы препроводили его в полицию в очередной раз. Оружия при нем не было.
Довольно долго о нем не было ни слуху ни духу Но в один прекрасный день он снова объявился. Это случилось в 1986 году в Пекине, когда я гастролировала в Китае. Какой-то человек проник за кулисы, куда посторонним входить не разрешалось. Это опять был он! Какая-то фантасмагория, да и только! С помощью переводчика я объяснила, что не желаю видеть этого субъекта, который меня нагло преследует. Представители службы порядка выставили его из театра. С тех пор я его больше не видела, но постоянно жду, что вот-вот где-нибудь появится этот помешанный с лихорадочно возбужденным лицом, и я снова почувствую его пристальный взгляд, устремленный на меня сквозь черные очки.
Меня уже 20 лет преследуют такого рода безумцы.
Я хорошо помню, что незадолго до автомобильной аварии меня приводили в ужас какие-то люди, подстерегавшие меня в коридорах дома, где я поселилась. Кто они были: сумасшедшие или фанатичные поклонники? Это даже побудило меня переехать в другой дом: в прежнем было столько темных углов и закоулков. Однажды я пригласила своих сестер Матиту и Режану провести отпуск в Париже. Неожиданно из Авиньона позвонил отец. Он получил записку, где было сказано, что если он не положит ночью в таком-то часу и в таком-то месте на берегу Роны 15 000 000 франков, то обеих его дочерей похитят в столице. Бедный папа! У него не было 15 000 000. И откуда они могли бы у него взяться! Многие заказчики забывали с ним расплатиться или добивались скидки, говоря: «Зачем вам вообще нужны деньги, у вас ведь дочь миллиардерша!» В указанный час полиция устроила засаду Папа отправился в назначенное место. Там никого не было. Должно быть, злые шутники в это время немало потешались.
В другой раз кто-то позвонил ему по телефону и сообщил, что с другой моей сестрой — Мари-Франс — произошел несчастный случай. Нетрудно понять, как папа переволновался. На самом же деле она была цела и невредима.
Подобные выходки, отравлявшие жизнь моей семье, лишали меня покоя. Я начала дурно спать. Несмотря на все доводы тети Ирен и Джонни, я испытывала страх. Я от него практически так и не избавилась. Временами я о нем забываю, но затем возникают новые угрозы, новые попытки шантажа, новые шутки дурного тона, и мной опять овладевает страх.
В 1971 году в мастерской отца трижды выбивали стекла и опустошали его конторку. Мне это казалось и кажется несправедливым. Уж лучше бы донимали меня.
Помимо «свихнувшихся» попадались мне и просто мошенники.
Однажды, возвращаясь домой, я нашла возле двери какой-то странный сверток. Я тотчас же обратилась к привратнику. По его словам, ко мне приходил какой-то мужчина и, не застав никого дома, оставил этот сверток на половике у моего порога. Сперва все это показалось мне забавным, но, вспомнив о письмах с угрозами взорвать мою квартиру, я в очередной раз обратилась в полицию! Сверток развязали и обнаружили в нем какое-то непонятное устройство, в приложенном листке пояснялось, что это «сверхгенератор». Изобретатель утверждал, что с помощью этого пробного образца можно получать горючее из какой-то простейшей смеси, большую часть которой составляет вода. История эта имела продолжение: в один прекрасный день ко мне обратился некий адвокат. По его сведениям, я вложила два с половиной миллиона франков в создание этого прибора. И он предъявил обязательства, якобы подписанные мной. Я сразу же обнаружила, что моя подпись подделана. «Изобретатель» воспользовался моим именем как приманкой для доверчивых простаков. Больше того: чтобы подтвердить связывающую нас дружбу, он умудрился сфотографировать меня, когда я обнимала какую-то девочку после окончания концерта (дети часто поднимаются на сцену и вручают артистам цветы); он утверждал, что это его дочь по имени Мирей… а я — ее крестная мать! Мне пришлось подать на него в суд по обвинению в подлоге. Уголовное дело было прекращено, так как ответчика признали невменяемым.

С самых первых выступлений поклонники и друзья заваливали ее восторженными телеграммами
Я опускаю другие подобные случаи.
Один крестьянин, которого я никогда не видела, пришел к моей маме. При взгляде на его ручищи она испугалась и мысленно назвала его душителем. Он объявил ей, что мы с ним решили пожениться и назвал не только день, но даже час будущей свадьбы. Он много раз писал в контору Старка, требуя, чтобы были разосланы приглашения на «нашу» свадьбу, и, так как ему, конечно, не отвечали, однажды он сам появился на пороге:
— Вы… вы не умеете себя вести! Вот когда я женюсь на Мирей, вы не то запоете!
По его письмам можно было понять, что он не в своем уме.
В потоке получаемой нами почты встречались душераздирающие послания. Одно из них так потрясло всех, что решили показать его мне: какая-то женщина писала, что у ее ребеночка обнаружили опухоль мозга и ему предстоит операция; до этого она хотела бы совершить паломничество в Лурд, но у нее нет для этого средств. Джонни согласился, что следует помочь этой несчастной женщине: дать ей денег на поездку, а если понадобится, то и на жизнь. Однако он все же решил предварительно навести справки. Оказалось, что никакой опухоли не было, да и ребенка не было. Особа эта сидела без работы, изредка перебиваясь поденщиной, и решила таким способом поправить свои дела.
К счастью, приходили письма и от истинных почитателей моего таланта. Некоторые из них стали впоследствии моими друзьями. Однажды компания «Эр Франс» пригласила меня поехать в Бразилию для участия в конкурсе, который она проводила в память о Мольере; там я познакомилась с одним из служащих этой компании, который покупал все мои пластинки и знал наизусть многие песни из моего репертуара. По роду службы он часто бывал в разъездах и нередко встречал меня на Рождество или под Новый год в разных концах света. Он даже прилетал в Китай, чтобы повидать меня.
Моя молоденькая почитательница из Германии, по имени Карин, стала моим секретарем и теперь, в Париже, ведает моей корреспонденцией на немецком языке. Другая немка — Гизела (кстати, она удочерила маленькую кореянку) — старается не пропускать мои сольные концерты во Франции. Еще одна немка — Вини, приезжая в Париж, останавливается у меня. Она прекрасно владеет тремя языками; мне хочется, чтобы она жила у меня подольше, потому что, беседуя с ней, я делаю успехи в английском и немецком языках. Можно было бы упомянуть еще Сильветгу, Эдди, Жан-Мишеля… Свои отпуска они проводят, сопровождая меня во время летних гастролей. Их дружеская привязанность трогает. Кроме того, они хорошие судьи, и я часто исполняю им свои новые песни, прежде чем вынести их на суд публики.
Не могу не сказать о молодом моряке с корабля «Жанна дАрк». Проводя свой отпуск в Париже, он обычно приходил в нашу контору, чтобы получить мой автограф на пластинках. Мама радушно приняла его в Авиньоне, когда он приехал туда, воспользовавшись увольнительной. Он очень любит свой корабль и сожалеет, что я на нем ни разу не побывала. В самом деле, я выступала на кораблях «Клемансо» и «Фош» (с дебютантом Мишелем Сарду), но посетить «Жанну дАрк» мне так и не довелось.
Все эти почитатели моего таланта, а также те, о которых я не упоминаю только за отсутствием места, — люди очень славные; их теплое отношение помогает мне забывать о помешанных, которых я боюсь.
Существует также длинный (мне он кажется нескончаемым) список тех, кого молва называет претендентами на мою руку.
Список этот был начат сразу же после моего первого успеха в Париже. Один молодой авиньонец объявил себя моим «суженым», его примеру последовал второй, затем третий… Между тем, многочасовой труд на фабрике и строгость, в которой отец воспитывал своих дочерей (особенно меня, старшую), исключали даже помыслы о каких-либо интрижках, которые меня, надо сказать, никогда не занимали и не привлекали. Потом пошли разговоры о том, что во время гастролей Мирей обнималась с каким-то танцором или музыкантом. В оправдание журналистов можно заметить, что нас, артистов, нередко фотографируют, когда мы впадаем в эйфорию. Так бывает перед началом или во время концерта, когда мы верим в успех. Бывает это и после выступления, когда все вместе переживаем свою победу или поражение и в наших взглядах отражается связующая нас духовная близость.
Мы, артисты, отличаемся от других людей. Мы не похожи на тех, кто у себя на службе проявляет известную сдержанность. Мы каждый раз переживаем все, что с нами происходит, с непонятной для постороннего наблюдателя фамильярностью, хотя порой не встречаемся друг с другом по нескольку лет. Мы будто созданы для мимолетных встреч, разлук и новых встреч. Вот почему мы и обнимаемся так пылко. но это отнюдь не всегда ведет к постели: только ad libitum![33]
Что до меня, то я вступила в мир песни, как вступают в монастырь. Правда, светский и позолоченный, но все же монастырь. И владела мной истовая вера. И отчаянная надежда провинциальной девочки на манящий успех. А повзрослев (разумеется, относительно), я осознала, что долгожданное чудо свершилось, и я должна делать все, чтобы оно не исчезло.
Дело не в том только, что я была бедна, а стала богатой.
Жизнь всей семьи Матье должна была измениться. Я всегда считала и до сих пор считаю, что сама судьба предначертала мой путь, и иного пути у меня быть не может. Разве скаковая лошадь, стремясь к далекому финишу, смотрит по сторонам?!
Чем дальше я продвигалась вперед, тем глубже постигала жизнь. Тем яснее мне становилось, сколь хрупка моя карьера: любой ложный шаг мог стать роковым. Мне помогли это понять — что совсем не просто, когда тебя провожают возгласами «браво», преподносят букеты цветов, хвалят и обнимают после концерта, — те, кто меня окружал и всегда живет в моем сердце: Старк, Кокатрикс, Шевалье, Тино Росси. Они ведь и сами прошли через такое испытание.
Между тем, журналистки — от начинающей до самой маститой (ко мне присылают главным образом женщин, полагая, что им скорее удастся «извлечь меня из раковины») — постоянно задают один и тот же вопрос: «А как насчет любви»?
Да, как поется в песне: «Жить невозможно без любви». Я, однако, обхожусь без любви.
Самой занятной в этом плане была моя встреча с Мени Грегуар, которая слывет знатоком по части сердечных дел. Женщины, которые слушают или читают ее высказывания, поверяют ей такие секреты, говоря о которых обычно краснеют. Вот как было дело со мной.
Она явилась ко мне летом 1969 года, когда я уже больше трех лет вела жизнь певицы. и по распространенному мнению уже должна была познать любовь. Итак, о любви. Мени начала разговор, как заправский специалист по психоанализу:
— Закройте глаза, я буду медленно произносить слова: Любовь. Свобода. Бегство. Успех. Нежность. Усталость. Одиночество. Ребенок. Отец. Достоинство. Семья. Мужество. Какие из этих слов вы запомнили?
— Отец. Любовь. Нежность. Мужество.
— А знакома ли вам любовь?
— Нет. Легкий флирт бывал, но настоящей любви не было. Ведь моя взрослая жизнь только начинается.
— А ведь вы поете о сильной страсти, которая сметает все преграды.
— Но это как в кинофильме. Актер играет убийцу, а в жизни он никого не убивал.
По-моему, яснее не скажешь. Однако она продолжает «допрос», добиваясь, почему я не назвала слово «одиночество».
— На сцене я себя чувствую в безопасности. Когда со мной публика, я не одинока.
— Представьте себе, что я прилетела с Марса. И спрашиваю: «Кто такая Мирей Матье?»
— Та, что поет… Как пекарь выпекает хлеб. Да, пекарь выпекает хлеб, но у него не спрашивают, спит ли он с кем-нибудь и с кем именно. Артиста же — тем самым выставляя его на всеобщее обозрение — спрашивают. А если он отказывается отвечать, подвергают допросу с пристрастием, без труда находят лжесвидетелей, как на неправом суде, предъявляют улики. фотографии! Фотоаппарат превращается в недреманное око! В ход идут даже снимки с незнакомыми людьми, потому что возле нас, артисток, вечно крутятся «очаровательные» незнакомцы. «Вы позволите (или попросту: „Ты позволишь?“), Мирей? На память!» А некто в это время щелкает фотоаппаратом. И потом я с изумлением обнаруживаю, что в Германии я слыву замужней дамой, а в Бразилии — матерью семейства.
Иногда всплывают уже не анонимные «претенденты».
Приехав в 1968 году в Лондон, я узнаю, что, оказывается, какой-то певец оставил свою профессию и стал учить меня английскому языку. А в Париже, когда я лежала в больнице после автомобильной аварии, со мной будто бы познакомился молодой американец и с тех пор мы с ним неразлучны.
Особенно «урожайным» на подобные выдумки стал 1969 год! Помимо принца Чарлза (о нем я уже упоминала) фигурировал некий господин: он каждый вечер присылал мне в гостиницу «Савой» охапку красных роз (розы мне действительно присылали!).
В 1970 или 1971 году я с интересом узнала, что веду двойную жизнь, крутя любовь с молодым врачом из очень хорошей семьи. Живет он в Лилле, и я коротаю с ним «часы досуга». Последнее выражение заставило меня расхохотаться. Примерно в это же время я принимала участие в торжественном открытии телевизионного центра в Мехико, и потому, как и следовало ожидать, появились слухи о моих любовных похождениях в этой стране. Фигурировали несколько персонажей — от безвестного студента до важного лица. Я никогда не скрывала своего возраста, и однажды некий доброхот посетовал, что я становлюсь старой девой. Мирей Матье — старая дева? Не может быть! Она, верно, уже давно пустилась во все тяжкие! Видимо, дело не обошлось без Майка Бранта. Недаром же он участвовал в моей передаче «Аист.» — красноречивый намек! Это произошло на празднестве в городе Кольмаре. И вдобавок.
В 1972 году госпожа Солей предсказала, что я встречу красивого иностранца. Их было предостаточно. В том году в городе Бразилия все мои музыканты были наряжены как футболисты. Это было сделано в честь Пеле, который стал потом одним из моих добрых друзей. Мы не раз фотографировались вместе с ним, даже в Париже! Разве это не доказательство?!
А Франсис Лей, с которым мы неразлучны с тех пор, как он написал песню «История любви», — не обо мне ли в ней говорится? А позднее он сочинил другую песню, «Все ныне изменилось под солнцем». И это неспроста! Кстати, отчего это я в этом году зачастила в Италию? В Италии полным-полно красивых молодых людей, и почти все они брюнеты, как и южане из моего окружения, как мексиканцы, как Пеле. Видать, брюнеты в моем вкусе!.
Слыша такие разговоры, я иногда смеялась, но порой выходила из себя.
Джонни и тетя Ирен успокаивали меня.
— Зачем ты обращаешь на это внимание? Пусть себе болтают, — говорили они.
— Почему они не обсуждают любовные похождения какой-нибудь другой певицы?
— Потому что она, «какая-нибудь другая», ни для кого не представляет интереса. Обо всех известных актрисах сплетничают. Ты ведь была в Голливуде. Подпиши ты контракт с Пастернаком, и тебе на следующий же день приписали бы роман с каким-либо красавцем из его «команды»; ты мигом стала бы невестой, потом замужней дамой или даже, чего доброго, брошенной женой. От молвы не уйдешь… Пусть себе болтают.
— Вам легко говорить. Людей-то потом не разубедишь. Кому какое дело, страдаю я по кому-нибудь или не страдаю?
— Людям нравится думать о тебе так, как им хочется, — говорила тетушка.
— Знаю, у всех у них комплексы. А я человек простой.
— И все же, болеть из-за этих пересудов не стоит.
Увы, я не замечала, что больна-то была она сама.
Еще несколько претендентов…
Когда я вернулась в Париж, мне позвонил Ив Мурузи.
Я знала Ива, как его знают все (я имею в виду — в кругу артистов): он никогда не расставался со своим микрофоном и слыл одним из самых блестящих журналистов французского радио. Он принес на радио новый стиль, раскованный, веселый, богатый информацией. До нашей первой встречи я страшилась одной мысли о предстоящем интервью, но прошло оно как нельзя лучше. В отличие от других журналистов он сразу расположил меня к себе. Я чувствовала, что мне не грозит ни ловушка, ни каверзный вопрос. Очевидно, ему нравился мой голос, он этого не скрывал и не старался объяснить «феномен Матье» бог весть какими ухищрениями, а утверждал, что этот феномен просто существует. ведь бывает же на свете хорошая погода или ненастье. Мы виделись с ним несколько раз. Он пригласил меня участвовать в его репортаже, который теперь передавался по телевидению.

Франсис Лей, с которым мы неразлучны с тех пор, написал песню «История любви», — не обо мне ли в ней говорится?
У него абсолютный музыкальный слух (в студенческие годы он даже дирижировал симфоническим оркестром!). Ив — страстный театрал, и даже сам может поставить спектакль, потому что у его удивительное чувство сцены. Его собственная жизнь — цепь неожиданностей. В раннем детстве он, остался круглым сиротой: его родители погибли в автомобильной катастрофе. И журналистом он стал в результате… землетрясения! Он проводил отпуск в Пиренеях, и вдруг земля стала уходить у него из-под ног; не мешкая, он бросился к телефону, чтобы сообщить французскому радио о катастрофе. и был приглашен туда на работу.
Ежеминутно я узнаю от него что-либо новое для себя. Он наделен редкостной памятью, настоящим хранилищем событий и лиц, изречений и курьезных историй. Я всегда восхищалась тем, как легко и непринужденно он беседует и с государственным деятелем, и с подметальщиком улиц. Его старались уколоть еще чаще, чем меня, и я нередко говорила себе: хорошо бы и мне быть столь же неуязвимой, как он.
— На всякий чих не наздравствуешься! — любит он повторять. — Твоя жизнь принадлежит только тебе и никому другому. Живи, как считаешь нужным.
Мне, конечно, не хватало его уверенности в себе. Но постоянно находясь в его обществе, я мало-помалу обретала силы бороться с терзавшей меня тоской. Потрясение после смерти тетушки привело к тому, что косноязычие мое усилилось… в обществе Ива я запиналась гораздо меньше. Быть может, потому, что мало говорила, а больше слушала.
Разумеется, наша тесная дружба не осталась незамеченной: ведь мы появлялись вместе на различных приемах, на театральных премьерах, на просмотрах кинофильмов. словом, на людях. И у меня появился еще один «жених». Разговоры на этот счет нас забавляли и к тому же ограждали от назойливых претендентов на мою руку.
Нас всюду встречали вдвоем. Тьерри Ле Люрон даже написал по этому поводу скетч. Сочинители песенок последовали его примеру (а возможно, и опередили, уж не знаю точно). И мы сами стали подыгрывать им, изображая семейную чету.
— Какое платье ты наденешь вечером, когда пойдем в театр на премьеру?.
— Почему ты спрашиваешь?
— Черт побери, должен же я знать, какой выбрать галстук!
Подобные сценки были рассчитаны на публику. Но я твердо знала, что, если мной овладеет хандра, я могу позвонить Иву в любой час. И он подбадривал меня:
— Голос у тебя не пропал? Вот и отлично! А то ты меня напугала! На все остальное — наплевать!
Однажды он мне сказал:
— У меня есть для тебя хорошая новость. Будешь петь в Большом театре.
Я уже привыкла к его шуточкам и пропустила эти слова мимо ушей.
И напрасно: Ив сказал правду. Когда имеешь дело с ним, не следует ничему удивляться.
По его инициативе французское телевидение решило провести Франко-советскую неделю. В ее программу входило интервью с Брежневым, предусматривалось посещение городка космонавтов, кабинета Гагарина (там находятся часы, остановленные в минуту его гибели), куда непременно приходят те, кто отправляется в космический полет. Была намечена и встреча со спортсменами, которые готовились принять участие в Олимпийских играх. А закончиться должна была эта неделя, по замыслу Ива, концертом в Большом театре с участием балетной школы, известных певцов и танцоров, а также Ансамбля песни и пляски Советской Армии. И впервые на этой величественной сцене выступит артистка французской эстрады (двойная премьера!). Я спросила у Мурузи, не хватил ли он через край.
— Отнюдь! Разве ты хуже оперной хористки?!
Мы приехали накануне концерта, и меня в тот же день записали на советском телевидении для трех передач. Во время моего выступления в нашем оркестре недоставало двух музыкантов: присланный за ними небольшой автобус оказался слишком тесным для 14 человек с музыкальными инструментами, и эти двое предпочли отправиться пешком, надеясь самостоятельно найти дорогу в Большой театр. Между тем пошел снег, и они заблудились! В это время Ив, сидевший на 20-м этаже гостиницы «Интурист» в своем двухкомнатном номере, предназначенном для связи, выходил из себя: связь быта потеряна (вышел из строя радиолокатор).
Как всегда, выступление в новой обстановке таит в себе нечто чудесное. Однажды я призналась, что с удовольствием спела бы на сцене Большого театра. И теперь, очутившись там, испытала подлинное потрясение: громадный зал, огромные хрустальные люстры, отзывчивая публика, хор из 200 человек, занятый в сцене коронования из оперы «Борис Годунов», оркестровая яма, с трудом вмещающая множество музыкантов. от всего этого у меня дух захватило.
В моем репертуаре были две песни, уже знакомые советским слушателям: «Жизнь в розовом свете» и «Марсельеза».
— Не волнуйся! Если ты даже запнешься, зрители тебе подскажут слова! — пошутил Ив.
Этого не потребовалось, но зато они сделали мне замечательный подарок: вместо цветов на сцену принесли большого плюшевого медвежонка, ростом почти с меня. Это было весьма кстати. Уткнувшись лицом в его мех, я незаметно вытерла потекший по щекам грим (сказалось волнение).
Думаю, я одной из первых узнала, что Ив влюбился. Увидев Веронику, я сразу поняла, что она воплощает его идеал женщины: она, как и он, занималась спортом — ездила верхом, на мотоцикле, водила машину; как и он, любила скорость (в отличие от меня!), внимательно следила за модой, интересовалась всем и не боялась ничего на свете. Полная мне противоположность. Вероятно, потому я ее так люблю. Я тут же заявила, что буду крестной матерью их первого ребенка. В положенный срок на свет появилась малышка Софи. Об их свадьбе писали в газетах, но обряд крещения проходил в узком кругу. Церковь святого Роха охраняли, не было сделано ни одной фотографии. Впервые Ив и я не фигурировали на одном снимке! Остановившись с восковой свечой в руках возле моей крестницы — эта на диво прелестная крошка таращила глазенки с таким видом, будто понимала смысл происходящей церемонии, — я спела для группы собравшихся близких друзей без музыкального сопровождения «Ave Maria». Думаю, я еще никогда не исполняла эту молитву с таким вдохновением.
После женитьбы Ива появилось еще несколько «претендентов». Полагаю, что единственным среди них, кто мог — и не без причины — устоять против чар, которые мне приписывают, был… аббат Галли, священник из Санари. Я познакомилась с ним давно, во время летних гастролей. Кто-то меня спросил тогда:
— Неужели вы не знаете аббата Галли? Он ведь снялся в фильме «Человек с „Испано“!»
В фильме участвовала Югетта Дюфло, чье имя мне тоже ничего не говорило; итак, Жоржа Галли я не знала, после нескольких весьма далеких от религии фильмов он неожиданно принял духовный сан. Поэтому у меня осталось лишь воспоминание об уже немолодом священнике с очень кротким, смиренным лицом. Я попросила у него благословения.
После смерти моей дорогой тетушки, которая постоянно воскресала в моем сознании, парижские вечера, проведенные в обществе Ива, не смогли полностью исцелить меня. Мне теперь хотелось петь, но не в передачах столичного телевидения, в которых мне то и дело предлагали принять участие, а где-нибудь далеко-далеко от Парижа. В апреле компания «Эр Франс» открывала новую авиалинию, Париж — Кайенна — Манаус — Лима. По этому случаю должен был состояться большой гала-концерт в знаменитом оперном театре города Манаус. Мы вылетели туда. Меня сопровождала Венсане.
Стоявшая в тех краях жара не слишком бодрила и не прибавляла сил; когда мы вышли из самолета в Кайенне, там было 35 градусов по Цельсию. В аэропорту было полно солдат Иностранного легиона, я раздала столько автографов, что трудно представить!
Манаус. Город-призрак. Город-мираж. И здесь, в самом сердце Амазонии, находится оперный театр — уменьшенная копия Парижской оперы. Там мне и предстояло петь в зале, где оживала в памяти роскошь былых времен: женщины были в вечерних туалетах, мужчины — в белых костюмах. Я вспомнила о тех временах, когда Сара Бернар выступала тут перед зрителями во фраках.
Я одеваюсь в ее бывшей артистической уборной. Изысканный стиль конца прошлого века, зеркало в резной раме. На сцене — красный занавес; когда он поднимается, взору предстают позолоченные кариатиды и кресла, обтянутые уже слегка потертым бархатом. И никаких кондиционеров. Здание старой постройки. Жарко, как в бане, температура — 45 градусов. Как говорят в наших краях, «по мне струится вода»! Мне легче, чем другим, я в открытом платье. Но бедные мои музыканты в полном изнеможении, и в антракте Джонни им говорит:
— Ладно! Хоть это и гала-концерт, сбросьте пиджаки!
Здание нашей гостиницы даже не наводит на мысль об архитектуре будущего века. И это мне по душе. Ему присуще невыразимое очарование «колониального» стиля начала нашего столетия: окаймленные витым узором балюстрады, веранды прихотливых очертаний… Мы живем в одной комнате с Венсане. Среди ночи я бужу ее, услышав странный шорох — похоже, будто по потолку бегают какие-то твари. В смежной комнате спит Джонни, Венсане бежит туда и торопливо будит отца; он входит в наш номер и зажигает свет: в самом деле, над нашими головами бегают саламандры, выходит, не зря я пряталась под простыней!
На следующий день представитель местных властей приглашает нас совершить прогулку на пароходе. Подобного колесного парохода я не видела ни разу в жизни — такие встречаются только в старых фильмах. Мы покидаем порт и плывем по течению реки, которая прячется среди джунглей; нас покоряет музыка леса: пение невиданных птиц и голоса неведомых зверей. Сочетание красоты и уродства. Блестящее, необычайное, великолепное оперение птиц и отталкивающий вид игуан, аллигаторов, броненосцев. От этого пестрого зрелища нас отрывает радушный хозяин, он приглашает позавтракать в роскошно отделанной в стиле прошлого века кают-компании. Оказывается, он взял с собой на судно уйму собственных поваров, чтобы достойно обслужить нас как важных персон.
— Хорошо бы, — шепчет мне Джонни, — если б можно было заодно съесть и рой этих назойливых москитов!
В этой католической стране полно всяких суеверий. И уж кому-кому, а мне это понятно! (Недаром же я ношу рядом со своим заветным крестиком и «кукиш» — сжатый кулачок, причем большой палец просунут между указательным и средним: по поверью, этот талисман хранит от беды.)
В городе на любом перекрестке, чуть ли не на каждом шагу, можно встретить алтарь под открытым небом или нишу со статуей святого. И мое первое побуждение — поставить там свечу. И потому в одной из газет я увидела свою фотографию с такой подписью: «Она молится за здравие своего жениха.» Одним претендентом больше. Надо сказать, что среди всех журналистов мира первое место по находчивости, дерзости и изобретательности, на мой взгляд, занимают римские репортеры.
В том же году, когда я побывала в Манаусе, где стояла удушающая жара, меня после поездки в Бразилию ожидало знойное лето в Италии. Я должна была там записать для Эннио Морриконе песню для телесериала «Моисей». Было также решено, что мы подготовим альбом лучших песен на его музыку из кинофильмов.
Мне всегда нравилось исполнять песни из кинофильмов: они так богаты образами. Последнюю из них я спела всего полгода назад — это песня из фильма Гранье-Дефера «Поезд».
Я несколько раз смотрела эпизоды из этой кинокартины, чтобы проникнуться тем волнением, с каким играют в ней Роми Шнайдер и Трентиньян. Эдди Марией написал слова на очень красивую музыку Филиппа Сарда:
Сказали мне:
«Ваш возраст все заметней,
Весна сорокалетней
Так на зиму походит!»
И все же,
Хоть луны на небе нет,
С милым встречусь — вспыхнет свет,
И счастье к нам приходит.
С Эннио Морриконе мы записали песни не только на музыку из широко известных фильмов «Однажды на Дальнем Западе» и «Однажды произошла революция» режиссера Серджо Леоне, но также на музыку из фильмов «Халиффа», «От любви умирают», «На заре пятого дня»… Слова для марша из фильма «Сакко и Ванцетти» были написаны Мустаки:
О вас мы память в сердце сохраним.
В час смерти были вы одни,
Но смерть поправ, вы — с нами.
Для фильма «Романс» Пьер Деланоэ написал слова к удивительно романтической музыке:
Мелодия. расскажет обо всем, что я таю:
Я о любви к тебе пою.
Ты слышишь песню нежную мою?.
Мощная, хорошо оркестрованная музыка Эннио подчеркивала простоту взволнованных слов. Такова, например, песня из фильма «Однажды на дальнем Западе».

В репертуаре Мирей Матье была и песня из фильма «Поезд» с неподражаемыми Роми Шнайдер и Жаном-Луи Трентиньяном
Мне всегда нравилось исполнять песни из кинофильмов
Когда уходит солнца луч за окоём,
Воспоминанье душу мне терзает…
А вечером, едва приходит тьма в наш дом,
Мне так твоих объятий не хватает!
Но ты еще придешь.
Знай: без тебя цветы не расцветают,
И вспомни обо мне.
А вот слова, написанные для мелодии со сложной тесситурой, где низкие звуки чередуются с высокими:
Всего один случайный взгляд
Тобой был брошен, будто наугад,
И в тот же миг я поняла,
Что сразу, словно чудом, обрела
И солнца свет, и синий небосвод, —
И это все живет
В слепящем блеске глаз твоих.
Партитуры были сложные. Потребовалась огромная работа, она заняла июль и август. Записывали меня через день, и происходило это в заброшенной часовне, которую Эннио приспособил под студию. Поразительная студия с великолепной акустикой!
— Такая акустика бывает только в часовне! — утверждал он.
В свободный от записи день я готовилась к ней, работая над двумя текстами — французским и итальянским. Джонни, следуя своему уже не раз испытанному правилу, снял для меня загородный дом в 35 километрах от Рима. В такой сказочной обстановке я еще ни разу не жила! Дом принадлежал одному из магнатов итальянской прессы и был известен тем, что тут нередко снимали фильмы. Здесь все к этому располагало: необычайно красивая вилла, обширный парк, бассейн, куда поступала вода из насыщенного газом источника, — погружаешься в него, будто в ванну с минеральной водой! Мне казалось, что крошечные пузырьки удерживают меня на поверхности. Только в этот бассейн я отваживалась входить без спасательного круга!
Стояла сильная жара, но в доме, облицованном мрамором, было прохладно. Я жила в комнате, которую занимала Лиз Тейлор, когда снимался фильм с ее участием. В таких условиях можно было работать быстро и хорошо. На вилле проживали также учитель итальянского языка, шофер, двое слуг и замечательная повариха Пим-Пам-Пум. Я прозвала ее так потому, что эта дородная женщина всегда шумно топала. Ее большая голова казалась еще больше, потому что у нее были, хотя и короткие, но очень густые курчавые волосы. Своими похожими на колбаски пальцами она удивительно ловко управлялась со свежими пирогами. Чудо-пироги! Я готова поверить, что Джонни специально приезжал из Парижа, чтобы их отведать. Не меньшим гурманом, чем дядя Джо, был Серджо Леоне. Этот близкий друг Эннио живо интересовался тем, как подвигается запись. Он был явно зачарован нашей работой.
Между Эннио и мной царило полное согласие.
— Как странно, — говорил он, — я не раз слышал по радио твои выступления, видел твои фотографии и полагал, что хорошо тебя знаю. Думал, что красивое личико и прекрасный голос — это все, чем ты обладаешь; когда же мы начали записывать в нашей студии пластинку, я обнаружил, Что ты способна на гораздо большее, чем я рассчитывал! Я очень удивлен. Ты преодолеваешь трудности, с которыми нелегко справиться человеку без музыкального образования. Тебе удается исполнять даже те мелодии, которые предназначались для музыкальных инструментов. Повторяю, я удивлен и благодарен тебе за то безграничное доверие, с каким ты следуешь моим указаниям. За твою решимость. За твою страстную и глубоко человечную любовь к музыке. За ту простодушию веру, с которой ты относишься к моему творчеству. И все это происходит потому, что ты и сама уверена: тот, кто сидит в стеклянной кабине посреди студии, внимательно слушает и испытывает к тебе величайшую признательность.
Я так хорошо помню слова Эннио, потому что он их мне написал.
Я действительно люблю его музыку, которая изумительно гармонирует с образами и помогает исполнителю донести их до слушателя. Ценю его тонкое чувство мелодии, его лиризм… Яне замечала, как летит время.
По правде сказать, я теперь совсем иначе отношусь к записи пластинок, чем прежде. В начале моей артистической карьеры мне нравилось петь только на сцене; но мало-помалу я почувствовала вкус к звукозаписи: работа в хорошо оборудованной студии позволяет достичь более совершенного звучания. Здесь песню шлифуешь. Гранишь ее, как драгоценный камень. К счастью, человеческий голос не машина! Он зависит от твоего настроения, певцу необходимо добиться душевного равновесия. Порой лучше всего удаются первые пробы, потому что в них больше импровизации, а порой бывает и наоборот. Внезапно замечаешь в своем исполнении нечто «лишнее», и не сразу удается понять, что именно. Так же трудно понять, почему вдруг распускается цветок, и распускается именно так. Но разве цветок задается подобными вопросами? Тобой владеют разноречивые чувства. Раньше я плакала, когда запись песни не получалась. Теперь я плачу, когда песня, которую записываю, меня волнует. И это тоже «лишнее». Но хуже всего, когда запись не ладится, когда у меня не возникает нужного контакта с оркестром. Случается, я записываю песни, пластинку прослушивают и отвергают: ей так и не суждено увидеть свет. Конечно, я испытываю при этом разочарование, потому что эти песни мне нравились, только такие я и пою. Иногда Джонни мне говорит: «Попробуй все-таки исполнить эту песню, Мирей». И я повторяю про себя: «Попробуй, Мирей. Быть может, ты и ошиблась». Я вовсе не так упряма, как утверждают. Ведь над песней трудится целая «команда», и я прислушиваюсь к тем, кто вместе со мной работает.
Если запись никак не идет, мы ее прекращаем: утро вечера мудренее. Назавтра снова попробуем.
Назавтра я вновь в студии, за стеклянной перегородкой. И знаю, что в кабине сидит Джонни, который всегда стремится к совершенству. Обычно я прошу погасить верхний свет, освещают только меня. Мне нужна такая обстановка, я тогда чувствую себя изолированной, как на сцене.
Я знала, что Эннио столь же требователен, как Джонни. Когда я приходила в часовню, он уже сидел за пианино или письменным столом — сочинял либо записывал музыку. Какие это были счастливые дни! Я и думать забыла о строгом соблюдении режима: попробуй соблюдать диету, когда Пим-Пам-Пум каждый день готовит новые паштеты и печет новые пироги! А ко всему еще Серджо Леоне несколько раз увозил нас в конце недели в Рим. Мы приезжали в его излюбленный кабачок, один из тех, где обедают на свежем воздухе в беседке, увитой виноградом; до сих пор вспоминаю эти шумные веселые застолья, в которых принимали участие знакомые артисты. На них царила праздничная атмосфера и, разумеется, я пела, мы все пели за десертом. Серджо настаивал, чтобы я непременно усаживалась в его «Роллс-Ройс», снабженный кондиционером. Это была чудесная машина, но в ней приходилось надевать пуловер! Эннио бурно протестовал. И я усаживалась в «Мерседес», который нанял для меня Джонни. Он строго-настрого запретил шоферу включать кондиционер. Серджо не обижался на меня. Он даже решил сопроводить мою пластинку пояснительным текстом, украсив его своей размашистой подписью: «Прелестная женщина может очаровать сразу несколько мужчин, певица с неповторимым голосом может принести счастье тысячам людей. Скажу без колебаний: Мирей сделала меня счастливым».
Вполне понятно, что моя дружба с одним из самых известных композиторов и с одним из самых знаменитых режиссеров привлекла к себе внимание падких на сенсации газет.
Джонни снял этот загородный дом для того, чтобы я могла укрыться в нем от любопытных и спокойно работать. Обычно я заучивала тексты песен, записанных на магнитофон, устроившись с наушниками на голове в шезлонге, стоявшем в парке; при этом, чтобы спастись от солнечных лучей, я (по примеру туарегов) опускала на лицо платок из голубой кисеи.
Однажды нам пришлось прогнать какого-то репортера: взобравшись на ограду парка, он с помощью телеобъектива фотографировал меня, когда я купалась в бассейне… в том самом бассейне, где в свое время купалась Лиз Тейлор!
Несколько дней спустя я так сосредоточенно заучивала песню, что не придала особого значения гулу вертолета. Надин, которая всегда заменяет мне глаза и уши, всполошилась:
— Откуда взялся этот вертолет и что он тут делает?
Мы довольно скоро это узнали, развернув какую-то газету. Она сообщала и вправду сенсационную новость. Взглянув на заголовок и подпись под фотоснимком, я узнала, что прячусь на роскошной вилле, так как скрываю постигшую меня ужасную беду: растянувшись в шезлонге, я оберегаю лицо от дневного света, потому что мне грозит. СЛЕПОТА!
Иногда мной овладевает хандра. Нет, не ужасная, не беспросветная. Такого со мной не бывает, для этого я слишком здоровый человек. Это, скорее, назойливая тоска, она рождает желание куда-то уйти, уехать.
Ее первый признак: я не могу усидеть на месте. Как-то жила в Мюнхене; город этот я очень люблю, и обычно я там весела. Однажды туда приехали навестить меня Кристиана и Матита. Не успели мы усесться за столик в соседнем ресторане, как я тут же поднялась со стула.
— Какая муха тебя укусила? — спросила Матита.
— Я ухожу.
— Ты заболела?
— Нет. Но я возвращаюсь к себе.
Странное ощущение: мне как будто не хватает воздуха. Хочется вдохнуть его всей грудью, но только не там, где я нахожусь. Хуже всего, когда такое накатывает на меня в студии.
Еще пример: мне нужно было за четыре дня записать новую программу и выступить с ней перед публикой. Репетиции проходили трудно.
— Что с тобой? — спрашивал меня Джонни.
— Ничего.
— Что значит «ничего»? Ты больна?
— Нет. То есть, да. мне нездоровится. Я хочу уехать.
— Но, послушай, Мирей. это невозможно. ведь соберется публика.
В самом деле, я не могу себе этого позволить. Публика. В зале будет всего человек сто. Но сто человек или даже меньше, все равно — это ПУБЛИКА, и она для меня священна. Эти четыре дня были каким-то кошмаром! Наконец все осталось позади.
Затем предстояло записать пластинку на немецком языке. Джонни решил, что перед тем мне полезно будет немного подышать горным воздухом. Ведь после смерти тети Ирен — а она скончалась три с половиной года тому назад — у меня не было ни дня передышки: я все время колесила по свету. Я сама так хотела. Перемена мест не спасает от горя: усопшие путешествуют вместе с тобой. Но гастроли заставляют тебя работать.
— Пожалуй, мы переусердствовали… — говорил иногда Джонни.
Мы объехали чуть ли не весь земной шар: снова побывали в Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, были в Бейруте, Мадриде, Мехико.
Верный своему решению, Джонни поселил меня вместе с сестрами, Надин и учительницей немецкого языка в отеле «Шпитцингзее», в 60 километрах от Мюнхена, а сам вернулся в Париж, надеясь, что мы пробудем недели три в этом, как он считал, уютном гнездышке.
Это было поистине идиллическое местечко на берегу горного озера. Зимой здесь ходят на лыжах, катаются с гор на салазках и спортивных санях, к услугам отдыхающих кегельбан, каток, спортивные игры на льду. Летом — а мы были там как раз в конце июля — катаются на парусных лодках, на водных лыжах, ловят рыбу, любуясь синим небом, по которому бегут белые облачка, почти задевая верхушки темных сосен. Так бывает обычно. Но тогда — в 1977 году — лето выдалось отвратительное. Просто «Грозовой перевал»[34]. В горах завывал ветер. Плотные тучи обложили небо. День походил на сумерки, можно было разглядеть лишь силуэты сосен, озеро бушевало. Построенная в швейцарском стиле гостиница и та приобрела зловещий вид, украшавшие ее оленьи головы наводили тоску. А если у тебя еще кошки скребут на душе. Учительница была непреклонна: после завтрака — немецкий язык, после обеда — немецкий язык, гулять все равно погода не позволяла. Песни, над которыми я работала, были очень трудные, они были написаны на стихи Гете и Шиллера, а их поэзию особо веселой не назовешь. В то утро, о котором идет речь, Надин не спешила заказывать первый завтрак. Она хотела дать мне выспаться, а я все еще не высовывала носа из своей комнаты. Первый завтрак был для нас неким священнодействием. Он напоминал о семейных традициях. Заряжал всех хорошим настроением на целый день. Где бы мы ни находились, все дружно собирались за первым завтраком. Мне нестерпима мысль завтракать в постели одной, с глазу на глаз с подносом.
— Я ее не видела, она, должно быть, еще не проснулась, — сказала Матита.
Все уже проголодались, и Надин решилась заглянуть ко мне в номер. И в страхе отпрянула: моя кровать была пуста. Надин привязана ко мне, как сестра. Каждый, кто знает, до чего она впечатлительна, легко представит себе, какой переполох она подняла в гостинице. Наконец ей удалось установить, что я чуть ли не на заре вызвала такси и куда-то уехала.
В каком-нибудь американском фильме эта история могла бы показаться смешной. Но взбалмошной меня не назовешь. Вспоминаю, как однажды Жан Ко брал у меня интервью; по его словам, он задумал проверить, в самом ли деле я «марионетка Старка, которую тот из-за занавеса дергает за ниточки»!

— Бывают у вас приступы гнева, подвержены ли вы капризам? — спросил меня журналист.
— Нет, никогда.
— Почему?
— Потому что в семье нас было пятнадцать человек. Тут уж не до капризов.
Словом, Надин, понимая, что дело не в капризе, безумно встревожилась и кинулась звонить Джонни:
— Может, следует обшарить дно озера?
— Но ведь она уехала в такси! Лучше наведите справки в аэропорту! Таким образом Надин и напала на мой след. Она узнала, что я улетела в Париж. Джонни решил, что самое милое дело — перехватить меня при выходе из самолета в Руасси, и поручил это шоферу.
— Тут моя вина, — сказал он Надин. — Мы потребовали от нее нечеловеческих усилий.
— Я знала, что она вот-вот сорвется! — ответила Надин. — Еще когда она снималась на телевидении у этого бездушного режиссера!
Стремясь всячески защитить меня, она не раз ссорилась с этим человеком, и он в конце концов запретил ей появляться в студии!
— А сколько времени Мирей уже без отдыха! И тут еще эта учительница морочит ей голову! А в довершение всего — отвратительная погода… От нее от одной можно впасть в хандру! Вы себе это в полной мере не представляете, господин Старк!
В аэропорту я сразу же увидела знакомого шофера. Слава богу, Джонни там не было. Я попросила шофера получить мой багаж.
Бедняге пришлось тщетно его дожидаться. Никакого багажа у меня не было. Сама же я вскочила в такси и поехала на Лионский вокзал. В тот же вечер я была в Авиньоне. У своих.
Я еще не жила в новом доме моих родителей. Он был мне совсем незнаком. Я еще не сумерничала у камина, который соорудил мой отец. Я не видела, как рос Венсан.
Меня встретили как долгожданного гостя. Как встречают блудного сына. Я позвонила Джонни. Он не сомневался, что я нашла себе прибежище в Авиньоне. И был спокоен. Все уладится. Пластинку на немецком языке можно будет записать позднее. В одном он был твердо уверен: через две недели назначен гала-концерт, и он знал наверняка, что на встречу с публикой я непременно приду.
Следующим летом я снова вернулась в Мюнхен. На этот раз стояла солнечная погода. Особняк, где меня поселили, находился в богатом квартале. Однако большую часть дня мы проводили в «бункере»: позади дома, в подвале, Христиан Брун оборудовал одну из лучших в Германии студий звукозаписи. На погоду мы не обращали внимания, так как все время сидели с наушниками на голове, записывая пластинку.
— А теперь на очереди песня «Письмо из Стамбула», — объявил Джонни.
— Мне она не нравится!
— Поверь, Мими, это — прекрасная песня. Прослушай ее внимательно, а уж потом суди! Христиан написал чудесную музыку с восточным колоритом. В песне рассказывается о рабочем, который получил письмо из дому: дети скучают без него. Он отвечает, что заработает немного денег для семьи и тогда вернется в Стамбул. Песня должна тебе понравиться!
— Мне больше нравится песня «Santa Maria». Она проникнута христианским духом.
— Это совсем иное дело. Песню «Santa Maria» ты исполняла на многих языках. А песню «Письмо из Стамбула» будешь петь только в Германии.
— А потом и в Турции! Вы, пожалуй, захотите, чтобы я выучила еще и турецкий!
Все смеются. Это не исключено.
В семь вечера мы возвращаемся в дом. Кстати, здесь есть и крытый бассейн. Ведь в Мюнхене под открытым небом купаться можно далеко не всегда. К обеду мы не переодеваемся, садимся за стол в чем были. Нас приезжает проведать немецкий артист номер один — сорокалетний Петер Александер, он не только поет и танцует, но и исполняет драматические роли.
Я нередко выступала с ним в различных шоу. В последний раз мы виделись во Флориде: вместе снимались в «Дисней-уолд» для рождественского шоу.
— Ты тогда походила на школьницу приехавшую на каникулы!
— Ты тоже отнюдь не походил на старичка!
Какие последствия имело наше совместное путешествие по стране, где царили Микки Маус и Рождественские деды? Некоторые журналисты расписали его как свадебное путешествие Мирей и Петера.
Меня не раз «обручали» в Германии, как, впрочем, во Франции, Италии и Америке. Однажды я исполняла дуэтом с Полом Анкой песню о влюбленных, которых после короткой встречи жизнь надолго разлучает. Еженедельники тут же сделали свои выводы.
Большой радостью и честью стало для меня то, что Пол Айка не только сам оценил мое творчество, но и решил сделать его достоянием широкой публики в Соединенных Штатах. В своих студиях звукозаписи в Лос-Анджелесе с утра появлялся первым, а вечером уходил последним. Он обладает абсолютным слухом, предельно собран, и от его внимания ничто не ускользает. Как-то вечером мы с ним просматривали фильм «Самый длинный день»; в одном из эпизодов Пол снят в составе отряда из 235 солдат, которые штурмуют мыс Ок 6 июня 1944 года.
— Я дважды «отличился» тогда, — сказал он мне. — Во-первых, только я один получил увечье во время киносъемок: порезал руку об острый край скалы; а во-вторых, я сочинил песню для этого фильма![35]
Кроме того, Пол сочинил также и хватающую за душу песню к фильму «Исход» и еще уйму других; несколько из них, в том числе «Ты и я» («You and I»), «Париж в чем-то не прав» («Paris is something wrong»), мы записали на двух языках на пластинке-«гиганте». Работа длилась полгода. Мы отпраздновали появление пластинки в Париже, куда Пол часто приезжает, потому что его жена Анна — француженка.
Женившись на ней, он стал истинным ценителем французских вин. Когда в ресторане метрдотель предлагает ему отведать бордосского вина «О-Брион», он, в отличие от большинства американцев, может ответить:
— Согласен! Этот сорт — урожая 1978 года — удался на славу! Такое вино есть у меня в погребке!
Анна родила ему пять дочерей; как-то мы все вместе отдыхали две недели на его яхте. Мы с ним продолжали в это время заниматься английским — думаю, именно ему я обязана своими успехами в овладении этим языком. Младшей дочери Пола было тогда всего полтора года, а старшей — 11 лет. Айка — образцовый папаша, он даже получил в Калифорнии приз Общества примерных отцов; так что его, меньше чем кого-либо другого, можно заподозрить в любовной интрижке. Но ведь заподозрили! И с кем? С Мирей! Как говорится, дальше идти некуда. Но разве можно было записать пластинку «Ты и я», не глядя друг другу в глаза, не создавая впечатления, что веришь тому, о чем поешь, особенно когда вас снимает такой замечательный фотограф, как Норман Паркинсон? Он фотографировал саму английскую королеву!… С тех пор как мы знакомы, на конвертах моих пластинок не раз появлялась выполненная им моя фотография.
Пол сделал мне бесценный подарок: направил ко мне дирижера своего оркестра. Дон Коста был дирижером у Фрэнка Синатры и аккомпанировал выдающимся певицам — Барбре Стрейзанд и Лайзе Миннелли. Коста приехал в Париж, чтобы записать на пластинки песни, которые он сочинил для меня: «Танцуй, Франция», «У меня всего одна жизнь», «Осенняя симфония». Должна признаться, это он посоветовал мне попросить Лайзу и Барбру, чтобы они разрешили мне исполнять песни из их репертуара: «Влюбленная женщина» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк…».
Появление пластинки на английском языке мы отпраздновали в узком кругу в Лос-Анджелесе 22 сентября следующего года в ресторане «Эрмитаж». Заодно отмечался двадцатилетний юбилей деятельности Пола, а также мои первые шаги в «его королевстве пластинок». Два известных французских повара — Бокюз и Эберлен — составляли меню. Стол был накрыт на 26 персон. Среди гостей Пола были многие знаменитости американского шоу-бизнеса.
— Ну, как у тебя с головой? — спросил меня Джонни после трапезы.
— Все в порядке! — ответила я, думая, что он намекает на обилие разных вин на столе.
— Значит, она у тебя не кружится?
Я рассмеялась, поняв, что он спрашивает, не вскружил ли мне голову успех.
— Честное слово, нет!
— Если ты сейчас не зазналась, то с тобой этого уже не случится!
В газетах еще несколько раз намекали, будто Пол Анка неравнодушен к своей «красотке».
Некоторое время спустя я снова встретилась в Мюнхене с Хулио Иглесиасом. Он выступал там в Олимпийском зале. В конце его сольного концерта, который привел почитателей Хулио в исступленный восторг, на сцену хлынул ливень цветов. И вдруг артист громко сказал:
— Я вижу в первом ряду милую моему сердцу Мирей Матье и прошу ее спеть вместе со мной!
Он заставил меня подняться на сцену, и мы спели дуэтом три песни на испанском языке. Заранее мы к этому не готовились, но я хорошо помнила его песни, ибо есть у меня особое пристрастие: я знаю наизусть не только свои песни, но и песни тех, кто мне дорог, — Азнавура, Холлидея, Иглесиаса.
С Хулио мы подружились, когда он впервые выступал в Париже в 1975 году Мы встретились в одной из телевизионных студий и сразу же прониклись симпатией друг к другу Я тогда же выучила две его песни — «Мануэлу» и «Песню о Галисии». Когда Хулио где-нибудь далеко, он присылает мне короткие письма; они начинаются словами «Милая сестренка» и заканчиваются словами «До скорого свидания».
После Хулио у меня три года назад появился новый «жених» — Зигфрид, белокурый немецкий волшебник из Лас-Вегаса. Когда он приезжал вместе со своим партнером Роем на отдых в Европу, мы с ним виделись либо в Мюнхене, где я записывала пластинки, либо в Париже: им обоим нравилось вновь окунаться в атмосферу мюзик-холла «Лидо», где они выступали в начале своей артистической карьеры.
Мама простодушно поверила, что я, быть может, стану госпожой Зигфрид. Во всяком случае, такие разговоры пошли в Авиньоне.
— Алло, мама! Что это тебе вздумалось объявлять о моей свадьбе?! Откуда ты взяла такое!
— Послушай, Мими… Ко мне пришел какой-то журналист. Он показал мне фотографию, где ты снята рука об руку с Зигфридом, и спросил: «Стало быть, они скоро поженятся?» А я ответила, что это вполне возможно, так как ты посулила преподнести нам большой сюрприз на Рождество!
— Ты даже не понимаешь, мама, сколько шума наделали твои слова! Мы были на званом вечере у Пьера Кардена, я стояла между Зигфридом и Роем.
— Откуда нам знать! Зигфрид держал тебя под руку, как в наших краях держат суженую! У вас обоих был такой счастливый вид.
— Да мы и не чувствовали себя несчастными! Пора уже тебе знать, какие тут у нас обычаи!
Если бы мне пришлось выходить замуж за всех мужчин, которые держали меня под руку…
— Надеюсь, ты все же когда-нибудь найдешь время выйти за кого-либо замуж.
— Я тебе сообщу об этом первой.
— Так о каком же большом сюрпризе ты вела речь?
— Скажу тебе. когда наступит Рождество!
А то вдруг промелькнуло сообщение, будто я неравнодушна к Патрику Даффи, исполнявшему роль Бобби в сериале «Даллас». Слух этот был уж вовсе нелепым, потому что я встречала в Руасси Патрика, когда он прилетел туда вместе со своей женой Каролиной. Не в моих правилах «уводить» чужого мужа, да еще на глазах у его жены! С Бобби, виновата, с Патриком я познакомилась на премьере мюзик-холла «Мулен Руж» в Лас-Вегасе. Он сразу же мне признался, что очень любит петь. Сказано — сделано, и уже вскоре мы записали на пластинку песню «Вместе мы — сила», которую исполнили дуэтом. Он сказал, что охотно приехал бы во Францию. И я пригласила его принять участие в программе «Перед вами Мирей Матье», которую мы готовили с Карпантье. В ней обещали также выступить Иглесиас и Джон Денвер.
Я до сих пор не понимаю, как можно было распустить слух о нашем «романе» с Патриком, потому что рядом с ним всегда была Каролина! Она была очень рада, что снова попала в Париж. Она балерина и приезжала сюда несколько раз с Канадским балетом и балетной труппой «Харкнесс». Она водила Патрика на левый берег Сены, чтобы показать ему небольшую гостиницу, в которой когда-то жила «за пять долларов в сутки».
— Моя жена превосходно готовит, — сообщил мне Патрик. — Она прекрасно кормит наших рыбок и птиц, трех собак, кота и обоих наших мальчишек. Сказывается ее французская кровь. Мои родители — чистокровные ирландцы, потому меня и назвали Патриком — в честь святого покровителя нашей родины.

Я знаю наизусть не только свои песни, но и песни тех, кто мне дорог, — Азнавура, Холлидея, Иглесиаса…
Забавная подробность: Патрик не носит смокинга. Ему нравится расхаживать в джинсах. А когда надо появляться в обществе, он надевает смокинг Бобби, своего любимого персонажа! В нем он и пришел на обед, который я устроила в его честь в ресторане «Максим». Но уже через минуту Патрик снял галстук. Скрипачи оркестра замерли со смычками в руках: находиться в этом фешенебельном ресторане без галстука не принято. Чтобы «разрядить обстановку», все наши друзья — Ив Мурузи, отец и сын Клерико (владельцы «Мулен Руж» и «Лидо»), Жильбер Карпантье, режиссер Андре Флерерик — последовали примеру Патрика. Такого здесь еще никогда не видали! Не видали никогда и того, чтобы хозяйка званого обеда покинула своих гостей посреди трапезы. Дело в том, что застолье затянулось, а я, как Золушка в полночь, должна была исчезнуть, чтобы пойти лечь спать, заснув на свои десять часов: назавтра мне предстояло записывать пластинку. Если не высплюсь, голос совсем не будет звучать.
Заметив, что я потихоньку ухожу, Патрик спросил:
— Она что, спешит на концерт?
Ему объяснили, в чем дело. Он очень удивился, узнав, что я так строго соблюдаю режим.
Мой флирт с миром оперы
Как зритель я страстно люблю Мориса Бежара. Танец вообще и Бежара — в особенности. Я никогда не видела его спектакли во внутреннем дворе Папского дворца в Авиньоне, потому что в ту пору еще клеила конверты на фабрике. Однако я видела его по телевизору, затем в Париже во Дворце конгрессов — там-то я и воспылала к нему любовью. Вот почему, когда он в 1980 году пригласил меня участвовать в его музыкальном представлении «Большая шахматная доска», я просто онемела.
Он сказал мне: «Мне хотелось бы, чтобы вы спели в моем спектакле одну из песен Шуберта. Но я вас, должно быть, сильно удивлю, когда скажу, что петь вы будете в джинсах…»
Действительно, в такой одежде я бываю только на лоне природы. Я часто облачалась в самые экстравагантные костюмы в постановках Карпантье, но не представляла себе, что можно петь Шуберта в джинсах.
— Это вас смущает?
— Нисколько, раз вы об этом просите.
Я всегда стараюсь встать на точку зрения режиссера. А потому надела джинсы и начала ходить на все репетиции вместе с танцорами, не уставая восхищаться скромностью, терпением и выдержкой этих самозабвенных тружеников. Такой неустанный труд мне понятен, я не просто восторгаюсь — я преклоняюсь перед ним. В это время Бежар вынашивал замысел поставить на сцене (в Женеве) оперу «Дон Жуан», пригласив на главную роль Руджеро Раймонди, который не так давно сыграл ее в кино с потрясающей силой. Я несколько раз смотрела этот фильм, мне бесконечно нравились и сама опера, и певец.
А позднее одна моя близкая приятельница-журналистка — не удивляйтесь, и такое бывает! — рассказала мне, что она брала интервью у Раймонди.
— Угадай, что именно он распевает для собственного удовольствия, находясь в ванной комнате? Песни, которые поет Синатра! Руджеро очень хотел бы при случае побеседовать с тобой, потому что Синатра тебе хорошо знаком. Не съездить ли нам в Женеву на премьеру с участием Раймонди?
Со временем у меня всегда туго, и осуществить этот план было не так-то просто. Нам удалось побывать только на первой репетиции в костюмах.
— Будьте снисходительны, — сказал нам Бежар. — До премьеры целых десять дней, и мы еще поработаем.
Катя Риччарелли, исполнявшая партию Донны Анны, наступила на шлейф своего платья; пожарный ни на шаг не отставал от актера, державшего факел в руке, опасаясь, как бы тот не подпалил занавес. Но нашему взору уже представал впечатляющий спектакль о Дон Жуане. Артисты — в костюмах, изготовленных из тканей старинного образца, богато расшитых и украшенных драгоценными камешками; на вращающейся сцене возникают дома и улицы города давних времен, а затем смена декораций — и перед нами уже толпа туристов в черных очках, они тоже становятся очевидцами вечной истории о Дон Жуане.
После спектакля — ужин в узком кругу: директор оперного театра Юг Галль, Раймонди, Бежар и (какое чудо!) недоступная Жанина Рейс. У этой белокурой женщины страстный темперамент южанки; ей свойственна необыкновенная живость, само ее присутствие поднимает тонус у окружающих, она столь своеобразна, что даже не думаешь, красива она или нет.
Жанина — «владычица мира оперы». Ее всюду встречает восторженный шепот: «Она пестовала саму Марию Каллас!»
Да, она преподаватель пения, но не только: она репетирует с певцами, дает им ценные советы, шлифует их голос; она признанный авторитет в области вокального искусства. Оперные артисты боготворят Жанину, дорожат каждым часом работы с ней. Она ездит по всему свету, как и они: сопровождает то Терезу Берганца, когда та исполняет партию Кармен в театре «Ла Скала», то Пласидо Доминго, когда он поет Фауста в театре «Ковент-Гарден», то Руджеро Раймонди, исполняющего партию Бориса Годунова в Берлине…
Мне хорошо известна ее высокая репутация. Я всегда мечтала ее встретить, и, видимо, так истово, что мечта моя сбылась. Как бывает почти всегда, этому помогло непредвиденное стечение обстоятельств!
Мы с Раймонди встретились впервые.
— Но наши фотографии уже встречались, — пошутил он. — Они висят рядом в столовой театра.
Я и в самом деле выступала там с тремя сольными концертами, и зал был полон. Значит, я оставила о себе добрые воспоминания, во всяком случае — в театральной столовой.
— Вам никогда не приходило в голову попробовать свои силы в оперном жанре? — спросил меня Раймонди.
— Я бы в жизни на это не решилась.
— Она была бы прелестной Церлиной[36], - заметил Бежар.
Жанина Рейс хранила молчание. Собравшись с духом, я обратилась к ней и сказала, что если бы она любезно согласилась дать мне несколько уроков, то, конечно, научила бы меня многому Вежливо, но холодно она ответила, что эстрадное искусство не по ее части. Я повторила, что могу показаться назойливой, но с ее помощью, вероятно, могла бы понять то, что до сих пор от меня ускользает, так как музыкального образования я не получила. В ответ она сказала, что редко бывает в Париже, потому что ездит со своими подопечными по разным странам, где они выступают на сцене или записывают пластинки, и происходит все это то в Америке, то в Европе.
— Я вас прекрасно понимаю, — продолжала я настаивать. — Но все-таки иногда вы в Париже бываете.
— Очень редко.
Убедившись, что от меня не так легко отделаться, она дала мне номер своего телефона, но предупредила:
— Застать меня очень трудно. Однако. если вам повезет.
— Порой мне везет.
Вечер прошел прекрасно, мы очень приятно провели время в этом ресторане. Под конец Раймонди сказал мне:
— Вам, говорят, хорошо знаком Синатра. Не расскажете ли вы мне о том, как он работает, как поет?…
После моего разговора с Жаниной эта просьба могла показаться странной!
— Вам, если не ошибаюсь, нравится песня «Путники в ночи»? Отчего бы вам не спеть ее в моей программе «Перед вами Мирей Матье», которую мы запишем через месяц? Кстати, ее будут транслировать и на Америку.
— Согласен! — воскликнул он.
Вот каким образом великий, бесподобный Раймонди выступил 20 декабря 1980 года в программе «Перед вами Мирей Матье». Концерт получился незаурядный. Чтобы принять в нем участие, из Америки приехал даже Джин Келли.
— Я только появлюсь на сцене, немного побуду на ней и удалюсь.
— Ну нет! Я вас так просто не отпущу вы будете вести программу вместе со мной!
Так мой кумир, воплощавший мечты о Голливуде, стал «церемониймейстером» моего концерта. Он любит вкусно поесть, и мы обсуждали с ним план предстоящего концерта в ресторане «У Бовилье».
Он мне признался: «Теперь, когда я больше не танцую, то могу наконец есть по-человечески! Долгие годы я во всем себя ограничивал. Я прослыл королем трезвости и поборником „новой кухни“.»
Келли был очень взволнован: Фрэнсис Коппола, решивший вновь обратиться к жанру музыкальной комедии, попросил его взять на себя руководство этой сферой деятельности кинокомпании. И теперь Джин направлялся в Копенгаген, чтобы посмотреть и отобрать там лучшие цирковые и эстрадные номера. Когда я сказала ему, что Америке принадлежит пальма первенства в этой области, он возразил:
— Нет, нет, комедия дель арте родилась не в Техасе, а у вас в Европе! Сейчас всюду есть хорошие танцоры, а некоторые из французов обладают потрясающей техникой.
Потом он заговорил о балетной школе Парижской оперы: по его словам, он был поражен высоким уровнем профессиональной подготовки учениц.
— Им показывают специально отобранные фильмы, они изучают историю балета. Когда я в 1960 году был приглашен в этот театр как хореограф, за моей спиной раздавался шепот: «А кто он такой, этот Келли?», нынешние же учащиеся балетной школы видели все мои фильмы!
Наш концерт превратился в незаурядное шоу на американский лад, и не без причины: ведь в нем принял деятельное участие Дэнни Кэй. Азнавур написал для этой передачи песню «Жизнь, полная любви». Ален Делон подарил мне свой самый короткий фильм. То был скетч «Алло, такси!», который заканчивался страстным «поцелуем в диафрагму». Журналисты пролили по этому поводу немало чернил, а Мирей Дарк в ответ на их домыслы и намеки остроумно заметила:
— Очень хорошо, так он, по крайней мере, не станет путать имена!
Просто невероятно, с каким злорадным упорством люди приписывают артисту черты и поступки персонажа, которого он изображает. Помимо балетного номера, подобного тому, который украсил передачу «Я люблю Париж», где декорации изображали набережную, была исполнена неистовая кадриль. Главным сюрпризом стало выступление нашего «Дон Жуана».
— Ах, мне даже ни разу не пришлось вертеть регуляторы! — воскликнул в восторге старший звукооператор.
Великолепный голос Руджеро привел в восхищение всех присутствующих. Исполнив знаменитую арию «Клевета», он неожиданно спел песню «Ночь и день» («Night and day»), которую поет Синатра. За кулисами находилась группа моих поклонниц из Атланты. Прославленный оперный певец вслед за классической арией исполняет эстрадную песню — такое не часто услышишь! Они были так взволнованны, что их пришлось тут же усадить на стулья!
Мы дружно уговаривали новоявленного «мастера эстрады» записать несколько песен этого жанра. Подобная пластинка имела бы бурный успех. Думаю, что его импресарио, горячий приверженец оперного искусства, этому воспротивился; как бы то ни было, такая пластинка еще не появилась.
В отличие от Раймонди Пласидо Доминго не чурается эстрады. Широкую популярность он приобрел после того, как снялся в кинооперах «Травиата» и «Кармен». Когда Жак Шансель готовил свою музыкальную программу «Большая шахматная доска», он спросил у Доминго, кого тот хотел бы пригласить для участия в ней.
— Мирей Матье.
Шансель заколебался и спросил:
— Но… почему ее?
— Потому что у нее прекрасный голос.
С этого началось наше знакомство с Пласидо. А вскоре мы уже пели дуэтом арию, написанную Мишелем Леграном; она называлась «Все мои мечты».
Однажды мы встретились с Пласидо в съемочном павильоне. И кого я увидела рядом с ним?.. Жанину Рейс! Шел март 1983 года, прошло уже больше двух лет после того, как мы вместе с ней обедали в Женеве. С присущим мне порой упорством я регулярно звонила ей домой по тому номеру телефона, который она мне назвала. И неизменно узнавала, что она в Лондоне, Милане или Нью-Йорке, либо уезжает в Чикаго, Рим, Гамбург. Не стану уверять, будто я звонила ей каждую неделю, ведь я и сама не сидела на месте. Однако по ее тону — всегда вежливому, но сдержанному — я понимала, что видеть меня она не хочет. Но, встретив ее, я сразу преодолела робость. Такое со мной иногда бывает: моя застенчивость внезапно уступает место отваге. Я направилась прямо к ней:
— Вы и в самом деле, мадам, презираете то, чему я посвятила жизнь?
Моя дерзость явно поразила ее.
— Я прошу вас дать мне один урок. Всего один.
— Боюсь, что нам и в самом деле придется ограничиться одним уроком.
Она смотрела на меня с удивлением и, как всегда, отчужденно; мой гнев, должно быть, слегка забавлял ее. Потом она достала записную книжку. Мне доставать свою не было необходимости, я твердо знала: «Будь что будет, ноя к ней пойду».

Звезда мировой оперной сцены итальянский бас-баритон Руджеро Раймонди в роли Дон Жуана в одноименной опере Моцарта
— Вам никогда не приходило в голову попробовать свои силы в оперном жанре? — спросил меня Раймонди.
— Я бы в жизни на это не решилась…
Немного остыв, я почувствовала смущение. Ведь эта надменная дама пестовала саму Марию Каллас! С сильно бьющимся сердцем я позвонила в квартиру Жанины. Она открыла мне дверь и пригласила пройти в гостиную. Я не могла бы сказать, какая там стояла мебель. Я смотрела прямо перед собой. Главное впечатление — море цветов, повсюду — огромные букеты, много книг и пластинок… и все пластинки только с оперной музыкой. Мы были наедине, никого больше в гостиной не было, впрочем, один свидетель имелся — фортепиано. Я не сводила с Жанины глаз. И приготовилась к худшему. К тому что через четверть часа она меня выставит вон.
— Вы не знакомы с сольфеджио?
— Нет, мадам.
— И не владеете нотной грамотой?
— Тоже нет.
Она подавила вздох. Спросила, кто со мной работал. Я ответила, что несколько уроков мне дал Жан Люмьер и еще несколько — господин Жиродо из «Гранд-Опера».
— И что вам сказал господин Жиродо?
— Что я могу исполнить партию, не помню уж какого персонажа, из произведения Брехта «Семь смертных грехов». Кроме того, он запретил мне смеяться, сказал, что так недолго и голос потерять. А вот Жан Люмьер советовал мне смеяться, он считал, что это меня раскрепощает.
Она качает головой. Садится за фортепиано и просит меня спеть гамму. Я немного разочарована. Мне хотелось бы исполнить какую-нибудь песню, показать, что я умею, она ведь никогда не слушает эстрадную музыку. Жанина прочла нетерпение в моем взгляде:
— Перед тем как петь, необходимо «разогревать» голосовые связки. Вы ведь видели, как танцоры Бежара разогревают мышцы. Без этого они не смогли бы исполнить даже самый простенький танец: отказали бы мышцы. А голосовые связки тоже мышцы. Так их и надо рассматривать.
И я начала: до, ре, ми.
Она занималась со мной целый час. А на прощание спросила:
— Когда вы снова хотите прийти, Мирей?
Жанина, можно сказать, подарила мне настоящее сокровище. Она помогла мне осознать, что такое голос. Я поняла, как он рождается и какую роль в этом играют горло, нос, грудь и даже живот. Она избавила меня от чувства вечной тревоги — теперь я больше не боюсь охрипнуть, потерять голос. С ее помощью я научилась «полировать» звуки.
— Прислушайтесь, Мирей, эта нота не слишком хорошо звучит. Не так ли?
Она развила у меня «внутренний» слух. Благодаря ей я поняла, что певец может совершенствовать свое мастерство все больше и больше, идти все дальше и дальше, все искуснее «ковать» звук. Иногда, приходя к ней, я говорила: «Сегодня я плохо спала.»
— В таком случае будем работать потихоньку.
И мало-помалу мой голос набирал силу. Исполнив вокализы, я восклицала: «Просто поразительно! У меня такое чувство, будто я надышалась горным воздухом».
Однажды она мне сказала: «Как хорошо, что вы с 20 лет придерживаетесь правила спать не меньше десяти часов. Без этого вы не сумели бы столько петь — давно потеряли бы голос!»
Заслуга тут не моя, а Джонни.
Жанина научила меня «беречь ресурсы»: находясь два часа на сцене, я теперь помню об этом и чередую громкое пение с пением под сурдинку. Прежде я, не щадя голоса, форсировала звук. Она объяснила мне, что я должна придерживаться двух октав, стараться не выходить за их пределы.
Хотя мы обе колесим по свету, но все же время от времени встречаемся и непременно выкраиваем часок для работы вдвоем.
Когда я выступала во Дворце конгрессов — а это было очень важно для меня, потому что я вернулась в Париж после гастролей, длившихся почти 13 лет, — я знала, что она не сумеет присутствовать на «главной» премьере концерта. Но через несколько дней, когда я выступала перед незнакомой публикой, Жанина под вечер вошла в мою артистическую уборную (я всегда прихожу туда задолго до начала выступления). По моей просьбе там поставили фортепиано, и дирижер моего оркестра Клодрик обычно аккомпанирует мне, когда я пою вокализы, чтобы «разогреть» голосовые связки. Жанина села за инструмент. Мы поработали около часа.
— Все пройдет гладко… — сказала она.
Она решила послушать концерт. Но в зале не оказалось свободных мест, и ей пришлось стоять. Кто-то из театральных служителей передал мне, что, когда меня провожали овацией, Жанина была сильно взволнованна. Поднявшись в артистическую, она обняла меня.
Да, теперь мы подружились. Она говорит — и мне, и другим, — что я могла бы исполнять любые песни, и даже оперные партии. Я попробовала спеть во время наших занятий несколько арий. но я отношусь с таким уважением к оперным певцам. У них особое дарование. Пласидо гораздо легче исполнить песню на музыку Гершвина, нежели мне спеть арию из оперы Моцарта. Я не привыкла часто менять свой репертуар. Я труженица. Может быть, дело в том, что у меня нет музыкального образования. Мне на все нужно время. Я работаю над песней гораздо дольше, чем человек, который читает ноты с листа и сразу же понимает, что и как ему надо петь. Мне же приходится полагаться лишь на музыкальный слух и память: они помогают мне «почувствовать» и усвоить песню.
Порой Жанина говорит: «Надо бы мне заняться с вами сольфеджио!»
Но до сих пор времени для этого у нас не нашлось!
Зато я нахожу время, чтобы слушать выступления моих друзей — оперных певцов. Я делаю это всякий раз, когда могу. Опера кажется мне самым совершенным видом музыкального искусства. Какое это великолепное зрелище! Мы встречаемся с Пласидо Доминго в различных уголках мира. Он удивительный певец и музыкант. Я видела, как он дирижировал оркестром в Лондоне. Пласидо прекрасно играет на фортепиано, а уж до чего он чудесно поет!. Нам никак не удается записать на пластинку песню, которую мы исполняем дуэтом. Это замечательная песня Мишеля Леграна «Да, счастье есть — его я повстречала».
Нечего и говорить, что ее оркестровка выше всяких похвал. Мы условились с Доминго, что сначала каждый из нас в отдельности выучит эту песню.
Три года тому назад мы встретились с ним на обеде, который Пьер Карден устроил в честь Барбры Стрейзанд в ресторане «Максим». Мне посчастливилось сидеть вблизи нее. Между нами сидел Пласидо. Вот уже три месяца мы старались с ним встретиться, чтобы наконец записать пластинку. Твердо условились: встретимся в Лондоне. Он дирижировал в театре «Ковент-Гарден», где шла оперетта «Летучая мышь», — Доминго обожает в свободное время выступать в качестве дирижера. Однако нас подвел Мишель Легран, он был слишком захвачен работой над фильмом «Иентль», в котором снималась Барбра; надо сказать, что музыку он написал восхитительную. Поэтому Мишель не мог уехать из Нью-Йорка. Тогда мы решили записать нашу пластинку в промежутке между двумя сольными концертами, с которыми Пласидо намеревался выступить в театре «Метрополитен-опера». Но у него тогда, как на грех, пропал голос!
А затем произошла ужасная драма — землетрясение в Мехико, во время которого Доминго потерял нескольких членов своей семьи. Он был глубоко потрясен. Сам пытался помогать спасателям. Дал несколько сольных концертов в пользу пострадавших… В 1986–1987 годах график моих выступлений был очень напряженный. «Да, счастье есть.» Это бесспорно, но записать эти слова на пластинку нам до сих пор не удается.
Мы вновь встретились в Мехико для того, чтобы записать новогоднюю передачу, которая наделала много шуму в Латинской Америке. Ее главный герой — Крикри — сказочный персонаж, кузнечик, ему от роду полвека, как и персонажу Уолта Диснея утенку Дональду, которого так любят дети. Крикри должен был предстать перед телезрителями (их было 350 000 000) в рождественский вечер. Крикри символизирует ум и отвагу маленького человека, выступающего против враждебных сил; кузнечик становится жертвой злой колдуньи (ее роль исполняла известная мексиканская актриса Офелия Медина), он зовет на помощь Мирей Матье, и она спешит ему на выручку вместе со своим другом Пласидо Доминго; в поисках их сопровождают бродячий кот, добродушная крыса и красивый идальго (его воплощал испанский певец Эммануэль). Это шоу создавалось в трех вариантах: английском, испанском и французском.
Мы немало забавлялись оттого, что нас снимали вместе с марионетками. Но у нас не оставалось ни одной свободной минуты, так что не могло быть и речи о том, чтобы записать на пластинку наш дуэт!
Итак, я улетала в Мехико в конце года, чтобы выступить там в телепередаче, посвященной кузнечику Крикри (на Пасху эту передачу должны были показывать в Канаде и Соединенных Штатах). Я отложила свой отъезд на сутки, потому что хотела послушать другого моего кумира, Паваротти, — он пел в театре «Гранд-Опера», где давали «Тоску».
У меня есть все его пластинки. Сказать, что он изумительно поет, — это почти ничего не сказать. Слушая певца, забываешь о его внешности (о таких людях говорят — он «крепко сшит»), так красив его голос, так очаровывает его артистизм! Я пошла к нему за кулисы, когда стихла овация, которой его провожала публика: она длилась больше десяти минут по часам. А затем произошел небольшой казус: торопясь принять меня в своей артистической уборной, Паваротти забыл о том, что уже успел снять брюки! Он поспешно закутался в плащ Марио, чью партию исполнял, и уселся в кресло, не решаясь пошевелиться во избежание конфуза. Окружающие дружно смеялись, смеялся и он. У Паваротти, как у большинства итальянцев, очень громкий жизнерадостный смех.
Я спросила его, почему он не спел «на бис» свою коронную арию, хотя этого настойчиво требовала публика. И в ответ услыхала:
— Это было бы некрасиво по отношению к моим товарищам, ведь они все замечательно пели!
С Раймонди можно говорить о театре и о религии, благодаря ему я прочла «Генриха Четвертого» Пиранделло, потому что он хотел его сыграть и на прогулке он не расставался с этой книжкой. Меня восхищает то, с каким самозабвением Раймонди работает: он выучил русский язык, чтобы лучше исполнять Бориса Годунова, он овладел искусством обращения с плащом тореадора, чтобы создать совершенного Эскамильо. С Доминго я разговариваю на кулинарные темы (тут он дока), о Мексике и классической музыке. А с Петером Хофманом можно поговорить о рок-музыке, хотя он известный тенор и главное место в его репертуаре занимают оперы Вагнера.
Хофман — любимец Байрейта и такой великолепный Парсифаль, о котором можно только мечтать. Дебютировал он с песнями в жанре рока. У него, как и у многих немцев, есть все мои пластинки! В одном из моих телешоу — «Париж для нас двоих» — он тряхнул стариной и спел вместе со мной прелестную песню «Ярмарка в Скарборо». У Петера множество фанатичных поклонников, потому что он был чемпионом Германии по десятиборью и широко известным исполнителем рок-музыки. Но позднее его охватило неодолимое влечение к опере, и он посвятил себя служению этому жанру. Сейчас Хофман живет в окрестностях Байрейта, принадлежащий ему замок напоминает декорацию из оперы «Валькирия». Я преклоняюсь перед ним, потому что он наделен невероятной волей. В 1977 году Петер на своем мотоцикле попал в дорожную аварию — он безумно любит быструю езду, — у него были сломаны обе ноги. Он перенес десяток операций и теперь ходит. И поет. Он неподражаем.
1985 год в душе радость и скорбь
Если бы я не повстречала Жанину Рейс, то вряд ли довела бы до конца сольный концерт, который дала 4 июля 1985 года в Авиньоне. Он имел для меня огромное значение. Ведь он проходил в моем родном краю. В этом городе я ни разу не выступала после конкурса «В моем квартале поют» (повторение эпизода из этого конкурса для фильма Франсуа Рейшенбаха не в счет), иначе говоря, я как бы вернулась к началу своего творческого пути. Наконец-то я сумела преподнести родителям сюрприз, обещанный им еще на Рождество: приехала петь в свой родной город.
Иногда я ненадолго приезжала сюда в связи с различными событиями в жизни семьи либо для участия в какой-либо церемонии, например, юбилее винодельческой фирмы «Жигонда», когда мне подарили столько бутылок этого вина, что они уравновесили мой собственный вес (как нарочно, я перед этим похудела!). Но в качестве «Мирей, которая поет» я сюда еще не приезжала.
Мой концерт должен был состояться перед самым открытием традиционного Авиньонского фестиваля, и я знала: устроители этого празднества были не в восторге от того, что Мирей Матье станет петь на площади перед знаменитым Папским дворцом, где на следующий день будут выступать артисты классического жанра. Однако новый мэр города, Жан-Пьер Ру, хотел, чтобы открытию фестиваля предшествовало некое народное празднество. Так оно и получилось: вокруг эстрады, сооруженной посреди площади, собралось около 4000 зрителей. Были, конечно, и сидячие места, но сотни людей устроились на ступенях парадной лестницы или возле окон. Артистической уборной служил мне автомобильный фургон, но я не роптала. Я чувствовала себя, словно в кругу большой семьи, где царит очень теплая атмосфера. Впрочем, теплой ее можно было назвать только условно, так как вскоре подул мистраль, который все сметает на своем пути и безжалостно «заглатывает» человеческие голоса.
Я хорошо с ним знакома еще с той поры, когда он пригвождал меня вместе с моим велосипедом к стене. Должно быть, он поклялся напомнить мне изречение «Нет пророка в своем отечестве»! Но я в свой черед поклялась доказать обратное. Мистраль разбушевался вовсю. Пригибал деревья к земле, беспощадно трепал украшенный тремя ключами стяг фестиваля, уже развевавшийся над главной башней дворца. Хуже того: он грозил повалить железный каркас, на котором были закреплены прожекторы. Так что пришлось даже объявить перерыв, чтобы пожарные могли укрепить растяжки.

Мама заглянула ко мне в фургон. Я спросила, не замерзла ли она.
— Ничуть. Мы знали, что вот-вот задует мистраль! Люди захватили с собой одеяла, а тем, у кого их не оказалось, одеяла выдали в мэрии. Так что все укутались в них!
Я успокоилась.
— Но ты, бедняжка, собираешься петь в открытом платье. Как бы тебе не потерять голос…
— Не бойся, мама, не потеряю.
Благодаря Жанине Рейс, благодаря ее наставлениям я была уверена, что могу петь и при любом шквале. Так оно и вышло. Выйдя после перерыва на сцену, я сказала зрителям, которые по-прежнему сидели на своих местах: «Славно дует мистраль, не правда ли?!»
Они ответили мне дружным смехом. Мы все были заодно. Я вновь обрела свои корни, и ничто не могло меня от них оторвать! Кажется, устроители фестиваля, надеявшиеся на мой провал, теперь аплодировали мне вместе с другими. Моя прическа, которую так любила бедная тетя Ирен, растрепалась, и волосы — как и мои юбки — развевались на ветру. Но я не отступала ни на шаг. В моей программе было 30 песен. Я решила даже спеть на две больше. Когда я начала новую, посвященную Олимпийским играм, песню «Дай руку, друг, коль захотим, то завтра станет мир иным», зрители встали с мест и сбросили с себя одеяла; я шла по «залу» под открытым небом, держа микрофон в руке, а люди, взявшись за руки, хором подхватили песню… Это был настоящий триумф. И то, что происходил он в дорогом моему сердцу родном городе, доставило мне особое удовольствие.
После концерта меня ожидал приятный сюрприз. Мистраль выбился из сил и начал стихать. И тогда мэр выступил с короткой речью, он торжественно объявил, что я стала «почетной гражданкой Авиньона»; до меня такой чести были удостоены только трое: Черчилль, генерал де Голль и Аденауэр!
— Вы пронесли имя нашего города по всему свету — от Америки до Японии, от Скандинавии до Мексики. — сказал мэр и прибавил, что звание почетного гражданина обычно присваивают только руководителям государств и присуждают его лишь с согласия всех членов муниципального совета.
Я только через час смогла присоединиться к членам своей семьи, потому что фургон, где я находилась, был осажден охотниками за автографами. С каким удовольствием раздаешь их своим землякам, с которыми тебя роднят детские воспоминания, общие друзья, знакомые места!.
На ужин были приглашены все двоюродные и троюродные братья и сестры со своими детьми — словом, собралась вся родня; некоторых я видела только детьми, а иных и вовсе не видала, потому что они родились лишь недавно. В тот вечер даже малышам разрешили оставаться на ногах до полуночи! Я обходила столики. Папа, как всегда, был в шляпе.
— Послушай-ка, Мирей, в Безье говорят, будто ты выходишь замуж за какого-то француза, живущего в Мексике, — сказал мне мой кузен.
— Запомните, мои дорогие, когда я и в самом деле соберусь замуж, то, прежде всего, сообщу вам. А теперь я с вами прощаюсь. Завтра вечером я пою в Тулоне. И моему голосу пора на отдых!
Мой сольный концерт и последовавшие за ним короткие гастроли были для меня очень полезны: необходимо было проверить на публике новые песни, убедиться, что они хорошо оркестрованы, так как мне предстояло по возвращении в Париж выступить во Дворце конгрессов. Некоторое время мы колебались, чему отдать предпочтение — этому огромному залу или «Олимпии», где состоялся мой дебют. Я была всей душой привязана к «Олимпии», но ведь я не пела в столице целых 13 лет, и мне следовало теперь выступить с совершенно новой программой, которая плохо вписалась бы в рамки «Олимпии».
— Ты пела за границей перед двадцатью тысячами зрителей и вполне можешь выступить перед тремя с половиной тысячами парижан во Дворце конгрессов! — говорил папа. Он мечтал об этом.
Я была готова к предстоящему концерту. Выдержав испытание мистралем, я была убеждена, что отныне мой голос может противостоять любым, даже самым суровым испытаниям. Увы, я и не подозревала, какой жестокий удар готовит мне судьба.
В августе Джонни посоветовал мне поехать на две недели в Киберон, чтобы отдохнуть после утомительных гастролей и начать подготовку к концерту, который обещал быть весьма нелегким. Ставка была очень велика. Я немного побаивалась Парижа. Нет, дело было не в голосе — за него я была совершенно спокойна! Страшили меня критики, которые никогда не питали ко мне особой нежности, хотя повсюду в мире…
Папа меня все время тормошил. Мы ежедневно разговаривали с ним по телефону:
— Ты должна выступить с блеском, не то парижане — ты ведь знаешь, какие они обидчивые, — подумают, что ты их больше не жалуешь!
Мама, Матита и я отправились на этот приморский курорт. Приближалось 15 августа — День Успения Богородицы; он всегда был для нас священным, вся семья должна была собраться у меня на вилле.
Нам уже давно не удавалось собраться вместе в этот день. В том году он приходился на четверг; во вторник мы предполагали вылететь в Париж, купить там подарки для каждого и на следующий день отправиться самолетом в Марсель…
Телефонный звонок. И новость. Как гром среди ясного неба. Невероятная новость, которая исторгает из груди крик ужаса. Папа скончался.
Он умер. Сразу. В одну минуту. Мыл свою машину. Хотел, чтобы она блестела, когда он приедет за нами в аэропорт. Он умер мгновенно. Роже, который был вместе с ним в саду, подумал, что отец наклонился, желая поднять какой-то предмет с земли, и поспешил к нему. Папа стоял на коленях. Не шевелясь. Он умер. Не успев ничего сказать, не произнеся ни слова. Мгновенная смерть. Разрыв аневризмы.
И меня там не было. Меня никогда не бывает возле любимых мной людей в час их кончины. Я всегда нахожусь вдали от них. Не могу протянуть им руку в минуту, когда они уходят из жизни. Не могу закрыть им глаза. Меня не было возле дедушки в его смертный час. Я не видела, как ушла из жизни бабуля. Не была рядом с тетей Ирен в час ее кончины. Не оказалась рядом и с отцом. А ведь именно ради них я стремилась добиться успеха.
В час, когда мы получили ужасное известие, не было ни поезда, ни самолета на Авиньон. Джонни удалось заказать специальный самолет. Мы попали домой глубокой ночью.
Отныне главой семьи стала я.
Папа не одобрил бы громких стенаний. Самых слабонервных из моих братьев и сестер я заставила принять транквилизаторы. Мама была необычайно тихая. Она занялась внуками. Потом присоединилась к нам, сидевшим у гроба.
Перед моим мысленным взором проносилось множество образов. Папа ставит на стол большое блюдо с картошкой и говорит нам: «Это для вас. Я уже поел!» (мы-то знаем, что это не так). Это было в пору бедности. Потом наступила пора надежды: «Мими, у тебя самый красивый голос на свете! Ты непременно победишь!» Быть может, если бы в его словах не звучала такая убежденность, у меня недостало бы сил. Потом настало время успехов. Именно тогда он создал самое прекрасное из своих надгробий, его шедевр. Он гордился надгробием, которое соорудил для Альбера Камю в Лурмарене.
Отец хотел, чтобы наш фамильный склеп стал воплощением любви, которую он ко всем нам испытывал. Он неустанно трудился над ним и закончил его в 1969 году.
Он говорил нам:
— Помните, человеку верующему кладбище никогда не кажется грустным. Особенно наше кладбище! Я хочу, чтобы сооруженный мной надгробный памятник радовал взор. Он выполнен в истинно провансальском стиле, из превосходного гранита, самого лучшего камня здешних краев. Он достаточно вместителен — в нем сорок восемь мест, хватит для всех!
Когда я достигла совершеннолетия, отец настоял на том, чтобы я подписала заверенную у нотариуса бумагу: в ней я выразила свою волю быть похороненной в фамильном склепе. Все мои братья и сестры, вырастая, подписывали такую же бумагу. Перед нашей часовенкой отец разбил газон и посадил цветы — анютины глазки и розы (того сорта, что носит название «Мирей»). Он установил там статую Лурдской богоматери. И статую святого Антуана, перед которым так преклонялась бабуля. И статую святой Терезы, которую так почитала тетя Ирен.
Мы поместили в этот склеп прах отца после заупокойной службы в церкви Нотр-Дам-де-Лурд, где наша семья совершала все торжественные обряды. Эта церковь так мала, что в ней нашлось место только для родных и близких. Наш добрый священник произнес простые слова о загробной жизни, он почтил память своего друга Роже, который до последних дней не оставлял ремесло каменотеса… но, увы, не успел совершить реставрацию статуи Пресвятой девы для церкви. Мы положили в гроб папину шляпу, букет лаванды, собранный мамой, и длинное письмо: его написали мы, дети, в последнюю ночь, которую провели у изголовья усопшего; в нем мы безыскусно излили свою душу Мама держалась мужественно, а мы все шли, взявшись за руки, как некогда в детстве, когда отправлялись по воскресеньям на прогулку к мосту через Рону или к Домской скале.
Отцу не суждено было дожить до 1986 года, когда исполнялось 20 лет моего служения искусству. Как бы он гордился этим событием, пожалуй, самым памятным в моей жизни.
Перед моим возвращением в Париж Патрик Сабатье предложил мне принять участие в передаче «Час истины». Джонни предоставил мне право выбора. Передача эта идет прямо в эфир, и ты чувствуешь себя неуютно под градом вопросов слушателей и зрителей, которые меньше всего стремятся тебе угодить. Я говорила себе, что вряд ли они окажутся более жестоки, чем иные репортеры и критики.
— Боюсь только одного: как бы они не заговорили со мной о смерти отца. Знаю, что этого я не выдержу.
Я посоветовалась с сестрой и самыми близкими друзьями.
— Нет ничего зазорного, если ты не справишься с волнением, когда с тобой заговорят о столь недавней невосполнимой потере.
Так тому и быть. Постараюсь держать себя в руках. Правда, мне нелегко бывает справиться с наплывом чувств. Случается, я плачу, прочитав слишком суровый отзыв о себе в газетной хронике. А в таких заметках, увы, недостатка нет. Ничего не могу с собой поделать. Уж такая от природы. Чуть что — и из глаз у меня уже бегут слезы.
Парк Бют-Шомон. В артистической уборной, на туалетном столике, передо мной — фотография папы, с которой я теперь не расстаюсь. Думаю, она придает мне силы.
Конечно же, немало говорили о «марионетке Старка». Но это уже не ново. В очередной раз мне пришлось объяснять, что я приехала из провинции, не будучи певицей и ничего толком не зная, а потому без Джонни Старка, который стал для меня как бы вторым отцом, мне пришлось бы плохо и я, без сомнения, наделала бы гораздо больше ошибок! Не обошлось без вопросов о моих многочисленных «женихах», коснулись жизни моей семьи и кончины папы. И я не справилась со вновь овладевшим мной горем.
Такого рода вопросы, в общем-то, не были для меня неожиданными. Кроме одного. Я бы назвала его каверзным:
— Хорошо или плохо поступили средства массовой информации, когда столько времени освещали, в частности в прямой телевизионной передаче, обстоятельства гибели колумбийской девочки?
— Это действительно очень сложная проблема. Конечно, она и меня задела за живое. И все же, поступают правильно, когда рассказывают людям обо всем, что может их взволновать, например, о землетрясении в Мексике или о трагедии в Колумбии. Ведь тогда мы начинаем понимать, что на свете происходят в самом деле ужасные события, и когда мы порой жалуемся на жизнь, то не должны забывать, что другие страдают гораздо больше нас, а мы, в сущности, люди счастливые. Вот почему, полагаю, они хорошо поступили, показав нам эту маленькую страдалицу…
Патрик Сабатье спросил, считаю ли я, что «можно говорить обо всем».
— Запретить касаться каких-либо тем — значит посягнуть на свободу печати.
— Разве свобода не требует ограничений?
— Думаю, что нет.
Моя полная откровенность во время передачи «Час истины» поразила многих. Я была этим очень довольна. Самое удивительное, что многие считают, будто я «запрограммирована» раз и навсегда. Могу согласиться лишь с тем, что я «запрограммирована» на овладение секретами своей профессии. Ведь искусство тоже вид ремесла. А я хороший ремесленник. И ни на что большее не претендую. Как всякий мастеровой, я делаю все возможное, чтобы показать товар лицом. А мой «товар» — это мой голос. Я не считаю себя творцом. Я просто исполнитель. Я назвала свое выступление во Дворце конгрессов словами из песни, которую написал для меня Пьер Деланоэ, «Сделано во Франции». Перед премьерой концерта он опубликовал статью в газете «Фигаро»; вот несколько строк из нее, которые доставили мне большое удовольствие: «Слушая Мирей, автор песни испытывает огромное удовлетворение, так как она великолепно доносит до публики то, что он хотел сказать».
Верно. Именно к этому я и стремлюсь. Меня переполняет гордостью и следующая его фраза: «Она — единственная французская певица, чье имя что-то говорит среднему американцу: она достойно представляет нашу страну всюду — от Германии, где ее считают звездой первой величины, до Японии, от Советского Союза до Мексики и стран Латинской Америки». Свою статью он заканчивает вопросом: «Чем объяснить такое? Во Франции, как известно, в эфире звучат, главным образом, песни на английском языке; мнением публики интересуются редко, но когда это происходит, то — как показал недавний опрос, проведенный еженедельником „Телевидение за неделю“, — больше всего голосов собрали Мирей Матье и Мишель Сарду, певцы поистине французские. Чем вы можете объяснить такое?!»

С четвероногим другом
Есть у меня еще одно, без сомнения, самое удивителъное воспоминание: я сидела верхом на… тигре!
Мое выступление открывают песни «Орлеанская дева» и «Сделано во Франции», что задает тон всему концерту. Этому способствуют и афиши, они — трехцветные, как наш французский флаг. Моя надежная опора — 60 музыкантов, из них 36 играют на струнных инструментах. И никакой электроники. В руках у Николя д'Анжели гитара, за дирижерским пультом — Жан Клодрик.
Стоит упомянуть о моих туалетах — они от Пьера Кардена. Этого я добилась не без труда. Сначала он передал мне через общую знакомую, что у него нет ни малейшего желания шить платья для сцены: он и так перегружен работой, ему приходится все время готовить новые коллекции одежды, словом, забот хватает, и думать о театральных костюмах ему некогда. Я понимала, что дерзко обращаться к нему со своей просьбой. Но в моих глазах Пьер Карден — гений. Я стремилась выступить перед публикой во всеоружии, а в арсенале певицы платье играет не последнюю роль.
Помог мне, как часто бывает, случай. Встретившись с Карденом, я спела ему несколько моих последних песен, которые нигде еще не исполняла. Оказывается, он запомнил меня как «маленькую Пиаф».
— Хорошо, я готов вас одевать, но вам придется покорно соглашаться со всеми моими замыслами. Я в своем деле тиран!
Через два дня я уже была у него в ателье. Зная, что мне приходится часто уезжать из Парижа и много репетировать, он собственноручно изготовил манекен, убедил меня, что мне незачем прятать свои ноги, тут же набросал несколько фасонов длинных и коротких платьев… Словом, так же «раскрепостил» мою фигуру, как Жанина Рейс «раскрепостила» мой голос.
С тех пор и днем, и вечером, во все времена года я ношу одежду, сшитую только у него. В ней я чувствую себя свободно, двигаюсь, как хочу. Я всегда говорю, что своим вторым рождением обязана Джонни, а третьим — Пьеру Кардену.
И вот наконец премьера. Первая встреча с публикой — «момент истины» для артиста. Кто-то из театральных служащих сказал мне, что пришлось открыть три билетные кассы — такая выстроилась очередь. Перед одним из концертов Жанина Рейс пришла в мою артистическую уборную: «Если бы мне сказали, что в один прекрасный день я буду проводить репетицию с Мирей Матье… я была бы просто поражена!»
Выходя на сцену в начале концерта, я пою без музыкального сопровождения. мне самой это нравится. Но это связано с известным риском: от волнения можно нарушить ритм, и оркестру будет непросто вовремя вступить в конце песни. После репетиции Жанина говорит: «Превосходно… вы справитесь с любыми трудностями».
А вечером встреча лицом к лицу с привередливыми парижанами!
В конце первого отделения какой-то неуемный поклонник песни вскакивает и кричит: «Гип! Гип! Гип! Ура!» Зал подхватывает. Когда во втором отделении я исполняю песню «Акцент мой сохранился», меня подстерегает сюрприз: кто-то из зрителей, следуя новой моде, бросает на пол дымовые шашки. Для меня это полная неожиданность. Перестаю петь и заявляю: «Прошу меня извинить, но я не курю и к дыму не привыкла!» В зале вспыхивает смех. Когда дым рассеялся, я запеваю песню «Браво! Ты победила!». По-моему, она пришлась кстати. На «бис» я исполняю песню «Нет, не жалею ни о чем.».
В полночь мама позвонила мне в артистическую.
— Алло, это ты, мама? Слышишь, все идет очень хорошо! Произошла просто невероятная вещь: один из моих почитателей был настолько возбужден, что даже укусил билетера!. Нет, я не шучу. Разве такое выдумаешь?!
Каждый вечер, пока продолжались мои выступления, я после концерта раздавала автографы, а потом незаметно уходила из зала через служебный вход. По окончании гала-концерта мои новые авторы — Лемель, Барбеливьен, Мари-Поль Белль — ликовали. Были довольны и мои постоянные авторы: Эдди Марией, Пьер Деланоэ, Луи Амад… За ужином в ресторане «Максим» собрались все наши друзья, среди них — Ален Делон, Далида, Жак Шазо, Манюэль, Ле Люрон, Анри Верней. За столом Пьер Карден сказал мне:
— Больше всего меня удивляет, что после столь трудного испытания вы выглядите такой свежей, будто можете заново повторить концерт.
Я и в самом деле могла бы это сделать. И вот почему: отец ни на миг не покидал меня. И в этом я черпала силы.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ