 Л.МАШТАЛЕР
ВОЗДУШНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
Л.МАШТАЛЕР
ВОЗДУШНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
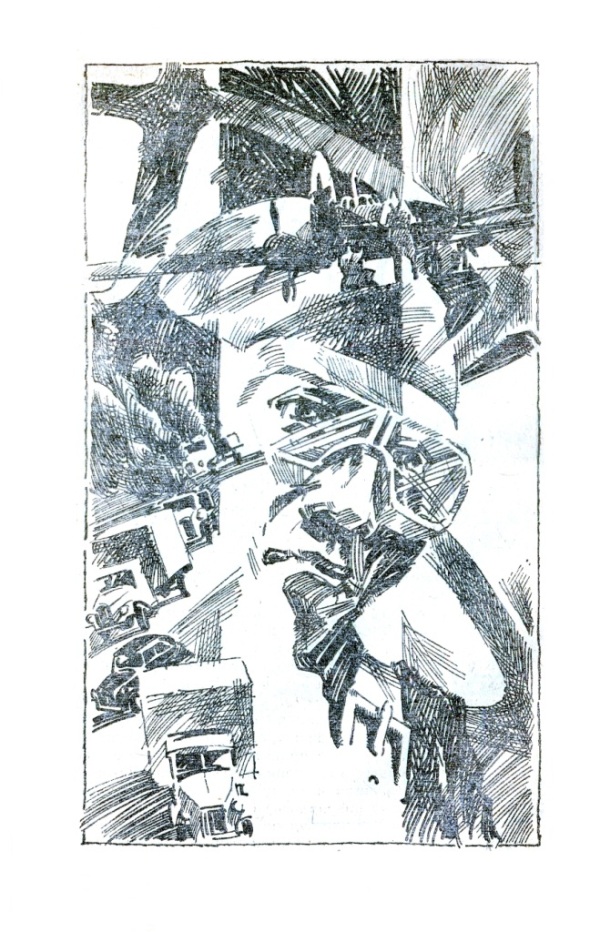
Великая Отечественная война застала меня курсантом отделения электрооборудования самолетов 2-й московской спецшколы ВВС. Учебную программу сразу же сократили, в распорядок дня вклинились работы по маскировке близлежащих зданий, по устройству и оборудованию укрытий. Нас стали посылать на патрулирование, охрану складов и военных учреждений. Уставали так, что засыпали, едва коснувшись головой подушки. Но вскоре мы лишились покоя и по ночам: почти каждую ночь раздавался вой сирены, звучала команда «Воздушная тревога!».
Пока это были учебные тревоги. Но мы в мгновение ока вскакивали с коек, расторопно надевали на себя обмундирование и с противогазом через плечо мчались каждый на свое место. Так случилось и на исходе дня 22 июля. Однако тревога оказалась не учебной, а боевой. Как потом выяснилось, в подмосковное небо, следуя несколькими эшелонами с получасовым интервалом, вторглись фашистские бомбардировщики. Этот первый налет продолжался более пяти часов, и отбой прозвучал незадолго до рассвета. Существенного ущерба городу он не причинил, но жертвы среди населения были.
В августе состоялся досрочный выпуск школы, нам присвоили сержантские звания. Я связывал это с немедленной отправкой на фронт, куда рвался с первого дня войны. Но на фронт отправили не всех. Более двадцати новоиспеченных авиаспециалистов, среди которых оказался и я, погрузили в теплушку и привезли в Липецк. Как нам тогда показалось, в глубокий тыл.
В Липецке дальнейшая судьба наша ничуть не прояснилась. Впрочем, рядом с нами в таком же неведении пребывало немало других авиационных специалистов, в том числе летчиков и штурманов, А радио и газеты приносили удручающие вести. На огромных пространствах, не утихая, шли ожесточенные бои. Советские войска под натиском врага отступали в глубь страны.
Никто из нас не мог, конечно, знать, что в это время Ставка Верховного Главнокомандования подготавливала условия и силы к контрнаступлению под Москвой. Уже после войны станет известно, что тогда принимались меры по созданию устойчивого стратегического фронта в глубине страны, развертывалось строительство тыловых оборонительных рубежей, из восточных районов выдвигались резервы. Именно это обстоятельство в конце сентября 1941 года резко изменило и нашу жизнь. Однажды на построении был зачитан приказ о сформировании 215-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Резерва Главного Командования Красной Армии. Ее командиром назначили капитана С. Бермана, комиссаром капитана Б. Артемьева, начальником штаба старшего лейтенанта Д. Перемота.
Личный состав вновь созданной эскадрильи разместили на краю полевого аэродрома в палатках. А вскоре к нам перегнали шесть самолетов «Петляков-2», или проще Пе-2. Летчикам предстояло в короткий срок овладеть пилотированием этих самолетов, а техническому составу, соответственно, досконально изучить материальную часть. Однако сделать это было нелегко. Дело в том, что «петляковы» поступили к нам без технических описаний. В другое время мы все посчитали бы это вопиющим нарушением, наверняка подняли бы шум. А тогда, понимая обстановку на фронте, только озадаченно развели руками. И взялись изучать новые машины на ощупь да на глазок.
Конечно, мы попали в очень сложное положение. Самолеты Пе-2 только начали поступать на вооружение, и, естественно, никто из нас никогда прежде их даже не видел. А между тем конструкторские особенности «петлякова» сильно отличались от всех подобных ему самолетов. Достаточно сказать, что он имел небывалую по тем временам для бомбардировщика скорость — 540 километров в час. На высоте 5000 метров его не мог догнать даже лучший в 1941 году истребитель Германии «мессершмитт».
Для меня, специалиста по электрооборудованию, «петляков» тоже преподнес немало сюрпризов. До него ни один наш самолет не имел такого количества вспомогательных электромеханизмов. Десять электродвигателей приводили в движение привод посадочных щитков и стабилизатора, триммеров рулей высоты, элеронов и рулей направления, створок водорадиаторов и многое другое. Специалисту надо было не просто знать, где расположены все механизмы, но и иметь четкое представление об их устройстве, принципе работы, предвидеть причины возможного отказа того или иного из них…
23 октября 1941 года эскадрилья получила приказ перебазироваться на подмосковный аэродром в Монино. Экипажи перегнали самолеты в тот же день, а технический состав погрузили в транспортный самолет Ли-2 и планеры. Я летел вместе с девушками на планере. Это были наши радистки и фотолаборантки. В начале полета мы весело шутили, но через час почувствовали себя скверно. Наш планер бросало то вверх, то вниз. Лица девчат позеленели, а к концу пути они были в полуобморочном состоянии. Я не знал, чем им помочь — самого тоже изрядно укачало. В других планерах пассажиры чувствовали себя не лучше.
Уже после войны, познакомившись с мемуарами советских военачальников, с различными документами, в которых отражалась обстановка под Москвой в октябре 1941 года, я понял причину спешной переброски сюда нашей Отдельной разведывательной эскадрильи. Мощным ударом гитлеровским войскам удалось прорвать оборону на московском направлении, крупными танковыми силами выйти в тыл наших войск и окружить в районах Брянска и Вязьмы часть сил Западного, Брянского и Резервного фронтов. Несмотря на мужество и героизм защитников столицы, враг ворвался в Калинин, захватил Малоярославец, Волоколамск, Можайск. До окраин столицы оставалось 80—100 километров. Прорыв стратегического фронта на главном направлении, выход гитлеровцев на оперативный простор поставили Москву в чрезвычайно опасное положение. С 20 октября Государственный Комитет Обороны ввел в городе и прилегающих к нему районах осадное положение. Партия потребовала от советских воинов сделать подступы к Москве могилой для фашистских захватчиков.
В эти смертельно опасные для Москвы дни воздушная разведка приобретала исключительно важное значение. Вот почему, несмотря на то, что наша эскадрилья еще толком не освоилась на Монинском аэродроме, начальник разведки ВВС генерал Д. Грендаль потребовал от ее командира немедленно приступить к боевым действиям.
Первый вылет на разведку в район Брянск — Орел и шоссе Орел — Тула совершил 25 октября экипаж старшего лейтенанта Сергея Колодяжного — лучшего летчика в эскадрильи. Такой маршрут, естественно, был выбран не случайно. Командование остро нуждалось в сведениях о движении гитлеровских резервов.
Мы ждали экипаж Колодяжного с огромным волнением. Ведь это был своего рода экзамен нашей эскадрильи на зрелость. Оказалось, мы переживали не зря. На обратном пути «петлякова» встретила четверка «мессершмиттов». Завязался неравный бой, в котором штурман старший лейтенант Б. Еникеев сбил один вражеский истребитель. Другие сразу же охладили свой пыл. Воспользовавшись этим, Колодяжный умелым маневром сумел оторваться, вошел в облака и благополучно пересек линию фронта. Добытые экипажем разведывательные данные о противнике были немедленно переданы в Ставку.
Полеты экипажей за линию фронта, если позволяла погода, не прерывались ни на один день. Прекрасно понимая, что исход любого такого вылета целиком зависит от того, насколько подготовлен к нему разведывательный самолет, мы, технический состав эскадрильи, трудились в поте лица. Во время работы даже как-то не замечали дыхание приближающейся зимы.
Уже в начале ноября ударили сильные морозы. На аэродроме от обжигающего холодного воздуха было трудно дышать и руки становились непослушными, точно чужие. Но на боевой работе эскадрильи это никак не отражалось. Ставка Верховного Главнокомандования требовала все новых и новых сведений о немецких войсках под стенами столицы. Ведь несмотря на то, что надежды гитлеровцев захватить Москву до наступления зимы не сбылись, ее защитники пока еще находились в очень тяжелом положении. Однако, как я узнал уже после войны, пристальное внимание Ставки к противнику в начале ноября обусловливалось еще одним важным обстоятельством. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих мемуарах вспоминает: «1 ноября 1941 года я был вызван в Ставку. И. В. Сталин сказал:
— Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит нам провести эти торжества?
Я ответил:
— В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он понес в предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать войска. Против авиации, которая наверняка будет действовать, предлагаю усилить ПВО, подтянуть к Москве нашу истребительную авиацию с соседних фронтов».
Надо полагать, что, отвечая Верховному Главнокомандующему, Г. К. Жуков в какой-то степени основывался и на разведывательных данных, полученных экипажами нашей эскадрильи. Среди тех, кто часто отправлялся тогда за линию фронта, был и экипаж М. Конкина. Это был смелый, находчивый летчик. Однажды он получил задание провести разведку войск противника по маршруту Монино — Жиздра — Брянск — Орел — Тула — Монино. Стояла ясная погода, как говорят в авиации, видимость «миллион на миллион». Так что экипаж смог успешно провести разведку в районах Жиздры и Брянска, сбросить предельно точно бомбы на железнодорожный узел, сфотографировать передвижение немецких войск по шоссе Брянск — Орел. Воздушному разведчику не повезло под Орлом. Экипаж сфотографировал там аэродром, а затем перелетел в район железнодорожной станции. Внезапно небо вокруг «петлякова» сплошь покрылось сизыми шапками от разрывов зенитных снарядов. Его сильно тряхнуло, и на правой плоскости из появившейся пробоины полыхнуло пламя.
Летчик немедленно взял курс на линию фронта. Но вскоре отказал правый мотор, «петляков» стал терять высоту. Правда, ее было еще вполне достаточно, чтобы продолжать полет. А где-то на полпути пламя подобралось вплотную к кабине, и от нестерпимой жары, гари сделалось трудно дышать. Наконец под крыльями замелькали траншеи, из которых по низко летящему «петлякову» гитлеровские солдаты ударили из автоматов и пулеметов. Стрелок-радист через нижний люк зло огрызнулся длинной пулеметной очередью.
Конкин посадил машину в поле неподалеку от Ясной Поляны. На помощь экипажу со всех сторон бросились красноармейцы. Пренебрегая опасностью (а самолет мог в любую секунду взорваться), они помогли экипажу быстро выбраться на землю. В тот же день разведывательные данные о передвижении и местонахождении крупных сил противника были представлены в Ставку. В то время личный состав отдельной эскадрильи искренне верил, что сведения, добытые Конкиным и его боевыми товарищами, обязательно повлияют на общую стратегическую обстановку под Москвой. Только после того, как 7 Ноября на Красной площади состоялся традиционный парад, мы поняли истинный смысл этого боевого задания.
Ставка Верховного Главнокомандования, вскрыв замысел дальнейшего наступления немцев, усиливала войска Западного фронта и создала резервы. Особое внимание уделялось району Тула — Серпухов, где ожидался повторый удар 2-й танковой и 4-й полевой армии гитлеровцев. Само собой разумеется, об этом я узнал уже после войны, и мне стала понятна цель еще одного вылета экипажа капитана Конкина — на разведку железнодорожного узла Рославль.
Этот вылет едва не стал для него последним. Над железнодорожным узлом «петляков» был встречен сильным заградительным огнем зенитных батарей. Искусно маневрируя, Конкин все-таки сумел прорваться к эшелонам и сфотографировать их. Теперь можно было возвращаться домой. Как только они легли на обратный курс, зенитные батареи прекратили огонь и в воздухе появились «мессершмитты». С первой же атаки они подожгли на «петлякове» мотор, ранили штурмана старшего лейтенанта П. Петушкова.
Перестроившись, истребители вновь устремились в атаку. Точно зная о беспомощности штурмана, они смело пикировали под большим углом со стороны хвоста самолета-разведчика. Цель гитлеровцев была понятна — поразить с близкого расстояния кабину пилота. Петушков, превозмогая жуткую боль, встретил истребителей пулеметным огнем. Уклоняясь от огня, один из «мессершмиттов» резко нырнул вниз и выскочил впереди «петлякова». В доли секунды Конкин успел поймать его в перекрестие прицела и короткой очередью сбил. После этого другие истребители стали действовать более осторожно. Однако силы по-прежнему оставались неравными. Конкин понимал, что на одном моторе ему от противника не уйти. И он решил изобразить падение самолета. «Петляков», оставляя за собой шлейф дыма, со снижением кругами пошел к земле. Хитрость удалась. Гитлеровцы, посчитав, что с советским самолетом все копчено, сразу же улетели.
Нелегко было у самой земли вывести подбитый самолет в горизонтальный полет. На бреющем он пересек линию фронта и сел посередине заснеженного поля. И опять на помощь экипажу подоспели наши пехотинцы. Они вытащили из кабины полуживого Петушкова, затем помогли летчику быстро снять фотоаппаратуру.
За мужество, проявленное в разведывательных полетах в дни обороны Москвы, капитану Михаилу Конкину первому в нашей эскадрилье было присвоено звание Героя Советского Союза.
Начало зимы в сорок первом году отличалось крепкими морозами и обильными снегопадами. Больше всего нам досаждал снег. Мы сгребали его с взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек все светлое время дня. Только очистим один участок, другой, ранее очищенный, уже вновь покрывался огромными плотными сугробами. Использовать для взлета или посадки полосу было нельзя, а Ставка требовала от воздушных разведчиков активных действий, подчеркивала, что решается судьба Москвы.
Настоящую битву со снегом мы в конце концов выиграли, но, кроме него, был еще и небывалый мороз. Он тоже мог в любой момент сорвать вылет на боевое задание. Летчики, техники и механики, сменяя друг друга, круглые сутки прогревали моторы самолетов на малом газе. Дело в том, что в моторах «петлякова» стояли водяные радиаторы. Кроме того, плохо была приспособлена к низким температурам маслосистема. Она частенько выходила из строя. Самым слабым местом были гибкие шланги, замена которых на морозе, а порой и в сильный обжигающий ветер, была сущим наказанием.
В такую погоду на стоянке долго не поработаешь. Поэтому техники и механики время от времени забегали в землянку и грелись у печки, сделанной из металлической бочки. Окоченевшие, мы готовы были сесть на нее верхом. И вполне понятно, что тут было недалеко и до беды. Однажды техник Годельшин, устраняя течь в бензобаке, облил спецовку бензином. В землянке он снял и поставил сушиться валенки, а потом встал спиной к раскаленной печке. Спецовка мгновенно вспыхнула. Надо отдать должное Годельшину, он не растерялся, выбежал из землянки и в ближайшем сугробе сумел погасить на себе огонь. Пока он этим занимался, загорелись валенки, и пламя перекинулось на оклеенные газетами стены землянки. Тогда Годельшин разутый прибежал на стоянку, схватил восьмидесятикилограммовый баллон с азотом и вернулся с ним назад. Только с помощью азота огонь был укрощен…
После двухнедельной паузы группа армий «Центр» 15–16 ноября возобновила наступление на Москву. Враг нанес сильные удары, намереваясь обойти ее с севера через Клин, Солнечногорск и с юга — через Тулу, Каширу. На полях Подмосковья вновь развернулись кровопролитные сражения. Битва за столицу вступила в решающую фазу. Угроза ей еще более возросла. Несмотря на большие потери в ходе октябрьского наступления, фашисты по-прежнему сохраняли перевес над войсками Западного фронта в живой силе и технике, за исключением авиации. Подбадриваемые близостью цели, гитлеровские полчища рвались вперед. Им удалось потеснить оборонявшихся и достичь в районе Яхромы канала Москва — Волга, овладеть Крюковом и Красной Поляной. На некоторых участках враг приблизился к советской столице на 25–30 километров.
Хорошо помню день, когда и наша разведывательная эскадрилья особенно почувствовала всю остроту нависшей над Москвой угрозы. Ее личный состав был разбит на небольшие группы из 3–4 человек, которым в случае прорыва немецких войск в район Монино приказывалось самостоятельно отходить на восток. Время было настолько тревожное, что мы спали урывками, не раздеваясь. И все-таки о возможной сдаче врагу Москвы старались не думать. Боевая работа на аэродроме не замирала ни днем, ни ночью. Экипажи готовы были вылететь на разведку в любую более-менее подходящую для этого погоду. Авиаторы эскадрильи делали все от них зависящее для того, чтобы Ставка Верховного Главного Командования непрерывно имела свежие сведения о противнике у стен столицы.
Тогда же эскадрилья неожиданно пополнилась еще одним «петляковым» и новым экипажем. Путь к нам летчика старшего лейтенанта Ивана Суворова был настолько необычен, что о нем хочется рассказать особо.
Еще в первые дни войны из состава Высшей штурманской школы в Рязани был образован 1-й дальнеразведывательный авиационный полк, в котором пилот Суворов летал на бомбардировщике ДБ-3Ф. В период летних оборонительных боев и непрерывного отступления наших войск полк активно вел воздушную разведку. Редкий вылет на боевое задание обходился без потерь, и вскоре в полку осталось всего семь самолетов.
В то время на тыловые аэродромы нередко садились самолеты, экипажи которых по разным причинам уже не имели возможности вернуться в свои авиационные части. Обычно их называли «приблудными». Один такой самолет оказался и на аэродроме дальнеразведывательного полка. Это был «Петляков-2». Старший лейтенант Суворов сразу же заинтересовался новым бомбардировщиком, о существовании которого в нашей авиации он даже не слышал. Постепенно сдружился с пилотом К. Степановым, и тот охотно стал знакомить с тактико-техническими данными бомбардировщика, не скрывая все его недостатки. Особенно подчеркивал, что этот самолет очень строг к тому, кто сел за его штурвал, — не прощает малейших ошибок в пилотировании.
За короткое время Суворов изучил самолет, ему даже разрешили прогревать моторы. А в начале декабря Степанова вызвали в Москву, и он уехал туда на поезде. Между тем фронт на Московском направлении приблизился к аэродрому, на котором базировался полк. Тогда и поступил приказ перебазироваться. Поскольку Пе-2 не мог использоваться как дальний бомбардировщик, его решили передать нашей эскадрилье в Монино. Но встал вопрос о пилоте, который смог бы перегнать Пе-2. Ведь никто из летчиков полка никогда не поднимался на нем в воздух.
В конце концов командир полка приказал перегнать Пе-2 Суворову. Позже тот первый свой взлет на пикирующем бомбардировщике Суворов вспоминал со смехом. А дело было так. На старт вместе с командиром полка пришли комиссар и представитель особого отдела. Когда Суворов запустил моторы, он решил опробовать поведение машины на рулежке. Дал газ, и «петляков» вдруг понесся прямо на начальство. Оно бросилось врассыпную.
Несколько раз подводил Суворов самолет к месту старта, разгонял его и гасил скорость, возвращался назад. Командиру полка это, видимо, надоело, и он сам взял в руки стартовый флажок, отчаянным жестом показал, что пора, дескать, взлетать. Но все повторилось. Суворов разогнал машину, а где-то на середине взлетной полосы сбросил газ, развернулся и подрулил к командиру полка. Выключив моторы, он вылез из самолета.
Командир от злости буквально потерял дар речи. Комиссар был более терпеливым, но и он не выдержал, сердито прокричал:
— Ну что ты носишься туда-сюда как сумасшедший? Раз приказали — дуй в поднебесье! Тоже мне герой!
— Герой не герой, а в такой вот обувке да в мороз далеко не улетишь, — ответил Суворов и показал на унты, у которых из огромных дыр на пятках проглядывали белесые портянки.
И всем стало ясно, что эти пробежки по взлетной полосе были не чем иным, как хитростью пилота. Комиссар, тяжело вздохнув, снял свои унты, протянул их Суворову и сказал:
— На, вымогатель! И чтобы через пять минут на аэродроме и духу твоего не было!
Когда «петляков» взлетел и скрылся за горизонтом, комиссар, улыбнувшись, показал командиру ноги в дырявых унтах:
— Летать в них нельзя. Это точно! Но и ходить, пожалуй, тоже. Так что выручай комиссара…
Суворов потом вспоминал, что первое впечатление от полета на пикирующем бомбардировщике было такое, как если бы он вдруг оседлал быстро несущееся бревно. Постепенно успокоившись, он осмотрел кабину. Внимание привлек красный огонек на приборной доске. Оказалось, что не убраны шасси. Сделал вроде все необходимое для этого, они так и не убрались. Суворов понимал, что выпущенные шасси обязательно удлинят время в пути, а горючее при заправке самолета было отпущено строго по предварительным расчетам. И когда стрелка бензиномера приблизилась к нулю, он не на шутку испугался.
Увидев внизу какой-то аэродром, Суворов спросил у штурмана:
— Где мы?
Недолго думая, тот ответил:
— В Монино!
Но, когда приземлились и стали искать отдельную разведывательную эскадрилью, выяснилось, что это Ногинск. Ну и досталось же штурману за ошибку! Хорошо хоть удалось без каких-либо проволочек заправить самолет горючим. Через десять-пятнадцать минут они сели в Монино. Опять обрулили все стоянки, но 215-й отдельной разведывательной эскадрильи не нашли. Между тем наступили сумерки и надо было подготовить «Петлякова-2» к ночной припарковке. Прежде всего требовалось слить с него воду и масло. Экипаж облазил весь самолет, однако сливные краны так и не обнаружил. Тогда Суворов отправился за помощью на командный пункт Монинского аэродрома. Дежуривший там офицер прислал к «петлякову» опытного механика, только и он ничем не смог помочь экипажу. Суворов попросил дежурного помочь ему отыскать эскадрилью.
Прибывший к месту стоянки пикирующего бомбардировщика комиссар эскадрильи Артемьев первым делом отругал экипаж за то, что допустили замораживание воды в радиаторах.
— Да мы этот самолет совсем не знаем. Потому что никогда на нем не летали, — оправдывался Суворов.
— Нашли время шутки шутить, — не поверил Артемьев. — Как же тогда сумели поднять его в воздух и тем более сесть?
— Всё на одном энтузиазме, — ответил Суворов.
А утром экипаж стал собираться в обратный путь, намереваясь добраться до полка поездом. В разведывательной эскадрилье не хватало людей, и ее командир капитан Берман срочно связался с представителем разведывательного управления ВВС, обрисовал ему ситуацию и попросил сделать все возможное для того, чтобы Суворов и прилетевшие с ним штурман капитан Тимофеев, стрелок-радист Карев остались в Монино. Когда в полдень Суворов явился в штаб эскадрильи за документами, Артемьев каким-то торжественным голосом объявил ему:
— Отъезд отменяется. Вот предписание начальника разведуправления, согласно которому вы и ваш экипаж отныне входите в состав нашей эскадрильи. Вопросы есть?
Ошеломленный Суворов молчал.
— Будем считать, что вопросов нет. Готовьтесь к боевому вылету.
Долго горевать по поводу нового места службы старшему лейтенанту не пришлось. Действительно, уже через сутки ему приказали вылететь на разведку. Штурман Тимофеев наотрез отказался занять свое место в Пе-2, мотивируя тем, что Суворов как пилот этого самолета пока никуда не годится. Дескать, перелет из Рязани в Монино — чистая случайность. За отказ Тимофеева взгрели, хотя по-своему он был прав. Нельзя было посылать летчика в тыл врага на самолете, который он путем не изучил. И только тяжелая обстановка на фронте могла подтолкнуть авиационное командование на такой безрассудный шаг. Вместо Тимофеева в экипаж был назначен штурман лейтенант В. Ястребов.
Первый боевой вылет Суворова прошел вполне успешно. Впрочем, как и все последующие. Воодушевленный удачами, он сам стал рваться на задания. И очень скоро Суворов зарекомендовал себя смелым и волевым летчиком.
Однажды он вылетел в тыл врага на единственном в эскадрилье «петлякове», снабженном лыжами. Поднял машину в воздух и обнаружил, что одна из лыж не убирается. Оказалось, что она развернулась перпендикулярно корпусу самолета. «Петляков» начал терять высоту. Это грозило серьезной авариен. Лишь благодаря высокому мастерству пилота машину удалось продержать в воздухе до тех пор, пока лыжа не встала на место.
Несмотря на неудачный взлет (что по негласным авиационным канонам — дурная примета!), Суворов решил не возвращаться на аэродром. Скоро вышли в район Вязьмы, где надо было сфотографировать железнодорожный узел. Выполнить здесь задание с первого захода помешали «мессершмитты». Суворов с резким набором высоты увел самолет в сторону солнца. Когда через несколько минут вернулись к железнодорожному узлу, истребителей там уже не оказалось. Разведчики спокойно сфотографировали цель, сбросили бомбы и двинулись на юго-восток.
На высоте четырех тысяч метров пролетели и отсняли цели в Рославле и Брянске. Последним объектом на пути домой была Жиздра. И хотя экипаж состоял не из новичков в воздушной разведке, знал, что полет в тылу врага всегда полон неожиданностей, над Жиздрой он чуточку расслабился. Вот почему внезапный и ураганный огонь зениток ошеломил. От близких разрывов самолет заплясал, как утлая лодочка на крутых волнах, стал неуправляемым.
Каким образом самолет вырвался целым и невредимым из этой свистопляски со смертью, ни Суворов, ни тем более другие члены экипажа не имели ни малейшего представления. Считали, что им просто повезло. Возможно, какая-то доля везения тут действительно была, но многое зависело и от того, в чьих руках находился штурвал машины. А Суворов от природы обладал удивительной способностью находить единственно верный выход из любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации. Но было бы несправедливо не сказать, что рядом с ним служили и воевали другие, не менее искусные летчики. Это в первую очередь командир отдельной эскадрильи капитан Берман, пилоты Конкин, Кричевский, Колодяжный, штурманы Еникеев, Сапожников, Петушков, Ястребов. Они летали за линию фронта тоже на самые ответственные задания, неоднократно с честью выходили из опаснейших ситуаций.
215-я отдельная разведывательная авиаэскадрилья Резерва Главнокомандования — маленькая частичка Красной Армии — продолжала вкладывать все свои силы в оборонительное сражение за столицу.
Запомнился воздушный рейд в тыл врага летчика младшего лейтенанта Ляпина и штурмана лейтенанта В. Ястребова 19 февраля 1942 года. В районе Мценска «петляков» попал под сильнейший зенитный огонь. От прямого попадания снаряда самолет загорелся. Ляпину с большим трудом удалось посадить его на «живот» вблизи линии фронта. На помощь летчику и штурману, у которых обгорели лица и руки, вовремя подоспели наши наземные войска. Они были немедленно отправлены в госпиталь под Мичуринск. В эскадрилью о происшедшем никто не сообщил, и мы, естественно, кинулись на поиски своих боевых товарищей за линию фронта. 21 февраля в район Мценска вылетел на У-2 старший лейтенант Колодяжный. Он обшарил там все уголки и вернулся ни с чем.
Ястребов прислал командиру эскадрильи телеграмму, в которой сообщил, что он и Ляпин находятся в госпитале. Туда опять отправился Колодяжный. Он уговорил начальника госпиталя отдать ему обгоревших боевых товарищей и доставил их в монинский медсанбат. После того как ожоги у Ястребова и Ляпина зажили, они вернулись в эскадрилью.
Нередко самолеты возвращались на аэродром с такими пробоинами и повреждениями, что мы, наземные специалисты, только диву давались их живучести. Но даже вроде бы безнадежно изувеченные «петляковы» в сравнительно короткий срок полностью восстанавливались.
Однажды, например, самолет вернулся с боевого задания с развороченным распределительным электрощитом. Осколком зенитного снаряда многое оборудование, в том числе электрическое, было повреждено. Поразительно, как это раненному в голову летчику удалось все-таки привести «петлякова» на Монинский аэродром и благополучно посадить. Потом мы двое суток ремонтировали самолет. Помнится, не обошлось тогда и без курьеза. Получив отремонтированный самолет, летчик решил опробовать работу моторов. Когда он включил бортовые аккумуляторы, передние пулеметные установки вдруг дали очередь. К счастью, никто не пострадал. Командир эскадрильи приказал мне еще раз тщательно проверить систему электрооборудования.
В других условиях это — обычная работа. Но на лютом морозе она, пожалуй, равносильна тяжкому наказанию. Тем более что любая халтура тут была бы равносильна преступлению. Словом, изрядно промучившись, я все-таки сделал проверку электроцепи, нашел дефект.
Справедливости ради хочу отметить, что от подобных оплошностей никто из нас, наземных специалистов, не был застрахован. Вот одно тому подтверждение. В нашей эскадрилье существовал порядок: после того, как экипаж разместится на своих местах, опробует все оборудование и запустит моторы, оружейник В. Горячев начинал устанавливать пиропатроны на ракетные установки. Они размещались под плоскостями самолета. Как-то он подошел к одной из установок, поставил пиропатрон и принялся заворачивать контактную вилку. Внезапно реактивный снаряд сработал и с диким ревом улетел в ближайший лес. Пламенем и сильнейшей струей отработанных газов Горячева отбросило в сторону крутившегося на малых оборотах винта. Буквально чудом оружейник не был им зарублен.
Такое могло произойти только при условии, что в цепи между кнопкой в кабине пилота и снарядами каким-то образом оказался ток. Естественно, в дальнейшем пришлось перед каждым вылетом более тщательно и здесь проверять электропроводку…
Шли боевые будни, и эскадрилья несла невосполнимые потери. Не могу забыть до сих пор трагическую гибель экипажа младшего лейтенанта Миронова. Возвращаясь с боевого задания, наш «петляков» совершил вынужденную посадку в районе Бронниц. Туда была послана ремонтная группа, которая привела машину в порядок и подготовила к перелету в Монино. Командир эскадрильи доверил сделать это летчику Миронову. Вместе с ним к месту вынужденной посадки «петлякова» отправились штурман Смирнов и стрелок-радист Карев.
Прежде всего пилот осмотрел заснеженное поле — оно оказалось вполне пригодным для взлета. Затем начал прогревать моторы. В это время Карев попросил отпустить его в расположенную неподалеку деревню повидаться с родными. Миронов разрешил, но предупредил Карева, чтобы он после свидания с родными добирался до Монина своим ходом. Место стрелка-радиста занял механик из ремонтной группы старшина П. Русецкий. Командир экипажа благополучно взлетел и взял курс на свой аэродром. Он очень торопился, так как приближался вечер.
А Монино накрыла низкая облачность, которая поглотила посадочную полосу. Обнаружить ее без радиосвязи с эскадрильей практически было невозможно. Но связаться с землей мог лишь стрелок-радист, место которого занимал механик, ничего этого не умевший. Так сложилась катастрофическая ситуация.
Многие на аэродроме слышали гул моторов низко летавшего самолета, догадывались, что это кружит в поисках полосы Миронов и надеялись на чудо. Увы, чуда не произошло. В конце концов Миронов увел самолет далеко в сторону от Монина. Через несколько дней, когда облачность рассеялась, Пе-2 случайно обнаружили в лесу десантники, совершавшие учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Весь экипаж нашего воздушного разведчика погиб…
Битва за Москву завершилась разгромом ударных группировок немецко-фашистских войск. Враг был отброшен на 150–200 километров. Личный состав 215-й Отдельной дальнеразведывательной эскадрильи гордился тем, что в эту блестящую победу он тоже внес свой посильный вклад. Защищая столицу, отдали жизни летчики старший лейтенант Афанасьев, лейтенанты Тупикин и Романов, штурманы капитаны Тютюнников и Тимофеев, лейтенант Редько и другие наши боевые товарищи.
К весне 1942 года в эскадрилье осталось всего два самолета-разведчика. Из них годным был только один, который обслуживал техник-лейтенант А. Салгаников. И надо же было такому случиться! Однажды он, подготавливая самолет к вылету, умудрился нажать тумблер уборки шасси. На глазах всех, кто был неподалеку от стоянки, машина начала медленно опускаться на брюхо. Первым опомнился механик В. Мусин, который подбежал к элерону и, подергав его, показал Салганикову скрещенные над головой руки — знак запрета всех действий. Но было уже поздно — самолет лежал на земле. Сложить шасси на стоянке единственному действующему самолету-разведчику! Это грозило технику-лейтенанту трибуналом. Правда, до этого происшествия Салгаников отличался безупречным отношением к своим обязанностям. И командование эскадрильи, все взвесив, сочло возможным ограничиться взысканием. Оно отозвало назад и документы на награду, к которой Салгаников был представлен накануне.
Все авиаторы наземных служб эскадрильи к весне 1942 года освоили смежные специальности. Каждый из нас теперь мог заправить самолет горючим, маслом, водой, кислородом. Словом, выполнить любую работу, не связанную с основной специальностью. Большая заслуга в этом была начальника технического коллектива лейтенанта Н. Колпакова. Он был старше нас, поэтому мы звали его просто дядей Колей. Спокойный, выдержанный, хорошо знающий самолет, Колпаков заражал своих подчиненных трудолюбием.
Мы научились стрелять из бортовых пулеметных установок. В этом помогли оружейники, хотя у них самих работы было предостаточно. Частенько, например, выходили из строя пулеметы БК. Техник-лейтенант В Кукушкин, механики по вооружению старшина И. Горячев и сержант В. Перовский постоянно ремонтировали то одну установку, то другую. Самоотверженным трудом они добивались безотказной работы оружия.
Монинский аэродром тогда нередко навещали немецкие воздушные разведчики. Как-то днем такой самолет сбросил с большой высоты крупнокалиберную бомбу, которая упала возле стационарных мастерских. Бомба ушла глубоко в землю, но почему-то не взорвалась. И нам очень захотелось сбить над аэродромом хотя бы один вражеский самолет. Оружейник А. Плаксин смонтировал прямо на стоянке установку для стрельбы реактивными снарядами. Некоторое время мы с волнением ожидали появления над аэродромом подходящей цели. И вот наконец-то пожаловал опять воздушный разведчик. Плаксин подбежал к установке, прицелился и выпустил в него реактивный снаряд. Результаты оказались плачевными и в прямом и в переносном смысле: в самолет снаряд не попал, а струей раскаленного газа оружейнику обожгло лицо. После этого командир эскадрильи категорически запретил впредь устраивать подобные эксперименты…
Как я уже упоминал, весной 1942 года самолетов в эскадрилье почти не осталось, а Ставка Верховного Главнокомандования требовала все больше и больше достоверных данных о противнике. Вероятно, о нашем бедственном положении было сообщено кому следует. Так или иначе, но вскоре стало известно, что на базе эскадрильи будет создаваться Отдельный разведывательный авиационный полк. Тогда же группа летно-технического состава была направлена в Кинешму, а затем в Иваново для изучения иностранных самолетов, которые начали прибывать в нашу страну по ленд-лизу. Например, Берман, Конкин, Свиридов, Ильин, Дубров, Блуднов и я целый месяц изучали американский истребитель «аэрокобра», который намеревались использовать в воздушной разведке. Собирали «аэрокобры» и другие самолеты в Иванове иностранные специалисты. Но мы старались тоже не стоять в стороне.
Примеров смекалки, ответственности, высокой работоспособности нашим людям было не занимать. Запомнилось, что мы намного быстрее выполняли некоторые виды работы. Скажем, если американцы производили установку винта с изменяющимся шагом на «аэрокобре» почти за неделю, то наши специалисты научились это делать менее чем за день.
На первой партии «аэрокобр» механик по радио Ф. Блуднов обнаружил старые английские связные радиостанции (1929 года выпуска!). Он доложил об этом Берману, а тот позвонил в Москву. Через полчаса был получен ответ: «Самолеты принимать. Торгпредставителям в Америке и Англии даны соответствующие указания». В дальнейшем самолеты стали поступать с новыми радиостанциями. А на тех, которые были приняты ранее, Блуднов поставил отечественные. Они были компактнее, проще в эксплуатации и имели большую дальность передачи и приема. Освободившееся на этих самолетах место Блуднов предложил использовать для установки фотоаппарата.
Тут, пожалуй, уместно будет отметить, что наши фотоспециалисты во главе со старшим лейтенантом М. Александровым и начальником разведки старшим лейтенантом И. Копыловым относились к доверенному делу творчески. Они предложили несколько вариантов установки фотоаппаратуры и на «петлякове», научили штурманов в любых условиях делать с воздуха неплохие снимки. Придумали ускоренный способ сушки проявленных фотороликов. А это, в свою очередь, сократило время изготовления фотопланшетов с разведывательными данными, которые всегда торопилось поскорее получить командование наземных частей.
Уже почти год Красная Армия сражалась с гитлеровскими захватчиками. Разгром врага у стен столицы вдохновлял тружеников тыла. До сих пор не могу забыть трудовой и жизненный ритм города Иванова военной весны 1942 года. Жители, а это были в основном женщины, дети и старики, страдая от недостатков продуктов питания, посадили на свободных от булыжника и асфальта местах овощи. В городе находилось много госпиталей. Ивановцы очень чутко относились к выздоравливающим воинам. Голодая, они тем не менее приносили им продукты, какие-то необходимые в госпитале вещи, всячески помогали медицинскому персоналу.
28 мая 1942 года в Монино перелетел 450-й бомбардировочный полк. На базе нашей отдельной эскадрильи и этого полка был сформирован 4-й Отдельный дальне-разведывательный авиационный полк РГК Красной Армии. Его командиром назначили майора С. Бермана, замполитом капитана Б. Артемьева, начальником штаба капитана Игнатенко. Но через некоторое время Берман был отозван в штаб ВВС, и командиром полка стал Артемьев.
Уже после войны из книги П. Пляченко «Дан приказ» я узнал, что майор Берман командовал 511-м Отдельным разведывательным авиационным полком. Этот полк успешно вел разведку в Белгородско-Харьковской наступательной операции, при форсировании Днепра осенью 1943 года, отличился в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, активно участвовал в освобождении восточных районов Венгрии, Будапешта, в Венской операции.
Вслед за командиром полка у нас сменился весь его руководящий состав: замполитом назначили капитана А. Антипова, начальником штаба — капитана В. Лукьянова.
Надо подчеркнуть, что формирование полка проходило в условиях непрерывной боевой деятельности и переучивания на иностранную авиационную технику. Полк имел три эскадрильи. Две были вооружены самолетами Пе-2 и Пе-3-бис, одна — «аэрокобрами». Позднее у нас появились «бостоны». Управление полка имело, кроме боевых самолетов, учебные УПе-2, связные У-2, а также транспортные Ща-2, Як-6 и Ли-2.
27 июня экипажу в составе летчика старшего лейтенанта Л. Кричевского, штурмана старшего лейтенанта В. Ястребова и стрелков-радистов Авдонина, Селянкина (их кабина была оборудована вторым кислородным прибором) на самолете Пе-2 было приказано пролететь по маршруту Монино — Жиздра — Брянск — Рославль — Монино. Основное внимание им следовало обратить на железнодорожный узел в Рославле.
Выполнение задачи предусматривало посадку на аэродром подскока в Малоярославце для дозаправки горючим. И вот еще на пути к Малоярославцу стрелок-радист Авдонин пожаловался командиру экипажа на плохую подачу кислорода. На аэродроме подскока проверили подачу кислорода и устранили неисправность в ее системе. Снова взлетели и набрали высоту 6000 метров, на которой и пересекли линию фронта. Прошли половину маршрута и сфотографировали бронетанковые и автомобильные колонны врага, идущие к переднему краю, передали по радио сведения о визуальной воздушной разведке на узел связи полка, сбросили бомбы на скопившиеся эшелоны в Рославле. И вдруг Авдонин опять сообщил, что прекратилась подача кислорода. Кричевский, чтобы спасти жизнь стрелков-радистов, снизил высоту полета до 4000 метров. Но теперь самолет-разведчик стал более различим с земли. Так что командир экипажа воспринял как должное сообщение стрелка-радиста Селянкина о том, что снизу по курсу появились два «фокке-вульфа».
Экипаж тотчас приготовился к отражению атаки. Авдонин открыл заградительный огонь из бортового мало калиберного пулемета. Метнувшийся было к хвостовому оперению истребитель сместился на несколько метров ниже. Но там его встретил огнем пулемет Селянкина, прикрывающий заднюю нижнюю полусферу. Одновременно заработал пулемет и штурмана. Огненная трасса устремилась навстречу второму «фокке-вульфу», появившемуся сзади и сверху. Он вынужден был тоже отказаться от атаки на воздушного разведчика. Покружившись вдалеке, истребители вновь все кинулись на «петлякова». Тогда Кричевский ввел его в пикирование, пытаясь таким образом оторваться от наседавшего противника. И в этот момент чудовищной силы удар подбросил самолет вверх. Оглушенного штурмана Ястребова выбросило из кабины и он пришел в себя лишь в двухстах метрах от земли. Сумел вовремя дернуть кольцо парашюта. Ястребова подобрали наши пехотинцы, наблюдавшие за воздушным боем из окопов. Его отвезли в медсанбат. Через час туда же доставили без сознания Кричевского. Стрелков-радистов нашли в обломках самолета. Медики определили, что они погибли еще в воздухе, отражая атаки вражеских истребителей.
Каждого человека проверяла война, но не все выдерживали эту проверку. Правы, наверное, были философы древности, когда сравнивали человеческую жизнь с листом бумаги, на котором записаны не только все его видимые поступки, но скрыта еще и тайнопись. В какое-то время она открывается людям, и человек предстает перед ними в своем подлинном обличье. Не только с мужеством приходилось встречаться в те дни, но и с трусостью, малодушием.
Конечно, таких в авиации были единицы, но они, к сожалению, все-таки были. Вот хотя бы один пример, врезавшийся мне в память. Летом 1942 года экипаж под командованием летчика Васильева (я изменил фамилию в надежде, что этот человек в дальнейшем, возможно, сумел найти свое место в боевом строю) получил задание на разведку моторизованных колонн противника в районе Жиздры. «Петляков» как обычно взлетел, но внезапно сделал круг над аэродромом и пошел на посадку. Потом произошло нечто вообще непонятное: при посадке летчик почему-то не выпустил шасси. Удар о бетонную полосу вызвал тысячи искр, от которых из-под мотогондолы полыхнуло пламя. Учитывая, что в каждой мотогондоле находилось по бомбе, а пространство вокруг них заполнено кипами листовок, последствия надо было ожидать самые трагические.
Экипаж быстро покинул самолет и встал чуть в стороне, испуганно наблюдая за тем, как пламя набирает силу. В считанные минуты возле горящего «петлякова» оказались командир полка Артемьев, техники И. Саплин и Д. Ильин, оружейники В. Крапивный и И. Горячев. Общими усилиями они погасили огонь и вывернули из бомб взрыватели. Позже командование полка провело тщательное расследование этого инцидента, в ходе которого выяснилось, что самолет был вполне исправный, а у летчика Васильева от страха буквально пошла кругом голова. Сам он так и не смог дать вразумительную оценку своим действиям. Вскоре Васильев быт переведен в другую часть. К работе в воздушной разведке он, мягко говоря, оказался не пригоден.
В начале лета 1942 года шесть экипажей, в состав одного из которых был включен и я, отправились в далекий город за новыми самолетами Пе-2. Добирались туда поездом более недели. Но самолеты к нашему прибытию оказались еще не готовыми. Мы ждали их целый месяц, однако время зря не теряли: прямо в цехах завода знакомились со сборкой и регулировкой отдельных агрегатов, старались вникнуть в их конструкции. Все это потом нам очень пригодилось во время эксплуатации «петляковых» в полевых условиях.
Наконец-то самолеты были полностью собраны, и мы начали их приемку, которая всегда заканчивалась контрольным облетом. Один из таких облетов едва не завершился трагически для нашего летчика сержанта В. Мурылева. В разведывательный полк он прибыл сравнительно недавно из летного училища, где более года служил инструктором по технике пилотирования. По всей видимости Мурылев вздумал продемонстрировать всем свое мастерство. Поднявшись на «петлякове» в воздух, он принялся выделывать нечто невероятное. Отчетливо помню, как Мурылев пронесся над заводским аэродромом на высоте 3–5 метров. Винты буквально косили траву.
Конечно же, безответственное лихачество не имеет ничего общего с мастерством. А когда в самолете рядом с пилотом находятся другие члены экипажа, оно граничит с преступлением. Примерно так Мурылеву и сказал после посадки ледяным голосом командир нашей группы С. Колодяжный. И еще добавил, что в воздушной разведке, где от летчика требуется железная дисциплина, лихачам делать нечего. Да и мы, наблюдавшие этот полет, не могли промолчать. Проработали Мурылева так, что он, ожидавший услышать аплодисменты, явно перепугался и пообещал никогда больше подобного не демонстрировать. Впрочем, слово свое так и не сдержал, но об этом речь пойдет ниже…
Шли боевые будни полка. Каждый из них был по-своему наполнен событиями: радостными от успехов мрачными, а то и трагическими. Хотя, говоря по правде, последних в жизни полка, пожалуй, было значительно больше. Расскажу о некоторых из них.
4 октября 1942 года трем экипажам полка, где командирами были капитан С. Колодяжный, старший лейтенант И. Суворов и капитан И. Шурыгин лично генерал Д. Грендаль поставил задачу: произвести разведку войск противника вдоль побережья Рижского залива.
Задачи, которые поставил перед воздушными разведчиками генерал Грендаль, были не из легких. Так, экипажу И. Суворова надлежало в первую очередь проверить под Ленинградом южный участок блокадного фронта противника, где, по данным наземной разведки, он расположил дальнобойную артиллерию. Кроме того, от экипажа требовалось сфотографировать все замеченные по трассе полета новые полевые аэродромы и скопления бронетанковой техники врага.
Со всеми этими задачами Суворов и его боевые товарищи справились полностью. Потому и домой возвращались с хорошим настроением. Но примерно в двухстах километрах от линии фронта это настроение как рукой сняло: на «петлякова» бросилось сразу шесть «фокке-вульфов». Суворов включил форсаж и со снижением начал набирать скорость. Вошли в облачность, однако она оказалась с большими разрывами. Когда в очередной раз выскочили в такой разрыв, немецкие истребители оказались совсем рядом. Они мгновенно развернулись в сторону нашего самолета. Немецким летчикам, вероятно, казалось, что участь «петлякова» уже решена, и потому они не торопились открывать огонь. И Суворов сумел воспользоваться этим — резко направил машину вниз. «Фокке-вульфы» бросились следом. Теперь экипаж мог применить такое мощное оружие, как реактивные снаряды. Штурман дал залп, и ближайший истребитель, объятый пламенем, пошел к земле. Остальные самолеты противника бросились врассыпную. Опомнившись, они перегруппировались и взяли «петлякова» в клещи: расположились сверху, снизу и по бокам. Таким способом обычно принуждают самолет к вынужденной посадке. Суворов заметил, что «петлякова» разделяют с истребителем, летевшим ниже, всего несколько десятков метров. Он убрал газ, выпустил щитки и шасси. Сброшенной скорости оказалось достаточно, чтобы истребитель выскочил вперед «петлякова». А остальное, как говорится, было делом техники: Суворов поймал его в прицел и дал очередь. И еще один «фокке-вульф», объятый пламенем, закувыркался навстречу земле.
Через десять минут штурман дистанционной гранатой сбил третий истребитель. А потом сильный взрыв рядом с самолетом затряс его, завалил на бок. У Суворова потемнело в глазах, и он потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел, что штурман Короленко убит (кстати, это был правнук русского писателя), правый мотор не работает, и вся плоскость охвачена огнем. Самолет разворачивало вправо, и он стал неуправляем. Он уже приготовился покинуть самолет с парашютом, как вдруг новый взрыв опять лишил его сознания. Очнулся Суворов от пронзительного свиста в ушах. Понял, что летит в воздухе, и судорожно дернул кольцо парашюта. Только когда над головой раскрылся белый купол, он огляделся: до земли оставалось совсем немного, рядом с ним падали унты, планшет, кобура с пистолетом, а чуть подальше — бронеспинка.
Приземлился посередине бескрайнего болота. Чтобы не утонуть, собрав последние силы, быстро отстегнул стропы парашюта и по распластанному полотнищу перебрался на кочку.
Сколько довелось просидеть Суворову на этой кочке, он не знал: несколько раз терял сознание. Однажды, как сквозь сон, услышал голоса людей. Чувство опасности мгновенно обострило слух, и тогда он уловил русскую речь, понял, что ищут его. И откуда появились силы! Суворов вскочил, закричал: «Я здесь! Идти сам не могу!..» Хотел еще что-то сказать, но не хватило воздуха. Широко раскрыл рот — оттуда… хлынула кровь.
Нашли Суворова красноармейцы, наблюдавшие за воздушным боем между «петляковым» и немецкими истребителями. Они бережно уложили летчика на парашют и доставили на фронтовой командный пункт. Там Суворов передал командованию результаты разведки и снова впал в беспамятство.
На другой день летчика завернули в тулуп, обули в валенки и уложили на телегу. Возница при медсанбате дед Назар повез его в прифронтовой госпиталь. Они ехали по проселочной дороге, которая проходила параллельно железной дороге Бологое — Асташково. Самолеты противника, постоянно бомбившие эту стратегически важную ветку, не поленились несколько раз обстрелять и ползущую по соседству с железнодорожным полотном телегу. К счастью, все обошлось благополучно. Сдав Суворова медикам, дед Назар забрал тулуп, валенки, или, как он сказал, «казенное имущество», и был таков. Эту подробность Суворов запомнил не случайно. Именно из-за отсутствия у него теплой одежды и обуви он так и не смог раньше времени сбежать из госпиталя в родной полк.
В госпитале Суворов пробыл около месяца. Хороший уход, лечение, а главное, горячее желание самого Суворова поскорее вернуться в строй сравнительно быстро помогли встать ему на ноги. Но на душе с каждым днем становилось все тревожнее. Дело в том, что он давно послал письмо командованию разведывательного полка, в котором рассказал о своих злоключениях, и попросил после выздоровления забрать его в Монино. Ответа почему-то не последовало.
Однажды Суворов встретил в госпитальном коридоре бывшего сокурсника по летной школе, а теперь комиссара истребительного полка Хованского. Разговорились, и Суворов попросил его помочь перебраться в родной полк. Тот пообещал. А через три дня Хованский сообщил, что с ближайшего аэродрома в подмосковный городок Раменское полетит военно-транспортный самолет и что экипаж согласен взять Суворова с собой. Оформив необходимые медицинские и другие документы, Суворов отправился на аэродром.
В Раменское транспортник доставил его без каких-либо осложнений, но вот дальше, по пути в родной полк, Суворов хлебнул лиха. Добираться пришлось в кузове попутной грузовой машины, а на летчике был комбинезон да госпитальные тапочки, голова совсем не прикрыта. И все это в жестокий февральский мороз.
Однополчане встретили Суворова с радостью и… недоумением. Оказывается, жене уже отослали извещение о его гибели. Впрочем, командование полка срочно исправило эту ошибку, отправив ему домой телеграмму другого содержания. Наш мастер сапожного дела сержант Сергеев сшил Суворову сапоги. Однако летную амуницию — шлемофон и унты начальник вещевого довольствия старший лейтенант Капонадзе выдавать отказался. Потребовал документы, подтверждающие причину потери этих вещей. Сослуживцы буквально задыхались от смеха, когда он на полном серьезе спрашивал: «Нет, ты скажи, куда же девались твои вещи? Ты жив? Жив! А вещей при тебе не имеется. Не понимаю». Но потом все-таки смилостивился, выдал новый шлемофон, унты, даже перчатки и планшет.
После контузии у Суворова стала сильно болеть голова. Тогда старший врач полка В. Иванов отправил его в летный санаторий, который находился неподалеку, тоже в Подмосковье. Только еще через месяц наш товарищ смог вновь сесть за штурвал «петлякова» и приступить к боевой работе. Надо сказать, что до последнего дня войны Суворову поручались самые ответственные, самые сложные разведывательные полеты и он всегда выполнял их до конца, проявляя при этом редкое самообладание и мужество. Командование полка по достоинству оценивало подвиги летчика. В разное время он был награжден тремя орденами боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, медалями.
Я знаю, фронтовик Иван Васильевич Суворов трудился в народном хозяйстве и вел активную военно-патриотическую работу с молодежью. Мы, однополчане Суворова, даже и не подозревали когда-то, что этот человек скрывает от нас талант художника. Живописи Иван Васильевич отдавал все свободное время. А об успехах на этом поприще свидетельствует хотя бы такой факт: многие картины Суворова экспонируются в Саратовском краеведческом музее и Музее Военно-Воздушных Сил в Монино.
Накануне празднования 30-летия Победы Иван Васильевич получил волнующее письмо от следопытов Горовастенской школы. Ребята нашли обломки его самолета, а в нем останки еще одного летчика. В искореженном металле удалось отыскать орден боевого Красного Знамени. По номеру ребята установили, что он принадлежит пилоту Суворову. Следопыты приглашали фронтовика приехать к ним в гости.
8 мая 1975 года пионерский отряд со знаменем встретил Суворова на платформе звуками горна. Даже пассажиры высыпали из вагонов, чтобы посмотреть на ритуал встречи фронтовика. А сам Иван Васильевич был тронут до слез.
Недалеко от школы высится пятиметровый солдат с автоматом на груди — памятник воинам, чьи имена были восстановлены только сравнительно недавно. В тот день на мраморной плите появилось еще одно имя — штурмана капитана Вячеслава Георгиевича Короленко. Именно его останки обнаружили в обломках «петлякова» следопыты Горовастенской школы. Посетил Иван Васильевич и то место, где упал его самолет, но ничего вокруг не узнал. Там, где было болото, выросла березовая роща…
Наступление гитлеровских войск летом 1942 года на юге поставило нашу страну в крайне тяжелое положение. Захват богатейших областей Дона и Донбасса, угроза выхода на Волгу и на Северный Кавказ, а в целом переход стратегической инициативы в руки врага — все это диктовало необходимость принять решительные меры для повышения боевитости, стойкости и дисциплины в советских войсках. Именно с этими тревожными за судьбу Родины событиями было связано появление в июле 1942 года приказа Верховного Главнокомандования № 227, известного своей категоричностью: «Ни шагу назад!» Когда политруки, парторги и агитаторы 4-го Отдельного дальнеразведывательного авиационного полка зачитывали его перед строем, лица людей выражали суровую решимость сделать все возможное и невозможное.
Хотя, если говорить откровенно, при всей злободневности тех требований, которые предъявлял приказ № 227 к советским войскам, он не мог внести никаких резких перемен в боевую деятельность нашего полка. Взять, допустим, нас, наземных специалистов.
Да, мы не выполняли заданий в тылу врага и не оборонялись на поле боя. Однако нам приходилось ежедневно вести борьбу с нечеловеческой усталостью. А как тяжело было нам жить в постоянной тревоге за свой самолет: вернется ли он на аэродром из дальнего рейда за линию фронта? Ведь его могли сбить не потому, что противник оказался сильнее, а из-за отказа бортового оружия, мотора, системы управления.
Все опытные специалисты в полку прекрасно понимали это и старались готовить машины к полету так, чтобы предусмотреть «тысячи» мелочей. Но дорогостоящие самолеты, а главное — жизни экипажей вверялись также и новичкам. Так что вполне разумным было считать, что именно на них в условиях аэродромной деятельности приказ требовал обратить самое серьезное внимание. С новым пополнением тогда бесконечно много занимались инженеры, опытные техники, механики, оружейники и другие специалисты полка.
А положение советских войск на юге между тем с каждым днем становилось все более тяжелым. Особенно тревожили сообщения Информбюро о развитии наступления немецких войск на Сталинградском направлении. Во второй половине августа фашистам удалось форсировать Дон, прорваться к Волге севернее Сталинграда и отрезать оборонявшиеся в городе войска от остальных сил фронта.
В этих условиях Ставка Верховного Главнокомандования чрезвычайно важную роль отводила воздушной разведке. Перед ней ставилась задача — всеми средствами своевременно выявлять точное местонахождение крупных резервов живой силы и техники противника на стратегически важных направлениях.
К сожалению, 4-й Отдельный дальнеразведывательный авиационный полк продолжал находиться в Монине. Как стало потом известно, вызвано это было тем, что Ставка по-прежнему не исключала повторного наступления немецких войск на Москву. Но в один прекрасный день с Монина поднялась и перелетела на аэродром в Тамбовской области 2-я эскадрилья под командованием капитана Гаврилова. Ей было приказано действовать в интересах Сталинградского фронта. Тотчас в Добринку отправились и наземные авиационные специалисты, среди которых был и я.
Технический состав разведывательной эскадрильи разместился в амбаре неподалеку от колхозного фруктового сада, в котором среди деревьев были рассредоточены и замаскированы самолеты. Спали мы на соломе, разбросанной на полу амбара, укрываясь шинелями. Хотя в прохладные сентябрьские ночи проку от них было мало. Ночью мы мерзли, а днем, что греха таить, голодали. На наше счастье, рядом оказалось поле с неубранной сахарной свеклой. Испеченная на костре, она хоть как-то дополняла наш скудный паек.
Полевой аэродром был хорошо замаскирован. Взлетная полоса, например, проходила прямо в кукурузном поле. Поэтому немецкие «рамы», сколько ни крутились над аэродромом, обнаружить его никак не могли, а следовательно, нас ни разу не бомбили. Но однажды мы все-таки изрядно перепугались, приняв за вражеские самолеты наши штурмовики Ил-2. Они возвращались с боевого задания на малой высоте через аэродром. Кто-то из нас с криком «Воздух!» первым кинулся наутек по кукурузе. Следом, не раздумывая, бросились остальные. От самолета, как известно, не убежишь, да к тому же и бегуны мы были никудышные. Несколько минут оказалось достаточно, чтобы мы, обессиленные, попадали в кукурузу, затравленно уставившись на приближающиеся самолеты. И только тогда обратили внимание на то, что они покачивают крыльями — дают нам знать, дескать, летят свои. Потом мы долго смеялись, вспоминая наш испуганный вид и редкую резвость, с которой драпали к укрытию. Но, честно говоря, это был смех сквозь слезы. Ведь аэродром не имел никакой противовоздушной обороны. Так что, отсмеявшись, мы серьезно задумались над тем, как исправить положение. Решили, что если и в самом деле налетит противник, больше никуда не бежать, а открыть огонь из крупнокалиберных пулеметов, которые находились в штурманских кабинах «петляковых».
С полевого аэродрома наши экипажи сделали несколько разведывательных полетов в район Сталинграда. Расстояние приходилось покрывать приличное, а промежуточных аэродромов для дозаправки самолетов не было. Поэтому даже к Пе-3-бис, который по сравнению с другими нашими самолетами брал и без того много горючего, подвешивались дополнительные бензобаки. Кстати, думается, есть необходимость сказать несколько слов о том, что это был за самолет Пе-3-бис. При всей внешней схожести с Пе-2, он имел более качественные полетные характеристики. Достаточно упомянуть хотя бы такие факты: Пе-3-бис использовался не только как воздушный разведчик, но и как истребитель-перехватчик. Чтобы превратить Пе-2 — пикирующий бомбардировщик в самолет, способный наравне сражаться с вражескими истребителями, конструкторский коллектив, возглавляемый В. М. Петляковым, проделал с ним поистине уникальную модификацию. Пе-3-бис имел мощное наступательное вооружение, среди которого самым грозным по тем временам можно считать 20-мм пушку. Словом, это был во всех отношениях замечательный самолет, а в воздушной разведке ему не было равного. Жаль только, что Пе-3-бис у нас в полку было очень мало.
Вот на таком самолете наши летчики и штурманы Гаврилов, Вешников, Мурылев, Исаев, Степин, Петушков, Сапожников и летали в район Сталинграда. Добытые ими данные о резервах противника помогали советскому командованию своевременно предпринимать меры для организации обороны города.
Обработка фотопленки, на которой зоркий объектив успевал зафиксировать механизированные колонны врага или скопление его самолетов на аэродроме, производилась немедленно. Из широкоформатных снимков делался специальный планшет. Затем он и данные визуальной разведки экипажа отправлялись на связном самолете в штаб фронта. И тут, как говорится, не дай бог специалистам из фотослужбы что-то напутать, недоделать, испортить. Что значило, например, загубить фоторолик с разведданными? Это — свести на нет всю смертельно опасную воздушную разведку экипажа, изнурительную работу техников, механиков, других наземных специалистов, обеспечивавших этот полет за линию фронта, а главное — лишить командование наших обороняющихся войск ценных сведений о противнике.
Конечно, сегодня, по истечении десятилетий, многие неурядицы, промахи той поры в напряженной аэродромной работе кажутся уже не столь существенными. А тогда любая «мелочь», как правило, грозила обернуться самыми печальными последствиями. Мы не имели права на брак в доверенном деле, чего бы это ни стоило.
Вообще, думается, в многочисленных воспоминаниях о боевых действиях нашей авиации в годы минувшей войны пока еще несправедливо мало уделяется внимания скромным аэродромным труженикам. Например, почему-то не приходилось встречаться со сколько-нибудь интересным документальным повествованием, не говоря уже о художественном произведении или кинофильме, в котором полновесно рассказывалось бы о ближайших помощниках летчиков — техниках и механиках. Я считаю, что мои сослуживцы, обслуживавшие самолеты-разведчики, вполне заслуживают этого. Не боюсь повториться, если скажу, что все они вершили поистине героические дела. Такие авиаторы, как Ходасевич, Годельшин, Кукушкин, Амелин, Данилин, Горячев, Мякишев, Рыбаков, Бондарев, Вавилин, Щербаков и многие другие трудились с полным напряжением сил. В дни и ночи обороны Сталинграда они даже представить себе не могли, что какой-то самолет по их вине оказался бы не готовым к боевому вылету. И это в стужу, постоянно недоедая, нередко не имея под руками необходимых запасных частей.
Поэтому до боли бывало обидно, если из-за чьей-то халатности тяжелый труд вдруг шел насмарку. К сожалению, случалось и такое.
Я уже рассказывал о том, как облетывал самолеты во время приемки наш летчик В. Мурылев. Тогда товарищи сурово осудили его за лихачество и он дал слово, что больше не будет без нужды подвергать риску себя и машину. Однако и в Тамбове Мурылев частенько из-за своих выкрутасов на посадке был на волосок от гибели. Так, например, он, возвращаясь с задания, любил подходить к аэродрому на большой высоте. Затем Мурылев пикировал, на бреющем полете проносился над стоянкой и лихо сажал самолет на полосу. Кое-кто из нас восхищался его виртуозностью, но большинство осуждающе покачивало головами, понимая, что добром это когда-нибудь не кончится. Так оно и вышло. Однажды после такой посадки я обнаружил, что контейнер с аккумуляторами сорвался с места, держится лишь на проводах. Доложил об этом инженеру эскадрильи. Тот произвел тщательный осмотр и нивелировку фюзеляжа. Оказалось, что от большой перегрузки он деформировался. Летать на самолете стало опасно. Его списали, а снятое оборудование пошло на запасные части. Так безответственный поступок одного человека лишил полк боевой машины, на восстановление которой раньше техник, механики, другие специалисты отдавали последние силы.
Порой такая безответственность приводила к гибели людей. Например, совершенно нелепо погиб механик по кислородному оборудованию (фамилию, к сожалению, запамятовал). Выполняя предполетную подготовку, он встал на подножку входного люка в кабину штурмана, чтобы открыть кислородные вентили. В это время летчик сержант В. Вешников решил проверить исправность пулеметной установки. Он дал очередь, и пули, пробив бронеплиту, изуродовали механику ноги. Надо было срочно доставить раненого в госпиталь. Командир эскадрильи по разным причинам долго не мог взлететь на своем «петлякове», где в отсеке стрелка-радиста поместили истекающего кровью товарища. Потом его перенесли в У-2 и Гаврилов сумел все-таки подняться в воздух, но драгоценное время было потеряно. Механик умер на пути в Мичуринск от потери крови.
Этот трагический случай послужил всей эскадрилье суровым уроком.
Глубокой осенью 1942 года эскадрилья капитана Гаврилова перебазировалась на аэродром Борисоглебска. Здесь имелись вполне приличные ремонтные мастерские, которыми мы незамедлительно воспользовались. Тщательно проверили на воздушных разведчиках электрооборудование, выявили и заменили неисправные приборы, датчики и агрегаты. Подняв машины на «козлы», проверили работу шасси, посадочных щитков, закрылок. Оружейники наконец-то смогли полностью отремонтировать пулеметы и пушки. Словом, мы основательно «подлечили» свои самолеты.
Но, к большому огорчению, именно на Борисоглебском аэродроме мы опять по халатности, на этот раз стартового наряда, да и командира эскадрильи, лишились еще одного самолета. А дело было так.
При перебазировании на промежуточном аэродроме из-за какой-то неисправности застрял один «петляков». На другой день экипаж запросил разрешение на перелет в Борисоглебск. Накануне всю ночь шел сильный снег, который на взлетно-посадочной полосе тракторист укатал катком. Но со снегом на полосе, даже если он утрамбован, шутки плохи. Ни стартовая команда, ни командир эскадрильи почему-то не дали летчику необходимых рекомендаций для успешной посадки. Едва самолет коснулся колесами полосы, его поглотило огромное снежное облако. Потом в воздухе мелькнули кили и послышался удар. Снег осел, и мы увидели, что самолет лежит кверху брюхом. Несколько человек вскочило в дежурную машину, помчалось к месту аварии. Они помогли экипажу выбраться из самолета. Больше всех пострадал стрелок-радист, которого отправили в госпиталь. А самолет пришлось разобрать на запчасти.
Обстановка под Сталинградом с каждым днем обострялась. Ставка Верховного Главнокомандования нуждалась в стратегических и тактических сведениях о резервах противника, которые он непрерывно подтягивал к городу. Именно этим обстоятельством, думается, и было продиктовано решение Разведывательного управления ВВС перевести эскадрилью капитана Гаврилова в Борисоглебск. Наши экипажи стали чаще наведываться в тыл врага на главном направлении движения его механизированных колонн к Сталинграду. Полеты воздушных разведчиков велись в условиях, когда противник сохранял превосходство в воздухе. Чтобы предельно сократить потери, командование эскадрильи приняло меры по повышению выучки летного состава.
Мы с болью следили за сообщениями о кровопролитных боях в Сталинграде. О многом из того, что там творилось, рассказывали экипажи, вылетавшие на боевые задания к огненной Волге. От подробностей леденела кровь в жилах. Всем нам очень хотелось встать в ряды защитников города с оружием в руках. Мы даже написали по этому поводу рапорты. Но Гаврилов вернул их назад. При этом он постарался как можно убедительнее объяснить, что эскадрилья выполняет работу, от результатов которой в немалой степени зависит скорейший разгром врага у стен Сталинграда.
Словом, комэска и успокоил и вдохновил нас. Вообще капитан Гаврилов остался в моей памяти как прекрасный летчик и редкой души человек. К сожалению, вскоре после этого события он был отстранен от командования эскадрильей из-за «больших потерь техники вне боевых действий». Немного позже Гаврилов погиб во время перегона самолета из Казани на аэродром Чкаловский.
11 ноября фашисты предприняли последнюю попытку овладеть городом, которая, как и все предыдущие, не принесла им успеха. А 23 ноября войска Юго-Западного фронта заняли Калач и соединились с войсками Сталинградского фронта. Группировка гитлеровцев была окружена.
Советское командование зорко следило, не создает ли противник группировки для прорыва кольца извне. Вскоре нашим воздушным разведчикам удалось обнаружить сосредоточение вражеских войск в районе Котельникова. Как выяснилось позже, здесь по указанию Гитлера создавалась специальная группа под командованием фельдмаршала Манштейна. 12 декабря гитлеровцы перешли в наступление вдоль железной дороги Котельниково — Сталинград. В этот же день воздушные разведчики сообщили, что окруженный враг сосредоточивает войска в районе Карповки. Стало ясно: готовится очередная попытка прорыва. Теперь уже навстречу группе Манштейна. По данным, доставленным нашими разведчиками, авиация 16-й воздушной армии немедленно подвергла бомбардировке скопление живой силы и техники противника. Но он не прекращал попыток, всеми силами стараясь пробиться к своим войскам.
В те дни у нас особенно отличились пилот Исаченков и штурман Сердюк. В районе Золотухино, Уколово и Воробьево они обнаружили большие колонны танков и бронетранспортеров с артиллерией. Используя эти сведения, советское командование сумело вовремя уничтожить мощный резерв гитлеровцев.
В одном из следующих вылетов на боевое задание «петляков» Исаченкова и Сердюка был встречен группой немецких истребителей. Произошло это в районе Ростова-на-Дону. Воздушный разведчик был подбит, Сердюк смертельно ранен. Он так и не смог покинуть устремившийся к земле самолет. Исаченков же выпрыгнул с парашютом и оказался на территории, занятой противником. Он попал в плен и вернулся на Родину только после победы.
По приказу своего прямого командования мы перелетели на аэродром неподалеку от станицы Боковская. Здесь оказались вполне сносные бытовые условия. Во-первых, нам досталась в наследство большая землянка. Во-вторых, на окраине летного поля был довольно вместительный дом, который мы приспособили под столовую.
В затяжную плохую погоду, когда все самолеты надолго остаются на стоянке, мы обошли окрестности на лыжах. Вспоминается небольшая речка Чир, скованная ледовым панцирем, а на заснеженных берегах — много трупов фашистских солдат и офицеров. Мы очень удивились, увидев, что некоторые из них лежат в нижнем белье или разутыми. Позже узнали, что местное население, изрядно поизносившись в военное лихолетье, использовало для своих нужд немецкое обмундирование и обувь. Ничего не поделаешь, война войной, а жить как-то было надо…
Механизированные части Манштейна так и не смогли прорваться к войскам Паулюса. Они потерпели поражение и отступили. Советское командование сосредоточило все силы для ликвидации окруженной гитлеровской группировки. Вместе с тем экипажи нашей эскадрильи продолжали бдительно следить за всеми крупными передвижениями противника в его глубоком тылу. Памятен один такой вылет, который совершил в начале января 1943 года экипаж С. Колодяжного. Тогда мы уже перебазировались на новый аэродром, расположенный на значительном расстоянии от станицы Мостовской. Собственно, аэродрома в полном смысле этого слова здесь не было. Посередине бескрайней степи пролегала одна-единственная взлетно-посадочная полоса, а вокруг — никаких служебных или жилых построек, ни землянок, ни даже кустика, за который можно было бы спрятаться от пронизывающего холодного ветра. От него не спасала никакая одежда.
Но боевая работа, конечно же, не прекращалась. Вот и Колодяжный получил приказ разыскать танковую дивизию противника, двигающуюся с юго-запада в сторону Сталинграда. В принципе задание было несложным, но успешно выполнить его мог помешать туман. Три часа экипаж, напрягая до рези глаза, носился над дорогами, заснеженными полями, городками и деревнями. Несколько раз они нарывались на немецкие истребители, однако Колодяжный вовремя успевал скрыться. Кое-где встречались механизированные колонны, только для дивизии они были явно маловаты. И наконец обнаружили злополучные танковые части в лесу под Харьковом. Об этом сообщили по радио командованию.
Опасность подстерегла «петлякова» на обратном пути. Пе-3-бис попал в область сильного обморожения. Потом нам показалось просто невероятным, что Колодяжный сумел довести сплошь покрытый льдом самолет до аэродрома. Ледяной панцирь был настолько толстым и прочным, что его пришлось отбивать и соскабливать несколько дней.
Вообще Колодяжный со своим штурманом К. Степиным отличались редкой везучестью. В первых числах января 1943 года они вылетели на разведку аэродрома противника в район станицы Тацинской. Аэродром обнаружили быстро, но оказалось, что он уже занят нашими войсками. Посчитав, видимо, что немецкие истребители теперь вряд ли рискнут сунуться в зону своего бывшего аэродрома, Колодяжный спокойно повернул домой. А истребители, судя по всему, находились где-то неподалеку и давно присматривались к разведчику. Выбрав подходящий момент, они внезапно атаковали его. Правда, штурман успел сразу же сбить один истребитель, но и оставшиеся изрядно покалечили «петлякова». Неизвестно, удалось бы Колодяжному тогда спасти свой самолет, если бы не выручила плотная облачность. Мы насчитали в «петлякове» более семидесяти пробоин, а экипаж не имел ни единой царапины, хотя летные комбинезоны были сплошь порваны осколками и пулями.
Каждый воздушный разведчик обязательно должен быть хорошим летчиком. И все-таки одного этого важного качества ему недостаточно. Как ни старайся, а без природного дара больших успехов вряд ли добьешься. Ведь в этой чрезвычайно опасной работе летчику мало постоянно скользить по лезвию ножа и не позволять себе оскользнуться: нужны интуиция, хитрость, даже своего рода актерские способности.
Колодяжному, кажется, самой судьбой было предназначено стать разведчиком. Он развил, довел до высокого мастерства науку о том, как вести наблюдение и быть невидимым, как распознавать опасность, скрытую в спокойной безлюдной местности. Под Сталинградом мастерство Колодяжного проявлялось в самых различных ситуациях. Он мог в открытую бросить вызов противнику и прорываться к его аэродромам, колоннам, позициям, преодолевая истребительные заслоны, бешеный заградительный огонь зениток. Мог безошибочно определить район, таящий потенциальную опасность. И тогда нарочно безмятежно кружил над ним, становясь приманкой для врага. Постепенно снижался до малых высот, прощупывая местность пулеметным огнем. В конце концов нервы у гитлеровцев не выдерживали и они обнаруживали себя. За Колодяжным начиналась самая настоящая охота — только бы он не возвратился назад, не передал то, что увидел. По нему стреляли из зениток, полевых орудий, танков, за ним гонялись на истребителях. А он жадно впивался глазами в ощетинившуюся огнем землю и ликовал от того, что его подозрения внезапно подтвердились и еще одна позиция противника обнаружена…
25 января окруженная в Сталинграде гитлеровская группировка была расчленена, а 2 февраля Сталинградская битва закончилась полным разгромом противника. В результате контрнаступления советских войск враг был отброшен на сотни километров. Началось его массовое изгнание с территории нашей страны.
Пришло время и нашей эскадрилье перебираться поближе к фронту. Одни экипажи перелетели на подмосковный аэродром Чкаловский, другие — сначала в Миллерово, затем в Елец, а оттуда в Курск.
Техническому составу нередко приходилось добираться с места на место в самолетах-разведчиках в качестве пассажиров. Это было необходимо для того, чтобы на новом месте мы могли сразу же приступить к обслуживанию боевой техники. В «петляковых» такие пассажиры обычно располагались рядом со штурманом или стрелком-радистом.
В конце февраля 1943 года и я перелетал в кабине стрелка-радиста из Ельца в Курск. Когда набрали высоту, я стал через небольшой иллюминатор в фюзеляже рассматривать землю. Под нами проплывали перелески, поля, деревеньки, и у меня от виденного складывалось впечатление, что по родной земле пронесся невероятной силы ураган. Скажу откровенно, зрелище было угнетающим, и я пригорюнился. Да так, что не заметил перебои в работе одного из моторов.
Пришел в себя только тогда, когда самолет затрясло и тут же он резко пошел к земле. Нам повезло, что все это происходило недалеко от Курска, а за штурвалом был опытнейший пилот капитан Г. Плитка. Он точно вывел машину на Курский аэродром и с ходу посадил ее на одном моторе. Когда механик снял с отказавшего мотора капот, мы все буквально остолбенели: в картере зияло приличное рваное отверстие, из которого вытекало струйкой дымящееся масло. Как потом выяснилось, это произошло из-за обрыва шатуна. Его осколок точно снаряд прошил корпус картера насквозь. Нетрудно представить, что было бы с нами, если бы он вылетел в сторону кабины.
На окраине аэродрома в Курске находился глубокий овраг, за которым сразу же начинался лес. На обоих склонах оврага еще немцы вырыли землянки с небольшими оконцами. Они были хорошо укрыты зарослями кустарника, стволами диких груш и яблонь. Вот в этих землянках и разместилась наша оперативная группа, в которую входили две эскадрильи, штаб, места отдыха летного и технического состава, фотослужба. В старом просторном сарае вблизи стоянки самолетов обосновались радисты, а неподалеку от них в высоком густом кустарнике укрылся пеленгатор.
Словом, мы давно уже не жили в столь благоприятных условиях. Но не успели как следует освоиться на новом месте, как ночью на аэродром нагрянули немецкие бомбардировщики. Вообще-то к бомбежкам за время войны мы вроде бы немного привыкли. Но только не к ночным. К ним привыкнуть невозможно. В самом деле, рвущиеся в кромешной тьме бомбы, визг и вой могли свести с ума кого угодно. И хотя материальный ущерб ночные бомбежки наносили незначительный, душу они выматывали основательно. Суматошно пробегав в поисках укрытия, к утру мы едва держались на ногах. А ведь каждому из нас предстояло напряженно работать по обслуживанию самолетов, экипажам — лететь на задания в тыл врага.
Противник, конечно, раскусил, что наш аэродром не имеет противовоздушной обороны. И скоро к ночным бомбардировкам прибавились и дневные. Хорошо помню один такой налет солнечным мартовским утром. Подготовив самолеты к вылетам, мы сидели на стоянке, поджидая экипажи. Неожиданно в воздухе появилось несколько десятков бомбардировщиков, державших курс прямо на аэродром. Яркое солнце слепило глаза, мешало нам разглядеть, что это были за самолеты. Кто-то высказал предположение, что летят наши, поскольку у немцев он никогда таких самолетов не видел. Слишком поздно мы поняли, что сослуживец ненароком ввел нас в заблуждение. У самолетов открылись люки, и оттуда посыпались бомбы. Еще до конца не вникнув в происходящее, я инстинктивно упал на землю, стараясь спрятать голову за кислородный баллон. Одна серия взрывов закончилась примерно в сотне метров от меня, другая обрушилась на овраг и лес. В какой-то момент от группы бомбардировщиков отделились три самолета. Они спустились до бреющего полета и пошли вдоль взлетно-посадочной полосы, сбрасывая бомбы и обстреливая ее из пулеметов. В это время здесь находилось около трехсот женщин, присланных из Курска для уборки снега. В тот налет на аэродроме погибло более ста человек. В основном жертвами фашистских стервятников оказалось беззащитное мирное население.
Через несколько дней аэродром атаковали шесть «фокке-вульфов». Мы понимали, что главная цель их налета — уничтожить наши самолеты-разведчики. Но «фокке-вульфы» так и не смогли нанести аэродрому серьезного урона. Если не считать, что снарядом был разбит киль одного «бостона». Авиаторы отделались легким испугом да побегали в поисках укрытия до седьмого пота.
На этот раз враг понял, что налеты на наш аэродром уже не останутся для него безнаказанными. Дело в том, что накануне к нам прибыл полк истребителей. Честно говоря, появление «фокке-вульфов» они чуточку прозевали. Но затем, несмотря на бомбежку и обстрел, дежурное звено все-таки взлетело. И тогда гитлеровским летчикам стало уже не до прицельной атаки наших разведчиков.
Еще через несколько дней противовоздушная оборона аэродрома пополнилась зенитной батареей. Артиллеристами, к нашему удивлению, оказались девушки. В первую же бомбежку, которая пришлась на ночь, они, побросав орудия, сбежали в лес. Прибывшему с батареей пожилому старшине понадобилось немало сил и времени для того, чтобы сделать из девушек слаженные и, что очень важно, бесстрашные зенитные расчеты. Все перевоспитание происходило на глазах авиаторов, и я могу засвидетельствовать, что в дальнейшем защитники неба над аэродромом научились давать вражеским самолетам достойный отпор. У нас стало спокойнее на душе. Теперь, подготавливая боевую технику к полетам, мы не отвлекались на тревожное разглядывание небосвода.
Вообще девушек на нашем аэродроме служило много: связистки, кислородчицы, оружейницы, фотолаборантки, медсестры, повара… Было тяжело нам, мужчинам, переносить военное лихолетие, но еще тяжелее, безусловно, приходилось им. Как сейчас вижу спешащую ранним утром к самолету Дусю Лазицкую. В руках у девушки лента к крупнокалиберному пулемету, и она вся согнулась под тяжелой ношей. А помочь ей некому: каждый авиационный специалист в поте лица трудится на своем месте, чтобы на боевом курсе в тылу врага на самолете не отказал мотор, какой-нибудь прибор, механизм, датчик. Все знают, что заботливые Дусины руки тщательно промыли и вытерли ветошью каждый патрон. Что на специальной машинке девушка выровняла их в ленте. Но этого мало. Оружейница еще должна наполнить лентами кассеты бортового пулемета, проверить укладку и сделать контрольные выстрелы. И так с утра до вечера.
Мне запомнилась Мария Клейменова с передвижной связной радиостанции. Это была небольшого росточка чернобровая девушка, которая не переставала улыбаться. А специалистом она считалась первоклассным. Все наши воздушные разведчики, наверно, до конца жизни не забудут ее голос в эфире. Через руки Клейменовой в штабы командования шла ценнейшая информация о резервах и обороне врага. Нередко радистка приводила на свой аэродром экипажи, потерявшие в плохую погоду ориентировку.
Кстати сказать, навигационная обстановка в районе Курска была очень сложной. Местная магнитная аномалия влияла на компасы, находящиеся на борту самолетов. И летчикам было трудно учесть поправки к заданному курсу. Прибавьте к этому неустойчивую весеннюю погоду: снегопад или дождь, низкую облачность или туман. В результате экипажи, особенно малоопытные, частенько на пути домой начинали блуждать. Само собой разумеется, тут было недалеко и до беды. Девушки, такие же, как Мария Клейменова, посылая на борт самолетов спасительный пеленг, выводили их на свой аэродром. Надо было видеть, как потом благодарили связисток экипажи.
В период подготовки к сражению на Курской дуге оперативная группа нашего полка на самолетах Пе-2, Пе-3-бис и «аэрокобра» вела интенсивную воздушную разведку фронтовой полосы под Орлом и Белгородом, а также в глубоком тылу противника. Выполнять боевые задания в это время было непросто. Враг всеми силами стремился скрыть свои замыслы. Другими словами, он стремился всячески уничтожить любой советский самолет, заподозренный в воздушной разведке. А что, собственно, в таких случаях мог противопоставить врагу наш одиночный самолет? Да к тому же в силу своей специфики вынужденный нередко подолгу крутиться на небольшой высоте в самой опасной, с точки зрения противовоздушной обороны, зоне. Пожалуй, только тот, кто хоть раз побывал в подобном полете, смог бы до конца понять состояние экипажей. Я так и не побывал, но со слов боевых товарищей хорошо представляю, какой смертельной опасности они подвергали себя.
В апреле 1943 года с курского аэродрома на разведку вылетел экипаж старшего лейтенанта Озеркова. Рядом с ним были штурман лейтенант Соловьев и стрелок-радист старшина Русанов. Им было приказано сфотографировать железнодорожный узел и аэродром в Брянске. Линию фронта воздушный разведчик пересек благополучно. Внимание привлекла дорога, по которой в сторону Орла двигались танки, самоходки, бронетранспортеры с пушками. Русанов быстро зашифровал радиограмму и передал ее в штаб фронта. Теперь можно было следовать дальше — на Брянск.
Неожиданно из-за тучи внизу появились три «фокке-вульфа». Они с ходу атаковали самолет-разведчик и подожгли правый мотор. Озерков попытался сбить пламя крутым скольжением к земле. В это мгновение навстречу «петлякову» выскочили еще три вражеских истребителя. Видимо, предвкушая легкую победу, они смело приблизились к нашему самолету на довольно близкое расстояние. Стрелок-радист Русанов не растерялся: бросив торчавший из нижнего люка крупнокалиберный пулемет, он метнулся к бортовому скорострельному, поймал в прицел ближайший истребитель и дал очередь. «Фокке-вульф» вспыхнул и ринулся вниз. Почти одновременно на «петлякове» раздался взрыв. Он резко клюнул носом и пошел кругами к земле. Вражеские истребители как коршуны бросились на него со всех сторон. Еще один взрыв потряс «петлякова». Замолчал пулемет из штурманской кабины. Как потом выяснилось, Соловьев был убит. Озеркову снаряд раздробил ногу, у Русанова кровь заливала глаза. Впоследствии медики удалили у него из головы 23 осколка. Смахивая свободной рукой кровь, Русанов выглянул в астролюк и увидел совсем рядом немецкий истребитель. Очевидно, у гитлеровского летчика кончились боеприпасы, а на таран они никогда не решались. Но опустели пулеметные ленты и у стрелка-радиста. Стиснув от злости зубы, он погрозил немцу кулаком. Тот ухмыльнулся и показал большой палец, дескать, молодцы. Так наши отважные ребята заслужили похвалу даже у врага.
Озерков принял решение посадить самолет на молодой сосняк, расположенный на территории, как ему было известно, контролируемой партизанами. Только ведь и молодняк бывает разным: от удара в стволы «петляков» тотчас превратился в груду обломков. Озеркова и Русанова выбросило на землю. Первым пришел в себя Русанов. Он услышал стон и просьбу Озеркова: «Перетяни мне чем-нибудь ногу». Превозмогая боль, стрелок-радист отрезал от парашюта стропу, дополз до товарища. Наложив жгут выше колена, Русанов оттащил Озеркова подальше от самолета, укрыл лапником. И откуда только взялись силы — каким-то образом встал на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, побрел искать партизан. Можно сказать, ему здорово повезло: он наткнулся на их передовой пост. А вскоре наши летчики оказались в одном из отрядов партизанской бригады Героя Советского Союза М. Дука. Через месяц Русанов вернулся на аэродром, а Озерков был отправлен партизанами на Большую землю в госпиталь.
Бывали случаи, когда наших летчиков, попавших в такую же критическую ситуацию, выручала смекалка. Однажды за линией фронта самолет-разведчик, на борту которого были пилот Журавлев, штурман Чернобай и стрелок-радист Жариков, тоже атаковала большая группа истребителей. История повторилась: и у них кончились боеприпасы. Правда, у гитлеровских летчиков они еще были. В какой-то момент все вместе кинулись к хвосту «петлякова». Несомненно, участь его была уже решена. И тогда стрелок-радист вдруг вспомнил про сигнальные ракеты. Высунувшись из люка, он выстрелил навстречу истребителям сразу из пистолета и ракетницы, И произошло необъяснимое: истребители резко отвернули от «петлякова», поспешно скрылись в облаках. Тем временем самолет-разведчик успел улизнуть за линию фронта.
К нашему большому горю, этот экипаж через несколько дней был по ошибке сбит своими же истребителями. Летчик и штурман погибли, а стрелок-радист спасся на парашюте.
Не могу не вспомнить о подвиге еще одного экипажа самолета-разведчика под командованием летчика Дмитрия Лисицына. Он прибыл на аэродром Чкаловский в начале 1943 года. До этого летал на самолете-разведчике Р-5. Новичка зачислили в третью авиационную эскадрилью, и он за короткий срок прекрасно освоил пилотирование «аэрокобры». После этого Лисицына перевели на оперативный аэродром под Курском. Здесь он сразу приступил к выполнению самых ответственных разведывательных заданий. И вскоре о Лисицыне заговорили как о бесстрашном и умелом летчике. Практически не было такого задания, которое бы он почему-то не смог выполнить.
И опять можно только сожалеть, что и этого прекрасного летчика и бесстрашного человека беда не обошла стороной. Нет, Лисицын остался жив, но пережить ему довелось нечто страшное.
Однажды его самолет был подбит и загорелся далеко за линией фронта. В таком случае летчику следовало покинуть машину с парашютом. Но незадолго до этого бортовая аппаратура на «аэрокобре» засекла очень важные объекты противника. Лисицын решил — чего бы это ему ни стоило — довести самолет до своего аэродрома. Вскоре пламя перекинулось в кабину, на летчике мгновенно загорелась одежда. Собрав всю волю в кулак, Лисицын продолжал упорно следовать курсом на линию фронта. И ведь долетел! Едва проскочив нейтральную полосу, он высмотрел прямо за окопами наших войск подходящее поле и посадил самолет.
Бойцы помогли летчику выбраться на землю и снять фотоаппаратуру. Потом Лисицина отправили в медсанбат, а оттуда — в госпиталь. Больше всего пострадали руки и ноги и, что самое печальное, — у него обгорело лицо. Врачи сделали ему несколько пластических операций. Когда он после выздоровления вернулся в полк, люди не могли его узнать.
За этот подвиг Дмитрий Лисицын был удостоен звания Героя Советского Союза.
17 июня 1943 года нашему полку было присвоено гвардейское звание. Отныне он стал именоваться Отдельным гвардейским разведывательным авиационным полком Резерва Главного Командования Красной Армии. Из штаба боевым самолетом доставили гвардейское знамя. Посвящение происходило на небольшой поляне. Каждый из нас выходил из строя и, преклонив колено, целовал священное полотнище, давал клятву не щадить жизни для полного разгрома захватчиков. Тут же вручались гвардейские знаки…
Даже мы, наземные специалисты, чувствовали, как постоянно нарастает напряжение перед приближающимся сражением. Такого количества вылетов наших самолетов на разведку до сих пор никогда не было. Людей шатало от усталости. Знали мы и о том, что ночами по железнодорожной ветке, проходившей вблизи аэродрома, непрерывно подвозилась боевая техника и боеприпасы. Все это сгружалось в лесу на специально построенной платформе.
Сведения о передислокации вражеских войск поступали регулярно в штабы фронтов и в первую очередь в штаб 16-й воздушной армии. Наши полковые разведчики уже длительное время следили за тем, как гитлеровцы накапливали силы в районе Курской дуги. Противник подтягивал крупные бронетанковые, артиллерийские и пехотные соединения. Все говорило за то, что со дня на день он перейдет в наступление.
Теперь враг не только встречал наших разведчиков необычайно плотным зенитным огнем, но и поднимал на их перехват десятки «мессершмиттов» и «фокке-вульфов». Поэтому разведчиков уже не выпускали на задания без прикрытия истребителями. Причем последним строжайшим образом запрещалось в воздухе отвлекаться на другие цели, беречь «петляковых» как зеницу ока.
Тогда очень хорошо показали себя в нашем полку и «аэрокобры». Скоростные, маневренные, они проносились на низких высотах над передним краем противника, аэродромами, дорогами, забитыми боевой техникой, успевая вместе с тем открытым текстом сообщить по радио на командный пункт обо всем увиденном. Помнится, в приказах, «молниях» и боевых листках много говорилось о мастерстве пилотов, выполнявших на «аэрокобрах» ответственные задания, — Юркине, Некрасове, Неминущем, Лезжове, Поволокине, Мартынове, Стогове. У них призывали учиться приемам воздушной разведки, умению находить выход из любой сложной ситуации.
Очень большая нагрузка легла в эти дни на фотоспециалистов. Они обязаны были в короткий срок проявить и просушить пленки, сделать снимки и смонтировать планшеты, дешифровать их, выделяя важные военные объекты. Фотоспециалисты Копылов, Ульяновский, Серов, Шалаев, Александров, Ряховский, Петров и многие другие работали почти круглосуточно: на сон и еду тратили не более 3–4 часов.
Все чаще наши воздушные разведчики возвращались с боевых заданий, как пелось в довоенной песне, «на честном слове и на одном крыле». Правда, к утру самолеты всегда были готовы к новому вылету, но росли потери и невосполнимые. Надо было каким-то образом срочно пополнить полк самолетами. Помог случай. Однажды на аэродром прибыл Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командир полка подполковник Артемьев, улучив момент, пожаловался ему на нехватку самолетов-разведчиков. Жуков немедленно связался с командованием воздушной армии и приказал передать нам десять «аэрокобр».
Не могу не отметить и тот факт, что в период подготовки к битве на Курской дуге у нас в оперативной группе воздушных разведчиков создавались новые партийные ячейки, шел массовый прием в партию. На митингах и собраниях авиаторы выражали твердую уверенность в том, что враг будет сокрушен.
5 июля мне довелось на себе испытать так называемый «Звездный налет» гитлеровской авиации. Накануне вечером я и капитан Серов из фотослужбы возвращались на свой аэродром. Наш путь пролегал через поселок, расположенный рядом с Курским железнодорожным узлом. Серов вдруг вспомнил, что где-то здесь живут его старые знакомые. Расспросив жителей, мы нашли их довольно быстро. Домик знакомых Серова находился в двухстах метрах от полотна. Хозяева пригласили нас попить чаю. За разговорами время пролетело незаметно. Пора было возвращаться в часть. При других обстоятельствах мы наверняка покинули бы гостеприимных хозяев не задумываясь. Но тогда торопиться не стали. Дело в том, что идти ночью даже в относительно глубоком тылу в районе Курской дуги было небезопасно: диверсантов и прочего отребья у гитлеровцев пока хватало. Поэтому, поразмыслив, мы решили пару часов до начала рассвета подремать на лавках.
Я долго крутился на досках, однако заснуть так и не смог. Наконец не выдержал и вышел на крыльцо покурить. Внезапно меня ослепила яркая вспышка, и в то же время раздался взрыв. Волна подняла вверх и бросила в распахнутую дверь. Пролетев несколько метров, я ударился спиной о сундук и потерял сознание. Когда пришел в себя, первым делом схватился руками за ноги. Почему-то показалось, что их оторвало. Потом снова выбежал на крыльцо. Прямо над домиком, встав в круг, немецкие самолеты бомбили эшелоны, скопившиеся на железнодорожном узле.
Налет длился не более получаса. Мы только стали понемногу приходить в себя, как все повторилось. На этот раз бомбы все чаще взрывались в каких-то сотнях метров от домика знакомых Серова. Я выбежал на улицу и прыгнул в небольшой окоп. Из него было видно, как рвались цистерны с горючим, горели вагоны.
Внезапно наступила тишина, и я ясно услышал из домика крик о помощи. Дверь заклинило, и я вышиб ее ударом ноги. Первым, кого увидел, был Серов с окопной рамой на плечах, с залитым кровью лицом. Разорвав свою нательную рубашку, я перевязал ему голову, убрал с лица сгустки крови и, подхватив под руку, повел в сторону аэродрома.
На окраине поселка находилась зенитная батарея. Мы едва приблизились к ней, как в воздухе опять появились немецкие самолеты. Они подходили к станции большими группами и с разных направлений. Кроме бомб, самолеты сбрасывали пустые бочки и рельсы, которые летели к земле с душераздирающим воем. Опасности они почти никакой не представляли, но от страха, который нагоняли, буквально леденела в жилах кровь. Впрочем, не у всех. Зенитчики спокойно вели по самолетам интенсивный огонь и на наших глазах сбили несколько из них.
Досталось и аэродрому воздушных разведчиков. Правда, люди и техника не пострадали, потому что прицельному бомбометанию помешали истребители прикрытия. Однако десятки воронок оказались в непосредственной близости от стоянок самолетов, передвижной радиостанции, командного пункта.
С короткими перерывами налеты продолжались весь день. Истребители прикрытия едва успевали заправиться горючим, боекомплектом и снова взмывали в небо на перехват противника. Мое сердце до сих пор сжимается от боли, когда вспоминаю трагические подробности этого дня. Я видел, как наш истребитель, сделав несколько разворотов, вышел на прямую для посадки, но проскочил полосу и упал за пределами аэродрома. Позже выяснилось, что летчик, тяжело раненный в бою, скончался за несколько секунд до посадки. Другой истребитель приземлился вроде бы нормально, а летчик почему-то не сбросил скорость. В результате самолет, пробежав полосу, выкатился на опушку леса, где торчали высокие пни. От сильного удара у истребителя отлетели колеса, отломились крылья. Мы подбежали, сорвали фонарь кабины и вытащили летчика. Он был без сознания, на плече и животе его комбинезон насквозь пропитался кровью…
На следующий день Совинформбюро сообщило, что 5 июля гитлеровская авиация совершила массированный налет на железнодорожный узел и аэродромы в Курске. В воздушных боях советскими истребителями и зенитным огнем было сбито 160 немецких самолетов. Немецко-фашистское командование преследовало этими массированными налетами далеко идущие цели: сковать советскую авиацию, чтобы создать своим наземным войскам благоприятные условия для наступления с районов Орла и Белгорода. Как известно, наступление началось в тот же день ранним утром. Потеряв большое количество самолетов, противник так и не достиг желаемого результата. Когда Гитлеру доложили о провале операции «Звездный налет», он пришел в бешенство и отстранил от командования генерала, разрабатывавшего ее.
Как известно, советские войска упредили наступление противника. В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину на обширном участке фронта южнее Орла. Наша артиллерия повела ураганный огонь по изготовившимся к наступлению вражеским войскам, и именно там, где ожидался их главный удар. В результате фашисты понесли большие потери, особенно в артиллерии. Нарушилась система управления войсками. Планы фашистского командования были спутаны, и ему потребовалось около двух часов, чтобы привести свои войска в порядок. Только на рассвете орловская группировка немецко-фашистских войск перешла в наступление, нанося главный удар на узком участке фронта. Впереди шла армада танков, в том числе «тигры», тяжелые штурмовые орудия «фердинанды». Так началась Курская битва, на которую Гитлер возлагал особые надежды.
О том, как проходило это небывалое по своим масштабам сражение, сегодня довольно хорошо известно. Поэтому я не стану вдаваться в подробности. Отмечу только, что работы у воздушных разведчиков в дни Курской битвы отнюдь не убавилось. Наши экипажи почти непрерывно находились в тылу врага, сообщали ценные данные о его резервах, выдвигаемых к переднему краю.
Бои на земле и в воздухе все больше ожесточались. Наши танковые и пехотные соединения стояли насмерть. Они предопределили провал наступления орловской группировки противника. Командование фронтом выиграло время для того, чтобы сосредоточить необходимые силы и средства на наиболее угрожаемом направлении.
В следующие дни противник перенес основные усилия на Поныри. Ему удалось было потеснить советские войска на этом направлении и даже ворваться на северную окраину Понырей. Но наши артиллеристы, пехотинцы, саперы встали на пути врага, а на следующее утро выбили его из Понырей. С ними активно взаимодействовали и наши воздушные разведчики. Они, например, обнаружили, что в лощине у Понырей фашисты сосредоточили для новой атаки сотни полторы танков и большое количество мотопехоты. Командование фронтом поспешило обрушить туда огонь сотен орудий, а командующий 2-й воздушной армии направил 120 штурмовиков и бомбардировщиков. Этот налет нанес врагу огромные потери, и его новая атака была сорвана.
Активность воздушных разведчиков над Курской дугой все больше возрастала. Экипажи наших «петляковых» и «аэрокобр» сутками не уходили с аэродрома. Они отдыхали здесь же, под крыльями или в тени от фюзеляжей. Коротким был их отдых. Техники научились быстро осматривать и заправлять свои машины. Не задерживались специалисты из фотослужбы, оружейники. Экипажи снова отправлялись в небо. Они вскрывали тактические замыслы врага…
К 11 июля фашистские войска, понеся огромные потери и не добившись успеха, прекратили наступление.
В дни завершения сражения на Курской дуге необычное боевое задание выполнил старший лейтенант Суворов. Ему поручили пролететь над аэродромом в Орле на высоте не выше 600 метров, со скоростью не более 300 километров в час и сбросить… голубей.
Накануне Суворову был вручен орден боевого Красного Знамени и предоставлен отпуск домой. Естественно, Иван Васильевич мыслями уже был в кругу семьи. Под кроватью у него стояла парашютная сумка, набитая продуктами, — помогли товарищи от своих пайков. Но приказ есть приказ, и он срочно вылетел на Чкаловский аэродром. Здесь под плоскостями подвесили два контейнера с голубями, а тросы от задвижек на дверцах протянули в кабину стрелка-радиста. Тут же экипаж проинформировали о том, что у каждого голубя на груди приклеен термитный снарядик со штырьковым взрывателем. Птицы были приучены садиться на самолет там, где размещались бензобаки. Штырьковый взрыватель срабатывал от легкого прикосновения к плоскости, а дальше мгновенно загорался термитный снарядик. Это задание поручили именно Суворову не случайно. Еще до войны он много раз садился на Орловский аэродром и местность вокруг него знал назубок.
Взлетев, Суворов взял курс на Брянские леса, а оттуда, развернувшись, со стороны солнца вышел на цель. Аэродром был буквально забит вражеской авиацией. Суворов снизился до бреющего полета и приказал стрелку-радисту выпустить голубей.
Экипажу не терпелось посмотреть на результаты этой все-таки странной операции. Но земля враз ощетинилась зенитным огнем, множество трасс потянулось к «петлякову». Со взлетной полосы оторвалась пара истребителей. Немцев явно встревожил необычный груз советского бомбардировщика. Надо было срочно уходить. Суворов включил форсаж, «петляков» резко взмыл вверх и скрылся в облаках. Через четверть часа самолет сел на аэродроме в Калуге для дозаправки.
Пока вокруг «петлякова» суетились авиаспециалисты, Суворов заглянул в контейнеры и обнаружил там двух забившихся в угол перепуганных голубей. Он осторожно вытащил их, снял термитные снарядики. Голубей подбросил высоко в небо, а снарядики отнес подальше. На глаза попался кусок рельса. Положил на него снарядики и ударил по штырькам палкой. Взрыв был не сильный, но в монолитном металле образовалась глубокая оплавленная воронка.
Еще когда экипаж Суворова находился на пути домой, в сторону Орловского аэродрома вылетел другой самолет-разведчик. Он и сфотографировал результаты этого эксперимента. Позже на снимках насчитали 18 горящих самолетов. Голуби-бойцы не подвели…
Общими усилиями трех фронтов — Западного и Центрального, наносивших удары с севера и юга, и Брянского, наступавшего с востока, — орловская группировка вражеских войск была разгромлена. 3 августа перешли в наступление войска Воронежского и Степного фронтов. Не удалось немецко-фашистским захватчикам осуществить свои черные замыслы. Наступило время, когда руководимые Коммунистической партией советский народ и его Вооруженные Силы добились коренного перелома в войне. Приятно сознавать, что в победу над врагом на Курской дуге внесли свои усилия и экипажи нашего разведывательного полка…
В составе наземного эшелона я еду в машине фотолаборатории, именуемой кратко ПАФ. В пути нас несколько раз атаковали немецкие самолеты. Но, замечаем, немец стал уже не тот, трусливее, что ли. Самолеты стараются поскорее отбомбиться и улететь восвояси. Это уже о чем-то говорило: сбили мы с гитлеровцев былую спесь.
Едем через ставшую знаменитой Прохоровку. Вокруг черное, изрытое гусеницами, усеянное воронками поле. Стоят сгоревшие и разбитые танки, самоходки. Здесь советские танкисты столкнулись в таранной схватке с гитлеровскими «тиграми» и не отступили. Нельзя было отступить.
Смотрю на это поле ратной славы и невольно вспоминаю все, что довелось пережить мне и моим однополчанам почти за полгода, связанных с Курской Дугой. Ни горечь потерь боевых друзей, ни перенесенное высочайшее моральное и физическое напряжение — ничто не сломило наш дух. И это не просто высокие фразы. Я запомнил на всю жизнь, как тряслись от напряжения руки и невозможно было прикурить папиросу от папиросы. Советский воин выдержал, устоял и победил.
Что нам помогло тогда, откуда черпали мы неиссякаемые силы? Ответить на эти вопросы и легко и сложно. Думается, во многом здесь заслуга не только советского командования, мощного оружия и первоклассной боевой техники, но и того морального настроя, который не давал людям терять веру в нашу победу. Очень много сил и энергии отдали сражению на Курской дуге партийно-политические органы, коммунисты и комсомольцы. Большим авторитетом пользовались в нашей оперативной группе парторги эскадрилий штурман капитан Ветлужских и летчик капитан Паволокин. Это были чрезвычайно корректные, душевные люди. Их авторитет держался на личном примере и справедливой требовательности к нам.
Комсорг полка Сергей Завада, а позднее Миша Шабалин всегда находились среди молодежи. С утра до позднего вечера их можно видеть то в одной, то в другой группе молодых авиаторов.
…В августе 1943 года шесть экипажей запасного авиационного полка, находившегося в Татарии, закончив программу боевого применения пикирующих бомбардировщиков Пе-2, ждали отправки на фронт. Как раз в это время туда прибыл наш капитан Колодяжный. Командование нашего полка поручило ему подобрать летчиков для пополнения поредевших эскадрилий воздушных разведчиков. Колодяжный сумел уговорить эти экипажи. Пока оформляли все необходимые документы, в Казань вернулся со специальных курсов командир звена старший лейтенант А. Мирович. Удалось сманить в воздушные разведчики и его. Вскоре все новоиспеченные воздушные разведчики прилетели на стационарный аэродром в Чкаловской. Командование полка особенно обрадовалось, что ему удалось заполучить такого опытного летчика, как Мирович. Вместе с тем оно предвидело, что самовольство летчика может обернуться для него большими неприятностями. Поэтому Мировича в срочном порядке отправили на оперативный аэродром в Курск.
Тревога полкового начальства оказалась ненапрасной. Из Татарии в штаб 16-й воздушной армии поступило категорическое требование немедленно вернуть старшего лейтенанта Мировича в запасной полк как дезертира. Командующий 16-й воздушной армии генерал С. И. Руденко (впоследствии маршал авиации), в свою очередь, приказал командиру полка Артемьеву доложить по существу дела, а разобравшись, разрешил оставить Мировича у воздушных разведчиков. В Казань ушла телеграмма, что летчик Мирович… не вернулся с боевого задания.
Забегая вперед, скажу, что осенью 1944 года он побывал в городе, где жила его семья. На груди воздушного разведчика уже было три ордена боевого Красного Знамени. Затем Мировичу и штурману И. Мельникову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Анатолия Мировича сразу же полюбили за спокойный, рассудительный склад характера. Он умел выслушать человека и что-то посоветовать, успокоить, а если было в его силах, то и помочь. Он прекрасно летал и, по мнению многих, был врожденным воздушным разведчиком. Самозабвенно любил поэзию, писал неплохие стихи.
После войны Анатолий Иванович долгие годы преподавал в военно-воздушной академии, которая ныне носит имя Ю. А. Гагарина. Однако постепенно начала сказываться война с ее тяжелыми перегрузками, с нервными перенапряжениями. В 1980 году его не стало. Герой Советского Союза Мирович похоронен в городе авиаторов — Монино…
Я не случайно заострил внимание именно на летчике Мировиче. Такие люди понесли боевую эстафету нашего разведывательного полка дальше, приумножая его славу. Впереди полк ждали боевые дела, о которых нельзя умолчать. Он принимал участие в освобождении Киева, Львова, многих городов в Польше, его экипажи видели уличные бои в Берлине, а потом и Знамя Победы над разгромленным логовом фашистского зверя…
События Великой Отечественной войны стали достоянием истории. И чем дальше их отделяет от нас время, тем величественнее предстает перед миром наша Победа. Велика ее цена. За свободу и независимость Родины отдали жизнь миллионы советских людей. Но память о них никогда не умрет.
Литературная обработка В. ХОРЕВА
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ