ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
Драма в раю (По новейшим исследованиям)
…Когда Ева была создана, Адам был как в чаду от восхищения. Месяцами — идеалисты даже утверждают, годами — не уставал он ласково шалить и болтать с ней, говорить ей сладчайшие речи, пропускать ее длинные золотистые волосы между своими пальцами.
Они стояли рядом у сверкающей реки, протекавшей по райскому саду с востока на запад. Гигантские мечеобразные лилии высовывали свои головки и выпрямляли свои лиловые чашечки. Цветы, казалось, были насажены на острия копий, чтобы никого не ранить.
Тростник покачивал свои кудрявые чашечки и темнокрасные бархатные головки.
Сквозь прозрачную листву ив, склонявшихся с задумчивой кокетливой покорностью, просвечивал все более и более разгорающийся пурпур вечернего неба. Медленно спускался он к горизонту и рассыпал пламенные розы сквозь сеть отражающихся в воде тростников.
Мир был полным отражением счастливой любви, и первая человеческая пара благодарила друг друга глубоким поцелуем за блаженство этой минуты. Один казался для другого творцом этой красоты…
Адам срывал цветы и относил их целыми горстями Еве, сидевшей на корточках в траве и сплетавшей из них гирлянды.
Окончив плести, женщина, смеясь, обвивала себя и возлюбленного разноцветными гирляндами и концы их завязывала узлами. Крепко сплетенные, смеялись они, глядя друг другу в глаза, затем становились серьезными и их поцелуй говорил: «Навеки!»
Они входили вместе в серебристую воду. Их белые тела отражали блеск плывущих рыб. Они затевали сладкие, веселые игры. Золотистые волосы Евы рассыпались на зеркале вод, словно солнечное сияние. Затем, усталые, ложились они на мягкую траву, склонив голову на руки и обратив лицо к земле, чтобы солнце осушало их влажные тела.
В прохладные серебристые ночи, наступавшие вслед за жгучими, полными истомы днями, они прогуливались, и один прятался от другого в кусты. Ева умела дразнить, подражая птицам, и заманивала друга в глубь леса. Внезапно женщина выбегала, смеясь и целуя, бросалась в объятия ищущего…
Так продолжалось долго, долго…
И пришло время, когда Адам стал бродить один. Задумчиво глядел он на зверей, на растения сада и часто останавливался посредине перед большой яблоней. По широко раскинувшимся ветвям ее, дивно блестя, скользило в вечном бесшумном движении узорчатое тело мудрой змеи. Лукаво блестели ее глаза, и высовывался остроконечный язычок, как маленькое знамя, развевающееся из окна.
Из заманчивой листвы сверкали красные яблоки — плоды, которые были запрещены ему и Еве.
Взад и вперед ловко скользило среди них тело змеи, ни разу не обломав ни одного из плодов.
Часами мог смотреть Адам на это гибкое тело, как оно исчезало и вновь появлялось, как ежеминутно сверкало при каждом повороте. Затем, раздосадованный, возвращался к Еве, не отвечал на ее ласки или даже, ворча, отталкивал от себя. Иногда она обиженно удалялась, пока он сам, не наскучив молчанием, не вызывал ее. Но большей частью ее веселое настроение брало верх. Тогда она придумывала сладкие игры, очаровывала его тысячью милых причуд и снова вызывала его улыбку.
Однажды Адам, стоя перед деревом, решился заговорить с змеей.
— Почему я так люблю смотреть на тебя? — спросил он.
И змея ответила:
— Потому что я — движение и перемена.
Тогда Адам испугался и быстро отошел, так как в нем пробудился голос, жалобно говоривший всякий раз, когда он думал о Еве: «Все та же! Горе мне — всегда и вечно та же самая женщина!»
Но его опять неудержимо влекло к змее.
На следующий день он снова стоял перед древом познания и, с бьющимся сердцем, поверял змее свое недовольство.
Она соскользнула на нижние ветви, ближе к нему.
— Здесь, в саду, нет перемены, — шипела она. — Здесь царствует равномерность вечного блаженства. Но как только ты вкусишь от этого яблока, ты приобретешь мудрость и узнаешь, как изменить свою судьбу.
— Я томлюсь по огорчениям! — бессознательно промолвил Адам и вздохнул. — Я хотел бы уйти из сада равномерного блаженства к другим женщинам… Но я не должен делать первого шага — я дал честное слово мужчины.
— Я знаю один путь, — тихо сказала змея. — Приведи ко мне твою жену!
Оживившись, Адам стал искать свою подругу. Со сверкающей веселостью прежних дней дразнил он ее и, счастливая, она прижалась к его груди.
— Пойдем, побродим немного! — предложил он и руками обвил ее шею. — Уже близится вечерняя прохлада.
Солнце погружалось в золотистые острова облаков. Свежий ветерок забавлялся листами деревьев и выпрямлял сонные стебли цветов…
В блаженстве Ева не замечала, что обвивающая рука спутника влекла ее к определенной цели. Как некогда, она думала бродить с ним счастливо, без всякой цели…
И внезапно она очутилась перед древом познания. В вечернем сиянии яблоки его казались огненными шарами. Змее спустилась к ней близко до самого ствола. Ева испугалась, и ее глаза искали защитника — но Адам исчез.
Трепеща, как зачарованная коварным взглядом необыкновенного создания, стояла Ева под деревом…
— Возьми и ешь! — сказала змея. — Разве Господь не велел вам есть плодов сада? Посмотри, как мои яблоки полны сочности и сладости!
— Эти плоды нам запрещены, — сказала женщина, — а то мы умрем!
— Умереть! — подумав, сказала змея. — Что это такое?

Умереть — это бессмысленное слово. Нет, вам только потому запрещено отведать плода, чтобы вы не стали всезнающими, как Бог, и не познали бы добра и зла. Возьми и съешь!
Как они сверкали, роскошные плоды! И когда Ева, все еще колеблясь, протянула руку к яблоку, змея как бы нечаянно толкнула его, и оно упало в простертую руку женщины.
И удивительно внезапно Адам снова очутился около Евы и сладострастно смотрел на яблоко, которое женщина подносила ко рту под очарованием его взгляда. И как бы нечаянно плод лежал и в его руке, и он ел…
(Продолжение см. Бытие, гл. 3, стих. 7).

Толкование к 1 главе книги Есфирь (Без всякой подделки)
Празднества во дворце царя Агасфера.
Вокруг порфировых и мраморных колонн обвивались пурпуровые материи и гирлянды бархатисто-серых масличных ветвей, переплетенных с удивительными цветами. Гости в дорогих украшениях прохаживались по залам. Граненые драгоценные камни, вспыхивавшие при солнечных лучах, озаряли их на мгновение своим блеском. Затем фигуры снова исчезали в таинственной тени тонко отшлифованных мраморных окон, сквозь которые дневной свет бросал на них темно-золотистые пятна.
Был вечер третьего дня. На возвышении королевского зала возлежали на подушках Агасфер и его друзья, опьяненные благороднейшими винами королевских погребов. Глаза их были затуманены, белки покраснели, и они смеялись, сами не зная чему.
Одна из полуобнаженных танцовщиц, танцевавшая между колоннами, сорвала венок с выступа колонны, надела его себе на голову и смело засмеялась, глядя вверх.
— Прекрасный болотный кипарис долины! — улыбнулся влажными углами губ, окаймленных черными усами, Митрон, сын Кефиты, сидевший рядом с царем.
— Пусть откроются глаза моего брата! — прервал его Агасфер. — Разве ее щиколки не похожи на шишки зоба?
Митрон, сын Кефиты, засмеялся только и поднял руку, чтобы сделать знак танцовщице, но царь крепко схватил ее.
— Избави Боже, чтобы взгляд брата моего обращался на недостатки низших людей! Пусть мне будет дозволено поучить его. Чтобы он научился различать — он должен увидеть совершеннейшую женскую красоту.
И, взяв сосуд с вином из рук прислужника так поспешно, что ковер оросился темным вином, царь приказал:
— Пойди в женские покои и позови царицу Басти. Я велю ей прийти сюда без платья и плаща. Она должна явиться ко мне из своих покоев, как белый месяц из облаков, непокрытой, какой сотворила ее рука Создателя.
Прислужник быстро дотронулся лбом до края ковра, влажного от вина, и его легкие шаги потерялись в проходе колонн.
— Вы будете благословлять свои глаза за то, что они могут видеть нечто подобное, — торжествующе вскричал царь, обращаясь к друзьям, — и ваше сердце будет полно благородной завистью, как ваши кубки сладким вином.
Друзья поднялись на локтях. Их взгляды остро впились в сумрак колонн. Они молчали и ждали.
Наконец, в проходе раздались легкие шаги раба. Он пришел один.
Три раза дотронулся он лбом до ковра.
— Пусть облако гнева моего повелителя не разразится над его недостойным слугой! Царица отказывается прийти.
— Отказывается! — Царь вскочил. Синяя жила вздулась на его виске. Его борода тряслась. — Почему?
— Госпожа так сказала своим подругам: «Вероятно, мой господин приказал это в хмелю, и он плохо поблагодарит меня, если я его послушаюсь. Разве он мог бы желать осквернить перед посторонними, пьяными мужскими глазами то, что предоставлено священной минуте любви?»
В глазах Агасфера, налившихся кровью, покачнулись колонны. Он чувствовал насмешливые взгляды гостей. Но он не видел спокойного, одухотворенного лица прислужника.
Ужасным голосом он вскричал:
— Если царица Васти ослушается приказания своего господина, то с этой минуты она больше не царица! Пусть она уберется из моего дворца, из моего города, из моей страны— пусть никогда не показывается мне на глаза!
Гневно покинул Агасфер залы дворца. И потухли праздничные огни. Три дня и три ночи сидел он, запершись в своих покоях. Его душа неистовствовала, так как он совершил бесстыдство и глупость. И вот, чтобы не сознаться в своей неправоте, он принес в жертву свою красивую, добродетельную жену.
Потому что он был мужчиной.
Но он остерегался подвергнуть такому же испытанию свою вторую жену. Тонкая и умная Эсфирь указала бы, вероятно, более строго своему повелителю на его обязанности джентльмена.
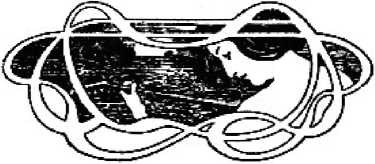
Красная Шапочка
Жила однажды миленькая девушка, лет семнадцати, по прозванию Красная Шапочка, так как она постоянно носила подаренную бабушкой красную теннис-кепи, которая ей была замечательно к лицу. Бабушка страшно любила Красную Шапочку, и все знали, что она даже назначила ее полной наследницей своего большого состояния.
Однажды мать Красной Шапочки сказала своей дочурке:
— Милая Красная Шапочка, ты знаешь, что у бабушки была инфлюэнца и что она до сих пор еще не выходит. Поезжай к ней на виллу и отвези эту книжку (можно вставить название какой угодно модной книжки), но не заглядывай в нее, тебе еще неприлично ее читать. А главным образом, выйди из трамвая только перед домом бабушки и не ходи одна по главной улице, — будь послушна!
Красная Шапочка обещала, завернула книжку в шелковую бумагу и направилась к ближайшей остановке трамвая. Но солнце так чудно сияло в окна магазинов, заставляя переливаться драгоценные камни в ювелирных витринах, обращая цветы на дамских шляпах в живые грядки и — о восторг! — освещало так заманчиво блузки в магазинах Confections, что Красная Шапочка и думать забыла о данном обещании и в самозабвении шла по главной улице. Как очарованная, остановилась она перед окном магазина модных ювелирных изделий и жаждала… жаждала…
Вдруг из-за ближайшего угла вышел злой барон Вольф[1], высматривающий всегда молоденьких, глупых девушек. Он давно приметил Красную Шапочку; она же никогда не обращала на него внимания и не знала, что он дикий зверь, пожирающий молодых девушек.
Он подошел к ней сзади и, указав изящным жестом на драгоценные украшения, сказал:
— Пожалуйста, выберите себе что-нибудь, милая Красная Шапочка.
Красная Шапочка испугалась. Но барон Вольф мягко и дружески сказал:
— Не бойтесь меня, я очень люблю молодых девушек… Что у вас такое в свертке?
— Книжка для моей бабушки, которую мне нельзя читать, — ответила Красная Шапочка. — Бабушка больна и не может выходить.
— Это очень хорошо с вашей стороны, милое дитя, — похвалил барон Вольф. — Где же живет ваша бабушка?
— За городом, на вилле, — сказало доверчивое создание. — В прекрасном саду с фонарями у портала, там, где много орешника и где у пруда устроена новая площадка для лаун-тенниса.
— Ах, да, верно! — воскликнул барон Вольф, обрадованный, так как он тотчас припомнил этот дом.
— Как я счастлив познакомиться с вами, милое создание! — продолжал он. — Конечно, вы делаете некоторые покупки для вашей милой бабушки — а я должен торопиться. До свиданья!
Почтительно поклонившись, он удалился и поспешно вскочил на площадку проходившего трамвая, идущего за город к виллам.
Здесь он скоро нашел вышеупомянутый дом, позвонил у портала с фонарями и спросил у отворившей ему девушки:
— Милочка, как себя чувствует ваша госпожа?
Думая, что видит перед собой хорошего знакомого барыни, девушка ответила, что госпожа чувствует себя сегодня немного лучше, но еще не принимает.
Барон Вольф выразил сожаление.
— Мне поручено обождать здесь Красную Шапочку, чтобы проводить ее в сохранности домой, — сказал он. — Сейчас она будет здесь. Проводите сначала барышню ко мне, так как я должен сообщить ей кое-что.
Девушка провела барона в столовую, полутемную от спущенных штор. Барон Вольф уселся в темный угол на софу и накинул на себя покрывало[2].
Между тем Красная Шапочка купила в оранжерее чудный букет для бабушки, погуляла немного по городу и через полчаса после прихода барона достигла виллы бабушки.
Здесь ее тотчас провели в столовую. Ослепленная уличным солнечным светом, она удивленно остановилась у двери. Неясно различила она фигуру на софе.
— Бабушка, — сказала она робко, — какие у тебя блестящие глаза!
— Это для того, чтобы легче воспламенить тебя, — тихо ответил барон Вольф.
— Бабушка, какие у тебя длинные руки!
— Это для того, чтобы тебя лучше обнять.
— Ах, бабушка, за твою болезнь у тебя выросла отвратительная борода!
— Для того, чтобы лучше целовать тебя! — вскричал Вольф, спрыгнул с софы и привлек испуганную девушку в свои объятия.
В это время подъехал в своем экипаже домашний врач бабушки, доктор Егер. Доктор, человек чрезвычайно практический, известный в городе под кличкой «Охотник за приданым»[3], давно преследовал барона Вольфа, уже несколько раз встававшего ему на пути.
В этот день, конечно, он не подозревал его близости. Но он заметил спущенные шторы столовой и подумал: «Неужели старуха, несмотря на мое запрещение, встала с кровати?» и поспешно велел провести себя в столовую.
Как только Красная шапочка заметила открывшуюся дверь, она стала сильнее, чем прежде, отбиваться от нежностей Вольфа. Она даже закричала….
— Наконец-то ты в моих руках! — вскричал Егер в рыцарском негодовании и, за неимением оружия, вынул из кармана футляр с хирургическими инструментами, что произвело не меньшее впечатление. С большой царапиной на лбу, злой Вольф выбежал из дому и бросился в сад к пруду, чтобы смыть кровь с лица: в первый раз Красной Шапочке пригодились ее длинные, красивые от природы ногти. В своей поспешности, Вольф чересчур наклонился, упал в пруд и был вытащен прибежавшими на его крик слугами мокрым, как собачонка, вполне охлажденным от пыла и без своего чудесного парика.
А доктор Егер подвел Красную Шапочку к постели бабушки и вкрадчиво сказал:
— Вот ваша драгоценность, сударыня, — я спас ее вам из когтей хищного животного. Как бы я был счастлив, если бы вы доверили мне ее навсегда!
Бабушка была поражена и тронута. Красная Шапочка не могла опомниться в течение нескольких минут. Но, когда Егер привлек ее к себе и тихо шепнул: «Я всегда тебя любил», она моментально заметила и в себе то же самое и доверчиво прижалась к его обвивающей руке.
От великой радости бабушка снова выздоровела и могла встать. Втроем уселись за стол, пили шампанское, ели сливочные торты, и Красная Шапочка наивно сказала:
— Я никогда больше не пойду по главной улице, если милая мама запретит мне это.
— А со мной? — спросил Егер с нежным упреком.
— С тобой? — сконфуженно прошептала Красная Шапочка, прижимаясь к его плечу. — С тобой…. даже на классическую пьесу…
О рыбаке и о его женах
Жил однажды рыбак со своей женой. Жили они в избушке, на берегу моря. Он был представительный мужчина, у нее же был только один глаз, которым она могла видеть все хорошие качества мужа. Другой же, которым она могла бы видеть его недостатки, он выбил из предосторожности в первый год брачной жизни. Таким образом, она просто молилась на мужа, баловала его и вселила в него убеждение, что такого второго замечательного человека нет на свете. И он начал презирать всех людей, не похожих на него, которых не понимал или которые не ценили его высоко. Под конец даже собственная жена сделалась для него недостаточно хороша. К тому же, его тщеславие было уязвлено тем, что она одноглазая и не обладала никакими талантами…
Уже десять лет, как они были женаты.
Однажды он сидел у моря, ловил рыбу и пел звонкую, страстную песню, разносившуюся по поверхности вод, на которых скользили, искрились и прыгали блестящие солнечные лучи. Каждая волна несла к берегу кусочек светящейся синевы неба… После долгого ожидания рыбак почувствовал, что его сеть становится тяжелой и, вытащив ее, он нашел в ней трепещущую золотую рыбку.
Очень обрадованный, рыбак хотел отнести свой улов домой. Но рыбка заговорила и сказала ему:
— Все мужчины хотят меня выловить, но я не для тебя предназначена. Если ты меня отпустишь, то я исполню все твои желания.
— Тогда… тогда… — задыхаясь от радости, воскликнул рыбак, — я желаю иметь другую жену, жену с двумя глазами, и чтобы она была певицей.
— Пойди домой, — сказала рыбка. — Она тебе уже споет.
Когда рыбак вернулся домой, к нему навстречу вышла из домика стройная дама с обоими глазами.
— Ты мое сердце, моя душа! — пропела она из романса Шумана, упала ему в объятия, полная глубокой любви, и поцеловала его. Он же стоял спокойно. Наконец она сказала ему, чтобы он так же поцеловал ее. Но он возразил, что должен сначала испытать, достойна ли она такого счастья. Тем не менее, в конце концов он выказал себя довольным и с ласковыми словами повел ее в домик.
Но вскоре он начал бояться, как бы ее пение не стало нравиться людям больше, чем его собственное. К тому же, он заметил, что она обоими глазами видит отлично все его многочисленные недостатки. И вот однажды он набросился на нее, что ее пение для него пустяки, и чтобы она не смела открывать рта.
Певица испуганно замолчала. Никто еще не обращался с ней так неприязненно, и она подумала, что у мужа имеются, вероятно, глубокие причины для неудовольствия. Она покорно позволила завязать один глаз платком, так как он этого требовал. С тех пор и она не могла более различать его слабостей, подчинялась ему во всем и стала даже более уступчивой, чем была одноглазая, так как причину каждого его неудовольствия искала в себе.
Между тем, рыбак становился все более и более несносным. Он ворчал на завязанный глаз жены, на ее умолкнувшее пение, не приписывая вину себе.
И однажды, ровно через десять месяцев после свадьбы с певицей он отправился к морю, чтобы снова посоветоваться с золотой рыбкой.
На западе поднялось темное облако. От его отражения море потемнело, как свинец, и легло у ног рыбака.
Он приложил руки ко рту и закричал:
Рыбка, рыбка, не простая
Рыбка, рыбка золотая,
Ильзебила не жена, как я хотел
Брак мне с нею надоел!
Рыбка высунула свою красновато-золотистую головку и спросила:
— Чего же ты хочешь?
— Знатную, очень знатную жену! — сказал рыбак. — Я достоин по меньшей мере графини.
— Пойди домой, — сказала рыбка. — Графиня уже ждет тебя.
Войдя в домик, рыбак увидел в комнате даму, имевшую очень важный вид, с благосклонной улыбкой протянувшую ему руку для поцелуя. Она называла его «mon cher», говорила мало, и на губах ее была неизменная приятная улыбка. Своим спокойным благородным видом она чрезвычайно ему импонировала, и вначале он чувствовал себя очень счастливым.
Замечает ли она его недостатки, интересуется ли им — этого он никак не мог понять. И через некоторое время это стало раздражать его. После десяти недель совместной жизни, когда на какой-то очень серьезный и важный для него вопрос она ответила своей обычной неизменной улыбкой, он вышел из себя и набросился на нее со злыми, грубыми словами.
Обернувшись и холодно взглянув на него, она сказала с равнодушной благосклонностью:
— Успокойся, mon cher. Ты слишком выказываешь сегодня, что ты не кто иной, как простой рыбак.
Эти слова ударили его, как хлыстом. Раздраженный донельзя, во весь опор бросился он к морю. Разразилась буря. Темные тучи мчались, как черные птицы, волны бушевали с диким ревом, подбрасывая высоко в воздухе белую пену. Пронзительно кричали чайки, боровшиеся с ветрами и беспокойно кружившиеся вокруг лодок, которые поспешно возвращались к берегу.
Рыбак стоял на берегу и бешенные волны хлестали его ноги в то время, как он кричал:
Рыбка, рыбка не простая,
Рыбка, рыбка золотая!
Моя графиня неприлична
Она уж слишком флегматична.
— Чего же ты теперь хочешь? — спросила рыбка, выплывшая на поверхность моря вблизи рыбака.
— Я хотел бы чего-нибудь необыкновенного: самую красивую женщину в мире, — сказал рыбак тоном человека, которому причинили несправедливость и который отстаивает свое право.
— Так пойди домой, — сказала рыбка. — Вот ты удивишься!
Поспешно побежал рыбак в свою хижину. В комнате на софе лежала женщина неописанной красоты в раздушенном капоте. Пышные золотисто-пепельные волосы бросали прозрачную тень на ее лоб. Под длинными, черными, загнутыми кверху ресницами блестели глаза, которые, казалось, таинственно, сладко манили… Подав свою маленькую ручку, украшенную кольцами, ошеломленному рыбаку, она поднесла к маленькому носику платок и приказала мужу взять ванну из благовонных трав, чтобы уничтожить невыносимый запах дегтя, смолы и рыбы. Неприятно задетый, он, тем не менее, почтительно внял этому указанию. Затем она расчесала ему волосы, называла «милым Эдгаром», хотя его звали Антоном, заставляла его прислуживать себе, посылала то туда, то сюда, так что бедному рыбаку не было ни минуты покоя. Он должен был заниматься хозяйством и служить горничной своей красавице. В течение одной недели из-за ее роскошных туалетов он впал в большие долги, так что не знал, как ему выпутаться. К тому же его немало беспокоило то, что она называла его то Эдгаром, то Родерихом, то Вернером. Когда же он спрашивал ее, капризы ли это или воспоминания, то она смеялась, осыпала его безумными поцелуями, причесывала а lа черт побери или кусала ему усы.
Через десять дней она послала его на рыбную ловлю, сама же отказалась поехать… Когда через некоторое время, мучимый беспокойством, он вернулся, то нашел свою красавицу у окна. Ее белокурая головка покоилась на великолепной, выложенной ватой груди стройного офицера.
С криком смертельного негодования бросился он назад и побежал к морю так скоро, как только ему позволяли ноги.
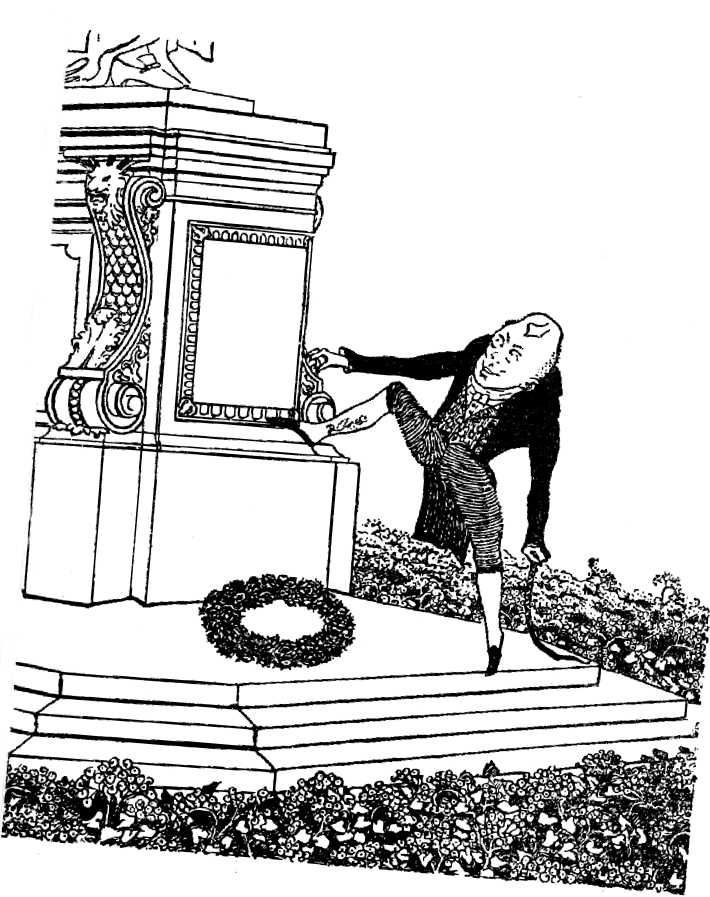
Но как вдруг все потемнело в природе! Дождь, свистя, точно ударами хлыста образовывал борозды на кипящей пучине, над которой все глубже и глубже опускались черные чудовища облаков. Буря с ревом разрывала черные пропасти, вздымала остроконечные волны, сгибавшиеся как паруса и несшие белую пену к берегу.
Прижавшись к скале, рыбак закричал в дикую стихию:
Рыбка, рыбка не простая,
Рыбка, рыбка золотая,
Моя красавица-жена
Оказалась неверна!
Как будто смех раздался из крутящихся волн. Выставилась золотистая головка рыбки и спросила:
— Ну, какую же жену ты хочешь теперь?
— Только не такую легкомысленную! — воскликнул рыбак. — Лучше очень строгую — самую знатную, какая только бывает на свете. Пусть она будет самой царицей.
— Иди домой, — сказала золотая рыбка, — она уже царствует.
Дома рыбак нашел свою комнату, полную людей. Посередине ее на возвышении сидела гордая женщина, и один из окружавших ее господ читал доклад. Она высказала свое мнение, затем подозвала одного за другим окружавших ее господ и взяла у них прошения. Входили и выходили чиновники с деловыми бумагами, письмами, депешами, предлагались и назначались производства и награды. Рыбак переминался с ноги на ногу. Никто, казалось, его не замечал… Наконец царица обратилась к нему.
— Чего ты хочешь, мой милый? — спросила она снисходительно.
— Черт подери! — выпалил рыбак. — Что же, собственно говоря, мы муж и жена или нет?!
Царица невольно покраснела и сказала ледяным тоном:
— Как только у нас будет время для личных дел, я предоставлю министру рассматривать эти бумаги. Пока же я попрошу не задерживать хода дел подобными пустяками.
Итак, бедный рыбак стоял и ждал. Но больше десяти часов он не мог выдержать. Он был как на иголках. С беспорядочными мыслями в голове и до крайности выведенный из себя, он покинул дом и, несмотря на бурю, град и дождь, бросился к морю.
Между тем, ярость стихий достигла высшего напряжения. С темного неба хлынули потоки воды и в бешеном круговороте кружились над волнами, которые, как бы крича о помощи, выставляли белые пенистые руки. Земля колебалась под ударами. Вою и реву из ее глубины отвечали ужасные раскаты грома сверху.
Шатаясь, старался рыбак держаться на ногах и прерывающимся голосом кричал в бушующую стихию:
Рыбка, рыбка не простая,
Рыбка, рыбка золотая!
Царица-то, моя жена,
И не смотрит на меня!
— Вот тебе и на! — торжествовала рыбка, выплывая на поверхность моря как раз вблизи рыбака. — Ну, какую же жену ты хочешь теперь?
— Жену? одну жену? — в отчаянии воскликнул рыбак. — Теперь я вижу, что одна никогда не бывает самой настоящей. Я должен иметь выбор! Большой выбор! Я хочу иметь святую Урсулу со всеми ее одиннадцатью тысячами дев!
Тогда раздался ужасный гром. И вдруг все затихло. Из успокоившихся волн выглянула золотая рыбка и холодным насмешливым тоном сказала:
— Пойди домой — там опять сидит твоя одноглазая.
Так оно и было. Вернувшись в хижину, рыбак нашел свою первую жену, которая от блаженства не могла произнести ни одного упрека и только всхлипывала от радости.
Совершенно пораженный, он благосклонно позволил себя обнять. И так они остались вместе на всю жизнь.
И это было самое правильное.
Тангейзер
— … Он ушел! — в отчаянии воскликнула Венера, как будто только теперь в ее сознании мелькнула мысль о неотвратимом. Ее божественные глаза медленно наполнились слезами.
— Он ушел! — печально повторили ее прислужницы. Все они любили Тангейзера.
Услышав подтверждение своему горю из уст других, Венера, рыдая, бросилась на свое пурпуровое ложе и плакала, закрывшись тяжелыми золотистыми волосами.
Никто не осмелился издать звука.
Вдруг завеса на двери поднялась. Вошедший кудрявый мальчик золотой лютней придержал тяжелую материю и глазами спросил, что такое с его госпожой. Несмотря на предостерегающий знак прислужниц, он прокрался ближе, принес скамеечку и безмолвно уселся около ложа. Он смотрел на белые плечи Венеры, беззвучно вздрагивавшие от рыданий, и, точно вопрошая, тихо дотронулся до струн лютни.
При мягком звуке арпеджио Венера встрепенулась, и ее взгляд выражал: «Ты мучаешь меня!»
Поплакав некоторое время еще сильнее, она успокоилась, вызывающе подняла голову и взглянула на мальчика.
Он начал печальную прелюдию и затем запел сладким, звучным голосом.
Вот что пел мальчик:
«Он ушел, осчастлививший и осчастливленный!
Он разорвал расшитый жемчугом покров опьянения, так что жемчуг рассыпался слезами.
Прельщенный горячей сладостью любви, убежал он к суровому холоду, от мягких подушек — к твердым выступам скал.
Но он снова вернется! Кто любит любовь, а не возлюбленную — тот вернется. Он тянется от счастья к счастью и не замечает, что вокруг него круглая решетка.
Для своей песни певцу необходима смена страданий и счастья, горечи и сладости. А твой возлюбленный — певец.
Он снова вернется!»
Мальчик умолк. Удивленная, смотрела Венера на чистое, ничего не подозревающее лицо ребенка.
— Кто научил тебя этому, дитя? — спросила она, подымая голову.
Но мальчик смутился, стал угрюмым и выскользнул из комнаты, так как не знал, что ответить.
Тангейзер в это время пел свою песню на земле перед прекрасной Елизаветой Тюренгенской. Но его сердце певца не давало ему успокоиться. В самопожертвовании и раскаянии искал он мира и успокоения, не зная, что мир и успокоение созданы не для сердца певца.
В далекой Венгрии он нашел глубокую пещеру и вошел в нее. Это был другой вход в грот Венеры. Подземные ходы к нему простирались через все страны и всюду вели к нему двери.
Венера вышла к нему навстречу, но он не узнал ее, хотя она ничего не изменила в своей внешности, кроме краски волос. С некоторых пор она красила их в черный цвет…
Для ближайшего свидания она выкрасит их в каштановый.

Годы учения Дон Жуана
Каждый психолог может поручиться, что Дон Жуан, подобно всякому другому, питал серьезные намерения к своей первой любви. По крайней мере, в первое время.
Убежденно клялся он в вечной верности и, выпив с девушкой первый бокал шампанского, стал откровенным и заговорил даже о женитьбе.
Она только отхлебнула от бокала и потому не потеряла рассудка.
— Ведь ты слишком молод, глупышка, — сказала она, нежно улыбаясь. Вероятно, ее звали Инессой. Ее волосы были золотисто-белокурые, а глаза как темные бархатные фиалки.
Он вспыхнул и невольно потряс шпагой.
— Слишком молод? Черт возьми! Ты считаешь меня за глупого мальчика?
— Нет. Но ты меня считаешь глупой девочкой.
Она крепко сжала его руку и приложила к своим губам.
— Я слишком люблю тебя, чтобы выйти за тебя замуж. Когда-нибудь ты мне будешь за это очень благодарен…
И она успокоила его своим самым верным способом.
Ее предсказание сбылось. Дон Жуан дожил до того дня, когда счел за счастье отказ Инессы. Это был тот день, когда он почувствовал, что любит во второй раз.
Он доказал Инессе свою благодарность, покинув ее.
Вместо того, чтобы счесть это вполне законным, Инесса пришла в отчаяние и, заливаясь горючими слезами, раскаивалась в том, что не вышла замуж за возлюбленного. Так глупы бывают умные девушки, особенно в любви.
Возможно, что вторая звалась Конхитой. Когда она распускала свои темные волосы, то они достигали до пола. Ее глаза сверкали черным пламенем.
С ней он уже не говорил о женитьбе. Он стал старше.
Так как она слепо молилась на него и верила каждому его слову, то он изливал на нее все свои настроения. Особенное удовольствие доставляло ему внушать ей, что она совершенно недостойна его. Если он хотел, чтобы она плакала, то писал в ее присутствии письма к Инессе. Он писал, что был счастлив только с нею и что горько раскаивается в том, что покинул ее ради Конхиты. И такие письма он прочитывал Конхите.
В отчаянии она подползала к нему на коленях и, плача, клялась вернуть его Инессе. Говорила, что хочет только его счастья, что о себе не думает, так как она недостойна его, и хочет умереть, что она была незаслуженно счастлива его поцелуями и что ей нечего больше ждать от жизни.
Понятно, для Дон Жуана это было только приятным развлечением.
В глубине души он вовсе не думал возвращаться к Инессе, так как Конхита, огненная и изменчивая, казалась ему более очаровательной.
Затем он увидел третью.
Она была высока и стройна, как пальма, высоко держала голову, что было ей совсем не трудно, так как внутри ничего не было.
Она была богата и знатна. И Дон Жуан подумал, что, действительно, наступила пора жениться.
Следует упомянуть, что третью звали Уракой.
Тотчас же он написал Конхите: «Я нашел женщину более достойную, чем ты. Я женюсь на ней. Изредка я буду писать тебе, чтобы облегчить твое справедливое горе».
Надломленная, пришла к нему Конхита, покорно целовала его руки, желала ему счастья в браке с той, которая более достойна, чем она.
Так глупы бывают благоразумные девушки, особенно, когда любят…
В течение двух недель Урака заставляла Дон Жуана томиться, петь ей серенады и, наконец, она уступила его настояниям, пошла к отцу и сказала, что хочет выйти замуж за своего поклонника.
Но Дон Гусман гневно сломал свою шпагу и воскликнул:
— Берегись, дочь моя! Этот Дон Жуан — донжуан. Если ты выйдешь за него, то я лишу тебя наследства.
Вечером в саду, когда было так темно, что цветы гранатовых деревьев не казались более красными, Урака среди поцелуев шепнула Дон Жуану, что отец не соглашается на их брак.
Опять Дон Жуан воскликнул: «Черт подери!» и схватился за шпагу. Его уязвленное самолюбие так сильно страдало, что он даже забыл о своем обещании написать Конхи-те. Покинутая девушка лежала на каменном полу своей комнаты, рвала на себе волосы и спрашивала, чем она провинилась перед своим возлюбленным, на которого продолжала молиться, что он наказывает ее таким жестоким молчанием.
Она не знала, что Дон Жуан не считает себя связанным честным словом по отношению к женщине.
Урака же позволяла целовать себе губы и руки, и это казалось ей приятным, а втихомолку зорко поглядывала кругом и искала другого жениха, более желательного ее отцу, так как имела твердое намерение не лишиться наследства.
Так благоразумны бывают глупые девушки, особенно в любви…
Дон Жуан ничего не подозревал. Он потерял терпение и решил силой увезти свою красавицу.
В одну темную ночь, которая была темней волос Ураки и непроницаемее ее души, он проник в дом, смертельно ранив шпагой мужчину, который вышел ему навстречу.
Урака прибежала со свечой и, как полагается, бросилась на тело отца.
— Пойдем, пойдем же! Теперь ты моя! — воскликнул Дон Жуан, стараясь поднять ее.
Но она цеплялась еще сильнее, подняла голову и прорыдала:
— Ни за что до вскрытия завещания. Если окажется, что наш брак влечет за собой лишение наследства, то я должна, о дорогой мой возлюбленный, отказаться от тебя! Имей терпение до вскрытия завещания!
После этих глубоко прочувствованных слов она снова отдалась своему горю.
Погруженный в глубокую задумчивость, Дон Жуан шел по улице… Время до вскрытия завещания казалось ему таким долгим.
Тогда вдруг он вспомнил о Конхите и о ее неизменной, терпеливой, покорной любви.
Он взял свою лютню, подошел к балкону Конхиты и запел серенаду.
Несчастная вышла на балкон, закутавшись черной шалью, так что во мраке ночи виднелось только ее лицо. Оно выглядело точно бледная печальная звезда.
— Кто насмехается надо мной? — спросила Конхита.
— Это я. Я не насмехаюсь над тобой! — сказал Дон Жуан. — Открой двери! Я жажду твоего поцелуя — до вскрытия завещания Дон-Гусмана!
Так глупы бывают рассудительные мужчины, особенно в любви…
Он ждал, ждал и стучал в ворота. Но они не отворялись, и бледное лицо потонуло во мраке ночи…
Тогда Дон Жуан рассердился и на видном месте ворот начертал своей шпагой следующее:
— Я всегда знал, что ты недостойна меня, холодная насмешница!
Не дожидаясь вскрытия завещания, он покинул город.
Этим начались годы странствований Дон Жуана.
В ближайшем городе он поцеловал первую попавшуюся красивую женщину, которая улыбнулась ему при встрече. За бутылкой вина он рассказал ей о трех ее предшественницах.
Но она все путала их имена, и это сердило его. Потому он составил ей список и велел выучить наизусть.
Вместе со списком явились честолюбие и желание продолжить список.
Он спешил с места на место, от женщины к женщине. Список все увеличивался, и Дон Жуан становился все более и более донжуаном.
Когда он рассказывал какой-нибудь новой женщине о ее предшественнице, то часто сам должен был заглядывать в список, так как количество имен очень сильно возросло.
Кроме того, память стала сильно изменять ему.
Когда, наконец, за Дон Жуаном явился дьявол, то кандидат в ад чрезвычайно поразился и разгневался.
Он указал рогатому на первых трех женщин принесенного им списка для того, чтобы дьявол сообщил ему их фамилии и адреса. Так как только они ответственны за весь его последующий образ жизни.
Инесса не хотела выйти за него.
Урака обманула его завещанием.
Но самая порочная — это Конхита, которая не приняла его, когда он, любящий, хотел вернуться к ней.
Дьявол так весело рассмеялся, что его бабушка убежала к дверям преисподней. При этом дьявол сунул ей в руку список в виде подарка на дорогу.
Так как она любит читать, эта бабушка дьявола.
Она основательно изучила всю библиотеку преисподней до последнего тома Станислава Пшибышевского включительно…

Три нимфы
В лунную ночь на лесной лужайке, куда стекаются с различных сторон три ручья, встретились три нимфы: Ундина, Мелузина и Раутенделейн.
Влажная печаль наполняла воздух и придавала луне удушливую бледность. Ее холодный свет, казалось, высосал все краски у цветов, такие они стояли бледные и поблекшие в густой траве.
Нимфы, казалось, влачили тяжелые думы. Медленно, подходили они, влача за собою влажные концы вуалей. И, только очутившись рядом, они подняли глаза и увидели друг друга.
Испытующе долгими взорами смотрели они.
— Ах, как вы печальны, мои сестры! — прервала молчание Мелузина, старшая из нимф.
— И ты также! — сказала средняя, Ундина, поднимая вуаль и отерев ею следы слез со щеки Мелузины.
Раутенделейн, самая младшая и наиболее подвижная из них, нагнулась, нарвала полную горсть цветов и сказала:
— Если бы одна из нас имела горе, а две другие только радости и счастье, то для страдающей было бы от этого гораздо хуже. Пойдемте, сестры, расскажем друг другу наши печали, переживем их втроем и тогда нам станет легче. Посмотрите, вон огромный камень — сядем на него. Подобно нам, он был рожден высоко и затем скатился в юдоль земной жизни. Мы были созданы для вечного веселья — но мир людей привлек нас к себе и научил плакать.
— Людей? Скажи — мужчин! — возразила Ундина. — Когда моим мужем был человек, то он рассказывал мне об одном дивном, теперь уже умершем народе, называвшемся греками. Их боги также спускались к людям и любили земных женщин.
Но они не гибли из-за этих женщин. Они жили счастливо и часто оставляли за собой загубленные женские жизни, когда снова возвращались на небо или предоставляли жертв своей любви мщению ревнивых богинь…
— Ты говоришь правду, — прервала Мелузина.
— Но мы не только жертвы мужчин — мы тоже мстительницы за женщин. Я, по крайней мере….
— Подождите! — сказала Раутенделейн. С изящной грацией она вспрыгнула на камень и стала связывать цветы.
— Сядем вместе, я вплету вам в волосы цветы, как я это делаю обыкновенно себе. Вот, вот место!
И все расположились. И месяц радовался прекрасной картине и в горестном недоумении прислушивался.
— В лесу, у моего ручья, — начала Мелузина, — я познакомилась и полюбила графа Раймонда, заблудившегося на охоте. Он был прекрасен и имел честные намерения. Я же, как многие девушки, думала, что с браком наступает радостное окончание романа.
Но у меня была свекровь…
Мои дорогие сестры, предостерегавшие меня против брака, как это делают обыкновенно незамужние подруги, устроили мне роскошную ванную комнату и провели мой ручей в тайное для всех здание. Каждую субботу я купалась там с ними. Раймонд свято обещал мне никогда не входить в это здание. Но, милые подруги, мужчины так любопытны! А Раймонд тем более, еще потому, что его мать говорила ему, будто я ношу искусно наклеенный парик, снимающийся только при купанье… Этим она подожгла его любопытство проникнуть в святилище. Мои подруги, глубоко уязвленные нескромностью моего мужа, отнесшегося с неуважением к купавшимся женщинам, увлекли меня за собой. Мой ручей также вернулся обратно в лес, где я печально сидела…
И Раймонду стало неуютно в опустелых комнатах. Он отправился искать меня туда, где увидел в первый раз. Я нашла его плачущим у моего грота. В наказание за его подозрение относительно белокурого парика я исполнила его желание и дала ему последний — смертельный поцелуй оскорбленной нимфы. Я зацеловала до смерти моего возлюбленного, нарушившего слово, и осталась одинокой…
С плачем Мелузина закрыла руками свое прекрасное, бледное лицо, и цветок, который Раутенделейн вплела ей во время ее рассказа, упал к ней на колени и соскользнул в воду.
— Удивительно как схожа моя судьба с твоей! — сказала пораженная Ундина.
— Рыбаки, жившие у озера, ничего не подозревая, воспитали меня, маленькую нимфу. Но мой дядя Кюлеборн не упускал меня из виду. Однажды прекрасный рыцарь Гуго фон Рингштеттен заехал в рыбацкий домик. Он увидел меня, полюбил, увез с собою в качестве супруги и, к своему собственному удивлению, одарил меня чувствующей человеческой душой — тем, что мужчины считают, обыкновенно, излишним у своих жен…
Но у него была подруга детства….
Чувствующая душа доставляла мне почти исключительно неудобства. Прежде всего, она меня мучила справедливой ревностью к подруге детства моего мужа, Бертальде. Она сумела пленить Гуго и зародить в нем неудовольствие по поводу его мезальянса. Например, дядю моего Кюле-борна, кавалера чистейшей воды, она называла водопроводчиком…
Итак, я должна была вернуться обратно в холод и сырость, где чувствовала себя совершенно не на месте. Поэтому в день свадьбы Бертальды и почти раскаявшегося Гуго я вылезла из колодца, и мой смертельный поцелуй спас его от несчастного брака с Ксантиппой Бертальдой.
Своими круглыми глазами Ундина смотрела в уплывающую даль, куда улетели ее счастье и преданная любовь…
— Не раскаивайтесь, сестры! — сказала Раутенделейн. — Вы свободны, по крайней мере. И когда оглядываетесь на прошлое, то у вас нет пут, отравляющих вам настоящее.
Я же знала только одно: вышла замуж по расчету за некрасивого Никельмана, у которого такой неприличный вид, что я стеснялась выходить с ним в лес по воскресным дням. Лесной, с которым я когда-то, будучи веселой сильфидой, флиртовала, наверное, дразнил бы меня….
В то веселое девичье время я нашла однажды перед моею дверью раненого человека, которого я проводила до дому и ухаживала за ним, пока он не выздоровел. Затем мы отправились с ним в горы. Он хотел, чтобы я вдохновила его на великое художественное произведение, я и вдохновила, но что мне было делать, если его талант не был так же велик, как его тщеславие.
Никогда не имейте дела с художниками, милые сестры!
Кроме того, у Генриха было прошлое…
— Оно бывает у всех мужчин! — воскликнули в один голос Мелузина и Ундина.
— Конечно, милые подруги, — согласилась Раутенде-лейн. — Но ни у кого прошлое не бывает в форме потонувшего колокола, начинающего внезапно раскачиваться и, подобно мине совести, взрывающего на воздух корабль счастья настоящего… Если мужчина нарушает брак, то у него, по крайней мере, не должно быть совести. Поэтому слова «брак на совесть» — lucus a non lucendo…[4] Итак, колокол исполнил свою обязанность, и Генрих покинул меня к тому времени, когда я почувствовала себя принужденной выслушивать бесконечные домогательства Никельмана. Ах, бедный Генрих! Он позволил себе двойную роскошь: иметь прошлое и совесть, и это сломило его. Когда он вернулся, то мне не следовало бы целовать его до смерти, но я была милосердна и дала ему последний поцелуй…
Раутенделейн умолкла. Все было спокойно, только ручьи тихо журчали. Потом все три нимфы взглянули на месяц и увидели, что он беззвучно трясется от хохота и вытирает платком слезы смеха.
Мелузина, оправившаяся первой, вполголоса сказала:
— Значит, моя судьба не представляет собою ничего исключительного.
— И моя также, — прибавила отрезвленная Ундина.
— Сестры! — воскликнула Раутенделейн, бурно спрыгивая с камня и бросая в воду оставшиеся цветы. — Разве не высочайшее и не наибольшее счастье женщины— любить и отомстить за себя? И разве мы нашей местью не избавили возлюбленных от уродливой жизни? Перенесем те же наше несчастье, как подобает нимфам, и посвятим какой-нибудь танец памяти наших возлюбленных, получивших от нас поцелуй смерти!
И они взялись за руки и в веселом праздничном хороводе кружились вокруг старого камня.
А месяц, высмеявший самого себя за то, что его ожидание услышать нечто новое снова не сбылось, стал серьезным и с наслаждением и радостью взирал на милое зрелище.
И при этом он думал, что судьба таких жалких мужчин, как Раймонд, Гуго и Генрих, слишком хороша и жаль, что они были любимы и получили последний поцелуй от таких женщин…

Лорелея
— Будь проклята! — воскликнул он, так как его лодка наткнулась на подводный камень и чуть-чуть не перевернулась. Поток увлек ее так близко к берегу, что сидящий в ней одним прыжком мог бы очутиться на твердой земле. Тем не менее, он предпочел остаться в лодке и снова вглядываться вверх, откуда доносилось к нему звучное пение и где, подобно золотому знамени, развевались от ветра длинные волосы, освещенные солнцем.
Она окончила строфу своей дикой фантастической песни. Он воспользовался этим моментом, чтобы снова повторить свое проклятие и на этот раз так громко, что она не могла не услышать его.
Пораженная, она стала прислушиваться, опершись руками на арфу, и, наклонившись, всматривалась вдаль, чтобы увидеть кричащего.
Он увидел пару чистых, детски удивленных девичьих глаз. Он ожидал губительного взора сирены и потому, пораженный неожиданностью, на мгновение остался безмолвным.
— Это меня ты проклинаешь? — воскликнула она и спустилась несколько ниже, чтобы лучше рассмотреть того, кто ее обидел.
Она была в тысячу раз красивее, чем он представлял ее себе, но настолько отличалась от образа, составившегося в его воображении, что, заикаясь, он спросил:
— Но ведь ты не Лорелея?
— Конечно, я Лорелея, — ответила она с невинным вопросительным выражением во взоре.
Несколько мгновений он молча глядел на нее.
И только когда она повторила свой вопрос, почему он ее проклинает, он вспомнил то, о чем хотел ей сказать. И его прежнее возмущение вернулось.
— Почему?! — и его глаза засверкали уничтожающим пламенем. — Потому что ты заманила меня взглянуть вверх, так что я чуть не погиб! Одним больше — какое тебе до этого дело! Твоя песнь зазвучит еще победнее над водной могилой всех тех, кто погиб у твоей скалы!
— Разве здесь утонули люди? — спросила она испуганно.
— Не разыгрывай невинности! — гневно воскликнул он. — Ведь ты все прекрасно знаешь. Твоими сверкающими волосами и песней ты заманиваешь и смущаешь нас. Ты хочешь нас уничтожить. Говорят, что утопающие слышат твой торжествующий смех!
Чуждо и недоумевающе глядела на него Лорелея. Она молчала. Наконец спокойно повернулась и стала взбираться вверх по ступеням скалы.
— Стой! — закричал он повелительно. — Почему ты не оправдываешься?
Она остановилась еще раз.
— Ты сам должен был бы оправдываться, — сказала она с упреком своим мягким бархатным голосом, — ведь ты обвиняешь меня, хотя я ни в чем не виновата. Что знаешь ты обо мне?!
Оцепенев, он смотрел на ее белое девичье личико и забыл весь словарь своего негодования. Его глаза следили за волнистыми золотыми линиями ее длинных волос, легкие прядки которых колыхались от ветра.
— Останься! — повторил он. На этот раз он сказал тихо и голос его дрожал.
— Что с тобой? — спросила она удивленно.
И он упал перед ней на колени. Подобно горячему потоку, вырывались у него слова, что он прощает ей все, все, что она причинила другим, все… даже то, что она подвергла опасности его самого. Пусть только она выслушает его. Она должна целовать его, только его и никогда никого больше… и если только хоть один разок он увидит…
Рейн шумел. Длинные зеленые и золотистые полосы тянулись по поверхности его. Горы горели и окрашивались кровью в вечернем сиянии зари.
Она не испугалась и не рассердилась.
Она сказала:
— Я не понимаю тебя. Ты обвиняешь меня и вместе с тем говоришь так, как будто любишь меня. Как можешь ты любить меня, если так скверно думаешь обо мне?
— Оставь это теперь! — настаивал он. — Сойди вниз. Совсем вниз. Ведь я вижу твою силу. Ты увлекаешь всех нас, и мы погибаем. Но что такое смерть! Я хочу погибнуть именно так, только через тебя. Ты не просто женщина, ты воплощение, символ женственности! Ты наше проклятие и наше вечное стремление. Люби меня!
— Бедный, ведь у тебя лихорадка! — сострадательно сказала Лорелея. — Я не посягала ни на тебя, ни на кого другого. Не знаю, представляю ли я предмет страсти для кого бы то ни было. Цель моего бытия — жить на этой скале. Из ее гротов и пещер вызывает меня любящая вечерняя заря. Посмотри на этот золотой гребень! Это она подарила мне его, чтобы я им расчесывала волосы и пела ей песню, чтобы она радовалась. Я сама радуюсь на мои волосы, как радуется береза, развевая свои зеленые кудри. Я живу — и больше ничего. Все остальное — это ты и твои собственные дурные мысли. Как можешь ты возлагать на меня ответственность за все, что лежит в вас самих?
— Я не хочу, чтобы ты так говорила! — воскликнул он вне себя. — Это ты своим пением и красотой принудила меня обратить взоры кверху. По твоей вине поток чуть было не увлек меня, и я чуть не разбился об эту скалу! Итак, дай мне умереть в твоих объятиях — пойдем же и не заставляй меня томиться! Если ты заставила погибнуть сотни, то должна за это ответить перед одним. И этим одним — буду я. Я хочу быть счастливым, прежде чем умереть…
— Если ты бранишь меня за мою песню и мои волосы, то должен бранить розы за то, что они красны, — сказала она спокойно. — Я виновна только перед самой собой. Ты не должен был глядеть вверх и прислушиваться. Живи счастливо — я не для тебя!
Опираясь на арфу, как на посох, медленными, большими, эластичными шагами, перепархивая с камня на камень, без прыжков, взбиралась Лорелея на свою скалу.
За нею вслед неслись его призывы, стоны, безумные мольбы и проклятия, прерываемые нежными словами любви. Она не обернулась более — и только волосы ее, колеблющиеся от ветра, казались иногда манящими пальцами… Тогда он дико простер руки, и снова его лодка закачалась.
Невольно он бросился на дно челнока. «Пусть я погибну!» — подумал он в отчаянии. В глубине души он сознавал, что сделал правильное движение, чтобы сохранить равновесие…
Расстроенный, потрясенный, вернулся он домой.
— И я тоже, — рассказывал он другим мужчинам, — чуть было не погиб от нее — от волшебницы, погубительницы, колдуньи, заманивающей людей. И меня она хотела уничтожить, увлечь в поток — но я устоял…

Лионель
После знаменитой сцены на поле битвы, прекрасный английский рыцарь Лионель не сомневался, что его взгляд произвел положительное впечатление на неопытное сердце Орлеанской девы. Задумчиво вернулся он в лагерь англичан и заперся в своей палатке. Там он вынул два ручных зеркала и, умело располагая их, рассматривал себя не только en face, но в профиль и сзади. Он занимался этим после всякой победы.
— У французской девушки есть вкус, — подумал он. — Она должна быть вознаграждена.
И он уселся на свой чемодан и написал следующее письмо:
— Храбрая и знаменитая Pucelle d’Orléans![5] Сегодня Вы даровали мне жизнь, так как, увидя меня без шлема и забрала, Вам стало жаль меня умертвить. Женщины будут благодарны Вам за это. Ведь я знаю: это было не рассуждение, а вдохновение. Впечатление, полученное Вами, ясно отразилось в Ваших выразительных чертах.
Подобное чтение в женских глазах для меня не ново. Не могу утаить от Вас — так как у меня честный характер — что имею успех у женщин. Счастье кажется мне незаслуженным. Какими преимуществами может обладать такая скромная личность, как я?
Для того, чтобы Вы не думали, что я хвастаю перед Вами воображаемыми успехами, или если Вы не из высшего общества, то приведу Вам имена дам, почтивших меня своей благосклонностью — видите, я выражаюсь в высшей степени осторожно.
Говоря о последних победах, следует мимоходом упомянуть о ее Величестве королеве Изабелле, желавшей взять меня с собой, когда наш генералиссимус отсылал ее из английского лагеря. Она изволила выразиться буквально так:
— …Дайте мне с собой для забавы и общества того самого, который мне нравится…
Кроме того, я могу похвалиться благосклонностью следующих дам, имена которых имею честь привести в порядке их титулов:
Герцогиня von Sweetheart, Buttercream-Castle, Девоншир.
Виконтесса of Thunderbolt, London W.
Графиня Cheeky, Hoity-Toity-Mansions, Йоркшир.
Баронесса Followmelads, Брайтон.
Леди Lovemelong, фрейлина ее Величества.
Ellen Topsyturvy, драматическая актриса Дрюрилейнско-го театра, Лондон[6].
Менее известные или, скажу, неизвестные имена назову Вам при случае в личной беседе, а также сообщу о победах, совершенных мною во Франции. При этом Вы сможете дать мне указания относительно правильного произношения этих французских имен. Всякая настоящая женщина считает за честь быть полезной любимому мужчине. Простите, что я упоминаю о том, что разумеется само собою. Но, так как Вы крестьянка по происхождению, то я не знаю, достаточно ли утончились Ваши чувства за то время, что Вы вращаетесь в хорошем обществе, и соответствуют ли они требованиям человека моего звания. Охотно обещаю Вам заняться самому Вашим воспитанием.
По тем же причинам обращаю Ваше внимание на то, чтобы список дам, подаривших мне свою любовь, остался в строжайшей тайне. По справедливости, самым презренным поступком считается в хорошем обществе разоблачение перед кем бы то ни было имен женщин, вручивших нам свою честь. Если Вы нарушите это правило, несмотря на мое предостережение, то я буду принужден, как мне это ни неприятно, глубоко презирать Вас, и Вы потеряете меня навсегда.
Не будете ли Вы так любезны сообщить, где и когда я могу поговорить с Вами? Я охотно освобожусь для Вас, исключая, конечно, тех случаев, когда буду занят на поле битвы. Да, совсем забыл, ведь и Вы тогда бываете заняты. Мне еще никогда не приходилось иметь дело с воинственной героиней и признаюсь, что новизна этого опыта имеет для меня известную привлекательность. Я с удовольствием пригласил бы Вас в свою палатку, но нас могут увидеть, а мое положение не позволяет мне компрометировать себя.
С удовольствием пойду навстречу Вашим предложениям. Пока же, высокоуважаемая рисеїіе, остаюсь
Искренне преданный Вам
доброжелательный
Лионель,
полковник 15 линейного полка армии Его Величества.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ