ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПАРИЖСКИЕ ТЕАТРЫ
Глава первая Непостоянный театр (1598–1629)
Когда начинаешь изучать историю парижского театра в великий век, прежде всего вызывает удивление тот факт, что в три первых десятилетия этого века, когда зародилась одна из самых чудесных драматических литератур в мире, в Париже не было постоянного, регулярного театра. Столица королевства ничем не отличалась от любого провинциального города и могла дать своим жителям зрелищ только тогда, когда какая-нибудь бродячая труппа в процессе своих скитаний пожелает задержаться в ней на несколько дней или несколько недель.
Странствующие труппы порой останавливались в Париже, чтобы дать (всегда краткую) серию представлений. Но тогда они сталкивались с трудностями, о которых в провинции и не слыхивали. В самом деле, владельцы Бургундского отеля, члены Братства Страстей Господних, были наделены со времен Карла VI королевскими привилегиями, регулярно возобновляемыми всеми французскими королями, и обладали монополией на зрелища в Париже. Труппа могла снять зал в Бургундском отеле, и тогда все было в порядке. Но некоторые труппы, опасаясь, что не смогут собрать полный зал Бургундского отеля, предпочитали в летнее время играть во дворах особняков, а зимой — в одном из бесчисленных залов для игры в мяч. В этих четырехугольных залах, узких и вытянутых в длину, защищенных от непогоды, столяры и плотники могли в короткое время и за небольшую плату соорудить подобие сцены и установить скамьи для зрителей. Но члены Братства Страстей Господних должны были дать, вернее, продать, свое разрешение, которое они оценивали в один экю в день. Разумеется, перелетные труппы, особенно если они не сделали больших сборов, часто забывали уплатить. Строго блюдя свои интересы, члены братства регулярно подавали на них жалобу в суд Шатле и не менее регулярно выигрывали дело. Некоторые из таких процессов длились долгие месяцы и порой завершались сделкой.
Мы как-то составили перепись этих эфемерных трупп, развлекавших парижскую публику. Они оказались довольно многочисленными, а некоторые хранили особую верность столице, возвращаясь туда довольно регулярно. О их существовании нам известно лишь по договорам об аренде зала в Бургундском отеле и об учреждении товарищества. Они полностью умалчивают о деятельности этих трупп, о которой хотелось бы знать больше, и являются неполными из-за частичного уничтожения нотариальных архивов.
С 1598 по 1629 год в Париже перебывало довольно много трупп иностранных актеров: англичан (май 1598), итальянцев (апрель 1599, февраль 1600, декабрь 1603, февраль 1608, октябрь 1613, июнь 1614, май-июль 1621, октябрь — ноябрь 1621), испанцев (апрель 1625). С ними чередовались труппы французских комедиантов, в том числе актеры принца Оранского, которые с 1622 года каждое лето проводили сезон в Париже. Пребывание этих «ватаг», как тогда говорили, в столице обычно было непродолжительным — две-четыре недели, иногда чуть дольше, редко — три месяца.
Если добавить к этому, что труппы распадались, восстанавливались, объединялись между собой, разделялись, принимали новых комедиантов взамен ушедших, то создается впечатление о нестабильном, постоянно меняющемся театральном хозяйстве, не способствующем серьезной непрерывной работе, созданию связной программы выступлений. А главное — все это делалось на скорую руку, из подручных средств, с наспех раскрашенными задниками и в костюмах, которые, как говорит Тальман де Рео, покупали у старьевщика. Каким был репертуар этих трупп, нам почти совершенно неизвестно. Помимо фарсов, нравившихся простонародью, единственно посещавшему тогда театр, вероятно, ставили еще потрепанные трагедии и комедии эпохи Возрождения, которые, как мы знаем, по-прежнему играли в провинции.
Из этих двадцати-тридцати трупп, заглядывавших в Париж, по меньшей мере две нам известны лучше других. Они явно затмили своих соперниц каждая в своей области. Речь о труппах Валлерана Леконта и Робера Герена по прозвищу Гро-Гильом.
Валлеран Леконт, без сомнения, был великим актером, увлеченным литературой и театром, движимый бесспорным призванием и достойным восхищения мужеством. О нем практически ничего не было известно до публикации замечательного исследования, проведенного в архивах госпожой Дейеркауф-Гольсбор, которое сильно обогатило наши представления об истории театра в XVII веке.
Как и все ему подобные, Валлеран дебютировал в странствующих труппах: отмечено его пребывание в Бордо (1592), Руане, Франкфурте и Страсбурге (1593). По своему социальному положению он сильно возвышался над большинством своих товарищей, поскольку, будучи камердинером герцога де Немура, исполнял должность королевского дорожного смотрителя в Немуре и сборщика налогов в поместье Верней-на-Уазе — довольно почетные должности, скромное вознаграждение за которые позволяло ему заниматься своим настоящим ремеслом — актерством.
Наконец в марте 1598 года он прибыл в Париж после волнений лиги,{22} во главе чахлой труппы, но зато со своим поэтом — Александром Арди, новизну драматургии которого он уже явил в провинции. Валлеран был, по сути, новатором, желавшим отринуть отжившую свое рутину и устаревший репертуар. В попытке «раскрутить» трагедии и комедии Арди в Париже он объединился с другой труппой — Адриана Тальми, чтобы «представлять и жить вместе, как товарищи, со всем уважением, почетом, в верности и дружбе». По обычаю того времени глава труппы должен был раздобыть костюмы и аксессуары. Усилив свою труппу за счет актеров Тальми, Валлеран купил у старьевщика семь театральных платьев, «в том числе пять из серебристого холста и золотого сукна, одно из синего дамаста и одно из переливчатой тафты». Где играла новая труппа? Этого мы не знаем. Впрочем, просуществовала она очень недолго: Тальми со товарищи вскоре вновь ушли на вольные хлеба. Тогда Валлеран сговорился с другим руководителем труппы, Бенуа Пети, занимавшим Бургундский отель; они решили по очереди играть в этом зале, каждый по неделе, а в случае нужды одалживать друг другу актеров. Пети будет платить за аренду, а Валлеран предоставит костюмы. В январе 1599 года Валлеран уже разыгрывал пьесы Арди, представляя в заключение фарс. Он заказал маляру необходимые декорации, представляющие «города, замки, утесы, леса, рощи, лужайки». Его первое пребывание в столице продлилось больше года — с перерывами, разумеется, поскольку в том году в Бургундском отеле давала представления, по меньшей мере, одна итальянская труппа.
Однако уже в этот первый раз Валлеран столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: парижская публика, состоявшая тогда в основном из простонародья, оказалась не готова принять новый литературный театр, который ей навязывали. Ей было довольно старого доброго фарса, который ее веселил, не превосходя ее умственных способностей.
Итак, Валлеран, которому слишком часто приходилось играть перед пустым залом («они» не пришли, как говорил Жуве{23}), оказался неспособен уплатить старьевщику 200 экю с солнцем{24} — цену за купленные костюмы. Его выручил из беды ниспосланный свыше доброхот, подарив «плащ из черного бархата, подбитый оранжевым атласом и покрытый вышивкой», которым и довольствовался старьевщик. Но оставалось еще уплатить декоратору. Валлерану пришлось продать свою должность дорожного смотрителя в Немуре за 450 ливров. Он уплатил долги некоторым своим товарищам в счет будущих сборов. Короче, бился как рыба об лед. К несчастью, в Париж только что прибыла итальянская труппа и переманила к себе всю публику, охочую до lazzi[7] комедия дель арте. Валлеран продолжал играть в пустом зале. Он подумывал о последнем средстве: объединиться с этими итальяшками, которые оказались удачливее его. Ему удалось уговорить их, и он дал вместе с ними несколько представлений на двух языках. Но итальянцы поняли, что их провели, и бросили Валлерана. Тот еще раз попытал счастья, выступив в одном дворе на Петушиной улице: полный провал. Его первый парижский опыт завершился неудачей. Оставив сцену Бургундского отеля Гро-Гильому, он покинул Париж вместе со своими спутниками и записным поэтом Александром Арди. Пять лет он искал в провинции успеха, в котором отказал ему Париж. О его скитаниях по городам и весям мы ничего не знаем.
В начале 1606 года он снова в столице, храбро предпринимает еще одну попытку завоевать симпатии публики. Возможно, в провинции ему повезло больше, чем в Париже, и кошелек его стал потолще? Если так, то процветание было мимолетным, поскольку, несмотря на ценное приобретение в лице Юга Герю (комика из труппы Готье-Гаргиля) и новый репертуар из «комедий, трагикомедий и прочих игр», все так же поставляемый неутомимым Арди, он в скором времени столкнулся с теми же трудностями, что и шестью годами раньше. Сильные морозы зимой 1607/08 года в немалой степени способствовали тому, что зал Бургундского отеля пустовал. Не имея возможности платить за жилье, товарищи Валлерана в очередной раз отправились пытать счастья в провинцию.
Три года спустя, в сентябре 1609 года они снова в Париже с несколькими молодыми учениками, среди которых Пьер Ле Месье, то есть Бельроз, будущий директор королевской труппы, его сестра Жюдит и Жанна Креве, которая станет матерью Андре Барона. Валлеран обязался «показать им, обучить и преподать в меру своих возможностей науку и умение представлять трагикомедии, комедии, пасторали и прочие игры». Позднее мы увидим рядом с ним другого ученика — Гильома де Жильбера, который, когда пробьет его звездный час, поведет к успеху, под именем Мондори, театр Марэ. Учеников, как и в других профессиях, брали без жалованья, за кров, еду и одежду. Таким образом, уже в ту эпоху сложилась система подготовки актеров. Она исчезнет к 1620 году, и позже учеников заменят дети актеров — «дети кулис», которые будут обучаться ремеслу в бродячих труппах, выходя на подмостки рядом с родителями.
В довершение несчастья, Валлеран оказался в Париже одновременно с соперничающей труппой, игравшей в Отель д’Аржан под руководством Матье Лефевра по прозвищу Лапорт. Оба руководителя, понимая, что двум труппам в Париже тесно, решили не соперничать, а объединиться. Весной 1610 года две слившиеся ватаги арендовали Бургундский отель. Они также давали представления в Санлисе и Орлеане. Убийство Генриха IV имело плачевные последствия для театральных представлений.{25} Союз двух трупп, замышлявшийся на три года, продержался едва ли год. К концу его Матье Лапорт ушел из театра. Десять лет спустя он будет «реабилитирован» королевской грамотой. Но его труппа распалась. Валлеран остался в Париже один со своими верными товарищами и весь 1611 год продолжал мужественную борьбу со зрителями, все так же строптиво отвергающими драматургию Александра Арди. Чтобы разжиться деньгами, он был вынужден закладывать выручку от лож и амфитеатра, оставляя себе лишь сборы с партера. Чтобы уплатить костюмерше, грозившей подать на него в суд, ему снова пришлось занять денег у своего домовладельца на улице Трюандери, что позволило ему вернуть изъятые театральные костюмы. Этот же щедрый человек оплатил похороны его сестры. Бедный Валлеран погряз в долгах, прибегая с самым крайним средствам. Крысы побежали с корабля, который дал течь: несколько комедиантов ушли из труппы, не заплатив неустойки, оговоренной в контракте. Даже добрый домовладелец начал беспокоиться и заверил у нотариуса документ с указанием задолженности Валлерана — 1266 турских ливров.
Но наш борец не покинул поля сражения. Он восстановил обезлюдевшую труппу и снова арендовал за 1650 ливров Бургундский отель на полгода. Александр Арди остался ему верен и даже согласился сделаться актером, чтобы сократить расходы труппы.
Увы! Фортуна по-прежнему была к нему неблагосклонна; «они» всё не приходили. Доведенный до крайности, наш герой подумал о новом способе спасения. В Париж только что прибыла труппа итальянских актеров под руководством Джан-Паоло Альфиери, неожиданная конкуренция грозила тяжелыми последствиями. Валлеран сговорился с ними, обе труппы объединились, чтобы выступать в одном зале. Каждая станет играть пьесу на своем языке. Валлеран думал, что в таких двуязычных представлениях итальянская комедия поддержит французскую трагедию. Но он не смог вовремя внести арендную плату, братья Страстей Господних изъяли шкатулку с общими сборами обеих трупп и отобрали у Валлерана последние деньги. Это было окончательное разорение.
Валлеран понял, что Париж ему заказан. После развала своей труппы он тотчас собрал новую, куда вошел Мондори с правом на половину пая как дебютант. В 1613 году эта труппа выступала в Лейдене и Гааге. С тех пор следы Валлерана Леконта окончательно затерялись. Никто не знает, где и когда умер этот великий артист.
Мы подробно остановились на краткой, бурной и неудачной парижской карьере Валлерана Леконта, потому что она, на заре истории современного французского театра, являет собой трогательный пример истинного призвания. Несгибаемый Валлеран предстает перед нами три века спустя как прообраз современных руководителей авангардистских театров, увлеченных красотой и правдой. Его история — это история человека железной воли, пионера, желающего освободиться самому и освободить своих зрителей от избитого и косного репертуара, заменив его новым театром, очищенным от грубого и пошлого фарса, обладающим несомненными литературными достоинствами и живущим человеческими страстями, благородными и истинными чувствами. То, что его постигла неудача, говорит не против него, а обличает недостаточную подготовку и некультурность публики, неспособной воспринять его призыв. Художественная мечта, руководившая всей его деятельностью и поддерживавшая в нем веру во время стольких испытаний, была прекрасной, ибо то, что он хотел учредить в Бургундском отеле (разумеется, не имея об этом совершенно четкого представления), было попросту нашим классическим театром, триумф которого наступит через двадцать лет после кончины артиста.
Когда Валлеран сгинул во мраке, главенствующие позиции заняла еще одна труппа из тех, которые поочередно играли в Бургундском отеле. Кстати, она в основном состояла из бывших спутников Валлерана, как и ее руководитель. Его звали Робер Герен, хотя он более известен под псевдонимом Гро-Гильом. Эта труппа приняла боевое крещение в Тулузе, где парламент, между прочим, приговорил к изгнанию пятерых из ее членов, получивших затем королевское помилование. Осенью 1615 года она появилась в Париже под руководством Франсуа Вотреля. Выступала в Бургундском отеле весь 1616 год, возможно, в 1617 году и совершенно точно в 1618-м и 1619-м, в 1621-м — в Отель д’Аржан, где ее приговорили выплачивать по три экю в день Братству Страстей Господних, и снова в Бургундском отеле в 1622–1623, 1624–1625, в 1626, 1627–1628 и 1629 годах.
С 1616 года руководство труппой взял на себя Гро-Гильом, образовав с двумя своими неразлучными спутниками — Готье-Гаргилем и Тюрлюпеном — самое веселое трио фарсовых актеров, когда-либо развлекавшее партер. Без сомнения, высокие художественные помыслы Валлерана Леконта не отягощали их головы. Умелые комики, они кормили парижскую публику уморительными фарсами, которые та обожала. Им удалось то, чего не сумел Валлеран. Они сделались популярны, любимы толпой. Граверы во множестве печатали их шутовские портреты. Они играли в масках или обсыпанные мукой.
Труппа Робера Герена заявила о своем главенстве над другими труппами актеров, выступавшими в Бургундском отеле. Только посмотрите, с какой надменностью Брюскамбиль говорит о соперниках в одном из «Прологов»:
«Что есть в мире неведомого для комических актеров, кроме праздности? Я не говорю здесь о куче жалких скоморохов, присвоивших себе звание комедиантов, познания которых не столь многочисленны, как их желтые, белые и красные ленты, усы и бороды, составленные или сотканные из бог весть каких мерзких волос, собранных с грязной расчески какой-нибудь деревенской горничной. Наоборот, я имею в виду тех, кто представляют в своих деяниях чистый и истинный микрокосм комической природы. Вернемся же к ним и оставим в стороне этих хамелеонов, насыщающихся ветром и дымом».
Так относились в труппе Гро-Гильома к «ублюдкам Росция».{26}
Посмотрим же на наше трио комиков на сцене. Вечер открывался одним из развеселых «Прологов» или «Парадоксов» Брюскамбиля, прятавшегося за своими «увеличительными очками». Его невнятный текст напоминал болтовню Табарена и Мондора на Новом мосту. Речь в нем шла обо всем и ни о чем, Бог знает о чем, перемежаясь шутками и с обилием слов, вызывавших смех. После этого разыгрывался фарс, где трио сыпало каламбурами и lazzi на манер итальянцев и скоморохов. Это было что-то среднее между театром и цирковой репризой.
Гро-Гильом с лицом, обсыпанным мукой, играл и мужские, и женские роли. Один его толстый живот уже сам по себе был аттракционом: Гро-Гильом перетягивал его двойным поясом — под грудью и внизу живота. Соваль{27} говорит, что «речь его была груба, и чтобы привести себя в хорошее настроение, он напивался со своим приятелем сапожником». Однако его комический дар был неотразим.
«Он говорил так наивно и с такой забавной физиономией, — пишет Тальман, — что при виде его нельзя было удержаться от смеха».
Готье-Гаргиль, кстати, женатый на племяннице Мондора и друг Табарена, был высоким, худым и одетым во все черное. Соваль так описывает этого бывшего товарища Валлерана Леконта:
«Все части его тела повиновались ему таким образом, что он был похож на марионетку. У него было худое тело, длинные, прямые и тонкие ноги и грубое лицо; поэтому он никогда не играл без маски, с длинной бородой клинышком, в черной и плоской скуфейке, черных туфлях, с рукавами из красной байки, в камзоле и штанах из черной байки; он всегда представлял старика».
До нас дошли его любовные «Песни», игривые и бесстыдные, тема которых практически не менялась, поскольку там всегда говорилось о том, о чем вы догадываетесь. Но несмотря на свою грубость, они не лишены остроумия. Пажи и лакеи были от них без ума.
Тюрлюпен был списком с Бригеллы из итальянской комедии: в широкополой шляпе, короткой куртке, широких штанах в яркую полоску и с деревянной шпагой на поясе. Он играл в основном хвастливых слуг, трусливых обжор, наподобие итальянских zanni. Его друг и земляк поэт Овре так описывает идеал жизни Тюрлюпена:
К черту любовь! Живи веселей,
Блюда на стол тащи поживей!
Суп, ветчину, потроха и салат,
Рыбу, жаркое, пирог, сервелат!
К черту любовь! Живи без забот!
Сердце поет, коли полон живот!
Чарку осушим, нальем ее вновь —
Вот какова Тюрлюпена любовь!
Тюрлюпен вел умеренную, даже добропорядочную жизнь. Он не хотел, чтобы его жена выходила на подмостки. Несмотря на любовь к обильной пище, он обладал тонким умом, и простонародная публика, толпившаяся в партере, ловила его lazzi.
«Ни один человек не сочинял, играл и направлял фарс лучше Тюрлюпена, — заключает Соваль, — его словесные выпады были полны остроумия, огня и здравого смысла; одним словом, ему не хватало разве что немного наивности, и, несмотря на это, каждый признает, что ему никогда не было равных».
По признанию самого Скаппино,{28} который, как все итальянцы, был знатоком в области юмора, «нельзя было сыскать лучшего актера».
Таким было уморительное трио, которое двадцать лет веселило парижский простой люд. Сохранились только заглавия некоторых фарсов, почерпнутых, надо полагать, из общего традиционного фонда: «Дорожная сумка Готье», «Шампанский кадет», «Потяни за веревочку: клюнул карп», «Фарс о муже», — они не были напечатаны. Да и были ли они вообще написаны? Кто знает. Возможно, французские комики, как и их итальянские конкуренты, импровизировали, вышивая по простецкой канве яркие узоры, навеянные их воображением. С уверенностью можно сказать лишь то, что в этих фарсах было много грубостей и скабрезных ситуаций. Но публика не пошла бы на представление без фарса.
«Если в комедии нет этой приправы, — писал Гийо-Горжю,{29} — это будет мясо без соуса, Гро-Гильом без муки».
Еще один ученик Валлерана Леконта, скорее всего, последовавший за ним в Голландию, вскоре примкнул к труппе Гро-Гильома. Это был Пьер Ле Месье, который потом сменит Гро-Гильома во главе труппы королевских актеров и станет известен в Париже под именем Бельроза. В 1620 году он был в Марселе, во главе труппы со штатным поэтом — тем самым Арди, некогда снабжавшим пьесами Валлерана. Оба приехали в Париж около 1622 года, несколько лет спустя в труппу поступил Бошато. Вместе с Бельрозом, под прикрытием фарсов, обеспечивавших труппе материальный успех, он во многом способствовал созданию нового репертуара из трагедий, комедий и пасторалей, вышедших из-под пера Арди, Мерэ и Ротру. Обновление театра, которое не сумел совершить Валлеран, в конце концов произошло.
Этому помогло присутствие в труппе хороших актрис, привлекавших в Бургундский отель мещанскую и дворянскую публику. В итальянских труппах актрисы были уже давно, но на французской сцене женщины появились гораздо позже, поскольку они не были заняты в фарсах, где женские роли исполняли переодетые мужчины.
Первой актрисой, о которой что-то доподлинно известно, была тоже ученица Валлерана Леконта — Рашель Трепо, вошедшая в его труппу с 1607 года, а в 1616 году появившаяся у Гро-Гильома. Больше мы о ней ничего не знаем, но приветствуем в ее лице праматерь всех французских актрис. В то же время в Бургундском отеле играла Мари Венье, жена Матье Лапорта, но в 1610 году она ушла со сцены, чтобы завершить свою карьеру в роли благочестивой супруги адвоката. Ее сестра Коломба Венье, входившая в бродячую труппу, вышла замуж за Флери Жакоба, отца Монфлери.
С 1625 года Шарль Ленуар, глава труппы комедиантов принца Оранского, которая играла в Бургундском отеле в очередь с королевскими актерами Робера Герена, выступал вместе с женой Франсуазой Метивье. Современник восхваляет ее «миловидность и веселость, делавшие ее приятною для всех». Тальман де Рео уточняет:
«Эта Ленуар была миловидной крошкой, каких поискать. Граф де Белен, у которого состоял в подчинении Мерэ, заказывал ему пьесы с тем условием, чтобы главная роль была у нее, поскольку он был в нее влюблен, а труппе это было на руку».
Есть и другие примеры актрис той поры, у которых были могущественные покровители. Белен, покровитель Ленуар, хорошо известен как театральный меценат. Скаррон воздал ему за это похвалу в своем «Комическом романе», где он фигурирует под именем маркиза д’Орсе. Возможно, Ленуар играла в пасторалях Ракана, в более чем знаменитой трагедии «Пирам и Фисба» Теофиля де Вио и в нескольких пьесах Ротру. Но совершенно точно, что она была занята в первых пьесах Мерэ — «Хризеида и Аримант», «Сильвия» и «Сильванир». Позднее она сделала блестящую карьеру в театре Марэ.
Труппа королевских актеров (она сама присвоила себе это лестное звание, хотя тогда еще не получала содержания от короля), в которой были и комики, и актеры, и актрисы, с легкостью обеспечила себе в Париже главенствующую роль среди всех заезжих трупп. Успех вскружил голову, и актеры вздумали окончательно обосноваться в Бургундском отеле, убрав, таким образом, всех конкурентов. Людовик XIII с самого детства рукоплескал «королевским актерам», о чем свидетельствует дневник его личного врача Эроара. Однако труппе пришлось заручиться покровительством лица, приближенного к государю, чтобы тот выступал от ее имени; возможно, таким посредником стал кардинал Ришелье, который тоже всегда был большим театралом. Короче, 29 декабря 1629 года Королевский совет издал постановление о передаче Бургундского отеля труппе «королевских актеров», возглавляемой Робером Гереном, на три года за ежегодную арендную плату в 2400 ливров, которую, по обоюдному согласию сократили до двух тысяч ливров в 1639 году, но восстановили в прежнем объеме в 1647-м. Суд Шатле,{30} истолковав королевское постановление как исключительную лицензию, выданную труппе Бельроза, запретил ему пересдавать помещение. Члены Братства Страстей Господних теперь располагали только «хозяйской ложей». Это постановление, положившее конец нескончаемым судебным процессам между комедиантами и членами братства, ознаменовало собой окончательное и исключительное воцарение королевских актеров в театре на улице Моконсей. Они прочно утвердились там на три года. Успех был им на руку. Их репертуар обогащался с каждым сезоном и регулярно обновлялся. Родилась «королевская труппа Бургундского отеля».
Глава вторая Королевская труппа Бургундского отеля (1629–1680)
До сих пор в Париже еще никогда не было постоянной труппы, однако, помимо залов для игры в мяч, где также устраивались представления, в городе имелся настоящий театр — Бургундский отель, расположенный на углу улиц Моконсей и Французской, в квартале Рынка, в приходе Сент-Эсташ, на месте нынешней улицы Этьена Марселя: там сохранилась башня Иоанна Бесстрашного, зажатая между корпусами школы, — это все, что осталось от древнего дворца герцогов Бургундских.
Мы уже знаем, что члены Братства Страстей Господних являлись владельцами «дома, прозываемого Бургундским отелем». Это общество было создано в конце XIV века, чтобы разыгрывать мистерии в церквях и на папертях. Члены братства сначала играли в Сен-Море, недалеко от Венсена. Карл VI своим ордонансом от 1402 года превратил их в театральную корпорацию. Тогда они перебазировались в богоугодное заведение Святой Троицы, затем, в 1539 году, — во Фландрский отель, возле ворот Кокильер, которые вскоре были разрушены по приказу Франциска I, как и Бургундский отель, принадлежавший Карлу Смелому. Братья купили земельный участок и выстроили на нем в 1548 году театральный зал. Парламент наделил их исключительным правом представлять там «моралите», при условии, что эти спектакли будут «добропорядочными, пристойными и светскими».
В «Смиренных ремонстрациях королю Франции и Польши» в 1588 году уже говорилось о возмутительных представлениях, «устраиваемых в клоаке и жилище сатаны, именуемом Бургундским отелем», где бесстыдные фарсы шли вперемежку с божественными мистериями.
Представление мистерий и библейских сцен в Париже было запрещено (парламент подтвердил этот запрет в 1598 году), однако они еще долго шли в провинции.
Итак, у братства была монополия на зрелища в Париже — очень выгодная привилегия, за которую оно держалось обеими руками. Но его устаревший репертуар, по которому нанесли удар драматурги Возрождения, представлявшие свои пьесы в коллегиях, отпугивал публику. Опираясь на свою привилегию, братья решили прекратить представления и сделаться хозяевами театра. Мы видели, что они сдавали зал разным труппам и преследовали тех, кто устраивал представления в других местах — в залах для игры в мяч или в частных особняках, требуя платы в три экю в день. Чтобы подтвердить свои права, они всегда оставляли за собой ложу, прозванную «хозяйской», которую можно было узнать по решетке, и еще одну — для короля дураков, шутовского повелителя, выбираемого в «жирный вторник» перед началом Великого поста.
Зал был окаймлен двумя ярусами лож, обрамляющих партер, где простой народ стоя смотрел представление. В глубине зала находился ступенчато поднимающийся амфитеатр. Зал был узким, и из ложи сцену было видно не целиком, а только с краю.
Вот здесь-то, в единственном парижском театре, и разместилась в декабре 1629 года труппа Робера Герена, частично составившаяся из актеров Валлерана Леконта. Это было не так-то просто, поскольку пришлось бороться с конкуренцией со стороны других странствующих трупп, которых Братство Страстей Господних преследовало по суду и обирало. Но труппа Герена играла в Париже наездами с 1612 года. Она обладала преимуществом перед всеми прочими, заключавшимся в длительном стаже и регулярности выступлений. К тому же она стала прозываться королевской труппой.
Однако отношения с Братством Страстей Господних, владельцем Бургундского отеля, у нее не сложились. Сразу по прибытии в Париж в 1612 году Робен Герен выступил с ходатайством об отмене привилегий братства, ставших неоправданными с тех пор, как в столицу начало приезжать все больше французских и иностранных трупп. Но король, которого с раннего детства водили на представления, подтвердил, как и его предшественники, вековые привилегии братьев. И когда в 1622 году Бургундский отель заняли прямые конкуренты Робера Герена — комедианты принца Оранского, ему с товарищами пришлось переместиться в Отель д’Аржан, и, как обычно, суд Шатле приговорил их уплатить братьям неустойку.
С этого момента Робер Герен, опираясь на поддержку своего компаньона Бельроза, повел двойную борьбу с труппой принца Оранского, которую требовалось устранить, и с братьями Страстей Господних. В 1625 году они попытались аннулировать арендный договор с труппой принца Оранского, возглавляемой Шарлем Ленуаром, и устроить представления в помещении поблизости от Бургундского отеля, чтобы переманить к себе публику. В очередной раз вмешался судебный исправник, подтвердил арендный договор Ленуара и отправил «королевских актеров» играть на мостовой улицы Сент-Антуан. Два года спустя — новый натиск и новое вмешательство исправника. Вернувшись в 1629 году на улицу Моконсей, они возобновили борьбу с братьями, платили арендную плату только по решению суда, вели против них затяжную судебную войну; когда король, возможно, после вмешательства кардинала Ришелье, позволил им занять Бургундский отель на три года — неслыханно долгий срок для того времени, — они сделали вид, будто королевское дозволение равнозначно лишению братьев собственности, а следовательно, они получили бесплатную королевскую концессию и сэкономят 2400 ливров арендной платы в год.
Заведя знакомство с «достаточно могущественными друзьями, чтобы открыть им доступ в кабинет короля», актеры обратились непосредственно к монарху. В своем ходатайстве они смешали с грязью членов братства, ремесло которых «вынуждает их по большей части стоять с протянутой рукой, а потому они не вправе пользоваться почетом и уважением, как говорит Аристотель, а следовательно, не способны исполнять почетные государственные должности и недостойны звания горожан по той причине, что древние ставили рабов на одну доску с ремесленниками». После этой форменной клеветы, беспочвенной и наглой, комедианты заявляют о своих требованиях. «Сир, их притязания ныне те же самые, что послужили причиной для спора, который поднялся не так давно в Вашем совете между актерами и так называемыми господами Братства Страстей Господних, когда Ваше Величество соизволили присудить первым Бургундский отель всего на три года, на условиях, означенных в указе, вплоть до окончательного решения, коего и дожидаются сейчас Ваши комедианты».
Частный совет короля ограничился тем, что приказал братьям представить документы о праве собственности, что они и исполнили безо всякого труда. В доказательство своих прав они опубликовали эти грамоты и королевские ордонансы, которые с 1402 по 1612 год предоставляли им монополию на зрелища в Париже, ныне оказавшуюся оспоренной. Комедиантам пришлось смириться. Они наконец-то поняли, что им выгоднее жить в мире с владельцами театра. Поэтому, продлевая в 1632 году арендный договор сроком еще на три года, «штатные комедианты на жалованье Его Величества» согласились с пунктом, по которому они отказывались от судебных исков против братьев. Однако отношения от этого лучше не стали: в 1638 году братья изъяли мебель Бельроза и его товарищей, отказавшихся платить за аренду, поскольку хотели провести в зале ремонт, а хозяева этому воспротивились, прося парламент помешать Бельрозу «сровнять зал Бургундского отеля с землей». Только в 1677 году король отнимет у братства Бургундский отель и передаст его недавно основанному Странноприимному дому, который отныне будет получать арендную плату с королевской труппы.
Труппа Робера Герена-Бельроза, обосновавшаяся с 1629 года на улице Моконсей и еще недавно именовавшая себя «избранными королевскими актерами», теперь попросту называлась «королевской труппой». Вскоре король действительно назначил ей содержание в 12 тысяч ливров в год — вдвое больше против того, что получат театр Марэ и Пале-Рояль, словно в подтверждение ее превосходства. Опираясь на поддержку короля и его главного министра, актеры присвоили себе громкий титул «единственной королевской труппы» — впоследствии товарищества актеров, которым король согласится оказывать покровительство, будут называться просто «королевскими труппами». Отныне только Бургундский отель имел право на афиши красного цвета. Комедианты Герена и Бельроза, а также их преемники именовались «великими актерами», чтобы отличаться ото всех остальных. Труппа всегда претендовала на главенство, беспрестанно боролась с театрами Марэ и Пале-Рояль, самыми грозными своими конкурентами. Она так и оставалась на улице Моконсей вплоть до 1680 года — года создания «Комеди Франсез».
Хотя труппой по-прежнему руководил Гро-Гильом, Бельроз играл в ней все более важную роль. Вступив в труппу, он привел с собой записного поэта — старого Александра Арди, который выдавал на-гора трагедии, комедии и пасторали с легкостью курицы-несушки. После него Бельроз обратится к Ротру. Кстати, мы еще увидим, как умело он использовал своих авторов.
Но таким образом он, по меньшей мере, снабдил труппу тем, чего ей больше всего недоставало, — новым и качественным репертуаром. Именно с его подачи наиболее образованная и утонченная публика пристрастилась к пьесам Теофиля де Вио, Ракана, Ротру, Тристана, дю Рие, Жоржа де Скюдери и Мерэ — одним словом, ко всему тому, что мы теперь называем доклассической драматургией. К этому полностью обновленному театру прилагался, разумеется, традиционный фарс, в котором не гнушался выступать Бельроз и который ежедневно, к великой радости партера, разыгрывало знаменитое трио — Гро-Гильом, Тюрлюпен и Готье-Гаргиль. Но последний умер в 1633 году, Гро-Гильом — в 1634-м, а Тюрлюпен — в 1637-м. С добрым галльским фарсом в Бургундском отеле было покончено; он сохранился только в театре Марэ, да и то в рамках обычных комедий, где другой посыпанный мукой шут Жоделе обеспечивал ему успех. Только с возвращением Мольера в Париж в 1658 году фарс снова вошел в силу и обрел прежнюю популярность со «Смешными жеманницами».
Отныне Бургундский отель посвятил себя литературному театру. Шарль Сорель{31} в «Доме игры» говорит:
«Когда развлечение от комедии стало нравиться чрезвычайно, захотелось, чтобы актеры, для большей приятности, представляли хорошие пьесы. Уже давно у них не было другого поэта, кроме старика Арди, который, как говорят, сочинил пятьсот или шестьсот пьес».
Возглавив труппу после смерти Гро-Гильома, Бельроз зарекомендовал себя деятельным и предприимчивым директором. Он вел свой театр к успеху и постоянно сражался с конкурирующими труппами. У него были хорошие связи. Именно королевская труппа играла в Пале-Кардиналь «Комедию Тюильри» и «Мираму». Бельроз знал, какой страстный театрал кардинал Ришелье. Он с легкостью убедил его, что театр с улицы Моконсей должен быть первым, если не единственным в Париже, и что лучших актеров следует приберегать для него. В результате 15 декабря 1634 года в «Газете» Ренодо было объявлено, что по приказу короля в королевскую труппу включено шесть новых актеров. Четыре считались одними из лучших в театре Марэ, который оказался обезглавлен: это были Шарль Ленуар и его жена, Жоделе и его брат Лэспи; в то же время Бельроз избавился от Бошато, отправив его в Марэ. Впрочем, Жоделе и Лэспи через несколько лет вернулись в театр Марэ. Эти «королевские повеления» — первое проявление вмешательства королевских властей в устройство парижских театров. Область этого вмешательства будет постоянно расширяться, вплоть до учреждения монополий «Опера де Пари» и «Комеди Франсез».
Три года спустя в Бургундский отель перешли другие актеры из Марэ — Андре Барон с женой и де Вилье с женой, создательницей образа Химены. Бельроз оказался облечен властью некоего сюринтенданта зрелищ, снимавшего сливки со всех прочих трупп для усиления своей. Его высшим достижением на этом поприще стал переход в 1647 году Флоридора из театра Марэ, который был не только талантливым трагиком, но и близким другом Пьера Корнеля, крестным его сына и постановщиком его первых трагедий. Этого важного перевода добился от короля опять-таки Бельроз; отныне первый поэт и автор трагедий того времени будет отдавать свои пьесы в Бургундский отель; потеря Флоридора станет жестоким ударом для театра Марэ: чтобы удержаться на плаву, ему придется искать новый путь — сценические спецэффекты.
Но не могло быть и речи о том, чтобы столь прославленный актер, как Флоридор, согласился перейти в королевскую труппу, заняв там какое-то другое место, кроме первого. В интересах труппы Бельроз пошел на необходимые жертвы: он уступил «новенькому» свое место директора, «оратора» и даже свой гардероб, а также половину пая главы труппы за кругленькую сумму — 20 тысяч ливров. Но он остался в труппе: его имя еще упоминается в арендном договоре за 1660 год.
Бельроз не ограничился тем, что, сам служа королевской труппе, завлекал в нее выдающихся новобранцев из театре Марэ, а также авторов типа Арди, Ротру и Корнеля, снабжавших ее самым блестящим репертуаром. Он старался превратить зал Бургундского отеля в самый красивый и богатый в Париже. Но тут как раз случился пожар, уничтоживший в 1644 году театр Марэ, и труппа восстановила его — разумеется, улучшив и украсив. Бельроз взялся обновить зал на улице Моконсей, чтобы угнаться за главными соперниками.
Увеличив арендную плату с 2 тысяч до 2400 ливров в год и продлив срок арендного договора до пяти лет вместо трех, Братство Страстей Господних дало нотариально заверенное обязательство «восстановить и отремонтировать ложи оного отеля по чертежам игорного дома Марэ, а также выдвинуть сцену в зал на десять футов дальше, чем ныне, и все это в наивозможно краткий срок — в четыре ближайших месяца». Договор был скреплен «в присутствии и с согласия» королевского советника, что свидетельствует о том, что король был заинтересован в украшении и поддержании в хорошем состоянии театрального зала, где давала представления его труппа, поскольку он часто на них присутствовал.
В смете и заключенной сделке, обнаруженных Жаном Лемуаном, содержатся подробности проведенных ремонтных работ. Сцену углубили на семь туаз и один фут (то есть 13,77 метра) и подняли на два метра, покрыли еловыми досками и отделили от зала кирпичной стеной. Над и под сценой соорудили тринадцать актерских гримуборных, а старые, загромождавшие края сцены, разрушили. Два яруса из девятнадцати лож шириной два метра, отгороженных друг от друга и запирающихся на ключ, были готовы принять элегантную публику; амфитеатр восстановили «с наивозможными удобствами», паркет в партере переложили и навощили. Все это обошлось членам братства в 3500 ливров. Вот в таком перестроенном, обновленном и украшенном зале в Бургундском отеле начали представлять пьесы Корнеля.
Бельроз руководил королевской труппой двадцать пять лет, вывел ее из грубости фарса и дал ей сцену, достойную классических пьес, которые она теперь собиралась представлять. Что нам известно о его жизни? Пьер Ле Месье последовал моде, бытовавшей среди комедиантов его времени, — брать себе псевдоним, навеянный красотами природы, в особенности цветов: Бопре, Префлери, Бошан, Бошато, Шаммеле, Дюпарк, Флоридор, Монфлери, Боваль, Ла Флер, Бельфлер, Шамлюизан, Шанкло, Розидор, Розимон[8] — прозвища актеров великого века составляли целую цветущую клумбу. Ле Месье взял себе имя Бельроз, очаровательное в своей простоте. Известно, что он начинал как ученик Валлерана Леконта и познал все прелести жизни бродячих комедиантов, прежде чем приехал в Париж и вступил в королевскую труппу. Его жена, тоже актриса, была вдовой другого актера — Матиаса Мелье и сестрой Филибера Гассо — соратника Мольера, более известного под именем дю Круази.
Как мы видели, он был предприимчивым и властным директором, но именно он создал труппу Бургундского отеля. Возможно, он не блистал талантом трагика, однако был неподражаем в пасторали — модном тогда жанре. Его отточенная, даже слегка нарочитая элегантность, природная утонченность, нежный и ласковый голос приводили в экстаз «драгоценных»,{32} обожавших пошлости этого поэтического жанра. Газетчик Робине говорил о его успехах «в нежных ролях, где им не уставали восхищаться».
Он играл также молодых героев Корнеля, когда первые пьесы этого автора, поставленные в Марэ, перешли в репертуар Бургундского отеля. Но требовательные зрители, например герцогиня де Шеврез, находившая, что у него «пошлейшее лицо», или Тальман де Рео, укоряли его за слабые способности.
«Бельроз был нарумяненным актером, — пишет он, — который с оглядкой отбрасывал шляпу, боясь помять на ней перья; не то чтобы он не умел декламировать, но он вовсе не слышал того, что говорил».
Зато, по мнению того же Тальмана, мадемуазель Бельроз, хоть и была толста, «как тумба», являлась «лучшей актрисой во всем Париже». Именно она первой сыграла в «Родогуне» Корнеля. В галантной хронике XVII века упоминается о ее связи с Бенсерадом,{33} написавшим для нее «Клеопатру». Аббат де ла Ривьер, духовник Гастона Орлеанского, тоже был среди ее воздыхателей. Чета Бельрозов, как и все актеры, пережила нелегкие времена в период Фронды{34} — смутного времени, когда публика забросила театры. Если верить памфлетистам, мадемуазель Бельроз, находясь в отчаянном положении, была вынуждена прибегнуть к крайним средствам, выступая «не перед ложей, а на ложе».
Ее последним кавалером был аббат д’Арманьер, который, по словам Тальмана, «настолько на ней помешался, что после ее смерти еще долго хранил череп этой женщины в своей спальне».
Помимо комиков, среди товарищей Бельроза были Андре Буарон, он же Барон — отец будущего любимого ученика Мольера, его жена, сама дочь комедиантов, которая внушила бурную страсть Флоридору, а главное — Бошато, который, если не считать пятилетнего пребывания в Марэ, всю жизнь прослужил в Бургундском отеле.
Обделенный талантом, Бошато дублировал Флоридора в главных ролях, например Горация и Цинны, и Буало наверняка был чересчур суров, назвав его однажды, будучи не в духе, «отвратительным актером». Зато госпожа Бошато была «несомненной актрисой», как сказал Тальман, и умной женщиной, советами которой не пренебрегали драматурги, например Тристан или Скаррон. Чета Бошато стала легкой мишенью для Мольера, который в «Версальском экспромте» передразнивал актеров-соперников. Он потешался над Бошато, декламирующим стансы из «Сида», и над его женой в роли Камиллы, ядовито подчеркивая, что она «улыбается в самые тяжелые минуты».
Хотя госпожа Бошато подарила своему мужу троих детей, эта чета не стесняла себя оковами морали. Любовные похождения Бошато были общеизвестны. В апокрифичном «Завещании Готье-Гаргиля» сказано:
«Бошато, перед которым не устоит ничье целомудрие, на которого нельзя взглянуть, не полюбив его, завещаю аллеи моего сада у Монмартрских ворот и позволяю ему дарить цветы, которые прорастут из луковиц, посаженных там мною, дамам, которых он туда приведет, однако с условием, что он не ускорит свой конец, чересчур стараясь их удовлетворить».
Но похоже, что жена Бошато не отставала от него по части любовных приключений; у нее был роман с Лэспи, братом Жоделе. Как-то раз она спросила в шутку у Жоделе, что значит «амур». «Не знаю». — «Это бог с факелом, повязкой на глазах и колчаном». Комик быстро нашелся и подхватил: «А, понимаю. Это бог со стрелой, которую господин де Лэспи намедни пустил в замшевые панталоны мадемуазель де Бошато».
В Бургундском отеле под руководством Бельроза блистали и другие «звезды».
Там был Ленуар, игравший в ранних пьесах Мерэ, но мы вскоре увидим его в театре Марэ вместе с мадемуазель Бопре; была госпожа Ла Флер, жена Гро-Гильома, которая вышла на подмостки после смерти этого комика, а главное — мадемуазель Валлио, которую все звали Валлиоттой. Ее муж тоже был в числе товарищей Гро-Гильома. По словам Тальмана, она была «так хорошо сложена, как только можно себе представить». Она принадлежала к первому поколению актрис и наверняка оказалась в Бургундском отеле после своего замужества в 1620 году. Вот почему Тальман лет сорок спустя говорит о ней как о «дряхлой старухе». Современники превозносили ее за высокий рост, пылкий взгляд, «миловидность и грациозность», но никто из них не потрудился сообщить нам, какие роли она могла играть в пьесах Арди и Ротру.
Когда Бельроза на посту директора королевской труппы сменил Флоридор, Бургундский отель вступил в эпоху своего расцвета. Жозиас де Сулас, он же Флоридор, не был заурядным актером, он отличался от прочих и талантом, и происхождением. Его отцом был протестантский пастор, который, впрочем, отрекся от своей веры. По своему рождению Флоридор был господином де Примфоссом и принадлежал к благородному сословию. В Рамбюрском полку он дослужился до прапорщика. На прекрасной картине из музея «Комеди Франсез», которая, согласно старой традиции, донесла до нас его образ, предстает человек с миловидным и утонченным лицом, благородными и властными движениями.
Один из его сыновей станет кюре в Во-ле-Пениль под Меленом. Крестными его третьего сына были герцог де Сен-Симон и графиня де Фиески. Как далеко отсюда до бродяг начала века!
Флоридор, как и все прочие, дебютировал в странствующей труппе. В 1635 году он был в Лондоне, в 1638-м в Сомюре, потом поступил в театр Марэ. Будучи другом Пьера Корнеля, крестного одного из его сыновей (крестной матерью другого была Мари де Ламперьер, жена драматурга), Флоридор играл в трагедиях Корнеля, принесших славу и почет театру Марэ, которые в Бургундском отеле могли ставить только во вторую очередь, после их напечатания, — таков тогда был обычай. В 1647 году Флоридор перешел в Бургундский отель на уже названных нами условиях и заменил Бельроза во главе труппы.
Для него началась беспрерывная череда удач. В 1657 году он снова сыграл Горация и Цинну, возобновив постановки театра Марэ, первым исполнил заглавную роль в «Эдипе», а затем Масиниссы в «Софонисбе» Корнеля; вместе с труппой Мольера участвовал в придворных спектаклях, играл перед братом короля и на каждом из этих празднеств невероятно учтиво приветствовал короля и принцев.
Донно де Визе, первый французский театральный критик, пел ему дифирамбы:
«Во всех пьесах, в которых он играет, он предстает именно тем, кого представляет. Зрители желали бы видеть его беспрерывно, и в его походке, в его виде и его поступках есть что-то столь естественное, что ему нет нужды говорить, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Чтобы воспеть ему хвалу, достаточно назвать его имя, поскольку в нем уже заключены все те похвалы, которые можно ему воздать».
Газета Лоре, со своей стороны, никогда не забывала упомянуть об очередном успехе Флоридора в каждой новой постановке.
Знаменитому исполнителю пьес обоих Корнелей{35} посчастливится участвовать в постановке всех трагедий Расина, начиная с «Александра Великого», которого автор забрал у труппы Мольера и отдал «великим актерам»; он предстанет в образе Пирра, Нерона и, наконец, Тита, выступая партнером мадемуазель Шаммеле. Какая блестящая карьера для трагика — тридцать лет быть первым исполнителем всех главных ролей в пьесах Корнеля и Расина, причем с неизменным успехом! Он оставит главную сцену Парижа лишь в связи со своей смертью в 1671 году. Единственная надгробная речь, которая до нас дошла, — это сухая и желчная фраза Бюсси-Рабютена: «Пора уже было Флоридору оставить театр». Ах уж эта вечная неблагодарность публики по отношению к стареющим кумирам!
Благовоспитанный, с хорошими манерами, превосходный отец семейства, книгочей, директор и руководитель своей труппы, каким Мольер был для своей, Флоридор пользовался единодушной любовью и уважением. Однажды он обратился к знаменитому поэту-столяру из Невера Адаму Бийо с просьбой отремонтировать сцену Бургундского отеля; поэт отказался от всякой платы за свой труд, и Флоридор вознаградил его изящным мадригалом. Сам Мольер с глубоким уважением относился к главе королевской труппы — сопернице его собственной. Пародируя в «Версальском экспромте» актеров Бургундского отеля, высмеивая их напыщенную декламацию, он воздержался от нападок на Флоридора — самого знаменитого и популярного среди них.
Сам Людовик XIV, заядлый театрал, часто рукоплескавший Флоридору на улице Моконсей или в Версале, «относился к нему благосклонно и изволил одаривать его при каждой встрече», — пишет Шаппюзо. У нас есть несколько тому доказательств: помимо частых вознаграждений король предоставил ему в 1661 году прибыль «с перевозки бечевою всех судов, идущих вверх и вниз по течению, от набережной Бонзом в Шайо до ворот Конферанс города Парижа». Этой королевской милостью Флоридор был обязан «советчику» брата короля, герцога Орлеанского, — капитану-знаменосцу ста швейцарцев,{36} с которым он делился доходами от этого предприятия. Два года спустя король отдал Флоридору и Кино{37} в концессию транспортные перевозки из Парижа в Каор и в Сарла. А когда в 1668 году король отдал приказание выявить ложных дворян, он лично, на заседании финансового совета, предоставил Флоридору годичную отсрочку на представление комиссарам грамот, подтверждающих его дворянство, которые тот наверняка потерял.
Таким был великий актер, поставивший весь свой талант на службу классической трагедии и двадцать пять лет руководивший королевской труппой Бургундского отеля. Рядом с его именем стоит имя еще одного знаменитого трагика — Монфлери.


Зал для игры в мяч. Начало XVII века.
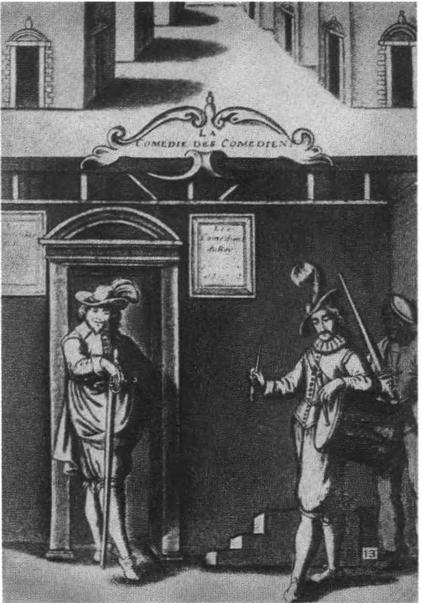
Вход в Бургундский отель. Гравюра 1635 г.

Фарсовый актер на женские роли Ализон. Бургундский отель.

Актеры Бургундского отеля. Гравюра А. Босси. 1630 г.

«Принудительные обстоятельства». Пьеса Т. Корнеля в Бургундском отеле.

Жакоб Монфлери. Бургундский отель.

Фарсовый актер Гильо-Горжю. Бургундский отель.

Фарсовый актер Жодле. Театр Маре.

Фронтиспис издания комедии Монфлери «Экспромт Отеля Конде».

Фронтиспис издания трагедии Скюдери «Смерть Цезаря». Гравюра В. Локома. 1937 г.

Капитан Матамор.

Декорация Торнелли к «Андромеде» Корнеля.

П. Корнель. Гравюра Жирарда. 1684 г.

Ярмарочный балаган.

Фронтиспис памфлета «Эломир-ипохондрик».

Флоридор.

Скарамуш.

Шапель.

Мадлена Бежар.

Мадлена де Скюдери.

Сирано де Бержерак.

Пьер Миньяр.

Мольер. По портрету Белльяра.

Дюкруази.

Дебри.

Дюпарк.

Тереза Дюпарк.

Латорильер.

Лагранж.

Анна Австрийская, королева Франции, мать Людовика XIV. Гравюра.

Герцогиня Луиза де Лавальер в стилизованном одеянии. Рисунок Дюшато.
Захария Жакоб, сын четы комедиантов из числа спутников Валлерана Леконта и сам отец двух актрис — мадемуазель д’Эннебо и мадемуазель Дюпен — и сына, женившегося на дочери Флоридора, составил себе завидную репутацию в Бургундском отеле под именем Монфлери. Актерскую школу, как и все его коллеги, он прошел в провинции; Бельроз позвал его в Бургундский отель в 1638 году. Прибыв в Париж, он женился на актрисе — Жанне де ла Шапп, вдове Пьера Руссо. Бракосочетание состоялось в загородном доме кардинала Ришелье, в Рюэле, это доказывает: у «новенького» уже были неплохие связи.
Тридцать лет Монфлери вместе с Флоридором служили классическому театру. Он даже сам написал трагедию, но это было лишь версифицированное переложение трагедии Ласера «Разграбление Карфагена», написанной в прозе. Шаппюзо говорит как об исключительном факте о способности Монфлери играть и в трагедиях, и в комедиях. Он был занят только в корнелевском репертуаре, создав, среди прочих, роли Прусия в «Никомеде», Сифакса в «Софонисбе» и Селевка в «Антиохе» Тома Корнеля. Он еще успел сыграть Поруса в «Александре Великом» и Ореста в «Андромахе» — пьесах Расина. Как утверждается, он умер от перенапряжения голоса, произнося монолог в сцене безумия Ореста.
Ибо Монфлери был трагиком старой школы: нарочитая декламация и зычные вопли тогда нравились партеру. Кстати, он был очень толст и обладал громоподобным голосом. Его утрированная дикция и игра вызывали немало насмешек Мольер жестоко потешался над ним в «Версальском экспромте», пародируя Монфлери в роли Прусия.
Сирано де Бержерак послал Монфлери, которого называл «утолщенным франтом», озорное письмо, довольно грубо высмеивая его живот:
«Могу вас уверить, что если бы удары палкой можно было переслать письменно, вы прочли бы мое письмо на своих плечах; не удивляйтесь этому, ибо ваша обширная округлость вызывает во мне твердую убежденность в том, что вы земля, и я охотно навтыкал бы в нее палок, чтобы посмотреть, примутся ли они».
Эдмон Ростан перефразировал его следующим образом:
«Голос. Эй, бочка! Откатись, не заслоняй мне света!
Монфлери. Но…
Голос. Ты упрямишься?
Монфлери. Но…
Голос. Вот как?
Монфлери. Сударь, но…
Публика. Играйте, Монфлери!
Голос. Хотел бы видеть это!..
Над партером показывается палка.
Монфлери (поет). Сколь счастлив…
Голос. Вон пошел! Не порть мне настроенье,
А не уйдешь — клянусь, не по моей вине
Вот это нежное растенье
Начнет расти в твоей спине!»[9]
Но мы знаем благодаря Шаппюзо, личному другу Монфлери, что весь двор, не читавший Сирано де Бержерака, «высоко ценил» этого «совершенного» актера. Знаток театра Сент-Эвремон считал, что «Андромаха» уже не так сильно впечатляла после смерти Монфлери.
Бельроз, Монфлери, Флоридор, Отрош, сменивший его на посту директора труппы, — вот основные «великие актеры» великого века. Разумеется, у них были достойные партнерши, с которыми они делили успех.
Лоре в своей рифмованной газете часто восхваляет изящество мадемуазель дез Ойе и ее способность перевоплощаться. Жена странствующего комедианта, выступавшего в театре Марэ, она прошла там обычную стажировку, прежде чем попасть в труппу Бургундского отеля.
Она блистала в ролях Софонисбы, Гермионы и Агриппины. Когда на подмостки взошла мадемуазель Шаммеле, она сказала печально и просто: «Дез Ойе больше нет!»
Но в ее время самые продолжительные аплодисменты срывала знаменитая Дюпарк. Маркиза Тереза де Горла, дочь итальянского фигляра, поселившегося в Лионе, дебютировала как танцовщица во время выступлений отца. Находясь в 1653 году в Лионе, Мольер ввел ее в свою труппу и выдал замуж за одного из своих товарищей — Гро-Рене. Благодаря своей красоте и очарованию ей удалось неслыханное: она поочередно влюбила в себя Корнеля, Мольера и Расина. Первого она повстречала в Руане в 1658 году, но юная кокетка (а она была невероятной кокеткой) отвергла ухаживания седеющего поэта. Тот, задетый за живое, отомстил ей такими прелестными стихами:
Вам кажется, Маркиза,
Я слишком стар. Увы!
По времени капризу
Состаритесь и вы!
И вашей нежной кожи
Оно не пощадит.
Ведь розы вянут тоже,
Сойдя навек с ланит.
Планидою одною
Дни определены:
Вы станете такою,
Я был таким, как вы.
И в новом сем народе,
Что верить мне готов,
Красивой прослывете
Вы только с моих слов.
Подумайте об этом.
Не так уж плох старик,
Когда он был поэтом
И так, как я, велик.
Мольер, который тоже ухлестывал за Дюпарк, чтобы забыть о неприятностях, которые ему доставляло кокетство жены, был принят ею не лучше. Зато Расину удалось то, в чем остальные потерпели неудачу.
После прибытия труппы Мольера в Париж чета Дюпарк провела год в Марэ, а потом вернулась к Мольеру. Как говорит Лоре по поводу ее игры в «Докучных»:
В Дюпарк прекрасной нет изъяна,
Нет лучше голоса и стана.
Пленит мельканье стройных ног
И восхищает монолог.
Она играла в «Критике „Школы жен“», «Версальском экспромте», «Браке по принуждению»; верхом на испанском жеребце, она изображала Весну в «Балете времен года», которым открывались великолепные празднества — «Увеселения зачарованного острова», устроенные молодым королем в честь мадемуазель де Лавальер в садах Версаля; возможно, она исполнила роль Эльвиры в «Дон Жуане» Мольера и уж наверняка сыграла Арсиною в «Мизантропе».
Ее таланты и красота заставили воспылать к ней Расина, который только что рассорился с Мольером из-за «Александра Великого». Он увел Дюпарк за собой в Бургундский отель, и та не замедлила стать его любовницей. Для нее он написал «Андромаху», поскольку она чувствовала музыку стихов, их ритм, и Расин разучивал с ней роль стих за стихом, подчеркивая все нюансы, все скрытые оттенки смысла. «Он заставлял ее репетировать, как школьницу», — пишет Буало.
Это сотрудничество на фоне романа продлилось недолго; плодом любви поэта-трагика и актрисы (многие думали, что их связывал тайный брак) стала их дочь, но Дюпарк умерла 11 декабря 1668 года при загадочных обстоятельствах. Старая ведьма Ла Вуазен{38} обвинила Расина в том, что он отравил ее, чтобы украсть у нее драгоценности, и Лувуа даже подумывал арестовать поэта. Но гораздо вероятнее, что она умерла во время родов, возможно, после попытки аборта. Газетчики возвестили о ее смерти и описали церемонию похорон, на которых присутствовали все актеры — французские и итальянские — и театральные поэты, причем один из них, которого эта смерть коснулась в наибольшей степени, «был ни жив ни мертв».
Дюпарк внезапно ушла из жизни в тридцать пять лет, оставив Расина в полном смятении чувств; ее карьера в Бургундском отеле не продлилась и полутора лет, яркой звездой она пронеслась по небосклону парижской сцены, нарисованному на холсте.
Ее сменила известная трагедийная актриса Шаммеле. Мари Демар (таково было ее настоящее имя) дебютировала в странствующей труппе Сердена. В 1666 году в Руане она вышла замуж за его товарища Шарля Шевийе (он же Шаммеле), игравшего в комедиях, которые имели определенный успех и авторство которых порой приписывают Лафонтену (похоже, по ошибке). В 1668 году оба поступили в театр Марэ, а в 1670-м перешли в Бургундский отель — через полтора года после смерти Дюпарк и за полгода до смерти дез Ойе. Карьера госпожи Шаммеле с тех пор резко пошла в гору; бесспорно, она была величайшей трагедийной актрисой XVII века; до самого конца этого столетия она блистала в «Комеди Франсез». Она стала первой исполнительницей всех главных ролей в трагедиях Расина, вплоть до «Федры», которую автор разучил с ней строчка за строчкой, как в свое время роль Андромахи с Дюпарк.
Шаммеле заменила Дюпарк не только на сцене Бургундского отеля, но и в сердце Расина. Справедливости ради надо сказать, что до этой связи Шаммеле вела довольно бурную жизнь.
Госпожа де Севинье{39} взяла на себя труд хотя бы частично просветить нас на этот счет. Шаммеле побывала любовницей ее сына Шарля де Севинье, поэтому писательница в шутку называла ее «своей невесткой». Рассказывая о ней и ее связи с сыном, она писала госпоже де Гриньян:
«Сверх того, еще одна актрисочка, а с ней — супруги Депрео и Расины. Ужины проходят прелестно, то есть это просто черт знает что такое». Но маркиза восхищалась ею как актрисой. Увидев ее в роли Роксаны в «Баязете», она писала: «Моя невестка показалась мне самой чудесной актрисой, какую я когда-либо видела; она превосходит дез Ойе на сто голов… Вблизи она дурнушка, но когда декламирует стихи, она восхитительна».
Именно маркиза, хранившая верность старику Корнелю, сообщает нам, что Расин писал свои трагедии для Шаммеле, «а не для грядущих веков», в чем она глубоко заблуждалась.
Связь с Шарлем де Севинье была лишь мимолетным увлечением; отношения же с Расином превратились (по меньшей мере для поэта) в великую страсть, не прекращавшуюся до самого ее ухода из театра.
На смену Расину пришел господин де Тоннер. В 1689 году актрисе было сорок пять лет, и госпожа де Севинье писала:
«[Под дорожные рассказы] Шаммеле о ее маневрах с целью сохранить всех своих любовников, без ущерба для ролей Аталиды, Береники и Федры, пять лье{40} пролетели незаметно».
Обиженный Расин отомстил ей такой эпиграммой (впоследствии ее приписывали Депрео):
Из шестерых любовников Манон
Никто не ревновал ее друг к другу.
Она принадлежала всем по кругу,
Включая мужа. Но, прознав, что он
Стал бегать за служанкой Габриэллой
И что вот-вот впадет он с нею в грех,
Все шестеро вскричали: «Очумелый,
Одумайся! Ты заразишь нас всех».[10]
Десятью годами позже, когда она была при смерти, кюре из Отейя с величайшим трудом добился от нее необходимого отречения от ремесла: «…она считала славным для себя умереть актрисой». Впрочем, в конце концов она подчинилась. На следующий же день после ее смерти Расин, уже двадцать лет как оставивший театр и вернувшийся в лоно Пор-Рояля своего детства, написал своему сыну, что «Шаммеле умерла в благостном настроении, отрекшись от театра, глубоко раскаиваясь за свою прошлую жизнь, но главное, будучи сильно огорчена тем, что умирает». Из уважения к Расину хотелось бы, чтобы он не писал таких жестоких слов о своей бывшей возлюбленной, актрисе, посвятившей ему свой талант.
Хотя в том, что касалось трагедий, Бургундскому отелю не было равных, с комедиями дело обстояло иначе. Он не мог соперничать с Пале-Роялем, где царили Мольер, его труппа, его пьесы и давние традиции комических представлений. Однако на улице Моконсей после трагедии — «главной пьесы» — всегда представляли комедию. Таким образом, в Бургундском отеле имелись комические актеры, к которым относился Шаммеле, а самым прославленным из них был Бельрош, более известный под своим настоящим именем — Раймон Пуассон, основатель большой династии комиков.
Будучи довольно долго странствующим актером, он в 1659 году, благодаря покровительству Кольберов, возглавил труппу, сопровождавшую Людовика XIV во время поездок по стране, и получал щедрое вознаграждение. Вскоре после того он вместе с женой, тоже актрисой, поступил в Бургундский отель. В музее «Ла Скала» в Милане есть его бюст в роли Криспена — этот образ создал он сам. Хитрый слуга, продувная бестия, всегда готовый устроить любовные делишки своего хозяина за приличное вознаграждение, персонаж многих комедий Реньяра и Лесажа,{41} вышел из-под пера Скаррона в пьесе «Саламанкский школяр, или Великодушные враги», поставленной в 1654 году в театре Марэ. Он носит неизменный традиционный костюм, позаимствованный у испанцев: круглая шляпа, белое жабо, черный куцый камзол, широкий пояс из желтой кожи с большой медной пряжкой, черный плащ и сапоги с набедренниками.
Остроумие и задор Раймона Пуассона ввели в моду новый тип Криспена; все популярные авторы принялись плодить Криспенов, как когда-то, двадцатью годами раньше, выстраивали целый ряд Жоделе; Шаппюзо, де Вилье, Донно де Визе, Отрош, Шаммеле, Монфлери-сын, Ла Тюильри и сам Раймон Пуассон (ибо он был актером-драматургом, и его «Баскский поэт» и «Барон Скареда» пользовались большим успехом) выводили на сцену Криспена. Но поскольку почти все эти комедийки были одноактными, он сам называл себя в шутку «одной пятой доли автора». Кстати, Раймон Пуассон играл и Жоделе во время повторных постановок старых комедий Скаррона. Сам Мольер, хоть он и принадлежал к соперничающей труппе, ценил его игру и, как говорят, «отдал бы все на свете, чтобы обладать естественностью этого великого актера».
Раймон Пуассон сделал прекрасную карьеру в Бургундском отеле, продолжив ее затем в «Комеди Франсез». Ловкий и упорный проситель, он получал солидный приварок к своему актерскому жалованью, беспрестанно докучая своим покровителям — высокопоставленным особам, которым он посвящал свои комедии, и самому королю, которого он забрасывал рифмованными прошениями и мадригалами, всегда бесстыдно при этом уточняя, что его похвалы небескорыстны. Однако его остроумие и талант скрашивали дерзость его ходатайств, которые обычно благосклонно принимали. В Раймоне Пуассоне было что-то от Криспена. Когда Людовик XIV раскошеливался, герцогам и министрам оставалось только последовать его примеру…
Таковы были ведущие актеры в каждом амплуа, которые на протяжении полувека составляли славу Бургундского отеля и приучили парижскую публику знать и любить французский классический театр в его первозданной свежести.
Осенью 1680 года труппа прекратила свою деятельность, уступив Бургундский отель итальянцам и войдя в полном составе, на условиях, о которых мы скажем ниже, в недавно созданную «Комеди Франсез».
Глава третья Королевская труппа в Марэ (1634–1673)
В 1629 году, том самом, когда труппа Робера Герена окончательно обосновалась в Бургундском отеле, в Париж прибыла новая группа странствующих комедиантов. Она держала путь из Руана, где ее руководитель получил от тогда еще неизвестного поэта, адвоката по профессии, рукопись комедии под заглавием «Мелита». Автором был Пьер Корнель, главой труппы — Мондори. На пятнадцать лет эти два имени объединятся в ореоле театральной славы.
Кто же такой Мондори, настоящее имя которого — Гильом Дегильбер? Сын ножовщика из Тьера, он был еще одним из учеников, воспитанных старым Валлераном Леконтом, рядом с которым он находился с 1612 года, получая половину пая — не разбежишься. Какое-то время он входил в труппу принца Оранского вместе с Ленуаром, потом, в 1624 году, вместе с супругами Вилье и Бопре образовал собственную труппу и уехал с ней в провинцию. В какой-то другой труппе он повстречал своего старого друга Ленуара и вместе с ней прибыл в Париж — единственный город, суливший комедиантам славу и богатство.
Труппа обосновалась в зале для игры в мяч в тупике Берто (теперь это дом 37 по улице Бобур) и играла «Мелиту».
«Успех был поразительным, — писал позже Корнель. — Он привел в Париж новую труппу актеров, несмотря на достоинства той, что по праву могла оставаться единственной (королевской труппы); он сравнялся со всем, что до сих пор было создано самого прекрасного, и даровал мне известность».
Этот первый успех разделили поэт и актер.
Разумеется, обосновавшись в тупике Берто, Мондори и Ленуар и думать не думали о членах Братства Страстей Господних; но те о них не забыли и, по своему обыкновению, потребовали, в силу своей привилегии, компенсацию в три экю за каждое из 135 данных представлений. Как обычно, актеры подчинились только после того, как суд Шатле вынес приговор.
В 1631 году труппа Мондори за плату в двенадцать ливров в день разместилась в новом зале для игры в мяч под вывеской «Сфера», на Старой улице Тампль. Верно, плата показалась слишком высока, и бродячая труппа переехала снова, заняв игорный дом «Фонтан» на улице Мишеля Леконта. Наверное, туда начали стекаться толпы, поскольку местные жители стали жаловаться на множество «карет и лошадей, которые там встречались», загромождая узкие улочки квартала Марэ. Дело передали в парламент, о его решении ничего не известно. С уверенностью можно сказать лишь о том, что в начале 1634 года Мондори переехал в очередной раз и снял — теперь уже на пять лет — зал для игры в мяч под вывеской «Марэ» (теперь это дом 90 по Старой улице Тампль).
Зал был большой и красивый, однако плата за него — слишком высока, новому театру ее было не потянуть: 3 тысячи ливров, тогда как аренда Бургундского отеля стоила от 2 тысяч до 2400 ливров. Однако комедианты заключили долгосрочный арендный договор — на пять лет, что говорит о их твердом намерении окончательно остаться в Париже. Столица получила еще одну театральную сцену — театр Марэ. В труппе было восемь актеров: Вилье, Болье, Жоделе и его брат Лэспи, а также две-три актрисы, в том числе жены Ленуара и Вилье. Жена Мондори в виде исключения не выходила на сцену; он сам говорил, что это «невинное создание, которое днюет и ночует в церквях».
Поставщиком репертуара для новой труппы был Корнель. После «Мелиты» сыграли «Клитандра», «Вдову», «Галерею суда», «Служанку» и «Королевскую площадь», эти комедии забавляли народ, поскольку действие разворачивалось в точно обозначенных кварталах Парижа. Злые языки спрашивали у Мондори, не появятся ли вскоре на афишах кладбище Сен-Жан, фонтан «Самаритянка» и Большая Бойня. Но тот, заручившись протекцией графа де Белена, любовника жены Вилье, а вскоре и самого кардинала Ришелье, не обращал внимания на насмешки и взвешивал на руке кошелек со сборами, который с каждым днем становился все тяжелее. Фортуна была к нему благосклонна; публику радовала возможность выбирать между двумя театрами и двумя репертуарами. Как и королевскую труппу, труппу Марэ даже вызывали «на дом». На свадьбе герцога де Лавалетта она играла в Арсенале «Мелиту», мода на которую не проходила. Мондори со товарищи стали «королевской труппой Марэ»; с 1635 года они получали содержание в шесть тысяч ливров — вполовину меньше, чем «единственная королевская труппа» из Бургундского отеля, но все же неплохие деньги.
Бывшие бродячие актеры стали официальным парижским учреждением, стабильным и процветающим, пользующимся покровительством короля и его щедротами.
Разумеется, королевская труппа встревожилась и всполошилась из-за успехов нежданной конкурентки. Бельроз не сидел сложа руки. Ловкий интриган, он добился от короля распоряжения о том, чтобы четыре актера Мондори — Ленуар с женой, Жоделе и Лэспи перешли в Бургундский отель. «Газетта» пишет:
«После пополнения старой труппы, 10-го числа сего месяца Бургунский отель показался чересчур мал для нахлынувшей публики, когда представляли „Наказанного обманщика“ господина Скюдери; тем временем Мондори (не впадая в отчаяние по поводу спасения своей небольшой республики) старается восстановить ее из руин, не вызывая сомнений в своей ловкости, проявленной в прошлом».
Эта официальная заметка в «Газетте» Ренодо — самая первая информация о театре, опубликованная во французской прессе.
Бедняга Мондори не знал, как ему быть. У него забрали четырех лучших актеров из труппы, в которой всего-то было одиннадцать человек Удар Бельроза мог оказаться смертельным. Еще один актер, Франсуа Метивье, отец мадемуазель Ленуар, с досады окончательно ушел со сцены. Директор театра Марэ оказался неспособен давать представления. Возможно, в поддержке и ободрении у него недостатка не было. Кардинал Ришелье, считавший, что второй театр в Париже не лишний, пришел к нему на помощь, поскольку «горячо любил» Мондори; он тотчас пожаловал 500 экю ему лично и еще 300 экю всей труппе, чтобы внести арендную плату. Благодарный актер послал ему прекрасную оду, исполненную похвал, в которой было не менее двухсот стихов — по правде говоря, довольно пошлых. Со своей стороны, Корнель, которому не хотелось, чтобы театр, где он познал славу, прекратил свое существование, вставил в латинскую элегию, адресованную архиепископу Руана, в знак признательности исполнителю своих пьес такие строки:
«Если произведение несовершенно, Росций его подправит. Усилит слабые места, всем своим существом способствует успеху, и так мои стихи обретают свой пыл и изящество».
Все это было хорошо, но Мондори нужно было восстановить свои сильно пошатнувшиеся дела. 18 декабря 1634 года он в последний раз сыграл «Софонисбу» Мерэ со своей прежней труппой, которая собралась по такому случаю в полном составе. Мондори энергично взялся за воссоздание труппы: добился от Ришелье, чтобы король перевел в театр Марэ из Бургундского отеля, где актеров уже было слишком много, чету Бошато. Хорошее приобретение. Но этого было недостаточно. Мондори спешно ангажировал Пьера Реньо Пти-Жана по прозвищу Ла Рок — бывшего члена труппы, который покинул ее еще до переезда в Марэ и однажды станет ее блестящим директором, Андре Барона-отца, дебютировавшего в Париже, и Бельмора, комика, игравшего капитана Матамора, взамен Жоделе. Мондори хватило двух недель, даже меньше, чтобы воссоздать свою команду, которую вскоре пополнит знаменитая Бопре. 31 декабря 1634 года тревоги улеглись, и театр Марэ вновь раскрыл свои двери.
Публику не пришлось туда заманивать, и для театра Марэ началась особенно славная и яркая эпоха его истории. После «Смерти Цезаря» Скюдери, где Мондори играл Брута, «Марка Антония» Мерэ, «Насмешника» Марешаля верный Корнель, заставлявший Бельроза и весь Бургундский отель лопаться от зависти, отдал туда «Медею», а затем «Комическую иллюзию» — барочную комедию в совершенно новом роде. Затем настал черед «Марианны» Тристана Лермита — это был триумф, и Мондори в роли Ирода вызвал бурю аплодисментов. Корнель подчеркивал его «совершенство», а Тальман де Рео писал:
«Чтобы показать, как велико его искусство, он попросил рассудительных и сведущих людей посмотреть „Марианну“ четыре раза кряду. Каждый раз они замечали что-то новое; по правде говоря, это был его шедевр, у него лучше получался герой, чем любовник».
Мондори стал первым трагиком в Париже. Сам Бельроз был вынужден склониться перед силой его искусства.
В декабре 1636-го или в январе 1637 года произошло еще одно событие. Корнель, теперь уже в расцвете своего гения, поставил в Марэ «Сида». Пьеса, как мы знаем, возбудила писательскую зависть в кардинале Ришелье и породила громкий спор в юной Французской академии.
Множились памфлеты «за» или «против» нового шедевра; публика волновалась и спорила; огонь, полыхавший в груди Родриго, воспламенил весь Париж. Еще никогда театральная пьеса не вызывала столько шума. У дверей театра была давка.
«У наших дверей собралась столь большая толпа, — писал Мондори Бальзаку, — а наш театр оказался столь невелик, что дальние его закоулки, ранее отводившиеся пажам, были с радостью заняты „голубыми лентами“, а сцену обыкновенно украшали кресты рыцарей ордена».{42}
Естественно, Родриго играл Мондори, его партнершей была мадемуазель Вилье в роли Химены. Гез де Бальзак, оракул будуаров и парадных спален, провозгласил, что актер благодаря своему таланту стал «вторым отцом» Сида, и, будучи другом Мондори, заявил, что «заслужить любовь господина де Мондори значит быть в фаворе у тысячи королей». Короче, и для автора, и для исполнителя пробил звездный час. Враги Корнеля писали ядовитые строки:
«Ловкость актеров, умеющих и представить пьесу, и хорошо преподнести ее разными чужеродными способами, в которых господин де Мондори знает толк так же хорошо, как и в своем ремесле, стали самыми яркими украшениями „Сида“ и главной причиной его ложной репутации».
Но все было напрасно. Восторженная публика одинаково чествовала поэта и актера.
Увы! Столько усилий, увенчавшихся заслуженным триумфом, до срока подкосили Мондори: ему было лишь немного за сорок, когда в августе 1637 года, на представлении «Марианны», в сцене проклятий Ирода, которую он вел «всем нутром», сильно напрягая голос, у него «отнялся язык». Паралич сломал карьеру Мондори; несмотря на мужественную, но напрасную попытку вновь выйти на сцену во время карнавала 1638 года, ему пришлось покинуть ее навсегда. Ришелье сделал его отставку более приятной, назначив пенсию в две тысячи ливров.
Театр — поле бесконечного сражения; как на войне, если командир убит, другой должен выйти вперед и заменить его; таким человеком стал Вилье, который, с согласия своих товарищей, отныне управлял судьбой театра Марэ. Он продлил арендный договор еще на пять лет. Взамен Ленуара, умершего вскоре после ухода Мондори, Вилье весьма удачно ангажировал молодого актера Флоридора — превосходного трагика, которому отныне отдавали главные роли в новых трагедиях Корнеля. «Гораций», «Цинна», «Полиевкт», «Смерть Помпея» и «Лжец» позволят театру Марэ продолжать восхождение к успеху, блеск которого еще несколько лет затмевал соперничающую труппу из Бургундского отеля. Вскоре после свадьбы Андре Барона его жена, которую называли Баронессой, тоже бывшая ученица Валлерана Леконта, поступила в труппу Марэ. Труппа, разросшаяся до тринадцати человек, могла теперь осилить любой репертуар — и старый, и новый.
Увы, процветание актеров из Марэ, хоть современники и называли их «малыми» в противоположность «великим актерам» из Бургундского отеля, в очередной раз распалило алчность Бельроза. Бургундскому отелю тогда было некем похвастаться, и он поблек в сравнении с Марэ. Как и в 1634 году, Бельроз обратился прямо к королю и без труда добился перевода на улицу Моконсей шестерых актеров — Вилье, Бошато, Барона и их жен. В очередной раз труппа из Марэ обезлюдела, сократившись до пяти актеров и двух актрис, к тому же она была обезглавлена, лишившись своего директора.
Скипетр, выпавший из рук Вилье, подобрал Флоридор. Он худо-бедно пополнил свою команду несколькими посредственными актерами. Однако он не терял веры в будущее, хотя Бельроз отнял у него лучших товарищей, у него все еще оставался главный козырь — Корнель, верный Марэ, несмотря на все его злоключения. Очень скоро Флоридор стал его близким другом. Но очередной удар, на сей раз нанесенный судьбой, разрушил все его надежды: 15 января 1644 года в театре вспыхнул пожар, и все его деревянные конструкции обратились в пепел. Это несчастье сразило и актеров, которые лишились всех декораций и всех костюмов — своего единственного богатства, и владельцев зала для игры в мяч, обвинивших за причиненный ущерб комедиантов и собиравшихся подать на них в суд. Вмешались общие друзья, чтобы подыскать такие условия сделки, которые устроили бы обе стороны (о чем подробно рассказывает Дейеркауф-Гольсбор в великолепной «Истории театра Марэ», где в изобилии приводятся ранее не публиковавшиеся архивные документы). Сделка была заключена 31 марта.
Владельцы согласились подождать с оплатой аренды вплоть до восстановления зала, но в обмен на арендный договор сроком еще на пять лет актеры должны будут уплатить 10,5 тысячи турских ливров (около 7,5 тысячи евро) за восстановление всех разрушенных построек — театрального зала и прилегающих помещений. На это ушла большая часть их сбережений (последние несколько лет они делали хорошие сборы). Флоридор, как мог, подгонял рабочих; каждый день он являлся на стройку, надоедал плотникам и столярам. Прошло всего десять месяцев, и зал был восстановлен, он стал больше и красивее, чем прежде, богаче украшен, с двумя ярусами из восемнадцати лож в каждом, над которыми возвышался «раек», с просторным амфитеатром в глубине зала, с двойной сценой, шире и выше прежней, с наклонным полом, чтобы спектакль было лучше видно из партера, и, наконец, с десятью удобными гримерками для актеров — неслыханная роскошь по тем временам.
В целом длина зала составляла около 38 метров, что намного превосходило размеры обычных залов для игры в мяч. Он вмещал до полутора тысяч зрителей.
В октябре 1644 года новый театр Марэ открылся постановками «Продолжения лжеца» и «Родогуны». Для любителей комедии Скаррон и д'Увиль{43} написали серию «Жоделе», в которой блистал знаменитый комик. Благодаря энергии Флоридора и самопожертвованию актеров их положение, сильно подорванное пожаром, восстановилось в самые краткие сроки.
Казалось, театр Марэ вступил в новую эру процветания, но тут на него обрушилось очередное несчастье. В начале 1647 года Флоридор перешел в «Бургундский отель» на условиях, о которых мы говорили выше. Это не было дезертирством, как многим показалось, поскольку он исполнял приказ короля; на самом деле это был новый выпад Бельроза, по-прежнему завидовавшего успеху театра Марэ. Тот лишился не только своего директора и лучшего трагика, но и его жены, которая последовала за ним на улицу Моконсей, а главное — новых пьес его друга Корнеля. «Гераклия» сыграют уже в Бургундском отеле. Для Марэ это была ужасная катастрофа, и на сей раз он уже не возродится как трагический театр. Бельроз торжествовал: наконец-то он сразил соперника, дела которого шли лучше его собственных.
«Малые актеры», задавленные «великими», в очередной раз оказались в отчаянном положении. Владельцы театра — тоже: им была остро необходима арендная плата, поскольку здание находилось в залоге. В очередной раз труппа Марэ принялась латать дыры. Сам Флоридор нашел хорошего актера в провинции, Филандра, который позже возглавит труппу принца Конде. Филандр поступил в театр Марэ и выкупил долю Флоридора за 550 ливров, за ним пришли Никола Бие де Бошан с женой. Владельцы, боявшиеся потерять всё, согласились продлить аренду еще на три года за плату в 2400 ливров, скостив, таким образом, 600 ливров.
Под управлением Филибера Робена, которого вскоре заменил Ла Рок, театр Марэ выстоял в бурю и продолжил плавание. Но актеры прекрасно понимали, что, лишившись Флоридора и корнелевских пьес, уже не выдержат конкуренции с Бургундским отелем, который отныне превратился в храм трагедии: Расин, в свою очередь, тоже принесет свои пьесы туда.
Им требовалось найти что-то еще; конечно, они по-прежнему играли трагедии дю Рие, Жилле де ла Тессонери и Тома Корнеля и комедии, в которых Жоделе не знал себе равных, но теперь они перенесли все свои усилия на пьесы «с машинами», то есть на зрелищные постановки с музыкой, пением и танцами, с необыкновенными декорациями и сценическими машинами наподобие тех, которые использовал Торелли, когда Мазарини ввел в Париже итальянскую оперу, в частности, для постановки «Мнимой сумасшедшей» Сакрати и «Орфея» Росси в Пале-Рояле. Они приняли на службу Дени Бюффекена — прославленного художника, декоратора и инженера.
Все это требовало значительных расходов, но наши актеры решились пойти на необходимые жертвы. Все мифологические герои побывали на сцене Марэ: «Цирцея» и «Орфей спускается в ад» Шапотона,{44} «Улисс на острове Цирцеи» Буайе,{45} «Андромеда и Персей» неизвестного автора, «Рождение Геракла» Ротру, не говоря уже о возобновлении «Андромеды» Корнеля. Публика благосклонно принимала роскошные декорации и костюмы, арии и новые танцы, олимпийских богов, возносившихся на небеса на хитроумных машинах, дриад, сирен и нереид, вращавшихся в своей стихии, рай и ад на сцене, похищения, превращения, волшебные появления, корабли в бурном море, ненастоящие пожары. Короче, процветание вернулось, и театр Марэ, освоив новый жанр, вновь обрел верную публику. Его успехи были прерваны волнениями Фронды в 1649 году. Парижане, находясь в осаде, без еды, не имели больше ни времени, ни желания ходить в театр. Долгие месяцы зал Марэ оставался закрыт. Филандр вернулся в провинцию.
Снова открывшись, театр жил в основном за счет возобновления старых постановок, в частности пьес обоих Корнелей и Скаррона. В 1653–1654 годах не было ни одной премьеры. Театр Марэ погрузился в полудрему и уже забыл о полных залах, как в былые времена. Симпатии публики теперь были на стороне Бургундского отеля, где царил Флоридор. Труппа Марэ задерживала арендную плату владельцам театра — плохое предзнаменование. Финансовые трудности обострились и для владельцев, и для актеров, которых невзгоды уравняли. Первым актриса Бопре одолжила немалую сумму — 10 тысяч ливров, для уплаты кредиторам. С другой стороны, актеры продали владельцам оборудование зала, декорации и театральные машины. День за днем театр Марэ клонился к закату. В 1654 году он даже на какое-то время закрылся, и актеры отправились искать счастья в провинцию — в Нант.
Труппа, так долго выдерживавшая соперничество с Бургундским отелем, неудержимо катилась к упадку. Несколько актеров покинули тонущий корабль. Бопре взялась сама платить за аренду, потребовав снизить ее с 2400 до 2000 ливров. Ее муж встал во главе труппы, пополненной актерами второго плана. Чтобы снова поставить «Андромеду», театр опять обратился к декоратору Бюффекену; кстати, Корнель к тому времени оставил театр; репертуар комедий и трагедий теперь пополняли его брат Тома вместе с Буаробером и Кино. Под руководством Ла Рока труппа, в очередной раз воссозданная вместе с Жоделе, Лэспи, Ла Флером, Шевалье и Отрошем, смело пошла на амбразуру. В 1656 году «Тимократ» Корнеля-младшего, сыгранный в присутствии короля, имел неслыханный успех: восемьдесят представлений подряд! Но увы, далеко идущих последствий он не имел: на Пасху 1657 года театр снова закрылся — теперь уже на целых два года. Труппа укрылась в Руане, где она уже играла во время Фронды. Мадлен Бежар, находившаяся в этом городе вместе с Мольером, возвращавшимся в Париж, какое-то время подумывала перейти в театр Марэ, но отказалась от этой мысли, прельстившись на другие предложения, сулившие ей триумфальное возвращение в Париж, даже в Лувр, к королю.
В 1659 году Ла Рок снова перетряхнул свою труппу; Жоделе и Лэспи перешли к Мольеру в Пале-Рояль, Бопре ушла со сцены. Директор ангажировал дез Ойе, Юбера, Этьенетту и Катрин дез Юрлис, супругов Дюпарк, которые вскоре вернутся к Мольеру, Шевалье, Брекура (двух актеров-драматургов) и Ла Торильера. Решившись на этот раз удержать свое место между Бургундским отелем и Пале-Роялем, он заключил новый арендный договор на три года, продленный в 1663 году, за 2200 ливров в год, однако семейство Трош, полвека владевшее театром Марэ, продало его королевскому советнику Пьеру Оберу за 63 тысячи ливров, что позволило ему выкупить заложенное здание.
Вновь обретя почву под ногами, театр Марэ какое-то время процветал; наряду с использованием старого репертуара, он снова обратился к пьесам «с машинами», чтобы привлечь зрителей. Труппа призвала на помощь незаменимого Дени Бюффекена, он стал штатным декоратором Марэ и подготовил сногсшибательную постановку — «Золотое руно», сыгранную труппой театра Марэ в Небуре у маркиза де Сурдеака и затем вновь поставленную на Старой улице Тампль. Эта новая пьеса, написанная по случаю бракосочетания короля и положенная на музыку Дассуси,{46} ознаменовала собой блестящее возвращение Корнеля-старшего в театр, где он впервые познал успех. Поэтому актеры пошли на существенные расходы, чтобы придать новому спектаклю как можно больший блеск. Бюффекен за машины получил 1200 ливров «только за труды» плюс еще по 22 ливра за каждое представление. Маркиз де Сурдеак одолжил декорации, использованные во время представления в Небуре.
Для этой необычайной постановки, оставившей яркий след в театральных анналах XVII века, театр Марэ прилично увеличил плату за вход: пол-луидора за место в партере, луидор за кресло в амфитеатре, восемь — за ложу. Но парижане платили не задумываясь, так как знали, что деньги будут потрачены не зря. Успех был потрясающим. Несколько представлений «Золотого руна» в последующие годы позволили покрыть все расходы и даже принесли неплохую прибыль театру Марэ после стольких вынужденных простоев и лет «тощих коров». В январе 1662 года сам король явился на представление два раза подряд и вознаградил труппу двумя тысячами ливров. Должно быть, «единственная королевская труппа», заброшенная своим августейшим покровителем, вся извелась от зависти!
«Золотое руно» чередовалось с пьесой Шапотона «Орфей спускается в ад». Именно на Старую улицу Тампль, а не на улицу Моконсей Корнель принес своего «Сертория», постановка которого обошлась в кругленькую сумму, а в главной роли блистала мадемуазель дез Ойе. Старый театр поднял голову, но Бургундский отель в очередной раз попытался ее отсечь: он отнял у соперника его приму, мадемуазель дез Ойе, а Мольер забрал Брекура и Ла Торильера. Между парижскими театрами, отбиравшими друг у друга лучших актеров, существовала острая коммерческая конкуренция, сопровождавшаяся ссорами, о которых мы еще поговорим; у «великих актеров» уже имелась собственная публика, состоявшая из их личных поклонников, они дрались за кассовые пьесы; Бургундский отель и Пале-Рояль поставили «Сертория» еще до того, как пьеса вышла из печати.
Театр Марэ опять не сдался; он ангажировал Ахилла Варле по прозвищу Варней, брата Лагранжа, его жену Мари Валле и Розидора, а чуть позже — супругов Боваль, д’Эннебо и Шаммеле, а также Розимона — превосходных странствующих актеров. Залатав пробоину, корабль снова вышел в море. Очередная зрелищная постановка — «Любовь Юпитера и Семелы» аббата Буайе, музыку к которой написал Луи де Молье,{47} имела оглушительный успех, предваряя будущие оперы Люлли. Король почтил представление своим присутствием; Бюффекен превзошел самого себя. Как и «Золотое руно», «Любовь Юпитера и Семелы» ставили неоднократно. Летом труппа вновь отправилась на гастроли в Руан.
В последний раз Фортуна улыбнулась театру Марэ, ниспослав ему ловкого писателя, всегда бывшего в курсе последних новостей и веяний моды, — Донно де Визе, который через несколько лет создаст еженедельник «Меркюр галан». Он стал снабжать труппу пьесами на мифологические сюжеты, превращавшимися в масштабные постановки. Вслед за «Праздником Венеры» (1668) — пасторалью, написанной Буайе в ознаменование королевских побед и посвященной Генриетте Английской, Донно де Визе поставил «Любовь Венеры и Адониса» (1669), не сходившую со сцены три месяца кряду и шедшую с неизменным успехом. Правда, Венеру играла Шаммеле… В следующем сезоне тот же неистощимый автор на все руки сочинил «Любовь Солнца», 13 перемен декораций, 24 летательные машины. Там был представлен весь Олимп, оживляемый мастером машинерии — Бюффекеном. Донно де Визе продолжил разрабатывать ту же золотую жилу, написав «Свадьбу Вакха и Ариадны» (1671), которую играли три месяца подряд, а «Комеди Франсез» возобновила ее пятнадцать лет спустя.
В этом новом жанре, который придумал для себя театр Марэ, он имел неслыханный успех и, несмотря на бури и невзгоды, сумел удержаться на плаву. Труппа имела хорошие сборы. Вернулись золотые времена.
Но театр постиг последний удар, оказавшийся роковым. В отличие от предыдущих его нанес уже не вечный соперник — Бургундский отель, а флорентиец Джованни-Батиста, он же Люлли. Этот человек, написавший восхитительную музыку к «Мещанину во дворянстве», в буквальном смысле слова околдовал короля. Людовик XIV теперь смотрел на мир его глазами, ходил только в Оперу, бросил Мольера, которого так долго поддерживал всей своей властью. Люлли добился от государя не только исключительных прав на представление оперных спектаклей по всей Франции, но и жалованных грамот, запрещавших всем труппам, кроме оперной, использовать более шести певцов и двенадцати инструментов. Одним ударом король прикончил комедии-балеты Пале-Рояля и постановки в театре Марэ, но какое ему было до этого дело, раз у него оставался Люлли?
Напрасно Корнель примчался на помощь, передав в театр Марэ свою «Пульхерию», чтобы попытаться, как он сам выразился, «заселить пустыню… в том месте, где уже не хотят вспоминать о существовании театра». И «Германик» Бурсо,{48} его последняя постановка, уже не мог спасти умирающий театр.
3 февраля 1673 года Ла Рок снова предложил своей труппе заключить договор о создании товарищества, пополнившегося Гереном д’Эстише, будущим мужем Арманды Бежар, и мадемуазель Поийо, как будто все еще можно было спасти. Две недели спустя умер Мольер, директор театра Пале-Рояль, оставив свою труппу в полном смятении. Полная реорганизация парижских театров стала насущной необходимостью. Власти вмешались, и в июне театр Марэ и Пале-Рояль слились, создав новую труппу — королевскую труппу отеля Генего.
Сорок лет театр Марэ верой и правдой служил делу французского театра, ставя трагедии, комедии, пасторали и фантасмагории. Мы видели, какие трудности и проявления вражды ему пришлось преодолеть, терпя постоянные удары со стороны Бургундского отеля.
Свое упорство и стойкость он поставил на службу хорошим драматургам, прославившись, однако, тем, что, от «Мелиты» до «Пульхерии», был театром Пьера Корнеля.
Глава четвертая Королевская труппа Пале-Рояля (1658–1673)
В 1643 году один молодой человек по имени Жан-Батист покинул обойный магазин своего отца Жана Поклена, увлекшись театром. Его подтолкнуло к этому бесспорное призвание, а также увлечение одной актрисой, которая вскоре стала его любовницей, — Мадленой Бежар, рыжей красавицей четырьмя годами старше его. Таков был дебют Мольера.
Вместе с ней он набрал несколько «детей из хороших семей» и сколотил труппу, которую с восторженностью юности назвал «Блистательным театром». Там были секретарь прокурора, делопроизводитель, книготорговец, дочь столяра и брат и сестра Мадлены — всего десять человек, самому старшему из которых было двадцать семь лет, а самой младшей — шестнадцать, кроме Мадлены Бежар, никто из них еще никогда не выходил на сцену. Договор о создании товарищества подписали 30 июня 1643 года, и Мадлена Бежар, временно исполняющая обязанности директора, закрепила за собой право выбирать себе роли.
Труппа сняла зал для игры в мяч на улице Мазарин, арендную плату назначили в 1900 ливров в год, которую следовало вносить ежемесячно и вперед; осторожный владелец зала потребовал гарантий от Мари Эрве, матери Бежаров. Наняли танцовщика и четырех музыкантов — на три года, словно успех был гарантирован. Проведя необходимую переделку зала, новый театр открыли 1 января 1644 года, за две недели до пожара в театре Марэ, который оказался только на руку дебютантам. Гастон Орлеанский с подачи Тристана Лермита согласился покровительствовать этому предприятию, однако раскошеливаться не желал. «Блистательный театр», придерживаясь самых благородных устремлений, решил представлять главным образом трагедии, естественно, молодого Корнеля. Сыграли также «Артаксеркса» Маньона, «Сцеволу» дю Рие, «Смерть Криспа» и «Смерть Сенеки» Тристана, «Персиду» Никола Дефонтена. Но расходы были велики, а сборы слишком скудны, поскольку еще неопытной труппе было тяжело соперничать с Бургундским отелем и театром Марэ, тем более в приходе Сен-Сюльпис, где царил заклятый враг комедиантов господин Олье.
Надо было платить за аренду, за пьесы, за костюмы. Оставшись без средств, молодые актеры вступили на опасный путь заимствования. Королевский дворецкий Луи Бодо одолжил им 1100 ливров. Три месяца спустя они заняли две тысячи ливров у Франсуа Помье — кстати говоря, подставного лица Луи Бодо, — заложив свои будущие сборы, здание театра, декорации и свое личное имущество вообще. Госпожа Эрве поручилась за своих двух дочерей и за Мольера.
Но продержаться на улице Мазарин, где приходилось играть перед пустыми скамьями, было невозможно; может, публике было лень переправляться через Сену, чтобы посмотреть спектакль? Ну что ж! Попробуем еще раз на правом берегу. Арендный договор расторгли и сняли — на три года! и за безумную цену в 2400 ливров — зал для игры в мяч «Черный крест» на берегу Сены (ныне это дом 32 по набережной Селестен). Снова расходы на обустройство, на столяров и обойщиков. Все эти работы взял на себя Франсуа Помье. «Блистательный театр» попал под опеку и потерял всякую независимость. Кредиторы и поставщики начали тяжбы. Доведенный до крайности, Мольер занял еще 291 ливр у одной торговки, отдав ей в залог две ленты, расшитые золотом и серебром.
2 августа 1645 года свечной торговец Фоссе добился заключения Мольера в Шатле за долг в 142 ливра — кстати, небесспорный. Его разрешили освободить под залог; прежде чем освобождение состоялось, торговец полотном Дюбур вернул его обратно в тюрьму за долг в 155 ливров. Театр закрылся. Труппа распалась. Мольер и Мадлена Бежар заняли еще 522 ливра у одной торговки, Антуанетты Симони, заложив все, что у них осталось, то есть свои театральные костюмы — главное орудие труда. Эти жалкие обноски продадут с молотка. Вместе с остатками труппы они канули во мрак провинции.
Их подобрал Шарль Дюфрен, глава труппы герцога д’Эпернона, и они уехали на юго-запад через Нант и Бордо. Тринадцать лет, совершенно позабытые парижанами, они переживали красочные приключения «Комического романа». За время этих долгих гастролей Мольер обучится своему ремеслу.
Затем в один прекрасный день труппа, которую он не замедлил возглавить, пополнившись супругами Дюпарк и де Бри из Руана, вернулась в Париж. Но Мольер не вступил в столицу, не подготовив почву. Официальные посредники заручились для него покровительством брата Людовика XIV, Филиппа Орлеанского. Во второй раз он дебютировал на парижской сцене в Караульном зале Лувра, в присутствии короля, 24 октября 1658 года. Бургундский отель был там в полном составе, следя за тем, какой прием окажут новым соперникам, которыми уже заинтересовался король. Мольер сыграл «Никомеда», а потом в ловко составленной речи попросил у своего царственного зрителя позволения показать ему одну из небольших комедий, «которыми он услаждал провинцию». Это был «Влюбленный доктор». Фарс в Париже был тогда совершенно забыт. Король и придворные соизволили хохотать во все горло. Дело было сделано. Мольер останется в Париже, деля с итальянцами под руководством Скарамуша театр Малый Бурбон, находившийся примерно на месте современной колоннады Лувра. Это был очень красивый зал, который Соваль описывает так:
«Несомненно, это самый широкий, высокий и длинный зал во всем королевстве. Его ширина составляет восемнадцать шагов, а длина — тридцать пять саженей (70 метров), кровля же его столь высока, что конек кажется вровень с верхушками церквей Сен-Жермен и Сент-Эсташ».
Именно в этом зале давали придворные балеты. Мольер дебютировал там 2 ноября, сыграв «Сумасброда» и «Любовную размолвку» — две комедии, написанные в провинции. И незамедлительно принялся за работу. На Пасху 1659 года он ангажировал двух из лучших и очень популярных комиков театра Марэ, Жоделе и Лэспи, и стал подыскивать новый сюжет для фарса в парижской хронике. 18 ноября 1659 года, после «Цинны», он дал первое представление «Смешных жеманниц». Маркиза де Рамбуйе и ее друзья занимали передние ложи. Это был триумф. Мольер разом завоевал парижскую публику, вернув ей утраченную возможность посмеяться. С тех пор он прочно утвердился в столице, в которой теперь было уже не два, а три театра. Очень скоро успех «Мнимого рогоносца» подтвердил славу «Жеманниц».
Труппа Бургундского отеля начала тревожиться. Сомезу{49} заказали «Истинных жеманниц»; невежа-книготорговец Жан Рибу напечатал «Смешных жеманниц», не обладая на то правом; Мольера обвинили в плагиате итальянской комедии аббата де Пюра; некто подпольно издал «Мнимого рогоносца», Мольер добился изъятия и запрета этого издания; еще один написал подражание — «Мнимая рогоносица». Короче, Мольер с ходу оказался втянут в драку, которую, как мог, распалял Бургундский отель. Газеты, которые не могли не сказать о триумфе пьесы, замалчивали имя автора. Но король выразил ему свое удовольствие, пожаловав 500 ливров, пообещал «новенькому» поддержку и попросил сыграть в Венсенском замке.
Мольер выступал уже год, не зная неудач, и тут разразилась катастрофа. «Не предупредив труппу», сюринтендант королевских резиденций господин де Ратабон велел разрушить театр Малый Бурбон, чтобы расширить Лувр. «Господин де Ратабон явно действовал из недобрых побуждений», — уточняет верный Лагранж. Благодаря заступничеству своего брата король подарил труппе Мольера старый зал Пале-Рояля, выстроенный Ришелье и наполовину развалившийся. Господин де Ратабон восстановил его за счет короля. Таким образом, Мольер всю свою жизнь будет пользоваться большим преимуществом перед двумя остальными парижскими труппами: ему не надо будет платить за аренду. Работы подвигались быстро. Простой оказался недолгим: три месяца. За это время труппа дала несколько представлений в Лувре и в частных домах.
Однако Бургундский отель воспользовался этим великолепным случаем, чтобы попытаться дезорганизовать труппу Мольера, как часто поступал с театром Марэ. Прислушайтесь к этим благородным строкам Лагранжа:
«Труппа, идя наперекор всем этим бурям, была вынуждена еще и бороться с раздорами, которые пытались посеять актеры из Бургундского отеля и Марэ, делая ее членам различные предложения, чтобы переманить их к себе. Но вся труппа брата короля держалась вместе; все актеры любили господина де Мольера, своего главу, в котором необыкновенные достоинства и способности сочетались с порядочностью и приветливым обхождением, благодаря чему все пообещали разделить с ним его судьбу и никогда не покинуть его, какие бы им ни давали посулы и какие бы выгоды они ни нашли в другом месте. И вот по Парижу распространился слух о том, что труппа сохранилась, что она разместилась в Пале-Рояле под покровительством короля и Монсеньора».
Дружба между товарищами Мольера, не покинувшими друг друга и действовавшими заодно в минуту новой опасности, дружба, выкованная за пятнадцать лет и прошедшая через множество испытаний, была лучшей наградой их предводителю.
Театр Пале-Рояль открылся 20 января 1661 года. Мы не собираемся отслеживать год за годом, успех за успехом, двенадцатилетнюю историю борьбы, которую вел там Мольер, ставя «Школу жен», «Тартюфа» и «Дон Жуана», и его блестящую, неоднократно описанную карьеру.
Нам представляется более интересным проникнуть в самую жизнь труппы. Мольер был ее директором, оратором, постановщиком и актером, каким он показал себя сам в окружении своих товарищей в «Версальском экспромте». Но он также поставлял основной репертуар. Корнеля и Расина ставили в Бургундском отеле, Пале-Рояль мог только повторять эти постановки; в распоряжении Мольера находились несколько посредственных авторов трагедий типа Буайе или Ла Кальпренеда и комедиографов типа Жильбера, Донно де Визе и Шаппюзо. Если Пале-Рояль стал храмом комедии, то лишь потому, что труппа жила благодаря пьесам Мольера (он написал их тридцать три, десяток из которых можно с разных точек зрения считать шедеврами, а многие затрагивали актуальные проблемы). Если присовокупить к этому повторные постановки пьес, сыгранных в других театрах, то за пятнадцать лет своей карьеры в Париже Мольер поставил девяносто пять спектаклей, в том числе тридцать одну собственную пьесу, то есть в среднем по два спектакля в год. Какой директор театра сегодня смог бы обеспечить такой литературный фонд?
Мольер быстро получил в Париже популярность, потому что вернул на сцену фарс, уже двадцать лет как позабытый; он смешал его с комедией нравов, комедией-балетом, комедией вообще: это сцена с Оронтом в «Мизантропе», Оргон, прячущийся под столом в «Тартюфе», ссора Вадия и Триссотена в «Ученых женщинах», вся роль двойника в «Амфитрионе»; одна из его последних пьес, написанная после великих шедевров, — «Проделки Скапена» — тоже фарс. Мольер привлекал публику и тем, что его театр уходил корнями в современность: вместо романической комедии Скаррона, Буаробера и Тома Корнеля — вневременной, стереотипированной, подражающей итальянским или испанским оригиналам, — он явил новую комедию на злобу дня. Фарс «Смешные жеманницы» — настоящий газетный фельетон, «Несносные» — набор скетчей; «Школа жен» посвящена насущной проблеме женского образования (эта тема получит развитие в «Ученых женщинах»); «Критика „Школы жен“» и «Версальский экспромт» относятся к области литературной полемики, в которой он критикует своих соперников, актеров и драматургов; «Любовь-целительница» рисует карикатуру на придворных врачей; «Тартюф» и «Дон Жуан» затрагивают главнейшую проблему религии и вписываются в общий спор о театре, о котором мы уже говорили; «Господин де Пурсоньяк», «Графиня д’Эскарбаньяс» и «Жорж Данден» высмеивают провинциальное дворянство, над которым было принято смеяться при дворе, что подтверждают другие комедии того времени; «Мещанин во дворянстве» говорит о социальном взлете буржуазии, которую Людовик XIV привел на первые посты в государстве и которая превратила его эпоху, выражаясь словами Сен-Симона, в «долгое царствование подлого мещанства»; сама шутовская турецкая сцена порождена текущими событиями — визитом посольства Высокой Порты; «Мнимый больной» — последний выпад против шарлатанства врачей — поднимается до модернистских философских рассуждений в пользу «современных открытий», например кровообращения, отрицаемого официальной наукой.
Таким образом, на представлении каждой комедии Мольера зритель видел своих современников, обуревающие их мелкие распри или великие споры. И все это привлекало его гораздо больше, чем традиционные похищения или переодевания романической комедии. Поэтому он с удовольствием приходил к Мольеру в поисках того, чего не могли дать ему другие.
По воспоминаниям современников, он был крепкого сложения, однако изнурительный каждодневный труд, напряженная борьба с соперничающими актерами, объединившимися со святошами, директорские заботы («Странные существа эти актеры, попробуйте ими управлять!»), семейные неурядицы (он, ревнивец, заключил неудачный брак с легкомысленной кокеткой Армандой Бежар), постоянные требования короля, которыми ни за что нельзя было пренебречь, труд драматурга, козни Люлли — все это постоянное перенапряжение сил быстро подорвало его здоровье. Он умер в пятьдесят один год, через несколько часов после того, как ушел со сцены.
Важной частью его театральной деятельности было участие в придворных празднествах, для которых он создал новый жанр — комедию-балет, впервые представленную в Во-ле-Виконте перед министром финансов Никола Фуке («Несносные»). «Увеселения зачарованного острова», «Большой версальский дивертисмент», празднества в Сен-Жермене, Фонтенбло, Шамборе объединяли самые разные зрелища; Мольера приглашали принять в них участие в очередь, а порой и одновременно с Бургундским отелем. Для него это была огромная честь и замечательная реклама, и он извлекал из этого большую прибыль для своей труппы. С 1665 года Людовик XIV взял на содержание труппу Пале-Рояля, которая, как и театр Марэ, стала «королевской». Она получала пенсион в шесть тысяч ливров, который вскоре увеличили до семи тысяч, против 12 тысяч, выдаваемых «единственной Королевской труппе», сохранявшей, таким образом, номинальное преимущество. Но репертуар Мольера лучше подходил к празднествам, придворным развлечениям, чем репертуар Бургундского отеля, где главенствовала трагедия.
«Принцесса Элидская», «Любовь-целительница», «Сицилиец, или Любовь художника», «Великолепные любовники» или даже «Комическая пастораль», буффонада в сочетании с музыкальными номерами типа «Господина де Пурсоньяка» или «Мещанина во дворянстве» были больше по вкусу придворным, чем суровые трагедии, и лучше гармонировали с галантными празднествами. Невероятно не только то, что автор «Мизантропа» написал «Мелисерту», а в основном то, что автор «Мелисерты» нашел время написать «Мизантропа».
Благодаря своим выступлениям при дворе труппа получала весьма неплохой дополнительный доход. Король проявлял щедрость и, помимо существенного вознаграждения, содержал актеров во время их пребывания в королевских резиденциях. Они были избавлены от всех расходов. Как мы увидим, труппа Пале-Рояля зарабатывала много денег. «Увеселения зачарованного острова» принесли ей четыре тысячи ливров, а «Принцесса Элидская» дала своему автору две тысячи.
Материальное благополучие, несомненно, способствовало сплоченности труппы; за пятнадцать лет она лишилась лишь одного своего члена — мадемуазель Дюпарк, и то еще ее уход можно извинить ее любовью к Расину, переманившему ее в Бургундский отель. Дружба между членами труппы закалилась за годы, проведенные в провинции, под руководством Мадлены Бежар — рассудительной женщины, умелого администратора. После свадьбы Мольера с Армандой Бежар, о которой до сих пор доподлинно неизвестно, была ли она, как утверждают все современники, дочерью Мадлены или ее сестрой, в труппу вошли пять членов семейства Бежар, и она превратилась в своего рода семейное предприятие.
В результате Мольер, комический актер, писал пьесы для своих товарищей и самого себя. Адвокат Гере смотрел в корень: «Вероятно, он представляет их всех в уме, когда сочиняет». А Шарль Перро добавил: «Он обладает даром так хорошо распределять роли и затем так превосходно их выстраивать, что они кажутся не столько комедийными актерами, сколько живыми людьми, которых они представляют». Донно де Визе сказал по поводу «Школы жен»: «Никогда еще комедию не представляли столь хорошо и так искусно; каждый актер знает, сколько ему надо сделать шагов, все его подмигивания сочтены». Превосходный комик, научившийся у итальянцев играть лицом и всем телом, Мольер был еще и замечательным режиссером.
Именно он своими гримасами вызывал взрывы смеха в роли Сганареля; в «Смешных жеманницах» он выписал роль по мерке Жоделе, первого шута Франции, и сочинил роль Като для Катрин де Бри и Мадлон для Мадлены Бежар; Лафлеш хром, потому что хромал Луи Бежар, Гро-Рене толст, потому что таков был Дюпарк, нотариус из «Школы жен» обладает «собачьей мордой» де Бри, а смех Зербинетты и Николь — от мадемуазель Боваль, веселый нрав Маринетты или Дорины — от Мадлены Бежар, жестокое кокетство Селимены — от жены Мольера, кашель Гарпагона — от него самого. Он написал для себя роли Оргона, Альцеста и Аргана. Лагранж свидетельствует, что он порой выносил на сцену «свои семейные дела» и «то, что происходило у него в дому»…
Таким образом, товарищи Мольера получали роли, написанные для них и полностью соответствовавшие их физическому облику и прочим качествам. Это был элемент успеха, которого недоставало остальным труппам.
Верность публики, деятельная поддержка короля, в частности, в непростое время после «Тартюфа», помогали Пале-Роялю оставаться на первых ролях среди парижских театров.
Но в 1672 году на Мольера, и так уже серьезно больного, обрушилось несчастье. Он потерял Мадлену Бежар, свою извечную подругу, свою первую музу; с другой стороны, король покинул его, осыпая своими милостями Люлли, о чем мы уже говорили. Его последнюю пьесу «Мнимый больной», написанную, чтобы быть сыгранной при дворе, о чем свидетельствует пролог, поставили в городе. Мольер умер 17 февраля 1673 года, находясь в полуопале. Вместе с ним закончилась и история Пале-Рояля. Его труппу ожидали новые превратности судьбы.
Глава пятая Королевская труппа отеля Генего (1673–1680)
После кончины Мольера его вдова и его товарищи тотчас заявили о своем намерении продолжить свою деятельность. Через три дня после полутайных похорон Пале-Рояль снова открылся. 24 февраля сыграли «Мизантропа», 3 марта — «Мнимого больного», где роль Мольера исполнил Ла Торильер. 5 марта на представлении присутствовал брат короля с супругой и своей свитой, словно желая публично заявить о своей поддержке. С помощью Арманды Бежар, которая еще двадцать лет будет преданно защищать память своего мужа и его репертуар, Лагранж взял на себя руководство театром, представителем которого являлся уже несколько лет. Но отсутствие Мольера, в самом деле бывшего душой своей труппы, давало о себе знать; не было вождя, насаждающего свою волю. Со своей стороны, Бургундский отель по своему обыкновению воспользовался благоприятным случаем, чтобы развалить труппу, составлявшую ему столь жесткую конкуренцию; «великие актеры» переманили к себе Барона, Ла Торильера и чету Боваль. После пасхального перерыва театр уже не мог давать представлений. С 28 апреля король передал зал Пале-Рояля своему дорогому Люлли, привилегии которого, кстати, не позволяли возобновить мольеровские комедии-балеты с музыкой. Арманда Бежар потребовала у него вернуть долг трехлетней давности в 11 тысяч ливров и добилась своего.
Лагранж делал все возможное, чтобы пополнить труппу: призвал дочь дю Круази, которой было пятнадцать лет, и умудрился вырвать у Марэ одного из лучших актеров — Розимона, с которым он 3 мая подписал ангажемент на шесть лет. Театр Марэ, находившийся тогда в бедственном положении, пытался поправить свои дела; он воссоздал театральное товарищество еще на четыре года. В поисках зала для выступлений труппа Мольера связалась с маркизом де Сурдеаком (в его поместье в Небуре играли «Золотое руно») и его компаньоном Шампероном. Оба являлись владельцами зала, построенного в 1670 году, в помещении для игры в мяч под вывеской «Бутылка», принадлежащем семейству Лаффема, — на улице Генего, где они некогда ставили оперу, а недавно приобретенная привилегия Люлли обрекла их на бездействие.
Сурдеак и Шамперон уступили за 30 тысяч ливров, в том числе 14 тысяч наличными, которые труппа, кстати, займет у шурина Мольера Андре Буде, свое право нанимателя, «театр, оркестр, машины, механизмы, снасти, противовесы, задники и вообще все вещи, служащие для использования в театре и для представлений», которые пополнили собой реквизит труппы Лагранжа, оставшийся от Пале-Рояля; каждому из них выделили долю в счет уплаты оставшихся 16 тысяч ливров. Как мы увидим, это станет источником нескончаемых проблем. Годовая арендная плата составляла 2400 ливров. Месяц спустя вышел королевский ордонанс, подписанный также шефом полиции Ла Рейни, о закрытии театра Марэ. Этот документ позволил труппе Пале-Рояля переехать со всем имуществом в помещение на улице Генего.
С этого дня в Париже осталось только два театра — труппа Бургундского отеля и отеля Генего. Но две актрисы из театра Марэ, Катрин дез Юрлис и Мари Валле, требовали выполнения условий по последнему договору о товариществе, чтобы их компаньонов приговорили за разрыв договора к двум тысячам ливров штрафа каждого. В самом деле, девять из них (кстати, Людовик XIV поручил Кольберу соблюсти их интересы) — Ла Рок, Верней, Довилье, Герен д’Этрише, Дюпен, мадемуазель Дюпен, Пойо, Довилье и Озиллон — поспешили примкнуть к Лагранжу в отеле Генего. Две труппы окончательно слились в одну, в которую входили девять актеров из Марэ и десять из Пале-Рояля. Они поделили между собой пятнадцать с половиной паев по схеме, установленной самим Кольбером: каждой из бывших трупп полагалось по семь паев и три четверти, не считая долей Сурдеака и Шамперона. Слившиеся труппы объединили и свои декорации.
9 июля 1673 года новая «королевская труппа отеля Генего» (которой король, впрочем, уже не назначит содержания) открыла сезон «Тартюфом» — явный поклон Мольеру. Весь первый месяц играли только комедии Мольера. Это означало публично заявить о главенстве в новом театре бывшей труппы Пале-Рояля.
Однако «Меркюр галан» возвещал грядущие и заманчивые программы:
«Труппа покойного господина Мольера, выбрав самых хороших актеров из труппы Марэ, составила из них новую, обширную и прекрасную. Поскольку она способна развлекать Его Величество, король оказал ей честь, назвав своей труппой. Многочисленные зрители, почтившие ее своим присутствием с тех пор, как она снова появилась на театре, во всеуслышание признали, что нельзя играть комедию лучшим образом; это привлекло к ней самых лучших авторов, и нынешней зимой их пьесы будут блистать в этом театре».
Превосходная газетная реклама! Не стоит забывать, что для «Меркюр галан» писали Донно де Визе и Тома Корнель — драматурги, чьи пьесы ставили в Пале-Рояле и в театре Марэ и которые намеревались продолжить сотрудничество с театром на улице Генего. Так и произошло. Два ловких журналиста умело подготовили почву. В том, что касается похвал, лучше брать дело в свои руки…
Несмотря на благосклонность публики и гарантированное сотрудничество «самых лучших авторов», в материальном плане театр существовал в основном за счет мольеровского репертуара. Но у короля он в любимчиках не был; его редко приглашали играть при дворе; Бургундский отель вернул себе господствующее положение «единственной Королевской труппы». Тем более что теперь он тоже мог ставить комедии Мольера, за исключением «Мнимого больного», еще не вышедшего из печати.
Заполучив театральные машины Марэ, отель Генего возобновил постановку феерий. «Цирцея» Донно де Визе и Тома Корнеля имела большой успех и в виде исключения принесла своим авторам два пая вместо одного. Новая труппа продолжила и еще одну традицию, унаследованную от своей предшественницы: соперничество со всемогущим Бургундским отелем. «Ифигении» Расина она противопоставит «Ифигению» Леклера и Кора, а его «Федре» — «Федру» Прадона, что вызвало памятный спор, о котором мы еще расскажем. Тома Корнель, не довольствуясь сочинением комедий, взялся с согласия Арманды Бежар написать стихотворную и изрядно подслащенную версию мольеровского «Дон Жуана», который еще не был издан и вышел из репертуара двенадцать лет тому назад. Новый «Дон Жуан» зажил собственной жизнью, продлившейся до середины XIX века. Наконец, как хорошие журналисты, держащие руку на пульсе событий, Донно де Визе и Тома Корнель стали разрабатывать «дело о ядах» и казнь мрачной вещуньи Ла Вуазен в комедии «Гадалка» (1680), которая прославилась на весь Париж, увлеченно следивший за этим невероятным уголовным делом. Пьесу сыграли сорок семь раз подряд, она принесла своим авторам 6 тысяч ливров; благодаря ловко состряпанным рекламным статьям в «Меркюр галан», ее постановку затем неоднократно возобновляли.
В 1679 году театру отеля Генего широко улыбнулась удача: лучшая трагедийная актриса своего времени Шаммеле оставила труппу Бургундского отеля и принесла труппе с улицы Генего, вместе со своим огромным талантом и славой, все пьесы Расина. Шаммеле и ее муж не должны были платить свою долю долгов товарищества, им назначили пенсию в тысячу ливров в год каждому, и это сверх пая. Видно, насколько актеры ценили свое пополнение.
За семь лет своего существования новый парижский театр процветал и познал много успехов в самых разных областях.
К несчастью, актерам долгие годы пришлось биться над решением вопроса о процентах маркизу де Сурдеаку и его компаньону Шамперону. Мы помним, что во время предыдущей сделки актеры предоставили каждому из них долю сборов. Объединение неактеров с театральной труппой было неосторожным поступком, а нечистоплотность Сурдеака и Шамперона лишь усугубила ситуацию. Последний попытался сделать своего брата контролером сборов. Труппа отказалась. Чтобы отомстить своим компаньонам, два приятеля объединились с четырьмя из них — Довилье, Дюпеном и их женами, которые воспротивились постановке «Цирцеи» под тем предлогом, что она повлечет чрезмерные расходы. Представления приостановили. Труппа изгнала четырех смутьянов за нарушение договора — эту меру подтвердил своим приговором суд Шатле. Мадемуазель де Бри приняла их сторону и отказалась играть. Вместе с мужем она присоединилась к четырем строптивцам.
Тогда труппа набросилась на истинных подстрекателей этого небольшого заговора — Сурдеака и Шамперона — и выступила с ходатайством о их исключении из товарищества взамен уплаты полагающихся им 16 тысяч ливров. Правосудие ходатайство удовлетворило, но Сурдеак и Шамперон велели демонтировать театральные машины. Была заключена новая сделка. Исключенных вернули обратно. «Цирцею» наконец-то смогли сыграть.
Но два года спустя два неисправимых «машиниста», как называл их Лагранж, снова начали плести интриги, оспаривая счета товарищества. Начался новый судебный процесс, который продлится пять лет — дольше, чем просуществует сам театр Генего. Труппа исключила их из своего числа, преобразовав их паи в пожизненную ренту размером 500 ливров. После долгой тяжбы парламент в очередной раз признал правоту актеров, указав на непорядочность их противников, которым отказали в иске, приговорив к уплате судебных издержек.
Видно, что внутренняя жизнь театра Генего протекала отнюдь не в мирной атмосфере, и комедианты, опираясь на свои права, отстаивали свои интересы.
В знаменитом «Журнале» Лагранжа, в котором рассказывается обо всех этих перипетиях, подтверждается, что театр Генего делал весьма приличные сборы. Находясь на гребне успеха, он прекратил свое существование во время «объединения» 1680 года, о котором мы поведем теперь речь.
Глава шестая «Комеди Франсез» (1680–1700)
Слияние Пале-Рояля и театра Марэ в 1673 году отметило собой новый этап вмешательства власти в дела театра. Централизаторская политика Кольбера касалась не только административной и экономической деятельности в королевстве; вместе с основанием различных академий она распространилась и на интеллектуальную сферу. Театр уже ощутил на себе ее последствия. Монополия на оперу, предоставленная Люлли, была предвестником подобных же мер и в области драмы. И действительно, в 1680 году король решил объединить труппы Бургундского отеля и театр Генего в одну труппу, которой королевской администрации было бы легче диктовать свои условия. Родилась «Комеди Франсез», которой еще долго предстояло оставаться единственным парижским драматическим театром.
18 августа 1680 года обер-камергер герцог де Креки прислал королевский приказ о слиянии двух театров. В единую труппу тогда вошло двадцать семь актеров — пятнадцать мужчин и двенадцать женщин, деливших между собой двадцать один пай с четвертью: дополнительная половина пая отошла к королю, который мог располагать ею по своему усмотрению. Некоторых комедиантов исключили или урезали их права: например, дю Круази по его требованию вернули в труппу, но лишь с половиной пая, мадемуазель Лагранж выделили только четверть пая с гарантией в две тысячи ливров в год, а Герену, мужу мадемуазель Мольер, вернули его пай, но с условием выплачивать тысячу ливров пенсии.
С другой стороны, социетариев «Комеди Франсез» принудили выплачивать, помимо пенсий их коллегам, ушедшим на покой, ежегодную компенсацию в 800 ливров итальянцам, которые должны были теперь занять освободившийся Бургундский отель, а арендная плата за него была выше, чем за отель Генего.
Таким образом, королевская власть утверждала себя даже в руководстве товариществом актеров.
Король сохранил ему содержание в 12 тысяч ливров, которое некогда получал театр Бургундского отеля.
Ни одна из прежних трупп еще не была столь велика. Поэтому столь значительное увеличение штата произвело небольшую революцию в театральной жизни. Прежние театры давали представления лишь трижды в неделю. Начиная с 1680 года, парижане могли ходить в театр каждый день, что существенно повысило ежегодные доходы комедиантов с пая; с другой стороны, многочисленность новой труппы позволяла ей в один день давать одно представление в городе и одно при дворе.
Приказ об объединении был оглашен 22 августа. Уже 26-го «Комеди Франсез» дала первое представление в отеле Генего: «Федру» с Шаммеле в главной роли и комедию. Объединение двух трупп породило большие сложности с исполнителями главных ролей. Было решено, что Корнель, Расин и Кино сами станут распределять роли в своих трагедиях. Что же до комедий покойного Мольера, герцог д’Омон разделил первые роли между Розимоном, Брекуром и Резеном. В пьесах остальных авторов роли распределяли обер-камергеры. Актеры «Комеди Франсез» превращались в настоящих чиновников, повинующихся королевской власти. Новая система монополии взамен привилегии, избавившая их от конкуренции, значительно урезала их свободу. Тайный королевский приказ от 21 октября утвердил эту реформу. Со своей стороны, актеры заключили 5 января 1681 года новый договор о товариществе «с доброго согласия Его Величества», чтобы урегулировать вопрос о пожизненных и неотъемлемых пенсиях отставных комедиантов.
«Комеди Франсез», само собой, продолжала жить за счет классического репертуара, но нельзя забывать, что к моменту ее создания трагедия клонилась к упадку: ни Буайе, ни Прадон, ни Кампистрон, ни Лагранж-Шансель{50} не выдерживали сравнения с Корнелем и Расином; с комедией же дело обстояло несколько иначе: конечно же у Мольера не нашлось равного ему последователя, однако новое поколение драматургов — Барон, Дюфрени, Реньяр, Лесаж и кое-кто поплоше — имело большой успех и заставляло публику смеяться на более легковесных комедиях с порой сомнительной моралью, в которых, тем не менее, не было недостатка ни в забавных ситуациях, ни в фантазии, ни в остроумии.
Однако нас интересует не драматургия, а сама жизнь комедиантов и их злоключения, о которых мы и поговорим.
Как мы видели, обер-камергеры короля вмешивались в дела «Комеди Франсез». Но эти высокопоставленные и могущественные особы действовали не по своей воле: они сами подчинялись высшей власти — дофине Анне-Христине-Виктории Баварской, супруге брата короля, которую Людовик XIV назначил главным инспектором «Комеди Франсез» и «Комеди Итальенн». Она исполняла свои властные полномочия от имени короля и дофина.
С 1684 года она ввела новое распределение паев между социетариями и официально давала разрешение на выход в отставку. Количество паев было установлено неизменным — двадцать три, и оно сохранялось вплоть до революции 1789 года. Дофина распределяла роли, будучи подвержена разного рода влияниям, уволила прославленных актеров, например Барона и Резена, взъелась на Довилье, чья некрасивость была ей неприятна, и до того довела его своими преследованиями, что он лишился рассудка и угодил в сумасшедший дом, навязывала свой выбор авторов, заставляла непокорных актеров играть «Арминия» Кампистрона, властно распоряжалась представлениями при дворе. Все решения, принятые на общем собрании комедиантов, должны были быть утверждены дофиной, в частности, «регламент посещений», установленный в 1688 году и пересмотренный в 1697 году: он включал в себя поименный список избранных, допускавшихся в театр бесплатно. Это был щекотливый вопрос, в свое время вызвавший многочисленные споры и даже драки. На сей раз все должны были подчиниться распоряжениям дофины: актеры теперь смогут располагать только одним бесплатным билетом на двоих, каждые два дня; этот билет состоял из двух частей: одну отдавали контролершам, а другую зритель вручал капельдинеру; драматурги получали в день представления их пьес четыре билета на пятиактные пьесы и два на все прочие; бесплатно в театр отныне допускались только полицейский и судебный исправники, королевский прокурор, квартальные комиссары, авторы, бывшие члены труппы, находящиеся на пенсии, лица, оказывавшие услуги товариществу, например, нотариусы, распорядители королевских развлечений, ресторатор Прокоп — «по-соседски», директор итальянской труппы Бьянколелли, родственники, мужья, жены и дети актеров (в рамках наличия свободных мест) и некоторые привилегированные лица, размещение которых в ложах, амфитеатре или партере было тщательно регламентировано. Билетершам вручали письменные, чрезвычайно подробные распоряжения на этот счет, причем те должны были раздавать ножные грелки без всякого вознаграждения. Регламент устанавливал время начала представлений: четверть шестого и штрафы за опоздание для комедиантов.
Видно, в какие жесткие рамки загонял актеров регламент. Но они на это не жаловались, ибо в конечном счете все эти меры защищали их от злоупотреблений, от которых они так долго страдали. Кстати, с тех пор как у них не осталось конкурентов, а представления сделались ежедневными, сумма, причитающаяся ежегодно по актерскому паю, почти удвоилась. Управляющим «Комеди Франсез» остался Лагранж, который вел дела труппы Мольера и добился успеха на этом поприще. Итак, в материальном плане товарищество процветало, и все были довольны.
К несчастью, труппе долгое время придется страдать из-за вынужденного переезда. «Комеди Франсез» продолжала давать представления в отеле Генего, но в 1687 году в нынешнем Дворце института Франции, построенном Ле Во и д’Орбэ, открылась Коллегия четырех наций, созданная по завещанию Мазарини; в этот период, как мы видели, борьба духовенства с театром и комедиантами возобновилась с возросшим ожесточением. Разве можно было оставить театр в двух шагах от богословской коллегии, где преподавали ученые мужи из Сорбонны?
Король, который теперь уже не интересовался театром, приказал в июне 1687 года актерам из «Комеди Франсез» срочно убраться в другое место до наступления октября. Для труппы это было как гром среди ясного неба: королевский приказ было легко отдать, но трудно исполнить.
В одном из своих журналов Лагранж записал:
«20 июня 1687 года господин де Ла Рейни, начальник полиции, велел собрать труппу и объявил нам приказ короля, который он получил от господина маркиза де Лувуа: Его Величество изъявлял желание, чтобы мы в три месяца освободили театр отеля Генего и перебрались в другое место. На сем мы решили пойти к королю и к монсеньору де Лувуа, чтобы заявить о наших интересах и больших убытках, которые принесет нам переезд. Монсеньор сказал нам, что приказ изменить нельзя и чтобы мы беспрестанно искали другое место, а он предоставит нам необходимое покровительство».
Мы еще увидим, каким странным образом это «покровительство» было оказано несчастным комедиантам.
Итак, труппа собралась и рассмотрела свое положение. Не могло быть и речи о том, чтобы единственная французская труппа в Париже разместилась в каком-нибудь перестроенном зале для игры в мяч, как это делалось в начале века. Нужно было построить настоящий театр, что, разумеется, повлечет значительные расходы и затянется на долгое время. Пока, с общего согласия, были приняты первые меры финансового порядка: каждый день из сборов будут вычитать 66 ливров, то есть 24 тысячи ливров в год, перед раздачей паев; королевское содержание останется неприкосновенным запасом, к нему добавят 4 тысячи ливров, что составит резервный фонд в 40 тысяч ливров. Затем начали подыскивать помещение; особняк Сурди на месте нынешнего дома 21 по улице Арбр-Сек продавался за 60 тысяч ливров.
Король дал согласие; архитектор д’Орбэ вычертил планы особняка; ударили по рукам. Но кюре церкви Сен-Жермен-л’Осеруа, которому не улыбалось иметь в двух шагах от себя прибежище актеров «Комеди Франсез», обратился ко двору. Король отозвал свое разрешение «по особым причинам».
Расин, враждебный театру с тех пор, как его оставил, писал 8 августа Буало:
«Куда бы они (актеры) ни пошли, попы сразу начинают вопить — просто поразительно. Кюре Сен-Жермен-л’Осеруа уже добился того, чтобы их не было в отеле Сурди, поскольку в их театре было бы ясно слышно орган, а в церкви отчетливо раздавались бы звуки скрипок».
Нужно было найти что-то другое; актеры остановили свой выбор на особняке Немуров на улице Савуа (дом 6 на нынешней улице Сегье). Сделали чертежи, отнесли их Лувуа, который представил их королю. Людовик XIV дал согласие. На сей раз расходы должны были составить 84 тысячи ливров. Но особняк Немуров находился в двух шагах от монастыря Больших августинцев, размещавшегося на набережной с XIII века. Кюре церкви Сент-Андре-дез-Ар, предупрежденный «несколькими прихожанами», воспротивился такому соседству. Очередная делегация актеров в Версаль, встреча с кюре у господина де Лувуа. Король дал согласие. Неужто на сей раз проблема будет решена? Нет: несколько дней спустя актеры узнали, что «королю высказали новые предостережения, которые были выслушаны». Они представили новую просьбу Лувуа и Ла Рейни, с длинными объяснениями по поводу того, что на берегу Сены, на самом краю прихода, они никому не помешают. Кстати, они так и так окажутся в каком-нибудь приходе, ведь Его Величеству угодно, чтобы они оставались в Париже, не правда ли?
Расин, пристально следивший за развитием событий, радовался новым препятствиям, каждый день выраставшим перед актерами. Автор «Федры», все еще бывшей в почете, отпускал по этому поводу шутки, которые нам сегодня кажутся неостроумными.
«Наконец они очутились на улице Савуа в приходе Сент-Андре, — писал он Буало. — Кюре тоже отправился к королю, чтобы доложить ему, что в его приходе и так уже остались почитай одни харчевни да торговые лавки; если сюда явятся комедианты, его церковь будет пустовать. Большие августинцы тоже побывали у короля, от их лица выступал отец Ламброшон, провинциал. Но говорят, что комедианты сказали Е. В., что эти же самые августинцы, не желающие с ними соседствовать, заядлые театралы, и что они даже хотели продать труппе принадлежащие им дома на улице Анжу, чтобы выстроить там театр, и сделка была бы уже заключена, если бы место не было таким неудобным. Господин де Лувуа приказал господину де ла Шапелю прислать ему план места, где они хотят строиться, на улице Савуа: так что все ждут решения господина де Лувуа. Тем временем в квартале поднялась суматоха, все мещане, а это сплошь судейские, находят весьма странным, что их улицы собираются перегородить. Особенно господин Бильяр, который окажется прямо напротив партера, вопит громче всех; а когда ему сказали, что это доставит ему удобство, чтобы порой пойти развлечься, он ответил в трагическом тоне: „Я вовсе не желаю развлекаться!“»
Лувуа, занятый подготовкой к войне, был только рад свалить это неразрешимое дело на сына Кольбера Сеньелэ. Людовик XIV в очередной раз принес в жертву своих актеров, несмотря на заступничество своего брата и дофины, которые не смогло перевесить слова госпожи де Ментенон. На улице Савуа разместиться нельзя.
Актеры были в отчаянии. Буало писал в ответе Расину:
«Если и можно радоваться чьему-то несчастью, то это, я думаю, несчастье комедиантов. Если с ними и дальше будут так же обращаться, им придется устраиваться между Вилетт и воротами Сен-Мартен (то есть на Монфоконе, свалке за пределами Парижа); да и то им, возможно, придется иметь дело с кюре церкви Сен-Лоран». Несколько дней спустя он присовокупил к этому еще одно особенно некрасивое замечание: «Хотя вы очень жалостливо рассказывали мне о немилости, в которую впали комедианты, я не мог удержаться от смеха. Но скажите мне, сударь, если они отправятся жить туда, куда я вам сказал, как вы думаете, станут ли они пить местное вино? Это было бы неплохим покаянием для господина де Шаммеле после стольких бутылок шампанского, которые он выпил — вы знаете, за чей счет…»
Но актеры не теряли присутствия духа и упорно искали подходящее место, где им позволили бы спокойно обосноваться. Им приглянулся дом поблизости от распятия Круа дю Трауар, принадлежавший Бленвилю — еще одному сыну Кольбера. В очередной раз д’Орбэ вычертил планы. Король, похоже, отнесся к этому новому проекту благосклонно и запросил мнения Ла Рейни. Снова отказ.
А особняк Санс или Лион на улице Сент-Андре-дез-Ар подойдет? Нет, король предпочитает особняк Люссан на улице Пти-Шан (ныне улица Круа-де-Пти-Шан), неподалеку от площади Побед. 15 ноября его выставили на торги и отдали комедиантам за 100 тысяч ливров — внушительная сумма. Наконец-то дело сделано! Д’Орбэ может приступать к созданию чертежей театра.
Увы, кюре церкви Сент-Эсташ, как и его собратья, не желал терпеть комедиантов в своем приходе. Он нажаловался королю, который в очередной раз отказался от своих слов, отменил свое разрешение разместиться в особняке Люссан и отправил злосчастных актеров в особняк Ош на улице Монторгей. Это был бедный квартал с узкими улочками, множеством тупиков, страшно тесный, да еще и, в довершение несчастья, находившийся на пересечении нескольких приходов! Впрочем, архитекторы заявили, что здесь невозможно выстроить подходящий зал, который к тому же оказался бы в двух шагах от Бургундского отеля.
«Для нас было бы гибелью поселиться в этом квартале», — писал Лагранж. На сей раз уже комедианты отклонили предложение. Они, в свою очередь, выдвинули два новых проекта: особняк Кольбера де Молеврие, родственника министра, рядом с особняком Люссана (дом 21 на улице Пти-Шан) или зал для игры в мяч «Звезда» на улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре, рядом с воротами Бюсси. Последний, кстати, находился совсем рядом с отелем Генего, «удаленным ото всех церквей, и господин кюре церкви Сен-Сюльпис не имел никаких причин противиться размещению там комедиантов, поскольку они в настоящее время находятся в его приходе». Последний аргумент, верно, оказался решающим, и, «после многих сложностей со стороны монсеньора де Сеньелэ», король окончательно дал свое согласие, выведенный из себя этой нескончаемой историей. Постановление Государственного совета от 1 марта 1688 года утвердило это решение.
После восьми месяцев злоключений, вечно обманутых надежд и постоянно нарушаемых королевских обещаний актеры «Комеди Франсез» наконец-то нашли тихую гавань после бури. Зал для игры в мяч «Звезда» на улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре (ныне улица Ансьен-Комеди, дом 14) обошелся им в 62 614 ливров. Его немедленно разрушили и поручили начертить планы нового театра Франсуа д’Орбэ, работавшему с Ле Во, которому помогал знаменитый Вигарини — «надзиратель за машинами, театрами, королевскими балетами и празднествами», опытный технический директор больших праздников в Версале.
Все это время парижские кюре предпринимали последние демарши против комедиантов. Кюре из Сен-Сюльпис пожаловался на то, что временный алтарь праздника Тела Господня находится напротив зала для игры в мяч. Труппа его успокоила, пожертвовав на алтарь. Кюре Сен-Поля попытался втихаря купить земельный участок под залом; кюре из Сен-Жермен попробовал надавить на зятя владельца. Напрасный труд! На сей раз решение было принято окончательно и бесповоротно.
Д’Орбэ работал невероятно быстро: 16 мая 1688 года чертежи были закончены и подписаны актерами. Скульптор Ле Онгр украсил фасад изображением Минервы в шлеме и с оружием, которую можно видеть и сегодня над королевским гербом. Художник Болонь взялся расписать потолок аллегорией Истины в окружении Трагедии, Комедии, Поэзии и Красноречия. Вторая композиция состояла из изображений пороков — Тщеславия, Скупости и Сладострастия.
Меньше чем через год все было закончено: актеры получили красивый зал в форме эллипса, на итальянский манер, — первый в таком роде, выстроенный во Франции, и с замечательной акустикой. Он был богато украшен росписями и скульптурами и освещен двадцатью четырьмя люстрами. Ложи были удобными, партер — очень просторным. Бесспорно, в то время это был лучший театральный зал Европы. Он встал в 200 тысяч ливров (примерно 150 тысяч евро) и надолго вогнал актеров в долги. Но «Комеди Франсез» играла в нем почти целый век. Заметим к чести Франсуа д’Орбэ, что он отказался от всякого вознаграждения и вернул мадемуазель Мольер кошелек с 80 луидорами, присланный ему от лица труппы. Он заявил, что хотел «сделать одолжение» своим друзьям-актерам и что «даже подумать о том, чтобы сделать ему презент, значило нанести ему оскорбление».
Открытие нового зала состоялось 18 апреля 1689 года; сыграли «Федру» с Шаммеле и «Врача поневоле», в подтверждение того, что Мольер все еще жив в сердцах его товарищей. Труппа, не прекращавшая представлений во все два года своих памятных злоключений, продолжала восхождение к вершинам успеха: новый театр, находящийся прямо напротив знаменитого кафе Прокопа,{51} привлекал многочисленную публику. Актеры здорово переволновались и потратились, однако сборы неуклонно росли. Их слава в Париже росла, ее отголоски были слышны в провинции и даже за границей. Отметим лишь одно малоизвестное тому доказательство: в договоре о товариществе одной бродячей труппы под руководством Вильдье, подписанном в Монсе в 1696 году, есть такой пункт:
«Кроме того, настоящим устанавливается, что если между оными компаньонами случится некий спор, то им следует не обращаться к городскому судье, а передать его, с общего согласия, на рассмотрение господ парижских комедиантов».
Неоспоримый авторитет «Комеди Франсез», которой еще придется пройти через множество испытаний, в частности, во время революции, признается и в наши дни, когда слава театра стала мировой.
Глава седьмая «Комеди Итальенн» (1600–1696)
Задолго до появления постоянных французских театров, о которых мы до сих пор вели речь, Париж рукоплескал итальянским труппам. Они появились во Франции с легкой руки двух королев-флорентиек — Екатерины и Марии Медичи. Историк Брантом уточняет, что Екатерина Медичи получала большое удовольствие от фарсов «Дзанни и Панталоне и смеялась на них от души, ибо по природе своей была веселой и любила вставить острое словцо». На протяжении всего XVII века итальянский театр занимал большое место в театральной жизни Парижа.
Он привнес оригинальный жанр, сильно отличавшийся от французской традиции. Труппы состояли из персонажей-типов, условных и неизменных: Леандра, Изабеллы, Меццетино, Матамора, Доктора, Панталоне, Скаппино, Арлекина и т. д., которые разыгрывали в основном комедия дель арте, то есть неписаные пьесы, сведенные к сюжетной канве, заставлявшие актеров импровизировать в силу своего воображения и остроумия. В их выступлениях было полно непристойностей, политической сатиры и пародий, выпадов против полиции, правосудия, академии, вызывавших веселье в партере и тревогу у властей. Это были чудесные актеры, одновременно музыканты, мимы, гимнасты, шуты, акробаты, танцоры, певцы, непревзойденные мастера комической игры. Они сыпали шутками, лацци, гэгами, как мы сказали бы сегодня. Они изъяснялись не только словами, но и жестами, участвуя всем телом, от гримас до гротесковых поз, в сценическом действе, которое разворачивалось в очень быстром темпе. Кстати, это было необходимо, ибо в Париже они чаще всего выступали перед публикой, состоявшей из простонародья и по большей части не понимавшей их языка. Так что только мимикой, позами, жестами, движениями они могли донести до зрителей суть текста, впрочем, всегда простого и незамысловатого.
Первый историк итальянского театра Герарди писал в 1695 году:
«Говоря о хорошем итальянском актере, подразумевают выносливого человека, который играет больше по наитию, чем по памяти и сочиняет на ходу то, что говорит, умеет помочь тому, с кем находится на сцене, то есть так хорошо сочетает свои слова и действия со словами и действиями своего товарища, что может с ходу войти в игру и во все мизансцены своего партнера».
На протяжении всей своей парижской деятельности, сначала в Малом Бурбоне, а потом в Пале-Рояле, Мольер делил с ними свой театр. Обе труппы поддерживали дружеские отношения (заключались даже франко-итальянские браки), и Мольер, превосходный комический актер, многим обязан итальянцам. Его враги и соперники думали досадить ему, называя наследником шутов и учеником Скарамуша,{52} но он-то прекрасно знал, что итальянцы потому имели бешеный успех, что были одержимы демоном театра, а уж в том, что касается комической игры, они были мастера. Жан де Палапра, плодовитый драматург из Тулузы и большой друг итальянцев, позднее вспоминал о веселых пиршествах в их компании и добавлял: «Мольер тоже часто на них бывал, хоть и не так часто, как нам бы того хотелось, а мадемуазель Мольер — еще реже, чем он».
Первые итальянские актеры появились в Париже уже в царствование Карла IX. Труппа под руководством Альберто Ганасса дала представления в Блуа и в Париже, на свадьбе Генриха Наваррского в 1572 году, за три дня до Варфоломеевской ночи. В 1577 году «Джелози» («Ревнивцы»), которых Генрих III видел в Венеции на обратном пути из Польши и которые играли при венском дворе, выступили в Блуа, где собрались Генеральные штаты. В мае они давали представления в Париже, в зале Бурбонского дворца. Парламент возмутился по поводу этих светских публичных зрелищ, однако король взял актеров под свою защиту; еще одна итальянская труппа выступала в 1583 году в Бургундском отеле; в следующем году их сменили «Комичи конфиденти»; «Джелози» вернулись в 1588 году; с 1600 по 1604 год труппа из Падуи под руководством Франческо Андреини (знаменитого Капитана) и Изабеллы несколько раз занимала Бургундский отель; в 1608 году появились «Аччези» («Пылкие») — актеры герцога Мантуанского, жена которого приходилась сестрой Марии Медичи; они играли в Бурбонском отеле, в Бургундском отеле и в Фонтенбло, где маленький дофин (будущий Людовик XIII) увидел их в первый раз.
После двух лет непростых переговоров с герцогом Мантуанским Мария Медичи добилась их возвращения в Париж в октябре 1613 года, оплатив все дорожные расходы. Труппу возглавлял Тристано Мартинелли, гордо подписывавшийся Dominus arlechinorum.[11] Этот прославленный Арлекин называл в своих письмах Марию Медичи «своей кумой», regina gallina[12] и «королевой половины Авиньонского моста». Видно, в каких панибратских отношениях он состоял с государями, которых развлекал. Королева Франции устроила ему «такой прием, в который не каждый поверит»; в Лионе, Лувре и Фонтенбло он имел откровенный успех.
Тристано Мартинелли был образованным и очень остроумным человеком. Марии Медичи он написал такое забавное письмо:
«Моя жена в скором времени произведет на свет ребенка, крестным отцом которого должен стать король, а крестной матерью — его сестра, королева Испании. И тот и другая хотят собственноручно воспринять его от купели. Если это будет мальчик, король хочет взять его себе, а если девочка, юная королева хочет взять его себе, а моя жена в любом случае хотела бы оставить его себе, так что я просто ума не приложу, как удовлетворить всех троих. Я решил, чтобы выпутаться из этого положения, еще дважды обрюхатить мою жену и раздать детей одного за другим, как котят, ведь похоже, что дети Арлекина — что котята на раздачу».
Мария Медичи осыпала своего «куманька» подарками: великолепная золотая цепь, 500 дукатов ему самому, 15 дукатов в месяц на расходы его жене, 200 дукатов в месяц для его «ватаги». 10 сентября 1613 года она пригласила Малерба посмотреть на игру актеров в Лувре.
Поэт, извечный ворчун, остался недоволен.
«Арлекин явно уже не тот, что прежде, — писал он, — и Петролино тоже; первому пятьдесят шесть лет, а последнему — восемьдесят семь: это уже не тот возраст, что подходит для театра; для него нужны веселый нрав и подвижный ум, каких уж нет в таких старых телах, как у них. Они играют комедию, которую называют „Два одинаковых“, а на самом деле это „Два Менехма“ Плавта. Уж не знаю, то ли соус был плох, то ли мой вкус исказился, но я вышел оттуда безо всякого удовольствия, кроме того, что королева оказала мне честь, пожелав меня там видеть: если Богу угодно, мы увидим и другое и порассудим об этом на досуге».
Королева, дофин и двор не судили актеров столь строго; за два месяца они тридцать девять раз подряд посмотрели выступление итальянцев в Фонтенбло. 24 ноября 1613 года те дебютировали в Бургундском отеле, где, по словам брюзжащего Малерба, выступили «ни хорошо, ни худо». Тем не менее они выступали перед полным залом до июля следующего года, а затем вернулись в Мантую.
Труппу Тристано Мартинелли сменила труппа Джован Баттиста Андреини, который играл Лелио и сочинял как комедии, так и религиозные стихи. С 1618 по 1625 год она дала в Париже несколько серий представлений. В январе и феврале 1621 года Людовик XIII двадцать три раза посетил их спектакли в Бурбонском отеле. Труппа сделала прекрасные сборы. В апреле она снова сыграла в Фонтенбло. Но у Арлекина возникли сложности с товарищами, он хотел оставить их и уйти на покой после сорока лет на сцене. Мария Медичи и Анна Австрийская вступились за него перед герцогом Мантуанским. Арлекин ушел из труппы, однако старый актер еще выступал вместе с «Федели» в Венеции на карнавале 1623 года, в Падуе и Вероне. Демон театра не отпустит так просто того, в кого он вселился.
Труппа Андреини осталась в Париже. Вернувшись из похода на юг, где он воевал с гугенотами, Людовик XIII в начале 1622 года еще шестнадцать раз присутствовал на спектаклях итальянцев.
После годичного отсутствия труппа герцога Мантуанского вернулась в 1623 году в Париж. Ею все еще руководил Джован Баттиста Андреини в сопровождении своей жены Флоринды, которую прославил Кавальер Марино.{53} Она еще давала спектакли в 1624 и 1625 годах, но вскоре распалась, поскольку разразилась война, и у герцога Мантуанского, осажденного герцогом Савойским, которого поддерживали испанцы, нашлись более важные дела, чем театр.
Двадцать пять лет итальянцы под руководством сначала отца, а потом сына Андреини успешно соперничали с французскими фиглярами из Бургундского отеля. Их современник Шарль Сорель, автор «Франсиона», отдавал им предпочтение перед французскими актерами и свидетельствовал о их успехах:
«Мы находим их пьесы лучшими, чем наши фарсы, благодаря изяществу иноземного наречия и наивным и смешным поступкам их персонажей, которые, по правде говоря, лучше умеют отыскать ту сторону вещей, что вызывает смех, чем все актеры других народов; впрочем, если они хотят сыграть серьезную пьесу, то не могут не примешать и к ней своего шутовства, которое для них слишком естественно, чтобы от него воздержаться. С другой стороны, поскольку они весьма красноречивы в жестах и многие вещи показывают движениями, даже те, кто не понимает их языка, улавливают сюжет пьесы: вот почему многие в Париже наслаждаются их игрой».
Париж недолго оставался без итальянцев — непревзойденных мастеров веселья и смеха. Уже в 1639 году в столице появилась новая труппа, под началом Тиберио Фиорелли, более известного под именем Скарамуша; в нее входили Джакомо Торелли, Доменико Локателли (Тривелин) и знаменитый Арлекин — Доменико Бьянколелли. В 1645 году она сыграла в Малом Бурбоне «Мнимую сумасшедшую». Представления были прерваны гражданской войной — Фрондой. Однако труппа не замедлила вернуться в Париж и в 1653 году разместилась в театре Малый Бурбон, который пять лет спустя станет делить с труппой Мольера. Там она поставила первую пьесу из длинной серии о Дон Жуане — «Каменный гость», переведенную с испанского Джилиберти. Газетчик Лоре расхваливал великолепие этих спектаклей, подобных которым не увидишь «от Парижа до Китая»:
Враз до четырех балетов
Из двенадцати картин.
Всех не перечесть секретов
У затейливых машин.
Гидры, демоны, драконы,
Океаны, чащи, склоны…
Звуки музыки чудесны,
И актрисы все прелестны.
Декорации, уборы —
Все отрада слуху, взору.
С тех пор их выступления стали частью парижской театральной жизни; итальянцы последовали за Мольером в Пале-Рояль, а после его смерти — в отель Генего. Французы и итальянцы продолжали давать спектакли поочередно и делить между собой арендную плату; у каждой труппы были свои декорации и оборудование. После создания «Комеди Франсез» итальянцы заняли освободившийся Бургундский отель и с тех пор играли там ежедневно, как и их французские товарищи. Они тоже были «единственной труппой итальянских комедиантов на содержании у Его Величества», который выплачивал им 15 тысяч ливров в год, тогда как «Комеди Франсез» получала только 12 тысяч.
Сердечные отношения, которые они поддерживали со своими французскими друзьями, оставались бы безоблачными, если бы они сами их не испортили, вздумав играть пьесы, где некоторые сцены были на французском языке, что считалось нарушением правил конкуренции. Актеры из «Комеди Франсез» подали жалобу.
Мишель Барон, представляющий французскую труппу, и Доменико Бьянколелли от итальянцев пошли к самому королю, чтобы тот их рассудил. Барон отстаивал интересы «Комеди Франсез». Когда слово передали хитрецу Арлекину, тот так обратился к Людовику XIV:
— На каком языке мне говорить, Ваше Величество?
— Да говори, на каком хочешь, — ответил король.
— Я выиграл тяжбу, — сказал Доменико. — Нам только того и нужно было.
Говорят, что король рассмеялся и заявил, что не возьмет своего слова обратно.
Все уладилось, и итальянцы еще долго и успешно выступали в Бургундском отеле. Нолан де Фатувиль,{54} Реньяр и Дюфрени{55} написали для них множество комедий. И все было бы хорошо, если бы на исходе XVII века они не совершили серьезных оплошностей, дав слишком большую волю языку, что было им свойственно. Уже в 1689 году Аурелио прогнали за то, что он «дурно высказывался» о римских делах, в которых Людовик XIV противостоял папе. Немного позже, 8 января 1696 года, министр Поншартрен писал Ла Рейни:
«Королю донесли о том, что итальянские комедианты устраивают непристойные представления и говорят гнусности в своих комедиях. Его Величество велел господину де ла Тремойлю запретить им делать и говорить подобные вещи в будущем, приказав одновременно мне написать вам, что ему угодно, чтобы вы вызвали их к себе и снова им объяснили, что если им случится принять некую непристойную позу или произнести двусмысленные слова или нечто непорядочное, Его Величество их уволит и отправит обратно в Италию. Ему угодно, чтобы вы ежедневно посылали в театр надежного человека, который доносил бы вам обо всем происходящем, дабы при первом же нарушении вы закрыли их театр».
Предупреждение было ясным, а угроза — четкой. Можно было бы подумать, что итальянцы примут это к сведению и зарубят себе на носу. Но они считали себя неуязвимыми и оставались неисправимы. Их сатирическая дерзость уже не знала границ. Уже в следующем году они объявили о постановке комедии «Ложная скромница», написанной Фатувилем на основе какого-то голландского пасквиля на госпожу де Ментенон. Никого это в заблуждение не ввело. На сей раз дерзость была чересчур велика, на грани скандала, и нацелена лично в короля. Это было слишком. Послушайте Сен-Симона:
«Король мгновенно прогнал итальянских комедиантов и других приглашать не пожелал. Пока они лишь сквернословили и порой богохульствовали в своем театре, над этим только смеялись, но они вздумали сыграть пьесу под названием „Ложная скромница“, в которой легко было распознать госпожу де Ментенон. Все сбежались туда, но после трех-четырех представлений, которые они дали подряд в погоне за наживой, они получили приказ закрыть театр и в один месяц убраться из королевства. Это наделало много шуму, и если комедианты лишились своего заведения из-за своей дерзости и безрассудства, та, которая велела их прогнать, ничего не выиграла из-за вольности, с какой это нелепое происшествие позволило о нем говорить».
С итальянцами было покончено, и по их же вине. Они больше не возвращались в Париж, пока был жив Людовик XIV. Только регент призвал в 1716 году Риккобони, он же Лелио. Эти новые итальянцы вместе с Мариво и Шарлем-Симоном Фаваром основали «Комическую оперу».
Чтобы наша картина парижских зрелищ не оказалась неполной, нужно кратко напомнить о существовании весьма популярного развлечения — ярмарочных представлений. Каждый год в Париже устраивали две большие ярмарки: весной в Сен-Жермен-де-Пре и летом в Сен-Лоране. Посреди ярмарочных лавок и лотков со всякого рода товарами посетителям предлагались многочисленные увеселения: послушать зазывал в стиле Табарена и Мондора, посмотреть на акробатов, канатоходцев, покататься на каруселях, поглазеть на уродов, великанов, карликов, экзотических или дрессированных животных, на кукол, автоматы, восковые фигуры. Эти народные зрелища, до которых были охочи зеваки, должны были привлечь и позабавить толпу покупателей. Они сильно оживляли огромные скопления покупателей, зевак, бездельников, гуляющих, любителей жанровых сценок. Ярмарочные представления во всем своем разнообразии заменяли нашим предкам современный цирк. Мы еще помним о кукольниках Пьере и Франсуа Датленах по прозвищу Бриоше{56} и обезьянку Фаготена, которую, по легенде, пронзил шпагой Сирано де Бержерак.
По всей видимости, только в 1678 году на Сен-Жерменской ярмарке некто Алар открыл первый настоящий ярмарочный балаган. Там в основном выступали акробаты. В том же году на Сен-Лоранской ярмарке «королевская труппа пигмеев» показывала оперу в исполнении марионеток. Но Люлли, опираясь на свою пресловутую монополию и не идя ни на какие уступки, запретил им выступать. Хотя было мало шансов, чтобы жалкие ярмарочные артисты с куклами на шарнирах составили опасную конкуренцию опере!
Такие зрелища для простонародья, среди которого шныряли воры и карманники, порой сопровождались стычками и даже драками. В 1679 году в театре Алара пришлось арестовать разбушевавшуюся челядь и посадить в Бастилию несколько слишком буйных пажей одного вельможи.
Но понемногу на ярмарках появлялись настоящие театры; актеры перенимали репертуар недавно изгнанных итальянцев и представляли настоящие комедии. «Комеди Франсез» преследовала их по суду, заявляя о своей монополии. Ла Рейни велел снести театр Александра Бертрана; в 1699 году д’Аржансон приговорил того же антрепренера к полутора тысячам ливров компенсации ущерба королевским комедиантам. В Шатле, а потом в парламенте тянулось долгое судебное разбирательство. Поставленные в затруднительное положение судейские предложили компромиссное решение: запретить диалоги и разрешить только монологи; актеры из «Комеди Франсез» на это не согласились. Новый процесс в парламенте, который ярмарочные артисты проиграли в 1708 году. Разрешили только пляски на канате и кукольный театр. Балаганы строптивцев разрушили, но те восстановили их ночью. Дело дошло до Большого совета, потом до Тайного совета, который передал его на рассмотрение в Государственный совет. В 1710 году ярмарочные артисты окончательно проиграли. Их принудили выступать молча, лишь мимикой изображая то, что напечатано большими буквами на листах картона, которые они доставали из карманов или которые спускали на прищепках. Когда надо было петь куплеты, оркестр наигрывал мелодию, а статисты, сидевшие в зале, распевали. Публика поддерживала фигляров в противостоянии официальным актерам. Но эта маленькая театральная война, занимавшая общественность, закончилась полным поражением ярмарочных театров, запрещенных в 1719 году. С тех пор на парижских ярмарках выступали только канатоходцы и кукольники.
Глава восьмая Основание оперы (1669–1673)
В последней четверти XVII века французская опера удерживала пальму первенства в парижской театральной жизни. Обаяние музыки, пения и танца, роскошь декораций и костюмов — все это радовало глаз и слух зрителей. Если добавить к этому еще и ярко выраженное пристрастие Людовика XIV к спектаклям такого рода, в которых беспрестанно прославляли его самого в образе мифологических героев, под именами Аполлона и Геракла, необычайную его благосклонность к Люлли — интригану и извращенцу,{57} которого он возвел в дворянское достоинство и сделал королевским секретарем, — можно понять увлечение ими двора, вскоре захватившее и весь город. Добавим, что опера подоспела вовремя, чтобы принять эстафету зрительской любви у трагедии, которая уже начала клониться к упадку, а вскоре совсем зачахла.
Известно, что своими корнями опера уходит вглубь и вширь — от придворных балетов и балетов-драм до итальянской оперы, от пасторали до феерий с театральными машинами, музыкой, пением и танцами, на которых специализировался театр Марэ. Мы не собираемся представлять здесь вновь, после превосходных трудов Шарля Нюитте, Анри Прюньера и Лионеля де ла Лоранси, даже краткий исторический обзор французской оперы при Людовике XIV и перечислять все достижения Кино и Люлли.
Но мы считаем, что условия, при которых она была создана и которые наделали шуму в свое время, являются частью повседневной жизни театра в XVII веке и неотделимы от истории драматических трупп в том, что касается действующих лиц и мест, в которых она протекала. «Психея» Мольера уже была оперой; Люлли еще до Шарпантье был его оркестрантом и даже сыграл роль муфтия в «Мещанине во дворянстве».
1669 год, который до сих пор изображен в рамке над занавесом в Гранд-опера, — лишь точка отсчета; на самом деле опера родилась в результате долгого и трудного вынашивания, продлившегося четыре года и происходившего в атмосфере, отравленной многочисленными и запутанными судебными процессами, извилистыми маневрами, яростной борьбой интересов.
Сама идея об опере «на французском языке», о которой тогда много спорили теоретики, причем некоторые считали ее невозможной, бесспорно, принадлежит Пьеру Перрену. Это был поэт, родившийся в Лионе около 1625 года; он перевел «Энеиду» на французский язык и зарифмовал многочисленные пьесы, чтобы положить их на музыку, — и религиозные, и светские, но всегда посредственные. Буало открыто потешался над творениями этого жалкого рифмоплета, которые положили на музыку Жан де Саблиер, Мишель Ламбер,{58} Робер Камбер («отец французской оперы»), Жан-Батист Боэссе и Этьен Мулинье.
В двадцать семь или двадцать восемь лет он женился на Элизабет Гриссон, которая к своим шестидесяти годам уже успела дважды овдоветь. Надо полагать, этот союз, над которым насмехался лукавый Тальман де Рео, был заключен по расчету. Вдова принесла новому мужу кругленькое приданое, которое позволило Перрену купить должность лица, представляющего послов, при Гастоне Орлеанском — дяде короля. Но у вдовы был сын — советник, а затем председатель парламента Ла Барруар, который не мог допустить, чтобы какой-то хлыщ обирал его мать. По его наущению супруга Перрена через четыре месяца после свадьбы, отпразднованной 22 января 1653 года, подала жалобу на мужа и потребовала расторжения брака, которого быстро добилась благодаря связям своего сына. Потом она заболела, подарила все свое имущество сыну и вскоре после того скончалась.
Этот краткий и неравный брак стал источником всех несчастий Перрена, которого его пасынок Ла Барруар пятнадцать лет преследовал с неугасимой ненавистью, вовлекая своего противника в нескончаемые судебные разбирательства, которые разорили его и неоднократно доводили до тюрьмы — надо признать, не самое лучшее положение, чтобы руководить парижской Оперой.
Пьер Перрен написал «Пастораль», положенную на музыку его другом Камбером, клавесинистом и органистом церкви Сент-Оноре. Он находился в тюрьме Сен-Жермен-де-Пре, когда пьесу сыграли в Исси силами любителей, в доме королевского ювелира. Это была «первая французская комедия с музыкой, представленная во Франции», — гордо писал ее автор. Мазарини возобновил — и с большим успехом — ее постановку в Венсене, в присутствии короля и королевы.
Между двумя тюремными заключениями Перрен написал еще одну оперу — «Ариадна и Вакх», трагедию «Смерть Адониса», положенную на музыку Боэссе, сюринтендантом камерной музыки короля, и застольные песни на музыку Камбера. После очередного пребывания в Консьержери, все так же по милости своего врага Ла Барруара, либреттист преподнес Кольберу роскошный рукописный сборник своих «Слов музыки» и предложил ему создать академию поэзии и музыки; этот проект понравился министру, который, как известно, основал другие академии — младших сестер Французской академии.
Благодаря покровительству Кольбера Перрен 28 июня 1669 года (дата официального основания парижской Оперы) добился королевской привилегии сроком на двенадцать лет, дающей ему исключительное право «устраивать в нашем верном городе Париже и других городах нашего королевства академии, состоящие из людей такого количества и звания, какое он сочтет нужным, для публичного представления опер и представлений на музыку и на французские стихи, подобные италианским». В документе оговаривалось, что дворяне смогут петь в опере, не роняя своего достоинства.
Перрен объединился со своим другом Камбером, нанял певцов и приступил к репетициям своей оперы «Ариадна и Вакх» в Неверском отеле.
Во время этих последних приготовлений на сцене и появились два подозрительных типа — Сурдеак и Шамперон, о чьих распрях с актерами «Комеди Франсез» мы уже рассказывали.
12 декабря 1669 года Перрен и Камбер, думая, что новые партнеры окажут им столь нужную материальную помощь, объединились с Сурдеаком и Шампероном, которые должны были «предоставить все необходимые средства для выплаты задатков и вплоть до дня первого представления». Сборы от оперы полагалось разделить между компаньонами на четыре равные части.
Но два дельца поняли, что такой договор связывал их по рукам и ногам; через три месяца после его подписания они уговорили Перрена и Камбера его расторгнуть, заменив фактической ассоциацией. Лишившись гарантий по договору, Перрен и Камбер оказались беззащитными во власти своих фактических компаньонов — людей предприимчивых и нечистоплотных.
В Севре, в загородном доме Сурдеака, начали репетировать пастораль «Помона», которая должна была сменить собой оперу «Ариадна». 13 мая 1670 года Перрен снял у семьи адвоката Патрю зал для игры в мяч «Беке», или «Бель-Эр», на улице Вожирар, рядом с Люксембургским дворцом. Но глава полиции Ла Рейни своим распоряжением — слишком своевременным, чтобы не быть кем-то подсказанным, — запретил представления в зале «Беке».
Тогда Сурдеак и Шамперон взяли дело в свои руки и 8 октября 1670 года арендовали зал для игры в мяч «Бутылка» на улице Фоссе-де-Нель, где позднее обосновалась труппа отеля Генего. В этом зале, с роскошеством переделанном под театральный, 3 марта 1671 года состоялось первое публичное представление «Помоны».
Несмотря на насмешки, вызванные убогостью стихов Перрена, оперная пастораль снискала успех, пробудив любопытство; парижский люд, всегда жадный до новых зрелищ, ринулся в театр такой толпой, что у его дверей вскоре начались беспорядки, вызванные лакеями и челядью. Сборы были обильными, но Сурдеак и Шамперон, единственные обладатели прав по арендному договору, собирали их лично у входа в театр.
Разумеется, певцы, композитор Камбер, либреттист Перрен не получили ни гроша. Они вызвали бесчестных компаньонов в суд; Оперу временно закрыли.
14 июня 1671 года Перрен, которому надоело болтаться на удочке своих компаньонов, заключил новый договор с господином де Саблиером, музыкальным распорядителем герцога Орлеанского, уступив ему половину своей привилегии. Но на следующий же день Ла Барруар, продолжавший строить ему козни и, возможно, сговорившийся с Сурдеаком и Шампероном, в очередной раз добился его заключения в Консьержери.
Представления возобновились. 8 августа Перрен подписал в тюрьме новый договор с Саблиером, просто-напросто уступив ему всю свою привилегию, однако в другом договоре, аннулирующем первый, было сказано, что пользоваться привилегией им надлежит совместно. Целью фиктивной уступки было, судя по всему, позволить Саблиеру пользоваться привилегией одному, пока Перрен находится в заточении.
Донимаемый Ла Барруаром, который без конца требовал у него возмещения старых долгов, Перрен крайне легкомысленно подписал 17 августа еще один нотариальный акт, уступив Ла Барруару в уплату долгов половину своего имущества, включая доходы от Оперы, — те самые, которые он неделей раньше уже отдал Саблиеру. После этого несчастного выпустили на свободу; мучимый нуждой, он поставил сам себя в безвыходное положение, предав себя в руки своего пасынка и врага Ла Барруара.
Свобода продлилась недолго. Заручившись договором, Саблиер сообщил о нем Сурдеаку и Шамперону, потребовав передать ему привилегию. Узнав об этом, Ла Барруар пришел в ярость от того, что его провели, и снова бросил Перрена в тюрьму 29 августа. На сей раз бедняге пришлось провести больше года на сырой соломе в камере Консьержери.
В то время как Сурдеак и Шамперон продолжали использовать зал для игры в мяч «Бутылка», Саблиер положил на музыку и поставил в Версале оперу «Любовь Дианы и Эндимиона», либретто к которой написал камергер герцога Орлеанского Гишар, впоследствии вовлеченный в громкие судебные процессы с Люлли. 23 ноября 1671 года Саблиер сделал Гишара своим компаньоном, посулив ему треть прибыли, чтобы использовать привилегию, которую уступил ему Перрен, находясь в тюрьме, а Сурдеак и Шамперон требовали себе! Положение стало невозможным. Перрен, обобранный и брошенный за решетку, оставил на воле две противостоящие друг другу группы наследников своей привилегии: с одной стороны — Сурдеака с Шампероном, а с другой — Саблиера с Гишаром. Какое-то время существовали две Оперы. Пока Саблиер и Гишар показывали королю в феврале 1672 года «Торжество Любви» (новую версию «Любви Дианы и Эндимиона»), Сурдеак и Шамперон продолжали использовать зал «Бутылка» для представлений «Горестей и радостей Любви» Габриэля Жильбера на музыку Камбера.
Вот тут-то и появился Люлли, чья музыка только имела огромный успех в Пале-Рояле вместе с «Психеей» Мольера, Корнеля и Кино. Люлли, поначалу не веривший в оперу на французском языке, изменил свои убеждения перед лицом бесспорного успеха. Он решил всех помирить, добившись монополии на оперу для самого себя.
Это был, как известно, хитрый, ловкий, решительный и беспринципный человек Он справедливо рассудил, что право Сурдеака с Шампероном наследовать Перрену так же спорно, как и права Саблиера с Гишаром. Он-то не собирался позволить этим дельцам втянуть себя в затяжные судебные разбирательства. В конце концов, изначально привилегия была дарована Перрену, поэтому иметь дело надо непосредственно с ним, а посредников — побоку. Захватив с собой нотариуса, Люлли отправился к Перрену в Консьержери — решительно, в те времена в Консьержери решали множество самых разных вопросов. Перрен, разоренный, преследуемый за долги, был беззащитен. Люлли не стоило большого труда убедить его отказаться от привилегии за вполне приличную пенсию, а это автоматически отменяло права всех, с кем он прежде заключал договоры. Сделку заключили тотчас же, оформив ее по закону.
Уже не раз говорили, что Люлли бессовестным образом обобрал Перрена. Это не так. Конечно же они играли не на равных: куда было жалкому узнику Консьержери, хватавшемуся за соломинку, бороться с успешным флорентийцем, которого лелеяли при дворе и в городе, с фаворитом короля и протеже Кольбера. Между тем сделка была честной и строго соблюдалась; Люлли выплатил обещанные деньги, позволившие Перрену освободиться и выйти из тюрьмы. Кстати, выписывая доверенность, Перрен выразил в ней «радость от того, что государь обратил свой взор на Люлли» взамен него самого. По иронии судьбы, именно тогда, когда Перрен отказался от привилегии, которую так и не смог использовать лично и которая не принесла ему ни гроша, она впервые дала ему кое-какие деньги, а он в них весьма нуждался.
В тот день, когда Люлли заполучил заверенное нотариусом отречение Перрена, он стал хозяином положения. Как человек, обладающий деловой хваткой и желавший незамедлительно использовать моду на оперу, Люлли тотчас принялся осуществлять свой план. У этого проходимца везде были связи: министр, глава полиции, председатель парламента оказывались марионетками, а флорентиец дергал за ниточки за кулисами, к своей выгоде. Хотя он пообещал Мольеру, открывшему ему дорогу на сцену в Пале-Рояле, сделать его своим компаньоном, он подло обманул своего друга и действовал только в своих интересах. Он даже намеревался запретить парижским театрам использовать более двух певцов и двух музыкантов, что значило разорить Мольера, запретив ему исполнять свои комедии-балеты. Мольер заявил протест самому Людовику XIV, который отменил этот пункт, выходящий за всякие рамки.
Вот так всего за несколько дней, в марте 1672 года, вероятно, 13-го числа, Люлли добился официальной отмены привилегии Перрена, который, как сказал Его Величество, не сумел «вполне поддержать его намерения и возвысить музыку до того уровня, который он себе наметил». Люлли разрешили «содержать королевскую академию музыки» в Париже на протяжении всей его жизни, «а после него его дети получат оную должность распорядителя камерной музыки по наследству, с правом брать компаньонов по своему усмотрению». Отметим, что Академия музыки впервые была названа королевской; это значит, что Людовик XIV намеревался взять ее под свое покровительство, как и все прочие академии. Люлли, а после него — его наследник были ее всемогущими директорами.
Все те, кого новая привилегия Люлли лишала их собственных прав, — Сурдеак, Шамперон, Гишар, Саблиер, а также Мольер — воспротивились ее утверждению. Но Люлли не позволил завлечь себя в дебри судебных разбирательств.
30 марта Людовик XIV приказал Ла Рейни закрыть театр на улице Фоссе-де-Нель, уничтожив, таким образом, одним росчерком пера соперничество со стороны Сурдеака и Шамперона. 14 апреля Королевский совет признал действительной привилегию Люлли, «несмотря на несогласие». Кольбер лично замолвил слово за Люлли перед председателем парламента Ламуаньоном и докладчиком. Воля короля была ясна: его фаворит должен выиграть процесс. 27 июня парламент послушно вынес постановление о том, чтобы зарегистрировать привилегию в обмен на компенсацию Сурдеаку и Шамперону за декорации и машины. 20 июля новое постановление избавляло Люлли от выплаты этой компенсации, оставляя его противникам в собственность зал для игры в мяч на улице Фоссе-де-Нель, декорации и машины.
12 августа (заметьте, как быстро разворачивались события) Люлли арендовал на восемь месяцев зал для игры в мяч «Беке» на улице Вожирар, который некогда снимал Перрен и откуда Оперу изгнали еще до окончания ремонта. В тот же день король своим ордонансом запретил актерам арендовать зал на улице Фоссе-де-Нель; это значило задушить Сурдеака и Шамперона, которые отказались от компенсации, чтобы сохранить декорации; теперь декорации оказались бесполезны, поскольку им было официально запрещено использовать единственный обустроенный и свободный зал в Париже. Королевский ордонанс также запрещал комедиантам использовать для представлений более шести скрипок и двенадцати певцов. Просьба Мольера, таким образом, была удовлетворена лишь частично.
2 сентября Перрена, наконец, окончательно выпустили из Консьержери; таким образом, он, если бы захотел, мог присутствовать при торжестве своего преемника, работавшего со знаменитым декоратором Вигарини. В ноябре 1672 года музыка Люлли звучала на всех парижских сценах: в то время как в Пале-Рояле с успехом возобновили постановку «Психеи», Опера на улице Вожирар открылась «Празднествами Амура и Вакха» — поспешной переделкой уже сыгранных пьес, в частности, комедий-балетов Мольера; но только весной 1673 года Люлли, распорядитель камерной музыки короля, директор королевской Академии музыки, поставил первую большую оперу, достойную этого названия, — «Кадм и Гермиона» по либретто Кино. Присутствие Людовика XIV 27 апреля наглядно показало, какой интерес король проявлял к опере.
Он не замедлил предоставить Люлли новые блестящие доказательства своего покровительства. Мольер умер 17 февраля 1673 года, практически впав в немилость. Четыре дня спустя, 21 февраля, за несколько часов до того, как его прах упокоился в освященной земле, клочок которой едва-едва удалось вымолить его друзьям, король, пересмотрев свои более либеральные распоряжения, подписал по просьбе Люлли ордонанс, запрещающий актерам использовать более двух певцов и шести скрипок. Видно, с каким упорством, да и поспешностью Люлли ковал железо, пока горячо. Ради него Людовик XIV предал Мольера в самый день его похорон, забыв об удовольствиях, которые великий комик дарил ему пятнадцать лет, и о том блеске, который он придал его двору. Но Люлли был человеком дня, и Людовик XIV в своей королевской неблагодарности в отношении памяти Мольера бесплатно предоставил ему 28 апреля 1673 года зал Пале-Рояля, который занимала труппа покойного драматурга.
Лишившись своего руководителя, она, в свою очередь, заняла зал для игры в мяч «Бутылка» на улице Генего, где и ей тоже, как мы видели, пришлось иметь неприятные дела с Сурдеаком и Шампероном.
Все это время Люлли находился на вершине успеха и продвигался к славе. Если вспомнить, с какими материальными трудностями пришлось сражаться несчастному Перрену, можно только подивиться, каких великолепных условий флорентиец добился для своей королевской Академии музыки: даровой зал, декорации и костюмы, оплаченные королем, ибо его оперы представляли при дворе, прежде чем показать парижанам; из сделанных сборов он платил только певцам и музыкантам. Устранив всех конкурентов, пожертвовав даже дружбой ради своего безудержного честолюбия, Люлли оказался единовластным господином Парижа в сфере музыки — после жестокой четырехлетней борьбы, повлекшей столько жертв.
Глава девятая Театральное представление
Нам уже знакомы разные театры, между которыми мог выбирать парижский зритель в XVII веке, игравшие в них труппы, ведущие трагики и комики. Посмотрим теперь на каждодневную работу этих трупп и смешаемся с публикой, чтобы взглянуть, как актеры занимаются своим ремеслом на сцене.
В первой половине века дни представлений не были четко установлены, но совершенно точно, что спектакли не были ежедневными; в классическую эпоху были установлены «ординарные» дни работы театров — вторник, пятница и воскресенье, премьеры обычно давали по пятницам; но были и исключения; так, чтобы максимально использовать успех новой пьесы, играли во внеочередной день, часто удваивая цену за билеты; итальянцы же, делившие зал Пале-Рояля с Мольером, всегда играли в «экстраординарные» дни — понедельник, среду, четверг и субботу. Но начиная с 1680 года «Комеди Франсез», пользуясь своей исключительной привилегией в Париже, станет давать спектакли ежедневно. Было подсчитано, что если сложить драматические и оперные спектакли, за год парижская публика могла увидеть восемьсот представлений.
Полицейским приказом от 1609 года начало спектаклей было назначено на два часа дня, чтобы в любое время года представление заканчивалось до ночи, столь щедрой на неприятные сюрпризы. Но на деле спектакли всегда начинались с большим опозданием, поскольку опаздывающих зрителей было принято терпеливо ждать. Таким образом, давали только дневные представления, и никогда — после ужина, разве что если они устраивались при дворе.
О представлениях объявляли различными рекламными способами, о которых мы еще поговорим; естественно, им предшествовали репетиции, как и в наши дни. «Версальский экспромт» представляет собой очень живую картину одной из таких репетиций, на которой Мольер, директор труппы, предстает в своем амплуа режиссера, давая последние советы актерам, разбирая споры между ними, ибо распределение ролей вызывало соперничество и зависть. Эту деликатную проблему порой решали в договоре о создании товарищества, в котором распределялись «амплуа» — первые, вторые и третьи роли: королей, крестьян, первых любовников, комиков; в некоторых договорах даже пошли еще дальше, зафиксировав распределение всех ролей репертуара, с согласия всех участников соглашения. Но если директор пользовался авторитетом, он принимал решение самолично. Так было, например, в труппе Мольера, который, кстати, создал большинство персонажей своих комедий, имея в виду определенного актера своей труппы.
При постановке новой пьесы автор мог сказать свое слово, и порой ему удавалось назначить исполнителей главных ролей; Корнель сам выбрал дез Ойе на роль Софонисбы, а Расин — Дюпарк и Шаммеле на роли Андромахи и Федры. После 1680 года, когда «Комеди Франсез» попала в жесткую административную зависимость, конфликты, связанные с распределением ролей, улаживали обер-камергеры под руководством дофины.
Итак, войдем в зал Бургундского отеля или Пале-Рояля около двух часов дня, «пока еще не зажжены свечи».
О спектакле возвещали афиши на перекрестках. Они были небольшими, примерно 40x50 сантиметров, у Бургундского отеля — красными, у театра с улицы Генего — зелеными, у Оперы — желтыми; на них значились только заглавие пьесы и имя автора, исполнители ролей не указывались. Составление и печатание этих плакатов входили в задачу «оратора» (представителя) труппы.
Занавес еще опущен. Занавес? Кое-кто спросит: точно ли, что в залах XVII века сцену закрывал занавес? Специалисты долго об этом спорили. Существование занавеса подтверждается письменными и графическими документами начала века — для придворных балетов. В городских театрах занавес, наверняка не существовавший в начале века, тоже вскоре появился. Занавес из двух частей, раздвигающихся в обе стороны сцены, изображен на гравюре о представлении «Мирамы» в Пале-Кардиналь в 1641 году. Во время ремонтных работ 1647 года в Бургундском отеле в смете была четко обозначена установка перекладины над сценой «для подъема занавеса», поднимавшегося снизу вверх. Примерно в ту же эпоху в театре Марэ тоже был занавес, закрывавший всю сцену перед представлением. Так что сегодня в этот вопрос внесена ясность: в каждом театре был занавес, но, вероятно, его не опускали во время антрактов, если не надо было менять декорации. Возможно, в «пьесах с машинами» дело обстояло иначе, ведь там происходили существенные смены декораций.
И вот мы в плохо освещенном зале, понаблюдаем за публикой. Современный зритель больше всего бы удивился, увидев после подъема занавеса, что некоторые зрители сидят на плетеных стульях прямо на сцене. Впрочем, это знатные, богато одетые люди, служащие театру «роскошным украшением», как считал добрый Шаппюзо. Некоторые из привилегированных зрителей злоупотребляли этой вольностью, как тот, которого Мольер вывел в «Несносных», ставя свое кресло посреди сцены, перед актерами, вместо того чтобы расположиться сбоку. Эти лучшие места были и самыми дорогими. Из письма Мондори, которое мы уже цитировали, можно понять, что этот обычай восходит к первым триумфальным представлениям «Сида».
Однако следует заметить, что ни Ла Менардьер в своей «Поэтике» (1640), ни аббат д’Обиньяк в «Театральной практике» (1657) не намекают на этот обычай, который, похоже, тогда еще не принял повсеместного распространения, но постепенно прижился в Итальянском театре, а позднее — в опере, что вызывало у современников справедливые протесты. Тальман де Рео видел в этом «жуткое неудобство». А аббат де Пюр усматривал в такой практике источник невыносимой путаницы:
«Сколько раз на словах „вот и он“, „я вижу его“ за актера и ожидаемого персонажа принимали хорошо сложенных и хорошо одетых людей, которые в этот момент входили в театр и искали свои места, тогда как несколько сцен уже было сыграно!»
Только с появлением Вольтера с этим возмутительным злоупотреблением, не прекращавшимся во весь XVII век, было покончено.
Но маркизы в шелках и лентах, занимавшие места на сцене, сильно контрастировали с остальной публикой, которая тогда была очень пестрой. Конечно, красивые разодетые женщины блистали в своих роскошных ложах, но если мы смешаемся с публикой из партера, которая, напомним, оставалась на ногах, мы встретим там праздношатающихся, слуг, пажей, мушкетеров, ремесленников, студентов, рассыльных из лавки, многие из которых, пользуясь толкотней у входа, просачивались в зал, не платя. Королевский эдикт от 1673 года запретил такие злоупотребления, но, возможно, не пресек их. Среди этих бездельников затесались несколько проходимцев, воров и карманников. Эта простонародная публика — бурливая, больше интересующаяся фарсами, чем благородной трагедией, — окликала друг друга, осыпала других зрителей насмешками и порой затевала настоящие драки, требовавшие вмешательства караула. Часто эти люди принимались играть в карты или в кости. Как только поднимался занавес, именно из партера слышались гул голосов, безудержные аплодисменты или свистки; те, кто были в глубине зала, плохо видели происходящее на сцене и едва могли слышать актеров. Зал наполнялся шумом, и зрители с верхних рядов амфитеатра тоже вносили свою лепту в это брожение и гомон. Театр по-прежнему оставался общественным местом, где собиралась пестрая и шумная толпа. Даже на исходе века в театре вспыхивали скандалы и драки.
Сорель в 1642 году писал:
«Партер весьма неудобен из-за давки, которую устраивает там тысяча негодяев, и даже порядочные люди, которым они порой наносят оскорбления, а затеяв ссору из-за пустяка, хватаются за шпагу и прерывают весь спектакль».
В том же году Гильом Коллете говорил о «скандальных вызовах», которые устраивают в партере, «не считаясь с порядочностью и стыдливостью дам», а также о разворачивающихся там «ссорах и драках», и даже совершаемых «убийствах». Аббат д’Обиньяк утверждал, что «театр мало посещали порядочные люди, он по-прежнему считался порочным развлечением». Однако Мольер заявлял, что доверяет суждению именно этого поносимого партера, который в большей степени, чем ученые или светские завсегдатаи лож и галерей, олицетворял для него собой народный здравый смысл.
Наконец, после того как из партера неоднократно выкрикнут: «Начинайте! Начинайте!», занавес поднимается. Шутливый пролог, который какой-нибудь Брюскамбиль произносил в начале века, чтобы воодушевить публику, быстро сошел со сцены.
Представление начинается сразу же с главной пьесы — трагедии или комедии. Когда занавес поднят, сначала любуются декорациями, и нам нужно остановиться на этой важной составляющей спектакля, тем более что на протяжении века она претерпела глубокие изменения.
Действительно, в начале века театральные декорации, в соответствии со средневековой традицией, состояли из нескольких частей. Сцена разделялась на четыре-пять «домиков», каждый из которых изображал определенное место — площадь, дворец, зал, гору, лес или море, порой они были сильно удалены друг от друга в пространственном отношении. Таким образом, иногда «Франция была в одном углу театра, Турция — в другом, а Испания — посередине», писал аббат д’Обиньяк. По ходу пьесы актеры переходили от одной декорации к другой по просцениуму, оставленному свободным. Иногда некоторые из «домиков» скрывали раздвижными занавесями или раскрашенными холстами, которые открывались в тот момент, когда того требовало действие. Сохранилась «Записка» декораторов Бургундского отеля, Маэло и его преемников, в которой есть большое количество рисунков сепией этих множественных декораций с пометками, содержащими длинные перечни необходимых аксессуаров.
Но примерно с 1630 года наши драматурги переняли у итальянцев аристотелевское правило трех единств. Прежде всего начали соблюдать единство действия и единство времени; Мерэ первым сформулировал эти правила в предисловии к своей «Сильванире», опубликованной в 1631 году. «Медею» Корнеля (1635) и «Сида» (1636) еще играли в симультанных декорациях, чего, кстати, требовал текст. Но начиная с этой даты количество «домиков», которых раньше было пять-семь, сократилось до двух-трех. По мере того как единство времени (как правило, сутки, но на деле и того меньше) соблюдалось с большей строгостью, вынуждая актеров концентрировать театральное действие, появились и распространились единые декорации — знаменитый «универсальный дворец» трагедии, подходящий как для пьес о Древней Греции и Риме, так и о Востоке. Симультанные декорации исчезли к 1645 году.
Но от новых единых декораций, столь удобных для комедиантов, не требовали ни национального колорита, ни археологического соответствия. Да и сама режиссура была еще очень простой. Например, в «Смерти Кира» Розидора (1662) Томирис в четвертом акте кричит: «Ко мне, воины!» В этот момент с колосников спускают холст, на котором изображена армия, переходящая через мост в боевом порядке!
Надо признать, что зрителя лишили «услады взора», которую ему доставляли перемены сцен в театре, когда там представляли трагедии или пасторали, щедрые на непредвиденные ситуации и невероятные приключения. Но классический театр доставлял порядочным людям высшее удовлетворение своими драматическими и психологическими достоинствами. Литературное произведение доставляло новые радости утонченным умам, которых вполне удовлетворяла скупая единая декорация.
Но так обстояло дело с «правильными» трагедиями и комедиями, а для зрителей, не желавших отказаться от услады для взора, оставался особый жанр, на котором специализировался театр Марэ, и где, напротив, главная роль отводилась декорациям и машинерии: это фантасмагории, для которых требовался внушительный и ослепительный набор декораций. Итальянцы, в особенности прославленный Джакомо Торелли и ею преемник Карл Вигарини, поставлявшие декорации для королевских балетов и великолепных празднеств «Увеселения зачарованного острова», прослыли мастерами в устройстве такого рода зрелищ; именно в их школе французские декораторы и машинисты научились устраивать роскошные постановки, которые впоследствии перешли по наследству к опере.
У каждой труппы обычно имелся штатный декоратор; у Мольера сначала был Матье, а потом Жан Кронье. Но для постановки зрелищных пьес актерам приходилось обращаться к специалистам: живописцам для создания декораций, инженерам для разработки машин, которые авторы пасторалей и пьес на мифологические сюжеты использовали с давних пор. Было обнаружено некоторое количество договоров, заключенных актерами на оборудование такого рода, например, договор о «Золотом руне» Корнеля, подписанный актером из театра Марэ Франсуа Жювеноном по прозвищу Ла Флер, от имени маркиза де Сурдеака, в нормандском замке которого — Небуре — была поставлена пьеса. Шесть декораций, в том числе сад («наивеликолепнейший, какой только можно сделать», как сказано в договоре), и «жуткий дворец чудовищ» изготовил Никола Белло — ординарный королевский живописец.
Для постановки своего «Дон Жуана» Мольер обратился к двум художникам — Жану Симону и Пьеру Пра. Договор, который он с ними заключил, сообщает нам ценные сведения о шести декорациях, которые живописцы обязывались предоставить за установленную цену в 900 ливров. Каждая из них включала задник и рамы, от трех до пяти, с каждой стороны сцены, причем их высота, составлявшая восемнадцать футов на авансцене, уменьшалась, уходя вглубь сцены. Декорации к первому акту представляли собой сад, ко второму — «зеленый хуторок» с пещерой, к третьему — лес с храмом в глубине, к четвертому — храм изнутри, к пятому — комнату, последняя декорация представляла собой город. Поперечно натянутые полотнища изображали облака или своды. Но эти фразы из юридического документа, какими бы они ни были ценными, несмотря на свою сухость, не способны воссоздать богатство декораций и машин, восхищавших публику, все еще жадную до чудес и многочисленных перемен декораций.
Другие свидетельства позволят нам лучше себе их представить. Для знаменитого представления «Мирамы» Демаре, сыгранной в Пале-Кардиналь в 1641 году, кардинал Ришелье показал пример еще неслыханной роскоши. «Газетт» так описывала декорацию:
«Франция, да и, возможно, иноземные страны еще никогда не видали столь великолепной сцены, перспектива которой больше бы услаждала взор зрителя… Прелестные сады с гротами, статуями, фонтанами, большими клумбами, террасами, спускающимися к морю с перекатывающимися валами, казавшимися естественными для этой бескрайней стихии, и два больших флота, один из которых казался в двух лье от нас, оба открылись взору зрителей. Затем как будто настала ночь, и тьма незаметно спустилась на сад, море и небо, которое оказалось освещено луной. За этой ночью наступил день — так же неуловимо рассвело, и солнце обошло свой круг».
Сменивший Ришелье Мазарини с помощью итальянских декораторов еще усовершенствовал эти чудеса для представления «Мнимой сумасшедшей» и «Орфея», «вбухав» в них полмиллиона экю.
Вскоре после этого, когда театр Марэ стал специализироваться на зрелищных представлениях, постановки такого рода следовали одна за другой. «Андромеда» Пьера Корнеля, «Улисс на острове Цирцеи» Буайе и «Рождение Геракла» дали первый залп. Божества, летающие в небесах, бурное море с кораблями, звезды и молния в небе, горы, утесы, цветущие сады, пещеры, статуи, роскошные дворцы, ужасный ад или страшная тюрьма — все чудесные средства машинерии были пущены в ход, чтобы поразить зрителя.
У театра Марэ был свой штатный декоратор — Дени Бюффекен, писавший все эти декорации, которым музыка, танцы и пение только добавляли прелести. Он вошел в товарищество актеров Марэ и получал регулярное жалованье помимо своих гонораров декоратора. «Золотое руно» Корнеля, «Любовь Юпитера и Семелы» и «Праздник Венеры» Буайе, «Любовь Венеры и Адониса» и «Свадьба Вакха и Ариадны» Донно де Визе поддерживали любовь публики к пышной демонстрации декораций и машин, поставленных на службу языческим чудесам, — более привлекательным для зрителя, чем суровость классической трагедии и строгие правила трех единств. Этот театр, избавленный от оков всяческих принуждений, позволял драматургам отправить свою фантазию в свободный полет. Многочисленные смены декораций нравились публике.
Для «Любви Юпитера и Семелы» (1665) частично использовали машины от «Золотого руна», но верный Бюффекен написал декорации с помощью Жана Симона — того самого, который изготовил декорации к «Дон Жуану» Мольера. В пьесе Буайе сцена должна была меняться в каждом из пяти актов. В момент развязки Семела и Юпитер в своем дворце появлялись в облаках, а Меркурий и Фама «уносились в самую глубину зала». Луи де Молье взял на себя музыкальное сопровождение, актеры наняли музыкантов и танцмейстера.
Газетчик расхваливал богатство декораций, говоря о том, что машинист превзошел сам себя.
Сам Людовик XIV, которому было мало придворного театра, явился в Марэ посмотреть «Любовь Юпитера и Семелы» и подал знак к аплодисментам. Пьесу возобновляли несколько раз, но, несмотря на хорошие сборы, издержки были таковы, что театр Марэ с большим трудом покрыл все расходы. Ему даже пришлось занять по этому случаю 2 700 ливров у прокурора Ролле — того самого, которого Буало обозвал плутом.
Пять лет спустя плодовитый Донно де Визе передал в Марэ «Любовь Венеры и Адониса» (1669). Полеты божеств в очередной раз восхитили зрителей. Вот описание пролога, составленное самим де Визе:
«Весь театр изображает небо, видны лишь скопления облаков. В глубине появляется сияние, и верх изображает облака, отличающиеся от нижних.
Появляются Грации в прозрачном шаре в сопровождении Амура, сидящего на облаках, с которых он тотчас слетает и через весь зал проносится к амфитеатру; оттуда он возвращается на зов Граций и останавливается в передней части сцены, чтобы сыграть с ними пролог, после чего исчезает в глубине зала. Небо смыкается, сцена меняется и представляет леса Италии».
Два года спустя, на волне успеха, Донно де Визе представил «Свадьбу Вакха и Ариадны» с той же нарочитой роскошью, музыкой и танцами.
«Газетт» писала по поводу одной из таких пьес: «Зрители задумывались о том, уж не перенеслись ли они сами в другое место».
Посмотрим теперь, что делали актеры среди этих богатых декораций. В начале века, в подражание итальянцам, в комедии еще использовали маски или пудрили лицо мукой. Сегодня установлено, что Мольер играл Маскариля из «Смешных жеманниц» в маске, а Жоделе в этой пьесе представал в своем обычном виде, с набеленным лицом. Но в классическую эпоху маска исчезла.
Актеры с особенным вниманием относились к костюму, и на этот счет у нас есть исчерпывающая информация. Несколько гравюр того времени, в частности, с изображением фарсовых актеров, но главное — нотариально заверенные описи имущества покойных сообщают нам точные сведения о театральных костюмах. Их богатство и разнообразие ни в чем не уступали пышности декораций.
Костюмы обычно являлись личной собственностью актеров, и нам известно, что их гардероб был достаточно богат, хотя в начале века некоторые руководители трупп располагали гардеробом, позволявшим им одевать комедиантов, которых они нанимали. Тальман де Рео утверждает, что в ту эпоху актеры одевались у старьевщика, в жалкие обноски. Вероятно, это было верно для жалких странствующих трупп. Шарль Сорель подтверждает;
«Я видел несколько раз в Париже, в „Доме игры“, таких людей, у них у каждого был лишь один костюм для персонажей всякого рода, и они преображались только с помощью накладной бороды или какого-то едва заметного знака, в зависимости от представляемого персонажа. Аполлон и Геркулес выходили на сцену в штанах и колетах. Судите же о том, как выглядели смертные».
Но в парижских театрах костюмы были роскошными; с 1606 года Валлеран Леконт щеголял в мантиях и плащах из златотканого сукна, алого бархата, дамаста и тафты; в нотариально заверенных описях имущества Мольера и нескольких его товарищей, а также Ленуара из театра Марэ перечислены богатые костюмы из бархата, тафты или атласа, пучки разноцветных перьев, юбки из золоченых тканей, муара или шелка, вышивки золотом и серебром (часто фальшивым, что бы ни говорил Шаппюзо). Во времена, когда промышленные товары были крайне дороги, приобретение таких одежд вовлекало актеров в непомерные расходы. Людовик XIV неоднократно вознаграждал Мольера щедрой рукой по случаю придворных представлений, жалуя ему одежду. Для актеров это была манна небесная, и они потом использовали подаренные костюмы в своих театрах. Иногда вельможи щедро раздавали актерам собственные придворные наряды. У одного из основателей театра Марэ, Шарля Ленуара, был двадцать один полный костюм, все из дорогих тканей, украшенные кружевами и лентами и во всем похожие на те, что носили при дворе Людовика XIII. В описях такие костюмы обычно оцениваются довольно дешево, в несколько сотен ливров, но эти цифры наверняка сильно занижены по сравнению с покупной ценой. Для нотариусов эти шелковые наряды с лентами, кружевами и золотыми позументами, некогда блиставшие в свете свечей, становились после смерти их владельца всего лишь обносками, годными разве что для старьевщика.
Тонкий наблюдатель театральной жизни, Шаппюзо подметил богатство костюмов:
«Эта статья расходов комедиантов гораздо внушительнее, чем можно себе представить. Мало новых пьес не требуют обновок… Один-единственный костюм в римском стиле зачастую обходится в пятьсот экю. Они предпочитают сэкономить на чем-нибудь другом, лишь бы доставить больше удовольствия публике, и есть такие актеры, наряды которых стоят больше десяти тысяч франков».
Кстати, многим актерам, и в первую очередь Мольеру, случалось в трудные времена закладывать часть своего гардероба, чтобы раздобыть денег.
Описание театральных костюмов в таких перечнях порой может рассказать нам о личных пристрастиях их владельцев; так, Мольер отдавал явное предпочтение двум цветам — желтому и зеленому (Альцест носил зеленые ленты), который, кстати, встречается и в убранстве его дома. Опись его гардероба особенно ценна, поскольку речь идет о комедийных костюмах, и в описи уточняется роль, для которой использовался каждый костюм.
Однако богатство костюмов снимало всякую заботу о достоверности и национальном колорите; простые пастухи из пасторалей «ходили в шелковых камзолах и с серебряными свирелями». Что же до трагических ролей, то их было принято играть в современных одеждах. Самое большее, на голову восточным владыкам надевали тюрбаны, а герои трагедий появлялись на сцене, наряженные версальскими придворными: Александр Македонский носил парик, шляпу с перьями и кружевной галстук на шее. Кирасы заменили нагрудниками из муара, атласа или бархата с золотыми и серебряными узорами; мадемуазель де Вилье в роли Химены походила на Анну Австрийскую, Шаммеле в роли Федры — на госпожу де Монтеспан, а Полиевкт выходил на сцену в испанском камзоле, в коротких штанах с прорезями и круглой шапочке с пером. Несмотря на протесты д’Обиньяка против таких анахронизмов, придется ждать появления Лекена,{59} а главное — Тальма, прежде чем будут предприняты попытки придать костюму историческую достоверность.
Эти трагедийные костюмы, которые нам с вами показались бы нелепыми, способствовали созданию в зале, у зрителей того времени, общего впечатления, сильно отличающегося от того, которое мы испытываем сегодня. Для нынешнего зрителя трагедия — жанр давно минувших дней, где предстают цари и правители древности, одетые в костюмы, которые даже в стилизованном виде сохраняют историческую окраску; сами эти персонажи малознакомы современной публике, поскольку древняя история не так хорошо известна; язык, на котором они говорят (абстрактный, усеянный архаизмами), трудно понять с первого раза.
Образованный зритель XVII века иначе воспринимал трагедии, ставшие классикой, чем зритель современный; «универсальный дворец», в рамках которого они разворачивались, был списан с Версаля или Сен-Клу, о существовании которых он, по крайней мере, знал, если не бывал там; костюмы героев были современными, в точности похожими на наряды расфуфыренных петиметров, занимавших сцену и служивших связующим звеном между актерами и зрителями; цари и государи из трагедий имели свое соответствие в обществе того времени; греческая и римская история, основа всякого образования, была лучше знакома публике; даже язык трагедии, хотя и не был тем, на котором разговаривала публика, пусть и образованная, был ей хотя бы понятен; наконец, в трагедиях содержались более или менее явные намеки на текущие события; Людовик XIV во многом был похож на Александра Великого или Цезаря, а Никомед напоминал принца Конде; на представлении «Цинны» в театре Марэ зритель проводил параллели с многочисленными заговорами, постоянно грозившими кардиналу Ришелье, а на представлении «Береники» в Бургундском отеле естественным образом примерял invitus invitam[13] Тацита к болезненному разрыву Людовика XIV с Марией Манчини.{60} Все эти параллели, которых нынешний зритель уже не улавливает, но пытается вычленить историк литературы, сообщали дополнительный интерес к представлению трагедий и привкус актуальности, улетучившийся со временем. Короче, по всем этим причинам зритель XVII века, слушая трагедию Корнеля или Расина, чувствовал себя в своей эпохе, чего нельзя сказать о нынешнем посетителе «Комеди Франсез», для которого трагедия — музейный экспонат.
В таких вот декорациях и костюмах развивалась сценическая игра; но как играли и декламировали актеры Пале-Рояля или Бургундского отеля? На этот счет, как можно догадываться, у нас есть очень мало указаний. Как же не хватает звукозаписей! Чего бы сегодня не отдал актер или специалист по истории литературы за запись Мондори в «Сиде», Мольера в «Мизантропе» или Шаммеле в «Федре»! Если бы они могли существовать, такие документы, возможно, принесли бы нам больше разочарований, чем поводов к восхищению…
Однако по этому поводу можно почерпнуть кое-какие сведения в письменных документах. Совершенно точно, что трагическая декламация была утрированной, а лиризм текста нарочито подчеркивался актером. В результате получалась помпезная речь нараспев, с переливами, речитатив, перемежаемый ужасными криками и взвизгиваниями. Корнелевские стихи особенно хорошо подходили для такого «возвышения голоса», по выражению Ла Менардьера. По преданию, Мондори, прозванный Росцием своего времени, был вынужден оставить сцену, порвав голосовые связки: он перенапряг их, произнося проклятия Ирода в «Марианне» Тристана; Монфлери умер от такого же перенапряжения в сцене безумия Ореста, а Шаммеле довела себя до могилы, играя «Медею» Лонжепьера. Нет никакой уверенности, что все это верно, но сам факт, что все это казалось современникам правдоподобным, показывает, что подобные крайности в декламации действительно существовали.
Кстати, Мольер восстал против таких перегибов, практиковавшихся в Бургундском отеле. Начиная со «Смешных жеманниц», он насмехался над королевскими комедиантами, которые одни только умели «хрипеть стихи» и вызывать «бругага». Он возобновил свои нападки, которые стали острее и точнее, в «Версальском экспромте».
Поскольку сам Мольер предоставил нам такую возможность, изучим повнимательнее упреки, которые он адресует своим соперникам: это поможет нам лучше понять, что он не одобряет, а следовательно — что одобряет и практикует сам.
Вот перед нами толстый Монфлери — тот самый, в брюхо которого Сирано де Бержерак уже выпустил тысячу жестоких стрел в своей знаменитой тираде. «А кто у вас на роли королей?» — «Вот этот актер недурно с ними справляется». — «Кто? Этот статный молодой человек? Да вы шутите? Король должен быть толстый, жирный, вчетверо толще обыкновенного смертного, королю, черт побери, полагается толстое брюхо, король должен быть объемистым, чтобы было чем заполнить трон! Король с такой стройной фигурой! Это огромный недостаток».
Первая смешная условность: почему бы королю не быть стройным? И почему бы королю не говорить естественно? Но Монфлери, «знаменитый актер Бургундского отеля», как сказано в тексте, читает «высокопарно» несколько стихов из «Никомеда». «Но сударь, — отвечает актер, — мне кажется, что король, беседуя наедине со своим военачальником, должен говорить проще, — он не вопит, как бесноватый». — «Вы ничего не понимаете. Попробуйте читать так, как вы читаете, вот увидите: ни одного хлопка». Ясно: Мольер критикует напыщенную декламацию, отсутствие естественности.
Тот же упрек он адресует другим актерам из королевской труппы, передразнивая их. О мадемуазель де Бошато, которой он подражает в роли инфанты из «Сида» (на самом деле — сцена Камиллы и Куриация. — Е.К.), он говорит «Видите? И искренно и страстно! Обратите внимание, что Камилла улыбается в самые тяжелые минуты». Бошато, читающий стансы из «Сида», Отрош в роли Помпея, де Вилье в образе Эдипа — всем не хватает естественности, они играют условно, не заботясь о том, чтобы согласовывать свою игру и декламацию с текстом и чувствами, которые он выражает.
Пародийный дар Мольера придавал этим сценам особенный комизм, который, должно быть, оценили зрители. Небезынтересно отметить, что все приведенные отрывки взяты из трагедий Корнеля, помпезный стиль которого особенно подталкивал исполнителей к напыщенности и высокопарности.
Распределяя роли в комедии, которую сейчас будут репетировать, Мольер дает своим товарищам режиссерские указания:
«Итак, пусть каждый из вас постарается уловить самое характерное в своей роли и представит себе, что он и есть тот, кого он изображает».
Мольер хочет, чтобы играли правдиво и естественно.
«Вы играете поэта. Вам надлежит перевоплотиться в него, усвоить черты педантизма, до сих пор еще распространенного в великосветских салонах, поучительный тон и точность произношения с ударениями на всех слогах, с выделением каждой буквы и со строжайшим соблюдением всех правил орфографии. Вы играете честного придворного, следовательно, вам надлежит держать себя с достоинством, говорить совершенно естественно и по возможности избегать жестикуляции». Каждый актер должен беспрестанно держать в уме характер своего персонажа, чтобы «схватить все ужимки этой особы». Каждому актеру Мольер описывает и разъясняет характер персонажа, которого тот будет представлять:
«Я вам раскрываю все эти характеры для того, чтобы они запечатлелись в вашем воображении».
Речь не о том, чтобы блеснуть перед публикой условными приемами; игра и декламация, поставленные на службу исключительно тексту пьесы, должны всегда стремиться к естественности и правде. Вот чему Мольер учит своих товарищей и вот чем занимается вместе с ними в Пале-Рояле.
Вероятно, именно поэтому все современники, как бы они ни относились к Мольеру, восхищались его комической игрой, однако в один голос называли его «отвратительным трагиком». Просто публика, привыкшая к стилю декламации актеров Бургундского отеля, находила декламацию Мольера, который избегал всех крайностей, свойственных его соперникам, пошлой и безыскусной. Соперники же его, строя козни против Мольера, не забывали подчеркнуть, какая жалкая манера читать стихи у этого шута, который годен, по их мнению, лишь веселить чернь своими ужимками в фарсе.
У нас есть точное, недавно обнаруженное свидетельство об этом фундаментальном расхождении во взглядах на театральное мастерство, которое лишь усиливало коммерческое соперничество между двумя труппами. Речь об одной заметке Ж-Б. Расина о его отце, которая дает нам ключ ко всей истории с «Александром Великим»:
«Он ничуть не одобрял чересчур плавную манеру декламации, принятую в труппе Мольера. Он желал, чтобы стихам придали определенное звучание, которое, вкупе с размером и рифмами, отличалось бы от прозы; однако он терпеть не мог тех завышенных и визгливых звуков, которыми хотели подменить прекрасное естество и которые можно было, так сказать, расписать, точно музыкальные ноты».[14]
Значит, Расин занял промежуточную позицию между двумя школами, разучивая роль Андромахи с Дюпарк и роль Федры с Шаммеле.
Еще одно, достаточно неожиданное свидетельство принадлежит святому Винсенту де Полю. В одном письме к священнику-миссионеру, точная дата которого, к несчастью, неизвестна, но которое было написано в конце его жизни и, возможно, направлено против Мольера и его труппы, читаем:
«Я раньше говорил вам, что Господь наш благословляет речи, ведомые простым и привычным тоном, поскольку он сам учил и проповедовал таким образом, и раз такая манера естественна, она удобнее другой, натужной, и народу она нравится меньше, но он получает от нее больше пользы. Поверите ли вы, сударь, что актеры это признали и изменили свою манеру говорить, и не декламируют более стихов тем повышенным тоном, как делали ранее? Но они это делают слабым голосом, словно разговаривая по-дружески с теми, кто их слушают. Мне сказал об этом на днях один человек, принадлежавший к этому сословию. Но если желание больше нравиться свету сумело возобладать в умах театральных актеров, какой повод к смятению для проповедников Иисуса Христа, если бы любовь и усердие дать спасение душе не имели бы той же власти над ними!»
Итак, Мольер вел кампанию против напыщенной декламации, модной в его время, во имя правдоподобия и естественности. Нам очень хорошо известно, что он потерпел неудачу, и после его смерти «Комеди Франсез» надолго возобновила традиции актеров Бургундского отеля.
Впрочем, зритель, каковы бы ни были его представления или пристрастия в области театрального искусства, был вполне способен навязать свою концепцию. Мы уже говорили, какую буйную и порой мятежную публику составляла публика из партера. Ей внушили, что свист — право, которое ты покупаешь при входе, и она широко пользовалась этим правом в отношении актеров или авторов пьес. Более того, зрителям удавалось прервать спектакль, а то и сменить пьесу в ходе представления. Донно де Визе, драматург и руководитель, на пару с Тома Корнелем, газеты «Меркюр галан», сетовал на свистки, «дурное использование которых с некоторых пор привилось в театре, и с таким ожесточением, что актеров часто прерывают, а порой даже принуждают прекратить представление новой пьесы с третьего акта и сыграть одну из старых пьес — ту, какую заблагорассудится указать свистунам». И Донно де Визе, мастер своего дела, добавляет, щадя самолюбие своих собратьев, а может, и свое собственное:
«Я не собираюсь, осуждая свистунов, оправдывать все освистанные пьесы, но не стоит заключать и того, что все освистанные пьесы дурны».
Разумеется, те, кому пьеса нравилась, со своей стороны, нападали на свиставших, и в зале скоро поднимался шум, порой завязывалась драка. Полиция хотела вмешаться, но свистуны возмутились. По этому поводу сочинили такое миленькое рондо:
Свистать запретили! Хорошее дело!
Бумагомараки, работайте смело!
Бездарным поэтам, дурным музыкантам,
Танцорам, навеки лишенным таланта,
Позволено добрых людей обирать,
А тем не дадут даже их освистать?
Уж коль я неправ — я приму наказанье,
Но свист, если к месту, — всегда в назиданье.
Никто не заставит меня перестать
Свистать!
Суровая стража меня устрашает,
Однако неужто она помешает
Танцорам — кривляться, фальшивить — певцам
И глупости сыпать на нас без конца?
У нас никому наших прав не отнять —
Свистать!
Но поскольку беспорядкам не было конца, актеры подали жалобу, и полиция стала действовать строже.
15 января 1696 года министр Поншартрен писал шефу полиции Ла Рейни:
«Социетарии „Комеди Франсез“ подали мне записку, кою я вам посылаю; я сообщил о ней королю, и он желает принять нужные меры, чтобы предотвратить беспорядки, учиняемые свистунами в театре. Его Величество приказал мне узнать ваше мнение о том, что можно предпринять в подобных случаях».
Предложения Ла Рейни были приняты министром, который ответил так:
«В отношении беспорядков, учиняемых в театрах, нельзя придумать ничего лучше того, что вы предлагаете; после того как вы издадите новый ордонанс и он будет опубликован, при первом же случае, когда удастся захватить с поличным кого-нибудь из тех, кого бы следовало примерно наказать, я сразу же пришлю вам приказы, чтобы поместить их в наказание в Странноприимный дом».
Нескольких свистунов арестовали и посадили в Малый Шатле, где у них было несколько недель, чтобы как следует подумать; прочие мгновенно заменили свист зевками и чихом…
Впрочем, беспорядки в театре часто заходили гораздо дальше освистывания; либо в партере, либо на выходе споры превращались в ссоры, а порой и в драки стенка на стенку с ранеными, а то и убитыми. С 1641 года Людовик XIII запретил лакеям ходить в театр со шпагой, кинжалом и пистолетом. Людовик XIV неоднократно подтвердил этот запрет, что доказывает то, что он практически не соблюдался. И в самом деле, Ла Рейни писал Кольберу:
«Они доводят (беспорядки) до таких крайностей, что уже почти не осталось горожан, осмеливающихся там находиться».
Но не только чернь была тому виной; члены королевской свиты, в особенности мушкетеры, вызывали серьезные беспорядки, отказываясь платить за вход. Королю пришлось принять особый ордонанс, оглашенный под звуки труб на всех перекрестках, чтобы заставить воинственных военных платить за билет, как мещане. Однажды маркиз де Ливри явился в «Комеди Франсез» с великолепным датским догом, который стал бегать по театру. «Господа из партера, подбадривая его, принялись издавать всякие охотничьи кличи, о чем всем известно».
Итак, в XVII веке театральное представление происходило более оживленно, чем в наши дни, однако все происшествия наподобие тех, о которых мы рассказали, не помешали классическому театру торжествовать на парижских сценах и обеспечивать театру неплохие сборы.
Кстати, труппы сами делали себе рекламу. В каждой из них был актер, исполнявший обязанности «оратора» (эта должность исчезла вместе с веком). Мы видели, что оратор должен был сочинять и печатать афиши. В них содержался настоящий рекламный текст, сообщавший читателю о «многолюдном собрании в предыдущий день, о достоинствах пьесы, которая будет сыграна, и о необходимости пораньше раздобыть себе места в ложах, особенно если пьеса новая, и ожидается большое стечение публики».
Роль оратора труппы была настолько важна, что очень часто ее исполнял сам директор: Мондори, Флоридор и Ла Рок в театре Марэ, Флоридор, а потом Отрош в Бургундском отеле, Мольер и Лагранж в Пале-Рояле.
Вероятно, что именно оратор предоставлял информацию газетчикам и разносчикам новостей о пьесах, готовящихся к постановке, и о распределении в них ролей, дублируя таким образом рекламу, которую авторы сами делали своим пьесам, устраивая их читку в салонах.
После представления оратор, все еще в костюме своего персонажа, обращался с краткой речью к публике. Шаппюзо дает нам интересные уточнения об этом забытом обычае:
«Речь, которую он произносит после комедии, имеет целью снискать благосклонность собравшихся. Он благодарит их за доброе внимание, сообщает название пьесы, которая последует за только что сыгранной, и приглашает прийти ее посмотреть, расточая ей похвалы; сие суть три части, из которых строится его обращение. Чаще всего он говорит недолго и не обдумывает своей речи, но порой он тщательно ее прорабатывает, если присутствует король, Монсеньор или какой-нибудь принц крови, что бывает на зрелищных пьесах, ведь машины перенести нельзя. Он поступает так же, когда надо возвестить о новой пьесе, которую нужно расхвалить, в прощании от имени труппы, в пятницу перед первым воскресеньем Страстной недели и на открытии театра после Пасхальных праздников, чтобы вернуть публике вкус к театру. В обычном объявлении оратор заранее сообщает о новых пьесах разных авторов, чтобы привлечь внимание публики и подчеркнуть достоинства труппы, для которой все хотят работать… Прежде, когда оратор делал свое объявление, все собрание затихало, и его краткую и хорошо сложенную речь иногда выслушивали с таким же удовольствием, какое доставила сама комедия. Каждый день он добавлял какую-то новую черту, пробуждавшую внимание зрителя и говорившую о плодовитости его ума, и либо в объявлении, либо в афише он был скромен в похвалах, кои обычай требует расточать автору и его произведению, а также труппе, которая должна его представить. Когда такие похвалы чрезмерны, создается впечатление, будто оратор рассказывает небылицы, и уже нет такой веры тому, что он пытается внушить в умы. Но поскольку мода меняется, все эти правила уже не в ходу; ни в анонсах, ни в афишах уже не делается длинных речей, ограничиваются тем, что попросту называют присутствующим пьесу, которую предстоит сыграть».
Мольер был неподражаем в этой роли; именно он в октябре 1658 года, после приезда его труппы в Париж, выступал с речью перед королем в Лувре, представляя ему «Влюбленного доктора».
Итак, украшая зрительные залы, делая затейливые декорации и роскошные костюмы, используя самую широкую гамму рекламных средств, доступных в то время, парижские театры делали все, что могли, чтобы придать блеску своим представлениям, соблюдая при этом собственные интересы и интересы авторов пьес.
Глава десятая Жизнь театральных трупп
Мы следовали за комедиантами по разным театральным залам, смотрели, как они играют на сцене, теперь пора спросить себя о том, какова была их профессиональная жизнь, организация труппы, отношения между собой и с авторами, произведения которых они представляли, административная и финансовая организация театров.
Следует вспомнить, что все парижские театры XVII века, как и сегодняшняя «Комеди Франсез», представляли собой товарищества актеров, обладавших паями, полупаями и четвертями пая.
«Иногда полпая и даже целый пай предоставляли жене из уважения к мужу (как в случае Арманды Бежар), а иногда — мужу из уважения к жене (как в случае Шаммеле); насколько это было возможно, ловкий актер брал себе жену, которая могла бы, как и он, заслужить свой пай».
Нотариально заверенные акты подтверждали такой уговор. Финансовое управление было простейшим: после каждого представления актер-казначей вычитал из сборов расходы, связанные с устройством спектакля, а все остальное тотчас раздавал в соответствии с долей участия. Об этом свидетельствует журнал Лагранжа, в котором после каждого представления приводится полная сумма сборов и доля каждого актера. Каждый месяц труппа собиралась для проверки счетов. Все актеры и актрисы обладали правом решающего голоса.
Но хотя они были частными компаниями, а следовательно, сами определяли свою деятельность и свое управление, по меньшей мере, до последней четверти XVII века, когда «Комеди Франсез» попала под строгую опеку, все парижские труппы находились на содержании у короля, а потому были обязаны являться ко двору по первому зову монарха, чтобы давать там представления. Актерам это приносило славу, да и барыши, поскольку за развлечение короля им возмещали расходы, издержки на переезд, на проживание и на костюмы.
«Когда они направляются в Сен-Жермен, — пишет Шаппюзо, — в Шамбор, в Версаль или в другое место, то помимо содержания, которое им по-прежнему выделяют, помимо карет, повозок и лошадей, предоставленных из королевской конюшни, они получают общее вознаграждение — тысячу экю в месяц, два экю в день каждому на расходы, плату их людям и оплату жилья фурьерами».
Пребывание при дворе порой длилось несколько недель подряд.
Актеров также часто приглашали давать представления у частных лиц — принцев, министров или иностранных послов, и они практически не могли уклониться от таких приглашений. Тут они тоже получали вознаграждение, но гораздо меньшее, чем за визиты ко двору. Иногда они давали и бесплатные публичные представления по случаю радостных событий — подписания мирного договора, рождения дофина или принца крови. Зато траур при дворе вызывал затяжные простои, добавлявшиеся к традиционному закрытию театров на время Великого поста.
Среди проблем финансового порядка, встававших перед комедиантами, самым важным был вопрос о ценах на билеты. В XVI веке итальянские актеры брали по четыре су с человека. С начала XVII века полицейским распоряжением от 12 ноября 1609 года было запрещено взимать более пяти су за место в партере и десяти — за место в ложе или на галерее. При таких расценках, существовавших еще в 1620 году, хорошие сборы можно было сделать только при аншлаге! Правда, актеры тогда уже взяли в привычку удваивать цены за билеты на премьеру новой пьесы. При этом надо учитывать людей, которые проходили бесплатно, — авторов, членов королевской свиты, включая мушкетеров (вплоть до королевского запрета 1673 года) и просто безбилетников. Как говорит Шаппюзо, «народу было много, а денег мало», и все по вине зрителей, проникавших в театр хитростью, а порой и силой. Актерам также приходилось считаться с мошенничеством привратника, который взимал плату за вход, ибо, как утверждает Скюдери, «верный человек этой профессии — что философский камень, вечный двигатель или квадратура круга: то есть вещь возможная, но не найденная».
К счастью для себя, бедные комедианты того времени находили щедрых меценатов, например графа де Белена или герцога де Гиза, которые раздавали им костюмы и кое-какое вознаграждение; они также извлекали кое-какие дополнительные средства из представлений в Лувре или в доме какого-нибудь вельможи. Но только в 1641 году Бургундский отель, благодаря Ришелье, начал получать королевское содержание в размере 12 тысяч ливров, тогда как театру Марэ пришлось довольствоваться 6 тысячами ливров. Летние гастроли по провинции пополняли скудные ресурсы комедиантов. Но и в это время им приходилось выплачивать арендную плату членам Братства Страстей Господних.
Но комедианты раннего периода уже осознавали, что играют благородную роль, выполняют особую задачу перед конечно же немногочисленной публикой; поэтому они сурово обходились с фиглярами с Нового моста, которые составляли им конкуренцию.
В классическую эпоху положение значительно улучшилось; театр посещала гораздо более многочисленная публика, чем во времена первых комедиантов, и совершенно точно, что актеры, хоть и не разъезжали сплошь в каретах, как говорит Лабрюйер, извлекали из своей деятельности значительные доходы. Опись имущества после кончины Мольера или Барона свидетельствует о большом достатке. Мы не располагаем документами по Бургундскому отелю и театру Марэ, но Лагранж, тщательно ведший и свои собственные счета, и счета труппы Мольера, сообщает нам, что за четырнадцать лет, с 1658 по 1673 год, он получил 51 670 ливров, что составляет примерно 37 500 евро. Видно, что сборы постоянно росли, достигнув пика в 1669 году — году «Тартюфа». Они снизились после смерти Мольера, но регулярно повышались вплоть до конца века. В это время Данкур{61} отказался от своей доли автора. «Комеди Франсез» получала от короля, как некогда труппа Бургундского отеля, содержание в 12 тысяч ливров, которое, впрочем, всегда выплачивали с большой задержкой. Мольер получал два пая, как актер и как автор пьес; вместе с жалованьем королевского обойщика, отчислениями с книготорговли и долей королевского содержания, он получил за тот же период около 160 тысяч ливров, то есть примерно 120 тысяч евро. Его биограф Гримаре даже утверждает, что он получал 30 тысяч ливров ренты, но это уже перебор.
Правда, начиная с середины века цена билетов в парижских театрах выросла: за место в партере платили 15 су, за ложи третьего яруса —1 ливр, за ложи второго яруса — 1 ливр 10 су, за амфитеатр — 3 ливра, а за ложи первого яруса и места на сцене — 5 ливров 10 су.
Те же расценки действовали в «Комеди Итальенн». Но партер оставался доступен для простой публики, о чем свидетельствует Буало.
Театр Марэ, со своей стороны, повысил цену билетов на «пьесы с машинами», требовавшие больших расходов.
С 1699 года, когда был введен налог в пользу бедных, цены выросли на одну шестую часть. Если буржуа платил за свое место при входе в театр, вельможи часто освобождали себя от этой формальности; подражая королю, они не спешили уплатить свои долги; журналы «Комеди Франсез» свидетельствуют, что они порой тянули с уплатой три-четыре года… Там сказано, например, что принц де Тюренн спорил из-за нескольких ливров из суммы в 33 ливра, которые он задолжал. Маркиз де Рошфор просил предоставить ему кредит на оставшиеся 50 су! В целом сборы в 2 тысячи ливров означали очень хороший вечер; в среднем их сумма колеблется вокруг тысячи ливров. И не надо забывать, что до 1680 года парижские театры давали только три представления в неделю, а в пост и в дни траура закрывались вообще. 17 июля 1676 года «спектакля не было из-за г-жи де Бренвилье». В тот день спектакль разыгрывался на Гревской площади, и госпожа де Севинье не пропустила бы его ни за что на свете.
Театры несли значительные расходы, покрывавшиеся из сборов: арендная плата («Комеди Франсез» была от нее избавлена, поскольку являлась собственником своего театра), декорации, костюмы, плата музыкантам, вспомогательному персоналу, а именно консьержу, переписчику, суфлеру, скрипачам, билетеру, контролеру, декоратору, тушителю свечей, билетершам в ложах, портье, свечному мастеру, печатнику и расклейщику афиш. В 1673 году Шаппюзо оценил подобные расходы Бургундского отеля в 15 тысяч ливров. К эксплуатационным расходам добавлялись налог на уборку улиц и фонарное освещение, судебные издержки, пожертвования монахам разных орденов и, наконец, пенсии отставным актерам. Именно Бургундский отель в 1664 году определил содержание старым актерам, которым труппа выплачивала неприкосновенную пенсию в тысячу ливров за целый пай и в 500 ливров за полпая. Немного спустя этому примеру последовала труппа Мольера; Луи Бежар, ушедший со сцены в 1670 году, первым получил такую пенсию, предоставленную ему, «чтобы жить достойно», как указано в юридическом акте. Но следует подчеркнуть, что труппы, считая эти расходы чересчур обременительными, вскоре взяли в привычку перекладывать пенсию отставного актера на плечи новобранца, ангажированного на его место. Если актер умирал, не оставив своей деятельности, труппа передавала в дар его наследникам 1100 ливров. Случалось даже, но только в исключительных случаях, что труппа предоставляла прославленным актерам, чтобы покрепче привязать их к себе, пенсию, не зависящую от пая: так, посулив дополнительную тысячу ливров пенсии, театр отеля Генего смог переманить из Бургундского отеля супругов Шаммеле. Таким образом, талант и слава высоко котировались.

Мольер в роли Арнольфа в пьесе «Школа жен». Гравюра

Генриетта Английская

Филипп Орлеанский (Месье)

Людовик XIV

Фронтиспис трагикомедии М. Скюдери «Ибрагим, или блистательный паша». 1645 г.

Людовик XIV в балетном костюме

Мольер в роли Сганареля

«Увеселение Волшебного острова»

Лафонтен

Расин
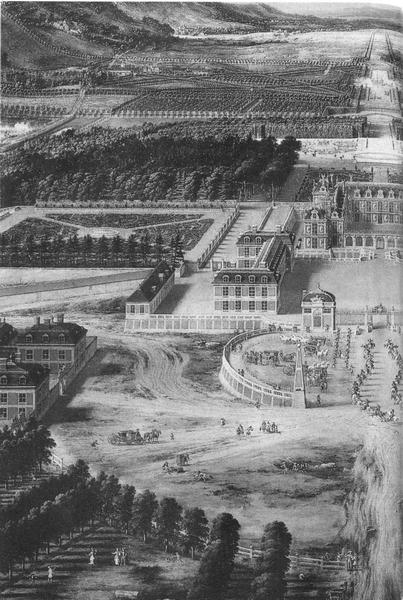

Версаль около 1668 года. П. Патель

Арманда Бежар

Мольер

Мишель Барон

Часть версальского парка во времена Людовика XIV. Фонтаны и бассейн Латоны. Гравюра

Левотр

Буало

Лебрен

Спектакль в Пале-Кардиналь в 1641 году перед Анной Австрийской, Людовиком XIII и Ришелье. Картина XVII в.
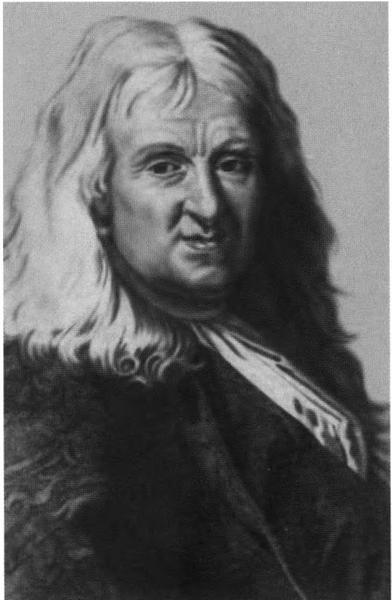
Тома Корнель. Гравюра

Мольер, вызывающий духа комедии, чтобы наказать Порок и обличить Лицемерие. Старинная гравюра

«Любовная досада». Гравюра П. Бриссара

Жан-Батист Мольер. Скульптура Дюре
Последняя статья расходов, выпадавших на долю актеров, — это авторские права, которые следовало выплачивать тем, кто поставлял им трагедии и комедии. Этот вопрос стоит изучить поглубже, ибо, сопоставляя различные свидетельства, мы сможем лучше понять, с одной стороны, каким бременем эти права являлись для комедиантов, а с другой — какую прибыль драматурги XVII века могли получить от своих произведений.
В начале века, располагая только затасканным репертуаром из трагедий эпохи Возрождения, парижские труппы старались обзавестись собственными поэтами-драматургами. Так было в случае двух предтечей классической трагедии — Александра Арди и Ротру.
Похоже, Арди стал первым автором, извлекавшим кое-какой доход из своих произведений, хотя и сталкивался в этом отношении с серьезными трудностями. С 1598 года он стал компаньоном Валлерана Леконта, который предпринимал героические, но тщетные усилия, чтобы заставить парижскую публику полюбить его пьесы. Поначалу Арди, актер и драматург, получил за свои произведения лишь почетное право первому подписывать договоры, заключаемые труппой, наемным поэтом которой он являлся, а также помпезный титул «постоянного королевского поэта», который стоил не больше, чем титул королевского комедианта, присваиваемый бродячими актерами, и имел такое же право на существование. Однако обширное творчество принесло Арди некоторую известность.
С 1620 года он стал штатным поэтом Бельроза, который сменил Валлерана Леконта и находился со своей труппой в Марселе. Бельроз был властным и безжалостным директором и в буквальном смысле эксплуатировал несчастного Арди. На самом деле он покупал у него пьесы (по неизвестной нам цене), получая монопольное право на их постановку с запретом для автора на их публикацию. Когда в 1622 году Бельроз поступил в труппу Бургундского отеля, Арди, уже пользовавшийся известностью, был вынужден последовать за ним. Но Бельроз упорно запрещал ему публиковать свои произведения, чтобы те не сделались общественным достоянием и не попали таким образом в руки соперничающих трупп. Оставаясь на коротком поводке, Арди продолжал сочинять пьесы и продавать их директору театра на тех же драконовских условиях, поскольку ему нужны были деньги.
Арди возмутился, взбунтовался и, наконец, добился от Бельроза разрешения на публикацию хотя бы некоторых своих пьес. Так, в 1625 году он уступил двенадцать пьес одному парижскому издателю за кругленькую сумму в 1800 ливров, что свидетельствует о его известности. За своего «Ревнивца» он получил 100 ливров.[15]
Наконец, воодушевленный своими сценическими успехами и узнав о рыночной стоимости своих произведений, устав от несправедливой эксплуатации, Арди порвал с Бельрозом и предложил свои услуги другой труппе, под руководством актера де Вилье, которая называла себя «настоящие королевские комедианты». На сей раз он должен был получать вознаграждение в виде части от сборов. Однако смерть вскоре прервала его карьеру.
В Бургундском отеле его сменил Ротру. Поначалу Бельроз захотел навязать ему те же условия, что ранее Арди. Но Ротру быстро сбросил с себя цепи, и поскольку продолжать представление его пьес было в общих интересах — его и Бельроза, — они заключили сделку: Ротру будет отдавать все свои пьесы в Бургундский отель по твердой цене в 600 ливров за пьесу, передавая их в исключительное пользование на полтора года. По истечении этого срока он будет иметь право их напечатать. Ротру оставался верен Бургундскому отелю вплоть до своей смерти в 1650 году.
В это время в театре Марэ царил Корнель. Нормандец, умевший считать деньги, тщательно следил за соблюдением своих авторских прав и не выпускал из рук доходов от своих произведений. Он не колеблясь посвятил «Цинну» финансисту господину де Монторону, выудив у него целый кошель экю за недостойную лесть.
Мы не знаем, сколько театр платил ему за пьесы. Известно только, что Корнеля возмутило, когда после их опубликования Бургундский отель возобновил их постановку, ничего ему не заплатив.
Тогда ему в голову пришла блестящая идея: добиться запрета на возобновление постановок. С этой целью он составил в 1643 году — году публикации «Цинны», «Полиевкта» и «Смерти Помпея» — проект жалованной грамоты для представления на подпись королю. Но поскольку этот документ был направлен в основном против королевской труппы, в привилегии было отказано, и Корнель добился только того, что ухудшил и без того плохие отношения между двумя главными парижскими театрами.
Начиная с классической эпохи отношения между актерами и драматургами, до сих пор бывшие достаточно напряженными, пришли в систему. Шаппюзо, который очень хорошо осведомлен в этом вопросе, поскольку сам был драматургом, сообщает нам точные сведения об условиях, в которые ставили авторов во второй половине века:
«Самым обычным условием — и самым справедливым для обеих сторон — было включить автора на двух паях во все представления его пьесы до определенного времени. Например, если дневные сборы составляют 1660 ливров, а труппа состоит из четырнадцати долей участия, в этот вечер автор получит 200 ливров за две доли, а все прочие — примерно по 60 ливров, за вычетом обычных расходов, как то: на освещение и жалованье служащим. Если пьеса пользуется большим успехом и идет по двойному тарифу двадцать раз подряд, автор богат, и актеры тоже; если пьеса, к несчастью, провалилась — либо потому, что плоха, либо потому, что у нее мало сторонников, предоставляющих критикам свободу действий для ее хулы, — ее не станут больше играть; и та и другая стороны утешатся, как могут, как приходится утешаться в нашем мире после всех досадных событий. Но такое случается крайне редко [?], и актеры прекрасно умеют предчувствовать успех, который уготован произведению.
Иногда актеры платят за произведение наличными, до 200 пистолей и больше, принимая его из рук автора и полагаясь на удачу. Но удача может оказаться велика, если автор в зените славы и все его предыдущие произведения имели успех; только птицам высокого полета предоставляют столь выгодные условия оплаты наличными или два пая. Когда пьеса имеет большой успех, превыше всех ожиданий актеров, те в щедрости своей делают автору подарки, обязывая его тем самым хранить верность этой труппе.
Но за первую пьесу и неизвестному автору они не дают денег вовсе или дают очень мало, считая его учеником, который должен быть доволен честью, какую ему оказывают, играя его произведение. Наконец, когда пьеса прочитана и принята на условиях оплаты наличными или двумя паями, автор и актеры, как правило, не расходятся, не устроив пирушки для скрепления договора».
Именно так все и происходило, хотя бывали исключения из правила. Например, Расин, молодой и еще неизвестный автор, получил за свою первую пьесу «Фиваида» два пая из сборов в Пале-Рояле. Такой знак благорасположения, оказанный Мольером дебютанту, делает еще более некрасивым поступок Расина, который передал, не предупредив его, свою пьесу «Александр Великий» в Бургундский отель всего через две недели после премьеры в Пале-Рояле. Понятно, какое разочарование и гнев испытал Мольер, который так и не простил Расину этого предательства.
Прежде чем получить свою долю как автор, Мольер получил тысячу ливров за «Смешных жеманниц», полторы — за «Мнимого рогоносца», 1100 ливров — за «Несносных». Издатели тоже платили ему немалые деньги: он уступил «Психею» за 1500 ливров и «Тартюфа» за 2 тысячи. Аббат Буайе, молодой автор, заработал только 550 ливров за своего «Тоннаксара», правда, «в шитом золотом кошельке», но Пьеру Корнелю достались от труппы Пале-Рояля 2 тысячи ливров за «Аттилу» и столько же за «Тита и Беренику»; Тома Корнель, модный автор, который тем не менее, по свидетельству Данжо, умер «бедным, как Иов», получил за «Цирцею», помимо авторских, подарок от труппы в 60 луидоров.
За стихотворное переложение «Дон Жуана» Мольера ему заплатили 100 ливров, и столько же получила Арманда Бежар. «Гадалка» Тома Корнеля и Донно де Визе имела огромный успех из-за суда над Ла Вуазен; эта пьеса принесла своим авторам около 6 тысяч ливров. Утрата журналов Бургундского отеля лишает нас данных по этому театру; однако мы знаем, что Прадон получил 2 тысячи ливров за «Федру и Ипполита», Буайе — 1600 за «Юдифь», Бурсо — 2050 ливров за «Эзопа в городе» и 2500 за «Эзопа при дворе».
В свое время театр Марэ уплатил ему за «Германика» только 1300 ливров, но самым высокооплачиваемым из всех драматургов был Кино, связанный контрактом с Люлли и писавший либретто к операм; он должен был поставлять по одному в год за 4 тысячи ливров. Однако монополия Люлли давала ему исключительные и безграничные права на оперы Кино, который лишался собственности на свои произведения. Кино проделал неплохой путь: когда он начинал, театр Марэ заплатил ему всего 150 ливров за одно либретто в 1653 году.
Начиная с 1683 года «Комеди Франсез» установила новое и простое правило: авторы получали девятую часть сборов за пьесу из пяти актов и восемнадцатую — за небольшие одноактные или трехактные пьесы. Но следует подчеркнуть, что эти условия соблюдались лишь для первой серии представлений новых пьес; при возобновлении постановки автор не получал ничего. Только в конце XVII века с этой аномалией было покончено. Да и то пример подала «Комеди Итальенн», а «Комеди Франсез» оставалось только ему последовать.
Сегодня мы знаем, что крупные парижские актеры, такие, как Мольер, наслаждались достатком. Шарль Ленуар, один из основателей театра Марэ, купил в Париже дом на улице Перигор за 9800 ливров, а после смерти оставил своей вдове средства для достойного воспитания их пятерых несовершеннолетних детей. Мондори, удалившийся в Тьер, жил там припеваючи в собственном доме, получая содержание от кардинала Ришелье и некоторых вельмож, которые хотели таким образом подластиться к королевскому министру. Ла Рок, директор театра Марэ, купил несколько домов; госпожа Барон и госпожа дез Ойе обладали многочисленными драгоценностями; Жоделе и его брат Лэспи владели землями в Анжу, Бельроз — загородным домом в Конфлан-Сент-Онорин; госпожа Бопре одалживала внушительные суммы денег театру Марэ в период трудностей. Начиная с провинциального этапа существования труппы Мольера, Мадлена Бежар делала крупные капиталовложения. Флоридор, помимо доходов от своей профессии, получил в 1661 году от короля право распоряжаться доходами «от перевозки бечевою всех судов, идущих вверх и вниз по течению, от набережной Бонзом в Шайо до ворот Конферанс города Парижа», а два года спустя — привилегию на транспортные перевозки из Сарла и Каора, которую он делил с Кино. Комедианты бывали при дворе, часто призываемые королем, перед ними заискивали придворные, и они извлекали из этого существенную выгоду в разных формах. Расцвет театра при Людовике XIV превратил их в знаменитостей; вельможи их нежили и лелеяли, хотя бы ради того, чтобы услужить королю.
В XVII веке актеров-драматургов было гораздо больше, чем в любую другую эпоху. Самый известный пример являет собой Мольер. Из сотни пьес, которые он поставил за четырнадцать сезонов в Париже, тридцать одна принадлежала ему самому, причем именно они имели наибольший успех; многие другие пьесы сыграли всего десять — двадцать раз, а то и меньше. Мольер поддерживал свой театр комедией, в которой он был царь и бог. Совершенно точно, что при скудости производства трагедий в то время, если не считать Корнеля и Расина, он никогда не выдержал бы в коммерческом плане конкуренции с труппой Бургундского отеля и театром Марэ, которые опережали его в плане трагедий.
Так что именно Мольер-драматург позволял выжить труппе Мольера-актера. И лучшее тому доказательство, помимо верности его товарищей, состоит в том, что его кончина стала вехой в истории парижского театра: с его уходом образовалась пустота, так что пришлось даже провести реорганизацию театров.
Но хотя Мольер стал единственным актером, чьи драматические произведения пережили своего автора, в свое время у него было много последователей. Не говоря уже о провинциальных труппах, имевших в своих рядах актеров-поэтов вроде Розидора, Доримона или Нантейля, к которым мы еще вернемся, парижские театры предоставляют нам множество примеров: в театре Марэ — Шевалье; в Бургундском отеле, а потом в «Комеди Франсез» — Монфлери-сын, Пуассон, Отрош,{62} де Вилье, Шаммеле, Брекур, Розимон, Мишель Барон,{63} Жан-Батист Резен, прозванный «малым Мольером», Данкур, Латюильри, Легран,{64} снабжавшие свои театры почти исключительно комедиями. Но вероятно, что не раз актеры-поэты были только подставными лицами или же скромными соавторами драматургов, не желавших, чтобы злые языки трепали их имена по пустякам.
Итак, между актерами, авторами и актерами-драматургами существовало тесное сотрудничество. Каждый из них был привязан к одному театру, отстаивал его интересы и участвовал в его кознях. Ибо все три парижских театра вели между собой ожесточенное соперничество, порой оборачивавшееся войной. «Смешные жеманницы» и «Школа жен» столкнули труппу Мольера с труппой Бургундского отеля в борьбе, которая порой выходила за рамки приличий и учтивости.
Одна из самых распространенных форм такой коммерческой конкуренции состояла в том, чтобы один театр перехватил сюжет, представленный соперничающей труппой: это подстегивало любопытство публики и в конечном счете шло на пользу обеим пьесам. Такая практика зародилась достаточно давно: когда некий Гужно опубликовал в 1633 году «Комедию комедиантов», выводившую на сцену актеров театра Марэ, Скюдери ответил ему на следующий год комедией с похожим названием, где действовали актеры Бургундского отеля.
На протяжении века возникла целая серия двойных пьес, противостоящих друг другу: в 1635 году театр Марэ противопоставил «Клопатру» Мерэ «Клеопатре» Бенсерада, которую играли в Бургундском отеле, а чуть позже Кино переделал «Удары Любви и Фортуны» Буаробера в трагикомедию с тем же заглавием, которую спешно поставила королевская труппа. Донно де Визе пишет:
«Мало того, что у меня должны быть люди, которые придут посмотреть мою пьесу, мне нужны еще и те, что станут расхваливать ее в других театрах и выступать против новых пьес, которые противопоставят моей».
Публику побуждали принять чью-то сторону, поддержать интригу. Это была лукавая игра, которая всегда ей нравилась. «Смешным жеманницам» Мольера Сомез, по наущению королевских комедиантов с улицы Моконсей, противопоставил «Настоящих жеманниц»; какой-то бумагомарака переделал «Мнимого рогоносца» в «Мнимую рогоносицу»; «Школа жен» и «Тартюф» породили знаменитые споры и сатирические комедии; против «Версальского экспромта» сын Монфлери выставил, точно боевую машину, «Экспромт в отеле Конде»; как только итальянцы занесли во Францию испанский сюжет о Дон Жуане, в него вцепились все: де Вилье, Доримон, Мольер, а после него — Розимон; в один год были представлены две «Матери-кокетки» — одна Донно де Визе, другая Кино, которые взаимно обвиняли друг друга в плагиате, чем потешали галерку; когда Мольер поставил «Александра Великого» Расина, Бургундский отель еще прежде, чем переманил к себе автора этой пьесы, впопыхах возобновил постановку «Александра» Буайе; в 1668 году Мольер противопоставил «Безумный спор» Сюблиньи «Андромахе» Расина; два года спустя на ристалище выехали Корнель и Расин с двумя «Берениками» — их спор, если верить Фонтенелю, поощряла Генриетта Английская; Мольер, не простивший обиды Расину, противопоставил его «Ифигении», сыгранной в Бургундском отеле с очень большим успехом, одноименную пьесу Леклера и Кора, которая провалилась после пяти представлений, а Расин добил ее эпиграммой:
Закончили два друга-рифмача
Трагедию, но нет конца раздорам.
— Я автор! — клялся, в грудь себе стуча,
Леклер. — Нет, я! — кричал Кора с укором.
Хотел то первый, то второй поэт
Соперника низвергнуть с пьедестала.
Но только пьесу выпустили в свет,
Слыть автором желающих не стало.[16]
Шаппюзо, по своему обыкновению, слишком оптимистичен; по поводу единоборства соперничающих пьес он пишет:
«Они стараются порой навредить друг другу мелкими уловками, но никогда не доходят до большого скандала». Правда, он писал это в 1673 году; четыре года спустя история с «Федрой» резко опровергла его утверждения.
Эту историю следует пересказать подробно, ибо она являет собой яркий пример театральных интриг. «Федра» Расина с Шаммеле в главной роли была представлена в Бургундском отеле 1 января 1677 года. Однако партия «корнелевцев» под руководством герцогини Бульонской и ее брата герцога Неверского, весьма враждебная к Расину, нашла ему соперника в лице Прадона, который спешно состряпал трагедию «Федра и Ипполит», поставленную в отеле Генего через два дня после пьесы Расина.
Герцогиня Бульонская, затеявшая всю эту интригу, заранее скупила все ложи в обоих театрах на шесть представлений, чтобы устроить шумный прием пьесе Прадона и пустоту на пьесе Расина. Вечером 1 января госпожа Дезульер, входившая в заговор поклонников Корнеля, сочинила сатирический сонет против трагедии Расина, получивший широкое распространение в салонах и литературных кругах. В сонете кратко излагался сюжет пьесы, при этом сочинительница ядовито отзывалась о «заумных» стихах Расина и о их чересчур христианском духе, а также отпускала шпильки в адрес мадемуазель д’Эннебо, дочери Монфлери, которая играла роль Арисии.
Расин, жертва бесчестных происков герцогини Бульонской и насмешек госпожи Дезульер, воспринял сонет очень болезненно и подбил своих друзей написать ответ в той же форме, с теми же рифмами. Те подумали или притворились, что подумали, будто первый сонет написал герцог Неверский, поэт-любитель, и обратили свои стрелы на него. Контратака была остроумной, хоть и резковатой. Авторы делали явный намек на чересчур нежные, на их взгляд, чувства, которые герцог Неверский питал к своей сестре Гортензии Манчини, герцогине Мазарини, — сумасшедшей авантюристке.
Герцогу Неверскому не понравился этот сонет, который он приписал Расину и Буало, хотя оба от него открещивались. Но даже если не они его сочинили, то он их очень позабавил. Герцог срифмовал еще один сонет, в котором заявил, что палкой отомстит за свою поруганную честь.
Дело портилось, принимая опасный оборот. Потребовалось вмешательство самого Великого Конде. Он не питал особой нежности к герцогу Неверскому, племяннику Мазарини, который некогда заточил его в Бастилию.
Поэтому принц заявил, что «отомстит, как за самого себя, за оскорбления, нанесенные двум умным людям, которых он любит и берет под свое покровительство». Перед раскатами этого громового голоса герцог Неверский затих. Расин и Буало дешево отделались.
История с сонетами позабавила весь Париж и послужила отличной рекламой обеим пьесам, которые имели неплохой успех. Единственная разница была в том, что трагедия Прадона сошла с репертуара навсегда после трех месяцев представлений, а пьеса Расина до сих пор восхищает всех образованных людей и любителей театра.
Итак, театральная жизнь в Париже XVII века была оживленной, полной споров и интриг. Для наших комедиантов все такие происшествия были как манна небесная, поскольку благодаря им сборы сыпались, как из рога изобилия.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ