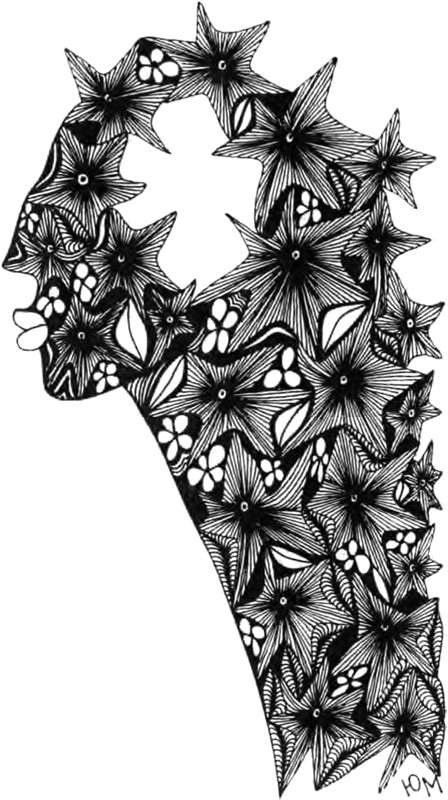
Озарение
«Давайте будем наболевших мест
Касаться мягко…»
«Давайте будем наболевших мест
Касаться мягко…»
Подоконники той редакции были вровень с травкой и одуванчиками, но гораздо ниже кустов и снежных сугробов. На травке в ожидании славы паслись телята, козлята, цыплята, а на скамейке мореного дуба в приемные дни волновались медведи, слоны, кенгуру и тигры. К вечеру там подчистую съедали всю траву с одуванчиками. Но за ночь они опять вырастали ровно в том же количестве, поштучно и каждый на своём месте.
Журнал этот в те времена был совсем молодым, и туда приходили совсем молодые химики, физики, слесари, геологи, санитары, электромонтёры, врачи, инженеры, токари, пастухи (не перечислять же все на свете профессии!..), студенты и школьники, пижоны и оборванцы, иногда и скелеты с каторги.
Авторы, которым стукнуло тридцать, попадали в разряд пожилых — и справедливо! — они ведь успевали пожить, всего навидаться, нахлебаться, заматереть
в битвах за существование и обретение знаменитого в те времена «жизненного опыта».
Слово «опыт» — прошу обратить внимание! — в обнимку со словом «жизненный» дерзким образом настаивает на том, что всякая жизнь — это эксперимент, особый род деятельности, при котором, в силу живучести, даже абсолютное поражение способно вдруг обернуться блестящей победой. И тому немало чудесных примеров на каждом шагу и со всех сторон, что лично меня вдохновляет круглые сутки, всегда и сейчас, и после сейчаса.
Однако, самая роковая ошибка — думать, будто научный опыт и опыт жизненный совпадают в главном. Ничуть не бывало!.. Вся интрига именно в том, что научный эксперимент исследует явление «в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий», — как сказано в словаре, лежащем на подоконнике.
Но жизненные условия никогда не повторяются с лабораторной точностью, и поэтому о многократном повторении жизненного опыта и его результата не может быть и речи. И, Боже вас упаси, становиться на этот гиблый путь, имя которому — эпигонство. А в нашем-то деле, производящем художественный продукт, это — худшее, что может с вами случиться. Эпиго-нить чужую манеру и стиль — мелкая неприятность, а крупная — эпигонить чужую судьбу…
Итак, в один прекрасный весенний день один пожилой, тертый жизнью известный прозаик, лет тридцати, правил в этом журнале вёрстку своей замечательной повести, предвкушая грядущий триумф, критические нападки, читательские восторги, узнавание физиономии автора в метро и на улицах.
— Старик, исчезни! — дружески попросил он парня, который принёс в авоське рукопись своего романа «Автостопом в Антарктиду» и ждал редактора, чтобы вручить ему три килограмма своих бессонных ночей
и мучительных откровений. А редактора срочно вызвали на летучку.
Парень с «Автостопом» исчез и устроился на лавочке обозрения, за окном, откуда прекрасно просматривалась редакционная кают-компания, довольно мглистая. Из-за окон, что стояли почти на земле, и комнатёнок наподобье кают, редакция изнутри была очень похожа на дрейфующее ледокольное судно, которое застряло во льдах полярного дня.
— Значит, так!.. — сказал редактор, пришедший с летучки. — Надо вырезать полтора листа. Срочно! Только без паники. В книге дашь целиком. А у нас пойдет журнальный вариант. Ничего страшного. Так делают очень и очень многие знаменитости. Главный — в Италии, а Клещин боится худшего, он сам с утра позвонил Хурмалаеву и спросил его в лоб: «Тебе не кажется, что?..» Хурмалаев ответил категорически дружелюбно: «Не надо дразнить гусей!»
Раздался вопль из кают-компании, трава с одуванчиками прогнулась и полегла, парень с «Автостопом» прижался к рядом сидевшему тигру, в сумочке молодой кенгуру заплакал детеныш.
— Давай сократим пять-шесть-семь острых мест, — продолжал мудрый редактор в каюте, — вещь от этого только выиграет, она станет лиричнее, это придаст ей особое обаяние недосказанности, появится больше воздуха и простора, таинственная загадочность, ароматная горечь… Когда вещь так насыщенна и талантлива, все ей на благо. Мы-то с тобой знаем, что никакие вымарки не испоганят сильную вещь. Вспомни «Мастера и Маргариту»!..
— Сволочи! Убийцы! Мразь! Палачи! — глотая слёзы, прошептал страшным загробным голосом бедный автор, белый как снег. — Я выброшусь из окна! Немедленно! У вас на глазах!
И он ринулся весь целиком за подоконник, с отчаянной яростью, озаряющей самоубийц.
О ужас, земля была так близко, что знаменитый прозаик упёрся в неё, как танцор, приседающий в гопаке на пастбище, где другие жуют траву с одуванчиками.
Это было страшнее смерти, это было её оскорблением, насмешкой над ней, надругательством, унижением и позором. Пережив такое, можно запросто, без никакого насилия над собой вырезать даже полтора листа из маленькой повести, на что автор немедленно дал согласие, хлопнув стакан водки для успокоения и закусив одуванчиками.
Однако его безумный поступок произвёл сильное впечатление на редактора, который позвонил начальнику самого Хурмалаева и добился, что повесть пошла без никаких сокращений!..
Паренёк же, который всё это видел своими глазами и слышал своими ушами, сидя на лавочке с тремя килограммами романа в авоське, внезапно почувствовал сильный прилив озарения: «Вот ведь как это делается!.. Ловкий какой трюк!..» И он твердо решил повторить потрясающий опыт, если его роман откажутся напечатать.
Через полгода редактор возвратил ему рукопись, сопроводив её очень и очень ободряющими словами о самобытности языка, сюжета, интриги. И попросил принести в следующий раз что-нибудь малообъёмное, но такого же качества и в таком же духе. Был конец ноября, ветер, снег и промозглая холодина. Паренек подошел к окну и надавил на него ладонью, но окно не распахнулось. Оно было закрыто на все железки и, хуже того, заклеено. Он злорадно подумал: «Приду весной…».
А весной редакция переехала в другое здание, на высокий этаж. Никакой там травы с одуванчиками, никаких кенгуру и подобных прекрасностей. Только в глубоком низу, на бесконечном дне, трутся, вертятся, гадят и мчатся транспортные потоки.
— Опоздал я, опоздал оказаться в нужное время и в нужном месте!.. — подумал он с горечью. — Но всё равно я теперь знаю, как всё это делается, и при случае повторю этот опыт с блеском. Кто однажды видел такое… Да что говорить!..
Однажды он ехал в одном трамвае, а я в другом, и были мы не знакомы — до полной неузнаваемости. И вдруг ни с того ни с сего едет он мимо и спрашивает:
— Не вы ли там были, когда нашло озарение?
Делаю вид, что сплю в ритме трамвая, а он говорит
в мою сторону:
— Тигры давно пробились, кенгуру теперь в шоколаде, слоны процветают. А вы, я помню, дали тому артисту пять одуванчиков, он водку ими закусывал после истерики. А уж после побега, сами знаете куда, он хвастался, что здесь по ночам сочинял доносы на близких друзей, и на вас в том числе. Оттачивал мастерство интриги.
Оттачивал, оттачивал… и сходил с ума в приступе озарения, припадочно поглощая топливо страшной и сладкой доносительской тайны, власти над судьбами. Такая эротика, сладострастие древних богов, содрога-тельный блуд озарения, скандальный восторг многобожия, солнечный ветер архаики…
Сошёл он с ума, сошёл. В зареве всех возможностей. Кто однажды видел такое, тот, если очень ему повезло, знает противоядие, которое не варят, не жарят, а едят исключительно в сыром виде. Как, например, огурцы. А тайна таких огурцов засекречена, как партизаны в космосе. Вот подсказка: всё самое невероятное, что происходит с кем-то в нашем присутствии, происходит и с нами. Может быть, даже совсем не с кем-то, а только с нами. С нами только и происходит.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ