ТОВАРИЩ ВАНЯ

Перевод с молдавского Е. ЗЛАТОВОЙ и 3. ШИШОВОЙ
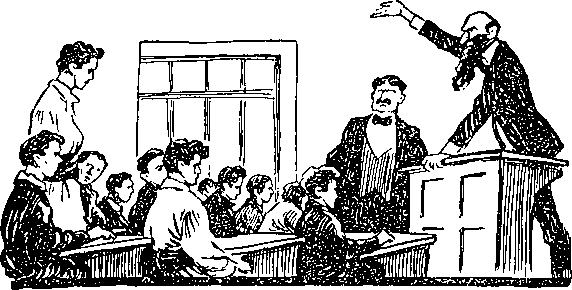
 ольшой, позеленевший от времени колокол, который своим надтреснутым звоном ежедневно чуть свет поднимал учеников на работу, сейчас возвестил окончание смены.
ольшой, позеленевший от времени колокол, который своим надтреснутым звоном ежедневно чуть свет поднимал учеников на работу, сейчас возвестил окончание смены.
Начинались уроки.
Спустя несколько минут ребята расселись по своим местам в классе в ожидании учителя. В ушах у них еще звучал грохот молота, и с лиц не сошло напряжение физического труда.
Они мало походили на школьников, хотя, опуская засученные рукава, вытирая замасленные ладони о штаны и куртки, готовили все необходимое к занятиям.
Оживленное перешептывание, шорох тетрадей, скрип скамеек наполняли классную комнату нетерпеливым и веселым гулом. Однако достаточно было брякнуть щеколде, как все мгновенно замирало и головы поворачивались к двери. В этот момент разношерстное сборище подмастерьев в заплатанной одежде, до того замасленной, что ее уже никак нельзя было ни оттереть, ни отмыть, начинало походить на школьный класс. Два часа! Только на эти два часа в сутки получали они право по-настоящему чувствовать себя учениками «художественно-ремесленной школы».
В который раз уже скрипнула дверь, но опять это был не учитель: все увидели взъерошенные волосы и худощавую, морщинистую физиономию ученика Пенишоры. Бросив пугливый взгляд на кафедру и убедившись, что она еще пустует, Пенишора кинулся к своему месту. Все разочарованно отвели глаза, затихший на мгновение гул возобновился.
— Разве звонка еще не было? — спросил Яков Доруца, беспокойно ерзая на скамье.
— Был, — повернулся в его сторону Горовиц.
Он серьезно, словно собираясь что-то сказать, посмотрел на Доруцу, но снова углубился в черчение. Из-под пера Горовица обычно выходили такие сложные чертежи, в которых только он один и мог разобраться.
— Ну и что, если был? Подумаешь, велика важность! — насмешливо бросил Ромышкану.
Взглянув на его круглую самодовольную физиономию с уже пробивающимся рыжеватым пушком, Доруца вдруг вышел из себя:
— Да, для нас это «велика важность». Мы пришли сюда учиться!.. Тебе что: повернешь оглобли обратно домой, к своим десятинам, и по-о-шел ковыряться мотыгой, пока не сведет поясницу!
— Доруца! — потянул его за рукав сосед по парте, указывая головой на приоткрывшуюся дверь.
Однако вместо долгожданного учителя Хородничану на пороге показался паренек, до смешного маленький, настоящий мальчик-с-пальчик. Это был Федораш, младший братишка Доруцы, первоклассник. Его, по-видимому, нисколько не смутили ни напряженная тишина, воцарившаяся в момент его появления, ни хохот, которым затем разразился класс. Глубоко засунув руки в карманы штанов, Федораш с независимым видом проковылял на своих кривых ногах к задней парте, где сидел Доруца.
— Что, у вас тоже пустой урок? — спросил Яков брата. — Слышите, ну разве это школа! — с негодованием обернулся он к товарищам. — Только и знаешь: плата за учение, да надзиратели, да номерок на рукава, да наказания… Ну и работа, конечно, ее нам хватает!.. А ты… — повернулся он к Ромышкану. — По-твоему, это неважно, что мы не умеем ни читать, ни считать по-людски, ни нацарапать на бумаге простой чертеж. Эх, чернорабочих готовят из нас, а не мастеровых!
Чувствуя, что все настроены против него, Ромышкану разозлился:
— И чего вам надо, голодранцы! «Школа, школа»! Подумаешь, «учеба»! — Однако, смущенный неприязненными взглядами товарищей, он сбавил тон. — Учись, если тебе хочется, раз уж ты такой умный! — обратился он уже к одному Доруце и, спокойно усевшись за парту, раскрыл садовый нож, болтавшийся на его жилете на блестящей медной цепочке, хозяйственно попробовал его лезвие на ногте большого пальца и принялся оттачивать карандаш. — А наши мужицкие поясницы, — пробормотал он, — не твоя забота!
Столпившись вокруг спорящих и навалившись локтями друг другу на плечи, ребята с интересом ожидали продолжения спора. Но Доруца уже отвернулся и, покусывая мелкими зуба-ми фанерную линейку, о чем-то задумался, забыв о Ромышкану.
Никто не заметил, как в класс вошел надзиратель Стурза, которого администрация школы величала «педагогом». Заложив руки за спину, он остановился неподалеку от группы ребят и, когда воцарилась тишина, шагнул к кафедре, поднял плечи и многозначительно откашлялся.
— Господин Хородничану сегодня не пришел, — объявил он. И сухо, тоном приказания, добавил. — Дирекция предлагает вам отправляться на работу!
Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая лишь скрежетом ножа Ромышкану по графиту. Своим надзирательским нюхом уловив в этой тишине нечто необычное, Стурза так и забегал глазами по сторонам.
Взгляд его скользнул по иконе, висевшей в углу, по суровым лицам господарей со шлемами на головах и булавами в руках, хмуро глядевших на него из старинных рам. А вот и он, в золотой короне… Как выделяются на лице его величества розовые, полные губы…
Спохватившись, надзиратель взглянул на учеников, отчужденно и, как ему показалось, враждебно смотревших на него. Только сейчас обратив внимание на маленького Федораша Доруцу, который, сунув руки в карманы, тоже, как казалось Стурзе, вызывающе уставился ему прямо в глаза, надзиратель накинулся на мальчика.
— А тебе, блоха, чего здесь надо? Сейчас же убирайся из класса! Слышишь, поживее! — заорал он так, что у него даже перехватило горло. Затем, усмотрев в медлительных и неловких движениях Федораша издевку над собой, бросился к малышу. — Вон!
Одним прыжком подскочив к Федорашу и схватив его за руку, он отшвырнул мальчика к дверям.
Потеряв равновесие, маленький Доруца упал, ударившись лицом о косяк двери. Однако он тут же вскочил. На его лице, белом, как известь, голубым пламенем горели глаза. Осторожно ощупывая нос, Федораш попытался даже улыбнуться, но глаза его были полны слез, а улыбка получилась похожей на гримасу.
Выставив за дверь малыша, Стурза вынул из кармана платок и вытер руку, которой только что дотронулся до Федораша.
— Образина этакая! — пробормотал он сквозь зубы. Затем с суровым лицом повернулся к классу, шагнул к кафедре, без всякой надобности отряхнул манжеты и, заложив руки за спину, тоном, не допускающим возражения, произнес. — А теперь ступайте в мастерские, слышите!
Пенишора, сидевший на первой парте, поднялся, быстро собрал тетради и, сутулясь под взглядом надзирателя, медленно зашагал к выходу. Взявшись уже за щеколду двери, Пенишора оглянулся и вдруг заметил, что, кроме него, все остались на местах. Лица у ребят точно окаменели. Пенишора в замешательстве остановился и быстро-быстро заморгал редкими ресницами. Стараясь ступать как можно тише, он снова шмыгнул на свое место.
Проводив Пенишору взглядом, надзиратель крадущейся походкой подошел к первой парте и оперся на нее ладонями. Глаза его вдруг засверкали.
— Что, работать отказываетесь? Забастовка? — прошипел он.
Все, что последовало за этим: рычание, бесцельная беготня по классу, беспорядочная жестикуляция, топанье ногами, — все это выражало какую-то дикую, бессмысленную злобу. Наконец, словно исчерпав свою ярость, Стурза распахнул дверь. Из коридора доносился шум. На пороге надзиратель остановился и еще раз обвел взглядом учеников:
— Забастовка?! Ну хорошо же! — и исчез.
С одной из последних парт поднялся сухопарый нескладный верзила с маленькой головой огурцом. Его живые, насмешливые глаза странно выделялись на бледном скуластом лице. Несмотря на рост, долговязому парню нельзя было дать его восемнадцати лет. Это был Васыле Урсэкие.
В два шага Урсэкие очутился около кафедры. Подбоченясь, он повернулся и сплюнул сквозь зубы в сторону двери.
— Счастливого пути и скатертью дорога! — крикнул он и засмеялся.
Никто его, однако, не поддержал. Нисколько не смущаясь этим, Урсэкие вернулся на свое место, уселся, согнув ноги, такие длинные, что колени торчали над партой, и принялся что-то озабоченно царапать в тетради.
За окнами, выходящими на площадь, висели серо-голубые лоскутки неба. Еще холодное мартовское солнце закатывалось за низкие хатенки, разбросанные как попало по узким и грязным уличкам, оставляя меркнущий, сумеречный свет. Гурьба ребятишек, радуясь окончанию зимы, яростно гоняла по площади тяжелый тряпичный мяч.
По классу, как это обычно бывает в отсутствие учителя, снова побежал шепоток.
— Значит, забастовка? — спросил кто-то взволнованно.
— Наверно, за директором пошел! — громким шепотом испуганно отозвался Валентин Дудэу, крепкий, широкоплечий парень, прозванный «маменькиным сынком».
— Ну и пусть! — беспечно пробормотал его сосед Доруца, не отводя от окна взгляда, устремленного куда-то поверх крыш.
Доруца думал о брате. Хотя Федораш был на три года моложе, его обычно принимали за старшего, несмотря на маленький рост: не по летам серьезный, озабоченный и постоянно нахмуренный, Федораш напоминал их отца, умершего пять лет назад.
Но, когда сбитый с ног надзирателем Федораш растянулся на полу, Якову он показался вдруг совсем маленьким и слабым. Сердце защемило от острой жалости. Эх, почему он не бросился на защиту? Почему не схватил Стурзу за его прилизанный, напомаженный чуб? Взял бы да…
— Атас! — подал кто-то сигнал тревоги.
На пороге появился директор школы господин Фабиан. Ученики вскочили, как по команде «смирно». Позади директора показалась уродливая фигура Стурзы, но Фабиан, пренебрежительно махнув ему рукой, захлопнул дверь перед самым носом надзирателя.
Высокий и внушительный, директор уселся за кафедру, раскрыл журнал в синем переплете и принялся его перелистывать.
— Садитесь! — сказал он, помолчав, улыбнулся с подчеркнутым добродушием, поблескивая двумя золотыми зубами, и начал перекличку: — Дудэу Валентин!
— Есть! — как ошпаренный подскочил тот.
— Попрошу ко мне! — Директор коротко глянул на него. — Забирай свои манатки из парты.
«Маменькин сынок», взволнованный, сложил книги и тетради и подошел к директору, глядя на него со страхом, словно в ожидании приговора.
— Твоя мать думает платить за учение и общежитие?
— Господин директор… — начал Дудэу умоляюще, но под взглядом господина Фабиана онемел и опустил голову.
Директор молча размышлял о чем-то некоторое время и наконец произнес:
— Хорошо, ступай…
Повернувшись волчком, Дудэу двинулся было к своей парте.
— …в мастерскую, на работу! — закончил директор небрежно.
Не прошло и секунды, как Дудэу вылетел из класса.
— Пенишора Григоре!
Держа наготове сложенные тетради, Пенишора подошел к кафедре.
— Сирота… отец погиб на фронте… вы ведь знаете… вдова… вдова погибшего на войне… — забормотал он, быстро моргая глазами.
— Что, что? Ты уже вдовой стал? Браво!
Директор бросил веселый взгляд на класс, словно приглашая посмеяться своей шутке. Но лица учеников оставались серьезными.
Опустив голову, Пенишора нерешительно направился к дверям. Оттуда он виновато оглянулся на класс и вышел.
— Фретич Александру! — вызвал директор совсем другим, неожиданно ласковым тоном.
Не скрывая своего расположения, он внимательно смотрел на подходившего к нему Фретича.
— Ну, Лисандр, — обратился он к нему тихо, с улыбкой, — почему же ты не пришел показаться мне в новом костюме? — Господин Фабиан поднялся, шагнул к парню и принялся со всех сторон оглядывать его костюм из синей саржи. — Тебе самому-то нравится? — спросил он, легонько потрепав Фретича по руке.
Тот ничего не ответил.
— Ну, ступай и ты в мастерскую, мальчик, — сказал директор, кладя ему руку на плечо.
— Скажите, господин директор, почему нас не обучают грамоте? — спросил вдруг Фретич, сбрасывая с плеча руку директора. — Ведь считается, что мы в школе учимся, и в программах так написано!
Слова Фретича прозвучали резко. По классу прошло легкое движение.
— Ну, довольно об этом, ступай, Лисандр… Не бойся, ты получишь образование… Урсэкие Васыле!
Скрипнула тесная парта, и длинные, как ходули, ноги понесли между рядами парт тщедушную фигуру Урсэкие.
Он подошел к директору и, опершись локтями на кафедру, наклонился, словно желая разглядеть какую-то запись в классном журнале.
— Плата! — угрожающе произнес директор, все еще косясь на Фретича.
— Понятно… — произнес Урсэкие, как бы размышляя над записью в журнале, затем хладнокровно направился к дверям.
— Куда?! — закричал вдруг директор.
Но костлявые плечи Урсэкие уже исчезли в приоткрывшейся двери. Директор вскочил с места, не в состоянии сдержать гнев.
— Горовиц Давид! — крикнул он отрывисто.
Вызванный тихонько собрал тетради и, прошагав мимо директора, спокойно вышел из класса.
— Ромышкану Филипп!
Лицо господина Фабиана искривилось и побледнело от бешенства. Рука, которой он пытался перелистывать страницы классного журнала, дрожала. А ученики, будто сговорившись, молчаливой толпой направились к выходу.
В нерешительности, не зная, как отнестись к такой неожиданной и странной выходке, директор захлопнул журнал. Взгляд его привлекла выскользнувшая оттуда сложенная бумажка. Господин Фабиан быстро пробежал ее глазами. Словно ужаленный, он смял листок в кулаке и быстро сунул его в карман.
Кучка учеников еще проталкивалась к двери. Директор так и впился в них подозрительным взглядом.
— Через пять минут прикажу сделать перекличку в мастерских! — крикнул он им вслед. И, понимая комичность своего положения — ученики уходили, повернув к нему спины и не обращая внимания на его слова, — господин Фабиан выскользнул из класса.
Весть о том, что ученики третьего — четвертого класса отказались выйти на работу в часы, предназначенные для учебы, что сам господин директор отправился к ним со своим проклятым синим журналом и что надзиратель Стурза мечется по коридору, как зверь в клетке, с быстротой молнии разнеслась по мастерским. Взволнованный этим слухом, кузнец Георге Моломан опрокинул ковш с песком, незаметно толкнув его ногой. Вот так! Теперь есть предлог выйти из мастерской! Ухватив пустой ковш за длинную железную ручку, кузнец вышел во двор за свежим песком. Дойдя до площадки в глубине двора, он остановился возле кучи железного лома, откуда было видно все здание школы. Здесь Моломан начал пристально вглядываться в окна классов, словно стараясь разглядеть что-то одному ему известное. Затем перевел рассеянный взгляд на груду металла, валявшегося у его ног. Глубоко задумавшись, он машинально постукивал ручкой ковша по обломку чугунного колеса шестерни.
— Тронулось, тронулось и здесь… Трансмиссия… — пробормотал он, поглядывая, словно с чувством признательности, на зубчатый кусок чугуна. Затем оглянулся и по боковой дорожке зашагал к зданию школы.
Издали он увидел директора, который, вобрав голову в плечи и не глядя по сторонам, поспешно направлялся в канцелярию. Впереди него, сбившись шумной сплоченной гурьбой, шли к мастерским ученики. Моломан хотел было уже вернуться в кузню, но непонятное ему самому побуждение заставило его войти в здание школы. Он подошел к двери с табличкой «Класс III–IV» и тихо, осторожно приоткрыл ее. Никого! Он переступил порог, машинально снял кепку и остановился.
— Школа… — прошептал он с благоговением, жадно окидывая взглядом доску, кафедру, географическую карту.
Моломан вздохнул и подошел поближе к партам. Только теперь он с удивлением обнаружил, что в глубине класса, за одной из парт сидел, уронив голову на руки, ученик. Моломан быстро подошел к нему.
— Доруца! — воскликнул он, обрадованный встречей. — Ты что сидишь здесь, братишка, один-одинешенек? Ведь все пошли на работу.
Доруца поднял на него побелевшее от злобы лицо с красными следами пальцев — так сильно сжимал он его руками. Узнав кузнеца, паренек окинул его печальным взглядом.
— Ух, вырвать бы ему этот чуб! — пробормотал он, продолжая думать о своем.
Моломан слушал его в недоумении. Доруца схватил кузнеца за руку:
— Холуй, цепной пес дирекции, этот Стурза!.. Понимаешь, что получается? Вот теперь и господин Хородни-чану не приходит больше на уроки, — добавил он с горечью. — Издеваются, бьют… — Доруца требовательно и строго глянул на Моломана. — Как они смеют бить учеников, дядя Георге?
Доброе смуглое лицо Моломана потемнело. Он потер узловатыми пальцами скулы, поросшие колючей щетиной. Стараясь не поддаваться охватившему его гневу, кузнец спокойно заговорил:
— Слушай, брат, хоть ты и «ученик», как пишется там у вас, но… — Моломан с трудом подбирал слова. — Но ты все-таки слесарь. Пролетарий. И все тут. Верно говорю? — спросил он строго. — Ведущая ось вертится? — Он осмотрелся и продолжал, понизив голос: — Значит, нужен приводной ремень, передача… для связи… Понимаешь, парень? А господина Хородничану ты еще узнаешь. Многое еще узнаешь. А сейчас, — заключил он решительным тоном, — сейчас иди на работу.
Кузнец посмотрел на Доруцу, словно испугавшись, что сказал слишком много. Парень ловил каждое слово. Лицо его горело.
— А знаешь, как сегодня Фретич отделал Фабиана? — спросил он кузнеца.
— А что такое сказал Фретич? — нахмурился тот.
— Ох, и отбрил он его! Но это что — слова! А ведь есть смельчаки. Знаем мы про них… Вот мы и пойдем прямехонько к директору в канцелярию и скажем ему: «Берегитесь! Товарищ Ваня на свободе!»
Моломан еще больше нахмурился.
— Откуда ты это взял? Что это за птица — товарищ Ваня? — спросил он сердито, радуясь про себя. Потом махнул рукой. — И главное, кому ты это собираешься говорить — директору!
— Знаем, знаем! — сказал Доруца, задорно улыбаясь. — Дядя Георге, а ты видел товарища Ваню? Как бы мне хотелось хоть одним глазком глянуть на него! Ведь он прячется только от полиции? Я рассказал бы ему про нашу школу…
— Ну, раз такое дело, — прервал его кузнец, — я тебе вот что скажу, парень: иди работай. Это раз. Говори потише, а еще лучше совсем прикуси язык. Это два. А для таких, как ты, существует комсомол. Это три. Понял?
— Понял, — прошептал Доруца, вытягиваясь в струнку.
— А теперь ступай. Да постарайся вечером найти себе какую-нибудь работу в кузнице и тащи с собой Фретича.
Кузнец ушел. А Доруца, взволнованный, перебирал в памяти каждое слово этого необычного разговора.
Моломана он знал как умелого кузнеца-сезонника. Его наняли потому, что он хорошо сваривал оси для повозок и мог выполнять другие выгодные заказы, в которых дирекция школы была заинтересована. Моломан не отличался грамотностью и стыдился этого. Он был преисполнен уважения и даже зависти к тем, кто сыпал техническими терминами, такими, что и не выговоришь. Ученики любили его за мастерство, за честность, за отеческое отношение к ним.
Теперь Доруца совсем по-новому увидел этого человека. Столько скрытой силы было в его словах! Он как-то сразу вырос в глазах юноши и в то же время стал еще роднее, ближе.
Потом Доруца вспомнил совет кузнеца: немедленно идти на работу.
— Где это ты запропал, черт возьми? — набросился на него брат. — Все пошли на работу, сейчас начнется перекличка, а он куда-то закопался, как крот! Подумал бы о матери!
Федораш, по обыкновению, принялся отчитывать брата, но на этот раз Яков прервал его, улыбаясь:
— Думаю, думаю… это ты говоришь, как крот!
Он рассеянно оглядел двор. Там в опорках на босу ногу стоял кузнец Моломан. Тихо насвистывая, он наполнял ковш свежим песком.
Шумное шествие было коротким — от класса до дверей мастерских. Переступив порог, гурьба подростков рассыпалась. Молча ученики занимали свои рабочие места.
Длинное, полутемное помещение слесарной мастерской. Заплатанные осколками стекла или плотно заткнутые пучками соломы окна, облупившийся и закопченный потолок.
Здесь и кузница: пузатые мехи, хрипящие, как испорченная волынка, наковальня, неведомо каким чудом расколотая, с коническим острым концом, который как будто норовит тебя кольнуть.
Рядом — автогенная сварка; нестерпимое зловоние карбида, копоть. Дым ест глаза, душит кашель. Этот угол всего ненавистнее ребятам.
Даже весенний ветерок, проникающий сюда сквозь щели в дверях, отдает сыростью, холодом и пронизывает до костей.
Но кто думает здесь об ученике? Какие у него права? Захочет дирекция — и выбросит тебя из школы, оставит без хлеба и крова. На ее стороне и мастера, и учителя — все. Захочет директор — и не будет у тебя книжки подмастерья. Нанимайся тогда снова в ученики к хозяйчику!
Пенишора, который только успел вынуть долото из ящика с инструментами, застыл в задумчивости. Горовиц с головой ушел в размышления над каким-то механизмом собственного изобретения. Остальные топтались без дела около строгального станка, подле мехов или стояли, опершись на верстаки. Лишь кое-где слышался монотонный скрежет напильника, грызущего железо.
Вошел надзиратель. Все бросились по местам. Стурза прошелся по мастерской. Убедившись, что ребята работают, он все-таки старался уловить что-то в выражении их лиц, вынюхать что-нибудь.
Около горна остался только Моломан со своими помощниками. Захрипели мехи. Завизжал затупившийся резец станка. Но все это продолжалось ровно столько времени, сколько Стурза находился в мастерской. После ухода надзирателя все приняло прежний вид. Одни снова сбились у горна, другие остались на своих местах, но работать перестали.
Заплатанные стекла окон все больше темнели. На дворе еще были сумерки, а в мастерской уже горели два мигающих подслеповатых фонаря, бессильные разогнать тени из углов.
Пора бы уж колоколу звонить на ужин, но он почему-то молчал.
Только двое учеников были по-настоящему заняты своей работой: Валентин Дудэу — «маменькин сынок» и маленький Федораш Доруца. Верзила Дудэу так налегал на инструмент, что опилки летели во все стороны. Федорашу тиски приходились по плечо. И хоть напильник его еле царапал металл, малыш работал без устали, напрягая все силы.
Такими и предстали они пред взором директора: один — крупный, плечистый, другой — слабый и щуплый, оба старательно выполняли его приказ.
Директор помедлил на пороге слесарной, испытующе вглядываясь в полутьму, где мельтешили какие-то тени, а затем неслышно двинулся по проходу в глубь здания. По узкой винтовой лестнице он поднялся в мастерскую жестянщиков.
Здесь «господствовал» Урсэкие. Старший среди ребят, он и ростом был выше их всех. Но главное его преимущество перед остальными товарищами было в том, что он пользовался доверием старого мастера-жестянщика Цэрнэ. Сгорбленный, морщинистый, с землистыми впалыми щеками, с седыми прокуренными усами, с вечным окурком в зубах, Цэрнэ, казалось, всегда плавал в желтоватых клубах дыма.
В его будке, в самом углу мастерской, куда имел доступ только Урсэкие, были расставлены и разложены различные склянки с химикалиями, странные инструменты, непонятные шаблоны — все, покрытое толстым слоем пыли. Пылью были пропитаны и поля его старой шляпы, без которой трудно было себе представить мастера Цэрнэ.
Молчаливый, глуховатый, в очках с железной оправой, он целые дни просиживал в своей будке, согнувшись над работой. Оттуда то и дело доносилось завывание спиртового паяльника, а из двери валил удушливый, едкий дым.
Ученики-жестянщики, большинство которых мастер не знал даже по имени, делали что вздумается. Но боялись они Цэрнэ больше, чем других мастеров: когда старику случалось выйти из себя, он швырялся всем, что попадало под руку: ножницы — так ножницами, паяльник — так паяльником.
К жестяным работам примазывались самые незадачливые ребята — те, что сбежали от тяжелой руки других мастеров, малыши, выгнанные потому, что им было не под силу поднять молот или завести мотор, и вообще «сброд», как называл их директор.
Тянулись, правда, сюда и так называемые «артисты» — любители фигурной работы, чеканки по металлу или другого редкого мастерства. Они стремились научиться чему-либо у Цэрнэ. Но такие заказы, как никелированные подсвечники, сложные матрицы к прессам, монограммы из дорогого металла, старик чеканил сам. Ученикам он доверял лишь изготовление жестяных труб, бидонов, желобов, да и то под неусыпным наблюдением Урсэкие.
Поговаривали, что дирекция школы задолжала мастеру Цэрнэ большую сумму, которая возрастала из года в год. Да Цэрнэ и сам не скрывал этого. В редкие минуты хорошего настроения, обычно после окончания какой-либо интересной работы, он подходил к печурке, где нагревались паяльники, и протягивал к огню сухие, будто от рождения черные ладони.
— Господин мастер, — кричал ему на ухо Урсэкие, — сколько денег вам причитается с дирекции на сегодняшний день?
Словно внезапно разбуженный, старик принимался жевать давно потухшую папиросу.
— А? Сколько денег? — переспрашивал он с простодушной улыбкой. — Много, парень, много. Приданое доченьке моей, Анишоре…
Мгновенно расчувствовавшись, он кротко и пытливо поглядывал из-под очков на окружавших его ребят. Улыбка исчезала с его лица. Мастер обиженно замолкал… Не верят они, что он взыщет свои деньги с директора. Насмехаются над ним…
— А, что ты сказал? — кричал он подозрительно. — Жулик, прощелыга!..
У печурки вмиг не оставалось ни души. Ребята разбегались кто куда, лишь бы спрятаться от его гнева. Шаркая усталыми ногами, старик тащился в свой угол, снова и снова перебирал в памяти старые обиды, не обращая больше внимания на ребят.
Долго еще слышно было, как он в своей будке швыряет посуду, инструменты, топчет, что попадается ему под ноги, и клянет все на свете.
Потом наступала тишина.
— Васыле! — доносилось из будки спустя некоторое время.
Из-за лестницы, из-под верстаков немедленно появлялись испуганные физиономии учеников.
«Отлегло!»
Урсэкие мчался к мастеру и вскоре, веселый, возвращался к товарищам.
— Что вы позабивались по углам, как мокрые курицы? — приободрившись, кричал он. — А ну-ка, живей давайте все сюда! Выворачивай карманы, у кого что есть: табачок, махорочка, окурки…
Ребята с готовностью выворачивали карманы над шапкой долговязого. Урсэкие умело сортировал табак, выбирая из него крошки хлеба или мамалыги, бумажки и ворсинки, а затем, довольный, отправлялся утолять печали старика Цэрнэ.
Жестянщиков еще ни разу не накрыли при исполнении работы «налево». Организаторские способности Урсэкие каждый раз отводили беду, уберегали учеников от придирок школьного начальства, которые градом сыпались на подмастерьев других мастерских.
Впрочем, Урсэкие слыл не только отличным организатором. Он был еще артистом-импровизатором. Урсэкие сам играл все роли в своих импровизированных спектаклях на злобу дня. Он отлично копировал директора, надзирателя Стурзу, Пенишору, Дудэу — «маменькиного сынка» и других. Положительные типы, как правило, не находили достойного воплощения в этих представлениях. Зато Урсэкие с большим мастерством изображал кого-нибудь из начальства повыше или, скажем, какую-нибудь даму-патронессу из «общества помощи сиротам войны». Самого себя Урсэкие тоже не щадил. Изображая собственную долговязую фигуру, он еще поднимался на цыпочки, срывая восторженные аплодисменты всего «зала».
Такой импровизированный спектакль разыгрывал он и сейчас.
Зубы «господина Фабиана» были обернуты блестящим листком олова, и он устрашающе скрежетал ими.
— Урсэкие Васыле! — орал «господин Фабиан» что было сил.
Конечно, «директор» восседал на «кафедре» — ржавом котле, опрокинутом вверх дном. Перед зрителями уже прошли пентюх Пенишора, напомаженный Стурза, подлиза Дудэу. Сейчас Урсэкие играл Урсэкие. Ребята прыснули со смеху, когда он, шагая, словно на ходулях, приблизился к «кафедре» и, облокотись на нее, незаметно подбросил в журнал директора записочку.
И вдруг в самый разгар представления дозорный на лестнице забил тревогу. В несколько секунд «декорации» исчезли. Ученики сразу «углубились в работу», подняв своими деревянными молотками такой грохот, что загудела вся мастерская. Сигнал с лестницы был подан не зря: в дверях тотчас же показался директор. Не обратив внимания на учеников, он направился к будке мастера.
Волнение, поднявшееся при появлении директора, улеглось. Многие опять побросали работу.
— До нашей жести ему и дела нет! — презрительно пробормотал кто-то из ребят. — Хороший куш — вот что ему надо!
— Знаем мы их махинации! — отозвался другой.
Ученики имели в виду выполнение выгодного заказа, из-за которого, видимо, и пришел директор.
Недавно владелец одного детского санатория для привлечения клиентуры заказал школе фирменную марку. В погоне за бьющей в глаза рекламой он захотел, чтобы на вывеске его заведения было изображение здорового, толстощекого младенца, выбитое из меди. Что касается цены, то владелец санатория не торговался, лишь бы работа была выполнена хорошо и быстро.
Сначала дело подвигалось слабо. Мастер раздражался, все время ворчал себе что-то под нос, словом, был не в своей тарелке. «Цэрнэ что-то не в духе», — толковали ребята.
Директор истощил все способы воздействия на мастера. Порция, которую старик получал из ученического котла, была в эти дни удвоена. Подбросили ему и табачку. Господин Фабиан расщедрился до того, что даже выплатил мастеру часть причитающихся ему денег. А сколько раз старику приходилось их выпрашивать для взноса за учение в «женское ремесленное», где занималась его Анишора!
И все-таки с выполнением заказа мастер тянул.
«Бросил я этому тупице косточку погрызть, что ему еще надо!» — бесился директор.
А владелец санатория все приставал к господину Фабиану со своим медным младенцем, который, как он кричал по телефону, «должен быть живее и здоровее всех детей на свете».
Директор чувствовал себя, как на горячих угольях. Что делать? Клиент не стоит за ценой… Может, сдать заказ другому мастеру? Нет. Директор отлично знал: другой не справится…
И вот наконец Цэрнэ принялся выбирать материал, приготовил специальные долотца и приступил к работе. Господи, благослови! Господин Фабиан, довольный и заискивающий, часто подолгу простаивал теперь за спиной работавшего мастера.
То же происходило в будке Цэрнэ и на этот раз.
Во время работы лицо мастера как-то смягчалось, расправлялись горькие складки у губ. Однако стоило ему разогнуться на одно мгновение, чтобы на глаз проверить работу, как черты его снова принимали обычное суровое выражение.
«Таков уж, видать, нрав у Цэрнэ… Ничего, в добрый час!» — думал директор. Ему хотелось напомнить мастеру о преподнесенном табачке, об удвоенной обеденной порции, он чуть было даже не бросил ему окрыляющего словечка о должке администрации, который, мол, скоро будет погашен, но потом передумал.
«Уж поскольку у старика дошли руки до работы, он ее не оставит. Гляди-ка, так и вонзился в эту медь!» Господин Фабиан на цыпочках отошел от мастера и неслышно покинул будку. Быстро и легко спустился по ступенькам лестницы, что-то насвистывая. Он был очень доволен, хотя его и раздражал хор голосов, доносившихся снизу из слесарной.
В полутьме слесарной ученики пели.
Как знать, кто это пел! Может быть, парнишка, который пока и рта открыть не смеет и после сигнала «гасить свет» широко открытыми глазами всматривается во тьму дормитора[1], надеясь, что ему приснится милый образ матери? А может, маленький пролетарий, который так и режет правду и называет вещи своими именами? Или тот, про кого говорят, что он «слышит инструмент рукой» и считает, что «уменье дороже именья»?.. Как различишь в хоре голос отдельного певца? В хоре все голоса звучат широко, свободно, мужественно. Ведь в песне выливаются и страсть, и ненависть, и печаль:
Балаган наш — кузница сырая —
Полон шума, духоты и дыма…
Плечом к плечу, столпившись возле станка посреди мастерской, ребята поют.
Нежная мелодия печально трепещет в полутьме мастерской. Но вот голоса крепнут, мужают, ширятся:
Тяжкий молот падает с размаху,
Кажется, что пол сейчас провалит…
В нескольких шагах от певцов работают кузнецы.
Вслед за каждым вздохом мехов угли в горне разгораются, потом снова чернеют, и лица кузнецов то выступают, то снова тонут в сумраке.
Моломан, отсекая куски раскаленного железа, все время искоса поглядывал по сторонам. Нетерпеливый Доруца, не в силах усидеть на месте, то и дело приставал к кузнецу:
— Ну скажи же, дядя Георге! Вот я и Фретича уже привел.
Кузнец притворился, что не слышит. Немного погодя, отослав с различными поручениями одного за другим своих помощников, он постоял, прислушиваясь к печальной песне, а потом сурово прикрикнул на Доруцу и Фретича:
— Ну, вы, студенты! Беритесь-ка за молоты! Ныть вы все умеете!
Вынув из огня два раскаленных бруска и положив их на наковальню, он коротко приказал:
— Давай!
Доруца с одной, Фретич с другой стороны наковальни принялись бить по железу молотами.
— Эй-гей! — приговаривал Моломан, как будто обращаясь к брускам. — В воскресенье в семь часов вечера будьте у карусели на рогатке[2]. Гербы с фуражек и номера с рукавов снимите, но держите их в карманах. Когда будете возвращаться, все должно быть пришито на место. Стало быть, не забудьте иголку и нитки. Поняли? Имейте при себе увольнительные билеты в город. Чтоб все было в порядке!
— Ты будешь нас ждать там? — спросил Доруца, задержав на мгновение молот на взмахе.
— Давай, давай! — с прежней суровостью прикрикнул на него кузнец, сам с размаху ударяя молотом по наковальне.
Парни старались не отставать от него.
— Там вас встретит девушка…
— Девушка?
— Да. — Моломан озабоченно перевернул брусок. — Она вас знает.
— Знает?
— Стало быть, — закончил кузнец, не обращая внимания на удивление парней, — приходите точно в семь, не раньше. А имя мое вы с сегодняшнего дня забудьте. И вообще держите рот на замке. Конспирация… Понятно? А теперь ступайте!
Оставшись один, кузнец выпустил молот из рук, прислушиваясь к хору слесарей.
— Эх, бедняги!.. — вздохнул он глубоко. — Хорошие ребята! Хоро-шие…
Когда по зову директора привратник Аким явился в канцелярию, господин Фабиан уже собирался уходить.
— Пусть Штефан в девять часов утра подаст мне бричку. Звонок на ужин дать сегодня часом позже. Подъем завтра — часом раньше… Впрочем, Стурза все тебе скажет подробнее, — распорядился он.
Аким вышел во двор вслед за директором.
Небо над городком было звездное, высокое. В вечерней тишине земля паровала — теплая, благоуханная земля. Из слесарной доносились тоскливые слова песни:
Бешено крутятся тяжкие сверла…
Что бы там ни было — начиналась весна.
Дребезжа всеми гайками, бричка тяжело грохотала по разбитой мостовой.
— Н-но-о! — Кучер Штефан, которого ученики звали дядей Штефаном, — одна тень, а не старик, — изо всех сил дергал вожжи, стараясь объезжать ямы и большие камни.
Несмотря на ухабы, которые, казалось, вытряхивали душу, господин Фабиан старался держаться в бричке с обычным достоинством. Откинутая голова, выпрямленный стан, вся представительная осанка директора должны были показать его полное презрение к окружающему. Но тряска, прерывистый стук колес, наскакивавших на камни, и хриплые окрики тщедушного старика все-таки действовали на нервы и придавали лицу господина Фабиана несвойственное ему кислое выражение.
— Свинство! — бормотал он, брезгливо отворачиваясь от старика. Настроение его все больше портилось.
В школе определенно происходит что-то неладное… Ему даже не хотелось додумывать эту мысль до конца. Сперва надо послушать, что скажет Хородничану. Хотя, что нового может сказать ему учитель, если он видел все собственными глазами! Совершенно ясно: вчера ученики были готовы к бунту. С каким видом они отправились на работу! А эта записка в классном журнале! А эта песня в слесарной!.. Там по-настоящему работали человека два — три, не больше. Да! Следует принять срочные меры, пока не поздно… То, что вчера казалось неприятным эпизодом, случайной проделкой этого «мужичья», может разрастись до непредвиденных размеров.
Господин Фабиан восстанавливал все подробности происшествия вплоть до выражения глаз учеников, интонаций их голосов. То, что произошло вчера, несомненно, было задумано раньше…
— Н-но-о, кляча, чтоб тебя волки съели! — закричал Штефан.
Однако было уже поздно. Колесо соскользнуло в выбоину, и бричка чуть не перевернулась. Кучер с руганью огрел лошаденку кнутом.
— А, чтоб тебя черти взяли! — Господин Фабиан вышел из себя. — Сверни-ка на другую улицу, слышишь! А то рессоры этой таратайки, чего доброго… — И он снова погрузился в свои мысли: «Даже Фретич! Подумать только, даже Фретич!»
По немощеной боковой улочке колеса не так тарахтели и разбитые рессоры уже не так подкидывали седока. Скучающий взгляд господина Фабиана скользил теперь не по высоким оградам с наглухо закрытыми воротами — мимо пробегали низенькие, привалившиеся друг к другу хатенки. Позеленевшие лужи, пустыри, заваленные мусором, придавали улочке унылый, заброшенный вид. Грязь здесь никогда не просыхала, лужи стояли с весны до поздней осени.
Старик Штефан то и дело безнадежно замахивался кнутом и понукал лошаденку, а та, натужно вытянув шею, старалась изо всех сил, не шагала, а, казалось, валилась вперед.
Наконец колеса окончательно завязли.
Подвернув штаны, кучер слез с брички, погладил мимоходом костлявые взопревшие бока клячи и легонько взял ее под уздцы:
— Хай, дружок, хай!
— А не большой ли будет крюк до дома Хородничану? — спросил немного спустя господин Фабиан, прислушиваясь, как сочно хлюпают по грязи копыта лошади и босые ноги старика.
— Барина Хородничану? А вот сейчас… скоро… — Старик, рванув с досады за уздечку, свернул на другую улицу. — Айда, кляча!
«Барином величает! — иронически улыбнулся про себя господин Фабиан. — Что Хородничану занимается „демократической“ политикой, что в камеру труда он выбран от служащих — это для них не важно. Мужичье знает одно: если ты не ходишь, как они, босиком и не возишься весь в грязи возле своей клячи, значит, ты не их поля ягода. Ха-ха, демократ! Вот твой обожаемый плебей — он не считает тебя своим. „Барин Хородничану…“
— Тпру-у-у!..
Учителя истории Константина Хородничану ученики ремесленной школы с особым уважением называли „наш преподаватель“. Авторитетом, которым он пользовался, Хородничану был обязан, между прочим, и своей импозантной наружности. Длинная черная борода, идеально ровно подстриженная, на первый взгляд казалась приклеенной — такой она составляла контраст с моложавым холеным лицом учителя. Хородничану носил черную фетровую шляпу с широкими опущенными полями. Входя в класс и раскланиваясь с учениками, он умел снимать ее таким широким жестом, как никто другой: „Приветствую вас, господа!“ Тогда открывался широкий лоб и белая блестящая лысина до самого затылка.
На уроках Хородничану в отличие от уроков других преподавателей ученики чувствовали себя до некоторой степени людьми. Он говорил с ними свободно, не ограничиваясь рамками программы. Нередко, поздоровавшись, он бросал на кафедру шляпу, журнал и, не делая переклички, не соблюдая никаких формальностей, сразу начинал:
— Да, так вот, господа! Как крестьянство является одним из столпов страны, так и рабочий класс… А что мы видим! Нищета, безработица…
Он говорил об этом с благородным негодованием. В мягком голосе, казалось, таился нерастраченный жар, которому еще не пришло время вспыхнуть огнем. Свои пылкие тирады по поводу „язв нашего века“ он иллюстрировал примерами из тяжелой жизни учеников. Иногда Хородничану осмеливался делать колкие намеки даже по адресу директора школы. Ученики не сводили с него глаз. Были, правда, зубоскалы вроде Урсэкие, которые посмеивались над его страстными речами, но остальные слушали, затаив дыхание. Раздавался звонок. Никто не трогался с места. Второй звонок. Дежурный открывал дверь. Хородничану пронизывал его уничтожающим взглядом, быстро брал журнал, шляпу и с оскорбленным, взволнованным видом направлялся к двери:
„Да, господа, обскурантизм! Вот что…“
Дома, красивая, хорошо понимавшая своего мужа, мадам Элеонора умела его умиротворить.
Насколько кипучей была общественная и служебная деятельность Хородничану, настолько безмятежно протекала его семейная жизнь. Придя домой и закрыв за собою двери, он сразу становился другим человеком. Мгновенно расплывались и отступали лица учеников-ремесленников, улетучивались из памяти „социальное обеспечение“, „больничная касса“ и все остальные понятия и учреждения, связанные с широкой повседневной общественной деятельностью. Забывались дела арбитражных комиссий по трудовым конфликтам, умолкали переговоры „заинтересованных сторон“, громогласные требования рабочих делегатов, шушуканье хозяев-предпринимателей с юристами. Деловая суета, казалось, тонула здесь в мягких коврах, в пуховых подушечках, в шелесте старых, тенистых деревьев, что окружали особняк… Да, все здесь дышало семейным счастьем, покоем.
Недаром Хородничану не прибил к двери дома табличку со своим именем и указанием профессии. Дома он не Хородничану — борец за общественные интересы, дома он хочет быть только нежным мужем Элеоноры.
Но мгновения полного покоя все-таки выпадали редко. Досуг Элеоноры был так ограничен! Благотворительные общества, членом которых она состояла, заставляли ее „самоотверженно предаваться борьбе за облегчение человеческих страданий“, как она выражалась.
Хородничану посмеивался над женой, считая благотворительность забавой, но не мешал ей. „Каприз… Увлечение…“ — снисходительно пожимал он плечами.
Покой личной жизни, к которому он так жадно стремился, нарушался иногда и непредвиденными визитами.
Когда Хородничану разглядел в окно бричку, с которой сходил господин Фабиан, он только беспомощно развел руками. Послав служанку узнать, проснулась ли жена, чтобы предупредить ее о визите, он сам пошел открывать двери.
— О, какой сюрприз! — встретил он директора с наигранным пафосом, сердечно пожимая его руку. — Какой дорогой гость!
Не слишком тронутый церемонией встречи, господин Фабиан тяжело опустился на первый попавшийся стул и только после этого устало стащил с головы шляпу. Хородничану взял ее из рук гостя, повесил на оленьи рога, украшавшие стену, и уселся рядом с ним.
— Какая-нибудь неприятность? — спросил он, предчувствуя что-то необычное.
Директор помолчал.
— Глупостями заниматься — этому вы сумели их научить! — начал он внезапно. — А ведь сколько раз мы беседовали с вами на эту тему! Теперь вот, уважаемый преподаватель, знайте, что ваши ученики перешли к открытому бунту.
— Как к бунту? — спросил Хородничану, обшаривая карманы в поисках платка.
— Очень просто. Так, как бунтуют большевики.
Директор видел, что его слова бьют в цель. Хородничану, отыскав наконец платок, начал вытирать себе макушку.
— Да, да, оказали сопротивление… Вернее сказать, пытались оказать сопротивление, — тут же поправился господин Фабиан, не желая терять в глазах Хородничану своего директорского авторитета. — Отказались пойти работать во время пустого урока. „У нас сейчас должен быть урок истории! — настаивали они. — Мы хотим слушать господина преподавателя Хородничану“. И это — несмотря на то, что Стурза передал им ясный приказ: идти в мастерские.
— Стурза, эта скотина? — оживился вдруг Хородничану, польщенный услышанным. — Что же здесь странного? Полюбили парни мой предмет — и все! А этот ваш кретин „воспитатель“ выдумал и доложил вам о каком-то бунте. Везде ему большевики мерещатся! Поймите наконец, господа директоры и государственные деятели, — произнес Хородничану торжественно, — они, эти ваши стурзы, именно они и вызывают коммунизм! Да, да! Там, где, может быть, и в помине нет коммунистов, стурзы их выдумывают. Не годится этак, господа. Если вы хотите иметь благоразумный рабочий класс, выращивайте его! Нравится им история — давайте им историю, как можно больше истории! Наша роль…
— Да, но, человече божий, мне-то не нужны историки! — прервал его нетерпеливо директор. — Надо же понимать! Дешевые рабочие руки — вот что мне нужно. К чему переливать из пустого в порожнее? В конце концов, о ком идет речь? О бродягах, беспризорниках, о тупом, ограниченном мужичье, о подонках. Тот, у кого голова на плечах, не пойдет в мастеровые. Это всем известно. А вы хотите сделать из них философов. Нет, не это нужно им. Вчера вот слесари распелись в мастерской, а сегодня у них будут урчать кишки с голоду. Я урезал им паек. Другим языком с ними разговаривать нельзя: иначе они не поймут. Стурза еще слишком мягок с ними. В этой мягкости и все несчастье, уважаемый господин советник. Они вконец развращены вашим парламентаризмом, а это опасная игра. Вы забываете, что мы в Бессарабии…
Директор распалялся все больше. Он встал и заходил по комнате, как бы ища простора для своего негодования. Увидев в окно кучера, который, опершись на оглоблю, соскабливал щепочкой грязь с ноги, Фабиан показал на него:
— Видите его, какой жалкий и смиренный? Не верьте ему! Загляните поглубже в его глаза, и вы убедитесь, сколько чертей в нем сидит. Он все мотает себе на ус и ничего нам не простит. Говори ему, что тебе угодно и сколько угодно: он кивнет головой и состроит послушную рожу, потому что сейчас другого выхода у него нет. Но поверить тебе он не поверит! Он ведь ничего не признает. В его глазах ты как был барином, так барином и остался. Он — дядя Штефан, а вы — барин Хородничану. Помахивает себе кнутом, а мысли его далеко: он так и смотрит за Днестр…
Брезгливо обтирая ладони, точно счищая с них что-то, директор отошел от окна.
— Я здесь даже младенцу в люльке не верю! Эта бессарабская порода всасывает в себя коммунистическую чуму с молоком матери!..
Хородничану был готов прервать директора и выжидал подходящего момента, чтобы перейти в наступление, ведь он мог бы великолепно опровергнуть все его утверждения. Но невольно захваченный внутренней убежденностью Фабиана, сбитый с толку потоком слов, он оставался безмолвным. Однако неожиданное заключение Фабиана показалось ему оскорбительным.
— Прошу извинения за смелость, — перебил он, задетый, — но, с вашего разрешения, я тоже бессарабец.
Директор недоуменно смотрел на него несколько мгновений, затем, опустившись на стул, разразился хохотом.
— А мне даже нравится, что это так задело вас за живое! — воскликнул он, громко хохоча и хлопая учителя по колену. — Комик вы, черт вас возьми! Ха-ха-ха!
Хородничану со сдержанным презрением разглядывал смуглое, здоровое и грубое лицо директора. „Ложечник с Дымбовицы[3], невежа! — думал он с отвращением. Этот дикий смех, оскорбляющий благословенную тишину его дома, выводил Хородничану из себя. — Еще напугает Элеонору!“
— Бессарабец! — продолжал господин Фабиан, переставая смеяться. — А гляньте-ка на эту бумажонку. Именно вам послали ее ваши историки… бессарабцы…
Он развернул измятую бумажку, на которой был нарисован лысый человек с запутавшейся в его бороде крысой.
Лицо Хородничану побагровело.
Он инстинктивно поднес руку к бороде.
— Позвольте-ка взглянуть, — еле проговорил он.
— Не волнуйтесь, господин преподаватель, крыса только на бумаге, — иронически улыбнулся Фабиан, заметив движение Хородничану. — Нарисовано неплохо, и адрес написан четко, конечно, печатными буквами, чтобы нельзя было узнать почерк. Вот: „Мученику и спасителю“! Ну-ка, поразмыслите, господин преподаватель, что следует разуметь под этой крысой!
— Да, это рука коммунистов, — согласился Хородничану. — Неслыханное дело!
— Стурза мне докладывает о забастовке, — тихо, как бы про себя, начал господин Фабиан, закуривая папиросу. — Я иду туда с приходно-расходной книгой, где записано, кто сколько должен за учение и общежитие. Одного за другим отправляю на работу. В классе порядок, тишина — и вдруг все как один поднимаются и выходят из класса. И все это молча. Только один Фретич заговорил. Фретич! Александру Фретич!! Я давно приглядываюсь к нему. Красивый парень. Круглый сирота. Пришел из приюта. Робкий такой, кажется, собственной тени боится. Всегда старательный, подтянутый. Такой именно, какой мне нужен. Я ему то костюмчик подброшу, то теплое словечко. У меня ведь детей нет. Жена и слушать не хочет о том, чтобы рожать. Ну что ж, моя слабость: решил усыновить его. И вдруг он, он — главарь бунта! Главарь! Даже меня не постеснялся. „Почему, мол, не хотите обучать нас грамоте, господин директор?“ Переворачиваю лист журнала и нахожу эту карикатуру. Кто знает, может, он же, Фретич, ее и подсунул. Вот тебе, пригрел змею за пазухой!
Директор глубоко затянулся папироской и, бросив ее на пол, придавил ногой. Осторожно подняв окурок кончиками пальцев, Хородничану отнес его на полированный столик в углу комнаты, где стояла чудесная пепельница-раковина.
— Дело, конечно, не в одном Фретиче, — сказал он, хоть и сам расстроенный, но радуясь в душе огорчению директора. — Правда, можно и Фретича использовать. Для этого нужно только умело его держать в узде. Но не в нем дело. Корень зла кроется поглубже. Не тут собака зарыта!
Фабиан вопросительно глянул на него, и Хородничану продолжал, обдумывая, точно взвешивая каждое слово и подыскивая надлежащую интонацию:
— Нужна… хм… В воспитании ученика нужна гибкость. Свежесть. Вкус. Не забивайте ему голову одной технологией и механикой. Пафос молодости необходимо определенным образом направлять… Хм… Идеологически… Тут нужно подумать. Вчерашний случай должен быть пока оставлен без последствий. Ни бунта, ни песен, ни карикатуры — ничего этого мы не видели. Но зачинщиков, которые разлагают остальных, надо выявить. А для этого — глядеть в оба! И, конечно, не глазами Стурзы, а глазами… как бы это получше выразиться… хм… кого-нибудь из учеников. Например, того же Фретича. Это главное в воспитании молодежи… хм… эластичность, такт…
Глаза учителя блестели воодушевлением. На холеных щеках выступил румянец. Его так и распирало от еще не высказанных слов — значительных, отшлифованных, звучных. Он подвинул свой стул поближе к Фабиану, так что коснулся его колен. Но взгляд директора, отчужденно блуждавший по комнате, остановился на оленьих рогах, где висела его шляпа.
— Так вот, господин Хородничану, — сказал он, решительно поднимаясь, — вы их распустили, и они теперь пошаливают. Но я завинчу им гайки! Так завинчу, что у них косточки затрещат!
Мрачно нахмурившись, он потянулся было за шляпой, когда в дверях спальни показалась Элеонора.
По-мальчишески подстриженную, с золотистой челкой на лбу, в лиловом халатике с блестящим шелковым поясом, ее можно было принять за дочь Хородничану.
Фабиан прирос к месту.
— Целую ручки, мадам, — опомнился он, кланяясь ей с подчеркнутой изысканностью.
— С утра уже за политику? — спросила она, кокетливо протягивая ему руку для поцелуя.
— Да, дела вот, — сказал Фабиан. — Однако разрешите мне распрощаться. — И, щелкнув каблуками, директор коротко поклонился.
— Как это можно, я вас не пущу! Хотя бы чашечку кофе… Мария!
Но директор не поддавался уговорам.
— Не могу, мадам, дела… — И, надев шляпу, он направился к выходу.
Провожая Фабиана, Элеонора задержалась в передней.
„И о чем это она с ним разговаривает?“ — ревниво думал неподвижный и угрюмый Хородничану.
Дверь отворилась, и вошла Элеонора.
— Отчего мой бэби повесил нос? — спросила она, положив ему руку на плечо.
— Выскочка он, и больше ничего! — не отвечая на вопрос жены, сердито выпалил Хородничану. — Из породы этих ложечников. Грабитель! Обманывает государство, мастеров, учеников. Харчи из казенного котла не стыдится красть. И какого черта я не пошел вчера на урок? Он уверил меня: „Ученики, мол, заняты. Срочный заказ“. А ведь все для него, только для него…
— А ложечники все такие высокие брюнеты? — прервала его Элеонора, думая о чем-то своем. — Ах, я и забыла, сегодня у меня заседание комитета! Ай-я-яй… Мария, Мария!
По пути в спальню она задержалась перед зеркалом, пристально оглядела свое отражение и, повернувшись к мужу, сказала капризно:
— Не смей, пожалуйста, в таком небрежном виде выходить из дому. Позови сначала парикмахера и приведи свою бороду в порядок, слышишь?
Хородничану послушно кивнул головой: он не выйдет из дому.
А день обещал быть таким чудесным! Лучи солнца, бившие в щели ставен, так много сулили: распускающиеся почки, молодая трава, трели жаворонков… Но нет! В душе Хородничану не было места для весны, для ее соблазнов. Он никуда не выйдет сегодня, он хочет наслаждаться красотой и уютом своего дома. Все это пришло к нему так недавно, так тяжело ему досталось: блестящий паркет, никелированные ручки, тяжелые шторы, ковры, подушечки…
Карусель на рогатке, где Доруцу и Фретича должен был встретить „товарищ“, представляла собою простой деревянный навес, к стропилам которого было подвешено несколько лодочек.
Карусель обслуживал оркестр: тромбон, флейта и барабан. Однако в непрестанном шуме и гаме слышны были только звуки барабана. Народ тесным кругом обступил карусель, и в середину трудно было пробиться даже самым завзятым любителям.
Там, где толпа немного редела, в стороне от толкотни, кружилось несколько пар молодежи. Они танцевали молча, сосредоточенно, словно боясь сбиться с ритма, отбиваемого барабаном.
Неподалеку от карусели белел балаган, прибывший на сезон давать представление „с участием самого Нае Галацяну“. Пестро расписанные брезентовые стены балагана привлекали много зевак. У входа, на подмостках, зазывал публику сам Нае Галацяну. Это был здоровенный, краснощекий малый, прошедший уже, как видно, всю иерархическую лестницу циркачей.
— Не тысяча, не сто! Только пять лей за вход! — соблазнял он стоящих внизу и связкой бубенцов указывал на чудовище, намалеванное на полотне. — Живое, натуральное дитя морей! Получеловек-полурыба!
Рядом с балаганом, на столике, окруженном городскими парнями, какой-то тип с азартом перебрасывал три игральные карты:
— Красная берет — черная проигрывает!
Аттракционы на каждом шагу. Шныряли фокусники, гадалки с раковиной, попугаем или мышами. „Колесо счастья“ сулило выигрыши: браслеты, кольца, серьги и другие драгоценности. Чего только здесь не было! Все звало, манило, привлекало глаз и искушало.
Босоногая служанка с вплетенной в косу новой лентой, конюх-сезонник, безработные, денщики в боканчах[4], начищенных до того, что в них, как говорится, отражались усы, молодежь из ближайших сел — все толпой валили сюда провести воскресный день на каруселях.
Но вся эта публика не привлекала внимания ярмарочных дельцов. „Зеваки! — презрительно отзывались они о простом народе. — Ни гроша за душой!“ Глаза ловкачей старательно выискивали зажиточного крестьянина, возвращавшегося с полным кошельком из города, какую-нибудь тетушку, затесавшуюся сюда в надежде найти подпольного ходатая, который, как ей сказали, может вызволить ее из беды, подвыпившего мастерового — словом, „клиента“, на котором можно было хорошо заработать.
Доруца и Фретич явились на свидание, конечно, раньше установленного срока. Но, помня слова Моломана, они прогуливались в стороне, подальше от людских глаз.
О рабочем движении ученики много слышали. Они знали, что власти преследуют революционеров, но те неустрашимы. Парни, проживающие вне школы, рассказывали о забастовках, об уличных демонстрациях и кровавых столкновениях с полицией. Рассказы эти втихомолку передавались из уст в уста:
„Безработные разнесли столовую на Павловской“.
„Начался процесс коммунистов“.
„На здании трибунала кто-то водрузил красный флаг“…
В школу проникали подробности о страшных истязаниях политических заключенных, о голодовках в тюрьмах. Однажды в школе неизвестно откуда появились невиданные марки. На них из-за тюремной решетки выглядывал заключенный: „Помогите узникам капитала“.
Знали ученики и о Советском Союзе. Этому способствовали прочитанная украдкой книга, рассказы приехавших обучаться ремеслу из приднестровских сел, а главное — уроки учителя технологии Николая Корицы.
Корица принадлежал к той многочисленной категории учителей, которые всю жизнь трудятся, не снискав расположения начальства. Стараясь держаться подальше от администрации, он вообще не вмешивался в дела школы. Учитель заходил в канцелярию только затем, чтобы взять журнал или положить его после урока на место. На переменах он либо задумавшись стоял у окна, либо одиноко прогуливался по коридору. Но во время занятий Корица преображался. Он буквально жил машинами, изображения которых чертил на доске. Когда он объяснял их устройство, его круглое, как полная луна, лицо сияло детской радостью. В волнении вскакивал он с кафедры и шагал по классу. Свое воодушевление учитель стремился передать и слушателям.
— Электромотор, динамомашина! — восторженно говорил он, протягивая к доске короткую руку. — Четыреста лошадиных сил!..
— А наш ручной бурав мощностью в одну лошадиную силу! — бросал вдруг кто-нибудь из учеников вроде Урсэкие. — „Лошадиная сила“ — ученик.
Корица останавливался, словно остолбенев. Щеки его, похожие на мягкие розовые подушечки, заметно бледнели. Затем молча делал он круг-другой по классу, тяжело ступая, подходил к доске и начисто стирал с нее чертеж.
— Что я могу поделать? — оправдывался он, опуская глаза. — Я даю чертеж точно по учебнику. А этот бурав, о котором вы говорите, у меня вообще не фигурирует. Теоретическая механика давно изъяла его из употребления. Примитивнейший инструмент…
Немного успокоившись, он продолжал уже без прежнего энтузиазма:
— Динамомашина, которую я вам начертил, приводит в движение… — тут преподаватель снова оживлялся, — приводит в движение автоматические бурильные станки большой мощности. Это реальная сила, широко применяемая в промышленности и даже в сельском хозяйстве…
Технолог опять брался за мел. Под его опытной рукой на доске вместо стертых возникали еще более замечательные чертежи. Учитель поднимал глаза на учеников и снова воодушевлялся. Он рассказывал теперь о технике, поставленной на службу народу, о гигантской советской индустрии…
Сведения о Советском Союзе доходили в школу и другими путями.
Однажды, ноябрьским утром, Стурза ворвался в дормитор, размахивая листовкой.
— Притворяетесь, что спите! — рычал он, сдергивая с учеников рваные одеяла. — Строите из себя невинных? А это что?..
Ученики, ошеломленные, вскакивали, ежась спросонья от холода и прижимаясь друг к другу.
— „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ — с пеной у рта выкрикнул надзиратель. — Ну, вы только подумайте! „К трудящейся молодежи города и села. Товарищи! Исполняется двадцать один год Великой Октябрьской социалистической революции…“ — Здесь голос его сорвался. Стурза угрожающе оглядел учеников и, размахивая листовкой, побежал в следующую комнату.
После его ухода парни стали протирать глаза.
— А что там дальше написано? — спросил вдруг кто-то.
Ребята начали одеваться с лихорадочной быстротой.
Спустя несколько секунд они гурьбой выскочили из спальни.
Листовки были повсюду. В умывальной, в подвале, где помещалась столовая, в классе и, по словам дяди Степы, даже на дверях канцелярии. Мастерские ночью были заперты, но и там на верстаках были найдены листовки, по-видимому брошенные через разбитые стекла окон.
В то утро щи были поданы с большим опозданием. В темноте подвала Стурза то и дело чиркал спичками, тревожно разглядывая учеников.
— Руки! — кричал он. — Покажи руки!
Но в руках у ребят ничего не было. Содержание листовок ученики знали уже наизусть и вызывающе улыбались надзирателю прямо в лицо.
„Да! — говорили их улыбки. — Областной комитет коммунистической молодежи Бессарабии призывает нас, учеников, на борьбу против побоев, гнета эксплуататоров и насильственной военизации. А ты топорище[5], предатель проклятый! Подожди, придет управа и на тебя!“
Несмотря на то, что листовки, по всей видимости, распространял кто-то свой, розыски не дали никаких результатов. Три воскресенья ученики сидели взаперти, без права выхода в город, на казарменном режиме. Им было запрещено даже приближаться к воротам. Но они принимали все это безропотно: „По крайней мере, знаем за что“. Хотя об авторе листовок и о том, каким образом они здесь очутились, никто ничего не знал…
И вот сейчас Фретич и Даруца идут на свидание с людьми, руки которых разбросали не одну сотню таких листовок. Они познакомятся с теми, о чьей дерзкой смелости шепотом говорилось во тьме дормитора. Они сами, Фретич и Доруца, станут в шеренгу этих стойких борцов. И, быть может, придет время, когда их, как теперь товарища Ваню — легендарного вожака подпольного комсомола, — будет тщетно разыскивать полиция.
А жители рабочих кварталов, улыбаясь, скажут: „Ищут — значит, они на свободе. Вот они какие — наши молодые пролетарии!..“
Кружась одна за другой, лодочки карусели на какой-то миг нависали над толпой и затем опускались. Мимо Доруцы и Фретича прошел парень с веточкой сирени за лентой шляпы. Он с увлечением играл на дрымбе[6], по-видимому испытывая только что купленный инструмент. В многоголосом шуме гулянья преобладал, как и раньше, глухой бой барабана. Из цирка, не переставая, доносились выкрики Нае Галацяну: „Получеловек-полурыба!“
— Сыграем, господа! Сыграем! — вторил ему тип с игральными картами, зазывая окружающих угадать, где красная, где черная, и „спокойненько забрать денежки, приготовленные на столе“.
Другой мошенник, искусно подбрасывая вверх монету, бесстрастно выкрикивал:
— „Орел“ выигрывает, „решка“ проигрывает!
Вокруг него, привлеченные искушениями игры, теснились деревенские парни и бледные оборванные ребятишки.
— А ты в детстве играл когда-нибудь на деньги? — спросил вдруг Доруца фретича, задумчиво глядя на детей.
— Нет. В детстве у меня никогда не было денег, — с горьким достоинством ответил Фретич. — Я рос в приюте.
Доруца дружески взял его за руку.
— А я однажды играл, — сказал он, сдвигая брови. — Мне было тогда восемь лет, и в наш городок приехал балаган, вот как этот. Играли тоже на деньги. Мама оставила мне три лея на керосин: отец лежал больной, и нужно было, чтобы всю ночь горела лампа. Я пошел за керосином. И вот как эти ребята, увязался за таким же жуликом. Не выдержал, клюнул на приманку — поставил один лей. А сам думаю: „Вот выиграю, мама вечером придет с работы и вместо полбутылки найдет полную бутыль керосина. А если проиграю, куплю немного меньше керосина“. И я выиграл. Потом снова выиграл.
„Ну, — думаю, — куплю фунт карамели отцу к чаю, может, тогда пройдет у него кашель“. И еще раз мне повезло. Ох, тут я вошел в азарт! „Ну, мама, — думаю, — на этот выигрыш куплю муки, целый куль муки. Как проголодаемся, ты наваришь мамалыги. Отец поднимется с постели, и у нашего Федораша окрепнут ножки, а то они совсем мягкие и не держат его… Эх, мама, бедная моя мамочка!“ Вдруг подходит ко мне тип, видно, из ихних главарей, толстый такой, похожий вот на этого, и ставит монету. „Попытаю и я счастья“, — говорит, а сам улыбается мне. И проиграл. Такую рожу скорчил — вот-вот заплачет. Но все-таки — была не была! — поставил еще один лей. Когда пришла его очередь, он высыпал кучку денег побольше, перекрестился и подбросил монету вверх. „Как бог даст“, — говорит. Монета упала „орлом“ вверх — выиграл он. У меня еще были деньги, и я поставил. Снова „орел“ — опять он выиграл.
Двое из его компании вышли из игры — денег, мол, у них нет. Монета его падает, катится и вот… Я хорошо видел, что она упала „орлом“ книзу. Нагибаюсь уже, чтобы взять выигрыш. Вдруг кто-то кричит: „Орел!“ Я смотрю — и правда, „орлом“ кверху. „Орел“, как на всех монетах, с королевской короной на голове, а в клюве крестик держит. Из всех парней, которые тут стояли, один я и остался в игре, я да этот их главный. Остальные все уже повытряхнули свои денежки. Ну, скоро и у меня засвистел ветер в кармане — ни гроша! „Что, пострел, обрили тебя наголо? — спрашивает меня этот шарлатан и карманы мои ощупывает. — Да, чистенько“, — говорит, а сам смеется. Потом поплевал на монетку, чтобы не сглазить, положил ее в верхний карман жилета и пошел себе.
Люди, которые раньше вышли из игры, увязались за ним — хотели уговорить его отдать им деньги. А он знай себе в кармане монетками позвякивает да посмеивается им прямо в лицо. Один как схватит его за карман да как закричит: „Отдай нам нашу часть! Мы ведь хорошо видели — монета твоя фальшивая, орлы с обеих сторон!“ Завязалась драка. Ну, где уж тут было мне свои деньги обратно получить!
Помолчав, Доруца тихо продолжал:
— В тот год, поздно осенью, когда уже лопалась кожура ореха, а по утрам все покрывалось инеем, умер мой отец. До последней минуты он все молил бога продлить его дни, хотя бы до тех пор, когда расцветет вишня. Но нет, умер. Не дождался, не увидел Федораша нашего на ногах. Прикатила зима. Холодно, дров у нас нет. Стены от инея сверкают, словно драгоценными камнями разукрашены. Федораш ползает по полу. Живот у него, как бочонок, раздуло, а косточки все мягкие. Не живет, не умирает. И вот однажды приходят к нам полицейский с сержантом. Полицейский оглядывает все углы, а потом как заорет:
„Где матка твоя?“
„На работе“, — отвечаю.
Полицейский подумал, подумал и говорит:
„Расписаться умеешь? Дай ему, пусть приложит палец!“ — кричит сержанту.
А Федораш наш, синий весь от холода, подполз к ногам полицейского, поднял ручонки и просится к нему. Полицейский кричит мне:
„Забери его отсюда!“
Не успел я приложить палец, как полицейский вырвал у меня из рук бумагу.
„Ладно, хватит! — говорит. — Вот, держи портрет его величества! И смотрите у меня, чтоб он как следует висел на стенке, иначе плохо вам будет!.. Матке своей скажи, чтобы явилась завтра в полицию с десятью леями в зубах. Слышь ты? С десятью леями!“
Потом глянул еще раз на Федораша и пошел к двери, а сам бормочет:
„Живут, как свиньи, отребье этакое!“
Посмотрел я на портрет короля. На короне у него орел, тоже держит крестик в клюве. Свернул я портрет в трубку. „Не повешу его на стенку! И маме ничего не скажу о десяти леях“. Но тут же подумал: „А полицейский. Изобьет он ее. Они ведь такие… Зверье!“ Так ничего и не мог придумать. Вечером, слышу, идет мать. Скомкал я этот портрет да забросил его далеко в печку. Все равно маме нечем платить.
Доруца остановился. Глаза его, задумчиво следившие за кучкой оборванных ребятишек, блеснули.
— С тех пор терпеть не могу я этих орлов! Всюду они: на монетах, на государственном гербе, на знаменах. Ненавижу я их! До смерти ненавижу!
Фретич внимательно слушал товарища.
— А я не знал ни матери, ни отца, ни братьев, — сказал он, когда Доруца замолчал. — А как мне хотелось их иметь! Увижу иной раз бедную женщину — и сердце так и сожмется: „Моя мать…“ В сиротском приюте нам ежедневно кричали, что мы подзаборники, что из таких выходят только преступники и убийцы… Вот ты, Яков, говоришь так ласково — „мама“. А я это слово как произносил! У нас ведь тоже были „мамы“. Иногда нас предупреждали, что в приют придет дама-патронесса. Ну, конечно, сразу пол мыть заставляли и все такое. И все твердили, что мы ей жизнью обязаны, что ее хлеб едим. Потом приезжала эта дама, и мы должны были хором с ней здороваться, называть ее „мамочкой“. Эх, Яков, сколько у меня за эти годы злобы накопилось к этим „мамочкам“ да „папочкам“!.. Ух, до чего ж ненавижу их!..
Вдруг Доруца подтолкнул его:
— Глянь-ка!
— Что такое?
— Смотри, вон дочка мастера, Анишора Цэрнэ, — прошептал Доруца, показывая на карусель. — Как бы она нас не заметила! Без номеров, без ученических гербов… Еще дойдет до начальства. Отойдем-ка в сторонку!
Но Анишора уже увидела их и быстро пошла навстречу. Белый воротничок форменного платья красиво оттенял ее нежное лицо.
— А, вы здесь, гуляки? — весело сказала она, подходя к ребятам.
Смущенные парни не нашлись сразу что ответить. Анишора была заметно рада чему-то. Перебросив через плечо косу, она ловко проскользнула между ними и взяла обоих под руку:
— Идемте!
От нее исходил легкий аромат свежести. Звонко звучал ее еще детский голос.
Хотя Анишора жила на школьном дворе, ученикам никогда еще не доводилось так близко видеть дочку мастера. Вдумчивый взгляд темных глаз придавал ее ребяческому лицу серьезное выражение.
Фретич остановился первый.
— Извините нас, — сказал он застенчиво, пытаясь высвободить руку. — Нам не по дороге. Мы… Я с моим другом…
Но Анишора не выпустила его руки.
— Нет-нет, нам по дороге, товарищи, нам по дороге, — сказала она серьезно, увлекая их за собой. — Вы должны были точно в срок прийти к карусели, а вы где-то в сторонке гуляете. Ну ничего, на первый раз вам простится. Только идемте поскорее, а то товарищ Виктор уже ждет нас. Он всегда очень точен.
В глубине души Фретич считал себя революционером и до сегодняшнего дня. Но сейчас, когда он услышал обращенное к нему слово „товарищ“, все прошлые мысли и настроения показались ему незрелыми, незначительными. Товарищ… О, он знает, что это значит!
Он взглянул на Доруцу. Щеки Якова пылали. Он шел широким шагом, и полы его расстегнутого пиджака развевались, как крылья.
— Ах, вот что! Теперь я понимаю, кто приносил в школу марки, листовки и все остальное, — волнуясь, говорил Доруца Анишоре, глядя на нее с глубокой признательностью. — Раньше я не мог себе представить, но теперь…
— Сейчас мы войдем в дом, где собирается совещание, — перебила его девушка, обращаясь к ним обоим. — Запомните, товарищи: Союз коммунистической молодежи сейчас в подполье. Конспирация — это тоже оружие против врага. Квартира, люди, которых вы сейчас увидите, — все это должно оставаться в строжайшей тайне. Начиная с сегодняшнего дня от вас требуется больше, чем от остальных учеников. Вы вступаете в передовой отряд молодежи. Вы должны быть достойны этого.
Внимательно, тепло оглядев обоих товарищей, Анишора добавила:
— До сего времени вы восставали против начальства школы, против директора, боролись как кто умел. Союз коммунистической молодежи — верный помощник партии коммунистов — борется против всего класса эксплуататоров и борется организованно…
Слова Анишоры показались Фретичу знакомыми. Но сейчас в устах товарища, который свяжет их революционным подпольем, слова эти приобрели новый смысл. По-новому он смотрел теперь на улицы, по которым они проходили, и особенно на людей, придавленных гнетом жизни, скитающихся по этим улицам в поисках куска хлеба. У Фретича было для них так много хороших, ободряющих слов. Каждого он сейчас уверенно взял бы под свою защиту: „Идем с нами! Там нас ожидает товарищ Виктор и другие товарищи коммунисты… Идем, брат! И ты там будешь нужен. Увидишь, как все изменится…“
Сворачивая с одной улицы на другую, Анишора украдкой поглядывала через плечо, внимательно следя по сторонам. Неожиданно перешагнув низкий плетень, она подвела их к одинокой хатенке, притаившейся в глубине двора.
Дверь им открыла женщина, улыбавшаяся так, словно каждому из них она была матерью.
Молодой парень, в котором Доруца и Фретич с первого взгляда угадали Виктора, поднялся с лавки, покрытой рядном, и крепко пожал им руки.
— Виктор, — назвал он себя.
— Наши товарищи из ремесленной, — ответила за парней Анишора.
Комната оказалась гораздо вместительнее, чем можно было предположить. Длинный, грубо сбитый, видимо, самодельный стол, табуреты, лавки вдоль стен свидетельствовали о том, что семья здесь живет большая. В первой половине комнаты находилась только молодежь, явившаяся на совещание. Из-за ситцевой занавески, разделявшей комнату, доносился шепот, осторожные шаги, частое постукивание сапожного молотка.
Улыбаясь гостям, словно извиняясь, пожилая женщина сказала, что у нее есть дело во дворе, и вышла.
Анишора пошла за ней и, быстро вернувшись, спокойно объявила, что можно начинать заседание.
„…Заверну гайки. Так заверну, что косточки у них затрещат!“
Все подсказывало господину Фабиану, что он находится „на верном пути“. Трещали кости народа под прессом государственной машины. И пока политиканы, стоящие у власти, лихорадочно вели переговоры о продаже своей страны то с одним, то с другим империалистическим лагерем, буржуазно-помещичий гнет в Бессарабии становился день ото дня все более свирепым. Соревнуясь с местными помещиками и кулаками, румынские оккупанты, искатели легкой наживы и заправилы реакционной администрации выколачивали из Бессарабии все, что было возможно. Террор — эхо фашистских бесчинств за границами страны — стал еще более жестоким. Тюрьмы были переполнены. Тяжело легла свинцовая рука государственной власти на плечи молодежи: допризывное обучение, стрэжерия[7] и многие другие насильственно военизированные и фашизированные организации. Заманивая в них молодежь, платные агенты правительства старались сбить ее с революционного пути. Но заглушить протест им не удавалось.
Село как будто дремало в оцепенении. Но вот где-нибудь на пустыре, в густом кустарнике, в один прекрасный день находили труп какого-нибудь грабителя-перчерптора[8]. Случалось, что языкатое пламя в несколько часов уничтожало помещичью усадьбу, амбар. Потом, словно вернувшись к своему оцепенению, село снова погружалось в ожидание. Но эти стихийные вспышки не приносили желанного избавления. Взамен убитого перчерптора появлялся другой. Помещик отстраивал новый дом, засыпал зерном новый амбар. Ярмо оставалось ярмом. Крестьянин только бессильно скрежетал зубами, а жена его, забитая мужичка, прикрыв лицо головным платком, потихоньку оплакивала сына, забритого в солдаты, дочку, посланную в услужение к чужим людям, урожай, проданный еще на корню, и горячим шепотом посылала проклятия, тяжкие проклятия крестьянки.
В городе борьба велась более организованно. Подавляемая в одном месте, она разгоралась в другом.
Жестоко расправлялись оккупанты с революционерами. Повсюду рыскали агенты сигуранцы[9]. Военный суд инсценировал массовые показательные процессы, заполняя борцами против фашизма румынские казематы.
Подготовка антисоветской войны была в разгаре. Шел 1940 год.
Призывники многих возрастов получили приказы о мобилизации. Были реквизированы все средства транспорта: автомашины, лошади, подводы. Эшелоны, набитые солдатами, вооружением, боеприпасами, двигались на восток. Вдоль Днестра воздвигались стратегические укрепления — „Вал Кароля“ — будущий плацдарм для нападения на Советский Союз. Людей угоняли на так называемую „трудовую повинность“: ремонт дорог, рытье окопов и блиндажей, устройство аэродромов. На местечках и селах правобережья Днестра лежала уже печать военной зоны. Королевская камарилья, правительственная клика и продажные дипломаты — все эти верные слуги капитала дожидались только приказа „блоков“ и „осей“ из-за границы. Румынские генералы в бинокли изучали левый берег Днестра, отмечая на своих картах ориентировочные пункты для артиллерии: Кошница, Каменка, Тирасполь… Сердца солдат сжимала тревога. Они волновались за своих голодных близких, роющих где-нибудь окопы, за свою реквизированную скотину, за свои необработанные поля, за хлеба, загубленные лопатами, колесами, вытоптанные боканчами.
Борьба против оккупантов ширилась. Пробиваясь сквозь все преграды, принимая различные формы, она все обострялась, прорывалась наружу, сталкивала враждебные лагери лицом к лицу.
На одном из уроков преподавателя Корицы в классе неожиданно появился человек с большим шрамом на лице. Вынырнувший вслед за ним из коридора Хородничану поспешно представил его ученикам как ревизора, действующего от имени… от имени… Хородничану бросил покорный и растерянный взгляд на посетителя, но тот, сделав короткий знак рукой, дал ему понять, что все его словоизлияние ни к чему.
Помедлив несколько секунд в волнении у доски, Корица обтер с пальцев мел и с достоинством подошел к неизвестному господину.
Ученики, сидевшие на первых партах, отлично видели, как он поспешно и неловко отдернул протянутую, но не замеченную ревизором руку. Так же как их учитель, они почувствовали, что визит этот не предвещает ничего хорошего.
Уже по тому, как этот господин с засунутыми в карманы руками, с нагло сверлящим взглядом прошелся по классу, ясно было, что он готов вот-вот схватить учителя или любого из учеников за шиворот.
Учитель технологии вернулся к доске. Но, когда он собрался продолжать урок, ревизор, окинув взглядом доску и словно отыскав на ней то, что ему было нужно, резко обратился к нему:
— Псст, стой! Скажи мне… — И тут же обернулся к ученикам: — Или нет, лучше отвечайте вы! Пст! Кого бы мне спросить? А ну-ка, пусть кто-нибудь расскажет мне хорошенько и внятно, как обстоит дело с этим… м-м… — Последовало продолжительное мычание, и ревизор со злостью ткнул пальцем в чертеж на доске, словно досадуя на то, что его не понимают: — Ну, что это такое… вся эта галиматья? Отвечай вот ты!
В отличие от Корицы, все более бледневшего, ученики, глядя на этого странного ревизора, развеселились. Визит его сулил им развлечение и давал повод попроказничать.
— Это схема парового котла! — звонко отчеканил Пантелеймон Куку, жизнерадостный и старательный парнишка.
Ревизор недовольно нахмурил лоб. Не это хотел он услышать, другой ответ был ему нужен.
— Паровой котел? — повторил он испытующе. — Паровой… паровой…
Вдруг он остановился и, бросив на Корицу уничтожающий взгляд, резко обернулся к ученику.
— Паровой, ты сказал? Паровой? Из тех, которые могут взрываться? Паровая машина… Ага, котел! Псст! Адская! — прошептал он таинственно на ухо Хородничану. — Адская машина!
Столь удачно ответившего ученика ревизор окинул благосклонным и признательным взглядом. В глазах его заиграли огоньки.
— Браво, молодец, ты мне нравишься!.. А что еще говорил вам учитель? — спросил он тоненьким и сладким голоском. — Где должна быть установлена эта машина, этот котел, паровой котел? Понял мой вопрос? Где? Где?
Ученик стоял несколько секунд задумавшись, затем, довольный, что может ответить и на этот вопрос, выпалил:
— В бане! Даже и у нас не мешало бы… — И с жаром начал убеждать ревизора в необходимости паровой установки в школе. — Баня очень нужна, а хорошо было бы и дезокамеру устроить, потому что…
В классе поднялся шум:
— Валяй! Скажи ему прямо!
— Пригласи его к нам в дормитор!
— Пусть посмотрит, как вши у нас ползают с соломой во рту! — подзадоривали Пантелеймона соседи по парте, подталкивая его локтями.
Шепот, хихиканье, приглушенный смех, такой редкий здесь, все нарастали.
Корица стоял растерянный. В душе он радовался комическому провалу этого „ревизора“, в котором за версту чувствовался шпик, явившийся, очевидно, по доносу именно на урок технологии. В то же время учитель опасался последствий происходящего. Что ни говори, а ответ ученика, смех, шум, перешептывание, злые шутки — все это происходило на его уроке. Однако вмешаться, утихомирить класс учителю не хотелось. Да и сам „ревизор“ лишил его этой возможности.
Иначе отнесся ко всему происходящему Хородничану. Он любой ценой решил вывести „ревизора“ из затруднения.
— Скажите, мальчики, откуда идет к нам дух гуманизма и прогресса? — вмешавшись, спросил он вдруг своим вкрадчивым звучным голосом, сделав Пантелеймону знак садиться.
Да, он, Хородничану, сейчас мог быть вполне удовлетворен мгновенно изменившимся видом класса. Несколько десятков стриженых голов сразу повернулось к нему. Внимательно, доверчиво смотрели ученики на своего любимого наставника. Сделав рукой широкое движение, учитель истории указал на карту Европы, висевшую на стене, и подошел к партам учеников:
— Вот что желал бы услышать от вас господин ревизор… Хм, технология, техника… Конечно, мы знаем — есть любители ловить рыбу в мутной водице, но… — Хородничану и на этот раз говорил с большим жаром, — небольшая наша страна является частью латинской семьи… Франция! Запад! Париж с рабочими во фраках и цилиндрах!..
Закончив тираду, он с усталым видом вынул платок из кармана, долго вытирал лоб, затылок и, не взглянув на „ревизора“, властно подозвал к карте ученика.
Но тот, подумав, простодушно ответил, что не знает, что такое „фраки“ и „цилиндры“, о которых говорил господин преподаватель, а вот баня — она им действительно нужна. Все так же задумчиво, с той же верой в своего учителя истории, он сунул руку под мышку и усердно принялся чесаться.
Раздавшийся в классе смех вывел парня из задумчивости. Ученик быстро отвел руку, покраснел и смущенно опустил глаза.
„Ревизор“ энергичным шагом направился к двери.
— Он не понял вопроса, — оказал ему вдогонку Хородничану, безуспешно пытаясь улыбнуться. — Страна, источник света… — с трудом сдерживая свое раздражение, продолжал он втолковывать ученику, указывая на западную часть карты.
Но оглушительный стук захлопнувшейся за „ревизором“ двери заставил Хородничану поспешно двинуться за ним.
— Тупицы!.. Тупоголовая порода! — пробормотал он и вышел.
А Корица и ученики широко раскрытыми глазами глядели на карту Европы, на которую в этот момент вспрыгнул резвый солнечный зайчик.
Вызванный Хородничану к карте мальчуган протянул вдруг руку к весело игравшему на карте солнечному блику и, щуря удивленно глаза, прочел:
— „Мос-ква!“
Вот каким образом, при помощи осколка зеркала, управляемого сидящим где-то в заднем ряду учеником, и сюда, — в третий — четвертый класс „художественно-ремесленной школы“, проник луч солнца.
Безработные требовали работы. Жены мобилизованных в армию выходили на демонстрации, добиваясь возвращения мужей. Вспыхивали забастовки, восстания. Рискуя жизнью, коммунисты издавали листовки, распространяли революционную литературу, организовывали у ворот предприятий летучие митинги, призывая рабочих к борьбе.
Правда, господина Фабиана непосредственно все это еще не затрагивало. Ремесленная школа жила привычной жизнью. Надзиратели выполняли свои обязанности. Ученики работали. Установленный порядок казался незыблемым. Но происходящие вокруг волнения требовали предупредительных мер.
Преподаватель технологии Николай Корица был уволен из школы.
Одной из главных предупредительных мер, на взгляд господина Фабиана, была полная изоляция учеников от атмосферы, царившей в городе. Директор выработал подробный план. В первую очередь следует поднять забор, добавив несколько рядов колючей проволоки. Замок у ворот заменить другим — специальным затвором, к которому ученики не смогли бы подобрать самодельные ключи. Без увольнительного билета — ни одного шага. Участить переклички в мастерских и общежитии. За самый незначительный проступок — наказания: розги, внеочередные наряды и лишение права выхода в город на продолжительный срок. Надзиратели, мастера и учителя получили в этом отношении самые строгие инструкции.
Хородничану был, правда, того мнения, что не помешали бы и такие „хм… более действенные методы воспитания, как соответствующие фильмы, лекции, хорошо подобранная литература“, но директор лишь презрительно отмахнулся. „Лишние затраты! Найдется у нас и другая игла для их кожуха. В конце концов, — успокоил он собравшихся на совещание педагогов и надзирателей, — речь идет лишь о предупредительных мерах, только и всего“.
Нужно сказать, что у господина Фабиана последнее время было неплохое настроение. Дела шли успешно. Благодаря одному влиятельному лицу директор добился для школы значительного заказа от какого-то министерства. Хотя речь шла только о производстве некоторых мелких деталей, это был жирный кусочек, от которого кое-что перепадало и самому господину Фабиану, не говоря уже о значительном росте его авторитета. Директор школы как бы становился доверенным лицом правительственного учреждения.
Предвиделся в ближайшие дни и хороший заработок от хозяина детского санатория. Изготовление железной ограды было уже закончено, а изображение здорового, красивого и веселого ребенка, выбитого на меди, мастер Цэрнэ должен был вот-вот сдать.
Изготовление деталей по министерскому заказу оживило работу во всех мастерских. Детали эти вытачивались токарями, затем обрабатывались в слесарной и, наконец, поступали к жестянщикам, которые монтировали к пим тонкие пружинки, припаивая их капелькой олова.
Подобного оживления в мастерской жестянщиков никто еще не помнил. Паяние оловом всегда привлекало учеников, но до сих пор такую работу выполняли только старшие классы. Олово считалось ценным материалом, который доверялся не каждому. Паять нужно было тонко, экономно. Для каждой работы в отдельности директор лично выдавал норму олова, требуя потом у мастера отчета за каждый израсходованный грамм.
Ребятам из младших классов полагалось иметь все свое, вплоть до собственного инструмента. „Эти сопляки еще не дают продукции, — говаривал господин Фабиан. — Школа не может доверить им даже напильник: стешут его только попусту. А тем паче олово! Пусть сами себе покупают…“
И вдруг — этакий заказ! Каждому ученику были выданы новый паяльник и инструмент для шлифовки. Олово текло как из рога изобилия. Глаза ребят, разрумянившихся у передвижных жаровен, блестели радостью. Инструмент так и сверкал в их проворных руках. Пружина смазывалась азотной кислотой. Прикосновение раскаленным концом паяльника — и серебристая капля на месте. Легкое шипение — и пружина припаяна. Следующая!
Чтобы придать себе больше значительности, Урсэкие нацепил длинный, чуть не до полу, изодранный фартук, который еще прибавлял ему росту. С важностью прохаживался он по мастерской, останавливался то около одного, то около другого товарища, оценивал на глаз качество работы и, преисполненный ответственности и достоинства, проходил дальше.
Дойдя до какого-то заморыша, который паял в глубине мастерской и так был охвачен азартом работы, что от волнения высунул язык, Урсэкие остановился. Дав малышу щелчок по носу, он вынул из-за уха окурок и взял из рук ученика паяльник.
— Урсэкие Васыле ходит и собирает окурки, а вам хоть бы что! — сказал он, нахмурясь и прикуривая от раскаленного паяльника. Ученик простодушно улыбался в ожидании шутки. Но Урсэкие молчал и жадно сосал окурок, стараясь не обжечь губы. — Чтобы в кратчайший срок были приняты меры! — добавил он с той же суровостью, сердито оттопыривая обожженную губу, но продолжая упрямо затягиваться.
Пристально посмотрев малышу в глаза и словно смягчившись, Урсэкие быстро сунул руку в карман, под фартук, и вынул оттуда свернутую кольцом ленту олова.
— Живо, смотайся к лавочнику, что на углу, — оказал он шепотом, вручая мальчику олово. — Не говори ему ничего. Только отдай олово и возьми табак. Он знает сколько. Пошел бы я, но сам видишь… — подмигнул он плутовато. — Ну-ка, одна нога здесь, другая…
Когда мальчишка убежал, Урсэкие принялся за его работу. По старой привычке жестянщиков, он поднес паяльник к лицу, чтобы определить степень накала, но вдруг сунул его обратно в печурку, подозрительно нюхая воздух: „Откуда это тянет табачным дымом?.. Ага, из будки мастера. Видно, там имеется курево. Но старик ни на минуту не выходит оттуда“.
Весь захваченный работой над медным барельефом, Цэрнэ выходил из будки лишь поздно ночью, когда в мастерской уже никого не бывало. Даже Урсэкие не смел теперь показываться ему на глаза. Единственный, кто имел туда доступ и торчал там целыми часами, был господин Фабиан.
Пристав как банный лист к мастеру-жестянщику, господин Фабиан лихорадочно подгонял его в работе. Директора беспокоило не только недовольство заказчика — он опасался, как бы именно теперь не нагрянула какая-нибудь ревизия. Заказ на железную ограду и медного ребенка отнюдь не был проведен через бухгалтерию школы. К тому же хозяин санатория категорически отказывался уплатить за ограду и даже принять ее без медного ребенка.
— Реклама — это душа коммерции, — говорил он, — основа моего санатория.
А Цэрнэ все тянул со сдачей заказа.
Могло, стало быть, произойти множество неприятностей, которых директор по мере сил старался избежать.
Парни не раз принимались подслушивать у дверей будки Цэрнэ, пытаясь уловить хоть словечко, но, кроме мелких и частых ударов деревянного молоточка для чеканки, никаких звуков оттуда не доносилось. По-видимому, даже директор не осмеливался теперь отрывать мастера от работы.
Ни звука не доносилось из будки и на этот раз. Но вдруг тишину разорвал крик Цэрнэ, полный отчаяния:
— Не могу больше! Не могу!..
Слышно было, как он топал ногами, как звенели разбитые склянки и инструменты, которыми он швырялся. В распахнувшуюся дверь будки с металлическим воем полетели медные пластины — одна! две! три!..
Перепуганные ученики не знали, куда спрятаться, когда в дверях будки, бледный, без шляпы, показался старый мастер. Пошатываясь, он поплелся к верстаку. Дойдя, остановился, перевел дух и нервно отбросил со лба седую прядь. Руки его дрожали.
— Очки! — прошептал он устало, потирая покрасневшие веки. — Дайте мне очки!
Несколько учеников бросились к будке, но в дверях столкнулись с директором. Он отшвырнул их в сторону и, втянув голову в плечи, неслышными шагами подошел к мастеру.
— Значит, художественная работа тебе не нравится? — прошипел он сквозь зубы. — Так я тебя на трубах буду держать! На жестянках! Сгною тебя на этой работе, железяка ты ржавая!
Цэрнэ молчал. Резко обозначившиеся морщины делали еще более сумрачным его пепельно-серое скуластое лицо. Дрожащими пальцами он продолжал поглаживать растерянно мигавшие веки. Его близорукие, невидящие, мутные глаза были устремлены куда-то в пространство.
— Квартира! Стол! Жил у меня, как в пансионе! — Глядя на мастера со злобой и отвращением, директор словно выбирал самое больное место, чтобы нанести удар. — Плата за учение дочки! — продолжал он перечислять свои благодеяния. — Но впредь — кончено! Посмотрим, что ты тогда запоешь, братец! Тогда…
Угрожая, директор подошел вплотную к верстаку. Он, казалось, готов был броситься на старика, разорвать его на части. Но тут взгляд его упал на учеников, которые застыли вокруг, словно каменные изваяния.
— Ну, чего стали? Беритесь за работу! — истерически заорал он, кинувшись к ним со сжатыми кулаками. — За работу, дармоеды!
Ученики не спеша разошлись к своим печуркам, но тут же, словно сговорившись, повернули головы, вопросительно поглядывая на мастера. Подойдя к груде хлама, валявшегося неподалеку от верстака, старик поднял лист жести и, поднеся к глазам, принялся рассматривать. Потом взял в руки молоток и стал выбивать лист, чтобы свернуть его в трубу. Урсэкие, который все время, не трогаясь с места, стоял возле него, бросился к печурке, вынул из нее раскаленный паяльник и, схватив с верстака кучу деталей, бегом направился обратно.
— Пожалуйста, господин мастер, — сказал он, раскладывая перед Цэрнэ все необходимое для работы. — Вы припаивайте пружинки к деталям, а на жестянках будем работать мы.
Он многозначительно мигнул ученикам.
Не успел Урсэкие закончить, как все молодые жестянщики уже столпились подле мастера, словно давно ждали этого призыва. Каждому хотелось получить из рук старика трубу.
Переведя взгляд на ребят, Цэрнэ принялся внимательно оглядывать их, словно видел в первый раз. Взяв с верстака одну из принесенных Урсэкие деталей и подержав ее задумчиво на ладони, он вдруг с отвращением и даже с каким-то страхом отшвырнул ее. „Не буду я их делать…“ — пробормотал он с мукой в голосе. Затем сбросил с верстака остальные детали и молча принялся за жестяные листы для труб.
Растерявшись при виде происходящего, директор сначала стоял, как пригвожденный к месту. Затем быстрыми шагами направился к винтовой лестнице. Стук его каблуков по ступенькам прозвучал, как короткая, внезапно смолкшая барабанная дробь.
Как только директор исчез, двое учеников вошли в будку и долго шарили там, отыскивая шляпу и очки мастера. Шляпу они нашли измятой на полу, среди осколков стекла и старых болванок. Очки же как будто сквозь землю провалились.
Выйдя из будки, ребята продолжали свои поиски у входа в нее. Отшвыривая в сторону старые желоба и дырявые баки, они вдруг наткнулись на медные листы, выброшенные сюда мастером во время перепалки с директором. Ребята подняли их. На каждом листе было одинаково выбито тельце младенца.
— Тихонько, не уроните, — растроганно прошептал один из учеников, с восхищением глядя на барельефы.
Они действительно были исполнены мастерски, но ученики с недоумением переглянулись: всем младенцам одинаково не хватало лица. Там, где должны быть глазки, ротик, пос, едва виднелись неглубокие вмятины.
Парни робко подошли к Цэрнэ.
— Мы нашли только шляпу. Вот она, господин мастер, — сказал один, смущенно разглаживая поля. — А очков нет.
Согнувшись, мастер заканчивал в это время колено трубы.
— А? — спросил он рассеянно, не прерывая работы.
Урсэкие взял из рук учеников медные пластины и, разглядев выбитые на них изображения, поскорее, чтобы не заметил старик, передал их дальше.
— Вам принесли шляпу! — крикнул он ему на ухо. — А очков нету!
— А? Очков… — вздрогнул мастер.
— Нет их! Очков нет! — наклонившись к самому уху мастера, старался втолковать ему паренек, тот, что принес шляпу. — Но все равно вы в них плохо видели. Старые были. Другие очки вам нужны, господин мастер! Новые!
— Да, да… — ответил старик. Он потер глаза и еще раз пробормотал: — Да, да…
Во время обеденного перерыва в мастерской жестянщиков собрались и другие ученики. Жестянщики с хозяйским видом рассаживали гостей, наводили порядок, устраивали „сцену“ и „декорации“. Их озабоченные лица светились гордостью. Они по праву считали себя сегодня героями дня.
О скандале, разыгравшемся между директором и Цэрнэ, слышала уже вся школа, но жестянщики были очевидцами этого скандала. И не только очевидцами, утверждали они, но, если не скромничать, даже участниками.
Не удивительно, что в перерыв, в час отдыха, сюда привалило столько народу, с нетерпением дожидавшегося начала спектакля!
Только Урсэкие, который столько раз перевоплощался то в одного, то в другого и дал на этой самой сцене уже десятки представлений, именно он, Урсэкие, был сегодня „не в своей тарелке“. Какая-то неуверенность, необъяснимые сомнения мешали ему выйти на сцену.
Однако бурные вызовы „публики“ дали ему понять, что теперь уже податься некуда. Ученики торопили его с началом спектакля. Урсэкие не мог больше медлить…
Итак:
„Старик Цэрнэ“ стоит огорченный, в глубокой задумчивости над тремя медными листами, на которых выбиты безликие младенцы. Вдруг в будку вбегает „Фабиан“. Молча усаживается на чурбан и, вытирая потную шею, застывает в выжидательной позе. Он как на иголках, но старается сдержать себя. Наконец, не выдержав, вскакивает. (Урсэкие делает льстивую мину).
— Сроду не видывал такого чудного старикана, как ты! — притворно-ласково кричит он на ухо мастеру. — Ну, что ты столько возишься с этим заказом? Какой-то пустяк из меди, а ты никак его не кончишь! Ну посмотри, это уже третий лист! Бьешься, чудак, дни и ночи, просто сердце разрывается от досады на тебя. — „Фабиан“ делает паузу, словно размышляя, потом продолжает еще более вкрадчиво: — Медь, сколько ее ни бей, друже, так и останется медью. Больше, чем сторговались, заказчик все равно за рекламу не даст. Ни одного пара[10] не даст больше, ни одного крейцера…
„Цэрнэ“ молчит. С долотцом в одной руке и с молоточком в другой он сидит, как пригвожденный к верстаку. Только взгляд, устремленный вперед, беспокойно ищет что-то, буравит лежащую перед ним медь. „Фабиан“ начинает нервничать.
— Да выдолби ты ему, наконец, глаза! — кричит он с досадой. — Две дырочки — и баста! И чтоб щечки у него были потолще. Чтобы крепыш был! Пятак на чай, которого ты ждешь от хозяина санатория, дам тебе я. Я, из собственного кармана!
Так представил Урсэкие на „сцене“ оставшуюся неизвестной причину конфликта, вспыхнувшего в будке Цэрнэ.
Второе действие, когда мастер в гневе выбросил из будки листы, пошло живее: Урсэкие изображал то, что он сам видел и пережил. Правда, кое-где артист немного приукрашивал. Так, сцена, когда Фабиан, крича, набросился на учеников с кулаками, была разыграна с явными отступлениями от истины не в пользу директора. В передаче Урсэкие „господин Фабиан“ все время оставался в дураках из-за отваги и находчивости ребят-жестянщиков. Гром аплодисментов показывал, что зрители всему верят и все одобряют.
К концу представления игра Урсэкие стала менее выразительной, движения — принужденными, вялыми. Ребята наблюдали появление на „сцене“ нового действующего лица — Оскара Прелла. Урсэкие наспех смочил и зачесал волосы, словно они лоснились от помады, сделал прямой пробор, навел углем усы, повесил на живот толстую цепочку от часов — и ученики сразу узнали мастера-немца из слесарной, особенно интересовавшего их. Об этом человеке ни у кого еще не сложилось определенного мнения. Поведение его было иной раз настолько странным, что многих сбивало с толку.
Большую часть рабочего дня Оскар Прелл проводил в своей собственной мастерской, которую устроил неподалеку от школы, во дворе богатой усадьбы, обнесенной высоким забором. Ни для кого не было секретом, что он часто использовал учеников для работы у себя дома. Некоторые утверждали, что Прелл переманивает к себе клиентов, заказчиков ремесленной школы. Иногда к нему приходили какие-то неизвестные люди, он запирался с ними за своей перегородкой в мастерской, и никто не знал о цели этих тайных и странных визитов. Дирекция смотрела сквозь пальцы на все махинации мастера, и мало-помалу все свыклись с этим.
Однако мастер удивлял учеников своей почти открытой солидарностью с ними при стихийных вспышках протеста против дирекции. Кое-кто из слесарей даже видел в нем, если не помощника в их постоянных стычках с дирекцией (они понимали, что его положение начальника мастерской не позволяло этого), то, во всяком случае, некоторую опору. Кто из учеников не знал пристрастия Прелла к непокорным! Его скупые, немногословные, но продуманные и вовремя брошенные замечания много значили для учеников в их беспросветном существовании. Никто другой из мастеров не решался на что-либо подобное.
— Шмуциге…[11] лапотники! — отзывался он с презрением о школьном начальстве. — Нужно их, о… — И таинственным жестом пронзал ногтем большого пальца воздух.
Каким же должен был Урсэкие изобразить Оскара Прелла, так некстати попавшего в его импровизацию? Высмеять его? Или показать с хорошей стороны? Чьим сторонником его представить — директора или учеников? Урсэкие не знал. А обойти мастера Прелла было нельзя. Без него представление не могло окончиться. Урсэкие решил положиться на факты.
Вскоре после ухода Фабиана у жестянщиков совершенно неожиданно появился мастер-немец. Удивление учеников еще больше возросло, когда они увидели, что он направился прямо к Цэрнэ. Никто никогда до сих пор не видел этих двух мастеров вместе. Причина их взаимного отчуждения была неизвестна, и ее объясняли просто несходством характеров. И вот теперь солидный и подобранный Оскар Прелл стоял перед невзрачным и сгорбленным Цэрнэ.
— О, камрад! — воскликнул улыбающийся Прелл, увидев, что старик занят трубами. Разразившись громким смехом, он по-братски взял его за руку. — Ха-ха-ха-ха! Первый мастер-чеканщик — и вдруг на трубах, на жести! Ха-ха-ха-ха! Пойдем туда, — внезапно переменил он тон, повелительно показав на будку.
Не поднимая глаз от работы, старик угрюмо отмахнулся:
— Никуда я не пойду.
Тогда Прелл бросил на учеников многозначительный взгляд, которым, видимо, давал понять, что он желает остаться наедине со старым мастером. Ученики, однако, не тронулись с места. Увидев это, немец кивнул головой: ладно, они мне не мешают.
— Скажи, — спросил он старика тоном, полным сочувствия, — а где же твое произведение из меди — вундеркинд, чудо-дитя?.. Мои слесаря работали без передышки, пока не закончили железную ограду. А теперь из-за тебя все идет насмарку… Нет вывески. Чеканщик по меди, хе!..
Не получив и на этот раз ответа, немец постоял молча, затем вдруг вырвал из рук Цэрнэ трубу.
— Найн, коллега! Нет, нет! — вскричал он голосом, дрожащим от негодования, и швырнул трубу на пол. — Я не могу видеть первейшего мастера за какими-то трубами. Пфуй! Дисквалификация! Это унизительно для любого специалиста…
Наступив ногой на трубу, Прелл смял ее:
— Вот… Теперь хорошо…
Он быстро собрал горсточку разбросанных по верстаку деталей и, с уважением взвесив их на ладони, протянул старику:
— Вот это механизм! Есть над чем головой поработать!
Цэрнэ, который до сих пор молчал и только хмурился, неожиданно выпрямился и, схватив с верстака детали, гневно швырнул их на пол. Но и этого показалось ему мало, он еще оттолкнул их ногой. Затем, повернувшись спиной к Преллу, он так и застыл, уткнувшись лицом в сухие, черные ладони, невзрачный, сгорбленный — „ржавая железяка“.
Кто знает, на что способен был в ярости мастер-немец! Однако в присутствии учеников он ограничился крепким немецким ругательством и удалился. Железные ступеньки лестницы снова, на этот раз глухо, прогремели под тяжелыми шагами Оскара Прелла.
Таковы были факты, и так пытался воспроизвести их Урсэкие. Но когда он дошел до того момента, когда Цэрнэ с негодованием швыряет детали, из „публики“ раздался возглас:
— А почему? Почему господин мастер не хотел их делать?
Урсэкие остановился на полуслове. Его забавной мимики как не бывало. Чувствовалось, что этот вопрос занимал его самого.
— А правда, почему это Цэрнэ так не по нутру детали сифонных головок? — спросил еще кто-то.
Урсэкие этого не знал. Он виновато уставился в „зал“, как будто ожидая оттуда помощи. Но товарищи смотрели на него разочарованно, как будто утеряв интерес к представлению. Это показалось ему самым обидным.
Урсэкие сошел со сцены.
Это был его первый провал. Вытирая рукавом наведенные углем усы, он, подавленный, опустился на груду жестяного хлама у стены.
Что за человек Оскар Прелл? Что за человек мастер Цэрнэ, и кто, в конце концов, он сам, ученик Урсэкие Васыле?
Немец — богатый человек, владелец собственной мастерской, он эксплуатирует учеников и в то же время высказывается против существующего порядка, поддерживает бунтарей. Старик Цэрнэ такой замечательный мастер — и вдруг столько времени не может выбить на меди лицо здорового, веселого ребенка. Соглашается на грубую неквалифицированную работу, а от изготовления деталей отказывается…
Почему?
Взволнованный, Урсэкие понимал, что сегодня он был свидетелем и участником событий, имеющих глубокие корни, скрытые от его глаз. Он не мог разобраться, проникнуть в их истинный смысл. И в этом — причина его сегодняшнего провала. Он не знает настоящих ролей тех людей, которых изображает. И своей собственной роли он также не понимает.
Надтреснутый звон колокола возвестил о возобновлении работы.
В этот вечер надзиратель Стурза был доволен. Осмотр четвертого дормитора, считавшегося самым беспокойным, прошел благополучно. Было тихо. Все ребята находились на своих местах. Только около большой железной печки чернели силуэты двух — трех учеников. Но сейчас это не беспокоило надзирателя. Будь дело зимой, он тотчас раскидал бы дрова в печке. Эти обжоры и дармоеды завели привычку целые ночи напролет печь свеклу и картошку, наворованные из школьного погреба. Не говоря уж о том, сколько дров уходит!
Но теперь печка не топится. Сегодня в четвертом дормиторе темно и тихо как никогда. Только на „чердаке“, на верхних нарах, еще дымится коптилка. „Латают свое барахло, — решил про себя Стурза, — или, может, вшей ищут. Ну и черт с ними! Хорошо, что тихо, спокойно. Не надоедают вечными своими вопросами, дерзостями“. Тревожимый подозрениями, он сверлил взглядом темноту „подвального этажа“. Самые оскорбительные выкрики, брань, угрозы неслись обычно именно оттуда, с нижних нар. Ученики слыхали однажды слова Стурзы, что он хоть и уроженец Бессарабии, но является, однако, чистокровным румыном и не выносит этих „костя и совестя“[12]. С тех пор во время перекличек „подвалы“ встречали его выкриками: „Чисто-о-кров-ный! Чисто-о-кров-ный! Коровий хвост!“ С фонарем в руке надзиратель кидался туда, откуда раздавался крик. Но койка либо пустовала, либо лежавший на ней невинно и сладко храпел. Надзиратель метался в поисках виновного, в бешенстве раскидывая одеяла, а откуда-то сверху на голову ему сыпалась труха из матрацев. Весь дормитор ходуном ходил от хохота. Насмешливые выкрики неслись то с одной, то с другой стороны. Попробуй-ка, найди тут виноватого!
Сегодня все было спокойно. Стурза прикрутил фитиль в фонаре. Стараясь не скрипнуть дверью, он тихонько вышел. Тш-ш! Пускай себе спят. Чтоб им век не просыпаться!
В дормиторе действительно царила тишина: ученики валялись на койках, не сняв рабочей, засаленной одежды. Но спали немногие. Нередко выпадали такие вечера, когда пережитое за день тревожило душу ребят; грустные, притихшие, лежали они на своих нарах, задумчиво глядя в темноту. Иные неподвижно, в мрачном молчании сидели возле печки, грызя ногти. А улегшись, беспокойно ворочались, вздыхали до поздней ночи, пока истомленный мозг не окутывало черным, непроницаемым туманом и они не погружались в сонное оцепенение. Так было и сегодня вечером.
Моргала коптилка. При ее слабом свете Горовиц обдумывал сложную схему замка. Карандаш бегал по бумаге, воплощая „идею“ изобретения в чертеж.
— Зубец! — шептал Горовиц возбужденно. — Стальной зубец. Никакой ключ не подойдет, кроме ключа конструктора. И никто другой не сможет смастерить его.
Согнувшись в три погибели над коптилкой и пряча от постороннего глаза под одеяло брошюру, Доруца погрузился в чтение.
— Вот, — поделился с ним радостью Горовиц, — придумал! Зубец…
Вздрогнув, Доруца спрятал брошюру под одеяло.
— Смотри! — слесарь победоносно помахал чертежом перед его носом. — Собственная модель. Пусть попробует кто-нибудь его открыть! На страже стоит зубец затвора!
— А, замок! — сказал Доруца, с презрением отстраняя бумагу. — Чтобы запирать богатства? Или тюремную камеру? Или наручники, может быть?
Смерив злополучного изобретателя гневным взглядом, он приподнял край одеяла повыше, намереваясь продолжать чтение.
— Копайся, конструктор, копайся! — заключил он со злобой. — Найдутся руки, что сорвут затворы, сломают зубец, снимут твою стражу!
Счастливое лицо Горовица сразу потемнело, словно погасло от дуновения холодного ветра. Он хотел спросить, добиться объяснения:
— Доруца!
Но Доруца уже ничего не слышал. Из-под одеяла слышался только тихий шелест перелистываемых страниц. Доруца отсутствовал…
Койка Урсэкие была в „подвале“. Заложив руки за голову, он лежал, задумчиво уставясь да свои длинные ноги. На краю постели сидел Фретич.
— …Вот и все, — шептал он. — Мы давно держали тебя на примете, жестянщики тебя любят, прислушиваются к тебе. Одно время, правда, мы сомневались, можно ли тебе доверять… Думали — может быть, ты все делаешь только смеха ради, для потехи, и больше ничего. Но теперь мы думаем, что ты должен бороться вместе с нами. Так решила наша ячейка… Я сам знаю еще очень мало, но в одном я уверен: единственно правильный путь — путь коммуниста, и никакой другой! Хозяева нас ненавидят, угнетают, но народ нас поддерживает…
Словно смущенный своей горячей речью, Фретич замолчал. Поднялся, настороженно огляделся, сделал несколько шагов по узкому проходу между койками, дошел до дверей, постоял и снова вернулся. На его лице играл колеблющийся свет коптилки. Он улыбался своим мыслям.
— Если ты чувствуешь себя достойным вступить в нашу организацию, — прошептал он взволнованно, — я буду рекомендовать тебя в Союз коммунистической молодежи. Это — то же, что советский комсомол…
Урсэкие слушал его безмолвно и неподвижно. Можно было подумать, что он дремлет. Фретич умолк. Но Урсэкие и теперь не шелохнулся.
На стену дормитора падала огромная тень головы Горовица. Силуэты нескольких учеников, словно изваяния, неподвижно застыли вокруг печки. Урсэкие вздохнул.
— Как можете вы… Я… я ведь никчемный, никудышный парень, я… я… Жестянщики, говоришь, любят, слушаются меня? Вы считаете, что я могу стать борцом? Э-э, брат… Коммунисты — это особые люди, сильные, отважные, умные. А я кто? Я обломок, щепка. Я ведь даже и не ремесленник. И никогда им не буду. Жестянщик я только потому, что нужда заставляет. Понимаешь ты меня, Александру? Тебе вот, ты говоришь, нравится театр, который показывает все так, как есть в жизни. И мне такой театр нравится. Да не понимаю я многого в жизни, а потому и играю плохо. Эх…
Урсэкие опять вздохнул.
— Старик мой гнал меня из дому, — снова начал он после долгого молчания. — „Учись какому-нибудь ремеслу, пропащий ты человек! Надо же заработать себе кусок хлеба. Театр не ремесло. Бродяга ты! Пропадешь с голоду. Будешь мыкаться по базарам, комедиант! И имени человеческого у тебя не будет…“ Колотил меня, а сам украдкой плакал. Да, плакал старик. И все-таки поставил на своем. Плохо ли это, хорошо ли, но определил он меня сюда, в ремесленную школу. Насильно! Только из жалости к нему я и остался здесь. А сам-то он был бродячим актером, всю жизнь мечтал о сцене. Мечтал, да не суждено было этим мечтам сбыться. Чего только он не перенес! Одно время работал в бродячем цирке, клоуном. Потом состарился, не мог больше смешить публику… Выбросили, как тряпку. И все-таки он и теперь еще держится за театр. Рассыльным. Эх, сцена!..
Перестав читать, Доруца прислушивался к разговору в „подвале“. Заинтересовавшись, он отбросил одеяло и свесился вниз. На лицо Урсэкие посыпалась соломенная труха из прорванного матраца, но он не обратил на это внимания.
— И я вот тоже все никак не могу найти себе места, — не меняя положения, с горечью говорил он. — Никак не могу. Мастер Цэрнэ… Все время он у меня перед глазами. Уже не один год я возле него, а вот изобразить его не могу. Не выходит. И Оскара Прелла тоже. Не понимаю их и вообще многое не понимаю. Все запутано! Ой, как запутано! Ну вот, например, какая-то деталь, головка сифона! Ну что может быть проще! Пружинка, припаянная оловом. Только и всего. А какая вокруг суматоха! И олова дают сколько угодно, и инструменты новые… Вся школа занята этими головками. Директор говорит, что это самый крупный заказ за последнее время. А Цэрнэ вот почему-то отшвырнул от себя детали, видеть их не хочет. Прелл же — наоборот… А кажется, такой пустяк! Обыкновенная сифонная головка!
— Да, что-то уж больно много сифонов с некоторых пор понадобилось господам, — злобно прервал его Доруца. — Как видно, они совсем перестали пить вино и спрос только на газированную воду. Или, может, эти сифоны нужны им, чтобы охлаждать других?.. Да для сифонов ли эти детали, что мы изготовляем?
Урсэкие резко рванул руки из-под головы и, опершись на локоть, устремил удивленный взгляд на Доруцу. Словно увидев что-то невероятное, он порывисто спрыгнул с койки:
— Может быть… Может быть, вы сможете объяснить и мне… Я… ну, вы сами видите… ни то ни сё, сын бродячего комедианта… а Союзу молодежи нужны особые люди… Но, может быть…
Урсэкие неловко схватил руку Фретича.
— На побегушках у вас буду! — зашептал он горячо. — Пойду, куда бы вы меня ни послали. Где потрудней!
— Ладно, братец Урсэкие, — мягко отозвался Фретич. — И вовсе не на побегушках, а вот что ты будешь делать…
Рассеченный оконным переплетом столб лунного света падал в дормитор. Вот он коснулся блестящей дверцы большой железной печки, и казалось, что в глубине её кто-то раздул огонь, что ученики, вздремнувшие возле нее, греются у огня. Свет луны проник и в „подвал“, выхватив на мгновение из темноты руку Фретича на плече Урсэкие.
Было тихо. Большинство ребят спало. Лишь немного позже, когда темнота начала уже редеть, что-то с грохотом свалилось на нижние нары. Это чей-то ботинок упал с „этажа“.
Разорвав на мгновение путы сна, кто-то со вздохом повернулся на другой бок.
А потом в четвертом дормиторе уже ничего не было слышно, кроме спокойного и уверенного шепота Фретича.
Облик товарища Виктора глубоко запечатлелся в умах школьной молодежи, недавно включившейся в революционное движение. Его манера держаться соответствовала их пылким, романтическим представлениям о борцах-революционерах. Сильное впечатление произвел он и на двух учеников ремесленной школы, познакомившихся с ним в домике на окраине, куда привела их Анишора. Виктор был высокий юноша с бледным, худощавым лицом, на котором лихорадочно и тревожно блестели большие синие глаза. Кудрявые черные волосы его беспорядочно падали на лоб. Он всегда ходил с непокрытой головой, в косоворотке, подпоясанной шнуром, с распахнутым воротом, открывавшим его загорелую шею. Стоптанные ботинки как бы доказывали, что владелец их не обращает внимания на внешность и полностью отдается своей кипучей деятельности.
Исключенный из гимназии за несколько недель до ее окончания, Виктор порвал со своими родителями (он был из семьи крупного адвоката), с родным местечком и полностью посвятил себя Союзу коммунистической молодежи, в члены которого вступил еще до исключения из гимназии. Единственным его средством существования были частные уроки, благодаря которым он продолжал поддерживать связь с гимназистами. Городской комитет комсомола поручил ему работу с учащимися, и хотя у него была подпольная кличка, все называли его „интеллигент“.
Виктор изо всех сил старался избавиться от остатков „проклятого воспитания“, полученного в родительском доме. Он мечтал уподобиться рабочим, людям из народа; кем угодно хотелось ему быть, но только не интеллигентом. В свободные минуты он бродил по рабочим окраинам, поглядывая на горбатые глиняные лачужки: „Эх, родиться бы мне в такой хибарке!..“
Постепенно в его речи начали появляться слова „паразит“, „собачья жизнь“ и другие выражения, услышанные от рабочих. Жил он очень трудно, иной раз голодал, и часто ему негде было приклонить голову. Но он не обращал внимания на эти лишения и втайне даже гордился ими, считая, что таким образом он как бы держит экзамен на стойкость. Кроме того, думал он, это приближает его к народу, закаляет его революционную волю.
Виктор был предан делу и старательно выполнял поручения организации. Однако работа среди учащихся не давала ему удовлетворения.
„Сынки помещиков, торговцев и чиновников — вот кто учится в гимназиях, — говорил он пренебрежительно. — Буржуйское отродье…“
Однажды ночью Виктор неожиданно был вызван на свидание с самим товарищем Ваней, секретарем городского комитета комсомола. Предстоящая встреча глубоко взволновала Виктора. С товарищем Ваней ему еще никогда не доводилось встречаться. Виктор только понаслышке знал, что товарищ Ваня — бывший рабочий-металлист — был присужден заочно к длительному тюремному заключению и ушел теперь в глубокое подполье. „Настоящий большевик“, — говорили о нем товарищи.
Явившись на свидание и услышав условный отзыв на пароль, Виктор почувствовал, как сильно заколотилось его сердце. Какими словами разговаривать с таким человеком?
— Товарищ Ваня, — пробормотал он растерянно, — не стоят все эти обыватели-гимназисты, чтоб вы рисковали ради них свободой. Зачем вам понадобилась встреча со мной?
— Не болтай зря! — прервал его спутник и потянул Виктора за собой. — Ты хорошо проверил, — спросил он, окидывая юношу взглядом, — не тащится за тобой ка-64 кой-нибудь хвост? Давай еще раз проверим. Профилактика…
Побродив по кривым переулкам, они свернули в тупичок, и здесь спутник Виктора замедлил шаг.
— Как будто чисто, — сказал он, все еще оглядываясь по сторонам. — Теперь иди вперед, там ты встретишься с товарищем Ваней. Но только не повторяй ему этих глупостей, слышишь?
От забора отделился стройный широкоплечий человек и протянул Виктору руку.
— Добрый вечер, Виктор, — спокойно и уверенно произнес он вполголоса.
Они пошли рядом. В темноте нельзя было разглядеть лицо товарища Вани, но Виктору показалось, что он различает его светлые волосы. „Светловолосый“, — подумал он.
Они вышли на площадь. Сквозь ночную тьму едва пробивался свет звезд. Невдалеке стоял на часах другой товарищ. Секретарь горкома стал расспрашивать Виктора, как он живет, получает ли вести от своих домашних. Виктор посмотрел на него с недоумением. За кого он его принимает? Дом, родные — это все уже далекое прошлое, с ними он давно порвал. Как он живет? Вот как…
— Коммунистическая молодежь отлично отдает себе отчет в том, что буржуазия хочет напасть на Советский Союз, — сказал он горячо. — Враг прокладывает себе кровавую стезю через наш край, чтобы сады и поля сделать плацдармом для нападения…
— Это верно, — задумчиво отозвался секретарь. — А что говорят гимназисты, что они предпринимают против этого?
— Ха! Гимназисты! Мне месяцами приходится караулить у ворот школ, чтобы установить связь. Конспирация! Разве можно им доверять? Нет у них революционного духа… Знаю я их нравы, их гнилую мораль!
Секретарь тихо рассмеялся.
— И почему это товарищи называют тебя интеллигентом? — произнес он задумчиво. — Боюсь, Виктор, что ты — только так называемый „интеллигентствующий“. Почему ты думаешь, что другим недоступно то, что понятно тебе? Или, может быть, ты причисляешь себя к „избранным“ и потому так трудно сходишься с людьми? Месяцами караулишь у ворот школ, а оттуда десятками выкидывают учеников за невзнос платы за учение. Мы заводим такую глубокую конспирацию, что не видим, как безработица толкает их в ряды деклассированных. А моральный упадок — это почва для фашизма.
Темнота все сгущалась. Товарищ Ваня вел Виктора по невидимой тропинке, и тот все время чувствовал его сильную руку. Вдали слабо мигали огоньки окраины.
— От народных масс нам нечего скрывать, — продолжал секретарь. — Из боевой программы партии мы не вправе делать тайну. Мы обязаны использовать все легальные возможности. Пусть увидят наше лицо, услышат наш голос. И не только в нашей подпольной ячейке комсомола, но и в открытой борьбе. Иначе, товарищ Виктор, мы станем сектой, масса будет считать нас не революционерами, а болтунами… Нет у тебя веры в людей, — сказал он сурово. — Ты забываешь, видно, что, поручая тебе ответственное задание, организация выразила тебе большое доверие. Большое!..
Сзади послышались быстрые шаги связного.
— Берегитесь, — прошептал он на ходу. — На углу появилась морда „бациллы“![13]
— Товарищ Ваня, — прошептал вдруг умоляюще Виктор, — пошлите меня к рабочим! Мне хочется работать среди настоящих пролетариев, людей с мозолистыми руками. Там я выполню любое поручение, каким бы трудным оно ни было… Прошу вас. товарищ Ваня! Пошлите меня к рабочим…
Секретарь потихоньку высвободил руку и, спокойно оглядевшись, прибавил шагу.
— На той стороне площади нам надо расстаться, — сказал он с сожалением в голосе, положив руку на плечо Виктора. — Ты свернешь направо у глиняного карьера. Там выйдешь на дорогу в город. Будь осторожен, когда ходишь… В ближайшее время городской комитет рассмотрит вопрос о работе с учащимися. Ты получишь подробные инструкции. Будь готов.
Секретарь помолчал мгновение и, глядя на отдаленные огоньки окраины, задумчиво продолжал:
— Да… так ты хочешь быть среди рабочих? Понимаю тебя, товарищ Виктор. Чувствовать локоть товарища по труду, горячее его дыхание! Чтоб пришел твой черед пикетировать во время забастовки…
Он жадно вдохнул свежий воздух, и в этот миг Виктору показалось, что жар, тлеющий в груди товарища Вани, вот-вот вспыхнет пламенем и голос, сейчас приглушенный до шепота, вдруг загремит, полный порыва. Но секретарь, все еще мечтательно глядя на далекое мерцание окраины, только глубоко вздохнул.
— Да, быть в народе!.. Вся эта профилактика, — прошептал он взволнованно, — вечная оглядка на „бацилл“, жизнь в подполье — все это по необходимости, товарищ инструктор. Только по необходимости. Верь — настанет другое время!
Секретарь заглянул Виктору прямо в глаза и крепко сжал его руку:
— И раз тебе так дороги рабочие, ты с ними встретишься. В борьбе встретишься с ними. Рабочие предпочитают именно так узнавать людей, только надо идти с ними до конца…
Возле них из темноты снова вынырнул связной.
— Уйдем отсюда, — сдержанно, но настойчиво сказал он. — Не нравится мне это место… Беспокоит меня тот тип. Как бы это не оказался какой-нибудь „пост фикс“[14].
— …Так, товарищ, — закончил секретарь, обращаясь к Виктору. — До конца! — И снова крепко пожал ему руку. — А теперь иди.
Товарищ Ваня долго смотрел вслед Виктору, хотя силуэт его сразу растворился во мраке. Из задумчивости вывел его связной.
— Я задержусь, погляжу, что будет делать тот тип, — сказал он. — В случае чего, возьму его на себя. Когда мы увидимся?
— В четыре утра контрольное свидание, — ответил секретарь. — Смотри только не выкидывай таких номеров, как тот раз, когда ты таскал за собой „бациллу“ ночь напролет и в конце концов привел к архиерейскому дому… Ну-ка, я шмыгну сюда…
Секретарь ловким движением перепрыгнул через низенький колючий плетень из гледичии.
Тонкие травинки, которых товарищ Ваня коснулся рукой, стараясь пригнуться пониже, запах молодой полыни, одуванчиков и чертополоха, таких нежных, пока они еще не подросли, и умиротворяющая тишина вокруг — все это показалось ему каким-то другим миром.
Он залюбовался очертаниями старого ореха с широко раскинувшимися ветвями. „У таких стариков, — мелькнула у него мысль, — могучие, узловатые корни, они выступают на поверхности и снова уходят в глубь земли, туда, где больше влаги, где залегли нетронутые пласты чернозема. От каждого такого корня тянется к небу свежий и сильный молодой ореховый побег“.
Товарищ Ваня услышал, как бьется его сердце, и невольно обернулся к мерцающим огонькам окраины, до которых, казалось, было рукой подать.
„А что, если завернуть туда ненадолго? С каких пор не видались! Чего только она не передумала, наверно, бедняжка!..“
Секретарь горкома, подумав несколько мгновений, внимательно огляделся и, крадучись, чтобы не поднять какую-нибудь голосистую собаку, избегая открытых мест и хоженых тропинок, быстро пошел на окраину города.
Миновав зловонный ров, тянувшийся чуть ли не у самого порога крайних домишек, товарищ Ваня сдвинул на затылок кепку и выпрямился.
Нет, конечно, конспирация — это непреложный закон. Но, когда попадаешь в свой родной рабочий квартал, забываешь об опасностях: не посмеют же эти ишейки сунуться сюда ночью!
Порыв молодой уверенности охватил его при виде кривых и узких улочек, где лишь изредка возвышалась каменная стена какой-нибудь мастерской покрупнее, труба паровой мельницы или маслобойки.
„Вот наша пролетарская крепость — опора бессарабских городов и деревень!“
Дойдя до чахлой акации, которая бог весть откуда взялась на этой вытоптанной, голой земле, он остановился.
У дороги стоял сколоченный из горбылей, позеленевший от времени домик. Товарищ Ваня тронул дверь — она была на засове. Он обошел дом кругом, вернулся, бесшумно снял с петель ветхую дверь и, снова водворив ее на место уже изнутри, опять запер на засов.
— Кто там? — послышался в темноте женский голос.
Здесь не спали.
— Это я, мама, я…
— Сыночек… ты?! — Маленькая, худенькая, она так и прильнула к сыну. — Сыночек мой дорогой! Я уже стала тревожиться… Все ищут тебя… Где ты ночуешь? Чем кормишься? Бедный мой мальчик! Кто тебе постирает, кто присмотрит за тобой?..
Обняв сына, женщина словно захлебнулась, и Ваня почувствовал на груди теплые материнские слезы.
— Бесприютная ты моя головушка! — запричитала она над ним. — О господи, и за что это мне, за что?..
— Ну, успокойся, мама, — сказал Ваня, бережно усаживая ее на лавку. — Вот он я, живой-здоровый! И какой же я бесприютный, когда я — среди своих! Расскажи лучше, как поживаешь, как соседи живут?
— …Похудел — одни косточки, — продолжала мать, — верно, еще с утра ничего во рту не было… Ох, грехи мои!.. Поставлю-ка чай, есть и сухари. Подкрепишься маленько. А я тем временем воды согрею — помоешься… Вот только опаец [15] зажгу…
Мать хотела подняться, но сын удержал ее:
— Не надо зажигать свет, мама. Не полагается. И не голоден я — недавно ел. Расскажи, как живешь? Трудно, верно, тебе одной… А я вот пришел к тебе ни с чем, — сказал он, вздохнув, и взял маленькую загрубевшую руку матери. — Потерпи, мама, недолго осталось. Настанет день… А сейчас вот — ничего не принес.
— Много ли мне одной надо! Да и не оставляют меня, помогают: железнодорожники, бедняги, помнят твоего покойного отца. — Голос ее дрогнул. — Вот ты пришел, а я и наглядеться на тебя не могу, ни покормить, ни помыть, — вздохнула она горестно.
— Ладно, мама! Завесим окно, зажжем плошку и посмотрим друг на друга, попьем чаю вместе, — решился вдруг Ваня.
Мигом окно было завешено рядном. Мать вытащила из сундука блестящий, видно давно не бывший в деле, пузатый самоварчик.
— А ты отдыхай, не спал, видно, хороший мой. Разувайся, ложись, вот и подушка твоя вышитая.
Мать захлопотала у самовара и поставила его на загнетку.
Маленькое, подслеповатое окошко, провисший, готовый рухнуть потолок, глиняный пол, заплесневевшие стены с пятнами сырости внизу (все от проклятой канавы), но как дорого было все это Ване в отчем доме!
Мать приладила к самовару старый сапог и, растягивая и сжимая голенище, стала раздувать угли, словно кузнечными мехами. Так и отец бывало, вернувшись из кузницы, раздувал самовар, когда вечером у них собирались потолковать друзья-рабочие, засиживаясь порой до рассвета. Это были люди с осунувшимися, небритыми лицами, в рваных куртках. Потемневшими пальцами держали они блюдечки с чаем. Но они казались мальчику красивыми и могучими, так ослепительно сверкали их зубы, когда они смеялись, так горели их глаза, когда они говорили! Мать бранилась: „Что ты, словно совенок, всю ночь глаза таращишь!“ А отец заступался: „Ладно, Евдокия, пусть послушает, пусть послушает…“
Он погиб на демонстрации, сраженный жандармской пулей. Отец его пал в борьбе… Но поднялся он, Ваня. Поднялось столько новых коммунистов!..
Мать поставила на стол кипящий самовар, перед тем как налить чай, погрела над паром стаканы.
— Ешь, сыночек, ешь, — придвигала она к нему сухари, а сама не сводила с него глаз, радуясь каждому кусочку, который он брал.
— А ты, мама, ничего не ешь сама, и чай у тебя стынет.
— Успеется, сынок, успеется.
И когда сын поел, помылся и прилег на лавку, она села у его изголовья и все глядела, глядела…
— Оставайся-ка ты дома, мальчик мой, может, не будут они искать тебя в этой лачуге! И чего им от тебя нужно? Что ты — человека зарезал? Не пущу тебя из дому! — сказала она, но в голосе слышалось сомнение.
Ваня смотрел на мать с жалостью, и у него не хватало духу перечить ей.
— Опять тебе скитаться голодному, холодному, и еще голову сложишь где-нибудь на чужбине, — продолжала она, понимая, что означает молчание сына, и с трудом удерживая слезы. — Для кого я тебя выкормила, вырастила — для палачей? Оставайся, дитятко мое!.. Мама тебя убережет от врагов, от злого глаза…
— Только не плачь, мама, — сказал Ваня, поднимаясь с лавки. — Не для палачей ты меня вырастила, а им на погибель! Мы идем на большое дело, мама. Ты знаешь. И не можем свернуть с пути, потому что мы — коммунисты. Ты же знаешь, мама!..
— Знаю, знаю! Эти слова мне и отец твой покойный говорил. Слова-то справедливые, я ничего не говорю. Но ведь ты уже много сделал! Сколько молодых парней кругом и взрослых мужчин! А деревенских сколько! Почему обязательно мой сын? Отца твоего я уже потеряла… Пускай другие борются. А вы с ним поборолись — довольно!
— Нет, не довольно, мама. Говоришь — много других. Вот это и делают коммунисты — поднимают народ на борьбу. Люди сами не всегда все понимают, надо им глаза открывать. А бояре готовят войну против России, мама.
— Ну, ложись уж, ложись, — вздохнула мать, вытирая слезы. — Ложись, а я поштопаю тебе носки, а то, видишь, пятки вылезли, да постираю тебе бельецо.
Она налила воды в тазик, думая о чем-то своем, постирала носки и положила их сушить на еще горячий самовар. Потом задумчиво подошла к сыну и вдруг, словно вспомнив что-то, зашептала:
— А еще недавно приходил тут один и говорил людям, будто тебя выгнали из коммунистов, потому что ты не хотел слушаться и не сохранил тайну. Вот за это тебя будто и выгнали… — Она умолкла, испытующе глядя на сына. — Плюнула я ему в глаза! Плюнула в рожу! „Негодяй! — говорю. — Муж, — говорю, — у меня был честный человек и сын такой же!“ Понял?
— Понял, мама.
— Ладно, сыночек, спи, сокровище мое, — зашептала мать, — усни…
Ваня закрыл глаза, но ему не спалось.
„Мать права. Столько молодежи вокруг, которой тяжко живется, а она еще не втянута в борьбу. Правильно нас в горкоме партии кроют — союз не стал массовой организацией. Слабо работаем… и на селе, и в городе, и среди интеллигенции… Буржуазия старается разъединить крестьян и горожан, интеллигенцию и рабочих… Раздробить силы. А надо объединить… И вот он, коммунист, посланный для работы с молодежью, оказался не в силах выполнить эту задачу. Нужно…“ В памяти Вани возникло лицо Виктора, вспомнилась сегодняшняя встреча, вспомнилось, как этот юноша просил послать его к рабочим.
„Он еще совсем зеленый, — думал Ваня, — представляет себе все только по книгам. Но это неплохой паренек. Нужно помочь движению учеников, да и ему самому. Говорил с ним сегодня резко, да что поделаешь! Меня тоже горком партии по головке не погладил. Нарушение конспирации. Чуть не записали выговор… В подполье не до нежностей. — Ваня беспокойно заворочался на лавке. — А разве конспиративно то, что я сейчас здесь, дома? Сейчас, когда провокаторы пользуются каждым промахом коммуниста, чтобы нанести удар партии?“
Ваня открыл глаза. Мать штопала носок, погруженная в глубокое раздумье.
— Мама, — сказал он тихонько, — я должен уйти еще до рассвета. Ты ведь понимаешь?
— Спи, спи, птенчик мой, — прошептала мать, заботливо подтыкая одеяло ему под бок.
Первые петухи еще не пропели, когда он опять открыл глаза. Мать дремала сидя. Возле нее лежали аккуратно сложенные носки, чистое белье и узелок с сухарями. Ваня тихонько оделся, подошел к матери, посмотрел на нее с нежностью и неслышно направился к двери. Когда он уже был на пороге, мать бросилась за ним.
— Сыночек, — шептала она торопливо, — узелок-то… И вот еще это возьми… — Мать сунула ему в руку что-то завернутое в бумажку.
По дороге на контрольное свидание товарищ Ваня развернул бумажку и при свете занимающейся зари увидел несколько леденцов.
После встречи с товарищем Ваней и последовавшего решения городского комитета комсомола об усилении работы среди учащихся Виктора окончательно закружило в водовороте разнообразных дел, Он не знал отдыха. Организация учащихся росла, нужно было поспевать всюду: формирование ячеек, выборы секретарей, установление связи. Организационный рост требовал новой расстановки людей, создания новых ячеек МОПРа и При-Пре-Про[16], налаживания ученической газеты и многого другого.
Виктор дорожил каждой минутой, измерял мысленно расстояния, чтобы быть пунктуальным, вовремя являлся на явки и на заседания. Ботинки его совсем стоптались. Косоворотка износилась, выгорела на солнце. По всему было видно, как мало следит он за собой, какая у него нехватка времени, как он поглощен работой. Он похудел и побледнел еще больше. Глаза лихорадочно горели.
— Да ты почти разут! — участливо воскликнула Анишора Цэрнэ, когда они вместе шли с массовки учениц женской ремесленной школы. — Тебе нужно купить обувь или, если еще можно, починить эти ботинки… И рубаху нужно тоже починить и непременно выстирать.
Не дождавшись ответа, Анишора, осененная какой-то мыслью, весело схватила Виктора за руку:
— Знаешь что? Приходи ко мне домой! Идем сейчас, немедленно! Я тебе выстираю рубаху, поглажу ее, а отец за это время починит ботинки. Хорошо?.. Он хоть и не сапожник, но мастер на все руки. Будет рад тебе помочь… Айда, идем!
И, довольная своим планом, Анишора чуть потянула Виктора за пояс:
— Пошли!
Вот… Снова он чувствует теплоту ее руки. Взгляд снова приковывает к себе корона ее шелковистых кос. А этот аромат не то душистого мыла, не то свежевыглаженного белья! Ее аромат…
Но Виктор усилием воли возвращает себя к действительности: „Мещанин ты! Опять, опять в тебе просыпается твое прошлое. Эх ты, маменькин сынок, баловень! Томления хочешь? Любовных переживаний? К черту! Комсомол доверил тебе боевой пост, тебе, „интеллигенту“! Об руку с тобой шагает сейчас девушка, твой товарищ по рабочему делу, борец — и ничего больше“.
Виктор останавливается, встряхивает кудрявым чубом.
— Времени нет… Который теперь час? — спрашивает он строго. — У меня, возможно, будет контрольное свидание. Затем нужно еще подыскать квартиру для ближайшего совещания. Она, собственно, уже есть, но на всякий случай пусть будет запасная…
Анишора смотрит на него разочарованно. А как же будет с рваными ботинками? И рубахой?
— Ничего, Анишора! Покончим вот сперва с буржуями, с фашистами. Народ возьмет власть в свои руки. Тогда… — Подавив волнение, он улыбается прекрасному будущему и бодро встряхивает головой: — Тогда…
А глаза, глаза его так и горят…
Образ Анишоры преследует его и после того, как они расстаются. Он видит ее добрые, доверчивые глаза, ощущает ее теплую руку. „Какая девушка! Сколько веры! — Виктора охватывает грусть. — Ласточка моя!.. Не нужно было оставлять ее так, посреди дороги“. Он задумывается: „А что сказал бы товарищ Ваня? Как бы он отнесся ко всему этому?“ Вспомнив секретаря, Виктор берет себя в руки.
Товарища Ваню подстерегают в последнее время на каждом перекрестке. В каждом новом арестованном, в каждом забастовщике полицейские видят его. С облавами и обысками рыщут по окраинам. Ночью переворачивают вверх дном все лачуги.
Товарищи рассказывают, что городской комитет партии не разрешает ему больше выходить на свидания. Ему даже поставили на вид, что он слишком подвергает себя опасности, не бережется.
Виктор видел секретаря. Была ночь, темнота… И он знает только, что товарищ Вапя — светловолосый. А слышать — слышал его хорошо. О вере в людей говорил ему товарищ Ваня, о работе в массах. Слово в слово помнит Виктор все. Товарищ Ваня окрестил его тогда „интеллигентствующим“. Эх, как все изменилось за последнее время! Несомненно, товарищ Ваня знает обо всем: новых комсомольцев столько-то, собираются вступить столько-то… А технический аппарат! А школьный финансовый сектор! А члены МОПРа! А сочувствующие!.. Виктор вспоминает без угрызений совести, как он просил товарища Ваню послать его к рабочим. Теперь организация учащихся насчитывает немало молодых революционеров — пролетариев в промасленных рубахах, с лицами, потемневшими от угольной копоти. Металлисты! Вот, например, ремесленная школа: крепость! Скоро она целиком будет красная. Недаром сказал ему товарищ Ваня: „С рабочими ты повстречаешься в борьбе“.
Виктор задумчиво замедляет шаги. Да, так сказал товарищ Ваня: „В борьбе“…
Ячейка коммунистической молодежи в мужской ремесленной школе переживала организационный период, период „цементирования“, как говорил Виктор. Был составлен список учеников, в самое ближайшее время принимаемых в организацию. Виктор предвидел пополнение списка и деревенскими парнями. Они хоть и были здесь в меньшинстве, но их обязательно нужно вовлечь в ячейку. О возможности привлечения ученика в организацию судили по его отношению к школьным порядкам. Этого особенно требовал Яков Доруца: „Нам не нужны манекены, ничем не проявившие себя и ничего не знающие! Ученик, который сегодня во всем подчиняется директору, — это рабочий, который завтра продастся хозяину. Подхалим!..“
Первым, на кого он обрушил свои гневные речи, был собственный его братишка — Федораш Доруца.
Из-за малого своего роста Федораш находился под постоянной угрозой перевода его из слесарной к жестянщикам, даже увольнения из школы. Ведь одним из условий приема в школу был высокий рост. От поступающего даже требовалась фотография, на которой будущий ученик снят стоящим возле стула! Поэтому маленький Доруца особенно усердствовал в работе, старательно выполняя все приказы начальства.
Старший брат припер его к стене:
— В нашей семье еще никогда никто не выслуживался перед начальством. Дед, отец, мать — все были честными рабочими…
— Вспомнил деда! — прервал его задетый Федораш. — Его добрым именем сыт не будешь. И отец не встанет из могилы выручать тебя из беды. Они при жизни не могли добиться, чтобы мы не пропадали с голоду. А о бедной маме ты бы лучше не говорил! Два взрослых сына, а все еще работает поденно на хозяина. В ее-то возрасте! За других борешься, а о ней совсем забыл. Работу забросил, попусту теряешь время на эту политику. Не сегодня-завтра выбросят из школы. Куда тогда пойдешь? Никто тебя и знать не захочет! Вернешься домой — больше некуда! Матери на шею сядешь, будешь вырывать у нее изо рта кусок… „В нашей семье не было подхалимов!“— передразнил он с негодованием, сам переходя в наступление. — Зато и не было у нас куска мамалыги в доме! Подумаешь, дедовская и прадедовская честь! За это тебе мороженой луковицы не дадут! Я о своем куске хлеба забочусь. Учусь ремеслу и думаю о завтрашнем дне. За все берусь: где чаевые получу от заказчика, где клещи припрячу для продажи, а то сбегаю на вокзал помочь какой-нибудь барыне. Сегодня копейка, завтра копейка… Эх, не будь я такого маленького роста!.. Так и знай: наперекор директору я ничего не стану делать…
Не дослушав его, Доруца вышел из себя:
— Эх, ты, „сегодня копейка, завтра копейка!“ Так и будешь пресмыкаться всю жизнь! Шкурником станешь, скопидомом! А мы как раз и боремся за будущее матери, всех наших матерей… И ты больше мне не брат!
А когда был поставлен вопрос о приеме в ячейку Филиппа Ромышкану из токарной, сына крестьянина, Доруца поддержал это предложение. За ненависть Филиппа к Стурзе, вслед которому он во время перекличек в дормиторе кричал „сюртучник“, за дерзкое прозвище „городские мошенники“, которым Филипп наградил школьное начальство, Доруца предал забвению давнюю свою вражду с Ромышкану. А ведь было время — недолюбливал он этого мужичка с садовым ножом, по-хозяйски прикрепленным медной цепочкой к петле жилетки из грубого монастырского сукна.
О Ромышкану между Доруцей и Фретпчем произошел спор.
— Он крестьянин, понимаешь? Мужик-бунтарь! — горячился Доруца. — Нам нужны такие активисты. Нельзя забывать, что Бессарабия — крестьянская страна!
— Да, Ромышкану крестьянин, — отозвался Фретич, — в том-то и дело. Сколько времени он уже средн нас, а как был мужиком, так и остался. Не видишь, что ли? У нас — сыты ли мы или голодны — все пополам, а он в сторонке, копается в своей торбе. Отцовские десятинки!
Фретич на минуту задумался.
— Помнишь, — продолжал он, — как у нас пропали два резца из токарной? Ты еще радовался: „Рука бунтаря!“ Станок тогда целый день не работал… А я их увидел потом в сундучке у Ромышкану и принес опять в мастерскую. Зачем ему понадобились эти резцы? Для чего он собирает инструмент? Уж не подумывает ли о собственном станочке, о собственной мастерской?
Александру с горечью взглянул на товарища:
— Эх, Яша! Если б не эти десятинки, не эта торба проклятая! Безземельные, видишь ли, совсем другое дело, но они не попадают в наше училище, они остаются на селе, батрачат у помещика…
— А как нам добраться до них? — горячо перебил Доруца. — Именно через таких Ромышкану! Давай примем его в организацию и обточим так, чтобы из него получился настоящий пролетарий. Подумай, Александру, ведь Ромышкану — это целое село! А ты представляешь себе, что значит целое село!
Так благодаря поддержке Доруцы Ромышкану был принят в комсомол.
Но организационная работа молодой комсомольской ячейки неожиданно была прервана, когда список предполагаемых комсомольцев и наполовину еще не превратился в реальность. Жизнь школы всколыхнулась из-за не предусмотренной планом „мелочи“. „Мелочью“ этой оказалась „добавка хлеба“.
И кто бы мог предвидеть, что этот ломтик хлеба к утренней похлебке, окрещенный черт знает кем „добавкой“, наделает столько шума! Будь даже Виктор семи пядей во лбу, он не смог бы постичь тайный смысл слова „добавка“. Гораздо легче разрешал эту проблему господин Фабиан. У него было свое, вполне ясное толкование слова „добавка“. Господин Фабиан принял свои меры.
Однажды утром ученики, с заспанными лицами, сидели за столами, сбитыми из нетесаных, сучковатых досок, изрезанных ножами. Перед каждым стояла серая жестяная мисочка с похлебкой. Двенадцать на каждый стол. Ученику полагалось сжевать ломтик хлеба, выудить ложкой фасоль из миски или наскоро выхлебать варево прямо через край и сразу отправляться на работу. Так уж повелось изо дня в день, от выпуска к выпуску. Но сегодня ломтик хлеба отсутствовал, и ученики, кто еще клюя носом, кто задумчиво облокотись на стол, ожидали положенного.
— Порция! — крикнул кто-то сиплым со сна голосом. Комсомольцы сразу поняли, что здесь орудует загребущая рука директора. Обеспокоенные, они переглядывались, перешептывались: „Что делать?“ Члены ячейки сидели за разными столами. Договориться было трудно.
Перелезая через скамьи, Урсэкие подошел к Фретичу и наклонился к нему, взглядом требуя указания.
Что же делать? Посоветоваться бы теперь с Виктором… Но вокруг школы с некоторого времени то и дело сновали агенты сигуранцы, и связь с городом была прервана. Даже Анишору никто в эти дни не видел дома.
Пока что Доруца изо всех сил колотил руками по столу и вдруг схватил стоявшую перед ним солонку:
— Грабители! Паразиты и канальи!
Кто-то потянул его за рукав:
— Через две минуты собрание ячейки. В чулане, где картошка.
Доруца охрип от крика. Он передохнул минутку, словно желая освободиться от душившей его ненависти. Пальцы его судорожно сжимали солонку. „Через две минуты — собрание ячейки…“
Гневно брошенная об пол солонка разбилась вдребезги. Все оглянулись, а Доруца успел уже проскользнуть в приоткрытую дверь.
„Случайно“ в это утро в столовой присутствовал и господин Хородничану. Он грациозно прохаживался между скамьями, интересовался, поставлена ли на стол соль, достаточно ли ложек, а если чего не хватало, сам шел на кухню, в посудную, и приносил все, что нужно. Затем, заложив руки за спину и слегка склонив голову, внимательный и заботливый, продолжал прогуливаться между столами. Наконец, остановившись около одного стола, он по-свойски попросил ребят подвинуться, легко, этаким мальчишкой, перешагнул через скамью, потрепал по плечу учеников справа и слева, уселся и попросил у одного из них его ложку:
— Ты не брезглив? — и, отведя вбок свою черную бороду, принялся за суп. — Луку бы мне, луку да соли, — сказал он, словно невесть как был голоден. — И лук чтобы был синий, а соль крупная! Ножа не надо, избави бог! Я кулаком как трахну по луковице, так из нее сок во все стороны брызнет, и — в рот. Такой уж я! Мне…
— Порция! — снова послышался крик, а за ним на этот раз последовало крепкое ругательство.
Хородничану принял вид оскорбленной невинности. С минуту он сидел в нерешительности, погрузив ложку в похлебку, затем неохотно встал из-за стола и, с кислой улыбкой поблагодарив за угощение, направился туда, откуда раздался крик.
— Порцию хлеба! — крикнул кто-то ему в ухо.
Хородничану покровительственно наклонился над кричащим:
— Добавку, ты хотел сказать? Ага, добавку хлеба… — Он кивнул головой в знак согласия. — Конечно. Ведь что, собственно говоря, означает добавка? Добавка — значит прибавление. Именно так: при-бав-ле-ние. Как бы выразиться понятнее? Добавляешь, так сказать… пятое колесо… Хе-хе!..
Историк хотел все обратить в шутку, но, чувствуя видимо, что шутить сейчас рискованно, тотчас переменил тон.
— Мы будем добиваться всеми мерами, — сказал он вкрадчиво, поглаживая свою апостольскую бороду. — Попросим хорошенько дирекцию, чтобы в будущем сделали все возможное. Мы разъясним по-хорошему, что порция — это не то, что нам полагается или на что мы претендуем. Нет! Мы знаем очень хорошо, что утренний хлеб — это добавка, прибавление, и знаем также хорошо, что…
Оседлав своего конька, Хородничану оставил в покое бороду и зашагал по столовой.
— Пусть не думают эти господа, — крикнул он, пылко выбрасывая руку вперед и пронизывая взглядом невидимого противника, — пусть не думают, что мы, то есть бессарабцы, — это какая-то шайка беспутных, несознательных людей! Мы сознаем, в каком тяжелом положении, в каком тупике находится теперь наша страна. Крестьянство доведено до нищенской сумы, нож дошел до самой кости, как говорится: кризис! Тревожное время! И если страна потребует от нас жертв, пусть они не думают, что рабочие останутся в стороне, что мы, так сказать, какие-то бесчувственные и меньше болеем душой, чем другие. Нет! Пусть знают эти господа, что, если интересы процветания потребуют, мы не только не будем торговаться из-за какого-то там ломтика хлеба, но готовы на еще большие жертвы… Друзья! — продолжал он, засунув палец за воротник и слегка ослабляя сжимающий шею галстук-бабочку.
— Или, вернее говоря… — Хородничану осторожно посмотрел на дверь и произнес таинственно и торжественно: — Товарищи! Земля наших дедов и прадедов…
— Порцию! — вышел наконец из себя кто-то, колотя ложкой о миску. — Пустая баланда, да еще и без хлеба!
И звон ложки по жестяной миске в то утро прозвучал как сигнал.
Точно орудийный залп, потрясли затхлый воздух подвала стук ложек, топот, свист и гул гневных голосов:
— Хлеба!
На пол полетела посуда.
— Это хлебово свиное, а не суп!
— Пусть его лопает барыня Фабиана!
— Не нужно нам подачки! Дайте, что нам положено!
Мутные и сонные за минуту до этого глаза учеников сейчас горели возмущением:
— Дайте, что нам положено!
В глубине помещения, там, где расположились ученики младших классов, на стул взобрался приземистый лобастый паренек, которому давно уже стал тесен картуз с оторванным козырьком. В отличие от других учеников, ходивших босиком, он был обут в постолы, ноги до колен обернуты в онучи из мешковины. Этот паренек был знаменит выговорами и нарядами, которые то и дело получал. В ведомости взноса платы за ученье он был записан под фамилией Капаклы. Капаклы Илие. Но однажды в бане один из учеников, заглядевшись на коренастого Илие, разматывающего широкий красный кушак, сразу прозвал парня „Бондок“ — чурбак, и это прозвище так за ним и осталось.
Удостоверившись сперва в прочности скамьи, на которой он стоял, Бондок повернул картуз, как бы в надежде найти отсутствующий козырек, затем глуховатым, но сильным баском сказал:
— Господин преподаватель с бородой говорил тут, что утренний хлеб называется не порцией, а „добавкой“. А я говорю, пусть будет хоть „добавка“, только чтобы нам ее принесли поскорей, а то вот похлебку я съел и не почувствовал даже…
— Ребята! — раздался чей-то новый возглас.
Шум слегка утих.
— Помолчи, Бондок, пустомеля! — прикрикнул кто-то на Капаклы, который, все еще стоя на скамье, продолжал уже в ограниченном кругу слушателей отстаивать свою точку зрения.
— Тише! Тише! Тише! — послышалось со всех сторон.
Немного успокоившись, ученики с живым интересом прислушивались к новому оратору, который стоял, опираясь о стену широкой спиной.
Это был Володя Колесников, молчаливый молотобоец кузнеца Моломана. Все знали, что при поступлении в школу ему целую неделю пришлось стоять у ворот, пока его приняли. Только полученный кузницей крупный заказ и богатырское сложение молодого парня подействовали на директора, и он в конце концов согласился принять Колесникова в школу. Это было все, что поначалу знали о нем ребята. Но благодаря одному случаю Володя стал известен.
В кузнице ковали толстые мельничные оси. На эту работу были поставлены самые здоровые парни. По раскаленным концам сломанных осей нужно было бить беспрерывно, чтобы они не остыли прежде, чем приварятся один к другому. Ковали в четыре молота. Уставших молотобойцев тотчас сменяли другие. Сменщики ожидали в очереди у наковальни. Только один Володя Колесников, не выпуская молота из рук, работал без передышки. Директор, мастера, ученики, собравшись вокруг, с изумлением наблюдали это зрелище. Они любовались его складным, гибким и сильным телом, игрой мускулов и ритмически точными ударами. Когда кузнец Моломан положил свой молот на наковальню, давая этим знак, что работа закончена, толпа учеников окружила Володю. Малыши с восхищением ощупывали его круглые и твердые мускулы.
Даже господин Фабиан не мог скрыть удовольствия от работы этого геркулеса. Он раздвинул толпу и подошел к молотобойцу.
— Ну как, посвистеть сможешь? — пошутил он игриво мальчишеским тоном: было известно, что после выбивания „дроби“ молотобойцы обычно не могут даже дыхание перевести.
— Могу, — спокойно ответил Володя, глядя куда-то мимо директора.
— Черта с два! — засмеялся тот, чувствуя позади толпу учеников, глядевших на Володю во все глаза. — А ну, послушаем тебя.
— Начинать?
— Давай, давай!
И тогда, словно готовый двинуться в поход, Володя Колесников положил молот на плечо и, закинув гордо голову, начал насвистывать песню — песню, хранившуюся в душе бессарабцев еще с первых дней революции:
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Иди на борьбу, люд голодный!..
Умиленный господин Фабиан сначала одобрительно улыбался, как бы ставя все это себе в заслугу. Но улыбку его как рукой сняло, когда он услышал взволнованные голоса учеников и заметил в их взглядах какой-то радостный, торжественный и, как ему показалось, угрожающий блеск.
— М-да… — пробормотал он, подозрительно оглядываясь вокруг. — У тебя, как на трубе, получается. А что… что это за песня?.. — И, выбравшись из толпы, господин Фабиан поспешил убраться.
Теперь этот самый Володя Колесников, спокойный и сдержанный, но исполненный какой-то внутренней непоколебимости, держал речь перед товарищами по работе. Ученики невольно следили за его поднятой рукой, словно ждали: вот опустит он с силой эту руку — и все будет в порядке.
— Мы не притронемся к супу, — сказал Володя сдержанно, но решительно, — и не выплеснем его на пол. Пусть остается в мисках. Двенадцать мисок на каждом столе. Нетронутые! В знак товарищеской солидарности! Мы работаем. Нашим трудом живут другие — те, кто не работает. Если настал кризис, как пишут в газетах, если пришло тревожное время, пускай отвечают своим карманом они. Им есть чем расплачиваться. Не мы устроили этот кризис!
— Правильно! — выдохнул кто-то среди напряженного молчания.
В скупо проникающем через мутные окошки подвала свете бледные лица учеников казались окаменевшими. Вот Урсэкие — он так и застыл в дверях, прямой, как свеча. Вот Пенишора, смешно вытянув шею, весь подался вперед. Вот Федораш Доруца, по-детски широко раскрыв глаза, впился взглядом в оратора. А молотобоец говорил просто, спокойно, так же, как и работал. И щеки у него были такие свежие, и такая мягкая исходила от них теплота! Как гулкий звон молота о наковальню, размеренно, попадая точно в цель, раздавался голос молотобойца, удар за ударом:
— Наши товарищи, настоящие наши товарищи борются. Мы поступим так же, как они. Организованно! Выберем верных людей, самых достойных. Доверим им наш ломоть хлеба. А если нашим начальникам это придется не по душе и они попробуют нас обидеть, мы сумеем с ними рассчитаться.
Колесников замолчал и гордо поднял голову.
Вспомнилось ли ученикам в этот момент, как он вот так же стоял перед директором? Или, может быть, им снова послышалась мелодия, которую он насвистывал тогда в кузне?..
Володя мог не продолжать. Его товарищам и этого было достаточно. Теперь заговорили они:
— Мы не пойдем на работу!
— Бастуем!
— Выберем делегатов!
— Наш комитет! Власть!
— Выберем Колесникова! Володю!
Шум нарастал. В столовую сбежались кухарки, сторожа. Остолбенев, остановились они в дверях подвала. В верхние стекла окошек заглядывали любопытные. Казалось, даже влажный воздух, словно накаленный людскими страстями, стал горячим.
Григоре Пенишору, с его старообразным, морщинистым лицом и испуганными глазами, сейчас нельзя было узнать. Он стоял на опрокинутой скамейке, размахивая в воздухе ложкой, и что-то гневно выкрикивал. Что именно — можно было только догадываться по вздувшимся жилам на висках, по блестящему от пота лицу и негодующему взгляду. В речи его ничего нельзя было разобрать, иногда только долетали возгласы:
— Отец!.. Вдова погибшего на фронте!..
Урсэкие, имя которого со всех сторон выкрикивали как имя кандидата в комитет, забыл в этот момент, что он стоит на посту у дверей чулана. Сегодня ему, казалось, не хватало его высокого роста, и он, стремясь охватить взглядом весь подвал — лица, позы, то и дело поднимался на цыпочки.
— Фретича! Александру Фретича! — перекрикивал он все голоса. — Фретича в комитет! И Доруцу!
Иногда он нетерпеливо приникал ухом к двери чулана, затем снова присоединялся к бушевавшим товарищам, шагая по столовой.
На ходу он следил за порядком: отодвигал какую-нибудь миску, давал щелчок ученику, который подозрительно усердно глядел на стоявший перед ним суп, грозно подносил к чьему-нибудь носу костлявый кулак, потом молниеносно возвращался на свой пост.
— Фретича в комитет!.. Доруцу!..
Фамилии комсомольцев, особенно Фретича и Доруцы, и без подсказки Урсэкие были уже названы, хотя они не являлись на вызовы и не откликались. Кроме них, были выбраны Колесников, Урсэкие, Капаклы и Пенишора. Володя выкрикнул имя Горовица, но тот застенчиво попросил не выбирать его — не достоин, мол, он еще этой чести — и пообещал, что и без того будет делать все, что потребуется.
И вот избранные в комитет стоят посреди столовой, готовые отправиться к директору. Ребята вглядываются в них с некоторым сомнением: „Справятся ли?“ Некоторые недовольно посматривают на Бондока. Но его товарищи по штрафным работам продолжают горячо поддерживать его кандидатуру. Они наставляют Капаклы, как нужно говорить с директором.
— Куда же все-таки запропастился Фретич? Где Доруца? — слышатся недовольные голоса. — Нашли время исчезнуть!
Урсэкие виновато смотрит в сторону чулана.
— Вот он, Доруца! — кричит он, кидаясь навстречу Доруце.
С трудом пробиваясь через толпу, появляется и Фретич. Вскоре незаметно выходят Ромышкану и остальные. Комсомольцы явно взволнованы.
Такого бурного заседания у них еще никогда не было. Столкнулись две противоположные точки зрения. Доруца был вообще против заседания, которое считал „дезертирством с поля боя“. Он считал необходимым немедленно взломать склад и распределить продукты между голодными учениками.
— Возьмем в руки кирки, — сверкая глазами, предложил он, — и через несколько минут склад наш!
А Ромышкану напомнил о постоянных советах инструктора товарища Виктора: „Организационный период, пополнение ячейки по намеченному списку — прежде всего“.
— Что толку нам в этих ста граммах хлеба? Ну вот, скажем, мы их уже добились, — говорил Ромышкану. — Овчинка выделки не стоит! А организация пострадает. Вся конспирация пойдет насмарку. План работы будет сорван… Мое мнение — пока что воздержаться от выступления.
Доруца хотел тут же уйти с заседания, и только взгляд секретаря ячейки Фретича удержал его на месте.
— А вы как думаете? — спросил секретарь остальных комсомольцев.
Но никто не предлагал ничего нового. Тревожно прислушиваясь к шуму в столовой, который все нарастал, Фретич решительно поднялся и сказал:
— Мы поступим так, как потребуют ребята.
На этом заседание и закрылось.
В тот момент, когда делегация, пополненная теперь двумя комсомольцами, двинулась было к выходу, сопровождаемая советами и наставлениями ребят, в сенях подвала с разбегу остановился Стурза. Увидя в дверную щель, что происходит в столовой, он испуганно отступил назад. По лицу его струился пот, оно было бледно до желтизны. Согнувшись в три погибели, он украдкой еще раз заглянул в щель и, осторожно просунув руку, коснулся плеча одного из служащих, стоявшего у самой двери. Тот обернулся, но, увидя надзирателя, не тронулся с места.
— На одну секундочку, господин Аким, на одну секундочку, — прошептал Стурза, — как раз по этому же поводу… Для их же пользы… Дирекция просит передать… — начал нашептывать он, — она просит успокоиться. Добавку хлеба они получат. Была некоторая заминка, а теперь все равно поздно… В обед они получат ее полностью. Слово дирекции… И пусть выходят на работу, потому что колокол уже давно звонил… Не иначе, как по-хорошему… Так сказал господин директор, то есть, я хотел сказать, дирекция… Значит, обязательно по-хорошему…
Стурза сладко заулыбался, все время оглядываясь назад, на лестницу.
— Вот… Вы передайте все это господину Хородничану, чтобы он утихомирил их, а то я тороплюсь за этим… как его… за порцией хлеба… и мне некогда… Только с ними нужно осторожнее, они ведь голодные. Понимаете?
Стурза слегка подтолкнул вперед привратника, а сам выбежал, стараясь по дороге заглянуть через окошко в подвал: что будет дальше?
Забытый всеми Хородничану томился в углу столовой. Разбушевавшиеся страсти давно прервали поток его красноречия, учитель чувствовал себя одиноким и беспомощным. В довершение всего Хородничану мучила ужасная изжога. Он тихо икал в платок и мечтал только о том, чтобы выйти на воздух. Дорого обошлись ему две ложки ученической похлебки, так лихо проглоченной в это злополучное утро. Сообщение Стурзы, казалось, принесло ему желанное освобождение.
— Братья! — крикнул он, как только сторож шепнул ему о приказе директора. — Справедливость восторжествовала! С добавкой получилась заминка, простое недоразумение. Но я не мог… — Хородничану икнул, — этого допустить. Я послал, я настаивал! Как так? Ведь нельзя же! Вот Аким — свидетель. Теперь все в порядке! В двенадцать часов добавка хлеба будет на столе. То есть порция! Идите себе на здоровье работать, а учитель ваш вас не оставит!
Одолеваемый икотой, он подошел к делегатам и, запросто обхватив их за плечи, потянул за собой:
— А мошенникам-поставщикам не пройдет даром эта история! Положитесь на меня. Я хорошенько проучу их… Ого! С сегодняшнего дня я сам буду присутствовать при развеске хлеба. Потому что… я все вытерплю… но за правду…
Хородничану побледнел. С исказившимся от подступившей тошноты лицом он отошел в сторону, поднося платок ко рту. Часть учеников во главе с Валентином Дудэу молча направились к выходу.
— Эй, товарищ! — вдруг окликнул преподавателя Бондок. — Мои ребята толковали тут про суп. Как же быть? — Преисполненный ответственности, он сунул руки за красный кушак, голос его звучал громко и требовательно. — Пустая баланда, понимаешь, вода и три фасолины! Нельзя же этак! Ребята, которые выбрали меня в комитет, мои ребята, говорят, что… — Капаклы вытащил правую руку из-за кушака и, приставив ладонь ребром к животу, сделал вид, что режет его. — Понятно?.. Кишки урчат, товарищ, животы у нас подвело, понятно?
— Да, ты хоть супом нажрался! — со злобой крикнул ему „маменькин сынок“ Дудэу. — Не успел усесться за стол, как всю миску вылакал! — Валентин быстро глянул на учителя, выражая взглядом готовность услужить ему. — Хорошо тебе теперь разглагольствовать… „Комитет“! Подумаешь, пуп земли!.. Гагауз[17] несчастный! А я хоть бы просфорой причастился сегодня. Только поднес ложку ко рту, как этот бродяга Урсэкие, журавль бездомный, плюнул мне в миску! И еще выругал меня вдобавок, почему, мол, я ему не пожелал вырасти побольше. Он, видишь ли, чихнул, оказывается. Типун ему на язык, на его поганый язык!.. А то лает да лает, спасения нет от него… Пропади он пропадом с этим вашим комитетом вместе!
Дудэу глубоко вдохнул воздух, словно набираясь ярости:
— Подумаешь! Его ребята! Штрафники! „Одна вода, три фасолины, понятно?“ — с досадой передразнил он Бондока. — А у меня даже просфоры…
— Уж ты-то не голодаешь! — вмешался в разговор кто-то из учеников. — Твоя мать тебе каждый день приносит что-нибудь, у нее есть где взять! А мы только эту пустую баланду с фасолью…
— Ох! — Выпученные глаза преподавателя истории мерили расстояние до дверей. „На воздух! на воздух!“ На полу, у дверей, был разлит тот же суп. Разбухшие, рыжие, как тараканы, расползались перед ним прокисшие фасолины. „Фасоль, фасоль! Вот прорвы ненасытные!..“
Продвигаясь вперед, Хородничану балансировал, словно канатоходец, оберегая свои ботинки от выплеснутого на пол варева. Тошнота душила его, подступала к горлу.
— Эй, товарищ! — снова окликнул его Бондок, разозленный тем, что преподаватель не отвечает на вопрос. — Как же будет с похлебкой? Ты же сказал… Ребята волнуются.
Но историк был уже за дверью.
В двенадцать часов ломтики утреннего хлеба, аккуратно разложенные, красовались уже на столах. А спустя несколько дней, оправившись после болезни, Хородничану потребовал от директора немедленного исключения из школы Владимира Колесникова: „Чтобы духу его тут не было!“
Фабиан даже не пожелал его слушать:
— Я согласен скорее выгнать Валентина Дудэу и еще пятерых таких, как он — дармоедов, которые берутся работать только завидя меня. А у этого русака стальные мышцы! Он дает мне продукцию. Школе нужна продукция! Мы выполняем министерские заказы!
Глянув на Хородничану, директор изобразил на лице соболезнование:
— Значит, лежал больной в постели, а? Истощение пищеварительного аппарата? Несварение желудка?.. — Не удержавшись, господин Фабиан разразился громким хохотом. — Слабит, господин преподаватель? Или, может быть, крепит? Ха-ха-ха! Пилюли надо! Английскую соль! Ха-ха-ха… — Каждое новое слово вызывало у него приступ смеха. — „Гибкость“, господин преподаватель, „такт“, „вкус“. Так, кажется, вы говорили? Ха-ха-ха! А вкус моего супа с фасолью превзошел все? Ха-ха-ха! Бедный политикан! „Мученик“, как было написано под тем рисунком! Ха-ха-ха!
— М-да… — смущенно пробормотал Хородничану, догадываясь, кто рассказал Фабиану о его болезни. — „Ах, эта коварная Элеонора!..“ — Об исключении Дудэу не может быть и речи. За что его исключать? А русак этот, говорите, дает продукцию?.. М-да… Стальные мускулы?.. Та-ак… — Хородничану многозначительно раскланялся.
На следующий день Колесников исчез из школы, словно сквозь землю провалился. Ученики обегали все мастерские, расспрашивали повсюду — Володи не было. Эта весть взбудоражила школу. Недоумение перешло в ропот: „Где Володя? Кто его у нас забрал?“
Бондок при встречах с Урсэкие, Фретичем, Доруцей, хмуро нащупывая несуществующий козырек картуза, озабоченно говорил своим рокочущим баском:
— Эй ты, комитет! Что мне теперь сказать своим ребятам-штрафникам? Володя ведь тоже комитет. Теперь у нас не хватает одного делегата!
Не слышно больше „Володиной дроби“, которую можно было распознать издалека. Не лязгала сталь, покорная его силе. Не пламенел уже так, как раньше, огонь над горном. Как будто приглушенные, присмиревшие, звучали удары молотов. Мрачно разгребал Моломан по утрам груды шлака. Кузнец работал угрюмый, злой. Не было Володи.
Имя молчаливого молотобойца не сходило теперь с уст ребят. Каждый вспоминал какой-нибудь эпизод, связанный с Володей.
Ниточка за ниточкой сплетались эти эпизоды в ткань его жизни: как он ожидал там, у ворот, пока его приняли в школу; как работал; какие песни пел — задушевные, словно зовущие куда-то на простор…
Пел он бывало, опершись на наковальню, не остывшую еще после лихорадочной работы. В спокойную мелодию песни врывались иногда боевые звуки марша, призывавшие к протесту. Усиливаясь, нарастая, они словно разгоняли сумерки и вечернюю тишь мастерской, воодушевляли певца. Его глаза, устремленные на догоравшие в горне угли, уже не казались задумчивыми, как обычно, они горели грозным огнем. И уже не слышно было в его голосе обычной мягкости — нет, весь он был призыв к борьбе.
— Володя русский, — говорил кое-кто из ребят. — Потому-то его и держали у ворот.
— Нет, не только потому: отец у него в тюрьме. Еще со времени забастовки железнодорожников.
— Говорят, он и сам…
Так из этих рассказов у токарного станка, у тисков, в дормиторах при дымном свете коптилок возникала легенда о Володиной жизни. Челнок горячей мысли вплетал в нее дела, стремления и чувства самих учеников. Где бы ни был Володя теперь, для них он стал своим человеком…
В разгар этих волнений в мастерской жестянщиков неожиданно появилась Анишора Цэрнэ. Зайдя под предлогом какого-то дела к отцу, она через Урсэкие связалась с Фретичем. Вскоре после этого секретарь ячейки известил комсомольцев о предстоящем в ближайшее время расширенном заседании организации с активистами. Не сообщая на этот раз никаких подробностей, Фретич только обратил внимание ребят на необходимость соблюдения самой строгой конспирации и сам, не прибегая к чьей-либо помощи, занялся подготовкой заседания в полной тайне.
На расширенном заседании ячейки предстояло рассмотреть много вопросов, в том числе и „дело Горовица“, получившее широкую известность из-за бесконечных споров, завязавшихся вокруг него. Да разве одно только „дело Горовица“! Все, что произошло за последнее время в ремесленной школе, на этом собрании вдруг стало выглядеть по-иному.
В чем же состояло „дело Горовица“? Давид Горовиц был лучшим в школе слесарем-конструктором, влюбленным в свое ремесло. Несмотря на то, что школьное начальство, заинтересованное в работе талантливого парня, готово было создать ему лучшие по сравнению с другими учениками условия, Горовиц с достоинством отклонял такие попытки. Не нужна была ему никакая благодарность, работа вознаграждала его за все. Его старания были продиктованы только любовью и интересом к работе.
Горовиц и по успеваемости шел в числе первых. В свободное время много читал, в особенности если ему попадалась под руку литература по специальности. Вечно носился с проектами технических рационализаций и с какими-то фантастическими изобретениями.
Из-за всего этого он держался как-то в стороне от повседневной жизни школы. Общий язык с товарищами он находил, когда заходила речь об отсталости и примитивности производства или обсуждались другие вопросы, связанные с техникой.
„Вот бы соединить вентилятор посредством трансмиссионного ремня с токарной, — говаривал он со своей горькой улыбкой, — и не нужно было бы тогда мучиться, вручную раздувая мехи. Работы на один час…“ Или: „Подъемный кран — и не нужно было бы ломать спину при погрузке тяжестей. Мой отец работает грузчиком на железной дороге, он всю жизнь таскает мешки на спине, а ведь можно было бы…“ Или: „Отремонтировать бы моторчик, что валяется среди старого железного хлама, и он давал бы нам электрический свет…“ И с карандашом в руке, черным по белому, Горовиц доказывал: „Свет в классах — столько-то киловатт, в дормиторах — столько-то… Эх, а еще наш век называется веком электричества!“— вздыхая, заключал он и углублялся в свою работу. В работе он искал ответа на все.
У товарищей Горовиц пользовался авторитетом. Первоклассники, из тех, что стремились побыстрее обучиться ремеслу, старались попасть в помощники именно к нему. С особым уважением относился к нему и Моломап. Кузнеца пленяли чудесные проекты молодого изобретателя, очень часто рождавшиеся на его глазах, тут же, на жестяной обшивке кузнечного горна.
— Что такое, по сути, вот этот наш молот? — говорил Горовиц. — Дикость! Он вытягивает последние жилы из молотобойца, истощает его силы. А что толку? — Горовиц вытирал рукавом обшивку горна и принимался чертить. — Одну ось сваривают четырьмя молотами. Хорошо. А что вы скажете, если эту же работу с тем же успехом выполнять одним молотом, а не четырьмя? А! И почему обязательно — четырьмя, когда один молот мог бы справляться вместо восьми или десяти? Один удар — и ось сварена… Что? Как поднять такой чудовищный молот? Вполне возможно. И даже очень легко. Автоматический молот. Пожалуйста!..
Одну за другой выводил он мелом линии на жести, и Моломан, хотя не видел ни одного изобретения Горовица воплощенным в жизнь, верил в него. Верил и восхищался.
А у Доруцы все-таки не лежало сердце к конструктору. Чувствуя молчаливую поддержку Виктора, он рассуждал так:
— Кто извлекает пользу из изобретательности Горовица? Директор школы. Капиталистическое общество…
И даже когда Моломан, оставив позицию невмешательства, которую занимал до сих пор по отношению к деятельности ячейки, предложил Фретичу заняться „этим врожденным инженером“, Доруца не дал себя переубедить. Он продолжал упорствовать. А между тем Фретич поговорил уже с Горовицем. Тронутый доверием, конструктор ответил, что готов вступить на путь борьбы против тех, кто не только задерживает развитие техники, но даже толкает ее назад.
На заседании ячейки, обсуждавшем вопрос о приеме конструктора, Доруца стал доказывать, что именно от примерных учеников, подобных Горовицу, школьное начальство и получает выгоду.
— Оно хотело бы иметь побольше таких, — заявил Доруца. — Из них-то и выходят мастера и инженеры, которые вместе с хозяевами идут против рабочего класса. Это столбы, поддерживающие здание мира эксплуататоров, это — топорища! Знаем мы их! Нам с ними не по пути…
Виктор, у которого еще не было своего твердого мнения по этому вопросу, был покорен аргументацией и пылким темпераментом Доруцы. „Вот это подлинный пролетарий! — думал он. — Плоть от плоти! Только такой интеллигент, как я, и мог сомневаться и колебаться в этом вопросе…“ Свои колебания инструктор искупил длинной и энергичной речью, и Горовиц остался вне организации.
После того как ему было отказано в приеме в комсомол, конструктор окончательно замкнулся в себе. Даже перед Моломаном перестал он вычерчивать мелком на горне свои технические замыслы. Обида больно ранила его. Единственным прибежищем для него стала работа. Не обмениваясь ни единым словом даже со своими помощниками, Горовиц напряженно работал, выполняя без разбора все заказы, получаемые от заведующего мастерской: решетку так решетку, балкон так балкон, вывеску с огромными буквами так вывеску. Что угодно! И если раньше, окрыляемый своими вечными планами и фантазиями, Давид любил бродить по мастерским, то теперь в свободное время он в одиночестве валялся на нарах в дормиторе.
И вот однажды Оскар Прелл подозвал Горовица к своему знаменитому столу, застеленному поверх толстого стекла пергаментной бумагой. На этом столе было множество привлекательных для глаза учеников вещей: угольники, никелированный метр, чертежи, прикрепленные к чертежной доске.
— Интересная работа, очень интересная! — Заведую-ший мастерской потирал руки, предвкушая удовольствие, которое он доставит Горовицу. — Любопытный заказ: замок собственной конструкции. Получишь только размеры. Остальное придумаешь сам. И чтобы никакими подобранными ключами нельзя было его открыть. Оригинальная система, „система Горовица“… Понял? Патент твой. Так же, как патенты фирмы Крупп… Ха-ха-ха! Слышал — фирма Крупп? — Немец снисходительно засмеялся. — Ты ведь не такая дубина, как все они, — продолжал Прелл. — У тебя есть голова на плечах, я возьму тебя в свою мастерскую, ты полезный еврей…
Но Горовиц уже не слышал заведующего мастерской. Он был поглощен решением задачи: „Такая система затвора, чтобы никакими подобранными ключами нельзя было его открыть… Можно, можно!..“
Получив разметку размеров, слесарь весь ушел в работу. Он забыл все. Даже как будто забыл о своей обиде…
Система затвора постепенно принимала конкретные формы. Давно придуманный им зубец должен был усовершенствовать замок.
Но вот все детали готовы, смонтированы. Замок открывается и закрывается. И ключ — единственный в своем роде, сложный, с очень точно высчитанной бородкой, отлично отшлифованный.
— Гут! — бормочет Прелл, принимая работу. — Гут, гут!
А вечером ученики, собравшиеся было в город, возвращаются огорченные: „На воротах замок, невозможно выйти! Как в тюрьме!..“ Горовиц, встревоженный, бежит к воротам. Да, так и есть — замок его конструкции!
Лицо Горовица еще больше похудело, вытянулось. Он потерял, покой, метался даже во сне. Обличающий палец Доруцы преследовал его: „Что я вам говорил! Вот какой он!“ Даже в работе Горовиц больше не находил успокоения. Медленно слонялся он по мастерской. Сердце не лежало к работе, не по душе стал напильник. Все было не по нем. Парень чах.
В таком состоянии подошел он как-то после обеда к Моломану и, положив руку на деревянную ручку меха, принялся раздувать горн. Кузнец удивился, но, встретившись глазами с печальным взглядом юноши, ничего не сказал.
Задумавшись, Горовиц всей тяжестью налег на рычаг, словно ища в нем опоры. Толчками подымавшийся рычаг рванул его руку, и Горовиц на миг повис в воздухе.
Моломан без нужды разгреб угли в топке горна и резко отшвырнул клещи.
— Нельзя так, друг, — почти нежно сказал он юноше. — Выход есть. Есть, понимаешь? Есть!..
Обычно строгий, кузнец сейчас как-то сразу смягчился.
— Я понимаю, тебе не хватает воздуха, — заговорил он тихо. — А он положен тебе. Ты задыхаешься. Я вижу. Но ты же сам понимаешь, что им здесь не нужна техника, изобретательность. Нет у них интереса и доверия к человеку. Одни рабы им нужны. Бессарабию они считают колонией, пригодной только для грабежа. На что им сдались твои изобретения, если у них столько дешевых рук? Подумай сам!
Моломан разбросал ногой кучку земли, которую он сам только что сгреб, и продолжал:
— Такие у них расчеты, у оккупантов. А у нас другие расчеты. Ты учись. Вырви у них как можно больше знаний. Строй! Конструкторы нам нужны будут. Очень скоро. Ничего, что твои планы пока остаются только на бумаге или вот на этой жестянке… Ты сделай так, чтобы в сердцах они остались. В сердцах твоих товарищей. Чтобы твои чертежи открывали им глаза. Пусть они скажут себе: „Вот как мы сможем жить! Вот как мы сами будем строить после освобождения!“ И они поднимут голову. Надежда у них будет. Крылья вырастут… Сегодня тебя обманули, и с помощью твоей изобретательной головы закрыли выход твоим товарищам на улицу. Замок… Все изобретения у них постигает такая судьба. Ничего! Если понадобится открыть ворота, ты сможешь сделать десятки ключей. А потом… А потом их откроют и другие…
Деревянный рычаг все поднимался, управляемый рукой Горовица. Мехи наполнялись воздухом, расправляли свои складки. Пффф, пффф… Тысячи искр!
— Мы во всем должны быть сильнее своих врагов, — продолжал Моломан, голой ладонью сгребая разлетавшиеся во все стороны угольки, — способнее их. Тогда наша борьба будет успешной.
— Дядя Георге, — горячо прошептал Горовиц, — скажи, почему не приняли меня в ячейку? Говорили, что я тружусь на пользу врага. Но ведь я не могу без работы! Не могу бездельничать!
Слышал ли Моломан жалобу слесаря или не слышал? Так или иначе, он промолчал. Лишь сердито разгладил жесткие усы и потер небритый подбородок. К этому времени в горне раскалилось железо, и Моломан принялся его ковать. Бил долго, без передышки. Бил с одного края, с другого… Железо уже остыло, а мастер все еще стучал по нему молотом, наклонив к наковальне ухо, словно стараясь в привычном звоне металла различить какой-то посторонний, несвойственный ему звук. Наконец, остудив железо в воде, он положил руку на рычаг мехов рядом с рукою юноши.
— Ступай на свое рабочее место, — сказал он спокойно. — Делай свое дело. Ра-бо-тай! Все будет в порядке.
Горовиц на мгновение задержал свою руку подле горячей и жесткой руки кузнеца. Неожиданно поверив этим простым словам, юноша, почти успокоенный, вернулся на свое место.
Когда ученик отошел, Моломан подумал озабоченно:
„Начудили парни. В этих разговорах о труде „на пользу врага“ звучит что-то не наше… Эх, боюсь, это дело какого-нибудь „левака“, или, как их там называют…“
А спустя несколько дней, давая указания об организации собрания ячейки, Анишора предложила Фретичу, чтобы на это собрание был приглашен и слесарь-конструктор Горовиц.
До переклички в дормиторах оставалось три часа.
Фретич принял все необходимые меры конспирации. Участники собрания поодиночке входили в слесарную. Когда все соберутся, дверь, как обычно, должен был запереть дядя Штефан, который днем работал кучером, а ночью сторожем. Урсэкие стоял снаружи „постовым“, чтобы проводить Виктора и Анишору, когда они придут. Встретить их было поручено Доруце.
Неприглашенных, если бы такие обнаружили желание проникнуть в слесарную, следовало любыми средствами удалить. В случае опасности надо было подать условный сигнал. Тогда (это предполагалось лишь как крайность) товарищи из города выпрыгнут через окно в задней стене. Дядя Штефан спрячет их в своей халупке, а оттуда окольным путем выведет со школьного двора. С членами ячейки хлопот было бы меньше. Они так хорошо знали свои мастерские, что даже днем легко могли в них спрятаться.
Все прошло точно по плану. Последним в сопровождении Доруцы явился Виктор. Здороваясь с комсомольцами, он задержал свой взгляд на Горовице.
— Новый товарищ… — попытался объяснить ему Фретич.
— Знаю, знаю, — несколько смущенно ответил Виктор, как и все остальные усаживаясь на пол. — Ну что, все пришли? Можно начинать?
— Да. Поскольку вы никого не привели с собой… — попытался скрыть свое разочарование секретарь ячейки. — Мы думали, что, может быть… Ну, если уж так, то можно начинать.
Виктор пожал плечами, как бы давая понять, что о тех, кто еще должен прийти на заседание, он ничего не знает. Затем инструктор пытливым взором обвел мастерскую. Впервые в жизни находился он в слесарной. Все здесь было для него ново, все представлялось неведомым, таинственным и несказанно привлекательным. „Здесь они работают, — говорил он про себя, любуясь черными силуэтами выделяющихся в серых сумерках станков. — Здесь выковывается классовое сознание пролетариев, родятся бесстрашные бойцы за свободу! У такого станка вырос и товарищ Ваня…“
С интересом разглядывал Виктор груды железа, рельсов и причудливо переплетенных труб. Воздух здесь был насыщен запахом металла, угля, труда, и Виктор вдыхал его с жадностью. Он вообразил вдруг себя за одним из этих станков, рядом с учениками, с измазанным, как у них, лицом, потного, с засученными рукавами, в пропахшей дымом (как у Доруцы) кепке и с молотком в руке. Вот он взбирается на эту груду железа. „Товарищи! — восклицает он с энтузиазмом. — Мы, рабочие-металлисты… — Непокорная прядь волос падает ему на лоб, и он отбрасывает ее назад. — Товарищи! Мы…“
— Итак, начнем! — прервал его мысленную речь Фретич. — Предлагаю следующую повестку дня: „Борьба учеников за восстановление положенного им пайка хлеба и об ошибках школьной комсомольской организации“.
В этот момент кто-то тихонько стукнул в окно. Фретич вздрогнул. Комсомольцы вскочили. Несколько человек бросились к инструктору, готовые, если понадобится, укрыть его. И вдруг все вздохнули с облегчением: в окне показалась голова Анишоры. Один взгляд — и она сразу оценила обстановку. Живо обернувшись назад, подала знак кому-то во дворе. Однако человек этот и сам появился в окне. Створки распахнулись. Недолго раздумывая, пришедший перекинул ноги через подоконник и ловко прыгнул в мастерскую.
— Здорово, товарищи! — весело сказал он, пожимая столпившимся ученикам руки.
Все это произошло так быстро, просто, естественно, что ребята, видевшие этого человека впервые, смотрели на него так, словно знали его давным-давно. Это свой, товарищ!
А Виктор был глубоко взволнован: „Товарищ Ваня… Здесь!..“
— Здорово, Виктор!
Секретарь городского комитета комсомола улыбнулся, крепко встряхивая его руку. Но инструктору почудилась в улыбке этой какая-то укоризна, ему показалось, что здесь, в мастерской, среди учеников, он менее близок товарищу Ване, чем раньше. Секретарь, между тем, не стоял на месте: он похаживал по мастерской, брал со станка какую-нибудь деталь, рассматривал, заговаривал с одним, с другим, с третьим.
— Заклепано в две заклепки? Ого! Миллиметровый винт? Каленый в масле?..
Помолодевшее лицо товарища Вани сияло, его ловкие пальцы нежно ощупывали металл, точно он держал в руках что-то живое.
— А ведь можно было бы шплинтовать вот так… — доносились до Виктора его взволнованные и непонятные слова.
Потом началось собрание.
— Перед тем как перейти к повестке дня, поговорим о конспирации, — сказал Фретич. — Члены актива уже предупреждены, что не следует держать при себе компрометирующих материалов. До последнего момента место совещания никому не было известно, кроме меня, ответственного за его организацию. Теперь, помимо нас, о нем знает еще Урсэкие, он стоит постовым.
— Это тот высокий товарищ, который направил нас сюда? — с интересом спросил секретарь. — А что это за старичок притаился внизу, у окна?
— Это дядя Штефан… Он там на случай, если произойдет что… чтобы вас укрыть, — сконфуженно и не совсем твердо ответил Фретич.
Товарищ Ваня глянул на часы.
— Урсэкие? Это не тот ли, что устраивает театр у жестянщиков? — повернулся он к Анишоре и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Если товарищи не возражают, я предложил бы пригласить и его сюда — ведь собрание-то у нас расширенное. Он, насколько мне известно, член ученического комитета действий. Если дядя Штефан человек верный, можно, я думаю, положиться на него одного.
Фретич уже готов был кинуться к окну, чтобы привести Урсэкие, но, вспомнив по-видимому, что нужно предварительно запросить мнение собрания, опустился на место.
— Я тоже так думаю, — сказал он быстро. — Никто не может ничего иметь против. Урсэкие — человек честный, он так и рвется к борьбе.
Все согласились с предложением, и Ромышкану вызвался позвать Урсэкие.
— Нет, лучше я, — остановил его Доруца, направляясь к дверям.
— Обязанности свои пусть передаст дяде Штефану! — сказал ему вслед Фретич. — Сигнал и все остальное…
И спустя две — три минуты Урсэкие застенчиво вошел в слесарную. Постояв несколько мгновений в растерянности, он неловко стянул с головы шапку и, вертя ее в руках, принялся отвешивать поклоны. А когда Доруца направился к своему месту, Урсэкие поспешно устремился за ним, точно остерегаясь остаться без поддержки товарища. Сесть, однако, он не решился.
— Скажи, друг Урсэкие, — улыбнулся секретарь городского комитета, — неужели ты и на сцене держишься так робко?
Эти дружеские слова несколько подбодрили парня. Теперь он разглядел и Фретича, который, понимая волнение товарища, указывал ему место рядом с собой.
— Да, на сцене легче… — пробормотал Урсэкие признательно, вытирая кепкой вспотевший лоб.
— Перейдем к повестке дня, — снова начал Фретич. — Борьба учеников за возвращение отнятой у них порции хлеба и ошибки школьной организации комсомола.
Сделав небольшую паузу, он взволнованно откашлялся и продолжал:
— Как известно, утром, в четверг…
— Кто этот товарищ? — шепотом спросил Доруца у Виктора, взглядом указывая на секретаря.
— Прошу извинить меня, — поспешно сказал Виктор, обращаясь к собравшимся. — Товарищ, который пришел к нам сегодня, — это представитель городского комитета комсомола товарищ Ваня.
Послышался шепот удивления и радости.
— Ты, наверно, собираешься рассказать нам о конфликте в столовой? — живо спросил товарищ Ваня Фретича. — Сам-то ты принимал участие в этой борьбе?
— То есть как это — в борьбе? — не понял тот.
— Нет, в борьбе этой не принимал участия ни один из комсомольцев, — нетерпеливо вмешался в разговор Доруца. — Учениками руководил в основном Володя Колесников, а мы не знаем даже, где он сейчас находится. В тот момент, когда события были в полном разгаре, мы совещались в чулане, где картошка… Там темно, не видно… Меня и Фретича ребята избрали в комитет, но мы этого не заслужили, потому что… — и румянец досады выступил на лице Доруцы.
— Расскажешь, расскажешь все потом, — прервал его товарищ Ваня. — Кто же все-таки присутствовал в столовой с начала и до конца столкновения?
— Урсэкие был, и был еще вот… — не глядя на Горовица, Доруца показал на него пальцем. — Они были. Но они не состоят в ячейке, а только так…
— Верно, я стоял на страже у чулана, но совсем не „только так“, как он говорит. Я выполнял то, что мне поручили товарищи — обрел вдруг дар речи Урсэкие. — Только боюсь, не сумею я толком рассказать. Видел все, но рассказать не смогу.
— Я тоже был с самого начала, — серьезно сказал Горовиц. — Но какая там борьба! Мы только просили вернуть нам порцию хлеба…
— Кто это такой? Капаклы? — тихо спросил секретарь Анишору.
— Нет. Это конструктор, — прошептала она ему на ухо.
— …Мы добились этой порции хлеба, и вся борьба закончилась, — продолжал спокойно Горовиц.
— А миски в воздухе? А шумиха? — недовольно спросил его Урсэкие. — Разве этого не было? Эге, задали мы им перцу! Хородничану…
— Это правда, молотобоец Колесников действительно оказался молодцом, — продолжал Горовиц не теряясь. — Без него, возможно, хлеба мы и не отвоевали бы. Товарищи, — показал он на членов ячейки, — хоть там и не были, но ученики все равно полагались на них, потому что это не впервые… Если разрешите, я хочу сказать, что мы должны бороться не только за порцию хлеба, но и за другие свои права. Надо идти дальше… Например, в технике…
— Может, за твои изобретательские фантазии прикажешь нам бороться? — не выдержал Доруца.
— Да! И за мои планы изобретений! — отрезал Горовиц, вспомнив слова Моломана. — Мы хотим строить! У нас будет нужда в строителях. Очень скоро у нас будет в них нужда. Теперь я хорошо это понял!
— Но только не для буржуазии! Не замки! — с негодованием произнес Доруца, вскакивая с места.
Горовиц побледнел, словно вся кровь вдруг отхлынула от его щек.
— Сегодня замки, — продолжал Доруца со злобой, — а завтра… завтра ты еще, пожалуй, будешь изготовлять снаряды! Против наших братьев по ту сторону Днестра!
— Спокойнее, товарищи! — постучал по столу Фретич. — Прошу соблюдать дисциплину. Дело Горовица стоит на повестке дня особо. Придет очередь — мы будем его обсуждать.
Доруца сел. Но до Горовица, казалось, не дошел призыв секретаря ячейки к порядку. Не садясь, он вдруг начал торопливо обшаривать свои карманы, явно выражая желание продолжать.
Товарищ Ваня сделал Фретичу знак: „Пусть, мол, выскажется. Послушаем его, послушаем…“
Наконец Горовиц вытащил из кармана нечто, крепко зажимая в кулаке, вытащил так порывисто, что это „нечто“ тотчас со звоном рассыпалось по полу: связка ключей. Больше десятка одинаковых ключей… Разжав пальцы, Горовиц так и остался стоять с протянутой вперед рукой.
— Вот! — сказал он взволнованно. — Я был так… как бы это выразиться… так увлечен работой… Я даже не подумал о том, для чего этот замок. И только потом увидел его на воротах школы… Только тогда дошли до меня слова товарищей. Точно ударили меня… „Мы как в тюрьме…“ Я наконец понял. Нашелся человек, который объяснил мне все. Пожалуйста, вот дюжина ключей. Понадобится — сотню изготовлю. Или дам готовый шаблон — пусть делает, кто хочет…
Горовиц говорил уже как будто спокойнее, но боль в его голосе звучала по-прежнему.
— Снаряды! — продолжал он, словно не веря своим ушам. — Против наших братьев по ту сторону Днестра?.. Нет! Я никогда не буду делать снаряды. Я бессарабец, сын грузчика. И еще потому я не буду делать снаряды, что узнаю их еще в чертеже, в мельчайшей детали. Никакой мастер, никакой инженер не обманет меня. В любой детали, в самой сложной схеме я распознаю взрыватель, детонатор, я уверен в этом! Как бы ни замаскировали его торговцы кровью! В изгибе винта узнаю. И не возьму в руки. Потому что я знаком с техникой, понимаю ее. Правда, я сделал замок, но я ведь умею делать и ключи! — Горовиц обвел товарищей умоляющим взглядом. — Хозяева наши и науку и технику держат под замком. Все они прячут от нас. Только в рабах они нуждаются. Я знаю это. Но мы должны отстаивать свои права. За знание техники мы должны бороться так же, как за порцию хлеба…
— А почему ты не захотел войти в ученический комитет, когда тебе предложил Колесников? — задала вопрос Анишора.
Глаза Горовица потемнели на миг, затем снова приобрели прежнюю ясность:
— Тогда я считал себя нестоящим человеком, недостойным доверия. Но вот нашелся товарищ, который пришел мне на помощь. Теперь я снова чувствую себя человеком. И если товарищи изберут меня в комитет, я буду бороться изо всех сил. Бороться где бы то ни было! А если бы с нами был Колесников…
— Эх, вот кого нам не хватает! Как он тогда разнес историка! — в восторге закричал Урсэкие. — Тот и бородой махал и руками разводил: „Кризис!.. Земля наших предков!..“ А Володя так и прижал его к стене. Эх, и задал же он ему! Простой ученик — преподавателю истории! Ха-ха-ха! А как старался этот болтун! „Товарищи!“— взывал он к нам. А Бондок как раз на этом слове и поймал его. „Товарищи!..“ — Урсэкие легко вскочил на ноги и расправил воображаемую бороду. — „Земли предков…“ — умильно произнес он, передразнивая Хородничану. — А знаете, он и фасоли нашей попробовал… Я видел своими глазами…
В Урсэкие проснулся актер, и он принялся изображать сцену между Капаклы и Хородничану, и не только эту сцену, но и все происшедшее в столовой.
Глядя на его игру, ребята, участники совещания, испытывали волнение и законную гордость за свои дела. Недоразумения, разногласия между ними — все было забыто. Что ни говори, а все-таки это была схватка, борьба, с классовой ненавистью, с героикой, а порой и с комическими моментами (щедро показанными Урсэкие в сценках, где „героями“ выступали Хородничану, Стурза или „маменькин сынок“). Комсомольцы смеялись. Смеялись и Виктор, и Анишора, и товарищ Ваня Наконец Фретич, все время озабоченно поглядывавший в окно, постучал карандашом по листу с повесткой дня.
— Ну, довольно. Урсэкие! Закончишь у жестянщиков в мастерской, — сказал он улыбаясь.
И Урсэкие смиренно вернулся на свое место.
— Товарищи! — продолжал Фретич серьезно. — Что нам доказало это столкновение? Во-первых, что директор школы все равно что любой хозяин вообще. И когда он „завинчивает гайки“, ученики решительно переходят к протесту. Они верят в нас, в свою комсомольскую организацию И вот тут-то, в борьбе, они хотят видеть нас впереди. А мы сплоховали — мы оказались не готовы. Ячейка только и занималась составлением планов. А про борьбу забыли. Мы все только обсуждали списки товарищей, которых собирались привлечь в Союз. А там, в столовой, при первом же боевом столкновении оказалось, что списки мы составили неправильно Совсем другие ребята проявили себя Колесников, Капаклы, Пенишора… А мы и не собирались привлекать их в ячейку.
И даже Колесникова не замечали. А в Хородничану не видели врага. Валили толпой на его уроки, слушали его развесив уши. Считали его своим! Многие ученики, может быть, до сих пор еще верят в его болтовню. Или вот, например, мы всегда набрасывались только на Стурзу. Конечно, надзиратель — всем известный негодяй и мошенник. Но ведь есть у нас и другие, не менее опасные враги. Но они не проявляют себя открыто, а держатся в тени. И мы до сих пор их не выявили. Кто виновен в этом?
Как бы в поисках ответа Фретич сделал паузу. Честным, прямым взглядом смотрел он в глаза своим товарищам-комсомольцам.
— Конечно, прежде всего виноват я, секретарь ячейки. Я мало думал о повседневных нуждах учеников, об их стремлении к борьбе. А без этого нельзя быть революционером! Да еще секретарем ячейки! Борьба за порцию хлеба показала, что ребята нашей школы давно уже готовы действовать. А ячейка только и знала, что совещалась. Поэтому надо признать, что я виноват, признать прямо и честно…
— Ну, а остальные члены ячейки что скажут? — спросил товарищ Ваня.
— Прошу слова, — поднял руку Виктор и поднялся с места.
В полумраке лицо его казалось ещё бледнее, чем обычно. Он постоял несколько секунд с опущенной головой, затем, тяжело вздохнув, обвел глазами присутствующих.
— Но, может быть, товарищи ученики хотят еще высказаться? — настойчиво повторил секретарь горкома.
Ученики молчали, кое-кто тихо пробормотал: „Потом“. Виктор уже готов был начать, но в этот миг Апи-шора, спокойно напомнив, что она просила слово раньше, начала говорить.
Товарищ Ваня, видимо удовлетворенный, сделал несколько шагов по мастерской, затем оперся на стол Прелла и принялся разглядывать на нем разные бумаги. Виктор устало опустился на скамью.
Анишора заявила, что она говорит от имени городской организации учащихся и, так как времени осталось мало (скоро будет перекличка в дормиторах), она постарается высказаться как за себя, так и за инструктора Виктора.
— Это верно, что секретарь ячейки отвечает за недостатки в работе. Но не он один. Вина лежит на всей ячейке и на каждом из нас, комсомольцев. И это должны понять все товарищи. Но самую большую ответственность несет городской комитет учащихся, и прежде всего товарищ инструктор, — сказала она, обращаясь к Виктору, — те, кому поручено налаживать связь. Конечно, очень плохо, ребята, что во время стычки с начальством вас, комсомольцев, не было. Больше того: вы не проявили себя должным образом и тогда, когда вышли, посовещавшись, из чулана. Все-таки провел вас за нос этот лицемерный Хородничану! А правильно поступил именно Капаклы. Верный интересам товарищей, которые его избрали, он не ограничился борьбой за порцию хлеба, он пошел дальше в своих требованиях. Он понял, что комитет — это орудие борьбы. А вы не прислушались к его словам, не поддержали его. Дальше, исчез Колесников. Вся школа волнуется. А что сделал комитет? Опять-таки бездействовал. Не помог вам и товарищ инструктор. Думаю, что он и не мог дать вам нужные указания. Почему? Да потому, что он не знает жизни учеников, не знает, что их волнует. А он должен, обязан знать. Я уверена, что именно это он хотел вам сказать и сам в своем выступлении.
Анишора укоризненно повернулась к Виктору.
— Мы знаем, товарищ Виктор, — сказала она, глядя ему прямо в глаза, — как ты предан нашему пролетарскому делу. Знаем, что ничего дороже у тебя нет на свете. Ты в работе день и ночь. Все мы верим тебе. Но ученикам этого недостаточно. Вот видишь, ученику Капаклы мало того, что отвоевана утренняя порция хлеба. В борьбе учеников, своих товарищей, Капаклы, из гагаузских крестьян выросший в пролетария, видит уже огромную силу своего класса, свое право на жизнь. За это право он хочет идти в атаку, как идет весь рабочий класс. И если он не видит тебя во главе, это значит, что ты плохой руководитель для него. Может быть, тебе трудно? Может быть, дыхание у тебя короткое? Так он не будет стоять и дожидаться тебя. Догоняй его! Догоняй и Горовица, который хочет строить и знает, что имеет на это право.
Услышав фамилию конструктора, секретарь горкома, углубленный до сих пор в изучение какого-то чертежа на столе, взял его и направился было к Горовицу. Но, взглянув на напряженные лица слушателей, повернулся и подошел к тискам. Пошарив в темноте, он нащупал губки тисков и, развинтив их, вернулся на место, зажимая что-то в руке. Его лицо было взволнованно, обычно спокойные глаза горели. Казалось, что, не дослушав Анишору до конца, он сейчас рванется, закричит что-то… Однако товарищ Ваня опустился на свое место и, поглядывая то на чертежи, то на предмет, зажатый им в руке, спокойно выслушал Анишору до конца.
Словно снова войдя в свои права, тишина объяла мастерскую. Напряженная тишина. Надвигалась ночь. Белизна карбида для автогенной сварки приняла пепельный оттенок. Потонули во мгле переплетенные трубы, груды железа. Только станки напротив окошек поблескивали металлическим блеском, и в окно подле стола заведующего мастерской проникал свет уличного фонаря.
Товарищ Ваня прервал тишину. Он осведомился, кто хочет еще взять слово, и, задумчиво поглядывая на вынутые из кармана часы, терпеливо дожидался ответа.
— С вами, товарищи, время проходит быстро, — сказал он, и глаза его улыбнулись. — Хорошо вот так сидеть и слушать вас. Правда, товарищи наши из городского комитета партии крепко нас отчитали, крепко и правильно. Крепче и правильней, чем мы отчитываем сами себя сегодня здесь. Ну что ж, на то они и коммунисты, чтобы нас учить.
Секретарь сделал маленькую паузу, затем продолжал:
— Да, вы получили, как говорится, боевое крещение. Хорошее выступление! Несомненно, это ваша заслуга, коммунистической молодежи школы, результат вашей работы и авторитета, которым пользуется ваша ячейка. Здесь сказались и ежедневные стычки в мастерских, и революционная литература, и беседы, проводимые вами в дормиторах, и театр Урсэкие, и даже чертежи изобретений Горовица — все! Если бы не было всего этого, победа оказалась бы за дирекцией. Конечно, вы не должны были действовать изолированно от учеников. Это было вашей большой ошибкой. Решение нужно было принимать среди них, с ними вместе.
Секретарь задумался.
— Да… Ломтик хлеба, вырванный вашей борьбой, — продолжал он, — велик. Настолько велик, что его разглядели далеко за пределами школы. Недаром Хородничану в такой панике. Володю Колесникова он предал в лапы сигуранцы. В школе также рыщут агенты сигуранцы. Они попытаются еще вредить нам, но их старания будут напрасны. Имя Колесникова теперь на устах у всей молодежи города. Весть о вашем столкновении с дирекцией дошла до предприятий, до пунктов обучения допризывников. Ученицы женской ремесленной школы также перешли к борьбе. Правда, их выступления приняли более широкий характер. Они поднялись против стрэжерии, против фашизации школ. Борьба их направлена против войны. В то время как бессарабский народ борется не на жизнь, а на смерть против оккупантов, вы удовлетворились полученной обратно маленькой порцией хлеба. Мы не будем скрывать ошибки, допущенные вами, а, наоборот, предадим их широкой гласности. Пусть на этих ошибках учится вся трудящаяся молодежь. Но прежде всего нужно, чтобы вы сами отдали себе отчет в этих ошибках. Вы, ученики, не должны стоять на месте. Ваша же борьба оторвана, изолирована от борьбы всего рабочего класса. Правильно сказал Горовиц — нужно идти вперед. Но он не прав, полагая, что хорошее знание техники уже само по себе является средством борьбы. Нет! Буржуазная техника работает в настоящее время на войну. Это, по-видимому, хотел сказать и Доруца. В Советском Союзе техники окружены почетом, но там они работают для народа, строят мир. Мы уважаем и наших здешних конструкторов, но только тех, которые своим творчеством помогают освобождению, а не порабощению нашему. Понятно, товарищ Горовиц? А кстати, взгляни-ка на этот чертеж!
Глаза секретаря снова вспыхнули гневом. Он положил перед Горовицем бумагу, взятую им со стола Прелла, и поднес на ладони к самому лицу конструктора деталь, вынутую из тисков.
— Ты эту деталь видел. Мало того — ты делал ее и видел, как ее делали другие, тысячи штук делали. Но ты не думал, что это за деталь! Тебя занимало только ее техническое устройство, пружинки, клапаны!
— Детали?.. — испуганно прошептал Урсэкие.
Горовиц вздрогнул, широко раскрытые глаза его так и впились в чертеж.
Начиная догадываться, в чем дело, Доруца подошел к конструктору и выхватил бумагу у него из рук.
— Говорил, я говорил, что больно уж интересуются наши господа этими сифонами! Подозревал я, что не о газированной воде они беспокоятся, — бормотал он, мучительно вглядываясь в чертеж, бессильный разобраться в его схеме. — Дьявол бы их взял! Какая-то буржуйская мерзость… Буржуйская какая-то мерзость!
— Капсюли для гранат… — виновато произнес Горовиц. Его тихий, срывающийся голос отчетливо прозвучал в гнетущей тишине.
Первым оправился от оцепенения Урсэкие. Ударив себя ладонью по лбу, он с горечью воскликнул:
— Так вот почему мастер Цэрнэ отбрасывал их, не хотел работать! И олово, как из ведра, и новый инструмент… Эх, вот тебе и сифонные головки!
Фретич взял из рук Доруцы чертеж и быстро глянул на него:
— И мы, токари! Первый процесс обточки… Я сам… Брови Доруцы сошлись на переносице.
— Убийцы! — бормотал он. — Убивать нашими руками!.. Нашими руками…
— Товарищи! Ваша ошибка — результат слабости всей нашей организации в целом, — продолжал Ваня. — Мы были недостаточно бдительны. Нам не приходило в голову, что, боясь глаза заводского рабочего, поджигатели войны используют труд учеников ремесленных школ. И вы не помогли нам. — Взяв у кого-то из рук деталь, секретарь протянул ее слушателям. — Вот роль, которую они предоставляют конструкторам, — сказал он. — Допустить это — означает подать оккупантам руку помощи в войне против Советского Союза… Конструктор, если он настоящий человек, не создает, а уничтожает капсюли, предназначенные для войны. Он борется против этих негодяев, против всего их разбойничьего класса. Но вы ничего не знаете о выступлениях безработных, о том, что творится хотя бы в других школах, в гимназиях и в пунктах по обучению допризывников. Если и доходит до вас кое-что, то это только слухи. Знаю! Подполье, дескать, конспирация…
Товарищ Ваня бросил взгляд на Виктора, затем продолжал:
— Деятельность вашей организации проходила незамеченной даже для учеников вашей школы. Ведь Колесников был в Бендерах исключен из школы за революционную работу, а поступив к вам, не мог возобновить здесь организационную связь. Он даже не подозревал, что в школе действует ячейка Союза. А товарищ Виктор не сумел привлечь вас к участию в таких делах, как распространение наших листовок! Разве ученики не могли вывешивать лозунги на стенах домов, участвовать в демонстрациях, в массовых собраниях? Это уже не конспирация, она переходит в сектантство — отстранение от масс, от их интересов.
И еще одно, товарищи, — и особенно пусть секретарь ячейки примет это во внимание — комсомольцы обязательно должны изучать марксистскую теорию. Ленин учит нас: „Без революционной теории не может быть и революционного движения“. Недостатки в вашей работе во многом объясняются тем, что вы не знакомы с революционной теорией. Недостатки эти нужно исправить в самое короткое время. Повторяю: в самое короткое время!
С завтрашнего дня, даже уже сегодня, нужно помешать производству капсюлей для гранат. Не только ячейка, а вся школа должна участвовать в этом. Расшевелите комитет учеников! Пусть комитет возьмет на себя руководство борьбой против милитаризации. Требуйте аннулирования военного заказа. Саботируйте! Ни одного капсюля из ваших рук! Руки прочь от отечества рабочих! Пишите на всех стенах, на домах, тротуарах — повсюду: „Долой антисоветскую войну!“, „Долой фашизм!“
Товарищ Ваня говорил сейчас во все сгущающейся темноте мастерской, и среди учеников его можно было различить только по порывистым движениям поднятой руки.
— Сегодня же ночью поднимите учеников. Расскажите им все: о Колесникове, о капсюлях для гранат. Соберите немедленно комитет. Организуйте группу ребят — пусть пишут лозунги! Пусть вся окраина, весь район узнает о вашей борьбе. Весь город! Можете это дело поручить Горовицу. Это будет первое его задание. А что касается приема его в комсомол, то теперь вопрос легче будет решить в борьбе. Не раздумывайте долго и в отношении Урсэкие и Капаклы. Они — наши люди. — Секретарь посмотрел на часы. — Связь со школой будет поддерживать товарищ Анишора. Ей это больше всего с руки. А теперь берите слово, товарищи! Давайте решать, какие меры нужно принять в ближайшее время. Вскоре мы соберемся снова. Полагайтесь на помощь партии.
Когда собрание кончилось, первыми покинули мастерскую секретарь городского комитета, Виктор и Анишора. Дядя Штефан, как только заметил их, быстро двинулся вперед — показать дорогу к самому глухому углу двора. Вскарабкавшись первым на забор в том месте, где была порвана колючая проволока, товарищ Ваня послал старику прощальный привет рукой. А тот вдруг обнажил голову и застыл с картузом в руке. Ветерок ласково шевелил белые пряди его волос. Он проводил товарища Ваню, Виктора и Анишору задумчивым взглядом. Вот такие же внучата были бы и у него. Точно такие. Поумирали все… Очнувшись от задумчивости, Штефан напялил свой нелепый картуз, который заставил его купить Фабиан, и быстро пошел к слесарной. Там еще оставались ребята. Они доверили ему сторожевой пост.
Стояла летняя ночь.
Домики городка, словно ища опоры, жались один к другому. Пыль, целый день клубившаяся облаком, сейчас мягким покровом опустилась на землю, будто и она подчинялась ночи. Даже вечно стоявшее здесь, на окраине, зловоние перебивала струя свежего воздуха.
Во дворах под открытым звездным небом расположились на ночь семьи рабочих. Тряпье, которым были прикрыты дети, разбросанная тут же скудная домашняя утварь придавали этим спавшим среди бурьяна людям вид кочевников, расположившихся на привал после долгого, утомительного похода, который с рассветом нужно будет продолжать.
Товарищ Ваня, по обе стороны которого шагали Виктор и Анишора, держался в тени, падающей от домов.
— Горовица мне нужно завтра во что бы то ни стало еще раз повидать, — говорил он Анишоре. — Плохо, что на собрании не поговорили о том, что ты, Анишора, упустила из виду собственного своего отца. Ведь он не мог не знать, что с деталями дело не чисто… Необходимо было…
— Может, вам нужно поговорить наедине? Конспирация? — тихо спросил Виктор.
— Нет, нет, — отозвался секретарь, — ты нас не стесняешь.
Анишоре хотелось, чтобы товарищ Ваня что-нибудь сказал Виктору. Что-нибудь теплое, ласковое. Поговорил бы с ним о подготовке учащихся к борьбе, подбодрил бы его. Она видела расстроенное лицо Виктора, и ей было его жаль. Впрочем, не только жаль — его горе Анишора переживала вместе с ним. Виктор был ей дорог…
…Вот Бессарабия освобождена. Отец ее находит свое место в жизни. Его мучительным переживаниям пришел конец. Мастеру Цэрнэ нет больше нужды выбивать своим долотцом вывески для торгашей или клепать разные там жестянки. Он ведь такой замечательный мастер-художник! Он воплотит в металле образы, полные чувства, жизни. Он так мечтает об этом! „Дайте мне медь и свободу…“ — обращается иногда старик к кому-то невидимому, шагая по своей каморке.
С освобождением Бессарабии начинались в мечтах Анишоры самые счастливые минуты ее жизни. Она видела себя изучающей инженерное дело в одном из городов Советского Союза. А может, в Москве… И рядом с ней Виктор…
Не была ли она сегодня слишком сурова с ним? Но нужно же было указать ему на ошибки!
— О тебе, товарищ Виктор, городской комитет комсомола такого мнения, — вывел Анишору из задумчивости голос секретаря, — пока ты не оправдал нашего доверия: руководя школьной организацией, не сумел повести правильную партийную линию. Не сумел. Никто не ставит под сомнение твою преданность нашему общему делу, но тебе не хватает главного: боевитости, революционной активности. Отсюда — те ошибки, на которые правильно указала Анишора. Возможно, в этом сказывается твое прошлое, полученное воспитание, от дурных сторон которого ты не смог еще отделаться. Может быть, ты слишком увлечен романтической стороной нашего дела, а в повседневной практической работе слаб, пасуешь? Окончательный вывод мы пока не будем делать. Всем известны трудности, связанные с подавлением буржуазных пережитков в каждом из нас. Мы живем в капиталистической стране. Но нужно бороться против этих пережитков так же, как против классового врага. И побеждать их. Мы дадим тебе возможность исправить ошибки, приобрести закалку, опыт. Мы пошлем тебя к безработным… как рядового комсомольца. Этот участок — очень ответственный. Связь с комсомольской ячейкой безработных наладишь на бирже труда, в столовой. С тобой свяжутся паши люди.
Товарищ Ваня протянул бывшему инструктору руку.
— Желаю тебе, Виктор, успеха в борьбе, — сказал он тепло, — и революционной стойкости. Надеюсь, мы еще встретимся.
Схватив руку секретаря, Виктор признательно пожал ее, потом смущенно подошел к Анишоре:
— Всего доброго, товарищ! Всего доброго… — Он словно хотел как можно скорее распрощаться с ней.
Анишора, подав ему руку, не спешила ее отнять. Несколько секунд она взволнованно глядела на юношу. Пряча от нее расстроенное лицо, он упорно смотрел куда-то в сторону. Анишора разочарованно опустила глаза. „Да скажи же что-нибудь!“ — хотелось ей крикнуть ему. Ведь не мог он обидеться на ее слова, на справедливые слова! Ведь революционеру, борцу, а не сентиментальному гимназисту отдала она свои нежные, чистые мысли…
— Ну, ладно, — вмешался товарищ Ваня, понимающим взглядом наблюдая эту сцену. — Ступайте назад этой дорогой, а мне нужно еще зайти в один дом поблизости. Итак, — добавил он, — мы договорились обо всем. До завтра!
И секретарь быстро зашагал вперед, оставив молодых людей, так и не прервавших прощального рукопожатия.
Анишора и Виктор повернули назад, к школе.
— Нет, не может быть! — сказала Анишора решительно после продолжительного молчания. — Ты должен доказать, что я не ошибаюсь в тебе. Ты можешь быть настоящим революционером. Можешь!
Анишора, эта школьница с белым воротничком, хороший и милый товарищ, которая никогда ни в чем не противоречила инструктору, теперь говорила с Виктором так сурово. Те же косы, заплетенные девичьими пальцами, тот же аромат свежести, исходивший от нее, — и все же это не прежняя Анишора. Она стояла перед ним возмужавшая, взрослая, непреклонная.
— Нет, ты наш! Не может быть, чтобы у нас с тобой были разные дороги. Не верю! Не хочу! Откуда бы ты тогда нашел в себе силы гореть нашим огнем? Переносить столько лишений! — Анишора замедлила шаг. — Почему же ты молчишь? Говори! Говори скорей, потому что… Пойми, для меня это очень, очень важно!
Виктор, который все время шел чуть позади Анишоры, поравнялся с ней и взволнованно взял ее за руку.
— Да, Анишора, — сказал он горячо, — ты не ошибаешься! У меня не может быть иного пути. Только путь настоящего революционера!
Анишора высвободила свою руку.
— Докажи! — сказала она твердо. — Докажи на деле!
Виктор хотел что-то сказать, но удержался. Безмолвно шел он рядом с ней.
Они прощаются у школьного забора, опутанного колючей проволокой. Калитка захлопывается за ней. Виктор задумчиво бредет вдоль ограды. Столбы, вкопанные в землю, ржавая проволока… проволока… проволока…
Но что это белеет там, на заборе? В темноте глаза различают букву, другую…
Виктор бросается к надписи. Белые буквы ярко выделяются в темноте: „Долой антисоветскую войну!“
Буквы белые, маслянистые, еще пахнут свежей краской.
Виктор вслух читает лозунг. А вот там, подальше, второй, третий — „Этой дорогой шел Горовиц. Это — дело его рук, — мелькает в уме Виктора. — Первое комсомольское поручение конструктора!“
Мысленно Виктор провожает девушку по школьному двору до маленькой двери домика, где живет Цэрнэ.
„Ты убедишься на деле, Анишора… На деле!“
Товарищу Ване вовсе не нужно было никуда заходить. У него был свободен еще целый час. Это время он выкроил именно для того, чтобы подробно проинструктировать Анишору. Но, внимательно приглядевшись к Виктору и девушке, он понял, что с ними творится, и оставил их вдвоем.
„Анишоре явно нравится этот парень, а Виктор и подавно влюблен, — товарищ Ваня улыбнулся своим мыслям. — Но Виктор боится этого чувства. Он борется с ним. Эх, не следовало оставлять их так! Надо бы взять их за руки и сказать: „Любите друг друга, милые вы мои! Вы молодые, красивые, вы революционеры оба. Любви вашей не помешает ни мысль о приданом, ни поп, ни торгашеская мораль. Не бойся, Виктор, чистой любви Анишоры! Ты человек, ты имеешь на это право, подполье не отнимает его у тебя. Наша любовь… — Товарищ Ваня задумчиво покачал головой. — Наша любовь… Эх, да что он говорит! Чему может он научить этих милых ребят?“
— Где-то ты теперь, любимая моя?.. — беззвучно прошептали его губы.
…Это было шесть лет назад.
Встретившись с представителем Центрального Комитета Союза коммунистической молодежи, прибывшим из Бухареста, Ваня сначала пришел в замешательство. Уж не спутал ли он пароль? За всю дорогу он не произнес ни слова. Но когда они пришли на конспиративную квартиру и его спутница сняла модную шляпу, брезгливо вытерла платочком губную помаду, а потом спросила, как обстоят дела в местной организации, Ваня почувствовал, что при всем желании не может оторвать от нее восхищенного взгляда.
Она велела называть себя „товарищ Дан“. Карманным гребешком расчесала по-мужски подстриженные темно-рыжие вьющиеся волосы. Говорила она отрывисто, сурово… А Ваня все глядел на чудесную ямочку на ее подбородке, на детски ясные глаза и слушал звонкий и теплый девичий голос. Когда деловой разговор был окончен и она принялась неумело свертывать самокрутку, ему вдруг ужасно захотелось отобрать у нее и листок бумаги с табаком и спички, погладить ее по рыжей головке и сказать что-нибудь очень нежное. Сказать, что ему сейчас удивительно хорошо и страшно оттого, что через несколько минут они выйдут на улицу и разойдутся в разные стороны…
Но он, конечно, ничего не сказал… Наверно, вот так же, как теперь Виктор…
Еще задолго до этой памятной встречи товарищ Ваня не раз слышал о комсомолке-агитаторе Любе. Ее хорошо знали в рабочих кварталах Бухареста и других городов. Чего только не рассказывали о ней!
Внезапно появлялась она где-нибудь на рабочей гулянке, вскакивала на скамью, делала музыкантам знак замолчать и начинала:
— Остановитесь, товарищи танцоры! Вот тебе нравится девушка, которую ты кружишь в танце, — обращалась она к какому-нибудь парню. — Ты ухаживаешь за ней. Но знай: для того, чтобы купить платье, в котором ты ее видишь, ей каждый месяц приходится несколько дней не есть. Посмотри на ее бледное, осунувшееся лицо. Вглядись хорошенько. Ей грозит чахотка, товарищ кавалер. Твоя девушка работает по двенадцати — четырнадцати часов в сутки. А зарабатывает она еще меньше тебя. Ты ее любишь, ты хочешь жениться на ней. Знай, мать твоих детей будет рожать у станка, в цеху, да и то, если хозяин не выгонит ее раньше с работы. Хозяевам не нужны работницы-матери, потому что хозяева — капиталисты! А борются с ними коммунисты, и только коммунисты! Оркестр, — восклицала она в заключение, — продолжайте! — и исчезала.
И не только на таких гулянках встречалась Люба с рабочими; она шла к ним в дома, вникала в их жизнь. В рабочих кварталах частенько случалось, что какой-нибудь молодой муж запивал, начинал поколачивать жену. Люба всюду поспевала, до всего ей было дело. „Капелька ртути“ — называли ее товарищи.
— Чего она сует нос в вашу семейную жизнь, эта рыжая? Какое ей дело, что муж тебя бьет? Он — твой, потому и бьет, — шипела дородная матушка-попадья на дальней городской окраине, где жили большей частью огородники и где Люба только начинала свою работу.
— Это неспроста, что она такая красивая, чертовка! Чужое счастье — ей бельмо на глазу! — подзуживала старуха пьяных мужчин.
И однажды Любу нашли на улице такой окраины избитую, еле живую. Она долго отлеживалась. Все тело и лицо были у нее в кровоподтеках и ссадинах, но не это причиняло ей страдание: душа болела, что родилась она девушкой, а не парнем.
Много рассказов слышал товарищ Ваня о Любе. Не знал он только одного: что „товарищ Дан“ и есть Люба. Об этом он узнал уже после того, как Люба была арестована и приговорена к восьми годам тюрьмы.
Он даже не успел понять, любит ли она его. Ведь во время немногочисленных и коротких встреч они говорили о делах революционного движения. А потом ее арестовали. И вот теперь он ничего не знает о ней, даже не может написать ей. Но почему-то он уверен: она любит его. И он дождется ее, сколько бы ни пришлось ждать…
На углу, возле подслеповатого фонаря, который, казалось, подмигивал товарищу Ване, кто-то стоял.
Секретарь быстро свернул влево и исчез.
Здесь уже начинались лавки, это была торговая часть города.
Как только закончилось собрание, Горовиц, приготовив все необходимое, отправился с двумя своими помощниками писать лозунги.
Остальные комсомольцы — у каждого из них было свое задание — разошлись по дормиторам. После ухода Стурзы они разбудили всех до одного учеников. Весть об аресте Колесникова и о том, что „сифонные головки“ оказались на самом деле взрывателями для гранат, поразила ребят как гром с ясного неба. Раздались крики: „Расправимся с начальством! Разнесем вдребезги станки!“ (На станках производилась первая обточка деталей.) Еле-еле удалось уговорить крикунов. Труднее всего было успокоить Пенишору. Это был уже не тот Пенишора, которого знала и над которым подтрунивала вся школа. Куда девались его виноватое помаргивание, его робкий, испуганный взгляд! Сейчас это был другой человек.
— Знаете ли, что это такое — капсюли для гранат, что такое эти гранаты? — говорил он, и было в его тоне что-то, заставлявшее всех ребят внимательно прислушиваться к его словам. — Смерть! Увечья! Деревяшки вместо ног! Вам нравится, как рассказывает историю войн Хородничану? Басни! Не из книг, а из писем моего отца с фронта я знаю, что такое война…
Нагнувшись над своей койкой и приподняв сенник, Пенишора вытащил из-под него пачку пожелтевших от времени писем.
— Вот! — сказал он. — По ним я читать учился… Как по азбуке. Вот где правда о войне! Это вам не учебник истории. Отец ослеп от осколков гранаты. От гранаты с таким же вот капсюлем… Промучился семь лет и умер. Я его и не помню. Мать осталась вдовой. Дом полон голодных детей… Одна десятина земли… Скотины нету. Работать некому… Знаю я, что такое капсюли для гранат!
Пенишора тоже стоял за то, чтобы немедленно разрушить станки, чтобы хорошенько отдубасить Фабиана или хотя бы этого мерзавца Стурзу — он ведь правая рука директора.
— Давайте сегодня же вечером, — предлагал он, — накинем ему на голову одеяло… А завтра — забастовка!
Доруца с жадностью слушал Пенишору, во всем готовый согласиться с ним. Урсэкие, который после собрания ячейки старался быть более рассудительным, тоже не сводил глаз с Пенишоры, ловя каждое его слово. Но тут вмешался Фретич.
— Ты, братец, собери-ка письма отца и храни их, — спокойным, но твердым тоном сказал он Пенишоре. — Настанет время — мы прочтем их. А глупостей не городи. Не со станками надо сводить счеты, а с классовым врагом. И притом без лупцовки, без одеял, накинутых на голову. Будем бороться организованно, так, как борется весь рабочий класс. У нас ведь есть своя организация.
В эту ночь не сомкнули глаз даже те, которые никогда не отличались особенно боевым духом. Только на рассвете унялась немного суматоха в дормиторах. Ученики наконец забылись сном. А дню, который уже прокрадывался к ним в окна, предстояло стать решительным в их жизни. Все было заблаговременно обсуждено, взвешено — без спешки, без излишнего шума. Так, как учил их товарищ Ваня.
После завтрака ученики, как обычно, отправились в мастерские. Каждый занял свое место. За капсюли, однако, никто не брался. Того, кто попробовал бы это сделать, сочли бы предателем и сурово осудили тут же на месте.
Выбранный учениками комитет был уполномочен вести переговоры с начальством. Первым требованием был отказ от выполнения военного заказа — изготовления капсюлей. Далее ученики требовали признания своего комитета, ходатайства дирекции об освобождении Колесникова, упразднения телесных наказаний, улучшения бытовых условий. Комитет должен был приступить к переговорам после полудня.
Но еще во время завтрака Пенишора не выдержал и вступил в разговор с господином Фабианом, который присутствовал при раздаче порций. Неожиданно для всех он вдруг сердито высказал ошарашенному директору свое соображение о том, что вместо новой войны не лучше ли собрать всех поджигателей в каком-нибудь сумасшедшем доме и пускай себе убивают друг друга. Большого убытка от этого не будет. Затем он заверил Фабиана, что рабочие воевать не хотят, особенно против России, а они, ученики, не будут изготовлять капсюли для гранат, хотя бы он, директор, лопнул…
— Разве мы допустим, чтобы нас проклинали вдовы и сироты так, как моя мать-вдова проклинает изобретателей гранат, от которых погиб отец! — кричал Пенишора, размахивая ложкой перед самым носом директора.
Фабиан снисходительно взял его под руку и, что-то тихо говоря ему, даже как бы соглашаясь с ним, направился с буяном к выходу.
— Странно! — воскликнул Урсэкие после их ухода. — Мы ведь условились: без лишнего шума. А он к тому же еще и член комитета!
— Язык у него чешется, — отозвался Ромышкану. — Столько лет молчал парень! Только, что это Фабиан с ним так дипломатничает? Под руку взял…
— Как бы тут не было предательства, — тревожно сказал еще кто-то. — Все годы, что мы учимся, Пенишора боялся и тени Фабиана, а тут вдруг…
— Товарищи! — поднялся Фретич из-за стола. — Пенишора говорил правильно. А это самое главное. Дальше — посмотрим. Если он окажется предателем, мы его разоблачим, как разоблачим любого предателя. Мы ведем борьбу открыто. Не только на виду у всех учеников, но и на виду у всех рабочих. Если среди нас затесался предатель, ему не уйти от наших рук!
Взволнованные, растревоженные, отправились ученики в мастерские. Урсэкие взял на себя еще контрольный рейс по дормиторам, по изолятору с больными, по чердакам и всех ребят привел на работу.
— Сегодня, братцы, великий день! Нельзя ни болтать, ни отлынивать от дела.
В жестянщиках своих Урсэкие был уверен: „Дай сегодня жестянщику деталь в руки — и аминь! Он притворится, что уронил ее в горн, и ищи-свищи ее!“ За слесарей он тоже был спокоен. Там Доруца, Горовиц и, кроме того, мастер, который всегда горячо поддерживал каждое выступление против дирекции. Слесаря — ребята бравые. Правда, есть там и „маменькин сынок“, но он с одного страха никого не выдаст. Да еще вот Федораш Доруца. Но этот не в счет…
Насчет токарей у Урсэкие были кое-какие сомнения. Там, правда, Фретич и Ромышкану, но этого мужичка Урсэкие недолюбливает. Кроме того, именно в токарной-мастером негодяй Маринеску, который избивает учеников.
Урсэкие сбегал к жестянщикам. Здесь все было в порядке. Ученики сидели вокруг чугунной печки, которая, несмотря на то, что было начало лета, пыхтела и шипела, как локомотив. Урсэкие отодвинул заслонку и все понял. Раскаленные пружинки деталей бело-красной паутиной светились в зеве печки. Другие, уже расплавленные, поблескивали слезками олова.
— Сколько? — осведомился Урсэкие деловито.
— Ровно столько, сколько было в этой партии, — ответили ему таким же тоном. — Ждем следующую серию.
Урсэкие задвинул заслонку и направился к будке — взглянуть, что поделывает мастер.
Цэрнэ снова в самом лучшем настроении выдалбливал своим маленьким долотцом ребенка на медной пластине. Редко бывало, чтобы старик так обрадовался посещению Урсэкие, как сейчас.
— Что, сорванец? — спросил он его с добродушным оживлением. — Так вы и не нашли моих старых очков? Да, да, большие вы плуты.
Урсэкие не понял, что этим хотел сказать мастер. Хорошее его настроение он приписывал удаче в работе над медным ребенком. Проходя снова мимо печки, Урсэкие остановился.
— И напрасно, — сказал он ребятам, — вы ждете: больше капсюлей к вам уже не поступит. Не вы одни такие смельчаки. Ни одна мастерская у нас не производит больше капсюлей. Решение есть решение. Пока что возьмитесь за жестяные трубы. Сегодня надо работать. Если что случится, вы найдете меня в токарной.
Опасения Урсэкие насчет токарной не оправдались. Мастер Маринеску, как это часто бывало с ним, явился на работу пьяный и сейчас спал, похрапывая, на полу в отделении, где стоял мотор. Токари сами получили свои наряды. Токарные станки работали на полный ход, однако деталей для капсюлей не было видно.
Фретич спросил Урсэкие, как идут дела у жестянщиков. Узнав, какие молодцы жестянщики, он даже с некоторой досадой кивнул на отделение, где стоял мотор:
— Напился, несчастный, и храпит! Протрезвился бы, наконец, чтобы мы могли продемонстрировать перед ним нашу силу и сплоченность.
Ромышкану торжественно водил Урсэкие от станка к станку: ни одного, мол, капсюля!
В слесарной картина была совсем иная. Слесари были озабочены отсутствием Пенишоры. Ни он, ни директор в мастерской не появлялись. Ученики недоумевали и по поводу странного поведения Оскара Прелла. Обычно поощрявший ученические бунты, он на этот раз очень холодно принял весть об отказе учеников изготовлять капсюли.
В глазах Прелла, которые бывало так и вспыхивали, стоило ему услышать о какой-нибудь выходке учеников против Фабиана, сейчас ничего нельзя было прочесть. Ни одним словом, ни одним движением не обнаруживал мастер своего отношения к происходящему. Лицо его было словно высечено из камня. Это смущало учеников, и они то и дело вопросительно посматривали на него.
На капсюлях никто не работал. Без охоты занимались своим делом и те, что выполняли другие заказы. Ребята переговаривались, собирались кучками, дожидаясь, что будет дальше.
Когда во главе с Илие Капаклы в слесарную ввалилась шумная компания ребят-слесарей и объявила, что хватит, не хотят они все время работать по нарядам, выполнять одну только черную работу, Прелл поднял наконец на них глаза и окинул ребят проницательным взглядом. Через несколько минут он стал по очереди вызывать к себе слесарей.
— Ты почему не хочешь обрабатывать сифонные головки? — спрашивал он.
— Это не сифонные головки, господин мастер, а капсюли для гранат!
— Откуда ты это взял? Кто тебе сказал?
— Знаю, господин мастер. Я не хочу работать на войну.
— Хорошо. Напиши вот здесь, — говорил Прелл, показывая на лежавший у него на столе лист. — Распишись, что не хочешь.
Наступил обеденный перерыв. Делегацию, которой было поручено вести переговоры, директор не принял. В конторе им сказали, что господин Фабиан очень занят. Дверь захлопнулась перед самым их носом.
Послеобеденные часы не принесли никаких перемен. А к вечеру наконец отыскался Пенишора. Урсэкие нашел его на пустыре. Пенишора сидел на куче мусора и выплевывал сгустки крови. Верхняя губа его была рассечена, из носу текла кровь, рубаха была изорвана в клочья. Парень сидел, опустив голову.
— Кто это тебя так разделал, Григоре? С кем подрался?
Пенишора поднял на мгновение глаза на Урсэкие и безнадежно махнул рукой. Потом снова согнулся, с трудом откашливаясь и сплевывая кровь.
Урсэкие пошел за товарищами, но как ни расспрашивали Пенишору, от него так и не удалось добиться ни слова.
Ребята, конечно, сразу поняли, кто избил Пенишору, но сам он молчал, словно воды в рот набрал. Он всегда был чудаком, этот Пенишора! Да и директор, видно, крепко запугал его.
После ужина на доске объявлений, подле бронзового бюста короля, стоявшего посреди актового зала, был вывешен приказ дирекции: „За подстрекательство к волнениям и анархические действия, направленные к подрыву государственной безопасности, ученик 4-го класса Пенишора Григоре исключается из школы…“
Кто-то сорвал бумагу и, скомкав ее, зашвырнул за королевский бюст.
— Сам черт ногу сломит, пока разберется, что тут происходит! — проворчал Ромышкану.
— При чем здесь черт? — сердито возразил Доруца, смерив Ромышкану взглядом. — Мы знаем, кто расправился с Пенишорой. Чем охать по-бабьи, пойдем-ка лучше приведем его.
— Да не хочет он идти! — пожав плечами, сказал Филипп.
Пенишора действительно не давал ребятам ухаживать за собой. С большим трудом привели они его в дормитор, а к еде, которую ему принесли, он даже не притронулся.
Фретич собрал комитет:
— Пошли в канцелярию!
Однако и на этот раз они не были приняты: „Господин директор отдыхает. У него мигрень“.
В этот вечер ученики решили объявить забастовку: „С завтрашнего дня никто не входит в мастерские“. Одним из первых было выдвинуто требование отменить приказ об исключении Пенишоры. Доруца выступил за объявление голодной забастовки и требовал еще кое-каких решений, но Фретич перебил его: „Нет, довольно!“
На том и закончился день.
Поздно вечером Доруца вышел из дормитора в коридор, который вел к квартире директора. Дойдя до зала, он увидел группу учеников, стоявших возле бронзового бюста. На стене, выше головы короля, было выведено большими буквами углем: „Долой побои и войну! Пенишора не виновен…“ На этом надпись прерывалась. По-видимому, кто-то нагрянул неожиданно и помешал дописать. Вокруг бюста собрались ученики из всех дормиторов:
— Кто бы это мог сделать?
— Вот здорово!
— Смелый парень!
— Ногами стал королю на голову, иначе написать нельзя было! — засмеялся кто-то.
Шум привлек сюда Стурзу и других служащих. Разбудили уборщицу, которая, взобравшись на лестницу, тряпкой стерла надпись. Доруца был вынужден возвратиться в дормитор.
Виновника этой проделки не могли обнаружить даже сами ученики. Горовиц, которому организацией было поручено писать на стенах лозунги, с большим сожалением заявил, что ничего не знает. Это не его группа проявила такую великолепную инициативу. Подумать только: лозунг над самой головой короля!..
Когда Доруца во второй раз вышел из дормитора, было уже за полночь. Все спали. В зале царила унылая тишина. В слабом свете коптилки бюст короля, точно сам нечистый дух, выплывал из мрака. Доруца на цыпочках двинулся вперед. Бесшумно приоткрыв дверь, ведущую в апартаменты директора, он вышел на застекленную террасу и остановился.
В темноте он различал причудливо изрезанные листья растений директорской оранжереи. Он остановил свой взгляд на кактусе вышиной с доброе деревцо, с мясистыми лапчатыми листьями в колючках.
У этого кактуса часто можно было видеть господина Фабиана, попивающего кофе рядом со своей толстой сварливой супругой.
Сколько раз он, Доруца, скреб пол этой террасы под окрики директорши!
В задумчивости Доруца отломил брызнувший ему в лицо соком лист и раздавил его пальцами. Потом — другой. Колючки кактуса больно царапали ему руку, и он, внезапно разъярясь, словно они впивались ему не в ладонь, а в душу, принялся выдергивать растения из земли, мять их, ломать одно за другим.
От „зимнего сада“ господина Фабиана вскоре остались одни горшки да ящики с землей.
В зале Доруцу и на обратном пути встретила тишина. Но в одном углу, в тени у самой стены, он вдруг разглядел своего брата в одном белье. Взгляд его был устремлен куда-то поверх бронзовой головы короля.
— Федораш! — кинулся к нему Доруца. — Ты что тут делаешь?
Проследив взгляд братишки, Яков вздрогнул. На том самом месте, с которого уборщица недавно мокрой тряпкой стерла надпись, теперь еще большими буквами углем было выведено: „Пенишора не виноват“. И чуть ниже: „Кто хочет войны и бьет учеников, пусть у того отсохнут руки“.
— Федораш!.. — не смея верить самому себе, тихо произнес Яков. — Брат!..
Он вынул из карманов свои горящие, исколотые руки и протянул их Федорашу:
— Братишка мой!
— Грязные они у меня… — пробормотал малыш, пряча измазанные углем руки за спину.
— Нет, они чистые, — прошептал Яков, сильно сжав руки брата, — чистые!
— А ты где так исцарапался? — спросил Федораш удивленно. — Взгляни-ка — кровь! Откуда?
Яков, смутившись, не знал, что ответить.
— Пошли ко мне, в наш дормитор, — Доруца обнял младшего брата за плечи. — Там я тебе все расскажу…
На другой день началась всеобщая забастовка учеников. Комитет предложил собраться всем в зале и без разрешения никуда не отлучаться. Принесли стулья из классов, расселись. Все шло по заранее намеченной программе. Сначала беседа, потом представление Урсэкие, чтение.
Однако порядок был несколько нарушен. Сперва в зал пожаловал мастер токарь Маринеску. Он и на сей раз был пьян и едва держался на ногах. Разыскав своих учеников-токарей, он принялся каяться перед ними:
— Простите меня, братцы, если я вас в чем обидел… Негодяй я, продажная шкура, ничего больше! Был и я когда-то, как вы, но продался за шкалик, за чарочку…
Его большое тело сотрясалось от рыданий, слезы текли ручьем.
— Что, решили все-таки бастовать? Ох, выгонят меня из школы! Как собаку, выгонит Фабиан… За шкалик водки… за чарочку…
Ромышкану вместе с другим токарем увел его под руки и уложил на койку в допмиторе. Потом в зале неожиданно появилась госпожа Флорида, жена директора Походка у нее была, как у откормленной утки, а жирный подбородок свисал, как зоб.
— Господин директор болен, — объявила она, понижая голос и поднося указательный палец к губам. — Он просил всех вас выйти во двор. Ну, кто у вас тут главный?
Обступив со всех сторон жену директора, ребята с любопытством глядели на нее До этого она никогда среди них не появлялась Маленький Федораш — тот так и уставился на ее подбородок и даже показал кому-то на него рукой. Ребята постарше, тоже не сводя с нее глаз, направили ее к Фретичу.
— Фретич? Лисандр?! — ахнула госпожа Флорида, всплеснув руками. — Этот, прости господи, байстрюк — незаконнорожденный! И не стыдно тебе? Мой муж подобрал тебя и даже собирался усыновить… Очень интересно! — Госпожа Фабиан состроила укоризненную мину. — Благодетель твой болен, вот до чего вы его довели!.. А ну, пойдем к нему!
— Нечего мне там делать, — ответил Фретич, поворачиваясь к ней спиной. — Разговаривать с директором у нас уполномочен комитет. А зал мы не имеем права покидать.
Когда госпожа Флорида рассказала обо всем мужу, лежавшему на диване, тот попросил ее только переменить компресс — у него усилилась головная боль.
— Ты слишком мягок, Фэникэ, — принялась пилить Фабиана жена, — слабохарактерный ты стал какой-то. Раньше ты такое не потерпел бы! Действовал бы так, как я тебе советую… Взводик жандармов — и баста! Я только что смотрела на них, на этих твоих учеников. Боже, боже мой! Сопляки! И думала: ты ли это, мой Фэникэ! Фэникэ, которого боялись даже собаки, когда он проходил по своему полицейскому участку! Ох, Фэникэ, Фэникэ!..
Директорша замолчала. Она знала, что Фэникэ не любил, когда ему напоминали о его былой деятельности. Просто чудом спасся он тогда и не попал в тюрьму. Немалого труда стоило ему замять историю с арестованным, который умер от его побоев. Какой шум подняли рабочие организации, требуя суда над Фабианом! Действительно, лучше не вспоминать. Скандал вспыхивал в доме каждый раз, когда Флорида заговаривала о прошлом! Однако на этот раз господин Фабиан был терпелив. Словно взывая о пощаде, он молча ощупывал свою покрытую компрессом голову.
— Взвод жандармов? — пробормотал он наконец с горечью. — Ты, вероятно, полагаешь, что меня послали в Бессарабию ради моих прекрасных глаз. Красиво бы это выглядело: Фабиан искупает свои грехи, вырастив в школе гнездо большевиков! Своей бабьей головой ты никак не можешь понять, что, узнай министерство об этой забастовке, — мое имя навеки скомпрометировано. Где же тогда, скажут, твой опыт?.. Вызвать взвод жандармов — это значило бы признать свое бессилие. „Сопляки!“ Тебе только кажется, что они сопляки. Эге, я тоже раньше так думал… Никто и не подозревает, что на уме у этих „сопляков“!..
Господин Фабиан провел рукой по глазам, как бы снимая с них что-то мешающее ему видеть.
— Восемь часов я продержал вчера одного у себя в кабинете, на допросе. И кого бы ты думала? Деревенского дурня, прирожденного оболтуса. Я нарочно начал с него. Для разгона… А он не только не захотел отказаться от проклятого комитета или признаться в чем-нибудь — он наболтал мне такого, что, будь у меня оружие, он довел бы меня до греха. Уложил бы его на месте, как собаку! Понимаешь? Восемь часов допроса в моем кабинете! Вот тебе — Бессарабия.
Директор замолчал, сам, по-видимому, расстроенный своим рассказом.
— Неужели Фретич на самом деле главарь забастовки? — вдруг спросил он недоверчиво. — Может, ты плохо поняла? Лисандр?..
Поднявшись с дивана, директор поправил перед зеркалом свой компресс.
— Я сам пойду туда. Поговорю с ним.
Завидев директора еще издалека, некоторые ученики дрогнули. Кое-кто отошел в сторону, пытаясь укрыться в углу или за спиной товарищей. Фретич не тронулся с места.
— Лисандр, это ты так нахозяйничал у меня в зимнем саду? — спросил господин Фабиан с печалью в голосе, ощупывая свой компресс. — Весь цветник мой уничтожен… Зачем ты это сделал, мальчик?
— Я не трогал ваших цветов, господин директор, — ответил Фретич с достоинством.
— Так кто же это сделал? Пойдем, ты посмотришь. Помнишь мои цветы? — Господин Фабиан взял его за руку.
— Я верю вам, господин директор, на слово. Еще раз говорю: это сделал не я. Мы против таких методов борьбы. Уйти сейчас отсюда я не могу.
— Не столько цветы мне жалко, сколько ужасна мысль, что именно ты наделал это! Я рад, если это не ты… Эх, Лисандр, чего только не выболтал мне этот осел Пенишора… о тебе и обо всех вас! Будь на моем месте другой — вы все угодили бы в тюрьму. Но мне жаль вас…
— Мы не нуждаемся в вашей жалости. Мы добиваемся того, что нам положено по праву…
— Лисандр, — прервал его господин Фабиан, — выведи ты, наконец, учеников во двор! Потом поговорим. Посмотрим, что можно сделать. Я болен. Я не переношу сейчас шума.
— Со мною лично вам не о чем говорить, — ответил Фретич. — Мы выбрали комитет, и у нас имеются требования. Из зала мы выйти сейчас не можем. Комитет вынес решение: всем держаться вместе.
— Мальчик мой, я обращаюсь к тебе как отец. Ты хорошо знаешь, что я собираюсь тебя усыновить. Пошлю тебя за границу учиться. Сделаю из тебя человека. У меня ведь, ты знаешь, других наследников нет…
— Не можете вы мне стать отцом, — ответил Фретич спокойно. — Для меня вы — директор. Эксплуататор, как все эксплуататоры.
Господин Фабиан вышел из себя.
— Это я-то эксплуататор?! — завопил он, хватая Фретича за ворот. — Байстрюк ты! Босяцкое отродье! Подзаборник! Я из грязи тебя вытащил. Одевал, кормил… Человека хотел из тебя сделать!.. Погоди, я покажу тебе эксплуататора!.. Стурза! Где ты?.. Сторожа! Мастера! Немедленно сюда! Чтобы и духу бунтовщиков не осталось в зале!
Когда директор схватил Фретича за рубаху, толпа учеников придвинулась. Словно из-под земли, прямо перед директором вырос Доруца. Тут же оказался и Капаклы, а следом за ним, как всегда, целая куча ребят, его товарищей. Оставив свою работу по устройству сцены, из глубины зала вынырнул Урсэкие.
В дверь ввалился Стурза, таща за собой привратника Акима.
— Фэникэ-е!.. — в ужасе закричала супруга Фабиана, появляясь из другой двери. — Убьют они тебя, мамочка! Ой, сердце мое подсказывало! — залилась она слезами, заламывая в отчаянии руки. — Убьют они тебя! Ты безоружный… И я останусь одна в этой русской глуши! Пойдем домой, мамочка, пойдем! Лучше вызови полицию!
Обхватив его рукой, Флорида пыталась тащить господина Фабиана за собой.
— Болен же человек, болен он, бедняжка! — заискивающе объясняла она ученикам.
— Это что за безобразие! — закричал в этот момент Стурза. — Марш в мастерские! — и встал рядом с директором.
На несколько секунд в зале воцарилась тишина.
Директор, который отпустил было Фретича, сразу ожил, услыхав энергичный окрик Стурзы, Флорида вытерла слезы и, мгновенно приободрившись, надменно выпрямилась, стоя плечом к плечу с мужем. Аким уставился в землю.
— А ну! Живей, живей! — покрикивал Стурза своим обычным начальственным тоном. — Пока вас не повели под конвоем, под штыками!
— Никто не пойдет в мастерские, — спокойно и твердо ответил Фретич.
— Как ты смеешь, большевик? — взревел Стурза, угрожающе занося кулак над Фретичем.
— Пошли, Фэникэ, пошли, мамочка! — вздрогнула Флорида, снова изо всех сил принимаясь тащить господина Фабиана.
В этот момент Стурза получил сильный удар в бок. Между ним и Фретичем стоял Доруца. А оглянувшись, надзиратель встретился взглядом с Урсэкие, который, опершись на подоконник и насмешливо глядя на него в упор, насвистывал:
Всего моей милой красотке милее
Монисто, монисто, монисто на шее…
И уже издали доносились причитания госпожи Флориды:
— Идем же, мамочка, идем!
Из мастеров, вызванных на помощь, явился только Оскар Прелл. Но и он пришел не сразу, а много позже.
Стурзы в зале уже давно не было, и ученики слушали теперь лекцию Горовица: „Отсталая техника — причина несчастных случаев“. Усевшись в заднем ряду, принялся слушать Горовица и Прелл, а когда лекция закончилась и ученики начали аплодировать, он тоже зааплодировал. Прелл подошел к Горовицу и вступил с ним в беседу по поводу кое-каких технических деталей, связанных с темой лекции. На сцену вышел Урсэкие, чтобы объявить о создании кружка декламации и художественной самодеятельности, который сможет поставить спектакль не только для школы, но и для рабочих города.
Чтобы поговорить без помехи, Прелл и Горовиц отошли к двери. Занятые вопросами механики, одинаково увлекавшими их обоих, они очутились на школьном дворе. Мастеру хотелось непременно тут же доказать свою правоту в возникшем между ними споре. Для этого ему понадобились бумага, циркуль и линейка. Заинтересованный Горовиц последовал за ним в мастерские.
В слесарной царила тишина, которая придавала этому помещению, всегда кипевшему трудом, что-то кладбищенское.
Здесь не было сейчас ни души. Лишь в кузнице возился, вероятно, Моломан, но и его почти не было слышно. Войдя в свою рабочую контору, отделенную перегородкой от слесарной, Прелл взял со стола бумагу и, показывая ее своему ученику, спросил:
— Видал ты когда-нибудь этот чертеж? — и, не дождавшись ответа, изо всех сил ударил Горовица кулаком в ухо. Тот рухнул на землю.
— Вставай, вставай! — Прелл заботливо нагнулся, помогая ему подняться на ноги. — Ты видел его. И разобрался в нем. Ты — единственный слесарь, который мог в нем разобраться!
Не выказывая ни малейшего признака гнева, Прелл с той же силой нанес ученику удар по другому уху. Горовиц пошатнулся и снова упал к ногам мастера. Из уха у него вытекла тонкая струйка крови и побежала по лицу, белому, как бумага, которую держал в руках мастер Прелл. Немец вырвал из пакетика клочок ваты и, разделив его надвое, одним стер кровь с лица ученика, а другой свернул в шарик и, обмакнув в какой-то флакон, сунул ему в ухо. Затем, набив табаком свою трубку, он уселся на стул.
— Да, а я было думал, что ты сможешь стать хотя бы полезным жидом, — произнес он, задумчиво попыхивая трубкой. — Но нет, ты, оказывается, большевик. Ты не захотел понять меня. И все остальные тоже не захотели. Где вам понять! Да, первоклассная техника и порядок только в одной стране — в Германии… Фюрер… Бунт — хорошая штука, но против этих вшивых румын… Коммунизм?.. — Лицо Прелла перекосилось, точно он поперхнулся горьким дымом трубки. — Всем коммунистам надо „чик“! — показал он пальцем на горло. — Россия! Все вы любите Россию! России будет „чик“! Всем вам — „чик“! Хе… Все фамилии ваши у меня записаны, и все подписи есть… Вы не желаете делать детали? Теперь я могу говорить с тобой обо всех секретах. Ты не слышишь меня, ты оглох и никогда больше не будешь слышать…
Заметив, что ученик все еще лежит в беспамятстве, Прелл почесал затылок, поднялся и взял с полки стакан, намереваясь сходить в мастерскую за водой. На пороге он внезапно остановился. Перед ним стоял кузнец Моломан:
— Ты не выйдешь отсюда, пока не расплатишься за свою подлость, гитлеровская собака!
Прелл не растерялся. Он только сделал шаг назад и нагнулся к ящику своего рабочего стола. Моломан ждал, что станет делать немец, но, когда в приоткрывшемся ящике блеснула вороненая сталь браунинга, он бросился на Прелла и могучим ударом кулака свалил его на пол.
Моломан на руках внес Горовица в актовый зал и остановился на пороге. Там шло в это время представление Урсэкие. Смех мгновенно смолк. Ребята замерли.
— Помогите ему! — сурово сказал Моломан. — Приведите его в чувство. Это ваш мастер Прелл отшиб ему память своими кулачищами. И нам всем тоже нужно прийти в чувство. Фашистские когти запрятаны и в мягких лапах „бунтаря“ Прелла.
Не прибавив больше ни слова и не дожидаясь ответа, Моломан вышел.
В этот же день Пенишора вручил Фретичу письма своего отца, попросив отдать их, если представится возможность, Володе Колесникову, а сам ушел из школы. Просьбы товарищей, их уверения, что они будут бороться до тех пор, покуда не заставят Фабиана принять его обратно в школу, не могли поколебать решения Пенишоры. Чудаком был этот парень, чудаком и остался.
Сцену прощания Пенишоры с товарищами (дело происходило во дворе школы) наблюдал стоявший у ворот дядя Штефан. Он вышел ему навстречу и знаком позвал за собой в сторожку.
— Не делай этого, — сурово сказал старик, закрывая дверь за Пенишорой. — Пойми: не имеешь ты права!
Выходит, твои товарищи борются теперь за тебя, понимаешь, паренек? А ты хочешь оставить позицию, дезертировать…
Пенишора с застывшей на лице печалью уставился в пол, глухой к словам старика.
— „Позиция“! — сказал он горестно, и глаза его на мгновение блеснули. — Вот если бы дал я этому Фабиану в морду, это была бы позиция! А так… вот видишь… Я был с ним один на одни. И Фабиан был сильнее.
Пенишора показал кровоподтеки на лице, но, поняв, что старик собирается снова уговаривать его, безнадежно махнул рукой, вышел из будки и направился к школьным воротам.
К вечеру в школу пробралась делегация бастующих сапожников, чтобы приветствовать учеников от имени всех рабочих, организовавших фронт борьбы против войны.
Когда стемнело, комсомольцы собрались на полчаса в квартире Анишоры Цэрнэ. Во время заседания вернулся с работы ее старик отец. Смущенно извинившись, мастер низко поклонился комсомольцам и вышел из комнаты.
Ячейка обсуждала вопрос об участии в демонстрации против фашизма и войны. Демонстрация должна была состояться через несколько дней. В эту ночь маленькому Федорашу Доруце было поручено руководить группой, писавшей на стенах лозунги. Он должен был заменить Горовица, который все еще был без сознания.
— Опять мой бэби повесил носик? — Элеонора присела на ручку глубокого кресла, в которое устало погрузился ее муж. — Что случилось? Озабочен чем-нибудь? Мой бэби — важная персона, — ласково ворковала она, — человек, известный в обществе… Но, боже мой, в каком беспорядке твоя борода! Вызови, душенька, парикмахера и не вздумай показываться куда-нибудь в таком виде, Пока я не вернусь — ни шагу из дому! Мне надо сбегать в столовую для безработных. Наши дамы из комитета сообщили, что эти неблагодарные твари опять волнуются. Боже мой, как они дурно воспитаны!.. Бэби будет послушно ждать меня дома и приведет в порядок свой туалет.
„Ну, конечно, вечно одни и те же дурацкие предлоги! — Хородничану догадывался, что за этим кроется. — "В столовую! На свидание с Фабианом". Стараясь отогнать эту мысль, он вскочил и взволнованно зашагал по комнате.
— Я совсем ее сбрею, эту бороду! — закричал он. — Я становлюсь посмешищем для всего города. На меня все пальцем показывают. На всех заборах успели намалевать. На всех заборах — борода Хородничану…
Преподаватель остановился на полуслове. Зачем он это говорит? Ведь Элеонора не должна знать всего этого. Не должна она этого знать. И никуда она сегодня не пойдет! Он не отпустит ее!
Хородничану походил по комнате, потом, собрав бороду в горсть, остановился перед зеркалом.
Как бы он выглядел без бороды? На всех карикатурах он изображен с бородой. А внизу написано: "Иуда Хородничану" или "Лакей румынских оккупантов". Чего только не пишут по поводу этой бороды! "Предательская роль "бороды" в палате труда", "Хищения "бороды" в "социальном обеспечении" и в больничной кассе"! На всех заборах красуется его борода!
Хородничану задумался: "Забастовка за забастовкой. Листовки, большевистские плакаты на предприятиях, демонстрации — то за роспуск по домам мобилизованных, то против дороговизны, то за увеличение зарплаты. Безработные требуют работы. Чем заткнешь им рот? С каждым днем все хуже да хуже, все труднее сговориться с ними. Кричат о Советах, об освобождении…"
Хородничану увидел в зеркале Элеонору. Следя за ним взглядом, она небрежно покачивалась в кресле-качалке.
— Да, ты, кажется, сказала что-то насчет безработных? — немного успокоившись, спросил он. — Чего им еще нужно?
— Не знаю, — ответила Элеонора рассеянно. — Толкуют о каком-то походе на примарию[18].
— Хм… Что ж ты сидишь в таком случае сложа руки? Или вы умеете только собирать пожертвования да устраивать балы и танцульки? Какой же толк от ваших благотворительных комитетов, если безработные готовят поход на примарию? Филантропия! — Хородничану презрительно махнул рукой. — Вздор! Никогда я не верил в эту филантропию. — Помолчав, он сказал уже другим тоном: — А все-таки тебе надо бы пойти посмотреть, что там, как-нибудь успокоить их. Непременно надо их утихомирить. Ты пойми: поход на примарию! В такое время!..
— Так ты думаешь, надо пойти — спросила Элеонора, сразу оживившись и поправляя локоны. — Мария! — крикнула она в коридор. — Приготовь мне тот костюм, который я надеваю, когда иду к рабочим. Вышитую косоворотку, французский берет…
"Идет на свидание с Фабианом… — снова промелькнуло в уме Хородничану. — Но, может быть… может быть, она все-таки заглянет и к безработным? Ведь нужно же их утихомирить…"
Когда Элеонора ушла, у него немножко отлегло от сердца. Он опять подошел к зеркалу, на этот раз уже не зажимая бороду в горсть, а заботливо расправляя ее.
— Ничего, дела наладятся, — обнадежил он свое отражение. — Хородничану опять войдет в силу!
"Только бы не потерять расположения господина наместника, только бы сохранить его доверие! — размышлял Хородничану. — Впрочем, в Бессарабии трудно найти другого такого знатока рабочего вопроса, как я. Практика!.. Сейчас нужно срочно принять кое-какие действенные, энергичные меры. Вот, скажем, у этих самых учеников-ремесленников. Там его авторитет в последнее время несколько пошатнулся. Нет, нет, "Железная гвардия" — это не для них! Он знал это наперед.
Преподаватель вспомнил неудачную затею директора. На днях в школу пригласили группу железногвардейцев. Директор мечтал положить начало школьной организации "Железной гвардии". Легионеры-железногвардейцы въехали в школьные ворота в сопровождении отряда охраны, в рядах которого Хородничану узнал нескольких агентов сигуранцы. Они поставили в ряд велосипеды и размеренным шагом направились в актовый зал, где их уже ожидала вся школа. Хородничану, как "передовой человек", постеснялся войти и остался ждать за дверью. После собрания легионеры вышли в том же порядке, как и раньше, подошли строем к велосипедам, что-то трижды прокричали, отсалютовали, вытянув вперед правую руку, потом по сигналу своего главаря вскочили на велосипеды и… ни с места! Резиновые шины велосипедов оказались проколотыми.
— Вот те и на! — воскликнул, изображая сочувствие, кто-то из учеников, давясь от смеха.
— Сгинь, сатана! — добавил другой.
Третий, подняв руки, развел их, словно дирижируя, и толпа разразилась таким улюлюканьем, что, казалось, земля задрожала. Потом… Хородничану не хотелось вспоминать, что было потом… У всех учеников в карманах были заранее припасенные тухлые квашеные огурцы или еще что-то в этом роде. При помощи этих снарядов они устроили молодчикам в зеленых рубахах не очень-то торжественные проводы. А Валентин Дудэу, который стоял в "почетном карауле" у велосипедов, был "найден" Урсэкие лишь вечером. "Маменькин сынок" лежал связанный, как сноп, под печкой в бане, и, когда его развязали, он почему-то не решился пожаловаться.
"Ничего не знаю, никого не видел и никакой политикой не занимаюсь", — повторял он, точно заученные наизусть стихи.
Многозначительно подмигнув своему отражению в зеркале, Хородничану назидательно погрозил ему пальцем: "Так им и надо, этим господам фабианам! Пусть не суются в дела, в которых не разбираются. Здесь, в Бессарабии, не выйдет так, как они думают. Здесь нужен специалист".
Он еще некоторое время молча глядел на себя в зеркало, затем задумчиво уселся в кресло. "Если бы только не эти капсюли!"
— Мария! — крикнул он немного погодя, приняв окончательное решение. — Подай мне черный парадный костюм, лакированные туфли и трость.
Одевшись, Хородничану взвесил трость в руке, повертел ее мельницей и велел подать шляпу с вешалки.
— Или нет, не надо, я и сам возьму, не велик барин. Когда вернется барыня — запомни, разумеется, время ее возвращения, — когда вернется барыня, говорю, скажешь ей, что я отправился с визитом к его превосходительству господину королевскому наместнику. Благодарю!
Склонив голову так почтительно, что непонятно было, к кому это относится — к прислуге или к его превосходительству, Хородничану вышел из дому.
…На условленном месте Элеонора не встретила Фабиана. Полная негодования, она направилась в школу, но там происходили какие-то необычайные события. Стурза, который вышел к ней вместо директора, передал ей только его распоряжение тотчас же прислать в школу господина преподавателя истории.
— И это все? — процедила окончательно оскорбленная госпожа Хородничану.
— Да, — коротко ответил надзиратель. — Бегите поскорей и тащите его в школу. Таков приказ господина директора.
Элеонора презрительно повернулась к нему спиной. Нужно передать этому грубияну, что она не нанималась к нему в школьные курьеры! Ей нет никакого дела до… Но Стурза уже удалился. Элеонора наняла извозчика и приказала везти ее в столовую для безработных.
"Ничего, доберусь я до него!" — со злобой подумала она о Фабиане.
Когда они доехали до перекрестка, извозчик остановился.
— Может, дальше не ехать? — спросил он многозначительно, оглядывая костюм пассажирки. — Что-то здесь того… беспокойно. Вон ведь, барыня, народу сколько! И вообще сегодня на улицах… — Извозчик неопределенно помотал головой.
Элеонора молча расплатилась и пошла пешком.
Однако у входа в столовую ей пришлось остановиться. Двор был битком набит людьми, и настроены они были явно воинственно.
"Вернуться? — подумала Элеонора. — Нет… Ну их обоих к черту — и Фабиана и Хородничану! Ишь до чего распустили это мужичье!.. Но ее-то долг быть здесь! Пройду с заднего хода, прямо на кухню", — решила она, прислушиваясь к шуму, все нараставшему во дворе столовой.
Помощь, оказываемая государством безработным, состояла из миски баланды и ломтика мамалыги, выдаваемых один раз в день. Часть безработных — более квалифицированные рабочие и те, что остались без работы лишь недавно, — отказывались от этой подачки. Были и такие, которые, несмотря на все лишения, стыдились становиться в очередь перед окошечком кухни и предпочитали терпеть голод. Но отцы многодетных семей не могли отказаться от этой помощи, они посылали за ней своих жен или кого-нибудь из детей постарше. Таким образом, хотя возле столовой зачастую собиралось множество безработных — поговорить, справиться о работе, — все же за порцией супа здесь толпились только самые отощавшие и истомленные голодом. Это были чернорабочие — вчерашние крестьяне, которых засуха и непосильные налоги погнали в город, старики ремесленники, очутившиеся за бортом и уже потерявшие надежду на то, что их когда-нибудь примут на работу, молодежь, еще не успевшая получить никакой квалификации и уже попавшая в ряды безработных.
Но все же мамалыги, как правило, не хватало даже на половину очереди. Сотни безработных оставались голодными. Иногда озлобление их находило выход в перебранке с теми, кто успевал получить порцию, и особенно с теми, кто работал на кухне. Раздраженные голодом, люди видели в них главных виновников своей беды. Других голод приводил в состояние душевного оцепенения. День и ночь они говорили только о еде. Все их внимание приковано было к ложке супа, к ломтику мамалыги. Вся изобретательность их уходила на то, чтобы добиваться этих благ ежедневно, а кто мог — даже два раза на день. У столовой происходили драки. Иные опускались до воровства. Этими "люмпенами" фашистские организации старались пополнять свои кадры погромщиков. Агенты и провокаторы, засылаемые сигуранцей, вербовали из них штрейкбрехеров.
Были среди безработных и люди, уволенные с работы за участие в забастовках, за революционные убеждения, бывшие политические заключенные. Для этих безработных широко раскрыты были одни только тюремные ворота. Ворота мастерских и фабрик оставались для них на запоре. Имена их были внесены в "черные списки". Они не имели права на труд. Такие люди тоже приходили в столовую, но отнюдь не за куском мамалыги…
Коммунистическая партия поставила перед своими членами задачу: разъяснять массам, что рост безработицы — это следствие прежде всего упадка всех отраслей промышленности, кроме военной, что гонка вооружений для антисоветской войны ведется за счет народа и направлена против его интересов. Лозунгами партии были: "Никакого союза с лагерем войны!", "Да здравствует Советский Союз!", "Требуем мира, требуем хлеба, требуем работы!"
Эти слова и сейчас разносились над взволнованной толпой, заполнившей двор столовой.
Стоя на крыльце перед дверью, открытой для того, чтобы слышно было и находившимся внутри, говорил человек без шапки, коротко остриженный, в старой, но чистой одежде. Опрятностью веяло от всего его облика. По всему было видно, что это один из попавших в "черный список". Об этом прежде всего говорили его глаза, словно померкшие от долгого тюремного заключения, но все же более проницательные, более ясные, чем у других. Лицо у этого человека, носившее печать пережитых тяжелых испытаний, было энергичное и приветливое.
— Коммунистическая партия, от имени которой я выступаю, — это единственный защитник интересов угнетенных масс. Партия призывает вас на решительную борьбу. Средств к жизни может вполне хватить для всего народа, — говорил оратор. — Но не выпрашивать их надо…
Все возрастающий грохот в столовой помешал ему говорить. Обычно шум поднимали те, кто оставался без порции. Но сейчас это было что-то другое. Что же могло там происходить? Кто-то рванул вторую створку двери, и людям во дворе открылась небывалая картина. Her, внутри безработные вовсе не ссорились из-за тарелки супа у кухонного окошка. Окошка вообще не было — вместо него зияла брешь в стене. Орудуя ножками от столов, безработные продолжали увеличивать пролом. Под их ногами хрустели черепки разбитых мисок. С перекошенными от ярости лицами они разносили все на своем пути.
Первым в пролом ввалился какой-то бородатый старик. Оборванный, босой, со свисающими грязными космами волос, в коротких — на подростка — штанах, с ножкой от стола в руке, он был страшен. Окунув свое орудие в казан, где пыхтела мамалыга, он принялся жадно его облизывать. Следом за ним двинулся другой, тоже босой, но помоложе, с обветренным лицом. Рубашка, протертая на плечах, сутулая спина — все это обличало в нем грузчика. Бывший грузчик с презрением глянул на старика и, оттолкнув его локтем, одним движением опрокинул казан с мамалыгой в огонь.
— Собаке и той не пожелаю есть из барских рук!
Свалка и шум в столовой усилились.
А голос коммуниста звал безработных наружу, на площадь, к пароду.
— За счет безработицы и голода, — говорил оратор, — капиталисты думают увеличить свои барыши! Безработицу они используют как постоянную угрозу трудящимся, рычаг для снижения зарплаты, для удешевления рабочей силы. "Дескать, не подчиняетесь? Забастовка? Тысячи безработных готовы стать на ваше место". Хозяева хотят натравить нас на своего же брата — рабочего, против боевого единства пролетариата…
— Никогда этого не будет! — кричали из толпы.
— Не продадим свою пролетарскую честь!
— Лучше умрем!
— …В беспрестанно растущей массе безработных наша партия видит часть рабочего класса, наиболее тяжко страдающую от грабительской политики румынских оккупантов, подготавливающих войну против единственной страны в мире, где нет и никогда не может быть безработицы…
— Да здравствует Советская Родина!
— Долой оккупантов! Вон румынских бояр с бессарабской земли!
— …Когда партия борется против войны, — продолжал оратор, покрывая сильным голосом эти возгласы, — за освобождение Бессарабии, это значит — она борется за то, чтобы не было безработицы, чтобы лучше жилось всему народу! Товарищи! В Бессарабии полно войск. Правительство и его разбойники-генералы хотят, чтобы бессарабские города и села снабжали фронт пушечным мясом, провиантом и военным снаряжением. Ради войны они не щадят и школьников. Но хозяева ошибаются! Молодежь не поддается обману. Рядом со взрослыми рабочими она вступает в борьбу. На борьбу поднялись ученицы женской ремесленной школы. Их поддерживают школа медицинских сестер, семьи мобилизованных, матери. Они не хотят войны! Ученики мужской ремесленной школы отказались делать капсюли для гранат, требуют аннулирования военного заказа. Сегодня третий день, как они бастуют. Их делегат здесь. Он просит слова…
— Пусть говорит! Хотим его слышать! Пусть говорит! Доруца отделился от группы парней и девушек, стоявших вокруг Виктора, и поднялся на крыльцо столовой. Взрослый среди учеников, здесь он казался почти мальчиком. И щеки у него разгорелись совсем по-мальчишески.
— Мы сами не знали, что изготовляем капсюли для гранат! — выкрикнул он звонко. — Директор сказал нам, что это сифонные головки, и мы ему поверили. Потом узнали и перестали их делать. Но ведь мы успели их сделать тысячи, своими руками!
Доруца опустил голову.
— Ученика Пенишору исключили из школы, — продолжал он. — Не стерпело у парня сердце, он сын погибшего солдата, мать его — вдова. Он первый выложил им все начистоту… Директор угрожает нам тюрьмой. Но мы не боимся тюрьмы! Все равно не будем делать капсюли!.. Но что же будет с готовыми!..
Молодой оратор замолчал, словно ожидая ответа. Сотни людей молча смотрели на него. Тогда Доруца поднялся еще на одну ступеньку лестницы, чтобы народ лучше видел его.
— Пускай нас посадят в тюрьму, — крикнул он, — только бы знать, что вы не позволите бросать эти гранаты в людей!..
Виктор вынул из-за пазухи плакат и, натянув его на двух шестах, поднял над толпой. И тут же, гордо покачиваясь, взмыли в воздух другие плакаты.
После Доруцы говорила ученица женской ремесленной школы, затем один за другим стали выступать безработные. Они не рассказывали о том, с каких пор не работают, не говорили о своих голодных детях, а практически, деловито обсуждали, что следует предпринять. Нужно организовать демонстрацию в центре города, перед примарией. Если нагрянет полиция, собраться на другой улице. Колонна демонстрантов должна держаться сплоченно. Тогда будет меньше арестов. Сначала колонна пройдет через рабочие кварталы, мимо мужской и женской ремесленных школ. Демонстранты не должны поддаваться провокациям агентов охранки — гнать их из рядов! Идти дружно, стройно. Демонстрация за мир, за хлеб, за работу!
В одном из ораторов Доруца узнал бывшего учителя технологии Корицу. Куда девались его щеки-подушечки! По углам рта Корицы залегли две глубокие складки — след перенесенных тяжких страданий и вместе с тем знак воли и решимости. Корица говорил, что оккупанты держат народ в темноте, закрывают школы, выбрасывают учителей на улицу. Не свет им нужен, а народная темнота, помогающая им творить беззакония. Интеллигенция все яснее понимает, что нужно идти плечом к плечу с рабочим людом, с революционными борцами.
Плакаты были подняты еще выше. Люди, что стояли на ступеньках, спустились. Группа молодежи, выкрикивая лозунги, приблизилась к оратору, выступавшему от имени коммунистической партии. Кто-то отдал команду, и колонна начала строиться. Даже старики выпрямились, подтянулись и вместе со всеми двинулись на улицу. Головные почти скрылись из глаз, а к хвосту колонны присоединялись все новые и новые люди. Вдруг вдалеке из передних рядов послышались крики:
— Конная полиция! Индюки![19]
Там, впереди, парусом вздувался плакат Виктора "Долой антисоветскую войну!"
А люди шли все вперед, вперед…
Скоро во дворе столовой, с ее выщербленными глинобитными стенами, с выбитыми окнами, через которые теперь валил удушливый дым от мамалыги, опрокинутой в огонь, не осталось ни души. Когда все затихло, из глубины помещения испуганно вынырнула какая-то фигура, крадучись пересекла двор и быстро зашагала в сторону, противоположную той, куда направилась демонстрация. Лицо, одежда женщины — все было черно от копоти. По изодранной косоворотке ее можно было принять за работницу. Однако косоворотка эта была вышита, и берет на голове был какого-то чудного фасона. Это была госпожа Хородничану.
Шагая в своем костюме "работницы", Элеонора мысленно проклинала Фабиана. Это из-за него пришла она в столовую, где два часа просидела ни жива ни мертва, забившись за печь. Ничего, и бэби, эта обезьяна, получит свою порцию! Ведь это он послал ее утихомирить безработных. Осел!..
Поредевшая было, когда в нее врезались конные жандармы, колонна демонстрантов втянулась в узкие переулки, становясь все более многолюдной.
— Долой фашистский террор!
— Долой палачей!
— Да здравствует Советская Молдавия!
— Да здравствует Советский Союз!
— Да здравствует Коммунистическая партия!
Матери с детьми на руках шли рядом со своими мужьями. Многие прохожие, поколебавшись мгновение, присоединялись к колонне.
Из железных ворот женской ремесленной школы вышли девушки-ученицы с собственными плакатами, искусно вышитыми красным шелком, и присоединились к демонстрантам.
— Требуем освобождения Володи Колесникова!
— Хотим мира!
Внезапно из-за угла вылетели всадники с обнаженными саблями, в фуражках с козырьками, надвинутыми на глаза. Лошади, сверкая подковами, вставали на дыбы. Блеснули льдистые острия клинков. Воздух пронизал отчаянный детский вопль:
— Мама-а-а!..
Пришпориваемые лошади топтали людей. Конному эскадрону было приказано расколоть колонну надвое и потом искрошить ее. Но как это сделать, как оторвать мать от ребенка, бойца от боевого знамени?
Разрозненные ряды соединялись снова, строгие, собранные, слитые.
— Смерть фашизму!
— Убийцы, палачи!
В голове колонны взорвался многоголосый клич:
— Долой войну!
Демонстранты шли, скандируя:
— До-лой вой-ну! До-лой вой-ну!..
Прокладывая себе дорогу саблями, всадники бросились наперерез колонне, чтобы сбить ее с маршрута. Обойдя, словно падаль, упавшего с лошади офицера, демонстранты стремительно двинулись вперед:
— До-лой вой-ну!..
Белые и красные плакаты. Детишки на плечах у родителей…
— Хотим работы! Хотим хлеба! Хотим мира!
Вот из открытых ворот по четыре в ряд вышли бастующие ученики ремесленной школы.
"Ни одного гранатного капсюля из наших рук! Сокрушим происки поджигателей войны!"
— Сюда, товарищи! Идите сюда! — закричал им Виктор, шагавший в первых рядах.
Он еще выше поднял свой плакат. Как бы в ответ на его призыв, из колонны учеников грянула песня:
Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе…
Демонстрация выходила из узких переулков окраины, двигаясь к центру города. Здесь на демонстрантов был снова брошен получивший подкрепление эскадрон. На флангах холодно поблескивали кивера жандармов, в середине дуги наступала кучка полицейских.
Виктор, раненный саблей в плечо, почувствовал, что у него рвут из рук плакат. Комсомолец крепко стиснул древко в руке. Кровь струей потекла у него из рукава. Выхваченный офицером плакат еще раз взвился в воздухе: "Долой антисоветскую войну!"
Сунув плакат под мышку, офицер схватил Виктора за раненую руку и начал осаживать коня. Из колонны выскочил какой-то юноша и, бросившись к конному офицеру, с яростью вырвал у него плакат.
— Горовиц, Горовиц! — закричали ученики, пробираясь через вооруженные цепи.
Но до слуха конструктора крики доносились словно издалека. Горовиц ничего не замечал, кроме своего плаката, который он поднимал как можно выше: "Долой антисоветскую войну!"
Демонстранты сметали со своего пути пожарных, солдат, полицейских… Воодушевление возрастало. Демонстранты рвались вперед, ближе к переднему лозунгу: "Да здравствует Советский Союз!"
— Да здравствует!.. Да здравствует!.. Да здравствует!..
Вместе с другими демонстрантами, преследуемыми конной полицией, Капаклы очутился на какой-то боковой улочке. Рабочий инструмент еще оттягивал ему карманы. Долото, отвертка. Не успел сунуть их в выдвижной ящик верстака. Когда все побежали, он отбился от своих двух товарищей по цеху, с которыми был на демонстрации.
— Зайдем в наш стачечный комитет! — выдохнул один из бегущих; по запаху кожи и вара и по тому, как лоснились у него штаны на коленках, можно было догадаться, что это сапожник.
В большой комнате с террасой на втором этаже Капаклы попал в толпу других сапожников и тут же, к большой своей радости, ощутил запах еды.
Да, тут была кухня, наскоро устроенная профсоюзом сапожников. Здесь стряпали еду для бастующих и их семей.
Голодный Капаклы уставился на кипящий котел, а в это время какой-то человек в белом колпаке налил и ему полную миску густой похлебки.
Кто-то крикнул, что нужно снова выйти на демонстрацию. На балкон вышел седой человечек в ермолке и жилетке, собираясь, видимо, говорить. Котел с супом был покинут всеми, не исключая и повара; сняв свой белый колпак, он стал простым сапожником. В этот миг в комитет ворвалась полиция.
— Руки вверх! У кого есть оружие, ножи — бросайте на пол.
Распоряжался какой-то господин в шляпе и светлых перчатках. Его подчиненные в полицейских мундирах направили дула пистолетов на рабочих. Люди подняли руки. Стоявший рядом с Капаклы сапожник, плечистый и добродушный, который показался Илие знакомым, поднял руки с таким усердием, что сквозь распоротые проймы стали видны голые подмышки; однако никто ничего не бросил на пол. Тогда жандарм вытер батистовым платочком губы и весьма вежливо объявил, что дамы свободны и могут идти.
В толпе было несколько женщин, которые пришли сюда с кастрюлями за едой, но одна из них закричала, что они не дамы и не уйдут без своих мужей и их товарищей.
Тогда господин в шляпе снял перчатки и начал самолично обыскивать забастовщиков. Он делал это очень осторожно, словно опасаясь замарать руки.
Видя, что ничего "компрометирующего" нет и он остался ни с чем, снова натянул перчатки, и личный обыск закончился; зато начали орудовать его подручные: рабочих под конвоем выводили на улицу, а так как они сопротивлялись, пошли в ход рукоятки револьверов и резиновые дубинки. Большая группа рабочих-забастовщиков, зажатая со всех сторон цепью жандармов и полицейских, тронулась к полицейской квестуре.
Улочка окраины, по которой вели арестованных, была темная, немая, пустынная. Домишки глядели слепо, словно погруженные в свинцовое оцепенение. Но в окриках жандармов прорывалась настороженность, почти страх.
Из-за холма, на котором стояло епархиальное училище, неожиданно выплыла луна, и Капаклы заметил, что шагает рядом с плечистым сапожником.
Он посоветовал ученику спороть с рукава нашитый номер, и сам сорвал значок с его шапки.
— Паразиты потащат нас на допрос, — шепнул он, нагнувшись к Капаклы и ласково нахлобучивая ему шапку на лоб, — как бы не дознались в школе: сразу тебя исключат…
А Капаклы уже ничего не боялся рядом с этим человеком. Он не знал, как зовут его спутника, но вспомнил, где видел его — в школе, тогда, во время забастовки… В делегации сапожников. И он был убежден, что имя его похоже на чье-то родное имя — отца… или брата…
В голове колонны раздался напряженный голос женщины, она пыталась затянуть песню, но голос ее сорвался в коротком всхлипе и умолк, видимо, под ударом.
В те несколько мгновений тишины, что последовали за этим, Капаклы пронзила мысль, что и этот голос ему знаком; сердце его сжалось. Немота этих минут причиняла страдание. Вдруг голос женщины раздался вновь. И прежде чем его успели погасить, песню подхватили десятки других голосов.
Сосед Капаклы выпрямился, зашагал ровней и шире.
Песня, угасая под ударами прикладов в одном месте, загоралась в другом, перебегая, как пламя, по колонне из конца в конец.
На порогах домишек появлялись неясные фигуры, ставни распахивались, словно перед восходом солнца… Конвоиры схватились за оружие, послышались разрозненные выстрелы, лошади вскидывали головы, бились под стражниками, но живое пламя песни охватывало квартал:
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов…
…Из подвалов полицейской квестуры на допрос вызывали по одному. С допроса возвращались кто на своих ногах, кто на носилках…
Подошла очередь Капаклы.
В передней, прежде чем впустить его в обитую блестящей черной кожей дверь, конвоир передал его какому-то тщедушному лысому человеку. Тот для начала молча дал парню две зуботычины и затем — так же не говоря ни слова — размотал длинный красный кушак, которым был опоясан Капаклы: "Подстрекатель!" — и пинком втолкнул его в кабинет.
Полицейский, сидевший за столом, оглядел сверху невысокую фигуру и совсем еще детское лицо ученика.
— Сколько тебе лет, эй ты, большевистский щенок?
— Четырнадцать!
— Кто тебя привел к забастовщикам? — спросил полицейский пренебрежительно, словно считал унижением для себя заниматься таким незначительным "клиентом".
— Я стоял себе в переулке и…
— A-а, в переулке… Что скажешь? — обратился он к лысому, который уже что-то писал за столиком в углу, — можем мы его судить? Щенку только четырнадцать лет…
— Можем, ваше здравие, — ответил тот, вскакивая, — у нас имеется тюрьма для несовершеннолетних. Надо только выполнить формальности…
— Ладно… — полицейский подошел к Капаклы, чтобы обыскать его. — Где там у тебя карманы? — спросил он подозрительно. — Ну-ка, выверни их наизнанку. Шевелись быстрее, парень!
Ученик стал вынимать из карманов рабочий инструмент. Полицейский вытаращил глаза.
— Глянь-ка ты, лысый! — крикнул он весело тому, что писал за столиком. — Посмотри сюда! Долото, сверло. Нам попался в руки взломщик.
— Так точно, ваше здравие, взломщик, — пискнул лысый. — Что же с ним делать? — заключил он совершенно растерянный. — Взломщик…
— Ничего не надо делать — выбросим его вон, и все тут, — добавил полицейский добродушно, — зачем нам взломщик? — И, ловко подняв ногу, сбил с головы Капаклы бескозырку, которая упала на пол.
Лысый залился тонким, почти женским смехом, и на этом кончился арест Капаклы.
Уже направляясь к выходу, в одном из коридоров квестуры он увидел своего знакомца. Сапожника вели, держа за руки, два вооруженных стражника. Он был весь мокрый, словно его окатили из ведра, осунувшийся и еле шел, ссутулившись. Но увидев ученика, он остановился, задержав и своих конвоиров, выпрямился, приветливо улыбнулся и зашагал дальше.
Капаклы прирос к месту, провожая его завороженным взглядом. Плюгавый человечек, сопровождавший его с бумагами, вдруг воровато изогнулся и, взвизгнув по-собачьи, схватил паренька за обмотку, желая, видимо, напугать его, и тут же залился своим дребезжащим смехом. Но парень не испугался, он мог бы даже ударить его ногой по лысине. Но не сделал этого, сдержался.
Он направился в школу, думая о том, что ему непременно надо найти Фретича, который, он знал, связан с "товарищами".
Он найдет его и скажет напрямик, что он тоже хочет стать юным коммунистом. Дойдя до угла, он сразу увидел двух своих дружков по работе, поджидавших его.
Когда ученики вернулись в школу после демонстрации, никто не спросил их, где они были. Никто ничего не оказал по поводу их кровоподтеков, разбитых лиц. Молчание! О Горовице, Капаклы и о двух — трех учасниках младших классов шли слухи, что они арестованы. Но комитет дал указание пока молчать — может быть, они еще появятся.
В этот день на доске объявлений появился приказ за подписью Фабиана, который напоминал ученикам установленное расписание работ, учебы и отдыха. До их сведения доводилось также, что повар отстранен от работы за "систематическую кражу продуктов".
Директор отныне поручал контроль на кухне самим учащимся. И наконец, как бы между прочим, сообщалось, что производство "сифонных головок" приостанавливается из-за нехватки материалов.
При появлении Капаклы и его дружков в школе ученики, увидевшие его, забыли про всякую конспирацию.
— Бондок! Бондок! — обрадовались ребята, окружая его.
Лицо у парня было в кровоподтеках.
Ощупывая языком то место, где прежде был зуб, Капаклы ответил:
— Где был, там нету. Думал, увижу там Володю.
Он помолчал несколько секунд.
— Но не видел ни его, ни других ребят. Индюки поймали меня и засадили в кутузку. Били. Мне зуб вот выбили и кушак отняли…
Только сейчас ученики заметили, что Бондок рукой поддерживает штаны.
— А при чем тут кушак?
— Потому что кушак-то всему и виной! — откликнулся Капаклы сердито. — Из-за него меня и схватили. Я, дескать, подпольщик. Кушак у меня красный, как кровь. Поняли теперь? Подпольный цвет, значит… А у нас все гагаузы такие кушаки носят!
— Ну, а они? — спросил кто-то, показав на товарищей Бондока. — У них ведь не было кушаков?
— Они? — улыбнулся Капаклы. — Они мои ребята, из штрафных, и сами пошли со мной вместе. А как же иначе?
Появившись в школе после месяца отсутствия, Хородничану в парадном костюме взволнованно шагал по залу. Он отдавал распоряжения служащим, которые натягивали на стене в конце зала большое полотно и устанавливали стулья.
— Привет, привет! — бормотал преподаватель истории с видом захлопотавшегося человека, пожимая руки ученикам. — Как вы думаете, хорошо так будет? — советовался он, показывая на полотно. — Хорош экран? Отныне мы начинаем новую жизнь: прогресс, культура! Я выжал наконец из этих бюрократов то, что нам надо. У нас теперь еженедельно будет кино. К нам будут приходить докладчики — самые выдающиеся лица в городе. Книги, газеты, радио. А как же иначе? Эти господа вообразили, что рабочие не нуждаются в духовной пище!
Хородничану засунул руки в карманы и, молодецки повернувшись на каблуках, понизил голос до шепота:
— Сегодня придет их инспектор, чтобы убедиться, нужны ли ученикам фильмы. Мы убедим его! Хо-хо! Да, кстати, поскольку уже зашла об этом речь, позаботьтесь-ка, кто там у вас посерьезнее… Одним словом, комитет ваш. Потому что я… я поддерживаю организацию!.. Что бы мне ни говорил директор, но я за организацию!.. Да, так о чем бишь это?.. Ага, вспомнил: позаботьтесь, чтобы вечером, когда придет инспектор, все ученики были налицо. Может быть, главный захочет произнести небольшую речь. Пусть его говорит! Мы ему даже похлопаем. Дал бы только побольше кинофильмов. Значит, договорились: абсолютный порядок, да? Чтобы чиновнику понравилось поведение публики. Конечно, картина и сама по себе интересна: "Черные рубашки". Инспектор уйдет, как говорит пословица, с поношеньем, а мы останемся с именьем…
В это время в зал вошел дядя Штефан. Найдя Урсэкие, он подошел к нему, снял с головы картуз и вынул из него толстый конверт.
— На, читай, — сказал он и вышел.
— От Пенишоры! — удивленно воскликнул Васыле, развернув письмо и пробегая его глазами. — Где он теперь, этот чудак?
— Читай, читай, послушаем!
Ребята столпились вокруг Урсэкие.
— "Дядя Штефан! — прочитал тот. — Кланяется и желает вам здоровья солдат-доброволец Пенишора Григоре из двадцать пятого пехотного Полка, или, как его называют здесь, "капустного" (нас кормят только борщом с капустой)…"
— Так ему и надо! — сердито заметил кто-то из учеников.
— "…Дядя Штефан! — читал дальше Урсэкие. — После того как я ушел тогда из школы, решил я податься домой. Шел я пешком два дня. Пришел и вижу — село пустое. Кто по мобилизации в армию забран, кто батрачит у помещиков по имениям, а больше померли от дизентерии, потому что она опять тут людей косит по причине затхлой кукурузной муки. А получили эту муку от помещика вперед за урожай, что еще на корню.
Нотариус, который в нашем селе назначен опекуном сирот войны, и на порог меня не пустил. "Мне, — говорит, — хватит хлопот с твоим братом. Он, — говорит, — большевик. А теперь, — говорит, — удрал в лес". Дал мне нотариус такую бумажку, чтобы я сейчас же шел в армию добровольцем, потому что я сын погибшего и мне там будет хорошо. Пошел я, что мне было еще делать! И вот вчера принесли мы присягу. В первые дни солдатская жизнь проходила так: как полагается, погнали нас в баню, выдали форму. Санитар-капрал обмакнул тряпку в черепок с керосином и сперва помазал мне подмышки, а потом, словно нечаянно, мазнул и по губам. Говорят, это называется "дезинфицировать" солдата. И еще — говорят, что солдату прежде всего нужно очистить рот, чтобы он не болтал, как гражданские. Обтер я с губ керосин и промолчал. Медные пуговицы для шинели я себе купил, потому что ни одной их не было, словно нарочно срезали (а купил я их у самого господина капрала, который нас дезинфицировал). Все это еще бы ничего, но, когда другие солдаты узнали, что я доброволец, они стали тыкать в меня пальцами и прозвали тут же "непотул казанулуй"[20].
У командиров теперь нет времени учить нас, добровольцев, отдельно от остальных солдат. Нас гоняют и обучают наскоро, чтобы поскорей подготовить к войне, так что страдаем вместе. Но солдаты все равно меня зовут "непотул казанулуй". Все чуждаются меня, потому что я добровольно пошел служить. Дядя Штефан, так мне это обидно, так обидно!.."
— Сам виноват, дурак! — не удержался кто-то из ребят.
Урсэкие на минуту оторвался от письма, оглядел сосредоточенные лица товарищей и продолжал чтение:
— "…Есть здесь один солдат, Федор Мыца. Вот однажды согнали нашу роту на час "морального воспитания" (так называется он в расписании).
"Смирно! — приказывает нам господин лейтенант. — А ну, скажи мне, солдат, что такое отечество? Скажи ты, как тебя?" — ткнул он пальцем в солдата, что тянулся больше всех нас. "Здравия желаю, господин лейтенант! Рядовой Караман Васыле! — как гаркнет тот во все горло. — Отечество — это… Отечество — это…" А сам и не знает, что это такое. "Идиот! Скотина! — закричал на него командир. — Отечество — это твоя мать, родная твоя матка, слышь? Понял теперь?" — "Так точно, рад стараться!" — отвечает Васыле. "Так отойди-ка в сторонку и пятьдесят раз ложись на землю и вставай, ложись и вставай, чтобы это не вылетело у тебя из башки. А ну-ка, повтори ты", — и указывает плеткой на Федора Мыцу. "Здравия желаю!" — кричит Мыца одним духом. А сам стоит как вкопанный в позиции "смирно" и смотрит на Васыле Карамана, как тот ложится и встает, ложится и встает. "Отечество — это матка Васыле Карамана! Так вы ему объяснили". Великое чудо, что Мыца после этого живой остался — после плети и сапог господина лейтенанта!
И вот, дядя Штефан, встретил я этого самого Федора Мыцу как-то после ученья. Сидит на камне, в уголке казарменного двора. Смотрит, горемыка, через забор. Да как смотрит!
"О чем ты думаешь, годок?" — спрашиваю. А Мыца все глядит через забор. "Зарзар[21] у меня дома есть, — говорит, — сам на дичку привил. Бывало ребятишки-чертенята со всей улицы воровали у меня зарзары…" А сам так и сияет, точно это большая радость, что у него зарзары крадут. "А теперь, — говорит, — нет меня дома… Старая мать моя одна. В селе полно военных, потому что там "зона". А если теперь еще война начнется…" И тут Мыца так глянул на меня, будто помощи какой от меня ждал. Узнал меня, и взгляд у него уже какой-то другой стал. "Непотул казанулуй", — пробормотал и отвернулся тут же, отошел от меня.
Тогда, дядя Штефан, я вспомнил вас.
Никак не забуду я этот взгляд Федора Мыцы. Иной раз, правду тебе говорю, дядя Штефан, я и сам бросаюсь туда, где солдатская мука-мученическая всего тяжелее. Думаю я в этом найти для себя облегчение. А все не нахожу… Мыце — тому легче. Теперь не его — самого себя мне жалко, дядя Штефан. Так мне сейчас плохо, что не знаю, как и сказать. Потому что теперь только начинаю понимать. Моему опекуну легко было сунуть меня в "добровольцы": я, мол, сирота погибшего на войне. А мне-то каково! И товарищей своих я лишился. Один я теперь, как вы сказали тогда в будке, дезертир.
Ну, кончаю письмо.
Пенишора Григоре".
Ниже подписи было еще что-то приписано, но ничего нельзя было разобрать, кроме слов: "Как бы хотелось знать, что делают ребята".
Прочитав письмо, Урсэкие молча сложил его и спрятал в карман. Ребята стояли вокруг него в глубокой задумчивости.
— Эх, на беду себе заварил кашу парень! — вздохнул кто-то.
— А сколько еще их, таких чудаков, на каждую деревню приходится, — покачал головой Урсэкие.
Киносеанс, о котором так торжественно говорил Хородничану, назначили на восемь часов вечера. За полчаса в украшенный зал была доставлена кинопередвижка. Пришел и инспектор. Он не произносил пока никаких речей, отложив это, по-видимому, на конец киносеанса. Инспектор сидел в первом ряду вместе с директором, госпожой Флоридой, Хородничану, надзирателем Стурзой, попом-законоучителем и попадьей. Сзади сидели ученики. Многие из них, особенно деревенские, никогда в жизни не видели кино. Они смотрели на белое полотно как зачарованные.
В числе самых последних в зале появился Фретич. Увидев Доруцу на одном из задних стульев, он сел рядом с ним. Яков заметил, что Фретич чем-то очень расстроен. Он беспокойно ерзал на стуле, точно не находя себе места.
— Ты, может, узнал что-нибудь о Горовице или о Викторе? — спросил Доруца шепотом.
Но Фретич продолжал молчать и только покусывал губы.
— Анишору видел? — допытывался Яков.
— Прошлой ночью арестовали товарища Ваню!
— Что?!
— Пока это разглашать не надо. Вот мать у него, говорят, есть, Евдокия. Разыскать бы ее, поддержать, помочь. — Фретич помолчал. — От нас сейчас требуется усилить борьбу, закрепить нашу победу в истории с капсюлями. Новая тактика дирекции, возня Хородничану — все это хитрость. Надо глядеть в оба.
Начался киносеанс. На экране появился человек с тяжелым взглядом и выдающейся вперед квадратной нижней челюстью. "Дуче"[22],— сообщала о нем подпись внизу. "Дуче" показан был сначала в одежде рабочего. Судя по его непрерывно двигавшимся челюстям, он все время ораторствовал. Затем "дуче" появился уже в ином виде. На голове у него была шапка какой-то странной формы, с двумя острыми углами. Вдоль и поперек "дуче" был опоясан ремнями. Теперь его челюсти были крепко сжаты, как тяжелые железные скобы. "Дуче" разжимал их только тогда, когда стоял на высоком балконе, а внизу, на площади, словно оловянные солдатики, четким строем проходили мимо него молодые люди в таких же шапках.
— В точности как те железногвардейцы, что приезжали к нам, — зашептал Доруца Фретичу.
— Да, того же семени, — отозвался Александру.
Фретич пристально глядел на экран. Через минуту он тревожно наклонился к Якову:
— Ребята далеко сидят? Где Урсэкие? Мы не можем пропустить такое дело. Нужно что-то предпринять… Мерзавцы!..
— Непременно! — Доруца поднялся со стула. — Я сейчас приду. Ты обдумай, что делать.
Пригнувшись, чтобы не быть замеченным, Доруца исчез в темноте зала. Среди учеников поднялось шушуканье. Спустя несколько минут Яков возвратился.
— Если еще раз появится эта квадратная морда, — быстро прошептал ему Фретич, — начнем свистеть и улюлюкать. Сигнал подам я — засвищу.
— Хорошо, — сказал Яков, обдумывая что-то. — Хорошо.
Так же согнувшись и крадучись вдоль стены, Доруца направился к экрану. В руках у него была большая черная бутылка.
В это время на полотне появилась длинная надпись.
— Врут они! — раздался вдруг пронзительный крик. — Брехня!
Это, не вытерпев, закричал Урсэкие.
На полотне как раз появился "дуче". Из глубины зала послышался долгий, гайдуцкий свист.
— Долой его! Долой!..
В зале поднялся невероятный шум.
Безразличный ко всему происходящему, "дуче" работал челюстями. И тут случилось такое, что вся публика на несколько секунд онемела от удивления. Что-то пролетело по воздуху. На одном из глаз "дуче" появилось черное пятно, которое сразу начало расплываться по всему лицу, превратив "дуче" в какое-то страшное чудовище…
— Вот настоящая образина фашизма! — закричал кто-то в зале. — У них не только рубашки, у них и совесть такая же черная!
— Фашизм — это война!
— Свет! — раздался резкий возглас директора.
Стурза бросился выполнять его приказание.
Когда сеанс был прерван и в зале зажегся свет, на стульях, где раньше сидели гости, никого не оказалось. Инспектор и поп с попадьей исчезли. Директор с супругой были уже возле двери. Хородничану растерянно следовал за ними.
Только ученики, соблюдая полный порядок, сидели на своих местах, словно намереваясь еще наслаждаться "духовной пищей", с таким трудом вырванной у "бюрократов" их преподавателем истории.
Спокойно нагнувшись, Доруца поднял с пола около экрана бутылку из-под чернил.
Весна была на исходе. Подавленный заботами и тревогами последних дней, господин Фабиан и не чувствовал ее. Утра казались ему туманными, дни — жаркими, душными. Все было ему теперь здесь чуждым. Черные мысли точили мозг. "Эх, и нужна была мне эта возня со школой! Убраться бы отсюда!.. Забрать свои манатки и уйти куда глаза глядят. Куда-нибудь в село. Поселиться вдали от города, от рабочих… Но куда? Как?"
И вдруг, словно луч надежды, дошла до него весть, что старик Цэрнэ закончил барельеф медного ребенка. Это было столь неожиданно, что директор не поверил своим ушам. А он-то думал, что мастер давно отложил этот заказ, предпочитая работать на жестяных трубах. Ворота и железная ограда, забытые всеми и заржавевшие, валялись где-то во дворе. И вдруг такой сюрприз!
Господина Фабиана радовала не только мысль о жирном куше, который он считал было уже потерянным. Нет. Неожиданное окончание работы над медным ребенком господин Фабиан воспринял как надежду на возвращение былых спокойных дней, на восстановление своего авторитета в школе. "Дряхлый-то он дряхлый, этот Цэрнэ, но если уж взялся и сделал работу, на это есть причина. Это не с неба свалилось. Почувствовал что-то старик…"
Воодушевляемый такими мыслями, господин Фабиан мгновенно приободрился. В тот же день ворота и железная ограда по его приказанию были очищены от ржавчины и покрашены в зеленый цвет. Господин Фабиан послал Цэрнэ курева и распорядился, чтобы обеденная порция его была снова увеличена. Затем он известил доктора, владельца детского санатория, чтобы тот явился за своим заказом. Словом, господин Фабиан так захлопотался в этот день, что только перед вечером выбрался в мастерскую посмотреть на произведение Цэрнэ.
Мастер как раз выходил из своей будки.
— Хочу взглянуть, старина, на нашего младенчика… — начал было Фабиан.
— Обойдется без вас, — прервал его своенравный старик и, войдя в будку, захлопнул дверь перед самым носом Фабиана.
Слышно было, как повернулся ключ в замке.
Фабиан махнул рукой и удалился. "Ничего, — подумал он, — старик не подведет. Уж если он что-нибудь делает, так делает основательно".
Вручение заказа господин Фабиан решил обставить поторжественней. Он дал распоряжение немедленно привести в порядок мастерскую жестянщиков, вымыть там полы и даже соорудить небольшую трибуну. "Именно в мастерской пусть все это и произойдет. Перед учениками! — думал господин Фабиан. — Я скажу: "Получайте рекламу, господин доктор, это монументальная работа!" Так и скажу: монументальная! Цэрнэ, конечно, необходимо предварительно послать немного пообчиститься. Да, вокруг Цэрнэ все это и будет происходить. В лице Цэрнэ мы будем чествовать рабочего, который всю жизнь безропотно работал для блага и спокойствия своей страны. И страна признательна ему… Не нужен здесь Хородничану! Я сам, директор школы, скажу это. Так скажу, чтобы у них у всех защекотало под ложечкой. А в конце речи я выну из собственного кошелька сто лей: "Пожалуйста, господин мастер, вот вам от меня эта малость, а господь бог пошлет вам больше…"
Получив приказ директора, ученики устроили в своей мастерской генеральную уборку. Цэрнэ явился в этот день на работу в мягкой вычищенной шляпе. На свежевыбритом лице мастера еще отчетливее выделялись глубокие морщины. Руки его со сморщившейся от тщательного мытья кожей тоже были необычайно чисты. Цэрнэ находился в том благодушном настроении, которое часто бывало у него в последнее время. Вообще с мастером творилось что-то необычное. Глаза его заметно повеселели. Улыбка все чаще озаряла лицо. Учеников он начал называть по именам, интересовался жизнью каждого из них. Он принялся даже посвящать их в тайны своего ремесла. Мальчики с удивлением следили за этой переменой в мастере, совершавшейся у них на глазах. "Не иначе как этот медный ребенок омолодил его", — весело шутили они. На шумиху, поднятую господином Фабианом вокруг завершения работы мастера, ученики смотрели с любопытством, но благосклонно: Цэрнэ они любили, его радость была радостью и для них.
…Из канцелярии школы наконец сообщили, что господин доктор прибыл и лимузин его стоит уже во дворе школы. Началась суета. Через несколько минут в мастерскую влетел посланец из канцелярии:
— Приготовьтесь, идет!
Затем на лестнице в сопровождении многочисленной свиты показался клиент. Господин доктор тяжело дышал после подъема по лестнице и беспрерывно вытирал платком багровый затылок. На маленькой его голове редкие седые волосы стояли ежиком, что придавало ему энергичный вид. На одутловатом, напоминающем губку лице доктора не было той торжественности, которую выражали физиономии сопровождавших его людей. В руке он держал шнурок монокля, прикрепленный к жилету. Доктор оглядывался по сторонам бегающими, точно выпытывающими что-то глазами.
Жестом попросив клиента подождать, господин Фабиан на секунду скрылся в будке мастера. Оттуда он вышел еще более торжественный, нетерпеливо поглядывая на трибуну. В нескольких шагах за ним следовал Цэрнэ, во внешности которого было что-то глубоко волнующее. С барельефом в руках направился он к клиенту, словно стесняясь своей нетвердой, старческой походки, своей худобы и немощи, не соответствующих обстановке этого праздничного дня его жизни.
Когда доктор издали увидел выполненный заказ, глазки его так и замаслились от удовольствия. Не глядя на старика, он взял из его рук барельеф.
Директор первый захлопал в ладоши, с важным видом направляясь к трибуне. Свита последовала его примеру. Ученики также, с опозданием и вразброд, принялись аплодировать.
Мастер стоял выпрямившись, с опущенными по швам руками, точно школьник на первом экзамене. Лицо его было бледнее обычного, глаза глядели неспокойно.
— Дорогой металл, — произнес клиент первую оценку, щелкнув пальцем по медному мальчику, точно выстукивая его по-докторски. — Напоминает золото…
Господин Фабиан подал новый сигнал, и слова доктора были покрыты деликатными аплодисментами свиты. Хозяин санатория приподнял и отвел барельеф на длину руки, оценивающе поглядел на него, прищурив глаз.
— Господа… — заговорил было господин Фабиан, считая, что сейчас уже самое время начинать торжество.
Но клиент вдруг, точно ужаленный, опустил руку, в которой держал рекламу, и быстро вскинул монокль.
— Что это? — воскликнул он. — Что это, я вас спрашиваю? По-вашему, это — упитанный, образцовый младенец, который призван представлять мой аристократический санаторий? Рахитик! Чахоточный, голодный щенок!
Доктор еще раз взглянул на барельеф и, выронив монокль, разразился таким смехом, что живот его заходил ходуном:
— Ха-ха-ха! Да это ублюдок какой-то с окраины, из рабочей слободы! Такие там валяются тысячами. Кандидат на кладбище! Ха-ха-ха!..
Устав от такого продолжительного хохота, доктор отер платком вспотевший затылок.
— Эх ты, мастер! — презрительно обратился он затем к Цэрнэ, снова вставляя в левый глаз стеклышко монокля. — Что же ты за скульптор, если не можешь изобразить прелестного, здорового ребенка! И, кроме того, — клиент повернулся, стеклышко сверкнуло у него в глазу, — почему у этого ребенка так воздеты руки? Откуда такое выражение ужаса? — Владелец санатория еще раз глянул на медное изображение, затем швырнул его к ногам старика. — Похоже на то, — повернулся он к своей свите, оскалив зубы, — что этот младенец под угрозой смерти воздевает лапки и призывает на помощь. Точно под бомбами, не правда ли, господа?
Покинув трибуну, господин Фабиан быстро направился к валявшейся на полу рекламе. Но Урсэкие, опередив его, незаметно прокрался вперед, схватил с полу барельеф и шмыгнул в толпу учеников.
Взгляды всех присутствующих устремлены были на мастера. До этого молчаливо и почтительно стоявший в позе школьника, он словно преобразился.
— Так именно вы и поняли мою работу? — радостно спросил он клиента, как бы не веря своему счастью. — Видно, а? Чувствуется? Действительно замечается такое выражение?
Голос мастера дрогнул. Неверной рукой снял он очки, и ученики удивленно увидели, что близорукие глаза мастера были полны слез. И, полные слез, они все-таки смеялись. Лучиками разбегались от них бесчисленные морщинки. Все лицо старика сияло.
— Я рад! — прошептал он с волнением. — Я рад…
Увидев барельеф в руках Урсэкие, старик быстро направился к нему.
— Что, Васыле? — пробормотал он, обнимая ученика. — Пойдем-ка, парнишка, поищем Анишору! Умницу мою, дорогую мою Анишору!..
Передав избитого Преллом Горовица ученикам, Моломан уже не вернулся на конспиративную квартиру, где находилась подпольная типография. Открытое столкновение с Преллом грозило провалом подпольной техники. Добившись через некоторое время встречи с товарищем, через которого он поддерживал связь с городским комитетом партии, кузнец рассказал ему обо всем и признал свою вину, готовый принять за свой проступок суровое партийное взыскание.
— Делайте со мной что хотите, — сказал он под конец. — Я знаю, что поступил неправильно, но иначе я не мог. Сколько хватало сил, я терпел, не вмешивался в действия учеников. Видел я их ошибки, видел, что нет еще у них закалки, да нельзя мне было вмешиваться. И только тем отводил душу, что сообщал обо всем в организацию. В школе я занимался только кузнечным делом. Мехи, наковальня — и все. Но началось брожение, ученики поняли, что они своей работой невольно помогают подготовке антисоветской войны, что они изготовляют капсюли для гранат. Ребята начали забастовку." Понимаешь?.. Толковые ребята. Пролетарии! Но молоды… Этот фашистский бандит Прелл заигрывал с ними. Ученики доверяли ему. Доверяли, быть может, больше, чем мне. Потому что немец был активен, в то время как я только хлопал глазами, связанный по рукам и ногам конспирацией. Вся школа бастует, а я должен работать…
Моломан замолчал, силясь сдержать свое волнение.
— Вроде штрейкбрехера, — опуская глаза в землю, пробормотал он. — Штрейкбрехер… Не мог я этого стерпеть! В день забастовки очаг моего горна остался холодным. Я как бешеный метался по кузнице… Тут вдруг вижу — Прелл этот самый завел к себе Горовица. Горовиц — изобретатель, золотые руки, честная, доверчивая душа… Не сдержался я, когда увидел, что мальчик валяется в обмороке на полу. Не сдержался. Только что собственными руками отпечатал листовку о фашизме… И тут передо мной встал этот фашистский пес, убийца из гестапо… Не стерпел я, огрел его. Пусть партия накажет меня за это, но дайте мне перейти к открытой борьбе. Не могу больше!..
— В типографии тебе больше не работать, — прервал его связной, — об этом не может быть и речи. Уже намечен человек на твое место. А сейчас вот что. Комсомольцев школы ты знаешь хорошо. Фактически ты был там одним из первых организаторов. Тогда ты тоже ведь по существу нарушил законы конспирации. Но не об этом теперь речь… В настоящее время школа борется. Поднялись на борьбу и другие школы. Арестовано несколько учеников. Есть провалы и в молодежном руководстве. Из-за арестов у школьного комитета вот уже несколько дней прервана связь с горкомом комсомола. А школы теперь больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в конкретном партийном руководстве. Движение учащихся не должно пострадать. Так вот, сделай все, что можешь, но завтра на рассвете инструктор школьных организаций должен выйти на свидание с посланным от нас. Что касается твоей ошибки, то горком это обсудит…
Таким образом, Анишора снова восстановила связь с руководством подполья.
За школой следили. Оба надзирателя, недавно принятые в помощники Стурзы, были явно агентами сигуранцы.
Большая часть персонала школы была уволена с работы и заменена незнакомыми ученикам людьми.
Нужно было предупредить новые аресты. Городской комитет комсомола рекомендовал Анишоре оставить на время занятия в школе и покинуть родительский дом.
На новой своей квартире в короткие часы отдыха девушка уносилась мыслями к заключенным в подвале сигуранцы — к товарищу Ване, к Горовицу, к Виктору…
…Виктор открыл глаза. Мрак. Что с ним? Где он? Нестерпимо болит все тело. Он сделал попытку пошевельнуться, но все его старания окончились пронизывающей болью в руке да звоном железа. "Кандалы…" — блеснула в его мозгу мысль. Разрывая тьму, вдруг надвинулась на него бесконечная колонна людей… Поверх нее плыли лица детей, знамена, плакаты, лозунги… У Виктора сжалось сердце: "Мой плакат!" Острая боль парализовала движение. Виктор снова провалился во мрак…
Затем он очнулся окончательно. Сердце билось уже спокойнее. Он как будто отдыхал. "Не проронил ни одного слова…" Первым бил его жандармский офицер. После этого — полицейский агент… В "бюро регистрации" ему предложили сесть. На другом конце стола сидел какой-то тип, углубившийся в свои бумаги.
— Воды… — прошептали сочащиеся кровью губы Виктора.
"Тип" нажал кнопку. В кабинет вошел агент, который недавно избивал Виктора.
— Принеси новенькому чашку кофе и папирос! — резко распорядился "тип".
Спустя несколько минут кружка с горячим кофе, ломтики хлеба с маслом и несколько папирос были уже на столе. Даже спички…
— Закуси, — сказал ему "тип" с деланным равнодушием.
Виктор не притронулся к принесенному. "Тип" глянул на него уголком глаза, затем, разложив на столе бумагу, приготовился писать:
— Как тебя зовут?
Виктор ответил на вопросы: возраст, национальность, профессия.
— С каких пор знаешь "товарища Ваню"? — спросил "тип" тем же безразличным тоном, готовый занести в протокол ответ и на этот вопрос.
— Я не знаю такого имени.
"Тип" притворился, что не слышит.
— С каких пор знаешь "товарища Ваню"?
— Я не слышал такого имени.
"Тип" вдруг поднял глаза, и Виктор вздрогнул. Такого звериного взгляда ему еще не приходилось видеть.
— Я не спрашиваю тебя, слыхал ли ты это имя! Имя это известно всему городу. С каких пор ты знаешь "товарища Ваню"?
Виктор поднялся со стула. Спокойно ждал, что его ударят. Но "тип" сперва схватил его за волосы:
— С каких пор ты знаешь "товарища Ваню"?
…Пришел в себя Виктор уже лежа на полу. Агент, который приносил ему кофе, поднял его, поставил на ноги и прислонил к стене. "Тип" шагнул к нему со сжатыми кулаками. Когда Виктор падал, агент снова и снова бросался его поднимать…
…По подвалу прошла струя холодного воздуха. В просвете открытой двери показался полицейский.
— Эй, субъект, поднимайся! — крикнул он, подойдя к лежавшему на полу Виктору, и толкнул юношу носком сапога.
Когда Виктора привели в кабинет, "тип" приказал снять с рук и ног "новенького" кандалы, а сам стал заботливо поправлять на нем порванную одежду и вытирать кровь с его лица.
— Я представлю тебя господину следователю, — сказал он тихо, будто раскаиваясь в том, что произошло. — Ты спасен. Ты попал к следователю Пую. Это человек культурный, образованный, окончил юридический факультет…
Открыв обитую кожей дверь, "тип" легонько подтолкнул арестованного вперед. Виктор очутился в богато обставленном кабинете. Яркий дневной свет был затемнен прикрытыми ставнями. Массивный стол посреди комнаты отливал матовым блеском. На столе стоял чернильный прибор черного мрамора.
Откинув голову на спинку кресла, на него рассеянно смотрел судебный следователь. Это был молодой человек со свежим напудренным лицом, в белоснежном твердом воротничке.
— Впервые у нас? — заговорщически улыбнувшись, спросил он. — Ничего, ничего, mon chère[23], случается… Садитесь. Много времени не смогу вам посвятить. Ровно через… — Следователь, сдвинув манжет, глянул на часы: — Ровно через двадцать минут начинается концерт… Что это? — закричал он вдруг возмущенно, по-видимому только теперь рассмотрев раненую руку и распухшее от побоев лицо Виктора. — Что это за варварство? Кто из моих людей осмелился так истязать вас? Не покрывайте их, mon chère, иначе я рассержусь на вас. Назовите мне имя того, кто вас бил, одно только имя!
Не дожидаясь ответа, Пую нажал кнопку. В кабинете появился дежурный полицейский. Остановившись у дверей, он вытянулся.
— Какой это негодяй осмеливается нарушать мой приказ? — закричал Пую. — Я покажу вам, куроцапы, рукоприкладствовать! У нас есть цивилизованные средства! Завтра же я все это расследую. Найду виноватого и отдам под суд! Вон отсюда, скотина!
Полицейский поднес руку к козырьку, повернулся налево кругом и вышел.
— Звери, садисты, ничего в них нет человеческого! — продолжал Пую. — Дикари! Попадется им человек, так не отстанут, пока не разорвут его на куски… Итак, mon chère, — обратился он к Виктору, снова взглянув на ручные часы, — у нас осталось очень мало времени. Я изучил ваше дело. Мне известно все. И все-таки я хотел бы помочь вам. Вы человек из хорошей семьи. Учились в гимназии… Я считаю, что вы заблуждались. За короткий срок вы успели совершить ряд тяжких проступков… То, что вы поддерживали связь с этим металлистом "товарищем Ваней", еще куда ни шло. Молодость имеет свои права: романтизм, мученичество… Я понимаю. Я понимаю это как молодой человек, и я обязан это понимать как человек закона. Но разгром в столовой, опрокинутая в огонь мамалыга… Вульгарно! Мамалыга — это наша национальная специфика, традиция и местный, так сказать, колорит. Спровоцировав этот разгром в столовой, вы надругались над мамалыгой — насущной пищей нашего крестьянина. Да, да, mon chère… Вы ударили по обычаю, по вековому укладу предков, да… Ударили по дымящейся мамалыге, по рушнику, вышитому рукой крестьянки.
Молодой следователь замолчал, склонив голову на руку.
— Не понравилось мне все это, — продолжал он проникновенно взволнованным тоном. — Не понравилось. И, несмотря на это, я хотел бы что-нибудь сделать для вас… Не оставлять же вас здесь, среди этих дикарей!.. Когда, говорите, виделись вы в последний раз с "товарищем Ваней"?
Вскочив с места, Виктор вскричал с негодованием:
— Я ничего не сказал и никогда не видал этого человека!
На лице следователя запорхала улыбка удовлетворения.
— Я вижу, вы устали, — сказал он с состраданием. — Вам надо бы отдохнуть. Впрочем, я тоже вынужден оставить вас — я опаздываю на концерт. И все же я хотел бы сделать что-нибудь для вас…
Пригладив волосы и помедлив немного, он дважды нажал кнопку звонка, пробормотав:
— Хорошо…
В кабинет вошел "тип".
— Гражданина этого надо перевести на несколько дней в "белый домик", — мягко обратился к нему следователь. — Пусть придет немного в себя — он сильно устал. 'И попрошу, чтобы уже сегодня вы приготовили все необходимое для его перевода. И еще: я обращаю ваше внимание на наши конституционные законы, воспрещающие применение телесных наказаний.
Сказав это, он покинул кабинет.
Всю ночь Виктора пытали до обморока. Одно ведро воды за другим опрокидывали на него, приводили в чувство, после чего задавали все тот же вопрос о товарище Ване.
— Не знаю, — отвечал он. — Я не видел его никогда…
Перед рассветом Виктора положили на носилки и бросили в "черную карету" сигуранцы. Он очнулся от обморока уже в "белом домике".
"Белый домик" — эта дьявольская выдумка сигуранцы — был расположен за чертой города, вдали от всякого жилья, чтобы никто не видел творившихся там ужасов, не слышал криков пытаемых. Наружные стены домика были действительно белые. Нависшая камышовая крыша, приспа[24], запущенный сад — все гармонировало с тихим и грустным пейзажем этого глухого и заброшенного уголка. В таком домике впору было бы жить какой-нибудь старушке, забытой смертью. Здесь должны были бродить меж бурьянами одна — две курицы, шелудивый щенок. За домиком, насколько хватал глаз, простиралась нескончаемая ширь бессарабских полей. А в домике, за его белыми стенами, за высоким крестьянским порогом, царила смерть. Комнаты пыток, подземные изоляторы и различные отделения для допросов — вот что было внутри этого "белого домика". Немногие из попадавших сюда имели потом возможность любоваться белым светом. Имена доставлявшихся в этот домик арестованных обычно вносились в списки "бежавших за Днестр".
В течение первых дней Виктор прошел через различные "процедуры приема", а затем был брошен в подвал, где валялись истерзанные, как и он, люди. Стеклышко, замазанное известкой, через которое пробивался тоненький луч света, — вот все, что напоминало здесь о внешнем мире. К этому бледному лучу и подползали находившиеся тут люди. Туда устремлялись взоры…
Одни заключенные лежали неподвижно, другие время от времени двигались, стараясь расправить затекшие руки и ноги. Из угла изредка доносился тяжелый стоя.
Виктора пробудил грубый окрик:
— Эй, где тут Колесников? На допрос!
Вошедший принялся искать среди арестованных того, кто ему был нужен. Он будил людей, ударяя носком сапога и освещая лица красным глазком фонаря.
Из тьмы донесся шорох, кто-то делал усилие подняться:
— Оставь людей в покое, зверюга! Я Колесников!
Глазок фонаря остановился там, откуда послышался голос:
— Убери свою лапу, убийца, я сам пойду!
Подняв голову, Виктор увидел на секунду лицо Колесникова. Прихрамывая, тот с трудом продвигался к выходу, но его богатырская фигура словно заполнила собой все помещение. Подле двери Володя остановился и наклонился над человеком, неподвижно распростертым на полу.
— Посвети! — повелительно потребовал он у конвойного. — Иначе ты меня отсюда не вытащишь.
Красноватая полоска света упала на лежащего. Колесников заботливо ощупал его лицо.
— Я жив, Володя… Я чувствую каждый удар. И мне жарко… Только двигаться не могу и ничего не слышу… Совершенно… Один гул какой-то и свист в ушах…
Виктор вздрогнул: "Голос Горовица!" Напрягая все свои силы, он подполз к конструктору и принялся трясти его за руку: "Давид! Давид!" Горовиц не отвечал, бормоча про себя что-то бессвязное. Когда Виктор тряхнул его сильнее, Горовиц молча поднял на него взгляд и долго не отводил его, точно стараясь припомнить лицо Виктора.
— Ага, — ответил он с тем же спокойствием. — Узнаю… Только не слышу, ничего не слышу… — Он замолчал, а затем начал говорить, ни к кому не обращаясь. — Если бы я не оглох, я знал бы, жив ли он еще, наш светловолосый товарищ. Если он жив, то должен стонать… Хотя такой человек, конечно, может не проронить ни слова…
Виктор слушал, затаив дыхание. "Светловолосый товарищ!" Неужели?.. Однако из слов Горовица ничего больше нельзя было понять. Он бредил в жару. Виктор и не успел еще хорошенько разглядеть тех, кто находился вместе с ним в подвале, когда его снова повели на допрос.
До Виктора долетали отчаянные вопли из комнат для допроса. У него потемнело в глазах. Он покачнулся и чуть не упал. Рука полицейского вовремя подхватила его. Несколько мгновений Виктор стоял, опершись на эту руку. Но тут же, сделав над собой усилие, выпрямился во весь рост и зашагал дальше.
"Убери свою лапу, убийца, я сам пойду!" — вспомнил он…
В комнатке, куда его втолкнули, Виктор увидел сидящего за столом Пую.
— Садись, — сухо сказал следователь. На этот раз он не пытался разыгрывать доброжелателя.
Виктор остался стоять.
— Прежде всего отвечай на вопрос: хочешь ли ты жить, получить государственную службу и все, что требует молодость? Или хочешь смерти? Ну да, сделаться короче на одну голову. И даже еще проще — пулю в лоб. — Вынув из кармана револьвер, следователь выложил его на стол. — С родителями ты не переписываешься. Они не знают, где ты находишься. Никто не спросил о тебе. Никто. Один я буду знать, что кости твои гниют в "белом домике". Может быть, даже здесь, под этим полом, где ты стоишь… Когда ты видел "товарища Ваню"?
Пую вскочил на ноги и приблизился к Виктору, направляя на него револьвер.
Виктор почувствовал на своем виске холодное дуло.
— Я нажму сейчас курок — и готово! О твоем героизме и мученичестве будут знать только черви. Все равно коммунисты не верят в тебя, "интеллигент"! Итак, какой он, "товарищ Ваня"?
Виктор поднял на Пую сразу вспыхнувшие глаза: "Они так и не узнали, кто товарищ Ваня!"
На руке у следователя блестели часы-браслет.
— Сегодня вы не торопитесь? — спросил Виктор улыбаясь. — Не опоздаете на концерт?
Пую быстро опустил руку и принялся шагать по комнате.
— Ага! — процедил он, усаживаясь на место. — Я понял тебя. Ты хочешь заставить нас принять тебя за "товарища Ваню". Чтобы спасти его?.. Да, да. Спокойствие, благоразумие, бесстрашие перед лицом смерти — прекрасно! Нам известен характер того большевика. Но ты — не он, ты — не больше как симулянт. Тот был металлистом, а у тебя руки белые, тонкие, руки интеллигентика. И кишка, брат, у тебя тоже тонка. Напрасно ты прикидываешься — ты не "товарищ Ваня"! Но ты его знаешь, поддерживал с ним связь. Ты знаешь многое, и ты все это нам расскажешь. Вот сейчас ты увидишь, какие концерты в моем вкусе.
После того как Виктора увели из комнаты, следователь призвал своих помощников.
— Ну, чем можете похвастаться? Колесников дал что-нибудь? — спросил он нервно.
Те опустили глаза.
— Ну, отвечайте! — крикнул начальник, ударяя кулаком по столу.
— Молчит как немой, — осмелился один, становясь по стойке "смирно". — Я сделал что мог: и иголки под ногти, и…
— Молчать! И чтобы я не слыхал подобных ответов! Один у них глухой, другой немой… Куроцапы проклятые! Только на кражи и убийства вы и способны. Вот брошу вас обратно в тюрьму! И подумать только: перед какими-то школьниками, у которых молочные зубы еще не выпали, вы бессильны!
— Ученики… — начал было один.
— Молчать! Город весь белеет коммунистическими листовками. Заборы красны от лозунгов против войны. Митинги, забастовки, демонстрации! И повсюду принимает участие молодежь. Если вы не можете найти секретаря комсомола, как вы тогда найдете руководителей партии? Привести мне "товарища Ваню"! Слышите вы? Живого или мертвого — все равно! Из-под земли выройте, а найдите! Пока этот большевик на свободе, молодежное движение будет разгораться все сильнее. Нужно его уничтожить, чтобы даже имя его было забыто!
Следователь помолчал несколько секунд. Взглянул, раздумывая, на ручные часы:
— Организуйте мне массовую "мельницу". Арестованные пусть пройдут через нее все до одного. Организуйте ее у них на глазах. В большом подвале. Не может быть, чтобы кто-нибудь не проронил хоть слово. Налево кругом! Через десять минут я приду посмотреть.
…Первым пытке был подвергнут Горовиц.
— Знаешь "товарища Ваню"? — спросил его Пую, сидя на стуле, вынесенном палачами на середину подвала.
Горовиц поднес руку к уху, безуспешно стараясь расслышать заданный вопрос.
— Обратите внимание на симуляцию этого субъекта! — повернулся юрист к своим ассистентам. — Кто позвал тебя на демонстрацию против войны?
— Мастер Прелл, — невпопад ответил Горовиц, показывая рукой на уши. — Я любил его за то, что он знает технику, а он…
— Сыграйте ему "мельницу"! — коротко приказал Пую, доставая папиросу из портсигара.
Двое бросились на Горовица, повалили его на пол, заставили обхватить руками колени и, связав руки, просунули ему под колени железную палку. Затем они подняли его и вдели палку в железные кольца, подвешенные на веревках. Тело арестованного запрокинулось головой вниз, ступнями вверх. Один из палачей принялся изо всех сил бить бичом со свинцовым наконечником по его голым подошвам. Как ни изворачивался пытаемый, сколько усилий он ни делал, голова его все время свисала книзу, а ступни торчали вверх. Единственным отдыхом от мук был обморок. Если пытаемый не терял сознания во время пытки, то это случалось тотчас же после того, как он прикасался истерзанными ногами к земле.
Это и была "мельница" — пытка, применявшаяся против политических заключенных во всей боярской Румынии, а особенно против бессарабских революционеров.
После того как Горовица, словно мешок, швырнули на землю, Пую отдал еще какое-то приказание. Один из палачей, почтительно склонившись, шепнул ему что-то на ухо.
— Ничего, очнется, — ответил Пую громко, чтобы услышали арестованные, и уселся поудобней на стуле. — Приказ есть приказ. Всех до одного!
К месту пыток конвойные притащили человека. Он не стоял на ногах. Они подвязали его к железным кольцам. Истязаемый висел вниз головой без движения, не делая даже попытки уклониться от ударов. Кроме свиста бича, в подвале не слышно было ни звука.
Опустившись на колени подле потерявшего сознание Горовица, Виктор дул изо всех сил, остужая кровоточащие ступни товарища.
Сидя на стуле рядом с орудиями пыток, Пую подал палачам знак на минуту прервать-избиение.
— Приказ о наказании мог бы быть отменен, — сказал он, точно смягчаясь, — если бы кто-нибудь назвал нам хотя бы имя этого несчастного.
— Скажи мне, стоны его слышны? — шепотом спросил вдруг Горовиц, устремляя свои черные искрящиеся глаза на пытаемого товарища.
Виктор отвел взгляд от ступней Горовица и посмотрел на истязаемого. Светлый клок волос свисал у того с головы.
У Виктора замер на губах крик: "Светловолосый! Товарищ Ваня!.." Он рванулся с места, готовый вскочить, броситься на палачей.
Рука Горовица вцепилась ему в плечо, удерживая его на месте:
— Не надо!
— Значит, никому его не жаль? — с издевкой спросил Пую. — Впрочем, я знаю: коммунисты жестоки.
Закурив новую папиросу, он спокойно повернулся к своим помощникам:
— Продолжать "мельницу".
Углы подвала были погружены в темноту. Только в центре, где сидел Пую, висел фонарь, освещая желтым светом лица палачей и орудия пыток.
Последним был подвергнут пытке Виктор.
— A, mon chère, и вы явились на концерт? — обрадовался Пую, глядя на босые ноги Виктора. — Правда, сегодня концерт не совсем удачен: нет вокальных номеров. Может, вы нам что-нибудь споете? Что-нибудь оригинальное? Я, знаете ли, человек со вкусом. Мне нравится все поэтическое и традиционное: мамалыжка на вышитом полотенце, белый домик, мельница… Ну, что скажете, mon chère? Споете нам что-нибудь? "Арию Вани", например?
Виктор слушал, весь напрягаясь от злобы. И вдруг, шагнув к следователю, бросился на него:
— Палач!
Конвойные остолбенели. Пользуясь их замешательством, Виктор с остервенением продолжал наносить удары по свежему напудренному лицу следователя… Стул опрокинулся. Упав на землю, Пую рычал и задыхался под тяжестью навалившегося на него Виктора, а тот вцепился во врага ногтями, зубами…
Палачи засуетились, как муравьи в разоренном муравейнике, бросаясь на защиту своего начальника. Из углов, выползая на четвереньках, двинулись к месту свалки и заключенные…
— Тревогу! Сигнал тревоги! — послышался придушенный крик Пую.
Один агент кинулся к двери, с маху открыл ее настежь и исчез. А через минуту в помещение ввалились солдаты. Но Виктор был уже связан по рукам и ногам. В замешательстве Пую приказал солдатам стать на страже у дверей.
Следователь был весь в кровоподтеках, из его рассеченной губы сочилась кровь. Он потрясал сжатой в кулак рукой, на которой неизвестно каким чудом еще держалась, свисая, браслетка с часами.
— Вот ты какой, оказывается, фрукт! — шепелявя из-за выбитого зуба, прошипел он, обращаясь к связанному Виктору. — Хорошо-о… Я буду вынужден, стало быть, посвятить тебе более продолжительное время… Сыграйте ему пока что "мельницу", — приказал он, не глядя на своих помощников, — да поосновательнее, И помедленнее, не торопитесь. После каждых десяти ударов отдыхайте немножко и задавайте вопрос о "товарище Ване". Не ответит — продолжайте. Десять ударов — передохните секунду. Десять ударов — и… Что ты знаешь о "товарище Ване"?
Виктор молчал, стараясь поначалу держать глаза широко раскрытыми. Затем веки его смежились, но он ни разу не застонал. Следователь Пую зажигал папиросу от папиросы.
— Что ты знаешь о "товарище Ване"?
— Мерзавцы! — раздался вдруг мужской голос из угла подвала. — Убиваете человека, чтобы узнать о "товарище Ване"?
С волнением закуривая новую папиросу, Пую подал знак остановить "мельницу".
Из дальнего угла поднялся человек, босой, с окровавленными ступнями, и, шагая точно по осколкам стекла, двинулся к следователю. Лицо его, изувеченное до неузнаваемости, дышало все же таким мужеством, таким человеческим достоинством, что Пую невольно отпрянул назад на своем стуле. По мере того как этот человек со слипшимися от крови белокурыми волосами приближался к палачам, походка его становилась все увереннее. В некогда мягком взгляде голубых глаз вспыхивали стальные искры.
— "Товарищ Ваня" — ваш смертельный враг, но ни в какие кандалы в мире вы его не закуете! Никакая сигуранца, никакое гестапо не поймает его: он повсюду, он неуловим, "товарищ Ваня"!..
Двое палачей собрались уже продемонстрировать перед начальником свою преданность — они бросились к арестованному, но следователь сделал им знак потерпеть немного.
Секретарь городского комитета стал лицом к лицу с врагами.
— Вы ищите "товарища Ваню"? — сказал он, с презрением глядя на палачей. — Ужас ослепил вас, страх перед его силой, поэтому вы не видите его. А ведь "товарищ Ваня" здесь, в подвале. Вот он, "товарищ Ваня"! Здесь он, в моем сердце! Убьете вы меня, "товарищ Ваня" будет жить! Вот он! — крикнул секретарь, показывая на арестованных. — В каждом из них! — он показал на Виктора, висевшего в воздухе, на "мельнице". Глаза Виктора были открыты. — И вот он! И в нем есть "товарищ Ваня". Да! И в нем. Вы хотите убить его, кровавые палачи? Всех нас вы хотели бы убить! Но не удастся? Никогда! "Товарищ Ваня" — это Отечество Свободы… "Товарищ Ваня" идет! Он уже близко, близко…
Подвал "белого домика" дышал, как фронтовая зона после тяжелых боев. Через замазанное известкой стеклышко пытались просочиться бледные-бледные, синеватые лучи зари.
Раны кровоточили, подошвы ног горели, точно на горячих углях. Но палачи ушли, отвратительных лиц их не было видно, и заключенные вздохнули с облегчением.
Самым диким истязаниям был подвергнут секретарь. Он валялся в луже крови, и в первые минуты после того, как его приволокли из комнаты пыток, не подавал даже признаков жизни.
Виктор подполз к нему поближе и, заботливо поддерживая его голову, напряженно прислушивался к дыханию.
Рядом непрерывно и бессвязно бормотал Горовиц:
— …Два подъемных крана на станции… Выпрями, выпрями спину, отец! Хорошо!.. О! И дядя Моломан… Возможно… Один удар — и ось сварилась…
— Подними мою голову повыше, — неожиданно прошептал Виктору товарищ Ваня, показывая поднятой рукой в сторону слепого окошка. — Хочу видеть рассвет…
Виктор обхватил плечи товарища Вани, бережно поднимая его к слабому свету зари, бьющему через осколок стекла.
— Чуть-чуть выше, выше… — прозвучал голос секретаря. — Я хочу видеть восход, восток…
Один из шпиков, притаившихся в темноте между дверями, с яростью бросился на Виктора, пинком ноги отогнав его от умирающего:
— В бога душу мать!.. Только попробуйте кто-нибудь дотронуться до него!.. Пусть издыхает один… бродяга без имени!
— Вон, гад! — с силой крикнул Колесников, пытаясь подняться на ноги.
— Вон! — точно взорвался весь подвал. — Вон, палач!
Шпик выскочил за железную дверь. За ним взвизгнул тяжелый засов.
Виктор снова подполз к товарищу Ване, помогая ему поднять голову к лучу света.
— Не надо, Виктор, — сказал, слабо улыбаясь, секретарь. — И так видно…
— Я слышу, слышу! — вскрикнул вдруг среди своего бормотания конструктор. — Я слышу! А вы слышите? — Он попытался вскочить на ноги. — Звучат сирены!.. О! Жужжат моторы! Оттуда слышно… — показал он рукой на обломок стекла. — Оттуда!.. Слушайте!.. Оттуда!..
Горовиц поднялся к окошку; на лицо его упала слабая полоска света. Лицо Горовица сияло счастьем.
— Прелл хотел сделать меня глухим навеки, а я слышу…
Володя запел русскую песню — песню, что певали ребята в кузнице. Хриплые мужские голоса загремели в подвале, точно оживляя, обогревая все его углы:
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот.
В стальную грудь сильней стучи…
— Дожить бы… — прошептал товарищ Ваня, глядя в окошко. — Дожить, увидеть, что Бессарабия свободна… что она стала советской… За это и умереть не страшно… Не страшна смерть, потому что "товарищ Ваня" уже близко от нас, ребята, близко…
Взгляд его проникал через застекленный глазок, как бы скользя по лучу, пробиравшемуся сюда, все дальше дальше к самому источнику света…
— Близко, брат, близко… — шептал он, взяв Виктора за руку. — Посмотри и ты, уже видать…
Старуха Евдокия проснулась затемно, оделась, убрала постель. Потом с окаменевшим от горя лицом подошла к лавке, где бывало стелила сыну. Принялась, как обычно, встряхивать рядно, на котором давно никто не спал, сровняла края, разгладила складки. Взяла было вышитую цветами подушку, собираясь взбить ее, но остановилась в оцепенении. Потом с видимым усилием, медленной, неверной походкой направилась к двери.
Утро стояло ясное, тихое, и казалось — было в нем что-то благодатное.
В это время на окраине обычно только-только начиналась жизнь.
В такой час мог попасться навстречу лишь какой-нибудь бродяжка безработный, что проснулся, стуча зубами от утреннего холода, под забором, где застиг его сон, или какой-нибудь нищий-калека, которого голод выгнал из его логовища…
Но сегодня улица почему-то выглядела необычно. Тут и там стояли группы людей. Особенно много народу собралось у соседнего домика, где ютилась семья рабочего-железнодорожника, двенадцать душ — ребята мал мала меньше. Вот от толпы отделилась мать этого семейства, с младенцем на одной руке, с ведром в другой. Следом за ней устремились еще два малыша в одних рубашонках.
— Доброе утро, голубушка Евдокия! — широко улыбнулась женщина.
— Доброе утро, бабушка Евдокия! — дружно пролепетали и малыши.
— Мир вашему сердцу, дети мои! — ответила Евдокия и долгим взглядом проводила их до колодца.
Теплый утренний ветерок, казалось, ласкал ее душу, истерзанную тревогой с тех пор, как побывал у нее этот долговязый, худой парень из ремесленного. Это было с неделю назад. Он принес ей большой каравай хлеба и глядел на нее так, словно она была ему родной матерью. "Может, ты знаешь, что-нибудь о моем мальчике? — спросила она с тревогой. — Что с ним? Говори скорей!.." Но в ответ он сказал только, что будет приходить к ней часто, что и другие ученики будут навещать ее и приносить все, что ей нужно. Он отвернулся и неловко выскользнул за дверь…
— Эй, погляди-ка, сколько публики собрал мой-то, — прервала ее думы соседка, вернувшаяся от колодца. Она опустила полное ведро на землю, чтобы переложить ребенка на другую руку. — Говорила ему, чтобы он хоть стаканом чаю прополоскал кишки, так ведь слушать не хочет. В такой, говорит, день! Колесо, говорит, повернулось… И все: Россия, Россия…
— А что он там про Россию-то? — спросила Евдокия.
— Вон, поди послушай! В полночь его словно ветром унесло из дому. Где он шатался, что слышал?.. А вот забрал себе в башку, что я его завтра блинчиками буду кормить… — Женщина проговорила это сердито, но глаза ее любовались мужем.
Евдокия подошла к кучке людей, окруживших соседа. Это был высокий, худой мужчина, босой, казалось, с тех пор, как свет стоит, с небритыми щеками, широкой лысиной, какая редко встречается у рабочего человека, и мечтательными глазами. Сейчас они у него блестели совсем по-особенному.
— Ну, что я вам говорил, когда красные освободили Западную Белоруссию и Украину? Говорил я вам, что придет очередь Бессарабии?..
Он раскрыл ладонь, испещренную сеткой пересекающихся линий, широкую, похожую на карту, и продолжал:
— Понимаете, вот это Америка, — он отделил на ладони место для Америки, — вот Англия, Германия, Франция, Румыния… — Ладони не хватило, но рассказчик не растерялся, только потеснил немножко названные державы. — Это капиталисты, значит. Им нужна Бессарабия для того, чтобы… как бы это сказать?.. Ну, как паровозу нужен буфер. В политике это называется "военный плацдарм", — пояснил он со значением, критически изучая свою ладонь. — Поняли? Значит, Америка, Англия, Германия, Франция, Румыния… И вдруг берет слово Советский Союз. Сказал про Бессарабию — и все капиталисты… фью-ить! — Оратор смахнул всю "географию" с ладони и засмеялся раскатисто и заразительно. — Попали банкиры в переделку!.. Вы бы видели, что в городе делается!
Он тщательно вытер ладонь о штаны и погладил сынишку по головке:
— Ну, время не ждет, пойду туда.
— Дай бог тебе доброго здоровья! — сказал ему кто-то. — Только мы тоже туда.
— Добре!
Евдокия вернулась домой, прибрала все в комнате, подмела пол, затем куда-то вышла на минуту и вернулась с фотографией мужа. Она заботливо вытерла ее и приколола к стене напротив окна, откуда падал щедрый дневной свет.
Потом она вышла на улицу и направилась в ту сторону, куда двигались люди.
На улицах в этот день творилось что-то невообразимое. Огромные толпы людей, все увеличиваясь, двигались через город. Иногда они превращались в колонны, к ним еще и еще пристраивались люди.
— С товарного перрона, говорят, видать! — раздавались голоса.
Мастера Цэрнэ несло людским потоком. Но толпа, как ему казалось, двигалась слишком медленно. Старому мастеру хотелось идти быстрей. Быстрей, быстрей!.. Вдруг он увидел давнишнего своего приятеля, железнодорожного грузчика Арона Горовица:
— Арон! Дружище! С перрона видать?
У отца конструктора плечи были покрепче и пошире, чем у Цэрнэ, и он помог старику выбраться из толпы.
— Я в школу шел узнать о сыне… С перрона, спрашиваешь? Не знаю. Пойдем скорей! Народ бежит к рогатке. Они, говорят, перешли Днестр у Вадулуй-Воды.
— Подумай, какое счастье, Арон, отовсюду идут наши! — взволнованно говорил мастер Цэрнэ, стараясь не отстать от приятеля и даже опережая его. — Со всех сторон! Ты видал, как удирала румынская армия?
Старик запыхался от быстрой ходьбы. На ходу он снял шляпу, вытирая пот со лба.
— Народу сколько! Праздник какой!..
Из одной колонны Цэрнэ услышал оклик Анишоры.
— Отец! — кричала она, махая белым платочком. — Мы идем в тюрьму освобождать политических заключенных!
Старик остановился на секунду, глядя на Анишору. Дочь еще что-то кричала ему, но он уже не слышал ее, да и не огорчался этим. Он видел только, что лицо его Анишоры сияет, как ослепительно белый платочек, которым она машет. И даже еще ослепительнее. Как солнышко!..
— Товарищ мастер! Товарищ мастер!..
Это Урсэкие, на голову выше всех идущих в колонне, приветствует его, поворачивая плакат лицом к нему, своему мастеру. А возле него, вынырнув из толпы, на мгновение показывается голова младшего Доруцы.
— Товарищ мастер! Товарищ мастер!..
Но время не ждет, а учеников много и колонн много. А Арон… Эге, Арон его обогнал! Он далеко впереди. Цэрнэ надевает шляпу и прибавляет шагу.
— На секунду задержимся здесь, на станции, — говорит Арон, останавливаясь. — Я покажу тебе одну нашу маленькую проделку.
Но Цэрнэ и слушать не хочет:
— На большак! На большак! Выйдем на большак! Некогда останавливаться!
И Арон ничего не может с ним поделать.
— Тут вечером прошел румынский полк. Вот драпали! — рассказывает он, еле поспевая за Цэрнэ. — На станции были свалены сотни тонн пшеницы. Они согнали нас под конвоем, наставили пулемет и: "Наполняй мешки!" Это пшеницу-то, собранную трудом народа!.. Чтобы они, значит, увезли ее из Бессарабии!.. Мешки-то мы наполнили, иначе нельзя было — пулемет. Но только внизу в каждом мешке сделали надрез. А потом разошлись, спрятались, чтобы не нашли нас…
Переводя дыхание, Арон продолжает:
— Вот я и хотел показать тебе, что весь хлеб остался на перроне. Возьмется солдат за мешок, чтобы погрузить его в вагон, да так и остается с пустым мешком в руках. А искать виноватых у них уже времени не было. Так и убрались ни с чем!
Арон снял свою помятую кепку, обнажив высокий, как и у сына, лоб, и с мечтательной улыбкой, осветившей его истощенное, по-детски счастливое лицо, заключил:
— Сейчас там стоит дежурный из наших и делит пшеницу между бедняками. Но кто в такой день пойдет за пшеницей!
На большаке Цэрнэ вдруг остановился как вкопанный, показывая рукой вперед:
— Что там такое?
У поднятого шлагбаума, который до настоящего дня обозначал глухой барьер между городом и селом, стояла группа рабочих. На рукавах у них алели повязки. В стороне высилась куча брошенного оружия. Изнуренные тяжелыми годами службы, одетые в защитную латаную одежду, но с веселыми возгласами, в которых так и прорывалась безграничная радость, возвращались солдаты бессарабцы по домам.
К мастеру и грузчику важно подошел старичок. Он был опоясан полотняной перевязью. На веревочке у него болталась бутылка с питьевой водой, заткнутая большой кукурузной кочерыжкой. Голова старика была покрыта большим, странным картузом, из-под которого выбивались желтовато-белые пряди волос.
— Дядя Штефан! — радостно крикнул Цэрнэ, с уважением снимая шляпу.
Это был он — уволенный после забастовки дядя Штефан.
Бывший кучер и сторож ремесленной школы коротко ответил на приветствие, важно поднеся пальцы к картузу. Залившись громким смехом, старик стиснул старого мастера в долгом объятии.
— Рабочая милиция! — тут же объяснил он, поглаживая свою повязку. — Кое-какая практика у меня сохранилась еще с семнадцатого года, а кое-какая — от школьного подполья. Да, рабочая милиция! А вон, гляди, бредут бедняги эти. Спаслись из ада службы… Королевская армия. Эх, гляди-ка на них!
Взглянув еще раз на солдат, швыряющих оружие в кучу, старик мгновенно смягчился.
— Да! — покачал он сокрушенно головой, поправил свою перевязь и вдруг спросил взволнованно: — Хотите пройти вперед, встретить наших? Идите, встречайте, они выходят уже на большак. Днестр больше не разделяет нас!
Как ни хотел дядя Штефан держаться с суровым достоинством, глаза его не слушались, и на них выступили слезы. "Двадцать два года!"
К куче брошенного оружия подошел солдатик, еще более изнуренный и ободранный, чем все, кого пришлось видеть дяде Штефану. Только винтовка и сильно обтрепанные, полинявшие защитные брюки свидетельствовали о том, что человек этот солдат. Сквозь пыль, покрывавшую его босые разбитые ноги, выступали кровавые пятки. Швырнув свою винтовку на груду оружия, солдатик тяжело вздохнул и, глубоко задумавшись, стоял неподвижно, словно его внезапно одолела усталость от всех страшных ночей и дней службы.
Дядя Штефан подошел к нему:
— Эх, паренек, тебя королевская власть, видать, совсем обидела! Разутый…
Солдат взглянул на стоявшего перед ним старика и вдруг, точно задохнувшись, глотнул воздух и закричал:
— Дядя Штефан!
Старообразное и бледное лицо солдата осветилось сиянием большого человеческого счастья. Он раскрыл объятия, готовый заключить в них дорогого ему старика, но руки его беспомощно повисли в воздухе. Сияние на лице потухло. Уныло и виновато глянули испуганные глаза.
— Пенишора! — воскликнул старик. — Ты ли это? Пенишора опустил голову и, постояв немного, словно в раздумье, начал медленно поднимать руки вверх.
Дядя Штефан смотрел на него недоумевающе, затем, поняв, взволнованный, бросился к солдату.
— Опусти руки! — крикнул он не своим голосом. — Слышь ты? Сейчас же опусти руки! И подними голову. Выше голову! Выше! Выше! Мне нужно, чтобы подняли руки фабианы, хородничану и вся белогвардейщина. А ты… — Дядя Штефан тронул Пенишору за плечо, тихонько привлекая его к себе. — Чижик ты несчастный, надломились твои крылышки…
Уткнувшись лицом в плечо старика, Пенишора по-детски заплакал.
— Хотели меня насильно угнать из Молдавии, — сквозь всхлипывания бормотал он еле слышно, — с их армией… потому что я доброволец и красные меня, мол, не пощадят. Передали под надзор унтер-офицеру. А бессарабцы готовились бежать: Федор Мыца… А мне не доверяли… Я видел самолет с красной звездой… Ночью я убежал — через жнивье, через овраги, чтобы не попасться на глаза унтер-офицеру… один, через овраги, один…
Вдруг оба повернули голову к дороге, откуда доносились крики "ура". Дядя Штефан быстро оправил на себе перевязь.
— Ну, довольно! — промолвил он сурово, снова ощущая себя деятелем рабочей милиции. Молодецки взявшись за бутылку, висевшую у пояса, старик поболтал ею возле уха, чтобы услышать плеск воды, затем вытащил из горлышка длинную кукурузную кочерыжку и протянул бутылку солдату: — На, пей! У тебя прибудет сил, окрепнут крылья, а то вот наши идут…
Обветренные губы Пенишоры жадно прильнули к горлышку…
Людской поток все прибывал и прибывал. Неподалеку от рогатки из толпы вышел высокий моложавый человек и, будто ища кого-то в конце колонны, спокойно пошел назад. Гладкое, свежевыбритое лицо его лоснилось. Лоснился и свежевыбритый череп. На груди у него, на полотняной блузе горел, как цветок мака, красный бант. Вдруг он нырнул в ближайший переулок.
Здесь было пустынно — все были на окраине города, у большака. Человек, замедлив шаг, достал из кармана маленькое зеркальце и погляделся в него: "Гм, напрасно я боюсь".
Продолжая глядеться в зеркальце, он провел рукой по подбородку, по щекам, по макушке и остался очень доволен.
"Недаром шеф был поражен моей новой внешностью, — подумал он, засовывая зеркальце в карман. — Прямо цыпленочек, только что вылупившийся из яйца, — сказал он. — Как раз подходишь для работы в комсомоле. На, получай деньги, документы. Принимай указанный район и действуй!.. Для комсомола, положим, несколько устарел, но, как бы там ни было, без бороды кажусь намного моложе…
По лицу преподавателя истории Хородничану пробежало облачко грусти. Элеонора… Красивая и неверная Элеонора бежала с этой дубиной стоеросовой — Фабианом! Остался он, Хородничану, осталась госпожа Флорида… Вот тебе и на! Нашел с кем себя рядом ставить! Госпожа Флорида… Она-то действительно в затруднительном положении, в то время как он… Ничего, что пришли большевики. Хородничану все равно постарается встать на ноги. Главное — не унывать!
…Когда на большаке появился первый советский танк, люди не посторонились с дороги, а добежали ему навстречу. Танк остановился, окруженный народом. Люди смеялись и плакали от радости, целовались и засыпали танк цветами. Из люка высунулся танкист. К нему на броню вскочили дети. Словно в рамке из цветов и брони, выглядывали их радостные, раскрасневшиеся лица.
В толпе, окружившей танк, были старый мастер Цэрнэ и грузчик Арон Горовиц. Цэрнэ так и застыл на месте, глядя на танкиста и на детей.
— Поехали дальше, ребята! — раздалась команда.
Танк тронулся, оставляя за собой синеватую полоску дыма. За ним шли другие танки, также убранные цветами, с выглядывающими из люков танкистами и детьми. А мастер Цэрнэ все стоял неподвижно со шляпой в руке, провожая горящими глазами машину за машиной.
— Дети!.. Счастливые, радостные, улыбающиеся! Ты понимаешь, Арон? Понимаешь? — бормотал он. — Вот что нужно выбивать на меди… Понимаешь ты меня?..
— Цэрнэ! Старичина! Погляди-ка! Освобожденные из тюрьмы! Идут! На свободе… мальчик мой, Давид!.. — крикнул вдруг Арон, рванувшись вперед.
Незадолго до подхода Красной Армии Фретич шагал по улице в одной шеренге с Доруцей. Колонна спешила освободить заключенных товарищей, чтобы им выпало счастье увидеть вступление первых колонн Красной Армии в город.
— Александру, хочу сознаться в одной ошибке, — сказал Доруца. — Глупо я поступил, уничтожив цветник Фабиана. Цветы-то в чем виноваты?..
Фретич восторженно всматривался в передние ряды колонны, словно измеряя расстояние, которое остается до тюрьмы. Радостно взглянув на друга, он по-братски обнял его за плечи.
— Брось об этом сейчас… Теперь уж мы не ошибемся! — воскликнул он с воодушевлением.
…В широко распахнутых воротах тюрьмы показалась первая группа заключенных. Бледные, истощенные, но радостные лица. Вон Володя Колесников… Вон кудрявая голова Виктора, его синие сияющие глаза… Вон Давид Горовиц…
К освобожденным со всех сторон тянулись руки. Их готовы были подхватить, поддержать, понести…
А им, стосковавшимся по движению, хотелось шагать в строю, в одном строю со всеми, и они влились в общую колонну. Лица освобожденных сияли счастьем, глаза жадно искали кого-то. Где же они? Где освободители?
Наконец они показались — пехотинцы, советские пехотинцы.
Тесно сомкнутыми рядами, по-походному, со скатками через плечо, в защитных гимнастерках шагали по бессарабской земле солдаты с такими хорошими, такими родными лицами.
Толпа на миг замерла.
Настороженную тишину прервал слабый, прерывающийся женский возглас:
— Родные мои!..
И вот толпа уже обступила первого красноармейца. А через несколько минут над толпой взлетали люди в защитных гимнастерках, подбрасываемые дружескими руками.
— Родные мои… — Седая женщина с бледным, изборожденным глубокими морщинами лицом, беспомощно, точно ребенок, топталась на месте, не в силах пробиться сквозь толпу, увидеть все собственными глазами. Людским потоком ее то и дело относило в сторону.
— Бабуся! — На помощь старухе протянулась чья-то крепкая мужская рука.
Опершись на эту руку, женщина подняла глаза и пристально вгляделась в своего провожатого, статного, русоголового, в выгоревшей гимнастерке.
— Хороший паренек, хороший! — И, прижавшись лицом к его рукаву, она вдруг вся затряслась от неожиданно прорвавшихся рыданий. — Не дожил он, сокол мой, — сквозь слезы шептала она с болью, — не дожил!..
Из толпы вынырнул парень огромного роста. Да это же Урсэкие! А за ним своей неуклюжей походкой — Доруца-младший, еле видный за огромным плакатом, который он нёс в руках. Заметив красноармейца со старушкой, Урсэкие стремительно шагнул к ним.
— Привет, товарищ, здорово! — воскликнул он, бросив восхищенный и, может быть, чуточку завистливый взгляд на пилотку бойца. — Руку, товарищ! Я — Урсэкие Васыле.
Урсэкие заметил старую женщину, прижавшуюся к рукаву красноармейца. Приглядевшись к ней, юноша замолчал и медленно стянул с головы фуражку.
— Мать товарища Вани… Это она, его мать… — зашептал он Федорашу взволнованно. — Поговори с ней, не давай ей уйти. Я сейчас вернусь с ребятами…
Когда несколько минут спустя Урсэкие возвратился в сопровождении Анишоры, Виктора, Горовица и других учеников, вокруг красноармейца со старушкой уже стеной столпился народ. Виктор первым протолкайся к маленькой седой женщине. Кудрявая голова его низко склонилась над морщинистой рукой Ваниной матери:
— До последней минуты, до последней его минуты мы оставались вместе… Вместе! — И, глядя вперед в голубеющую даль, точно призывая ее в свидетели, Виктор добавил: — И навсегда он останется с нами, в наших делах!
В это время к группе подошли старик Цэрнэ и Арон Горовиц. Горовиц молча прижал к груди своего сына.
— Погляди, это Виктор, — прошептала Анишора на ухо отцу.
— Я, можно сказать, почти комсомолец, — объяснял тем временем Урсэкие красноармейцу. — Сам товарищ Ваня сказал, что меня можно принять… Вот и Доруца Федораш. И его можно считать комсомольцем. И Горовиц Давид… Этот в сигуранце сидел вместе с товарищем Ваней… Товарищ боец, — спросил вдруг Урсэкие, — а вас как звать?
Бережно поддерживая старушку, красноармеец поднял глаза и, видя, что он находится в центре внимания, смущенно улыбнулся.
— Меня? Я… Иван зовут меня… Ваня, — добавил он тихо.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ