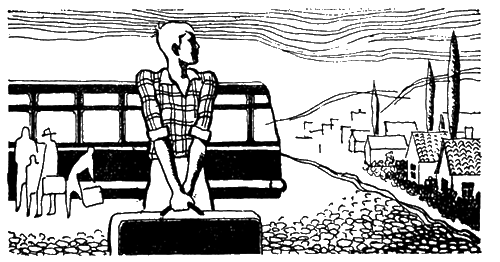
1
Верно говорят: чему быть суждено, того не минуешь…
Знать не знал и ведать не ведал Мишаня Сенцов о том, что будет ждать это утро с тяжким стыдом в душе — первое рабочее утро своей жизни.
А ведь два дня тому назад все вроде складывалось благополучно, и жизнь Мишанина катилась без перекосов, как по натянутой нитке. Поезд отстучал тысячу с лишним километров пути от родного дома и привез Сенцова в южный городок Ачуры.
Мишаня разыскал место своей будущей работы, краснокирпичное, приземистое зданьице правления райпотребсоюза, которое находилось неподалеку от вокзала, на главной улице городка.
Председатель правления уехал в область на совещание, и молодого специалиста принял заместитель, Юрий Аркадьевич Родькин. Он с уважительным любопытством изучил диплом, направление, поздравил с назначением, позвонил тут же по телефону насчет места в гостинице, и, так как приехал Мишаня в пятницу и впереди было два выходных, предложил ему отдохнуть до понедельника и заодно ознакомиться с городом.
Мишаня отоспался с дороги в гостинице, а к вечеру надел пиджак с сияющим на лацкане новеньким техникумовским значком, вышел на улицу.
Городок Ачуры был хотя и мал, но уютен. Покатые спины холмов обступили дома с двух сторон, закатное солнце просвечивало далекие деревья, в воздухе пахло сиренью.
Сердце у Мишани Сенцова сжалось от непривычного чувства свободы. Было и радостно, и немножко грустно.
По брусчатке беспечно прогуливалась молодежь: смуглолицые парни в белых рубашках и девушки в легких цветастых платьях. Мишаня заметил, что все движется в одном заданном направлении и пошел следом, покуда не очутился в парке, заросшем сиренью, таком же уютном и чистом, как и сам город.
На огороженной стальной сеткой танцплощадке горели фонари, играла музыка. Танцующих было мало. И танцевали они, казалось, не для своего удовольствия, а для приманки молодежи, тесно обступившей танцплощадку.
Мишаня прикинул мощность фонарного освещения и отметил, что электроэнергия может не окупиться. И начал уже перемножать силу этой энергии на танцевальные часы, но перемножить не успел, потому как тут-то и случилась с ним оказия.
Долговязый парень с выгоревшими от солнца волосами подошел к Сенцову, ощупал его оценочным взглядом и, дохнув перегарцем, попросил закурить.
Мишаня протянул парню сигарету, но проситель пожелал заиметь всю пачку.
Такой наглости Сенцов не ожидал. Ему и самому была охота побаловаться дымком вдали от родительской опеки (дома курить Мишаня совестился). Он успел схватить парня за руку, но в то же мгновение холодный и ясный свет вспыхнул в его сознании и погас.
Очнулся Мишаня на земле. Вот и познакомился с городом. Обидно было, до слез обидно. И синяк, вот он, под левым глазом. Носи, молодой специалист, красуйся на новом месте жительства.
Весь следующий день Мишаня не выходил из гостиницы, а в воскресенье купил в киоске темные очки.
Но на работу в понедельник идти ему еще не хотелось…
В кабинете было солнечно по-весеннему. Зеленые пятна света волнистой рябью плясали на потолке, на стенах, увешанных плакатами по технике безопасности, тезисами плановых постановлений.
У окна за массивным столом восседал и сам хозяин, знакомый уже Мишане заместитель председателя Юрий Аркадьевич. Увидев Мишаню, он встал из-за стола и показался Мишане даже ростом вроде пониже, чем в первый день знакомства. Серый костюм в полоску ладно сидел на его литом тельце, гладко выбритое лицо румянилось в улыбке. Но странная это была улыбка. Будто не из души, не 04’ радушия сердечного лучились морщинки у серых водянистых глаз.
— Как отдыхали? На озере были? В кино? — зажурчал вкрадчиво-доверчивый голосок.
— Не успел, — глухо ответил Мишаня. Глядел упрямо в улыбчивое личико Юрия Аркадьевича, почудилось — мелькнул в его серых глазках ехидный бесенок. «Знаю, все, братец, знаю! И синяк твой под глазом вижу…»
— Зря-я! Зря на озеро не сходили! Озеро у нас первосортное. Насчет рыбы гарантии дать не Могу. А искупаться можно! Да-а!
Юрий Аркадьевич скова уселся за стол, на котором успел разглядеть Мишаня чернильный прибор массивного серого мрамора, стопочку любовно отточенных карандашей в бронзовом стаканчике — ухоженную чистоту, обжитую, надежную. Уже не извинительная улыбка, властное спокойствие держалось в лице заместителя председателя.
— Магазин «Мясо — рыба»! Раз! Гастроном. Два! Ресторан. Три! Плюс район… — И, откинувшись на кресле, вздохнул, словно сбросил с плеч невидимую тяжесть. В серых глазах блестел льдистый свет. — Вот так, Михаил Петрович! — Вытащил из кармана платочек, промокнул лоб. Крепкие морщинки в уголках рта сжались в озабоченной печали. — Справитесь?
— Попробую, — вздохнул Мишаня.
— Ну и хорошо! А пока пройдитесь, познакомьтесь с объектами, с оборудованием. Действуйте, одним словом!
И будто из-за невидимой стеклянной стены оценивающе глянули на Мишаню его глаза. Шаг шагни, уткнешься в стекло.
Утро уже разгулялось над городом, подбегало к полудню. И со ступенек правления Ачуры были, как на ладони, обласканные майским светом. Небо над черепичной завесью крыш, над брусчаткой главной улицы было ясное и голубое. Ни тучки, ни облачка.
Действуй, Михаил Петрович! Распоряжайся!
Мишаня снял очки, сощурившись от слепящего света, потрогал опухший глаз: больно. Ладно, пройдет, жить дальше надо.
По правде сказать, предложение Юрия Аркадьевича ознакомиться с объектами было для Сенцова не совсем ясным. Что с ними знакомиться? Холодильные установки ремонтировать надо. И тут же вспомнил, что из-за смущения своего дурацкого за глаз подбитый главного, основного самого не спросил — насчет инструмента. Инструмент в техникуме вместе с дипломом не выдают, сам как хочешь разживайся. А где им разживешься?
Тоскливо все начинается, ничего не скажешь. Вернуться бы сейчас обратно в кабинет, да и выложить все как есть. Но неловко, неловко и стыдно было туда возвращаться. Неловко было чувствовать холодок начальственного взгляда на своем лице. «Ничего, — решил Мишаня, — начальству виднее. Будем с объектами знакомиться…» И пошел потихоньку по улице, перечисляя в уме все подвластные свои владения.
До магазина «Мясо — рыба», «Молоко», гастронома идти было далековато. Все они находились, помнил Мишаня, где-то у рыночной площади. Поблизости, дорогу только перейти, был всего один объект — ресторан, блестевший аквариумными стеклами окон.
Стеклянная дверь парадного входа была закрыта изнутри.
Мишаня свернул во двор, тесно заставленный омытой дождями баррикадой пустых ящиков, и по затертым ступеням поднялся на второй этаж, очутился в длинном и узком коридоре. И тут же почувствовал дразнящий запах жаркого, сглотнул слюну. «Котлеты жарят, — отметил про себя, — с картошкой!» Постучался в дверь, на которой висела табличка «ДИРЕКТОР ЗОЗУЛЯ А. Ф.», вошел, не дождавшись разрешения.
За столом сидела полная рыжеволосая женщина в белом халатике.
— Механик холодильных установок Сенцов! — отрекомендовался Мишаня. Хотел еще имя, отчество свое назвать, но, упершись взглядом в руки рыжеволосой, белые, в золотых кольцах, с длинными розовыми ногтями, сдержался.
Женщина мило улыбнулась, и показалось Мишане, светлее в комнате стало.
— А Юрий Аркадьич тока-тока о вас звонил! — И руку Мишане протянула. Ладошка была жаркая, крепенькая. — Очень рада! Будем знакомы! Аза Францевна меня зовут! — Впилась светло-карими своими глазами в Мишанино лицо, за очки защитные. Да, куда там, за очки! В душу самую рвался любопытный взгляд. — Какой же вы молоденький! И сколько вам лет?
— Восемнадцать, — ответил Мишаня. Хотя восемнадцати ему еще не было. Трех месяцев до восемнадцати не хватало. Он смутился, почувствовал, как предательски покраснели, налились жаром щеки… — Покажите оборудование…
Аза Францевна пропустила Мишаню вперед, в коридор. Дверь своего кабинета закрыла на ключ, на два оборота. И словно там, за дверью, добродушие свое приветливое оставила, крикнула в закуток моечной:
— Я тебе прогул поставлю, Васютина! Слышишь, что говорю?
Хрипловатый голос из моечной ответил:
— Ста-а-авь! Хоть три сразу! Рассчитаюся, сама мыть будешь! — И появилась в дверном проеме худая простоволосая женщина, жидкая челка слиплась на лбу, глаза — два колючих буравчика. Стоит, руки в бока. Фартук клеенчатый по колено.
— Испуга-ала! Цаца какая! А больного ребенка я на кого оставлю?
— У тебя каждый день дети болеют! — поджала полные губы Аза Францевна. Красивое лицо ее скривилось, словно от застарелой зубной боли. Улыбнулась виновато Мишане. — Хамка! Не обращайте внимания! Сюда! Сюда проходите. Здесь у нас горячий цех…
Об этом, впрочем, она могла и не говорить, Мишаня и так догадался. Пахнуло в лицо сытным мясным духом. Вспомнил моментально, что ел последний раз вчера в гостиничном буфете. Да какая там еда? Здесь, в кухне, понаваристей запахи царствовали.
Из бокового помещения, опрятно белевшего кафелем, выплыла женщина. Круглое, под высоким крахмальным колпаком лицо ее лоснилось. Дышала она трудно, с одышкой. Но чинная хозяйственность крепко держалась в ее полном теле.
— Заведующая горячим цехом, Анна Васильевна, — отрекомендовала директриса.
— Она самая… — ответила Анна Васильевна, и в серых, словно высушенных кухонным жаром глазах ее мелькнуло недоверие. — В повара, что ли?
— Механик! По холодильникам! — сжала недовольным сердечком губы Аза Францевна.
Лицо Анны Васильевны словно помолодело. И даже глаза молодо взблеснули. Бывает так — улыбнется пожилой человек, и на мгновение сквозь морщины проглянет другой, молодой, давно отживший.
— Как раз ты, сыночек, вовремя! Как раз вовремя!
— Ко мне дорогу не забывайте! — пропела, кокетливо склонив голову, Аза Францевна и исчезла.
— Идем, идем, сынок! — Анна Васильевна повела Мишаню через подсобку к огромному, застывшему белой глыбой шкафу.
— Вот он, родимый! Десятый день молчит…
Мишаня похлопал ладонью умолкнувший агрегат, вздохнул, впуская в себя начальственного Михаила Петровича, окреп голосом.
— Что здесь хранилось?
— Сметана, сынок! Молоко, творог, маслице! Что покладешь, то и хранилось, — живо ответила Анна Васильевна.
— Масло-молочные продукты, значит? Я-я-я-яс-но! — Мишаня открыл дверцы морозильных камер. Потихоньку-помаленьку возвращалось в душу спокойствие. Чувствовал спиной сдержанное дыхание Анны Васильевны.
— Ты б, сынок, очки снял! А? Чего ж в их видать, в очках?
— Увидим! — ухнуло из кислой пустоты холодильного шкафа. И стук услыхала Анна Васильевна, легкий проверочный, согнутым пальцем.
Не было инструмента у Мишани. Какой уж тут ремонт? Глянул в настороженно ждущее лицо Анны Васильевны, выдохнул устало.
— Компрессор надо ремонтировать!
— Монтируй, монтируй, сынок! — согласно закивала. — Я рази против? Монти-и-ируй! — Она все стояла в сторонке, но вдруг морщинки на лоснящемся лбу сжались, и словно испуг мимолетный мелькнул в ее выцветших глазах.
— Ты это… Может, кушать хочешь? А?
— Нет, я нет! — ответил Мишаня. Но твердой уверенности в голосе не было. Словно защищался. И слабину этой защиты Анна Васильевна почувствовала.
— Хочешь, хочешь! Я виновата, старая! Как же не покушать? Идем, идем, родный…
И повела Мишаню в подсобку. Засуетилась, принесла из кухни тарелку.
— Ешь, сынок! — К жаркому и картофельного пюре не пожалела, навалила парную горку. — Поправляйся, механик!
Угощение поставила на столик у стены, на которой опрятно лоснились в солнечном свете алюминиевые бока многодетного семейства кастрюль, половников, шумовок. И в шкафу, по соседству, светились слюдяным блеском кастрюли, да и сам Мишаня в светозащитных очках отражался в стекле шкафа пока еще необжившимся гостем.
Анна Васильевна примостилась рядышком, с минуту деликатно помолчала, но потом не стерпела:
— С каких же ты краев, сынок, приехал? — Голос у нее был добродушно-доверчивый, и Мишаня вдруг почувствовал, как напряжение, нервная тревога неудачного начала его новой жизни развязалась. Глянул в лицо Анны Васильевны и будто обратно домой вернулся — все рассказал ей, все, о чем вспомнить мог, о доме. Как далеко был этот дом! И как близко казался сейчас…
…В родную Курманаевку из областного центра, где Мишаня учился в техникуме, он приезжал по праздникам. Радость жила в эти дни в сердце Сенцова, победная, щекочущая душу, гордая радость. Там, в техникуме, он был пока еще учащимся, а дома почти что специалист. Непривычно чудной казалась ему в зги дни уважительная почтительность матери, отца, деда Прокопия Семеныча. Даже младший братишка Степка и тот с полдня робел перед пожившим городской жизнью братом. Мишаня с ним особо и не разговаривал, отсыпался. Мать в такие дни вставала рано, тормошила Прокопия Семеныча для экстренной расправы над курицей.
Прокопий Семеныч ворчал:
— Народ пошел, едри твою двадцать… Птицу зарезать и то не могете… — Но, осознавая незаменимость свою в этом ответственном деле, с поручением справлялся быстро. Седоволосый, жилистый, перепоясанный в пояснице шарфом из собачьей шерсти, в застиранных добела галифе, вправленных в грубой вязки носки и новеньких (по случаю приезда внука) галошах, старик был еще крепок. Он присаживался на крыльце, читал газету, дожидаясь, когда проснется Мишаня, и тут же подкатывал к нему с расспросами насчет техникумовской учебы и вообще городской жизни.
Мишаня отвечать не спешил. Оглядывал двор, старую яблоню у кузни и с потайным смущением отмечал, что с каждым его приездом площадь двора все уменьшается и уменьшается. Дом тоже вроде на корточки присел. Крыша с вырезанным из жести петухом на самом коньке, казавшаяся совсем недавно головокружительной высотенью, сделалась ниже, и сарай с кузнечной пристройкой гляделся с перекосом на левый бок, будто кто-то из земной глубины старался вытолкнуть потемневшую от дождей и времени стену.
Деду смущение свое от этих перемен Мишаня не высказывал. Отвечал, что учеба в техникуме проходит вполне нормально.
— Мы сейчас аммиачные установки изучаем. Потом экзамены. Потом фреоновые будем изучать, автоматику. Потом практику пройдем, и защита диплома…
— От кого ж защищать-то будешь? — настораживался Прокопий Семеныч.
— От оппонентов, — важничал внук. (Слово «оппонент» он слышал от старшекурсников.)
Дед крутил головой. Он две войны успел прихватить за свою жизнь, но с оппонентами воевать ему не приходилось.
— Нау-ука! — вздыхал с уважением и папироску доставал из кармана, разминал ее крепкими сухими пальцами, допытывался; — Ну а када, значит, диплом защитишь, кабинет тебе дадут?
— Не знаю, — отвечал Мишаня. — Может, и дадут.
— Мо-ожет! — серчал старик. — Надо точно знать! Какого ж хрена тада учиться?
— Я не для кабинета поступал! — терял солидную представительность внук. — Я аппараты люблю! Понял?
— А ты чего на меня голос свой повышаешь? — вскидывал густые, с рыжинкой брови дед и сжимал жилистый кулак. — Гля-ка! Оттяну-у!
— Не оттянешь! — не поддавался внук. Веснушки на его лице наливались жаром, и в глазах вспыхивал жгучий огонек.
— Оттяну-у! — темнел взглядом старик. — А ну давай руку! Дава-ай! Едри твою двадцать! Хто кого пережмет!
Сухая его ладонь клещастой кузнечной хваткой сжимала Мишанины пальцы. Но он не поддавался.
— И не стыдно вам? Что старый, что малый! Мишаня!
Мать выходила из кухни. Дед робел. Матери он побаивался, садился на порог, оправляя рубаху, газета тряслась в его руках, в глазах, глядевших на внука, тлела упрямая обида. Молчал минут с пяток, вздыхал примирительно.
— Ла-адно! Хрен с им, с кабинетом. А все ж какой чин тебе дадут?
— Да что ты пристал ко мне? — вскидывался Мишаня.
— Не горячи-ись! — крепчал голосом дед. — Я сам горячий! Ишь ты-ы! Я чего спрашиваю? Меня взять. Я всю жизнь у горна простоял. Хто я? Чи-ин! Весь совхоз на моих скобах держится. Это я сичас — читатель…
— Ну и читай себе! Просвещайся! — отвечал Мишаня и выходил на улицу, шел к мастерским, где работал отец. По дороге успокаивался, досадовал за пустячную свою обиду на деда. Зря, конечно, погорячился. Что верно, то верно, в своем понимании дед, конечно, был чином. Соседские дома с резными наличниками окон красовались обочь дороги. И стены этих домов держались на дедовых скобах. Да разве скобы одни делал старик? А щеколды на калитках, а тяпки, а топоры, вся утварь хозяйская, что человеку нужна для жизни, — все его работа, Прокопия Семеныча. Собака где залает яростно во дворе, и цепь для такой собаки мог выковать старик в кузне. Помнил, крепко помнил Мишаня сердцем эти времена — запах паленого дерева, кислый дымок углей, жар горячей окалины и звонкоголосый стук молотков о наковальню. Яблоня в ту пору была еще молодой, живым рабочим теплом дышала кузня во дворе. Дед с отцом работали вместе. А когда Мишаня пошел в седьмой класс, Прокопию Семенычу совхоз определил пенсию, и отец стал работать в совхозных мастерских. Там поставили пневматический молот, и горн был пошире, чем в домашней кузне, а тягу углям поддувала электрическая сила. Поначалу Мишаня все никак не мог привыкнуть к утренней тишине во дворе, но в мастерскую в дни приездов из техникума наведываться любил, поглядывал с ревностью, как работает отец, и всякий раз дивился — все казалось, что отец чуток побаивается молота. Лицо его во время работы становилось чудным — выхватит клещами из горна пышущую жаром заготовку, несет к наковальне. А в лице не то испуг, не то удивление, не то восторг, мальчишеский, несолидный. Губы растягиваются, а потом вдруг в трубочку вытянутся. «Фу-фу!» — отдувается, словно на чай горячий дует. Ногой педаль нажмет, и мертвым бухом упадет на наковальню первый тяжелый удар. А потом, глядишь, через секунду-другую разогреется молот. «Чах-чах!» — посапывает от усердия. И удары резкие, точные. Ноги у отца широко расставлены, словно в землю вросли, лопатки выпирают на крепкой спине. Знай себе вертит заготовку и так и этак. В прищуренных, с белесыми ресницами глазах светится красный отблеск металла, зубы стиснуты, морщины кривят лицо, словно боль от крепких ударов молота телом чувствует. А Мишаню увидит, выключит молот, лицо станет обычным, насупленным и усталым. Но радость в глазах, в крапинках серых зрачков светится. Непривычная для Мишани радость, смущенная какая-то.
— Приехал, значит? Добро-о! — Ладонь отцовская, распаренная работой, крепко жала Мишанину. Пахло от отца потом, жженым металлом, родной жаркой силой. Он снимал фартук и, если время поспевало к обеду, шел домой с сыном вместе.
С расспросами о техникумовской учебе не приставал. Сдержанно дотрагиваясь кончиками пальцев к кепке/здоровался с соседями. По случаю приезда сына сворачивал в магазин, выходил с оттопыренным нагрудным карманом. Но не для Мишани это было угощение. Он хоть и в техникуме учится, а на равных со взрослыми ему в этом деле пробовать свои силы рановато — пользы не будет. Отец с дедом угощался за здоровье Мишанино.
Мишаня в соучастники не напрашивался, в своих грелся мечтаниях. Чужаком, горожанином себя чувствовал, почти вольной птицей. Знать вот только не знал, что вдалеке вспомнит о доме, с любовью вспомнит. И сам себе удивится, что любовь эта живет в сердце с самого рождения…
— А матушка как? Не горевала, што так далеко едешь? — спросила Анна Васильевна.
— Было дело… — сознался Мишаня. — У меня направление, я отработать должен. А она все думает, что мне пять лет…
— Ну а ты как хотел? На то она и мать. Для матери ты что старый, что малый, а все дите. Так, так, сынок! — Анна Васильевна чуток помолчала, вздохнула виновато: — Нам вот детей бог не дал… — И будто бы еще что-то добавить хотела, свое, сокровенное, но глянула на Мишанину тарелку, спохватилась: — Давай-ка я мясца подложу! Не стесняйсь… У моей суседки тожить сынок в студентах учился. Уже и не помню на кого… В общем, тее, что поля орошают…
— Гидромелиораторы, что ли? — высказал осведомленность Мишаня.
— А бох его знает? Может, и так… И што я хочу тебе сказать. Он когда на каникулы приехал, я его сперва и не узнала… Худющий! Не дай господь… И что это за учеба такая, соки с человека тянут? А может, это сичас так стало? Я сама, сынок, до войны училася. А по кухням с малолетства. До войны, оно как было? В основном порционные блюда былй ходовые. А сичас порционного тебе никто и есть не станет, фирменное подавай! И гарнир фигурами… Так оно, сынок, идет-катится… Давай подложу! Давай!
— Да я наелся, спасибо! — Мишаня отодвинул тарелку. И жить на свете вроде легче стало. Неловкость и смущение уже не томили душу. Легко было на душе от участливого радушия Анны Васильевны. Вот как оно в жизни бывает, какой-то час назад и подумать бы не мог, что живет такой человек в Ачурах, и будто бы думал о нем всегда, что есть такой Мишаня Сенцов, с материнской заботой о нем думал.
Анна Васильевна убрала тарелку со стола и уже намерилась принести гостю компоту, но вдруг замерла у дверей, словно споткнулась.
На пороге подсобки, прислонившись к дверному косяку, стоял высокий мужчина. Бросился в Мишанины глаза сперва щегольской его костюм в серую клетку, новехонький, будто только-только из магазина. Белый воротничок рубашки был выпущен поверх пиджака, отчего лицо незнакомца, остроносое и без того смуглое, казалось еще смуглее. Голову он держал склоненной набок, черные волнистые волосы вились завитками у висков, стрелочки усиков топорщились в деликатном внимании. И только глаза, прищуренные, жгуче-черные, глядели на Мишаню с усмешкой, словно знали его давным-давно.
— Напугал! Будь ты неладный! — опамятовалась Анна Васильевна.
— А чего меня пугаться? Я не госконтроль, — усмехнулся незнакомец.
Анна Васильевна поначалу не нашлась, что ответить. Но все ее дородное тело будто подобралось. И хлебосольное радушие, улыбка благодушная пропали невесть куда. Глядела на гостя с настороженным напряжением.
— Холодильник когда наладишь? Скока обещать можно?
— Нала-адим! Не кричи! — устало поморщился обладатель щегольского костюма и подсел к Мишане. — С женщинами, главное, не спорить! Как ты считаешь? — протянул смуглую узкую ладонь с перстеньком на мизинце: — Филецкий Александр Трофимыч. Для друзей просто Саша!
— Михаил… Сенцов Михаил… — отрекомендовался Мишаня.
— Приятно, приятно! — кивнул Филецкий. И глаза его черные все вглядывались в Мишанино лицо. Сквозь очки свои защитные чувствовал на себе Мишаня этот взгляд.
Филецкий распорядился насчет компота и на свою долю и, не вникая в ворчание Анны Васильевны, подмигнул:
— Злится! А зря-я! Агрегат ведь по ее вине молчит…
Мишаня насторожился и взял Анну Васильевну под свою защитную ответственность:
— Это почему по ее? Не по ее! Там что-то с компрессором!
— Компрессор, товарищ главный механик, в полном ажуре! — усмехнулся Филецкий.
Мишаня смутился. Осведомленность нового знакомого в поломке холодильного агрегата на кухне ресторана, знание им должности Сенцова — все это казалось странным.
Мишаня вопросительно глянул на Филецкого, но тот уже улыбался, словно обнять хотел невидимо.
— А вот очки тебя, братец, не спаса-а-а-ают! Кто это тебя так?
Мишаня потупил голову.
— По имени не знаю… В лицо запомнил!
— Это хорошо, что запомнил! — сказал Филецкий, и на мгновение смешливая снисходительность слетела с его лица. — Ниче-е-е! Найдем обидчика! Я их всех как облупленных знаю! Идем агрегат посмотрим…
На кухне, у холодильного шкафа, Филецкий не спеша, как хирург перед операцией, снял пиджак, закатал по локоть рукава рубашки (углядел Мишаня вытатуированное «Саша» на запястье левой руки), открыл увесистый фибровый чемоданчик. И глянула оттуда на Сенцова невиданная роскошь инструментального царства: ключи, отвертки, матовая лампочка-контролька, сизо-черный баллончик с фреоном — дозатор и еще ключи, отверточки в уютных брезентовых домишках-чехольчиках. Руки Филецкого не глядя, отыскивали нужный инструмент. Насвистывая что-то очень знакомое, бездумно-легкое, заглянул в морозильную камеру.
— Васильевна! А ну иди сюда! — крикнул в разморенную кухонную духоту.
— И чего орешь? — отозвалась Анна Васильевна, но пришла быстро.
— Чего, чего! — передразнил устало Филецкий. — Когда разморозку делали?
— На прошлой неделе…
Филецкий подмигнул Мишане:
— А кто ж тебя учил, почтенная Анна Васильевна, ножом лед с испарителя скалывать?
— Откуда скалывать? — окрепла голосом Анна Васильевна. — Не знаю я ничего…
— Не знает она! — горестно усмехнулся Филецкий. — Видишь, сверху трубочка проходит?
— Капиллярная, — подсказал Мишаня. Он уже догадался о причине поломки, глянул в лицо Анны Васильевны, понял ее оплошность и почувствовал свою вину перед Филецким, будто сам эту трубку капиллярную срезал.
— Точно! Капиллярная! — подтвердил Филецкий. — Вот ты ей горлышко и перерезала…
— Ничего я не перерезала! — защищалась Анна Васильевна.
— Ладно, ладно, — донесся из холодильной камеры гулкий голос Филецкого. Слышалось оттуда Мишане частое дыхание, глядел, как крепкие смуглые пальцы, будто играючи, постукивают ключами, и отметил про себя, что человек этот хотя и нахрапистый с виду, но мастер. Тут ничего не скажешь.
Филецкий окончил ремонт, собрал ключи, улыбнулся Мишане.
— Вот и все! Пойдем, что ли, на воздух, товарищ механик?!
— Это куда ты его кличешь? — насторожилась Анна Васильевна. — Ты что это за командир над им такой?!
— Та не кипяти-ись! — сморщил губы Филецкий. — При чем здесь командир? Что ему тут у тебя делать? Агрегат работает? Работает! Ну и порядок! Верно говорю?!
Все верно. Нечем было возразить Мишане.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ