 Тайна горы Муг
Послесловие
Тайна горы Муг
Послесловие
 Ы СПРАШИВАЕТЕ, какую память оставили по себе древние согдийцы. Разве вы не знаете о чудесных находках на горе Муг?[29] Вы не слыхали о раскопках древнего Пянджикента у источника Кайнарсу?
Ы СПРАШИВАЕТЕ, какую память оставили по себе древние согдийцы. Разве вы не знаете о чудесных находках на горе Муг?[29] Вы не слыхали о раскопках древнего Пянджикента у источника Кайнарсу?
Кайнарсу — кипящая вода. Так тюрки назвали бьющий из земли ключ с водой чистой и прозрачной, как слеза. Источник назван кипящим не потому, что он горячий, а потому, что он стремительно вырывается из гранитных оков и словно закипает в причудливом кружении. Это очень древний и очень щедрый источник. Больше двенадцати веков назад к прохладным водам Кайнарсу приходили жители древнего Пянджикента. Это они построили город в долине Зеравшана. В ту пору Зеравшан назывался рекой Согд, а земли в долине Зеравшана, от Пянджикента до Кермине, а также земли Самарканда были подвластны царям Согдианы.
Прошли долгие века, по-прежнему бьет из-под земли прохладный источник, но там, где прежде высился древний город, стоят руины. Эти руины похожи на легенду, и, как легенда, они рассказывают о жизни древнего народа. Здесь жили предки таджиков — древние согдийцы.
В те далекие времена бьющий из-под земли ключ считался священным, и люди приходили к нему с молитвами и жертвоприношениями. Пянджикент назывался тогда Панчем. Он славился своими дворцами и храмами, был знаменит искусными ремесленниками, живописцами, музыкантами и купцами.
По старым торговым путям, соединяющим столицу Согдианы, Самарканд, с горными селениями страны, купцы вели караваны. Они шли из далекого Китая, из Индии и Византии, пробираясь по горным тропам, через висячие мосты в согдийские селения, раскинутые в верховьях реки Зеравшана. Ни один караван не мог миновать Панча, стоявшего на этом пути.

Печать на согдийском документе.
Если вам представится случай побывать на раскопках древнего Пянджикента, поднимитесь к руинам древней крепости. Ее мощные стены высоко подняты к синему небу. Отсюда хорошо видны развалины дворцов и храмов, занесенные песками. Трудно поверить, что эти песчаные бугры скрывают загадку далекой древности. Здесь работают археологи. Они уже многое раскопали. И развалины древних жилищ, подобно страницам летописи, рассказали им о жизни забытого города.
Теперь уже весь Таджикистан знает о раскопках древнего Пянджикента, а лет пятнадцать назад о существовании древнего города не подозревали даже жители современного Пянджикента, который находится рядом, в полутора километрах. Да и кто бы мог подумать, что бесформенные, оплывшие холмы хранят какую-то тайну. Однако зоркий глаз археолога усмотрел закономерность в их расположении и форме. Позднее, когда начались раскопки, ученые убедились в том, что холмы представляют собой занесенные песками древние жилища.
Но почему археологам пришла в голову мысль, что вблизи Пянджикента существует древний город.
В горах Зеравшанского хребта есть гора под названием «Кала-и-Муг». По-таджикски это означает «Замок мугов» — замок жрецов, магов. Лишенная растительности, гора Муг высится над бурными водами Зеравшана серой и мрачной громадой. С давних пор в народе жили легенды о том, что на ее вершине бродят злые духи, принимающие облик диких животных. Не всякий решался подняться туда.

Бронзовый колокольчик.
Случилось так, что пастух Джур Али Махмад Али из кишлака Хайрабад пас овец у подножия горы Муг. Овцы забрались на вершину. В погоне за ними пастух наткнулся на торчащие из земли ивовые прутья.
«Здесь ива не растет, откуда прутья?» — подумал пастух. Прутья крепко сидели в земле. Пришлось воспользоваться ножом. Оказалось, что это целая корзинка. На дне ее лежало письмо. Джур Али стал внимательно рассматривать непонятные буквы, начертанные черной тушью. Ему никогда прежде не приходилось видеть таких странных знаков, да и бумага была необычная — шелковистая, светло-серая.

Согдийская монета.
Загадочное письмо заинтересовало пастуха. Чтобы прочесть его, он предпринял дальнее путешествие в районный центр. Вскоре корзинка с таинственным письмом была доставлена в райком партии.
— О, это очень древнее письмо! — воскликнул секретарь райкома товарищ Пулоди. — Может быть, это память о наших предках? Мы отошлем это письмо ученым.

Золотая серьга.
Товарищ Пулоди сообщил об удивительной находке ученым в Сталинабад, а оттуда телеграммы полетели в Москву и Ленинград, к востоковедам изучающим историю древней Согдианы.
В Москве решался вопрос об экспедиции, но товарищ Пулоди не стал дожидаться ученых. Вместе с жителями Хайрабада он предпринял раскопки на горе Муг, и вскоре Академия наук в Москве получила сообщение, что найдены рукописи на палках, на кожах и на старинной китайской бумаге. Эти рукописи были обнаружены среди развалин древней крепости.

Согдийская рукопись на коже.
Осенью 1933 года на гору Муг прибыла археологическая экспедиция Академии наук. Ее возглавил член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Фрейман.
Стояла поздняя дождливая осень. Работать на раскопках было очень трудно. Однако интерес, вызванный первыми находками, был так велик, что никто из участников экспедиции ни за что не согласился бы отложить работу до будущего года. Ученые с большим интересом ждали результатов исследований. Их манила перспектива найти согдийские рукописи. Дело в том, что имеющиеся у советских ученых согдийские письма были найдены в Синьцзяне (Западный Китай), а на территории самой Согдианы никогда прежде не находили согдийских документов. Находка на горе Муг могла бы помочь ученым наметить пути дальнейших исследований. К тому же развалины крепости могли сохранить и другие ценности, связанные с историей древней Согдианы.
Так и случилось. Настал день, когда участники экспедиции смогли послать в Москву радостные вести. На горе Муг, в древней крепости Абаргар, был найден целый архив согдийских документов.
Если прежде ученые мечтали найти хоть одно согдийское письмо на землях Согдианы, то сейчас в их распоряжении было восемьдесят документов: на палках, на кожах, на шелковой и хлопчатой бумаге. Словно посланные кем-то из глубины веков, эти письма о многом рассказали ученым. Они узнали неизвестные прежде согдийские слова, познакомились с документами, характеризующими культурную, политическую и хозяйственную жизнь давних времен. Тут и доказательства культурных и торговых связей с Китаем. Вместе с согдийскими письмами были найдены китайские и арабские письма.

Остатки деревянного щита, обтянутого кожей.
Находки превзошли самые смелые ожидания археологов. Крепость на горе Муг, сожженная при арабском завоевании более двенадцати веков назад, под обломками стен и щебня хранила бесценные сокровища для науки.
Вместе с древними рукописями здесь были найдены разнообразные памятники культуры, которые рассказали ученым о мастерстве строителей, об искусстве художников, о резчиках по дереву, о ювелирах и оружейниках.
Перед нами превосходные изделия согдийских ткачей. Шелковые, шерстяные и хлопковые ткани так разнообразны и красивы, что и сейчас, через долгие столетия, вызывают удивление. Можно представить себе радость ученых, когда они нашли обрывки шелков, такие же яркие и красочные, какие им приходилось видеть среди лучших образцов тканей древнего Ирана, Китая и Византии. Согдийские шелкоделы умели ткать превосходные узорчатые атласы. Как хороша синяя ткань с золотыми звездами! С каким вкусом сделан пурпурный шелк, а зеленый атлас с узором!

Перстень.
Девять сортов шелка. Но есть среди них и китайские шелка с характерным для китайских шелкоделов рисунком. Вот еще одно доказательство того, что согдийцы вели торговлю с Китаем.
А что шили из этих шелков? И на этот вопрос ученые получили ответ. Сохранился небольшой кусок ватною стеганого халата из синего шелка.

Гребни.
Нетрудно представить себе теплую одежду знатного господина. Из таких же шелков были сделаны одеяла, шаровары и рубахи. Это для знатных. А вот куски грубой хлопковой ткани. Не из нее ли были сделаны халаты землепашцев и ремесленников? Но есть тут хлопковая ткань, напоминающая современный батист. Вероятно, из нее шили белые праздничные платья для девушек горных селении. В этих легких, прозрачных платьях они ходили в храм огня с ветками цветущего миндаля.

Деревянное основание колонны.
Очень разнообразны изделия из кожи и шерсти. Жители горных селений имели великолепные пастбища. Обилие скота давало им достаточное количество сырья, чтобы выделывать самые разнообразные вещи из кожи и шерсти. Вот мягкая обувь, напоминающая ту, которую и сейчас носят горные таджики.

Согдийские тростниковые стрелы.
Вот деревянный поднос, обшитый кожей, рядом ларчик, обтянутый темно-зеленой кожей с розеткой из сусального золота. Ремни, нитки из сухожилий, войлок, ивовые корзинки и подносы в кожаных чехлах, бурдюки, гончарные изделия и многие другие предметы домашнего обихода говорят о мастерстве ремесленников древности.
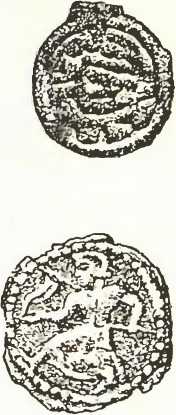
Согдийские монеты.
Особое внимание ученых привлек деревянный щит, обтянутый кожей с изображением согдийского всадника. Знатный господин в богатой одежде с коротким боевым ножом, с луком и колчаном мчится на красивой, нарядно убранной лошади. Густая грива отливает темной зеленью. Голова лошади увенчана шарообразным украшением на стержне. Седло с высокой лукой покрыто чепраком. В левой руке всадник держит булаву, правой поддерживает уздечку породистого коня. Щит сломан, и потому не видно головы всадника. Но и та часть щита, которая сохранилась, позволила историкам сделать интересные выводы. Они вспомнили изображения на росписях в буддийских монастырях далекого Синьцзяна. Там есть такие же изображения. И характер рисунка, и вооружение воинов имеют необыкновенное сходство. Но что может быть общего между согдийскими живописцами, которые выполняли заказы знатных землевладельцев, и живописцами далекого Китая? Какая может быть между ними связь?
Оказывается, существовала давняя и большая связь.
Еще в V веке многие согдийцы селились в районах, расположенных на караванном пути из Согдианы в Китай. В Семиречье, в долине Тарима, в Ак-Су и Синьцзяне можно было встретить поселения древних согдийцев.

Глиняная погремушка.
Искусные ремесленники, земледельцы и торговцы принесли с собой древнюю культуру, которая оказала влияние и на местные искусства. Одни согдийцы оставили веру своих отцов и стали буддистами, другие сохранили свои обычаи и верования, и, живя вдали от родных мест, они не забыли своего искусства. Вот почему так много общего в росписях буддийских храмов Синьцзяна с живописью согдийцев. Сломанный щит согдийского воина поведал ученым о своеобразном вооружении согдийцев.
Кому же принадлежала крепость на горе Муг? Кто пользовался деревянным щитом? Чей же это архив согдийских писем?
С нетерпением ждал прибытия архива, найденного на горе Муг, всемирно известный арабист, академик И. Ю. Крачковский. До него дошли вести о том, что среди находок есть арабская рукопись, написанная на коже. Что это за рукопись? О чем она расскажет? Ведь было известно, что во всем мире найдено только шесть арабских рукописей на коже.

Глиняные светильники.
Наконец-то экспедиций вернулась в Ленинград. Вот они, полуистлевшие кусочки кожи, изъеденные червями. Больше тысячи лет пролежали они в земле. Какую тайну хранят эти едва заметные знаки древнего алфавита? Этот вопрос занимал многих ученых. С интересом принялись они за изучение согдийских писем.
Академик И. Ю. Крачковский, на долю которого досталось прочесть самый загадочный документ архива — арабское письмо, был тяжело болен. Врачи запретили ему подниматься с постели. Но как можно оставаться дома, когда тебя ждет такой увлекательный труд! Ведь это письмо может стать ключом к разгадке многих вопросов, возникших в связи с находками в крепости Муг! Несмотря на тяжкий недуг, больной академик спешит в институт.

Железный наконечник стрелы.
Осторожно берет он в руки кусочек кожи с арабскими письменами. Что это: молитва из корана или письмо давно забытого человека? Нелегко его прочесть: ведь на коже сохранились только обрывки строк. Исчезли целые слова, а в иных строчках стерты многие буквы. С большим трудом академик И. Ю. Крачковский прочитывает первую строку:
«…во имя Аллаха…», а дальше какое-то непонятное слово «Дивасти». Не имя ли это? Ученому неизвестно такое имя. Но и слова такого он никогда не встречал в арабских рукописях, хотя прочел тысячи древних текстов.

Костяная рукоятка меча.
Но если это имя, то, вероятно, оно принадлежало человеку знатному Иначе, почему бы этот Дивасти обращался к арабскому наместнику? Однако такого имени академик никогда не встречал в исторических материалах, связанных с Согдианой. Тем интереснее и заманчивее узнать, кому оно принадлежит.
«Кто же этот Дивасти?» — с таким вопросом академик обратился к востоковедам, которые были заняты изучением согдийского архива. Но никто из них никогда не встречал этого имени.
Долгие дни и бесконечные часы листает академик толстые фолианты арабских летописей. Нужно прочесть множество текстов, чтобы выяснить загадку арабского письма. Первая же строка оказалась такой таинственной, что же будет дальше?
И вдруг, как молния, блеснула мысль: «А летопись ат-Табари!» Писавший по-арабски историк ат-Табари немало страниц посвятил древней Согдиане. Ах, если бы найти хоть строчку, где упоминается это имя.
В Институте востоковедения к услугам академика все двенадцать томов летописца ат-Табари. Здесь есть целые главы, посвященные истории Согдианы. Старый историк тщательно заносил в свою летопись все события, связанные с приходом арабов в Среднюю Азию. Он рассказывал о том, как они завоевывали города, как проповедовали ислам, как строили мечети вместо храмов огня и как разумно использовали для процветания халифата искусных ремесленников, а также людей науки, прославленных в своем отечестве. О Согдиане написано много, но нигде не встречается имя Дивасти.
— Этого не может быть! — восклицает ученый. — Надо терпеливо искать!..

Бронзовая ручка.
Проходят дни. Ат-Табари о многом поведал пытливому ученому. Но все же по-прежнему остается загадочным имя согдийца. Почему согдийца? Да потому, что такого имени не может быть у араба. К тому же письмо найдено в согдийской крепости. Надо искать. Как только будет разгадано это имя, сразу обретут смысл и остальные строки письма.
Как-то ранним зимним утром тихая, уединенная библиотека огласилась радостным возгласом старого академика:
— Есть Дивасти! — Счастливая улыбка озарила усталое лицо ученого, — Посмотрите, — обратился он к библиотекарю, — как и следовало ожидать, ат-Табари упоминает это имя.
В рассказе ал-Мадаини он пишет:
«…и ушел Дивасти с людьми Бунджикента в крепость Абаргар, а Карзандж и люди Согда прибыли в Ходжент…».
И далее много страниц, рассказывающих о пянджикентском владетеле Дивасти.
— Вот оно что! Значит, Дивасти был владетелем Пянджикента! Возможно, что ему принадлежала крепость на горе Муг? Но это станет известно позднее. Сейчас нужно прочесть до конца арабское письмо. Ведь первая строка уже дала немало ценных сведений.

Голова из ганча.
Дни проходят в напряженном труде. Академик И. Ю Крачковский прочитывает каждую букву таинственного письма. Были восстановлены даже те слова, которые имели лишь начальные буквы.
Пянджикентский владетель Дивасти (Диваштич) писал арабскому наместнику Мавераннахра ал-Джараху ибн Абдаллаху, правившему в 717–719 годах.
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного, эмиру ал-Джараху сыну Абдаллаха, от клиента его Дивасти. Мир над тобой, о эмир, и милость Аллаха. Я восхваляю тебе Аллаха, кроме коего нет божества…
А затем, да направит Аллах эмира и сохранит его, я… эмиру мою нужду и нужду обоих сыновей Тархуна… Ведь эмир, да сохранит его Аллах, вспомнил добром сыновей Тархуна. И если эмир соизволит принять решение (и написать) Сулейману сыну Абу-с-Сари, чтобы он отправил их обоих (к эмиру), то пусть сделает. Или эмир прикажет ему одну лошадь из почтовых, и я отправлю на ней своего слугу, чтобы он доставил их обоих эмиру. Ведь Аллах сделал сан эмира для семьи… помощь и милость, а прошу я у Аллаха для… и мир над тобой, о эмир, и милость Аллаха…».
Письмо Диваштича позволило ученым точно определить время существования крепости на горе Муг. Эта крепость была уничтожена в 721 году, когда воины наместника халифа подчинили арабскому халифату Панч. Многие города Согдианы были покорены значительно раньше. Еще за десять лет до Панча воины халифа овладели Самаркандом; точно так же были покорены Бухара и другие города. Многие города Мавераннахра пытались отстаивать свою независимость, но противник был намного сильнее, с ним было трудно бороться.
Отважные согдийцы самоотверженно боролись за свою свободу и независимость В историю таджикского народа вписано немало славных страниц, сохранивших для потомков память о героях Согдианы. Одним из таких героев был и пянджикентский афшин Диваштич, возглавивший уход пянджикентцев в горы.
Историк ат-Табари сообщает, что самаркандцы, не желая выполнять приказов наместника Хорасана Саида ал-Хараши и не имея возможности поднять восстание, решили покинуть свой город и уйти в Ходжент. Там они хотели просить защиты у местного правителя и надеялись получить земли для поселения.
Самаркандским царем в ту пору был Гурек, перешедший на сторону халифата. Он уговаривал самаркандцев подчиниться и ждать лучших времен. Но самаркандцы не послушались советов Гурека и покинули свой город. К ним присоединились люди многих городов Согдианы.
Ат-Табари пишет:
«Пришли и люди Сабаската в составе тысячи человек. На них на всех были золотые пояса. Пришли также дихканы Базманджана.
Все эти отряды, численность которых трудно определить, направились к Ходженту. Они отправили царю посланца, прося поселить их в городе и оказать им покровительство».

Головка бычка (часть сосуда).
Как говорит летопись, ходжентский царь ат-Тар обещал предоставить беглецам ущелье Исама, вблизи Асфары, но сам он готовил предательство. Он послал сына к арабскому наместнику ал-Хараши с сообщением, что можно захватить согдийцев, пришедших в Ходжент.
Тем временем Саид ал-Хараши начал осаду Ходжента. Сначала он разоружил согдийцев, предложив приемлемые условия мира, а затем приказал всех их перебить. По словам ат-Табари:
«…тогда погибли и знать, и военные слуги, и простой народ. Пощадили только четыреста купцов, недавно вернувшихся из дальних стран». Особенно много погибло земледельцев.
Следуя примеру самаркандцев, увел своих людей в горы и афшин Пянджикента — Диваштич. Ат-Табари именует его ат-Дивашт. В летописи упоминается крепость Абаргар, это и есть крепость на горе Муг.
Против пянджикентцев, которые пошли с Диваштичем, Саид ал-Хараши отправил войско во главе с принявшим ислам согдийцем Сулейманом ибн Абу-с-Сари. Его верность халифату и беспощадность к согдийцам были хорошо известны ал-Хараши. В составе войска, посланного против Диваштича, были также отряды бухар-худата Шаукара ибн Хамука. Старшему военачальнику ал-Мусейябу было поручено окружить пянджикентцев.
В пяти километрах от крепости, в теснине, у селения Кум, ал-Мусейяб встретился с отрядом Диваштича и разбил его. Остатки отряда вместе с афшином Диваштичем вернулись в крепость на горе Муг, но их преследовали воины ал-Мусейяба. И после длительной осады крепости Диваштич решил сдаться на милость победителя. По его просьбе он был отправлен к Саиду ал-Хараши. Наместник с почетом принял пленного афшина. Он обещал сохранить ему жизнь и позаботиться о его близких, но через несколько дней, по распоряжению Саида ал-Хараши, Диваштич был распят на древней гробнице по дороге из Кеша в Арбинджан. Согласно обычаю победителен, Саид ал-Хараши отослал голову афшина в Ирак а левую руку — Сулейману ибн Абу-с-Сари.

Бронзовое украшение.
Ат-Табари рассказывает о том, что после взятия крепости Абаргар пянджикентцы просили лишь сохранить жизнь ста семьям, которые нашли укрытие на горе Муг, богатства свои они оставили победителям. Узнав об этом, Саид ал-Хараши послал в Абаргар своих людей для приема и дележа добычи; одну пятую часть добычи Сулейман ибн Абу-с-Сари взял как долю халифа, остальное разделил между воинами.
После трагической гибели Диваштича и близких ему людей жизнь в крепости на горе Муг никогда уже не возрождалась.

Кольцо.
Арабское письмо на коже подсказало ученым, кому принадлежала крепость Абаргар, а главное, оно заставило их призадуматься над тем, где же был город Панч, которым правил Диваштич. Несомненно, должны были существовать развалины этого города, покинутого древними пянджикентцами в дни арабского завоевания. Вот почему внимание ученых привлекли занесенные песками холмы вблизи Пянджикента.
Раскопки были поручены Согдийско-Таджикской экспедиции Академии паук СССР. Экспедицию возглавил член-корреспондент Академии наук СССР Александр Юрьевич Якубовский.
На протяжении многих лет археологи вели раскопки древнего города на Зеравшане.

Золотая бляшка.
Вот обширная площадь окруженная храмами. В просторных залах, где когда-то возносились благовонные курения в честь древних божеств, сохранились остатки красочной росписи стен. Здесь были запечатлены великолепные мифы согдийцев, их обряды и сцены жертвоприношения. На росписях ученые увидели изображения древних жителей Согдианы, их одежду, утварь, убранство жилищ. О многом рассказали фрески древних художников. Вряд ли какая-либо летопись современника могла бы сохранить столь подробные описания нарядной парчовой одежды знатных согдийцев, пестрых ковров, золотых чаш, оружия, отделанного тончайшей чеканкой.
А вот еще одно помещение, это тоже храм. В одной из комнат, где сохранилась ниша для статуи, было найдено большое количество бус, необычайной величины. Они были сделаны из самых разнообразных материалов: из янтаря, кораллов, сердолика, горного хрусталя, лазурита, бирюзы, речного жемчуга, альмандина, агата и оникса. Все эти большие, тяжелые бусы не могли быть предметом украшения согдийской женщины, они, несомненно, украшали статую богини. Но откуда взялись в Согдиане бусы из кораллов, янтаря, агата, оникса и альмандина? Ведь в Согдиане нет ни янтаря, ни кораллов! А разве их не могли доставить купцы, ведущие торговлю со странами Средиземноморья?
Раскопки вскрыли одноэтажные и двухэтажные дома из сырцового кирпича. Древние строители умели сооружать превосходные жилые дома с большим количеством комнат, дворцы, храмы и крепости.

Орнамент росписи ниши.
Найденные среди развалин трубы из обожженной глины подтверждают, что в городе был водопровод, который подавал воду из древнего канала.
Археологам, работающим на раскопках древнего Пянджикента, выпала большая удача. Почти во всех вскрытых помещениях они находили монеты, которые позволили точно определить, когда существовал город. Более четырехсот монет было найдено среди развалин дворцов и храмов. Тут и согдийские монеты второй половины VII века, принадлежавшие царю Вахшуману, тут и монеты более позднего времени, когда правил ихшид Тургак, сын умершего в 737 году Гурека. Найдены и арабские монеты начала VIII века. Изучение этих находок позволило установить, что жизнь в городе прекратилась вскоре после арабского завоевания, в VIII веке.
Александр Юрьевич Якубовский более двадцати лет занимался археологическими раскопками в Средней Азии. Раскрытые им памятники древней культуры помогли намного обогатить историческую науку. Но, пожалуй, ни одна из его экспедиций не принесла такого полного и интересного материала о культуре древнего народа, какой был собран во время раскопок древнего Пянджикента. К работе в экспедиции были привлечены и молодые археологи, недавно закончившие институт, и опытные исследователи, среди которых был большой знаток искусства народов Средней Азии, доктор исторических наук Михаил Михайлович Дьяконов. С подлинным энтузиазмом вел он раскопки, которые дали много ценных открытий.
Как-то, раскапывая одно из помещений большого согдийского храма, археологи обратили внимание на следы красочной росписи, покрывающей стены, ниши и панели. Когда стены были тщательно расчищены и освобождены от завалов, ученые увидели великолепные фрески, которые поразили их своей яркостью и высоким художественным мастерством.
На желтом ковре, вытканном темными цветами, сидело два знатных согдийца в нарядных, узорчатых одеждах. Их тонкие талии перетянуты золотыми поясами, в руках ветки цветущего миндаля и золотые чаши. Лица их уничтожены, сохранились лишь черные вьющиеся волосы и белые головные уборы.
Такого же характера росписи оказались и на других стенах этого здания. В другом месте изображено несколько богатых согдийцев в парчовых одеждах с золотыми поясами. Сцены пиршества знатных людей в богатой одежде с золотыми чашами в руках неоднократно повторялись в различных вариациях. Руководитель экспедиции Александр Юрьевич Якубовский высказал предположение, что это ритуальное пиршество и связано оно с празднованием Нового года. Новый год у согдийцев был праздником весны, возрождения природы и отмечался цветами и плодами.

Фрагмент росписи древнего Пянджикента.
Очень хороша сцена, передающая легенду о Сиявахше — священном отроке, которого почитали согдийцы. Под ребристым красным куполом в просвете арок покоится тело Сиявахша. Под арками стоят плакальщицы. Они рвут на себе волосы, выражая свою скорбь. Ниже расположена группа мужчин и женщин, которые в знак печали надрезают мочки ушей. Здесь и согдийцы и тюрки, лица их мастерски изображены древним художником. Картина эта, исполненная в темно-красных, коричневых, черных и белых красках, сделана со вкусом. Талантливый художник древности сумел с большим мастерством передать скорбь, охватившую людей. Откуда же узнали, что это Сиявахш?
Сопоставляя эту картину с текстами древних авторов, ученые пришли к выводу, что «сцена оплакивания», как ее назвали археологи, изображает миф о Сиявахше. Вот что записал китайский путешественник VII века Вей Цзе, побывавший в Самарканде:
«Они (жители Самарканда) поклоняются небесному богу и в высшей степени его почитают. Они говорят, что божественное дитя умерло в седьмом месяце и что кости его потеряны. Служители бога, когда наступает этот месяц надевают черные одежды со складками. Они ходят босиком, ударяют себя в грудь и плачут, и на лицах их мокрота сливается со слезами. Мужчины и женщины расходятся, чтобы искать тело божественного ребенка. На седьмой день обряд приходит к концу».
Тексты древних авторов подтверждают мнение ученых, что сцена оплакивания изображает один из религиозных ритуалов, которые имели место у согдийцев.

Тюрки. С росписей древнего Пянджикента.
Очень разнообразны и красивы росписи, найденные в домах знатных согдийцев. Вот красавица арфистка в прозрачном одеянии, с золотой арфой в руках. Изящным жестом она касается тонких струн, и кажется, что слышен их нежный звук. Вот скачут на конях два всадника: молодая согдианка с длинными косами и мужчина в одежде знатного господина.
Вот пиршество каких-то иноземных гостей. Их бледные лица, слегка раскосые глаза и своеобразная одежда резко отличают их от согдийцев. Рядом с ними афшин — в короне, в парчовом одеянии, с дорогим оружием на поясе. Ему подают угощение на золотых блюдах.
А вот живописная сцена жертвоприношения. Перед высоким металлическим жертвенником стоит на коленях жрец в богатой одежде, с ножом у пояса. В левой руке он держит золотую чашу, а правой бросает что-то в пламя жертвенника. Позади него видны мужские фигуры с золотыми чашами. Одни стоят на коленях, другие низко склонились. Великолепные фрески вызывают восхищение современных художников.
Вот что писал об этом М. М. Дьяконов:
«До нас дошли только жалкие остатки некогда великолепных росписей, но и они поражают своим разнообразием. Расписывались залы храмов, их открытые портики, ниши со статуями, расписывались парадные залы жилых домов, коридоры и проходы, расписывались стены и потолки. Живопись покрывала стены в несколько ярусов, сложные многофигурные композиции лентами переходили со стены на стену, составляя последовательные повествования. Сюжетами росписей служили мифологические образы, религиозные легенды, сцены из эпоса. В росписях мы наблюдаем богатейшие и своеобразные орнаментальные узоры. Росписи дают нам представление о колористических достижениях древних мастеров».

Штампованный рельеф на сосуде.
Много труда и энтузиазма, много изобретательности и вдохновения отдали раскопкам древнего Пянджикента ныне покойные ученые Александр Юрьевич Якубовским и Михаил Михайлович Дьяконов.
Вместе с ними долгие годы работали археологи А. М. Беленицкий, А. И. Треножкин и другие. Работа была необычайно трудная и напряженная, по она вознаградила ученых.

Обломок глиняного сосуда.
Археологи открыли новые страницы истории искусства Средней Азии. Это было высокое искусство, которое обогатило человеческую культуру. Не потому ли так прекрасно современное искусство таджиков, узбеков?
Искуснейший реставратор Государственного Эрмитажа П. И. Костров проявил немало изобретательности и новаторства, чтобы сохранить и доставить в Эрмитаж прекрасные творения согдийских художников.
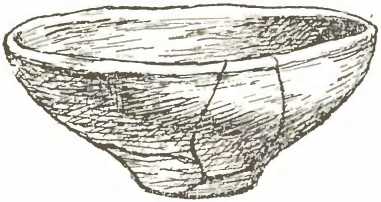
Чаша.
Но прежде чем снять их со стен, надо было сделать копии, которые дали бы возможность увековечить в печати все то лучшее, что дошло до нас через столетия. Эту трудную и сложную работу из года в год выполняет художница экспедиции, большой знаток и любитель согдийской живописи, Юлия Петровна Гремячинская. Изо дня в день, из года в год, среди знойных песков и лессовой пыли она тщательно переносит на картон рисунки древних художников. Она делает копии тушью и красками, стараясь до мельчайших подробностей сохранить то, что дошло до нас и могло осыпаться, поблекнуть, стереться при малейшем неосторожном движении. И если сейчас живопись древнею Пянджикента воспроизведена в изданиях Академии наук СССР и стала достоянием многих, то в этом немалая заслуга художницы.
За годы работы экспедиции издано немало ценных трудов, но впереди еще много интересного и неожиданного. Раскрыта тайна горы Муг. Раскроются и другие тайны.
Пески столетий замели следы жизни, ушедшей отсюда много веков назад. Давно забыты имена людей, некогда воздвигнувших города и селения Согдианы. Забыты язык и песни древнего народа. Но не стерта память о нем. Ее сохранили в веках памятники, созданные человеческим трудом. А дела рук человеческих величественны и прекрасны.
Советские археологи раскрыли нам забытые страницы истории и помогли воскресить память о далеком прошлом нашей родины.

Обложка, форзац, заставки и концовки выполнены по мотивам росписей древнего Пянджикента.
Рисунки в тексте сделаны по материалам археологических раскопок.
Штриховые рисунки с настенной живописи выполнены по фотографиям и репродукциям, помещенным в книге: «Живопись древнего Пянджикента», Академия наук СССР, Москва, 1954.
Некоторые притчи взяты из «Калилы и Димны» в переводе с арабского И. Ю. Крачковского и И. П. Кузьмина. Изд. «Academia», 1934.
Пословицы и поговорки взяты из книги «Кабус-Намэ» в переводе Е. Э. Бертельса. Изд. Академии наук СССР, 1953.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ