Посвящение и Посвященные в Тибете
Предисловие
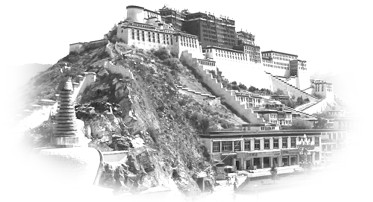
Теперь, в возрасте девяноста лет, мадам Александра Давид-Ниэль живет на своей вилле Samten Dzong около Ниццы во Франции. Но она давно завершила свой труд, выполнила свою миссию. Теперь она принадлежит к категории вечных духовных бессмертных. Удивительно осознавать, насколько редко со времен жриц культа Диониса появлялись такие женщины. В последние столетия можно упомянуть только мадам Блаватскую и Мэри Бейкер Эдди. Еще реже можно найти женщину, которая входит в крошечную группу духовных учителей вроде Будды — тех, кто учит независимости ото всех, кроме самого себя.
Она родилась в Париже 24 октября 1868 года в Сент-Манде (округ Сена), и ее назвали Александра Эжени Мари Луиза Давид. Она принадлежала к гугенотской семье, имеющей примесь скандинавских и голландских корней. Благодаря такой наследственности она чувствовала склонность к задумчивому одиночеству, стремилась исследовать саму себя. Ее отцом был Луи Пьер Давид, матерью — Александра Боркман. В 1904 году, в возрасте 36 лет, Александра вышла замуж за Филиппа Ниэля. В ее, обычно таких искренних, книгах вы практически не найдете сведений о ее семейной жизни, хотя в них есть много описаний ее умственных и духовных исканий. Мы знаем лишь, что, прежде чем отправиться на Восток, она много училась, сначала в Бельгии, а затем в Париже, изучая восточные культуры, санскрит, Тибет, и что она много путешествовала по Европе и Северному побережью Африки. Затем она отправилась в путешествие в Индию и на остров Цейлон, в Бирму и Китай. Потом последовали ее первые четырнадцать лет в Тибете, которые стали основой для ее книг и публикаций — она написала, среди прочего, «Магия и тайны Тибета» [6] и «Посвящение и посвященные в Тибете». Эти книги были изданы в 1931 году, когда мадам Давид-Ниэль было 63 года, и они остались ее главными творениями (несколькими годами ранее она написала и издала книгу «Мое путешествие в Лхасу»). Ранее она написала работы (пока еще не переведенные с французского языка) по китайской и индийской философии. Но ее имя неразрывно связано именно с Тибетом.
Из Китая в Индию, из Индии в Катманду — она добралась до Лхасы, до монастыря Кум Бум. Там она научилась бегло говорить по-тибетски, изучила диалекты этого языка, познакомилась с тибетской литературой. Она сделала на Тибете то же, что Гертруда Белл и Фрея Старк сделали в арабском регионе. Она полностью слилась с этой страной, соединилась с ее тенденциями не как иноземец, но как странник, который наконец достиг желанного конца своего пути. Культы и культура Тибета — ее духовный дом. Она была первой женщиной Запада, которая совершила этот подвиг, и, возможно, последней, поскольку Тибет, который она знала, начинает исчезать (на сколько столетий?) ввиду прихода коммунистов.
Ее смелость, высокая компетентность и упорство были очень высоко оценены. Географическое общество Парижа наградило ее золотой медалью. Она стала кавалером французского ордена Почетного легиона, получила китайский орден Сверкающей Звезды. Королевское бельгийское географическое общество наградило ее своей серебряной медалью. Ее имя стало известным в десятке стран благодаря особым способностям, новым подходам, мистическим открытиям, четким и понятным описаниям. Ее книги были переведены на испанский, немецкий, чешский, английский, шведский языки. Следует упомянуть, что в странах, где протестовали против перевода этих книг, родились и жили многие из самых известных мистиков мира: Яков Бёме и мать Тереза, Сведенборг и Уильям Блейк, Мигель де Молина, Крэшоу и Сан Хуан де ла Крус.
Тема этой книги, этого руководства по посвящению — тибетская мистика. Это — руководство для новичков, но несколько отличающееся от прочих. В отличие от христианской мистики, тибетская мистика необязательно требует глубокой набожности и экзальтированного осознания единства с Высшим божеством. В тибетской мистике допускается целый пантеон богов или (как в среде наиболее глубоко одухотворенных лиц) нет вообще никаких богов. В этом учении используются определенные церемониалы (включая магические), физические и ментальные практики, позволяющие человеку приблизиться к богам и постичь их существование (или их несуществование). Это является самым сложным и восходит к источникам, не являющимся собственно тибетскими, главным образом к индусскому тантризму.
Эта разновидность мистицизма декларирует тайные указания, дает наставления в ритуальной магии, предписывает следование определенным тайным принципам, определяет, как осуществлять контроль над своими физическими потребностями, телесными импульсами, эмоциональными расстройствами. Новичок, проходя через все стадии этого сурового пути, идет самым коротким маршрутом — порой даже Коротким путем — к ясному пониманию мира, провидческому просветлению.
В это знание включена ламаистская убежденность, что однажды обязательно придет, в подходящее для этого время, вселенский спаситель, вышедший из Запада и известный как Гьялба Чамба (Gyalwa Chamba) — Любящий. Это часть знания мадам Давид-Ниэль. Данная книга ясно даст понять даже самым старательным студентам, что она считает это знание плодотворным и мудрым мифом.
Гарри Э. Ведек Ноябрь 1958 года
Введение
С помощью настоящей работы я стремилась предоставить тем, кто интересуется восточной духовностью, определенную информацию относительно сути ламаистских обрядов посвящения и обучения посвященных, происходящих во время этой церемонии и после нее.
Само собой разумеется, в столь маленькой книге этот предмет нельзя рассмотреть исчерпывающим образом. Кроме того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, человек должен хорошо разбираться в определенных теориях буддизма Махаяны и индусском тантризме, которые, как считается, лежат в основе большинства проявлений ламаистского мистицизма. То, как эти теории зародились, укрупнились и пропитались элементами неарийского происхождения в среде метафизиков и отшельников «Земли Снегов», могло бы стать материалом для еще одной работы. Тем не менее этой книги будет вполне достаточно, чтобы пролить свет на один специфический аспект религиозной жизни тибетцев, до настоящего времени неизвестный иностранцам.
Эта книга является вполне самостоятельным произведением, однако я настоятельно рекомендую читать ее одновременно с моей предыдущей книгой — «Мистики и маги Тибета», особенно с теми частями той книги, которые описывают мастеров мистики, их учеников и методы духовных тренировок, которые они практикуют.
В отличие от правила, которого я придерживалась в предыдущих книгах, чтобы текст не оказался чрезмерно тяжелым, в этой книге я сочла благоразумным дать орфографию большинства тибетских терминов в том виде, в котором они произносятся на классическом диалекте Лхасы. В некоторых случаях я также дала санскритские эквиваленты тибетских слов. Часто последние будут легче пониматься читателями, которые встречались с ними в работах, посвященных буддизму.
В тибетском алфавите больше букв, чем в английском. Чтобы устранить возникающие вследствие этого трудности, ориенталисты используют определенные знаки, которые они добавляют к буквам нашего алфавита, когда передают тибетский текст. Этот технический момент, обязательный в других случаях, здесь кажется мне излишним. Ведь читатели будут стремиться получить информацию о верованиях и методах тибетцев, а отнюдь не изучить их язык. Те, кто уже имеет адекватное знание этого языка, сумеют быстро и легко понять, какие буквы тибетского языка они встретили в этом тексте.
Александра Давид-Ниэль
Глава I
Определение тибетской мистики
Определение тибетской мистики
Дать жителям Запада совершенно ясное и полное представление о тибетском мистицизме почти невозможно. Между различными религиозными и философскими концепциями, которые они воспринимают, и теми, которые служат основой для медитаций отшельников «Земли Снегов», существует глубокая пропасть. Само слово «мистицизм», которое я использовала в предыдущей книге и которое я буду продолжать использовать в этой, поскольку не могу найти ничего лучшего, говоря о Тибете, следует понимать в некотором смысле совершенно иначе, чем мы привыкли это делать.
На Западе мистик — это благочестивый человек, более совершенный, весьма одаренный, но всегда, по существу, верующий в Бога, его преданный поклонник.
Напротив, многие восточные люди сочтут тибетского мистика атеистом. Однако, если мы решили так его называть, мы не должны приписывать этому термину те чувства и идеи, которые этим словом обозначают в странах Запада.
В христианских странах атеист в течение всех предшествующих веков был редким исключением, своего рода бесноватым, случайно затесавшимся в плотные ряды верующих. Даже в наши дни многие из нас представляют его этаким мятежником, противником Веры и Религии, с театральными проявлениями опровержения и вызова. Ничего подобного вы не увидите на Тибете, где никогда не господствовала идея относительно Бога как высшего существа.
Среди многочисленных божеств ламаистского пантеона нет того, кто занимал бы роль вечного всемогущего Существа, создателя мира. Эти божества относятся к одной из шести разновидностей сознательных существ, признаваемых массовой верой. Их обиталища далеко не всегда располагаются за пределами нашей земли. Кроме того, когда их обычное местопребывание находится в других областях пространства, то, согласно представлениям тибетцев, они находятся достаточно близко к земле, что позволяет богам при каждом удобном случае вмешиваться в дела людей. Таким образом, благоразумие подсказывает тибетцам жить, поддерживая с наименее важными из этих богов доброжелательные, добрососедские отношения, добиваться покровительства более мощных и милосердия или нейтралитета злых, и даже пытаться сопротивляться им.
Эта религия, замешанная на обмене добрыми услугами, на доказательствах уважения и хитростях, достойных укротителя льва, не имеет ничего общего с любовью, которая воспламеняет души некоторых христианских святых, и еще меньше со страстными порывами — так быстро трансформирующимися в чувственность — присущими определенным бхакти Индии.
Сформировавшись в подобной среде, возвысившись над ней, но сохраняя в себе черты, которые она оставила в его натуре, тибетец, склонный к созерцательности, не уступает сентиментальному импульсу, когда оставляет общество людей и уединяется в пустыне. Еще в меньшей степени он полагает, что жертвует чем-то, совершая подобный шаг.
В отличие от человека Запада, который нередко уходит в монастырь, мучительно разорвав свои самые глубокие привязанности, с заплаканным лицом, мучительно отрывая себя от того, что он все еще определяет как «блага» этого мира, тибетский отшельник, как и индусский саньясин, рассматривает отказ от мира как счастливое избавление.
Буддистские тексты содержат множество пассажей, описывающих подобные настроения:
«Домашняя жизнь — строгое рабство, свобода заключается в оставлении дома».
«В глазах Татхагат [7] блеск короля — не больше чем плевок или пятнышко пыли».
«Одинокие деревья полны очарования. Те, кто освобожден, восхищаются тем, что не привлекает толпу».
Никакой «экстаз» не ждет трезвого мыслителя в его отшельнической хижине или пещере, среди необъятного тибетского одиночества. Он сам может погрузить себя в экстаз. Внимание к своим мыслям в процессе самоанализа будет держать его в состоянии внимательной неподвижности, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, отбрасывая собственное функционирование по мере того, как оно обнаруживает свою недостоверность, пока наконец не наступит время, когда любое умозаключение [8] прекратится и заменится прямым восприятием.
Тогда бури, возникшие из-за теорий, созданных мыслями и предположениями, успокаиваются, океан сознания становится спокойным и гладким, без единой морщинки на ровной зеркальной поверхности. В этом безупречно гладком зеркале все отображается без малейшего искажения [9], и это — отправная точка ряда состояний, которые не происходят ни в обычном, ни в бессознательном состоянии. Это — вход в сферу, отличную от той, в которой мы обычно находимся, и следовательно, после некоторого числа оговорок относительно значения термина, мы можем говорить о тибетской «мистике».
Вне зависимости от их цели, самая поразительная особенность тибетских мистиков — их смелость и исключительно нетерпеливое желание попробовать свои силы в преодолении духовных препятствий или тайных противников. Похоже, что их поддерживает дух приключений и, если можно воспользоваться этим термином, я хотела бы называть их «духовными спортсменами».
Действительно, это странное название подходит им лучше, чем какое-либо другое. О какой бы ветви мистицизма ни шла речь, этот путь трудный и рискованный. Спортивный азарт, с которым они воспринимают эту борьбу, отнюдь не является обычным религиозным рвением и по этой причине заслуживает нашего внимания.
Однако было бы ошибочно считать героем каждого из тех, кто желает стать учеником гьюд-лама [10] и жаждет его дамнгага [11].
Среди кандидатов на предварительные посвящения особо оригинальные или чем-то выдающиеся люди составляют подавляющее меньшинство; большинство из них — простые монахи. Многие из них, прежде чем пожелать прикоснуться к более сложным этапам тайного учения, даже не пытались обучаться в монашеских школах.
Причиной этого пренебрежения может быть априорная нехватка веры в ценность этой официальной науки; однако весьма возможно, что большая часть тех, кто отвернулся от нее, сочла регулярное изучение книг просто слишком трудным.
В основе поведения многих налджорпа [12] лежит инстинктивное стремление к созерцанию и медитации, а также к безвольному подражанию примерам других людей.
Человек думает только об «исполнении религии» [13], как это называют тибетцы, совершенно не понимая, куда может привести его путь, на который он вступил.
Но тот, кто был таким глупцом в начале своей мистической карьеры, не осужден оставаться таким всегда. На «Кратком пути» нередко случаются неожиданные чудеса [14]. Здесь слепой человек становится ясновидцем, а ясновидец теряет свое зрение. Ученики с вялым интеллектом иногда становятся дальновидными исследователями, тогда как блестящие интеллекты опускаются в пучину унылого оцепенения.
Удивительна огромная скорость, с которой изменяются ментальные, моральные и даже физические данные человека. Но это не нарушает невозмутимость тибетских мистиков. Они утверждают, что семена, из которых взрастают эти совершенно неожиданные преобразования, есть во всех людях, и до момента преобразования у них просто не было условий, благоприятных для роста и плодоношения.
Посвященный, после мистического посвящения, должен с самого начала взрастить в себе проницательность и способность к спокойному и беспристрастному созерцанию [15]. Он будет способен обрести мастерство согласно естественным склонностям и мимолетным устремлениям. Не нужно никаких обычных навыков, чтобы успешно следовать по пути довольно рискованного обучения, которому подвергаются некоторые ученики, состоящего в глубоком переживании самых различных страстей. Речь идет о том, чтобы войти в огонь и не обжечься. Крайне необычны тесты, которые ученики выполняют по совету своего духовного наставника или побуждаемые желанием доказать свои возможности, и результат их — почти невероятные возможности управления собой, особенно в том, что касается плотских инстинктов.
Ученику также рекомендуют наблюдать за действиями, которые он совершает, за пробуждением в себе мыслей и ощущений, соблазнов и отвращений, пытаться обнаружить их причины, затем причины этих причин и так далее.
Медитация, напротив, может привести к цепочке последствий, допускающих последующие материальные или ментальные действия.
На основании всего этого легко заметить, что тайными или мистическими методами ламаисты на самом деле называют позитивный психический тренинг. На самом деле они рассматривают спасение не как дар божества, а скорее как трудное завоевание. Средство достижения спасения они расценивают скорее как науку.
Глава II
Духовное наставничество
Духовное наставничество
Точно так же, как мы идем к преподавателю, когда желаем изучить математику или грамматику, так и для тибетцев естественно обратиться за помощью к мастеру-мистику, когда они желают приобщиться к духовным техникам.
Санскритское слово «гуру» — название духовного наставника, и тибетцы так же используют это иностранное для них слово в своем словаре. В беседе же, однако, они говорят: «Мой лама» — притяжательное прилагательное, понимаемое как описание отношений между мастером и учеником.
Хотя жители Тибета платят за сообщенное им знание предельным уважением и помощью в материальном плане, в их стране редко можно найти слепую веру в гуру, столь привычную в Индии.
Миларепа, поэт-отшельник, был исключением, но примеры такого пламенного восхищения и преданности своему мастеру являются чрезвычайно редкими.
Несмотря на многие гиперболы, используемые в речи по отношению к учителю, почитание учителя тибетским учеником в действительности относится скорее к знанию, хранителем которого является мастер. За немногими исключениями, ученики отлично знают о недостатках «их ламы»[16], но уважение к нему не позволяет им поделиться теми открытиями, которые им стали известны. Кроме того, их совершенно не потрясают многие вещи, которые казались бы предосудительными западному жителю.
Вообще говоря, не то чтобы жители Тибета в принципе лишены моральных принципов, просто эти принципы необязательно совпадают с теми, которые существуют в наших собственных странах. Например, многомужие, которое часто очень сильно осуждается на Западе, здесь вообще не кажется грехом; с другой стороны, брак между родственниками — даже между кузенами, достаточно удаленными по родству, — кажется им отвратительным, тогда как мы не видим в этом никакого вреда.
Когда жители Тибета выказывают огромное уважение человеку, недостатки которого очевидны, — во многих случаях это не вызвано слепотой к его порокам.
Чтобы понять это, мы должны помнить, насколько отлично западное мировоззрение относительно «эго» от того, которое исповедуют буддисты.
Даже когда представители западной культуры отвергают веру в нематериальную и бессмертную душу, считающуюся их истинным «эго», большинство из них продолжают представлять себя однородной сущностью, которая сохраняется по крайней мере от рождения до смерти. Эта сущность может подвергнуться изменению, может стать лучше или хуже, но не считается, что эти изменения должны следовать одно за другим каждую минуту. Таким образом, не имея возможности наблюдать проявления отдельных аспектов человека, мы говорим о том, что данный человек хороший или плохой, строгий или развратный и т. д.
Ламаистские мистики отрицают существование подобного «эго». Они утверждают, что человек — просто последовательность преобразований, совокупность, элементы которой, материальные и ментальные, воздействуют и реагируют один на другой и постоянно обмениваются на элементы из соседних совокупностей. Таким образом, человек, каким его видят окружающие, похож на быстрый речной поток или множество струй водоворота.
Наиболее продвинутые ученики в состоянии распознать среди этой совокупности отдельных черт, проявляющихся по отдельности в их мастере, те, из которых могут быть извлечены полезные уроки и советы. Чтобы получать подобную пользу, они допускают неприятные проявления в том же самом ламе так же, как они согласились бы терпеливо ждать, пока в большой толпе людей не пройдет истинный мудрец.
Однажды я рассказала ламе историю Преподобного Экаи Кавагути[17], который был твердо настроен на изучение тибетской грамматики и обратился к известному мастеру. Последний принадлежал к религиозному ордену и называл себя гелонгом[18]. Побыв с ним в течение нескольких дней, ученик обнаружил, что его учитель нарушил обет безбрачия и имел маленького сына. Этот факт наполнил его таким глубоким отвращением, что он собрал свои книги, имущество и попрощался с ним.
«Какой болван!» — воскликнул лама, выслушав эту историю. Стал ли филолог менее знающим в грамматике из-за того, что уступил искушениям плоти? Какая связь между этими моментами и какое дело ученику до моральной чистоты своего учителя? Интеллектуальный человек подбирает знание везде, где его только можно найти. Не дурак ли тот человек, который отказывается взять драгоценный камень, лежащий в грязном сосуде, из-за грязи, прилипшей к сосуду?
Просвещенные ламаисты смотрят на почитание, оказываемое духовному наставнику, с духовной точки зрения. Они одинаково расценивают любую веру.
Признавая, что наставления знатока в духовных делах чрезвычайно ценны и полезны, многие из них склонны сделать самого ученика в значительной степени ответственным за успех или неудачу его духовного обучения.
Здесь мы говорим о новичках, об их силе концентрации или интеллекте. Полезность их самоочевидна. Однако еще один элемент считается необходимым и более мощным, чем все прочие. Этот элемент — вера.
Не только мистики Тибета, но и многочисленные мистики Азии полагают, что вера сильна сама по себе. Она действует независимо от ценности, присущей объекту веры. Бог может быть камнем, духовный отец — обычным человеком, и все же вера может пробудить в ее приверженцах энергию и скрытые способности, о которых они даже не подозревали.
Внешние выражения уважения к гуру, как в любом другом вероисповедании, имеют целью питать и усиливать веру и почитание.
Многие новички, которые никогда не посмели бы рискнуть пойти по мистическому пути, считали, что их поддерживала ментальная или магическая сила их лам, тогда как в действительности все время они опирались только на свои внутренние силы. Однако вера, которую они имели по отношению к своим учителям, производила эффект, подобный тому, который мог бы быть получен от внешней помощи.
Бывали и более странные случаи. Некоторые люди порой занимаются религиозными практиками или осуществляют другие подобные функции, хотя твердо убеждены, что объект их веры просто не существует. И это не безумие, как можно было бы предположить, а скорее доказательство глубокого знания психических влияний и силы самовнушения.
Некоторые католики очень ценят метод, который, на первый взгляд, кажется алогичным. Он состоит в том, чтобы побудить неверующего выполнять все обряды их религии, дабы это склонило его к самой религии.
Можно представить, что «неверие» человека, который поддается на это с целью возможного вхождения в веру, не очень серьезно и что ему просто не хватает глубокой убежденности. Отсюда и успех данной стратегии, которой человек сам желает следовать.
У ламаистов все совсем по-другому. Они пытаются не верить. Упражнения, которыми они занимаются, необходимы для того, чтобы привести их в определенные состояния сознания, которые сторонники этой веры считают милостью их Бога или их гуру, тогда как это лишь результат самой практики, физический акт, влияющий на их сознание.
Мистические мастера Тибета подробно изучили влияние на сознание физических привычек и жестов, выражения лица, а также влияние окружающих предметов. Знание этих методов — часть их тайной науки. Они используют эти методы в духовном обучении своих учеников. Эта наука была известна великим католическим «гуру», их можно найти в духовных упражнениях святого Игнатия Лойолы [19].
Тем, кто желает перейти под водительство духовного наставника, ученые-ламаисты настоятельно советуют применить всю свою проницательность при выборе мастера, который в максимальной степени им подходит.
По мнению жителя Тибета, эрудиция, святость и глубокие мистические познания не являются гарантией того, что советы этого ламы будут в равной степени полезны всем его ученикам. Каждый человек должен быть направлен мастером по своему пути согласно его характеру. При этом считается, что мастер либо сам прошел этот путь, либо, во всяком случае, достаточно тщательно изучил его для того, чтобы обрести о нем полное знание.
Кандидат на посвящение должен быть готов следовать этому благоразумному совету. В этом его главное отличие от тысяч обычных монахов, которые не имеют достаточной инициативы в своих духовных поисках. Следует принять во внимание, что эти монахи жили в монастырях с раннего детства, когда их еще детьми отправляли в монастырь, и теперь они просто безвольно движутся в направлении, намеченном для них их духовным наставником, безвольно посещая классы монашеского колледжа или прозябая в своего рода ханжеском невежестве. В отличие от них, будущий посвященный показывает, что он обладает собственной решимостью. Он решил отказаться от спокойного существования обычных членов гомпа [20], чтобы пойти как на преодоление трудностей духовной природы, так и одновременно решать материальные проблемы поиска средств к существованию, при этом оказываясь в областях, возможно, слишком сильно удаленных от его родины, чтобы получать помощь, которую обычно родственники и друзья обеспечивают тем, кто надевает одежду монаха.
Молодой монах приблизительно на двадцатом году жизни почти всегда испытывал первые слабые желания покинуть монастырь. В отличие от мистиков Запада, которые удаляются в монастырь, когда слышат голос высших сил, первое влияние мистических устремлений на Востоке — склонить молодых оставить монашескую жизнь и искать уединения в хижине отшельника.
В этом возрасте у них есть достаточная сила характера, чтобы принять столь важное решение, и при этом у молодого человека есть возможность получить необходимую информацию для того, чтобы правильно выбрать ламу, ученики которого наилучшим образом движутся к цели, совпадающей с его собственной.
Тем не менее все равно возникают случаи, когда подобное исследование произвести не удается: первая встреча некоторых молодых людей с гуру, учениками которого они должны стать, кажется полностью делом везения.
Бывает и так, что будущий ученик не только никогда не слышал ничего об этом ламе, но даже не думал посвятить свою жизнь следованию религиозным целям. Однако бывает, что всего за час или даже еще более — внезапно — все меняется, и он погружается в таинственный мир, в который его «уносит поток» [21].
Конечно, слова «шанс», которое я только что использовала, вы не найдете в словаре таких убежденных детерминистов, как ламаисты. Эти непредвиденные встречи и их последствия они считают результатом цепочки причин и следствий в предыдущих жизнях.
Часто случается, что мастер советует кандидату или даже уже принятому ученику перейти к другому ламе. Он дает ему такой совет потому, что считает свой метод неподходящим для конкретного характера своего ученика. В других случаях, однако, гуру объявляет, что в результате своего рода ясновидения, проявившегося в ходе медитаций, он обнаружил, что между ним и его учеником нет никаких духовных связей или психического сходства, поскольку этот ученик психически связан с тем ламой, к которому он его посылает.
Эти связи и влияния, происхождение которых ламаисты считают сформированными в течение прошлых жизней, считаются обязательными для достижения успеха учеником.
Некоторым другим кандидатам в ученики объясняется, что они еще не готовы вступить на мистический путь, и лама доброжелательно рекомендует им пойти в жизни каким-то иным путем. И, наконец, другим кандидатам отказывают без объяснения причин и поводов, повлиявших на решение мастера.
Прием кандидата в ученики всегда сопровождает длительный предварительный отбор. В него входит множество более или менее серьезных тестов. Некоторые гуру, в основном отшельники, превращают этот период в своего рода трагедию.
Подобные случаи я уже описывала в предыдущей книге, и, соответственно, я считаю бесполезным утомлять читателя повторениями.
Глава III
Природа эзотерических доктрин. — Методы и знания. — Отец и мать. — Традиционная передача знаний из уст в уста. — Передача знаний по цепочке посвященных. — Евгеника.
Природа эзотерических доктрин. — Методы и знания. — Отец и мать. — Традиционная передача знаний из уст в уста. — Передача знаний по цепочке посвященных. — Евгеника.
Теперь нам надо понять, чего молодая религиозная элита Тибета так пылко требует от мастеров мистики. Просвещенные ламы единодушно утверждают, что доктрины всех философских школ, существующих в их стране и в целом всего буддистского учения, сформулированы в книгах и преподаются учеными преподавателями в монашеских философских школах[22].
Исследование этих различных теорий, их внимательный анализ, размышления и медитации, к которым они приводят, могут вести к обретению «знания» теми, кто посвятил им всего себя. И все же, согласно мнению жителей Тибета, следует опасаться, что это знание останется простым интеллектуальным приятием слов или результатов событий из чужой жизни. Теперь этот вид знания расценивается ими как крайне удаленный от полноценного понимания и прозрения, от плодов прямого личного представления объекта знания.
Интересно отметить, что при использовании возможностей, предоставляемых санскритом, позволяющим дать несколько значений одному и тому же слову, жители Тибета перевели название известной работы, приписываемой Нагарджуне, — «Праджня парамита» — не как «Превосходное знание», но как «Выход за пределы знания». Правы ли они или проявили слишком большую вольность по отношению к грамматике, но факт остается фактом — на основании этого «выхода за пределы» они создали философскую и мистическую систему, которая находится в полном соответствии с доктринами буддистской школы мадхьямика, которая господствует на Тибете.
Этому «выходу за пределы» в тайном учении отводится огромное значение. Они разными способами комментируют «выход за пределы» милосердия, терпения, бдительности, этики, спокойствия, знания. Следует понимать, что «вне» узких концепций милосердия и т. д. существует другой способ понимать и осуществлять их. На более высокой стадии посвящения, в свою очередь, показывается ничтожность этого второго способа понимания милосердия и т. д.
И тогда мы приходим к загадочным утверждениям в «Алмазной сутре» [23]: «И когда никто больше не верит ни во что вообще, пришло время делать дары». Мы можем предположить, что ментальная тенденция жителей Тибета, а также, возможно, некоторые традиции, предшествующие религиозным проповедям, существовавшие в их стране, относящиеся к доктринам школы ума, или мадхьямика[24], склонили их к подобной интерпретации превосходных достоинств» (парамита). Возможно, самый текст Праджня парамита поддерживает их систему «выхода за пределы»? Это слишком технический вопрос, чтобы мы стали его рассматривать на этих страницах.
В целом ламаисты считают, что знание — шераб (chesrab), чтобы быть эффективным, должно быть объединено с методом, или правильными средствами — Тхабс (thabs), приводящими к просветлению. Объединение тхаб-шераб (thabs-chesrab) играет в ламаизме важнейшую роль. Символически оно представлено в виде дордже (dordji) (дордже — удар молнии) и крошечного колокольчика дильбу (tilpu)[25]. Дордже (Dordji) — мужского рода и представляет собой метод. Колокольчик — женского рода и представляет собой знание.
Налджорпа поначалу носит кольца с этими двумя эмблемами: дордже на золотом кольце, носимом на правой руке; крошечный колокольчик на серебряном кольце, носимом на левой руке.
В мистицизме, тхабс (thabs) и шераб (chesrab) становятся яб (yab) и юм (yum), то есть отцом (метод) и матерью (знание). Таким образом следует интерпретировать статуи, представляющие собой обнявшиеся пары, которые можно увидеть в ламаистских храмах.
В связи с этим любопытно отметить, что некоторые иностранцы очень любят приходить к самому большому храму лам в Пекине, чтобы удовлетворить свою склонность к ребяческой непристойности, во все глаза разглядывая эти статуи.
Хранители святынь этого места — чья ментальная позиция ничуть не отличается от ментальности ризничих любых других храмов, посещаемых туристами-мирянами, — не могли не отметить любопытство посетителей и использовать его в своих интересах. Памятуя об этом повышенном внимании, в храмах, куда допускают посетителей, они скрыли статуи, которые интересуют их более всего. Конечно, если заплатить соответствующую мзду, занавес будет поднят и, пока бесхитростный путешественник смотрит во все глаза, хитрый гид прячет монету в карман и ухмыляется у него за спиной. Я обнаружила этот факт, живя в Би-юньсы, китайском монастыре, примыкающем к одному из храмов лам. Нужно ли говорить, что в тибетских храмах подобных занавесов нет. Символы яб (yab) и юм (yum), увенчанные черепами и танцующие на телах, считаются там ужасно суровыми.
Эти пары символизируют собой пустоту и желание, а также различные другие философские идеи.
Метод и знание, их обязательный союз, также отображаются ритуальными жестами, обозначаемыми как чаг гья [26] и выполняемыми во время религиозных церемоний со знаком молнии и крошечным звоночком.
Хотя в том, что касается философского знания, вообще нет никакого эзотеризма, то же самое нельзя сказать относительно метода. От мастеров мистики пытаются добиться и иногда получают путем невероятных испытаний их дамнгаг (dam ngag) или менгаг (men ngag) [27], то есть совета и духовного руководства. Кроме того, адепты ищут также кха гьюд (kha gyud) или дам гьюд (tam gyud) [28] — традиционное мистическое учение, которое передается из уст в уста и никогда не должно быть записано.
Советы и указания разделены на несколько категорий вроде гом гьи мэн нгаг (gom gyi men ngag) [29] — это советы по медитации, в них рассказывается о методах, позволяющих достигнуть целей, сформулированных в философских доктринах; мэнгаг дзамбо (men ngag zambo) — «глубокий совет» самой высокой и тайной природы, связанной с заключительными тайнами «Прямого пути» и способами достижения состояния Будды. Есть также «советы», касающиеся ритуала, медицинской науки, искусства приготовления лекарств и т. д. Один особый раздел тайной инструкции повествует о магии, некоторые ламы специализируются на обучении учеников различным дыхательным практикам, технически обозначаемым рлун гом (rlung gom) [30], — их очень много.
Термин дамнгаг (дамнаг ) является самым часто употребляемым, он фактически включает все вышеупомянутые понятия. Он интерпретируется — как уже говорилось — как наставление, передаваемое от мастера ученику как его духовное наследие. Большинство посвященных не учат тому, что они узнали, они даже держат в тайне тот факт, что они были посвящены. Они принимают обет молчания. Этот обет содержит такие ужасные проклятия, что нарушивший его был бы рожден заново в ньямба (nyalwas) [31].
Тот, кто получил специальное предписание от своего мастера, может на законном основании учить своих учеников. Нескольким ученикам ламы разрешают или даже приказывают сообщить свой дамнгаг (dam ngag) тщательно проверенным кандидатам. Однако, как правило, продолжение лоб-гьюд (lob-gyud) [32], то есть линии гуру, поручается самым доверенным из духовных сыновей каждого учителя. Только им передаются во всей полноте доктрины и методы, которые его лама получил на точно таких же основаниях.
Этот способ передачи традиционных доктрин не принадлежит только ламаистам. Похоже, что он существовал в Индии даже до прихода Будды. Бонпо Тибета утверждают, что они владеют секретной информацией, которая передавалась у них из поколения в поколение, от одного человека другому в течение тысяч лет. Самая известная линия мастеров — та, которая, согласно традициям, началась с Махакашьяпы, непосредственного ученика Будды, и продолжалась до Бодхидхармы, то есть немного более тысячи лет [33]. Последовательные списки мастеров этой духовной династии, названной «патриархи», содержат иногда двадцать семь, а иногда двадцать восемь имен.
Нет ничего странного в гипотезе о том, что Махакашьяпа и множество древних после него имели огромный моральный авторитет у буддистов. Тем не менее это не была просто передача доктрины, список «патриархов» содержит имена людей, которые выражали различные мнения, и их ученики участвовали в страстных спорах друг с другом.
Более надежная линия мистических мастеров началась в Китае с Бодхидхармы, основателя школы Чань (медитации), которую, когда она впоследствии была перевезена в Японию, назвали Дзэн-сю.
По мнению японских дзенских ученых, чтобы обосновать устойчивую власть Бодхидхармы и его преемников, какими-то особо рьяными приверженцами этой религии, скорее всего китайского происхождения и скорее всего в девятом или десятом веке нашей эры, была создана легенда относительно происхождения «патриархов».
Эта легенда относится не просто к традиции определенного учения, но также и к способу распространять его; именно по этой причине это особенно интересно для нас.
Считается, что Будда однажды сидел вместе с большим числом учеников на Пике Стервятников, около города Раджагриха [34]. Один из богов пришел поклониться ему и подарил ему небесный золотой цветок. Будда взял цветок и посмотрел на него в молчании.
Никто из присутствующих не понял, что он хотел сказать, за исключением Махакашьяпы, который улыбнулся ему. Тогда Будда объявил: «Я думал о Нирване, которая является основой доктрины; теперь я передаю это Махакашьяпе».
Непривычная манера, в которой дается и получается наставление, описанное в этой легенде, является прообразом тех методов, которые применяются адептами «медитативной» секты, основанной Бодхидхармой.
Бодхидхарма был индусским буддистом, принадлежащим к касте брахманов. Его методы обучения сильно отличались от методик других мастеров. Он уважал эрудицию, но не придавал ей особого значения и пропагандировал самосозерцательную медитацию как истинное средство достижения духовного просветления. Вскоре после его прибытия в Китай он ушел в монастырь Шаолинь [35]. Там он проводил большую часть времени в медитации, сидя лицом к скале. Некоторые из его китайских и корейских учеников, а также его последователь из школы Дзэн-сю в Японии по имени Сото сохранили привычку сидеть в медитации лицом к стене.
Самым выдающимся учеником Бодхидхармы был конфуцианский ученый по имени Чанг Куанг (Chang Kwang). Говорят, что он пришел к жилищу Бодхидхармы, чтобы попросить его стать его наставником, но, поскольку мастер в течение нескольких дней отказывался принять его, он отрубил себе левую руку и послал ее Бодхидхарме в доказательство своего рвения.
Шесть патриархов наследовали Бодхидхарме в Китае как руководители школы Чань , после чего произошел раскол учения на две ветви, которые также впоследствии раздробились.
В шестом веке н. э. в Японию были перевезены особые методы и доктрины этой медитативной школы, и впоследствии, уже в одиннадцатом веке, они были твердо установлены Эйсаем (En-sai). Среди интеллектуальной элиты Японии до сих пор процветает школа Дзэн-сю, которая насчитывает множество сторонников. Однако стоит пожалеть о том, что здесь, так же как в Китае, медитативная школа увлеклась обрядностью, столь сильно осуждавшейся Бодхидхармой, да и самим Буддой.
В Тибете мистики различают три класса мастеров, которые явно определяются в литургических формулах определенных обрядов. Это Гонг-гьюд (Gongs gyud), Да-гьюд (Da gyud) и Ньен-гьюд (Nien gyud) [36].
Гонг-гьюд (Gongs gyud) — «линия мысли», мастера этого направления учат при помощи телепатии, без помощи речи.
Да-гьюд (Da gyud) — «линия жестов», мастера этого направления учат в молчании, жестами и знаками.
Ньен-гьюд (Nien gyud) — линия, в которой мастера «слышат», то есть дают уроки обычным способом, разговаривая с учениками, которые слушают их.
Телепатический метод считается наивысшим, но многие ламы полагают, что в настоящее время больше не существует мастеров, способных практиковать его, и нет даже учеников, достаточно развитых психически, которые оказались бы способны получать наставления подобным образом. То же самое они думают относительно обучения жестами, которое стоит, по их мнению, на втором месте.
Возможно, мистики, которые занимались телепатическим обучением, в прошлые века были более многочисленными, чем теперь. Трудно сказать что-либо определенное по этому поводу. Однако вполне возможно, что обучение посредством телепатии пока полностью не исчезло в Тибете. Оно все еще осуществляется в определенных кругах; таким образом, значительную часть этого метода можно найти в обрядах, которые сопровождают посвящения на более высокие ступени.
Среди хранителей мистических традиций следует упомянуть линию Кагьюпа (Kahgyudpas), секту «линейной передачи приказов или предписаний».
Ее духовные предки — два индуса, Тилопа Бенгалец и Нарота Кашмирец — оба жили в десятом веке н. э.
Трудно сказать, кто преподал Тилопе дамнгаг (dam ngag), который был впоследствии перевезен на Тибет учеником Нароты, ламой Марпа. У нас нет никакого рассказа о возможном развитии событий, только легенда, которая в значительной степени является символической[37].
По мнению жителей Тибета, в дополнение к фантастическому посвящению Тилопы от Дакини[38], он был проинструктирован мифическим Дордже Чангом или даже он был эманацией последнего. То же самое говорится относительно ламы Марпы, который, как мы только что заявили, принес учение Наропы в Тибет. В свою очередь, Марпа сообщил дамнгаг известному отшельнику, поэту Миларепе (одиннадцатый век), который передал его своему ученику Дагпо Лхадже (Tagpo Lhadje) [39].
Позже эта линия разделилась на шесть сект и подсекты, две из которых, самые важные, это Карма Кагью (Karma Kahgyud) и Дугпа Кагью (Dugpa Kahgyud). Первая, название которой сократилось до Кармапа (Karmapas), является одной из самых значительных сект «Красных шапок» [40]. В основном они сосредоточены в месте, где жил один из духовных потомков Тилопы, — в Толунг Цурпуге (Tolung Tsurpug), в горах на западе от Лхасы.
Что касается Дугпа Кагью (Dugpa Kahgyuds), то некоторые авторы совершенно ошибочно оценивают их характер, рассматривая термин «дугпа » (dugpa) как указание на мага, который занимается самой ужасной формой черной магии.
«Дуг » (Dug) (пишется hrug) означает «гром». Секта Дугпа (Dugpa), как южные, так и центральные ее ветви, восходят к двенадцатому столетию. Она была основана учеником Драгпо Лхадже (Tagpo Lhadje), ламой Годже Цангпа Гьярепа (Chodje Tsangpa Gyarespa), которого еще называют Тулку Пагсам Бангпо (Tulku Pagsam Wangpo).
Согласно легендам, когда этот последний начал строить монастырь Ралунг, внезапно началась сильная буря. Считая этот инцидент предзнаменованием, лама назвал новый монастырь «Гром». Монахов, которые стали там жить и впоследствии стали принадлежать к этой секте, называли «монахи из Грома» дугпа .
Монахи Дуг-Ралунг (Dug-Ralung) стали известны своим учением. Они проповедовали свою доктрину в Бутане (Гималаи) и стали строить там свои монастыри. Из-за этого район стал называться Дуг юл (Dug yul) «Земля Грома» — название, которым эти места все еще называют их жители и тибетцы.
Таким образом, мы видим, что название Дугпа (Dugpa) применяется уроженцами Бутана и последователями одной из подсект Кагьюпа (Kahgyudpas). Это не секта «черных магов», доктрина которых — «дугпизм » (dugpism) — название, которое я слышала от некоторых иностранцев.
Теперь существует три основные ламаистские секты — Гелугпа (Gelugspas) («Желтые шапки»), Кагьюпа (Kahgyudpas) (включая Дугпа (Dugpas)) и Сакьяпа (Sakyapas) (две последних являются «Красными шапками»)). — Все они имеют одного общего духовного предка — индийского философа Атишу.
Духовная преемственность от мастера к ученику, которая существовала почти всюду на Тибете, постепенно была вытеснена преемственностью тулку (tulkus) [41], а в некоторых случаях — передачей знания по наследству.
Долгое время руководитель Сакьяпа (Sakyspas) был женатым ламой, сын которого наследовал ему. Глава монастыря Миндолинг (Mindoling), великий лама Дзогченпа (Dzogchenpas), был неженатым монахом. После его смерти ему наследовал самый старший сын его послушника. Если этот последний умер бы бездетным, лама должен был жениться на его вдове, чтобы продолжить династию.
Однако эти два случая являются исключением. Энтузиазм жителей Тибета к системе тулку (tulkus) настолько велик, что сейчас осталось очень немного сект, руководитель которых не считается следующим воплощением того же самого ламы, происходящим сразу после смерти своего предшественника.
Следует сказать, что изменение в способе поддержания преемственности религиозных мастеров вредно сказалось на интеллектуальном и моральном статусе верующих. Руководители сект и монастырей, которые уже в детстве были предназначены для этой должности, далеко не всегда, став взрослыми, показали себя достойными роли духовного наставника. Весьма часто они не чувствовали никакой склонности к этому и предпочитали намного более легкий путь квазибожественного человека, единственная задача которого — получать знаки уважения прихожан… и их дары.
Кроме этих узурпаторов титулов, на которые они не имеют никаких прав, на Тибете есть и некоторые ламы, которые являются подлинными преемниками более или менее древней череды достойных мастеров. Они утверждают, что обладают определенными тайными знаниями. Среди них есть весьма достойные люди, методы которых, похоже, являются подлинным результатом длительных периодов психических переживаний. Большинство таких людей живут отшельниками, они остаются преданными старой системе передачи знаний от мастера ученику.
Тибетские мистики иногда — хотя и очень редко — обращаются к другому методу продолжения линии мастеров: они рождают ребенка с целью создания из него новообращенного и преемника своего отца или гуру его отца.
Рождение такого ребенка требует выполнения множества условий. Во-первых, будущие родители должны получить от своего ламы, фактического главы этой цепочки мастеров, особый приказ родить сына, который выполнит эту задачу. Это относится к тому случаю, когда наиболее выдающийся ученик ламы или один из стоящих в иерархии секты сразу после него женат — такое может произойти среди «Красных Шапок», где безбрачие не предписывается строго всем членам монашеской братии. Может быть выбран также мирской ученик ламы, но, хотя это допустимо в теории, в жизни такие ситуации вряд ли возможны и упоминаются практически только в легендах.
Когда мастер, по причинам, которые знает только он сам, приказывает одному из своих холостых учеников стать отцом, последний должен искать жену в соответствии с инструкциями этого ламы. Избранная женщина должна быть одной из тех, кого считают магической реинкарнацией — она должна иметь определенные отметки, знаки, которые непонятны обычному человеку, но очевидны посвященным. Поскольку единственный результат этого союза — рождение сына, предназначенного для того, чтобы продолжить лоб гьюд (lob gyud) — цепочку мастеров — и муж, и жена обычно расходятся, и после рождения ребенка живут как монах и монахиня.
Этой паре ламой жалуется особый ангкур [42] для освящения их союза, и обычно, если пара уже не жената, они обходятся без обычной церемонии бракосочетания. Затем они оба живут отдельно в течение более или менее длительного периода — несколько месяцев, возможно целый год. В это время они выполняют различные обряды, вызывают Чангчуб Семспа (Changchub Semspas) [43] и святых лам, мастеров прошлого из рода мужа, и просят их благословения. С помощью медитации они пытаются установить психическую связь между ними и самыми святыми и просветленными стихиями во всем мире.
Считается, что с помощью этих обрядов физическая и духовная сущность будущих родителей очищается и преобразуется. Когда их разделение заканчивается, им присылается новый ангкур, и происходит их соединение как таинство в середине килкхора (магического круга, мандалы).
Независимо от того, что можно думать об эффективности этого метода, никто не может отрицать незамутненно идеалистический характер подобной евгеники.
Существуют и другие методы, ведущие к той же самой цели. Они включают грубые, с нашей точки зрения — крайне отталкивающие практики, которые в символической форме отображают отношение отца к сыну, которые устанавливаются между мастером родителей и ребенком, который должен будет родиться.
Согласно легендам, этот реалистический обряд был выполнен Марпой для его женатого ученика Нгога Чосдора.
Я возьму на себя смелость описать этот обряд ввиду наличия в нем некоторых исключительных аспектов.
Когда период разделения закончился, был должным образом проведен обряд посвящения — как в отношении мужа, так и в отношении жены. Когда был воздвигнут килкхор и все церемонии закончились, Марпа уединился со своей женой Дагмедмой и молодой парой в своей личной молельне. Там лама занял свое место на своем ритуальном возвышении рядом со своей магической женой, в то время как Нгог Чосдор и его жена лежали в объятиях у его ног. Марпа собрал свою сперму в кубок, сделанный из человеческого черепа, и смешал ее с различными компонентами, предположительно обладающими магическими свойствами. Затем эта смесь была выпита учеником и его женой.
Эта практика основана на вере, свойственной многим примитивным народам и заключающейся в том, что в семени животных есть некое специфическое тайное свойство. Фактически гуру хотел передать ребенку, который должен быть зачат, чтобы стать его преемником, собственную энергию и жизнь…
Этот странный обряд известен только очень немногим ламам, и по информации, которую я смогла собрать, он очень редко исполняется. Считается, что только те, кто был приобщен к самым глубоким тайнам определенной категории тайной доктрины, имеют право проводить подобные обряды. Любых других, кто осмелился бы проводить его, ждет наказание — возрождение в виде демона.
В Тибете существует много странных техник, о которых даже не подозревает значительное большинство лам; эти техники сильно отличаются от официальной религии и мистических традиций Тибета. Эти техники частично заимствованы из непальского тантризма и реконструированы тибетскими оккультистами, в них нет абсолютно ничего буддистского. Само собой разумеется, эти методы отвергаются как образованными ламами, так и великими мастерами медитации.
Читатели, которые хотя бы немного знакомы с индистским культом Шакти — Божественной Матери, с ее десятью формами (Кали, Тара, Раджраджесвари (Rajrajeswari), Бхуванешвари (Bhuvaneshwari), Байрави (Bairavi), Чиннамастха (Chinnamastha), Дхумавати (Dhumavati), Балагамукхи (Balagamukhi), Матханги (Mathangi) и Махалакшми (Mahalakshmi), отметят отдаленную аналогию между обрядом, описанным выше, и «чакрами» (chakra) приверженцев культа этой богини. Однако цель ритуального сексуального союза в корне отличается от тех обрядов, которые проводят на Тибете.
Хотя это и является отклонением от темы, выбранной мной для этой книги, я хотела бы упомянуть, что индуистские шактисты проводят ночные встречи, которые называют «чакра» (круг). Во время этих встреч и мужчины, и женщины образуют круг, в котором каждый мужчина сидит возле женщины. Стихии культа — панчататва (пять стихий), который они определяют как «Пять М», поскольку санскритское название каждой начинается с этой буквы. Вот они: мадхья (madya) — вино; манса (mansa) — мясо; маться (matsya) — рыба; мудра (mudra) — высушенное зерно; майтхуна (maithuna) — сексуальный союз. Некоторые индусы утверждают, что эти термины являются символами и что maithuna следует понимать как психический процесс, не имеющий ничего общего с сексуальными отношениями. Другие говорят, что обряд должен проводиться между верующим и его законной женой; их союз таким образом возвышается до статуса религиозного акта, к которому не примешиваются никакие нечистые мысли. Однако многие шактисты заявляют, что у тех, кто достиг самых высоких степеней просветления, вино, которое должно быть выпито во время «чакры » chakra, — реальное, а женщины, с которыми нужно соединиться, — любые, кроме законной жены. Поскольку большинство людей в каждой стране имеют высокое мнение относительно своего интеллекта и уровня совершенства, многие из них считают себя достойными привилегий «тех, кто достиг самых высоких степеней просветления»; в итоге встречи шактистов часто превращались в самые разнузданные оргии.
Но в Тибете нет ничего подобного.
Глава IV
Различные виды посвящения и их цели
Различные виды посвящения и их цели
Прежде чем знакомить новичка с основами любого дамнгага (dam ngag), он должен пройти лунг (lung) и еще одно младшее посвящение.
Значение термина лунг (lung) подобно значению слова дамнгаг (dam ngag); это также — «совет», хотя и менее священной природы и необязательно связанный с религиозными объектами. Он не всегда дается самим ламой.
Никакое обучение — неважно, грамматики или любой иной науке — не начинается в Тибете без выполнения обряда, который получил название лунг (lung).
Предположим, что некий мальчик желает изучить алфавит. В день, сочтенный астрологом или нгонше (ngonshes) [44] (провидцем), благоприятным, он приходит к мастеру, учеником которого хотел бы стать, неся хадак (khadag) [45] и несколько даров, в соответствии со своими возможностями.
Если мастер — монах, кандидат в ученики трижды кланяется ему в ноги. Если он человек светский, то удовлетворяется тем, что ученик обнажает голову и вежливо кланяется.
Затем он почтительно занимает место перед учителем, который сидит выше его на куче подушек. Мастер произносит краткую молитву богу науки, Джамполянгу (Jampolyang) [46], после чего, с предельной серьезностью, он последовательно произносит тридцать букв тибетского алфавита: Ка-кха-га-нга и так далее.
Закончив это, он, прежде чем отправить ученика домой, рекомендует ему повторить несколько раз формулу: «Аум-ара-ба-ца-ма-дхи-ди-ди-ди-ди …» (Aum ara ba tsa ma dhi di, di, di, di…). По мнению жителей Тибета, это вызывает усиление умственной работоспособности.
Поскольку эту церемонию считают обязательной для того, чтобы подготовить человека к простому заучиванию алфавита, совершенно ясно, что более высокие знания передаются только после серьезного предварительного отбора кандидата.
Независимо от того, какую религиозную книгу человек желает прочитать, чтобы обрести достоинства, приложенные к повторению ее текста [47], лунг (lung) считается обязательной подготовкой к этому. Как уже описывалось, набожный мирянин или низший монах после обычного преклонения и даров должны с уважением выслушать, сложив руки на груди, чтение книги, осуществляемое ламой.
Пропуск этой церемонии делает чтение чем-то в некоторой степени незаконным. В любом случае вследствие этого упущения не будет достигнут положительный результат или религиозное достоинство. Нередко бывает и так, что осуществляющий чтение лама не дает никакого объяснения своим слушателям, которые прощаются с ним, не поняв ни слова из того, что они только что услышали. Кроме того, весьма часто бывает так, что читающий также сам ничего не понимает в прочитанном, но для большинства верующих это практически не имеет значения [48].
Даже простое повторение известной формулы «Ом мани падме хум », требует предваряющего его лунга (lung).
Мани-лунг (Mani lung), как это еще называется, обычно предлагается следующим образом.
После поклона, передачи даров и возжигания благовоний каждый кандидат по очереди приближается к ламе, держа четки в руке. Затем лама кладет пальцы ученика и свои собственные на одну из бусинок четок, произнося слова: «Ом мани падме хум !» Он может продолжить это делать со всеми ста восемью бусинками или произнести формулу только один раз, с одной-единственной бусинкой, предоставляя верующему возможность в дальнейшем произносить формулу одному.
Иногда набожная толпа продолжает сидеть перед ламой, слушая, как он сто восемь раз произносит «Ом мани падме хум !» над своими четками. Каждый раз все верующие касаются пальцами одной бусинки своих четок одновременно с ламой, бормоча вместе с ним сакральную формулу.
Есть также множество других методов.
Мани-лунг и другие лунги для обычных людей основаны на том же самом принципе, что и великие ангкуры, слабой имитацией которых они являются.
Церемония, проводимая мастерами мистики, отличается от только что описанной формы. У них она соответствует формальной плате за вступление кандидата, намеренного стать учеником, которому постепенно будет передан дамнгаг. Обряд должен создать мистические и психические связи между новым учеником и «его ламой», а также, кроме него, со всеми мастерами, которые предшествовали ему как последовательные представители лоб гьюда (lob gyud). То есть это принятие новичка в религиозную семью.
В данном случае создается килкхор (магический круг) и призываются опекающие божества и ламы, духовные предки гуру. Когда обряд заканчивается или на следующий день новичку даются указания о предмете медитации и духовного обучения.
После испытательного периода, срок которого строго не определен, ему может быть дарован ангкур.
Хотя здесь мы используем слово «посвящение», надо заметить, что тибетский термин не соответствует обычному смыслу слова «посвящение». Основная идея, которую мы связываем с посвящением, — раскрытие тайной доктрины, позволение узнать определенные тайны, тогда как ангкур, прежде всего — это передача власти, силы, своего рода психический процесс. Имеется в виду, что новичку передается способность выполнить определенное действие или заниматься определенными упражнениями, которые призваны развивать различные физические или интеллектуальные способности.
Сакраментальные посвящения практикуются не только у ламаистов. Их можно найти в различных формах в любой религии. Прямой предок ламаистских ангкуров — индусский абхишека (abhisheka). Однако возможно, что до прихода на Тибет тантрического буддизма, бонпо уже осуществляли посвящения, дух которых теперь можно обнаружить в ламаистских ангкурах. Санскритский термин абхишека означает «окропить», «посвятить помазанием». Примечательно, что тибетские переводчики (лоцаба (lotsawas)), чье мировоззрение, безусловно, пронизано верой, отвергли в этом случае смысл «посвящение путем помазания» и приняли перевод «передача силы» — ангкурба . Их стремление выбрать другой термин сделало еще более очевидным тот факт, что они сохранили идею относительно опрыскивания в ту-солба (tus solwa) (пишется khrus gsolwa ) — очистительный обряд, в целом отличный от ангкура. Ламаисты различают три категории учения, три категории методов и практик и три вида соответствующих им посвящений: экзотерическое, эзотерическое и мистическое [49]. Кроме того, каждый из этих видов посвящения имеет три степени — общую, среднюю и высшую, и при этом каждая степень включает в себя несколько вариантов.
Экзотерическая категория включает в себя большое число лунгов и ангкуров. Многие из ангкуров представляют собой своего рода ритуальное представление инициированного узкому кругу выдающихся личностей ламаистского пантеона. Во время этого представления, которое напоминает представление клиентов римским патрициям, возникает мощная связь между могучей сущностью, принадлежащей иному миру, и его преданным слугой на земле. В целом его защиты искали для того, чтобы получить богатую, долгую и свободную от болезней жизнь и счастливое возрождение в раю. Самое популярное из подобных посвящений — бесконечно сострадательному Ченрези[50]. Для учеников есть также посвящение Джамполянгу, они стремятся получить дар проницательного ума.
Среди магов низшего порядка есть определенные посвящения, которые призваны поместить новичка под опеку различных демонов, которые защищают знатоков колдовства.
Охотники получают специальное посвящение, которое делает из них слуг и протеже определенных духов, которых они должны впоследствии чтить, жертвуя им определенную часть животных, которых они убивают. Считается, что «посвященные» этой категории должны охотиться только в строго определенные дни, иначе их поразят болезнями существа, с которыми они заключили союз. Некоторые из этих дней — особенно полнолуние — выделены буддистами для медитаций относительно Доктрины и практики добрых деяний. Верующий должен воздержаться, даже более, чем обычно, от лишения жизни даже самого крошечного насекомого. Нарушение этого религиозного закона еще более усиливает осуждение, которое существует в отношении охотников на Тибете. Однако в любом случае, особенно среди пограничных народов, это осуждение является скорее теоретическим, чем практическим.
Ангкуры Подмасамбхавы (Padmasambhava), разных Дакини (Dakinis), Чанчуб Семспа (Бодхисаттв) и различные другие могут быть тайными или частично тайными.
Падмасамбхава — знаменитый тантрический буддист-маг, который проповедовал на Тибете приблизительно в восьмом веке н. э. Его ангкур передает дух тайных методов.
Ангкур Дакини обеспечивает связь человека с матерями-феями, которые преподают мистические доктрины и магические науки.
Ангкур Чанчуб Семспа (Бодхисаттва) (Changchub Semspas) связывает верующего с Богом бесконечной щедрости — наиболее известной формой его является Ченрези — и позволяет ему вступить (в подражание самому себе) на путь преданности и бескорыстного служения всем существам.
К той же категории относится и ангкур Долмы (Dolma) [51] и многие другие, слишком многочисленные, чтобы перечислять их здесь.
Определенные посвящения объединяют под одним и тем же названием три формы: обычную открытую, эзотерическую и мистическую. Они даются в той или иной из этих форм, в низкой, средней или высшей степени, согласно ментальному уровню кандидата.
Различные ангкуры Йидам принадлежат к той или иной из высших категорий: эзотерической или мистической, согласно учению, переданному во время и после проведения обряда.
Йидам у ламаистов сравнивается определенными авторами с Ишта Девата (Ishta Devata) у индусов. Ишта (Ishta) «желанный» — имя, даваемое в Индии верующим божеству, которого он выбрал не столько как защитника, а скорее как объект его страстной любви бхакти (bhakti). Особенность бхакти — то, что бхакта любит своего бога как такового, не изыскивая в этой любви никакой иной пользы, кроме разрешения любить его. В бхакти полностью отсутствует элемент интереса верующего, который полагает, что обожаемый им бог как-то «отплатит ему за его любовь». Один бхакта сказал мне: «Мой бог может бросить меня в ад и мучить там, если ему это заблагорассудится, и я буду радоваться этим мучениям, так как они будут приятны ему». Согласно санскритской фразе, часто повторяемой бхактами, верующий должен любить своего бога, «как бесстыдная женщина любит своего возлюбленного», то есть неистово и безумно, не принимая во внимание ничего, кроме этой любви. Индусский верующий стремится жить со своим Ишта Девата (Ishta Devata) в будущей жизни или вступить с ним в мистический союз. Блаженство, которое он ищет, — перенесенное в духовную плоскость объединение со своим возлюбленным, и ничего более.
Этот вид мистики совершенно неизвестен на Тибете. Здесь Йидам играют совсем другую роль, чем Ишта (Ishtas). Их вера не предоставляет никакой возможности для любого проявления «духовной чувственности».
Согласно экзотерическим теориям, Йидамы — это могучие существа, которые защищают тех, кто почитает их. Тайное учение изображает их в виде оккультных сил, а мистики расценивают их как проявления энергии, присущей телу и сознанию.
Конечно, столь краткое объяснение грешит значительной неполнотой.
Любой Бодхисаттва (Changchub Semspa) может быть выбран как Йидам, но когда — как это часто случается, у него два лица, одно благожелательное, а другое чудовищное[52], — обычно именно последнее выбирается в качестве защитника. Что касается других мифических персонажей из среды Йидамов, они относятся к самому ужасному типу и не должны ошибочно приниматься за богов Лха (lha).
Некоторые Йидамы имеют даже демонических потомков вроде Тамдрин (Tamdrin), Дза (Dza), Еше-Гампо (Yeshes-Gompo)[53]и других. Мы должны, однако, следить за тем, чтобы не приписывать этим тибетским названиям, которые из-за отсутствия других слов нам приходится переводить словом «демон», значение, которое этот термин имеет в христианстве.
Как было только что сказано, посвящения, относящиеся к экзотерической категории, имеют характер церемониального представления могучему защитнику, или некоего разрешения, которое дозволяет законное и плодотворное осуществление особого акта религиозного служения.
Значение эзотерического ангкура более трудноуловимо. Они стремятся ввести новичка в духовную общность тех, кто в прошлом осуществлял — или осуществляет сейчас — обряды, которые он сам намерен практиковать.
По словам ламаистских мистиков, результат этого общения — придать ритуальным действиям, выполненным совершающим ритуал монахом, и волшебным формулам, которые он произносит, силу, которой не смог бы их наделить обычный новичок.
Представление сверхчеловеческому существу влияет, эзотерически, на природу частичного слияния между верующим и тем, в кого он верит. Первый получает пользу в том, что он до некоторой степени соучаствует в достоинствах и силе высшего существа, с которым у него не прерывается тесный контакт.
Эзотерические ангкуры также даруются ученикам, которые начинают определенные практики вроде медитации на мистических центрах тела [54], тумо (tumo), искусства согревания без огня, или тем, кто обучается практике определенных обрядов типа чод (chоd), в которых тело предлагается в пищу голодным демонам [55].
Посвящения, называемые «мистическими» (sngags), — по своей природе духовные. Они базируются на теории, что энергия, исходящая от мастера или из более оккультных источников, может быть передана ученику, который способен «извлечь» ее из духовных волн, в которые он погружен во время осуществления ритуалов ангкур.
Ламаисты говорят, что в этот момент сила переходит под контроль новичка. Уловить и приспособить ее — вот относящаяся к нему часть церемонии. Успех этого зависит от его навыков.
Следовательно, когда инициирующий лама дает энергию, которую его ученик должен воспринять, последний не должен быть совершенно пассивным. В ходе бесед на эту тему с посвященными мистиками я слышала, что некоторые из них определили ангкур как особую возможность, которую дают ученику, «чтобы обеспечить себя силой».
Ни один посвященный лама не считается способным передать все виды ангкуров. Причину этого легко понять — никто не может обеспечить другого человека тем, чем не обладает сам или не может позаимствовать в ином месте.
Если ламе не хватает определенной силы, которая должна быть сообщена в определенном ангкуре, но он остается способным к глубокой ментальной концентрации, он тем не менее во время прохождения обряда может привлекать потоки силы, исходящей от его собственного гуру (даже если последний умер), от Бодхисаттв (Changchub Semspa), или от Йидамов, с которыми он находится в привычных духовных или религиозных отношениях.
Небольшое число отшельников, соединенных гонг-гьюд (gong gyud), совершают полностью безмолвные посвящения, которые при этом производят весьма глубокое впечатление. Вместо устных указаний они проводят несколько часов в медитации, в течение которых мастер и ученик неподвижно сидят один напротив другого.
Цель этих мастеров заключется не в том, чтобы передать указания ученикам, и даже не в том, чтобы предложить предмет для медитаций, а скорее в том, чтобы развить у них способности, позволяющие входить в прямой контакт с объектами, которые будут известны им как нечто большее, чем их внешнее проявление, видимое большинству человечества.
Мастера Да-гьюд (Da gyud) в ходе посвящений безмолвно совершают символические жесты [56]. Они также указывают на различные предметы или группируют их необычным образом, чтобы пробудить в своих учениках новые идеи.
Перед совершением мистического ангкура инициирующий лама уединяется на некоторое время, от нескольких дней до нескольких месяцев. Как правило, чем выше степень ангкура, тем больше будет длиться уединение. И во время этого уединения гуру будет оставаться в состоянии глубокой концентрации, сосредоточив все свои мысли на одном. Согласно мистической фразеологии, это называется однонаправленностью сознания. Используя несколько необычную метафору, хотя она очень хорошо выражает суть данной практики, я сказала бы, что лама запасается психической энергией, так же как аккумулятор заряжается электричеством.
Кандидат после посвящения также удаляется из активной жизни и готовит себя, ментально и физически, к получению той силы, которая будет ему передана. Его религиозные практики, его пища и сон, — все это регулируется в соответствии с советами его мастера. Он также старается освободить свое сознание от любых умозаключений, погрузить в тишину свои физические ощущения, чтобы не могла происходить никакая ментальная или физическая деятельность, способная создать препятствие потоку энергии, которая должна в него влиться.
Все это может показаться странным и даже абсурдным. Однако, возможно, научное исследование этих процессов могло бы привести к интересным открытиям. Мы все еще почти ничего не знаем о психических силах и о различных способах, которыми они могут использоваться.
Мистические ангкуры могут быть разделены на две группы. В первую входят те, которые используются с практиками йоги[57]. Наиболее важными из них являются дыхательные практики. Ко второй группе относятся ангкуры, касающиеся практики самосозерцательной медитации и в целом ментального тренинга.
Однако различие между предметами изучения, введением в которые служат эти ангкуры, является главным образом теоретическим. Определенная степень навыка в упражнениях йоги, преимущественно в искусстве дыхания, считается почти обязательной для достижения успеха в медитации.
Считается, что очень немногие способны по своему желанию обрести совершенную концентрацию мысли чисто интеллектуальными средствами.
С другой стороны, в методах, которые должны были привести к обретению сверхъестественных физических возможностей, например увеличения внутреннего тепла, обретения необычной легкости тела, возможности осуществления быстрых переходов на невероятно большие расстояния без пищи или отдыха и т. д., всегда присутствует элемент ментального тренинга.
По этой причине ученикам, стремящимся к духовному освобождению, достижению состояния Будды, ангкуры обеих групп даются по отдельности. Те, кто желает добиться сверхъестественных физических возможностей, получают своего рода смешанный ангкур, известный как ангкур лунг-гом-кьи (lung gom kyi).
Принимая во внимание, что посвящения низких степеней порой превращаются в пышные церемонии, при которых присутствуют несколько кандидатов, характер ритуала мистического ангкура выглядит очень сдержанно.
Эти ритуалы происходят обычно без свидетелей, в жилище мастера или в его отшельнической хижине, если он — отшельник. В самых высоких степенях ангкура ритуал почти или полностью отсутствует и определенными гуру медитативного порядка осуществляется безмолвный метод передачи мысли гонг-гьюд (gong gyud).
Следующее описание может дать вам некоторое представление относительно тайного или мистического ангкура низшей или средней степени, который проводится среди адептов «Прямого Пути».
Кандидат стучит в дверь гуру, спрашивая разрешения войти и получить ангкур. Иногда требуется, чтобы он никого не встретил по дороге, чтобы его никто не видел, даже издали, в тот момент, когда он идет из своего дома к жилищу мастера или в его отшельническую хижину.
Изнутри лама задает вопросы новичку относительно причин, которые привели его к этому шагу. Он предупреждает его относительно трудностей и опасностей, ждущих путника на мистическом Пути, и советует ему отказаться от этого трудного предприятия, полного опасностей, и вести добродетельную, хотя и более легкую жизнь.
Мастер вызывает Йидамов, Дакини и символическое божество, стоящее во главе секты, к которой относится он сам [58]. Он колдует, чтобы они охраняли дверь и помешали кандидату приблизиться к тайному килкхору, если тот недостоин этого.
В этот момент некоторые ламы бросают проклятия на человека с предательским или нечистым сознанием, который посмел потребовать посвящения; они приказывают, чтобы Йидамы и Дакини проявились в своих самых ужасных формах и разорвали нечестивца на части.
Вслед за выступлением ламы звучит дикая музыка: большие и малые барабаны, колокольчики, цимбалы и канглинг (kangling) [59] соединяются в один общий звук. На менее тайных церемониях, когда инициирующему монаху помогают ученики, уже прошедшие посвящение, производится адский шум с использованием различных инструментов, которым вторят стенания ламы и ужасные вопли его помощников — все это действует достаточно хорошо, чтобы ужаснуть доверчивого новичка.
Другие ламы считают это вульгарным. Их новички должны внимательно слушать, чтобы они могли услышать фразы, произносимые тихо внутри комнаты, значение которых может быть переведено следующим образом: «Иди своим путем, путник; не стой здесь. Многие живут приятно и в этом мире, и в других. Живи добродетельной жизнью и следуй предписаниям закона. Легок и полон очарования путь, ведущий к местопребыванию счастья.
За этой дверью — крутой и труднопроходимый путь, окутанный мраком. Препятствия, которые трудно и больно преодолевать, неуловимые миражи, на каждом шагу приходится сталкиваться с изматывающим сопротивлением. Достаточно ли ты уверен, чтобы взойти на такую высоту?.. Достаточно ли ты смел, чтобы встать лицом к лицу с любой опасностью, любым риском?.. Достаточно ли ты мудр, чтобы рассеять все иллюзии? Ты преодолел притяжение жизни, чувствуешь ли ты себя способным загореться, как факел, чтобы пролить свет на этот путь?..»
Кандидату также напоминают о том, что ему говорили, когда он становился учеником, — что при вступлении на «Прямой Путь» он рискует подвергнуться опасной болезни, безумию и определенным воздействиям оккультного характера, что может привести к смерти.
Порой также вызываются Йидамы и Дакини, но молча, однако впоследствии это оказывает намного более сильное и яркое впечатление.
Когда предварительные обряды заканчиваются, дверь открывается, и новичок допускается внутрь. Войдя, он бросается в ноги мастеру и кланяется килкхору. Порядок, в котором осуществляются поклоны, в разных сектах и у разных лам разный.
Многие думают, что сначала следует поклониться килкхору, в котором в тот момент находятся Йидамы и Чанчуб Семспа (Бодхисаттвы). Другие говорят, что это мнение только доказывает невежество тех, кто рассуждает подобным образом.
Легенда школы Кагьюпа (Kahgyudpas) сообщает, что Mapпa, основатель их секты, был обвинен его мастером Наропой в том, что он прежде всего склонился перед килкхором.
«Именно я создал килкхор, — заявил Нарота. — Именно я дал ему ту жизнь и энергию, которой он обладает. Но, на мой взгляд, там нет ничего, кроме безжизненных фигур и предметов. Божества, которые населяют его, родились из моего духа; следовательно, именно мне первому должно выказываться уважение».
Считается, что эта ошибка, совершенная Марпой, была причиной того, что духовная линия Наропа, вместо того чтобы быть продолженной его сыном [60] (Марпа был женатым ламой), перешла к его ученику Миларепе.
Ученик должен войти в комнату с опущенными долу глазами. Выполнив поклон, он может посмотреть на своего гуру и на килкхор, сначала поднимая взгляд на ноги мастера, а затем на нижнюю часть килкхора, затем постепенно поднимая взгляд, пока не увидит голову мастера и верхнюю части килкхора.
Впоследствии ему разрешают сесть. В течение некоторых ангкуров ученик занимает свое место в середине волшебного круга.
Каждый вид ангкура имеет собственные особые обряды, и они также изменяются согласно правилам дамнгага, в который посвящается инициируемый, в зависимости от секты, к которой принадлежит мастер, от степени ангкура, от того, эзотерическая или мистическая это ступень, общая, средняя или высшая это степень, и т. д.
Ученик должен выпить святую воду, которую ему наливают в пустую руку. Затем ему дают пилюли для посвящения [61].
Различные символические предметы вроде сосуда, содержащего «воду бессмертия», зажженной лампы, священной книги, раки и т. д. на какое-то мгновение возлагаются ему на голову.
Инициируемому завязывают глаза и ставят перед металлической или деревянной пластиной, на которой изображен, с помощью зерна или цветных порошков, схематический рисунок, изображающий пять частей, составляющих личность (форма, ощущения, восприятие, субъективные различия и сознание), расположенных вокруг круга, обозначающего Пустоту.
Ученик должен бросить в этот рисунок маленькую стрелу. Предзнаменования толкуются на основании положения стрелы и места, куда она упала, от того, на какой из пяти рисунков указывает ее острие. Самое превосходное предзнаменование — когда острие стрелы попадает в центр круга. Это означает, что новичок будет в состоянии освободить себя от пут, которые сопровождают каждую часть личности, то есть достигнет Нирваны.
Определенные ангкуры, предваряющие выбор способов обучения, имеющего целью приобретение сверхъестественных способностей, включают необычные символические жесты, крайне неприятные для того, кто должен выполнить их. Я ограничусь описанием только одного из наименее болезненных.
Во время посвящения, которое предшествует обучению, призванному развить внутреннее тепло [62], новичок должен проглотить зажженную свечу. Она делается из масла и может достигать длины 10 см. Любой, кто не является профессиональным шарлатаном и не сможет позволить себе ловко выбросить ее, находит этот тест — я говорю на собственном опыте — совершенно лишенным очарования. Этот же самый ангкур обычно выполняется зимой в высокогорье. Ученик должен оставаться голым в течение всей церемонии, то есть в течение четырех или пяти часов подряд. В определенных случаях, а также когда инициируются женщины, допускается единственная рубашка.
Однако, как правило, кандидат задолго до дня своего посвящения прошел уже достаточно много тестов и перенес столько страданий, что стал весьма выносливым. Немного померзнуть, слегка обжечь рот, трудолюбиво пережевывая свечу, покажется ему сущим пустяком.
Ангкуры, связанные с практиками лунг-дом (lung-gom), культом Йидамов и божеств, со способностью порабощать демонов и с магией, не включены в постепенные инициации, которые отмечают различные стадии мистического пути ламаистов.
Согласно мнению некоторых лам, мистических ангкуров духовного свойства всего пять, но, похоже, четыре является религиозным числом. Миларепа в своей автобиографии упоминает только четыре из них, его мастер, Марпа, объявляет, что сам он знаком больше чем с четырьмя ангкурами.
Четыре — также число ангкуров, ведущих к духовному совершенству, которое известный лама Лонгчен упоминает в имеющемся у меня трактате.
Мой личный опыт заставляет меня полагать, что «пять» ангкуров относятся к другому ряду инициаций, в которых это число было сохранено потому, что оно соответствует пяти частям, совокупность которых в буддизме составляет личность — то есть форма, восприятие, ощущение, ментальные понятия или субъективное дифференцирование и сознание.
Нет ничего сложнее, чем обряды тибетских тайных школ, которые существуют параллельно с официальным ламаизмом. Ориенталисты, интересующиеся этими предметами, увидят на Тибете непочатый край работы.
Между прочим, я хотела бы упомянуть, что в индусском тантризме существует восемь последовательных инициаций.
Духовная жизнь, по мнению ламаистов, включает две крупные стадии, подразделенные на множество других, более мелких. Первая — это стадия «активности», вторая — стадия «бездеятельности», включающая простую бездеятельность и абсолютную бездеятельность.
Несмотря на длинные рассуждения относительно инициаций, приведенных здесь, я думаю, что особое внимание следует обратить на два посвящения, относящихся к мистической категории, одно «с активностью», а другое — «без активности». Здесь у меня есть возможность позволить моим читателям присутствовать при тайных церемониях, на которых до этого момента никогда не присутствовали иностранцы.
Приведенное здесь описание этих обрядов основано на устных описаниях, данных мне компетентными ламами, с которыми я была лично знакома, а также на ритуале, текст которого записан для меня известным ламой, Лонгченом, автором нескольких авторитетных мистических трактатов.
Первый из четырех ангкуров, ведущих ученика к духовной зрелости, называют «превосходный ангкур с активностью».
Чтобы иметь право давать его, лама должен быть очень сведущим в трех разделах ламаистских канонических Священных писаний, в которых соответственно рассматриваются вопросы философских доктрин, ритуалов и метафизики.
От ученика требуются следующие свойства.
Его чувства к мастеру, который должен подготовить его к незамутненному видению Реальности, должны быть идентичными тем, которые он ощущал бы к самому Будде. Он должен верить в него и в эффективность получаемого ангкура.
Обратите внимание на то, что в этом последнем моменте ламаизм значительно отличается от доктрины ортодоксального буддизма, согласно которому десять «связей» мешают людям добиться спасения. Третья из этих связей, в канонической терминологии, «вера в эффективность религиозных обрядов». Согласно учению примитивного буддизма, необходим отказ от веры в эффективность священных и других церемоний, прежде чем будет сделан первый шаг к духовному просветлению. Технически это называется «вхождением в поток».
Однако, когда ламам, компетентным в эзотерических методах, указывают на это расхождение во взглядах, они отвечают, что противоречие в принципах является только видимым и в целом временным. Они говорят, что обряды оказывают лишь эффект, сходный со своего рода психотерапией, и ритуальные формы определенных «посвящений» — просто уступка невысокому интеллектуальному уровню учеников. Цель же заключается в том, чтобы освободиться от всего этого. Великие посвященные отбросили их, и Миларепа — наглядный тому пример.
Есть также те, кому они никогда не были нужны. Как мы вскоре увидим, литургические слова, произносимые во время мистических посвящений, подтверждают высказывания лам. Действительно, они обычно демонстрируют новичку силу и знания, уже существующие в нем в скрытом состоянии, побуждают его развивать их и полагаться только на них.
Ученик должен подготовить себя, чтобы получить ангкур «деятельности», живя чистой жизнью, «избегая злых деяний, как любой человек избегает ядовитой змеи». Видя нелепость мотивов, двигающих основной массой людей, и желая быть связанным священными обязательствами, которые направляют сознание формировать правильные представления, инициируемый должен быть готов принести своему мастеру как доказательство своего почитания все свое состояние, свою личность, свою жизнь.
Необходимо уделить особое внимание тому, чтобы последнее условие не было простой риторикой. Естественно, я сомневаюсь, делал ли какой-либо гуру когда-либо условием для принятия ангкура то, что его ученик должен совершить самоубийство или быть убитым после завершения церемонии. Подобное можно найти только в легендах. Между прочим, некоторые подобные легенды просто прекрасны. В них повествуется о героических людях, заявлявших, что готовы встретить смерть, быть пожранными демоном, который знает некую важную истину, при условии, что последний поделится с ним ею. Святой часто просит разрешения написать эту истину на скале для передачи ее своим товарищам и затем предлагает себя монстру. Но даже когда знание, которое он купил так дорого, знает совсем недолго он один, считается, с буддистской точки зрения, что его жертва не была напрасной. Эффект знания, которое он приобрел, проявится в следующей жизни.
Однако это реальный факт, что мастера проверяют своих учеников, прося у них принести жертву в виде человека и имущества.
Марпа в течение многих лет пользовался услугами Миларепы, доходя до того, что ставил под угрозу его здоровье и почти что его жизнь, заставляя его строить без чьей-либо помощи дом, который он несколько раз приказывал уничтожить и начать строить снова по новому плану.
Тот же самый Марпа, когда его ученик Чодор пригнал ему весь свой рогатый скот в качестве дара, приказал ему вернуться домой (путь в несколько дней) и принести из дома на своих плечах козла, которого он ставил в стойле, потому что тот был хромым.
Эти два последних факта особенно широко известны на Тибете. Рассказывают и множество других случаев — даже современным ламам все еще нравятся подобные, несколько жесткие, практики.
На Западе вряд ли возможно даже представить себе господство, принятое между азиатским религиозным мастером и его учеником. Я уже говорила, что жители Тибета выказывали меньшую щедрость в своих преувеличенных демонстрациях преданности, чем индусы, и что они могли различать в характере своих духовных наставников как замечательные черты, так и не слишком привлекательные. Это не мешает ученикам в определенные моменты испытывать внезапные пылкие порывы по отношению к своим учителям. Подвигаемые этим энтузиазмом, они становятся способны на действия, которые большинство людей Запада сочло бы безумными.
Переходя к обряду посвящения, лама начинает рисовать мандалу. Санскритский термин «мандала» часто используется в ламаистской религиозной литературе, он эквивалентен тибетскому термину «килкхор» [63]. Лама Лонгчен в уже упоминавшемся мной тексте использовал его наравне с килкхором. И все же есть определенное различие между мандалой и килкхором. Первая состоит из символических фигур и даров божеству. Последний может быть оживлен присутствием определенных существ или сил, которые приглашает лама; в состав одного килкхора может входить несколько мандал.
Мандала «ангкура с деятельностью» является квадратной [64], длина каждой из ее сторон равна расстоянию между локтем и концом среднего пальца ламы, который ее рисует. Ее поверхность должна быть гладкой, как зеркало. Рисунок чертится порошками пяти различных цветов: белый, желтый, зеленый, красный, синий.
В каждом углу мандалы рисуется дверь, в середине которой наносится синий диск с восьмилепестковым лотосом.
Символический рисунок окружают четыре «бруска», каждый своего цвета: белый на востоке, желтый на юге, красный на западе и зеленый на севере. Внутри раскладываются разнообразные дары, в то время как другие фигуры символизируют различные страны, жилище и т. д.
Другой «брусок», представляющий собой дордже, окружает весь рисунок. В центре и по четырем углам ставятся пять ритуальных сосудов с надписью Аум-А-Хум (Aum-А-Hum) на каждом. В этих сосудах содержится смесь чистой воды и молока, в которую кладутся пять видов зерен, пять видов лекарственных растений, пять видов ароматов, «три белизны» (сливки, сыр, масло) и «три сладости» (мед, сахар, патока). К каждому сосуду прикрепляется пять стрел, пять зеркал, пять кристаллов горного хрусталя, пять кусков шелка пяти различных цветов, пять изображений пяти мистических Будд (конечно, миниатюрных), внутрь кладутся пять павлиньих перьев.
В кубке, имеющем форму человеческого черепа (иногда это настоящий человеческий череп, установленный на три серебряные ножки), находится еще одна подготовительная составляющая (иногда черный чай, иногда перебродившие зерна), представляющая собой напиток бессмертия.
Возле каждой из четырех дверей кладется волшебный кинжал, четыре ножа с искривленными лезвиями кладутся внутрь мандалы между четырьмя брусками. В мандалу также кладутся ритуальные пироги торма (tormas) и различные предметы, необходимые для того, чтобы даровать ангкур, который наконец кладется поверх всего, окруженный танками (thankos) (рисунки на ткани, которые могут сворачиваться).
Церемония ангкуров состоит из трех частей:
1. Лама благословляет себя и мандалу.
2. Ученика допускают в комнату, в которой находятся лама и мандала.
3. Передается ангкур.
Вначале лама, который в тот момент находится в одиночестве, призывает к присутствию Будды в мандале.
Мы не должны думать, что здесь призывается исторический Будда или даже его душа, которая должна была бы пребывать в настоящее время в каком-то раю или ином месте. В подобных обрядах термин «Будда» символизирует эзотерическое Знание, которым обладают Будды. Существующая в них духовная сила будет передана ученику.
В «ангкуре с активностью» эта первая часть обряда очень короткая. Как только она заканчивается, кандидата приглашают войти в место, где до этого момента скрывался лама. Во время одной церемонии посвящение может быть дано одному или большему числу учеников.
Кандидат — или каждый кандидат, если их несколько, — склоняется ниц перед ламой и мандалой. Затем следует литургический диалог между мастером и учеником. Когда инициацию проходят несколько учеников, они все вместе произносят свои части диалога. Следующий перевод поможет понять, что при этом говорится.
Ученик : «Благородный лама, высшая сущность, как я счастлив, что мне позволено прикоснуться к этой великой тайне; я умоляю тебя допустить меня к ней».
Лама : «Сын мой, имеющий за своей спиной множество добродетельных дел, внимая моим тайным заповедям, ты должен получить от этого добрые плоды, отбросив все сомнения, и получить драгоценный камень знания.
Ответь мне, счастлив ли ты будешь, получив меня в качестве своего мастера?»
Ученик : «Я буду самым счастливым».
Лама : «Пять мудростей [65], Будда, Учение и религиозный Порядок существуют в тебе самом. Медитация позволяет тебе понять эту свою собственную сущность, очищенную от любого зла, и помогает найти свое истинное спасение. Ищи спасение в самом себе».
Ученик : «Нацеленный благосклонностью моего ламы, возможно, я смогу в этом мире мрака невежества использовать лампу моего собственного метода и обнаружить скрытую во мне мудрость».
После этого лама привязывает веревочку, скрученную из ниток пяти цветов, на левую руку кандидата. В случае, если инициируемый — женщина, веревочка завязывается у нее на правой руке.
Завязывая ее, лама произносит мистическую формулу снаг (snags).
Затем, когда произносятся прочие снаг, он поднимает стоящий перед ним снаружи мандалы сосуд, в котором находится священная жидкость, и говорит: «Эта вода — дивная вода связующих клятв. Если ты нарушишь эти клятвы, то будешь вечно гореть в ужасном очистительном огне. Если, с другой стороны, ты истинно веруешь, твои усилия увенчаются успехом. Держи в своем сердце эту воду с запечатанными в ней священными обязательствами, и заключенная в тебе сила многократно увеличится». (Сила, необходимая для того, чтобы достичь цели инициации.)
Затем в сложенные руки ученика наливают немного воды, и он выпивает ее.
Затем лама, сопровождая свою декламацию несколькими нечастыми и глухими ударами ритуального барабанчика дамару (damaru), объясняет ученику значение так называемых энергетических центров «лотоса», которые расположены соответственно в пупке, сердце, горле и на макушке головы.
Кандидат внимательно слушает эти объяснения.
Чтобы символически представить тот факт, что мудрость была скрыта невежеством на срок, начало которого невозможно ни воспринять, ни даже представить, глаза кандидата закрываются повязкой из черного шелка.
Держа зажатым в руках кусок шелка пяти мистических цветов, инициируемый говорит: «Долгая последовательность причин и следствий, идущая с незапамятных времен, поставила меня лицом к лицу с существующим проводником вечного света. Я надеюсь стать членом этой святой семьи». (Духовная семья, образованная мастерами и учениками, которые принадлежат к единой мистической школе.)
Все еще с повязкой на глазах инициируемый бросает цветок на мандалу.
Во время каждой инициации ученику дается новое имя. Теперь его имя зависит от того участка килкхора, на который падает цветок, брошенный инициируемым.
В следующей таблице собраны имена, в основном даваемые при посвящении:

Ученик должен держать свое, полученное им при инициации имя в строжайшем секрете, тогда как имя, полученное им при входе в религиозный орден, становится тем именем, под которым впоследствии становится известен монах.
Литургическая декламация продолжается и после того, как инициируемому дается имя:
Ученик : «Бог, держащий скипетр, мастер, превышающий всех мудростью, соблаговоли просветить невежество того, кто блуждает вслепую по трем мирам».
Лама : «Сын достойной семьи[66], который, ослепленный невежеством, долгое время жил в неведении той мудрости, которая таится в нем самом, этой палочкой, подобной драгоценной Yidjine, (легендарное сокровище, дарующее удовлетворение всех желаний), я позволю тебе увидеть свет».
Золотой палочкой лама снимает кусок черного шелка, который закрывал глаза ученика. В этот момент ученик должен думать, что его невежество рассеяно.
Лама : «Слушай, сын благородной семьи. Смотри внимательно внутрь самого себя; медленно оглядись вокруг себя. Ты сможешь заметить очень многое».
В этот момент говорят, что люди с чистым сознанием видят ламу совсем в ином виде, иногда в форме божества или окруженным лучами света, истекающего из его тела. Порой его форма исчезает и заменяется «пучком света».
Лама спрашивает ученика: «Что ты видишь в мандале?» Кандидат называет цвет, который он видит наиболее явно во всех деталях, используемых в рисунке мандалы. Этот цвет обозначает преобладающую в нем природу «мудрости».
Затем лама раз за разом направляет золотую палочку на различные части килкхора (мандалы), объясняя ученику значение рисунков и различных помещенных в них объектов. По мнению тибетцев, каждая фигура и объект — символ, касающийся космогонической теории или относящийся к физиологической или психической конституции человека.
Теперь мы переходим к обрядам «передачи силы», то есть к различным ангкурам, которые составляют «посвящение с активностью». Эти ангкуры соответственно называют:
ангкур мистического мастера;
тайный ангкур;
ангкур знания и мудрости;
ангкур символических слов.
Ритуальные жесты этого ангкура заключаются в касании сосудами, содержащими святую воду, четырех точек тела, где, согласно мнению ламаистов, располагаются центры психической силы. Затем они льют понемногу эту воду на каждую из этих точек.
Как уже говорилось, пять сосудов ставятся в килкхор, один в центре и остальные по углам, в направлении четырех стран света. Сосуды имеют следующие символические названия:
Сосуд сферы существования;
Сосуд вечной природы;
Сосуд разворачивающейся мудрости;
Сосуд, лишенный страстей;
Сосуд мудрости, быстро приводящей к счастью.
Ученик сидит со скрещенными ногами, так, как обычно изображают Будду.
Лама берет сосуд, который находится посередине килкхора, ставит его на голову инициируемого и говорит: «Сосуд сферы существования заполнен драгоценной влагой света. Благословенный сын, теперь, когда ты наполнен силой, ты понимаешь природу существования».
Мистический язык Тибета полон образов, в нем используются термины, для которых трудно найти эквиваленты в языках Запада. Здесь «сфера существования» является также сферой «естественных законов». В конце концов, это умение распознать и различить природу материальных и духовных явлений, составляющих мир.
Лама проливает каплю святой воды на голову кандидата. Это действие показывает, что происходит очищение энергетического центра, который, согласно мистическим теориям, находится на макушке.
Лама: «Этот сосуд и эта вода в символической форме отображают мудрость Учения, распространяющуюся в Пустоте [67].
Благословенный сын, теперь, когда ты наполнен силой, узнай мудрость, которая проникает в фундаментальное единство всех вещей. Это может пробудить истинное знание, которое пребывает внутри тебя».
Сосуд, стоящий на востоке от килкхора, ставится напротив сердца кандидата.
Лама : «Сосуд «вечной природы» заполняет свободная и возникающая сама по себе вода. Благословенный сын, пойми значение истинной и неустрашимой сути вещей».
Лама льет каплю воды на место, где располагается сердце [68], отмечая, как и в предыдущем случае, что этот энергетический центр также очищен.
Лама : «Этот сосуд и эта вода в символической форме отображают разум, испускающий внутренний свет, которому не страшны любые препятствия.
Благословенный сын, теперь, когда ты наполнен силой, узнай отзеркаливаемую мудрость».
Отзеркаливаемая мудрость — одна из пяти мудростей, которые дают истинное знание вещей, отражающихся в ней, как в зеркале. Она сама, как и зеркало, остается неизменной, независимо от того, какие объекты или сцены в ней отражаются, при этом ясно созерцая действие явления.
Сосуд, располагавшийся на юге килкхора, ставится напротив горла кандидата.
Лама : «Сосуд разворачивающейся мудрости заполнен драгоценной влагой желания Знания. Благословенный сын, теперь, когда ты наполнен силой, ты будешь преуспевать в своих попытках обрести Знание».
Капля воды проливается на горло кандидата.
Лама : «Этот сосуд и эта вода в символической форме отображают желанное знание, которое испокон веку существует в мудрости, рожденной пониманием.
Познав себя, ты поймешь свои желания. «Мудрость, которая делает всех равными» может проявиться в тебе!»
Это выражение обозначает мудрость, которая позволяет существовать внутренней индивидуальности всех существ. Такая мудрость приобретается путем созерцательной медитации.
Сосуд, стоявший на западе, ставится напротив пупка кандидата.
Лама : «Драгоценная влага счастья, которое облагораживает любую деятельность, заполняет сосуд, он свободен от страстей. Сын мой, обрети силу оставаться бесстрастным».
Лама проливает несколько капель воды на пупок. Как уже говорилось, это действие очищает и этот энергетический центр.
Лама : «Этот сосуд и эта вода в символической форме отображают вечный дух, бесстрастный и наполненный благословением, который в виде текучей воды бессмертия течет через энергетические центры тела (лотос). Познай мудрость, которая различает!»
Это обращение к мудрости, которая различает особенности всех объектов знания и правильно группирует их.
Сосуд, стоявший на севере, ставится последовательно в каждую из четырех точек, которых лама касался другими сосудами: макушка, сердце, горло и пупок.
Лама : «Драгоценная влага «активности в безопасности» заполняет сосуд «мудрости, которая быстро вызывает состояние счастья». Благословенный сын, теперь ты наполнен силой, которая приносит осуществление цели».
По капле воды льют на каждую из четырех указанных частей тела для очищения энергетических центров, в которые, как было сказано, вливается сила.
Лама : «Эта вода и этот сосуд отображают в символической форме безопасное попадание в бесконечно свободную сущность, сверкающее сияние духовной энергии.
Это самопросветление, самоосвобождение и саморазвивающаяся мудрость, эта великая сила самосовершенствующейся вечности известна как «мудрость, объединенная с активностью».
Действия этого обряда те же, как и при ангкуре мистического мастера, описанном выше. Единственное различие заключается в том, что, вместо того чтобы коснуться тела кандидата сосудами, заполненными святой водой, его головы, сердца, горла и пупка последовательно касаются человеческим черепом. Это делается всего один раз. Череп был срезан таким образом, что его верхняя часть образует кубок, в котором должна содержаться микстура бессмертия, отображаемая в символической форме, как уже говорилось, ячменным вином (пивом) или черным чаем.
Литургический текст значительно короче, чем в предыдущем случае, лама обращается к символу «отец и мать», персонифицирующему метод и знание. Он также ссылается на потоки психической энергии, циркулирующей в теле и на обмен силами, взаимодействующими между различными существами во вселенной.
В него не входят никакие ритуальные действия. Поскольку они заменяются «ментальными действиями» (yid kyi phyag rgya, произносится йир-кьи чаг-гья (yid kyi chag gya). Слова ламы касаются теорий, похожих на индусские теории Веданты. В этом случае говорят, что мир явлений нереален, он представляет собой своего рода игру (на санскрите Лила (lila)), в которой, подсознательно и непреднамеренно, Абсолют неразрывно соединяется с майей (иллюзией).
Здесь ученику предлагается рассматривать действие как игру (по-тибетски ролпа (rolpa)), которой наслаждается сознание, хотя оно знает — и именно потому, что знает, — что деяния лишены реальности.
Лама также рассказывает ученику об определенных формах медитации, которыми он должен заняться.
В чрезвычайно живописной манере лама изображает определенные фазы медитации на солнце, которое он сравнивает с медитациями на формирование миров, как это трактуют ламаисты.
«Между небесами и землей существуют ветра, которые пересекаются между собой вследствие неисчислимого кружения разных дордже»: образ, представляющий собой скопления атомов.
Затем идет речь о слиянии сознания с материей, причем способ этого слияния напоминает об одной из теорий философской школы Санкья.
Невежество, действующее как мощная сила, заставляет сознание выйти из Пустоты и вступить в «город пяти элементов». Теперь оно пойдет по огромному кругу и последовательно пройдет через королевства шести разновидностей существ, то счастливых, то несчастных, хотя освобождение происходит немедленно после того, как сознание познает самого себя; затем оно бежит из мира, в котором оно томилось в неволе, возвращается в Пустоту и там ищет отдохновения.
Однако это не драма, развивающаяся во времени, и в этих эпизодах нет ничего реального. Ламаисты считают это неверным пониманием нашей природы и окружающего нас мира.
Восточные языки очень образные, поэтому на Тибете в эти несколько туманные теории включен поэтический элемент, который порой невозможно передать. В данном случае смущенное сознание представлено в виде героя, мучительно бредущего по узкой извилистой тропе, затем сбегающего из тюрьмы и возвращающегося домой, где он спокойно засыпает.
Принимая во внимание тот факт, что ангкур может быть дан в монастыре, где живет лама, обряды «инициации без активности» могут осуществляться в тихом, хотя и приятном месте.
В этом случае мандалы вдвое больше, чем в предыдущем ритуале. Я не буду описывать их, избегая повторений, которые утомили бы читателя. Достаточно сказать, что фигуры и предметы немного отличаются от тех, которые используются в «инициации с активностью».
Для подготовки ламе требуется довольно много времени. Он должен выполнить различные обряды и в течение нескольких дней помедитировать. Если он ошибется в выполнении этих действий, «его слова и сознание не будут очищены», и он не сможет дать ангкур. Как и в случае предыдущего ангкура, в этом случае он также может инициировать сразу несколько учеников за одну церемонию.
Сразу после того, как ученик войдет в предназначенное для церемонии место, где сидит лама, он должен вымыться и очиститься дымом душистых растений. Затем, громко ударив в цимбалы, он идентифицирует себя с тем или другим ужасным божеством, представляет себя в кругу огня, и, наконец, держа в руке несколько маленьких палочек ладана, он входит внутрь и, после поклона ламе и килкхору, садится и говорит…
Ученик : «Я получил человеческое тело, хотя это было трудно (я родился человеком, а не существом другого вида). Я родился на земле Джамбу (буквально это — Индия, но жители Тибета имеют в этом случае в виду землю, где преобладает буддистское учение). Я познакомился со святым ламой и великим Учением. Мне пришло время вступить на путь спасения. Теперь я прошу приобщить меня к великому Учению.
В течение длинной и болезненной цепочки перерождений, как кормчий на потерявшем управление судне, оказавшемся посередине океана, как птица, пойманная в сети, как путешественник, попавший в опасные места, как осужденный в руках палача, даже в этом случае я сейчас буду освобожден.
Освобождение — нежный ветерок [69], спокойствие, счастье, избавленное от страха».
Это посвящение также включает несколько ангкуров и две степени: общепринятую и необщепринятую.
После долгого предварительного вступления ученик просит благословения духовных предков ламы, который будет инициировать его; он хвалит ламу и ищет убежища в Будде, в его Учении и в религиозном Ордене. Затем он связывает себя следующими клятвами:
«Я никогда не буду оскорблять моих соучеников; я не буду говорить о них ничего злого.
Я не причиню вреда животным.
Я не буду оскорблять людей, достойных уважения.
Я не причиню вреда монахам.
Я не буду отделять себя от мастеров секретных техник.
В этот день я отказываюсь от всех религиозных обрядов.
Я буду предан моим клятвам.
Я буду использовать свои тело, речь и сознание как можно лучше.
Я никогда не оставлю Учение Будды и не забуду о своих обязательствах по отношению к моему духовному мастеру.
Я не предам и не обману никакое живое существо.
С этого времени и до дня, когда я стану Бодхисаттвой (высокоразвитое существо, которое в следующей жизни станет Буддой), я не сделаю ничего неблагоразумного.
Я буду внимателен к указаниям моего духовного наставника.
Я не причиню никакого страдания любому существу.
Я ни о чем не попрошу, идя по пути к блаженству.
Я не буду подчиняться желаниям мира, даже если это будет стоить мне жизни.
С этого дня я не буду доверять кладбищам или хижинам отшельника (как местам, наиболее подходящим для того, чтобы заниматься медитацией и получать духовное просветление).
Я отказываюсь от всех мирских занятий.
Я никогда не брошу эти мои немирские занятия (те, которые ведут к духовному освобождению, к переходу с круга на круг духовного возрождения, вроде медитаций)».
В пустую ладонь инициируемого наливают немного святой воды, и он выпивает ее.
Затем начинается наставление ламы. Кандидату запрещают передавать непосвященным мистические слова и различные другие детали ангкура.
На необщепринятой степени вообще не используется килкхор или любой другой ритуальный объект, ученик просит ангкур в следующих словах: «O лама, предъявитель скипетра Учения, я, сын твоего сердца, желаю получить ангкур великого свершения, созданный без внешней помощи. Объясни мне, о лама, конечный килкхор, который является сущностью нашего сознания. Вступив в него, я никогда не пойду дальше».
Лама : «Благословенный и превосходный сын, просветленное сознание, ты, кто еще не получил ангкур великого свершения, я объясню тебе этот килкхор.
Отвергнув рассуждения, человек освобождается от привязанности к этому миру и прекращает принимать и отвергать низшую истину».
Это одна из фундаментальных доктрин ламаистских мистиков. Низшая, или приблизительная, истина (nad , произносится тха ньет (tha niet) связана с окружающим нас миром, это истина, которую мы расцениваем как реальную и которая действительно реальна в той же самой степени, что и мы сами. Эта истина включает различие между добром и злом, приятным и неприятным и т. д. и принуждает брать одни вещи и отвергать другие. Тот, кто поднялся до понимания Высшей истины тон тампа (ton tampa), видит за пределами этих различий и достигает спокойствия.
Цветы, которые ученик бросит на килкхор, столь же нематериальны, как и сам этот килкхор. Их называют «цветами знания», а килкхор известен как «тот, который не имеет дверей».
Кандидат сбрасывает свою монашескую тогу, символический акт отказа от работ в этом мире, даже лучших, вроде членства в религиозном ордене. Он поднимает руки к сердцу и сжимает их, упирается взглядом в сердце ламы, после чего мастер и ученик остаются в глубокой медитации.
Отшельники заканчивают посвящение этой медитацией. Другие мастера, когда медитация заканчивается, снова дают ученику святую воду и беседуют с ним подробно на различные философские темы вроде тех, которые имеют дело с «я» (или, скорее, с «не я»), «четырех пределов» [70] и многие другие. Эти последовательные беседы составляют множество ангкуров.
Чрезвычайно техническая природа этих трудов не позволяет им появиться где-либо, кроме как в чисто восточном трактате, к которому необходимо делать длиннейшие комментарии.
Говорится: надо быть внимательным, просветленным непринужденно (без «напряжения» через усилие), оставаясь в покое, не хватаясь за что-то и не отвергая ничего, — это составляет «необщепринятое» посвящение «без активности».
Чудеса, которые следовали во время празднования определенного ангкура, иногда рассказываются либо людьми, которые утверждают, что видели их лично, либо другими людьми, которые утверждают, что им рассказывали о них те, кто сам видел их воочию. Нелегко получить информацию по этому вопросу, поскольку сами инициированные дали обязательство хранить в тайне все обстоятельства, сопровождавшие их посвящение. Они нарушают это обещание только в самых редких случаях, когда считают, что их раскрытие приведет к моральной пользе для какого-то человека.
Чудо может быть связано с нитью, которую лама повязывает на руку инициируемого. Иногда это делается не после посвящения, а в предшествующий посвящению день. Также часто на эту нить подвешиваются былинки травы, ости зерна или другие мелкие предметы.
Эти предметы остаются у ламы во время его затворничества перед инициацией, и жители Тибета полагают, что при помощи сконцентрированной мысли он наделяет их определенными свойствами.
Инициируемый кандидат держит нить на себе в течение ночи, а на следующее утро лама сам снимает ее вместе с травой, остью ячменя или тем предметом, который был к нему привязан. В то же самое время его ученик пересказывает ему сны, которые он видел.
Рассказывают, что порой с этими объектами происходят странные превращения — меняется их форма или цвет, они увеличиваются или уменьшаются в размере; порой они даже исчезают целиком.
Эти признаки расцениваются как указание на тайные наклонности ученика; они предвещают его духовное будущее.
Определенные мастера считают их невероятно важными; иногда они даже откладывают церемонию посвящения или даже, базируясь на этих предзнаменованиях, абсолютно отказываются выполнять инициацию.
Несмотря на это, подобные явления становятся наиболее часто упоминаемыми чудесами.
Если, как и тибетцы, допустить, что определенные люди в состоянии делать свои мысли видимыми и даже материальными, создавая полноценный фантом, эти явления можно объяснить. Также возможно, что в тот момент, когда это происходит, внимание всех присутствующих сконцентрировано на одной и той же идее относительно личности, и эта единая направленность значительно помогает в формировании данного видения.
О подобных удивительных фактах существует множество сказаний и легенд, но в основном описания почти идентичны.
Благодаря Миларепе мы знаем о том, что происходило в доме Марпы, его гуру, спустя несколько дней после того, как последний дал ему самое высокое посвящение, которое он мог осуществить.
Миларепа должен был скоро попрощаться со своим мастером. Это было их последней мистической встречей: своего рода священный пир [71], сопровождаемый обрядами в честь божества и духовных предков ламы.
Дагмедма, жена Марпы, подготовила дары ламам и Йидамам — тормы (tormas) (ритуальные пироги) для Дакини и Чокьонгов (Cheu Kyongs) [72], после чего инициируемые ученики Марпы встали перед килкхором, частью которого были представленные на церемонии дары.
Затем Марпа, находившийся в середине круга, начал показывать различные чудеса. Миларепа указывает, что он показал фигуры Кьепа Дордже, Кхорло Дэмчог (Kiepa Dordje, Khorlo Demchog) и нескольких других Йидамов, и наконец, символические предметы — колокольчик, колесо, меч и т. д. Затем появились мистические слоги Аум-А-Хум, окрашенные в белый, красный и синий цвета соответственно. Затем появилась шестисложная формула: «Аум-мани-падме-хум!» И, наконец, ученики увидели различные искрящиеся видения.
Обратите внимание, что явления последнего описанного типа, этот тихий фейерверк, состоящий из движущихся образов различных светящихся цветов, часто видят те, кто занимается по системе йогов. В ламаизме божества являются также именно в такой искрящейся форме.
Но самым интересным во всем этом было то, что чудеса, созданные Марпой, — это демонстрация ученикам, которым, по словам Миларепы, он сказал следующее: «Все эти явления — всего лишь миражи, волшебные образы, лишенные реальности».
Человек, с которым я познакомилась на земле Нголог (Ngologs) [73], где он был амчодом (amchоd) (священником) при мелком вожде, рассказал мне о поразительном событии, которое происходило во время его собственного посвящения.
Он стоял перед отшельнической хижиной своего мастера, дверь которой была закрыта, как того требовал обряд. Внутри голос ламы гудел литургические фразы, которые вызывают Херуку, могущественного бога секты Дзогченпа (Dzogschenpas). И когда он стоял, ожидая, снаружи, он увидел, что по всей поверхности деревянной панели двери медленно потек своего рода туман. Через некоторое время этот туман постепенно сгустился и принял форму гигантского Херуки, обнаженного, с короной на голове, украшенного ожерельями, сделанными из человеческих черепов, как это изображено в различных книгах и на картинах.
Он смотрел сурово и запрещающе.
Испуганный новичок подсознательно отстранился и боялся поднять глаза на этот фантом, но призрак придвинулся к нему на несколько шагов.
Это было больше, чем бедный кандидат на посвящение мог перенести. Его охватила паника, и он стремительно бросился бежать по склону, сопровождаемый угрожающим Херукой, каждый из огромных медленных шагов которого был равен его пятидесяти шагам.
Преследование длилось недолго. Растерянный беглец, неспособный правильно выбрать направление, попал в тупик и был вынужден остановиться.
Вспомнив предупреждения относительно тайных опасностей, которые ждут паломника на «Кратком пути», которые он слышал, он не сомневался, что пришел его смертный час. Может показаться странным, что эта мысль, вместо того чтобы усилить его ужас, развеяла его. Он восстановил свое душевное спокойствие и сел в медитации со скрещенными ногами, уставившись глазами в землю.
Священник сказал мне, что, когда с ним случилось это странное приключение, он был далеко не простым новичком в мистическом обучении и его взгляды относительно существования и сущности божества, уж конечно, не были обычными представлениями обывателя. Однако он полагал, что, какова бы ни была природа нынешнего Херуки, в то время он обладал огромной силой.
Затем его мысли вернулись к ожидавшему его посвящению. Он понял, что недостаточная храбрость вынудит его отступить с того места выбранного им «Пути», которого он уже достиг. Тогда ему пришлось бы много раз рождаться заново в качестве человека, совершенно неосведомленного о духовности, прежде чем он сможет снова выслушать драгоценные доктрины, проповедуемые святым мастером [74]. Эта перспектива испугала его больше, чем фантом, больше, чем сама смерть. Он поднялся, готовый противостоять чему угодно, и решил сразу же вернуться к своему ламе.
В то время, пока он сидел, уперев взгляд в землю, он, естественно, потерял Херуку из виду. Когда он снова обрел душевное равновесие, то увидел, что фантом исчез. Его гигантская форма теперь стояла у входа в отшельническую хижину, перекрывая ему вход.
Священник сказал мне, что он никогда не мог четко представить себе, что же случилось впоследствии. Он с трудом вспоминал какие-то события, молниеносно сменявшие одно другое. Бегом он приблизился к Херуке и пошел прямо «через него». Он почувствовал боль в брови и оказался в хижине у ног его мастера, перед залитым светом килкхором. Внутри царил аромат благовоний.
Как легко можно предположить, я не преминула поведать этот странный факт нескольким ламам, спрашивая их, что они думают об этом.
Некоторые были склонны полагать, что фантасмагорическое видение было субъективно. Они сказали, что человек полностью потерял представление об окружающей действительности и переживал это странное приключение в своего рода трансе. Что касается причины транса, то, возможно, лама сам наложил видение Херуки на сознание ученика, который увеличил и украсил его в своем сознании. Или, возможно, эмоции, испытываемые новичком по мере приближения к посвящению, увеличили его напряжение, а его сознание уже было сконцентрировано на Херуке, и он сам был создателем собственного видения.
Другие, напротив, полагали, что Херука был тульпа (tulpa)[75], созданным ламой и увиденным тем, кто был чувствительным к его мыслям. Как только фантом сформировался, лама стал управлять его движениями или, скорее всего, его ученик сделал это подсознательно. Поступки tulpa передают те чувства, которые он испытал. Его ужас определил угрожающее отношение Херуки, а поскольку он убежал, фантом начал его преследовать.
Здесь я могу заявить, что, согласно мнению жителей Тибета, наши чувства влияют на дела и мысли тех, с кем мы входим в контакт. Они считают, что и разбойник, и тигр становятся более смелыми, если человек, который сталкивается с ними на опушке леса, испытывает страх, видя их, даже притом, что он внешне не проявляет этот страх. То же самое можно сказать и про остальные виды эмоций.
Как обычно в таких случаях, каждый человек, которого я спрашивала, давал какое-либо объяснение. Однако объяснения, данные людьми, которые верили в существование реального Херуки — существа, принадлежащего к иному миру, — уведут нас слишком далеко от предмета нашей книги. На Тибете, как и повсюду на Востоке, есть много различных путей «веры в богов».
Глава V
Инициация «Мани» и различные значения мантры «Аум-мани-падме-хум!»
Из того, что мы рассказали, читатель может сделать вывод, что посвящения на Тибете являются бесчисленными дверями, открывающимися во многие различные области деятельности. Совсем небольшое число монахов ограничивается всего лишь четырьмя или пятью мистическими посвящениями. Обычно эти претенденты на состояние Будды — люди, живущие в уединении, их редко кто видит. Они нечасто привлекают внимание своих соотечественников, как монахов, так и мирян.
Они сильно отличаются от многочисленных людей, инициированных в доктрины с помощью обрядов — естественно, те не связываются никакими связями, за которые даются особые ангкуры. К этой категории относятся бесчисленные мастера или так называемые мастера, иные из которых имеют весьма достойную репутацию, не всегда полностью ложную. Некоторые из последних — умные духовные наставники, и неосведомленный человек, внутри которого дремлет возможность пробуждения его интеллекта, будет медленно, но верно идти за ними истинным путем.
Самые обычные из посвящений могут содержать философские или мистические события; это можно понять по различным интерпретациям известной формулы «Аум-мани-падме-хум!» и многим связанным с ней методам.
Путешественники-миряне и даже ориенталисты время от времени готовы объявить не имеющим смысла то, что они не понимают с первого раза. Авторы, весьма осведомленные во многих других, более значительных предметах, даже сейчас переводят слово «Аум» банальным восклицанием «Ах!», тогда как «хум» считается эквивалентом слова «Аминь». Невозможно сделать большей ошибки.
«Аум» может означать три элемента индусской троицы: Брама, Вишну и Шива: а также брахмана, «того, кто не думает», из Адваита-веданты. Это — символ невыразимого Абсолюта, финальное слово, которое может быть произнесено, и после него будет только тишина. Согласно комментариям Шри Шанкарачарья, это «пребывание в медитации», в Мундака-упанишаде объявляется, что «Аум» — лук, посредством которого высшее «я» человека достигает универсального «Того» (tat), которое можно назвать одновременно бытием и небытием.
Индусы также считают «Аум» творческим звуком, который создает миры. Когда мистик становится способным слышать единый хор всех звуков и голоса всех существ и вещей, которые существуют и движутся, тогда он чувствует единственное и неповторимое «Аум». Этот «Аум» также вибрирует в глубине его внутреннего «я», и тот, кто знает, как произнести это в тишине, достигает высшего освобождения.
Жители Тибета, получившие мантру «Аум» из Индии вместе с молитвами, с которыми она связана, похоже, никогда не знали ничего ни о различных значениях, которыми наделяют эту мантру их соседи по Гималаям, ни о видном месте, которое она занимает в их философии и религиях.
Ламаисты повторяют «Аум», наряду с другими словами санскритских формул, не придавая им особого значения, тогда как другие мистические слоги, вроде «хум !» и «пхат !» считаются очень мощными и широко распространены в мистических и магических обрядах.
Перейдем к следующим словам формулы. «Мани-падме» означает «драгоценный камень в лотосе». Здесь мы, похоже, видим значение, которое сразу же понятно, однако в обычной тибетской интерпретации не усматривается никакого переносного значения, большинство верующих просто не знает о чем-либо подобном.
Последние полагают, что механическое повторение «Аум-мани-падме-хум!» обеспечивает им счастливое возрождение в Нуб Дева Чен — Западном Рае запредельного счастья.
Некоторые, более хорошо информированные люди знают, что каждый из шести слогов формулы следующим образом связан с одним из шести классов живых существ и с одним из мистических цветов:
Аум — белый и связан с богами;
Ма — синий и связан с небогами [76];
Ни — желтый и связан с людьми;
Пад — зеленый и связан с животными;
Ме — красный и связан с нелюдьми [77];
Хум (Hum) — черный и связан с обитателями чистилищ.
Есть различные мнения относительно эффекта влияния этих шести слогов на существ, которым они соответствуют. Некоторые люди говорят, что их повторение помогает этим существам уклониться от дальнейшего перерождения и ведет их прямо в Западный Рай: Нуб Дева Чен .
Другие считают эту идею абсурдной. Они утверждают, что богам совершенно не нужно попадать в рай, поскольку они уже живут в одном из подобных счастливых мест.
Что касается возможности избежать перерождения путем вступления в Нуб Дева Чен, это также не имеет смысла. Буддистская доктрина явно учит, что жизнь преходяща во всех мирах и смерть — неизбежный конец любого рожденного существа.
Третьи видят эффект этих шести слогов совершенно иначе. Они утверждают, что посредством повторения формулы «Аум-мани-падме-хум !» от необходимости последовательных перерождений избавляются не существа, связанные с отдельными слогами, а скорее человек, произносящий священную формулу — он действительно может освободить себя от возрождения в этом или одном из других миров.
Многие религиозные жители Тибета обоего пола с удовольствием повторяют священную формулу, убежденные, что это оказывает определенное воздействие само по себе, а полученная ими инициация просто обеспечивает им ее плоды.
Однако есть определенные объяснения этого таинственного процесса.
«Аум-мани-падме-хум!» служит основой для медитации, эта основа может быть описана следующим образом.
Шесть видов существ сопоставляются с шестью слогами, которые, как предполагают, имеют каждый свой цвет. Эти цвета образуют бесконечную цепь и посредством дыхания проникают в тело, входя в одну ноздрю и выходя в другую.
По мере того, как ментальная концентрация становится более полной, можно заметить, что цепочка постепенно удлиняется. Слоги обуславливают дыхание и широко разносятся с ним, прежде чем снова поглощаются новым вздохом. И все же эта цепь никогда не рвется, она растягивается, как резина, и все время остается в контакте с тем, кто медитирует.
Постепенно также меняется и форма тибетских букв, и те, кто «обретает плоды» этого упражнения, чувствуют эти шесть слогов как шесть миров, в которых возникают и существуют неисчислимые множества существ, принадлежащих к шести разновидностям, они двигаются, соревнуются, страдают и исчезают.
Таким образом, совершенно ясно, что эти шесть миров и их обитатели субъективны: они — творение сознания, из которого они вышли и в который снова вернутся.
В последующем описании дыхательных упражнений вы увидите, что некоторые из них заключаются в дыхании без явного выдоха, а другие состоят во введении воздуха в тело [78] путем вдоха, выполняемого сразу же после выдоха, технически это называется «оставаться пустым».
В медитации над «Аум-мани-падме-хум!» когда эти шесть слогов выходят наружу с дыханием, человек представляет себе рождение шести видов существ, которые существуют до тех пор, пока дыхание «остается вне тела».
Новый вдох возвращает всю фантасмагорию вселенной в того, кто медитирует. Она поглощается и остается внутри этого человека, пока он сдерживает дыхание.
Посредством этой практики наиболее продвинутые мистики впадают в транс, в котором буквы формулы, существа, которые они представляют, и все, с этим связанное, включается в «то», что, из-за отсутствия надлежащего термина, буддисты махаяны назвали Пустотой.
Затем, добившись этого видения и прямого понимания Пустоты, они освобождаются от иллюзии мира, который мы видим, и, следовательно, освобождаются от следующего перерождения в этой иллюзии.
Мы отмечаем подобие этой теории, принятое в Индии относительно «дней и ночей» Брахмы, его перемежающихся периодов активности и сна. Эта идея представлена в индусской космогонии «дыханием» Брахмы. Согласно этой доктрине, вселенная создается, когда Брахма выдыхает, и возвращается в него, когда он делает вдох.
«Когда приходит день, все явления возникают из неявного (aviakta). Когда приходит ночь, все это снова поглощается неявным» [79].
«В конце кальпы все существа возвращаются в мою материальную природу (пракрити). В начале следующей кальпы я снова посылаю их наружу» [80].
В описанной здесь медитации тибетцы заменяют гипотетического Брахму на самих себя и думают: явления и существа, которые я ощущаю, проистекают из творческой энергии моего сознания; они лишь проекция без того, что существует внутри них.
Это не означает, что не существует «объективных предметов», но феноменальный мир, каким мы его видим , является фантастическим миражом, материализацией форм, которые мы себе представляем.
Поскольку в этой книге мы не занимаемся изучением тибетской философии, вместо того, чтобы двигаться далее в этом направлении, мы скорее исследуем еще одну из множества интерпретаций «Аум-мани-падме-хум».
В этой интерпретации не важно разделение на шесть слогов, в ней исследуется формула, то, что касается его прямого значения — «драгоценный камень в лотосе», причем эти слова рассматриваются как символы.
Самая простая интерпретация такова: в лотосе (мир) существует драгоценный камень (доктрина Будды).
Другая интерпретация считает «лотос» олицетворением «сознания», в глубинах которого самосозерцательная медитация порождает знание, истину, действительность, освобождение, Нирвану. Эти термины являются различными названиями одного и того же.
Теперь мы дошли до смысла, связанного с одной из самых поразительных доктрин буддистов махаяны, того, в чем они отличаются от своих единоверцев тхеравадинов (последователей хинаяны).
В соответствии с этой доктриной, Нирвана, окончательное спасение, ни в чем не отличается и не является противоположностью мира явлений (самсары ). Мистики обнаруживают первое в сердце последнего. Нирвана (драгоценный камень) существует, когда существует просветление. Самсара (лотос) существует, когда есть иллюзия невежества, скрывающая Нирвану, так же, как лотос с его многочисленными лепестками закрывает скрытый среди них драгоценный камень [81].
«Хум!» в конце формулы — мистическое выражение, обозначающее гнев. Оно используется в обрядах, цель которых — поработить демонов и божеств, внушающих ужас. Как получилось, что «драгоценному камню в лотосе» и к Аум был прибавлен священный слог индусов? Существуют различные объяснения этого.
«Хум!» является своего рода мистическим боевым кличем, который использовался, чтобы бросить вызов врагу. Кто или что здесь враг? Одни считают врагом демонов, совершающих злые деяния, другие — триаду злых наклонностей, которые держат нас в кругу перерождения: похоть, ненависть и глупость. Более тонкие мыслители полагают, что этот враг — воображаемое «я», за которое мы так держимся.
Также говорится, что «Хум!» обозначает сознание, свободное от всех представлений относительно любых вещей, объективно существующих.
Чтобы закончить формулу, к ней, после множества повторений, которых обычно бывает сто восемь, так как это число бусинок в тибетских четках, добавляется седьмой слог. Ламы, знающие тайный язык, учат, что этот слог, «Хри», обозначает глубинную реальность, скрытую под видимостью, т. е. фундаментальную сущность вещей.
В то время как обычный верующий ограничится инициацией лунга , описанной на предшествующих страницах, и механическим повторением общеизвестной формулы, другие приверженцы стремятся к более высоким посвящениям, в ходе которых получают различные тайные и мистические знания.
Глава VI
Обряды дубтабов
Обряды дубтабов
Значительное число ангкуров (инициаций) связано с так называемыми обрядами дубтабов , которые занимают важное место в ламаистских практиках. Термин дубтаб (пишется sgrub thabs ) обозначает «средство или метод, ведущие к успеху». Объекты, к которым, как считается, ведут эти методы, делятся на четыре категории:
1. Нежные, или мирные, шиба (shiwa), для обретения долгой жизни, здоровья, удачи.
2. Расширяющиеся гьяпа (gyaispa) для того, чтобы обрести богатство и известность.
3. Мощные вангва (wangwa) для того, чтобы обрести влияние и власть.
4. Ужасные, или устрашающие, дагпо (tagpo) [82], чтобы обрести власть причинять зло, чтобы убить или разрушить неким образом, посредством оккультных методов.
Как могут быть достигнуты столь различные результаты? Можно ответить, что это — работа божеств, которые помогают тем, кто почитает их должным образом. Другие утверждают, что цель дубтабов состоит не в том, чтобы поклоняться божествам, а скорее чтобы подчинять их; они также говорят, что человек, сведущий в проведении ритуала, способен принудить богов и демонов передать ему свою силу и заставить повиноваться ему во всем.
На Тибете эти представления обычны, но обе версии, согласно мнению ученых лам, грешат недопониманием теорий, на которых базируются дубтабы.
В действительности, судя по объяснениям, которые мы находим в работах древних авторов и в том, что из уст в уста передают современные мастера мистики, используемый метод заключается в проецировании в ходе очень длительных и сложных обрядов ментально представленных божеств как изображений на экране, которые претерпевают в воображении ряд изменений.
Существа, вызванные дубпапо [83], — не некие воображаемые создания. Это всегда известные лица в мире богов или демонов, уважаемые и почитаемые в течение многих столетий миллионами верующих.
Тибетские оккультисты говорят, что эти существа обрели своего рода реальное существование из-за того, что на них было сконцентрировано бесчисленное множество мыслей [84].
Подобные теории выражены и в священных текстах Индии. В Брихадараньяка-упанишаде (1, 4, 10), считающейся добуддийской по времени создания, мы находим следующие слова: «Кто бы ни поклонялся божеству, имея в сознании мысль: «Он — другой, иной, чем я», тот ничего не знает; он используется богами, как обычное животное. Ведь поистине много животных поддерживают человека, так же как каждый человек поддерживает богов».
Как люди делают это? Индусский отшельник-аскет сказал мне, что, подпитывая субъективные личности своих богов во время богослужения, они наполняют их жизнью.
Просвещенные ламы знают все о природе тех, кого вызывают, но они утверждают, что подобными мистическими действиями можно получить результаты, которых иначе никогда нельзя было бы добиться или которые достигались бы лишь с колоссальными трудностями. Каково объяснение этой странности?
Жители Тибета говорят, что во время проведения обряда, когда мысль осуществляющего его монаха становится сконцентрированной на божестве, последнее, которое «уже существует», становится для него еще более реальным и могучим. Идентифицируя себя с божеством, дубпапо начинает общаться с ним и при этом аккумулирует энергию, количество которой намного больше того, что он мог бы произвести собственными усилиями.
Контакт с этой таинственной силой может оказаться полезным для монаха, который проводит обряд, поскольку ведет к исполнению его желаний. Однако если ему недостает навыков — особенно это касается дубтабов, относящихся к категории «ужасных» — с ним может случиться нечто неприятное, его даже могут убить могущественные существа, которых привлекла его ментальная концентрация.
Мистики Тибета полагают, что боги и демоны, рай и ад существуют только для тех, кто верит в них. Хотя Бог, созданный и поддерживаемый воображением масс, существует в скрытом, латентном состоянии, он имеет власть только над тем человеком, который входит с ним в контакт. Чтобы электричество, бездействующее в аккумуляторной батарее, могло заставить засветиться лампу, необходимы провод и нить накаливания. Это сравнение достаточно точно объясняет, что именно происходит в сознании жителей Тибета.
Большинство дубпапо не знает о двойственном происхождении божества, которого они почитают в ходе ритуальных церемоний. Они не понимают, что это божество зарождается вследствие ментальной концентрации масс верующих и снова временно возрождается мыслью исполняющего обряд монаха, который действует как магнит, привлекая уже существующие оккультные силы или персоналии. Многие из них полагают, что единственная цель подобных церемоний заключается в том, чтобы создать ощущение в сознании видом реально существующих и объективно видимых в различных местах существ. По их мнению, это ощущение должно привести к тесному контакту дубпапо и божества, которое он почитал.
Тем, кто преуспел в постижении субъективной природы божества, вызванного во время дубтабов, мастера советуют не считать его фантомом. Говорят, что в дубтабах Пал Кхорло Демчога было ментально создано божество, подобное тем, кто населяет рай и другие священные места. По словам тибетского текста, «они должны считаться сущностями с двумя лицами, которые появляются как форма, но при этом являются по сути бесформенной Пустотой».
Исполняющий обряд монах должен также ощутить различные божества в различных частях своего тела и понять, что все они существуют в нем. Лучше всего закрепить эту идею в сознании тех, кто проводит дубтабы, и большинство последних приводит к тому, что проводящий обряд монах возвращается в свое тело и поглощает там спроецированных им богов и демонов.
Лучший способ создать наиболее четкое представление об этих обрядах, столь отличных от всего, что проводится на Западе, — подвести итог одного из них. Основные детали процедуры фактически идентичны, вне зависимости от персоналии, вызываемой в процессе дубтабов.
Дубтаб, который я буду рассматривать в качестве примера, — дубтаб Дордже Джигджед (Dordje Jigsjyed), великий Йидам школы «Желтых шапок» [85].
В плотно закрытой комнате, где дубпапо не рискует быть увиденным и где ему не могут помешать, он садится перед изображением Дордже Джигджеда . Проведение обряда требует того, что технически называется «семью членами» служения йенлаг дум (yenlag bdum), то есть (1) преклонение (букв.) распростертое положение; (2) дары божеству; (3) искупление совершенных грехов; (4) добродетельная направленность сознания; (5) желание проповедовать доктрины Будды; (6) мольба к святым не входить в Нирвану, чтобы они остались в мире для помощи другим существам; (7) применение всех накопленных достоинств для обретения состояния Будды.
Перед изображением Джигджеда ставятся лампады и пироги торма (tormas) [86]. Перед исполняющим обряд монахом на маленьком столике лежат дильбу (колокольчик), дордже, человеческий череп, используемый как кубок, дамару (damarou) [87].
Дубпапо начинает с распевания длинного унылого перечня различных имен, одни — имена мистиков, другие — имена исторических персонажей. Каждая группа из четырех имен сопровождается просьбой: «Помогите мне, молю вас, исполнить мое желание».
Дубпапо должен точно указать желаемый объект. Например: могу ли я быть назначен губернатором той или иной области. Могу ли я преуспеть в своем бизнесе. Могу ли я выиграть судебный процесс. Могу ли я быть любимым той или иной женщиной. Могу ли я жить долго. Может ли умереть мой враг. С помощью мистических дубтабов можно обрести и определенные духовные преимущества. Хотя дубпапо, возможно, и не произносит свое желание вслух, он должен всегда иметь это в виду, произнося литургическую фразу: «Даруй мне исполнение моего желания».
Затем начинается собственно творческий процесс. Исполняющий обряд монах представляет себе, что из его тела выделяется Дордже Джигджед. У Йидама одно лицо и две руки[88], в одной руке зажат кривой нож[89], а в другой — кубок из черепа. Его супруга сжимает его в особом ритуальном положении яб-юм (Yab-Yum) (отец и мать).
Дубпапо должен помнить, что Йидам представляет собой метод, а его супруга — знание. Она обвивает Яб (Yab), потому что метод и знание — неразделимая пара. Какой бы вид успеха ни имелся в виду, он может быть достигнут только союзом этих двух сил.
Ту же самую идею в символической форме отображают дордже и колокольчик. В правой руке исполняющий обряд монах держит дордже. В левой он держит колокольчик, который звенит в то время, когда он произносит: «Дордже — метод, колокольчик — знание; оба они — истинная сущность полностью очищенного сознания».
Богослужение продолжается, перемежаясь философскими заявлениями о чрезвычайной пустоте как природе всех вещей [90].
Дордже Джигджеду предлагаются дары, состоящие из цветов, ладана, лампы, воды, пищи, музыки, но все это существует только в воображении и каждый предмет представлен специальным жестом.
Йидам создается заново; снова и снова, он окружен различными спутниками и их отношениями, все объекты в их руках имеют символическое значение.
Дубпапо должен долго медитировать над этой символикой, пока символы не исчезнут и он не окажется лицом к лицу с тем, что они представляют, то есть не узнает различные виды энергии, которые создают эти явления.
Обряд самого простого дубтаба проходит в течение трех или четырех часов; его следует повторить в течение нескольких дней подряд. Для проведения великого дубтаба необходима длительная подготовка, с обязательным посвящением ламой, наделенным необходимыми полномочиями. Нужно также заучить наизусть целые тома литургических служб и во всех подробностях знать церемониал, различные виды медитации, применяемые на том или ином этапе обряда, и т. д. Обряд должен повторяться до тех пор, пока дубпапо не освоится с его экзотерическими, тайными и мистическими значениями, а кроме того, пока он не увидит признаки, которые предсказывают успех.
Странный обряд, упоминаемый в различных работах, связанных с дубтабами, касается подготовки нанг-чод (nang-chod) [91]. Необходимо сразу сказать, что все перечисленные компоненты воображаемые, то есть череп — это не есть реальный череп, положенный на стол монаха, проводящего обряд.
Вот как описан этот процесс в дубтабе Джигджеда , у Демчога (Demtchog) [92] и других:
«Из Пустоты возникает слог Йам (Yam) [93], и из этого слога возникает синий круг воздуха. Над ним находится слог Рам и красный круг огня. Еще выше находится последнее A, исконный звук. Из этого A появляются три человеческих головы, образующие треногу, на которой установлен белый череп «столь же огромный, как бесконечное пространство».
С пяти различных сторон света берется пять видов мяса, каждый из которых отображается в символической форме слогом, после чего они попадают в череп: с востока приносится мясо вола; с юга — мясо собаки; с запада — мясо слона; с севера — мясо лошади. Из центра приходит человеческая плоть. Из промежуточных точек вроде северо-востока и т. д. поступают нечистые продукты тела: моча, кровь и т. д.
В воображении исполняющего обряд монаха каждый из этих компонентов появляется не в его реальном виде, а как буквы или слоги.
Над черепом [94] дубпапо представляет себе слог Аум белого цвета, слог А — красного цвета, слог Хум — синего цвета. Из каждого из этих слогов исходит луч света; эти лучи соединяются, и разгорается огонь, чтобы нагревать все виды мяса и другие вещества, которые находятся в черепе. Кипение делает их жидкостью. Полученная таким образом жидкость считается некоторыми «дутси » — «микстурой бессмертия». Другие полагают, что это Эликсир знания, «которое дарует просветление».
Это описание заставило некоторых авторов [95] полагать, что подобный напиток на самом деле выпивался верующими тибетцами при проведении их обрядов. Это совершенно неверно. Ламы, у которых я спрашивала об этом, сказали мне, что в любом случае одного из видов мяса, необходимого для подготовки этого супа, нет на Тибете — это мясо слона.
Однако, поскольку дубтабы имеют индусское и непальское происхождение, возможно, что этот необыкновенный суп, который стал символическим на Тибете, в других местах действительно изготовлялся. Невозможно дать точную оценку глубины человеческой нелепости и суеверия.
Глава VII
Дыхательные гимнастики
История гуру
Дыхательные гимнастики
Я уже говорила, что определенные инициации связаны с обучением контролю над дыханием. Этот вид гимнастики, неизвестный на Западе, применялся в Индии с незапамятных времен. Он был популярен уже при жизни Будды, две тысячи пятьсот лет назад, и брамины того времени преподавали множество упражнений, позволяющих приобрести почти абсолютное мастерство вдоха и выдоха.
Какова цель этих упражнений? Было бы легче сказать, что не является их целью. Трактаты по йоге описывают сотни целей, как материальных, так и духовных. Некоторые упражнения предназначены для того, чтобы развивать интеллект, приводя к умственному просветлению. Другие позволяют развить сверхъестественные способности и сенсорные свойства. Некоторые упражнения помогают предотвратить расстройство желудка, сделать голос гармоничным, привлечь любовь женщин или позволить человеку добровольно впасть в каталептический транс, быть похороненным заживо и вернуться к жизни несколько недель спустя. Существуют еще более экстравагантные описания невероятных результатов, поражающих самое смелое воображение.
За прошедшие столетия эти методы совершенно не утратили своей привлекательности для народов Индии. Есть небольшое число индусов, которые выполняют их ежедневно — хотя бы в ограниченной форме задержки дыхания во время быстрого повторения мантры в ходе утренней молитвы; намного большее число людей тайно просит научить их этим методам.
Соответственно есть много гуру. Индусы, не колеблясь, вступают в ученичество, но почти с той же скоростью они готовы попробовать себя в качестве мастера. Изобретательность, которую они выказывают в обеих ролях, часто бывает просто забавной. Я видела множество подобных случаев и теперь расскажу о двух из них.
Однажды вечером в Калькутте, в индийском квартале, где я остановилась с друзьями, я посмотрела в окно и увидела, как двое мужчин сидят один напротив другого со скрещенными ногами под навесом перед моим жилищем. На одном не было никакой одежды, только монокль в глазу; другой, совсем юнец, также был одет с эдемской простотой.
Человек с моноклем был гуру; он давал своему внимательному ученику урок дыхательных упражнений. Я видела, как он зажал одну ноздрю и делал выдох, резко или медленно, и задерживал дыхание, демонстрируя с видом превосходства набухшие вены на шее и на висках.
После различных акробатических трюков мастер и ученик, сидящие со скрещенными ногами, начали прыгать, подобно лягушкам, пиная себя пятками. Первый вынул монокль. Теперь он держал его в руке, как кондуктор держит свой жезл, и, отбивая такт, поощрял новичка голосом и жестом.
Эта сцена освещалась свечой, закрепленной на земле, и урок длился до тех пор, пока она полностью не сгорела.
Несколько дней спустя, утром, я увидела местного уроженца, одетого по-европейски, который приехал в дом напротив. Меня сразу же привлекло его лицо, поскольку у него тоже был монокль. Я узнала нагого гуру и спросила себя, какова его профессия в то время, пока он ходит в обычной одежде. Наведя справки, я обнаружила, что он был продавцом в магазине тканей.
В другом случае, когда я жила в Бенаресе, один человек в одежде отшельника вышел в сад, где в то время я отдыхала, сидя на балконе. «Мадам, не оказали бы вы мне любезность, дав мне восемь анн (половина рупии)?» — сказал он на прекрасном английском языке.
Его поведение не было поведением нищего; он выражался вежливо, но не зажато. Он сам установил величину милостыни, которую просил, и теперь, спокойно глядя мне в глаза, ждал моего ответа.
«Вы не похожи на нищего, свами [96], — сказала я, — мне кажется, вы настоящий джентльмен. Я хорошо знаю, что отшельник должен просить только пищу, но эта древняя традиция теперь очень редко выполняется представительными членами вашего ордена».
«Я получил высшее образование в английском университете, — ответил он. — Когда я возвращался к себе на родину, вспыхнула эпидемия чумы; мои отец, мать и жена — все умерли. Мной овладело отчаяние; я попросил посвящения в отшельники и сразу же начал свои странствия. Я прибыл сюда вчера вечером…»
Трагическая история, рассказанная мне этим человеком, могла быть подлинной. Недавно чума собрала страшную жатву и в Бенаресе.
«Что вы можете сделать с восьмью аннами? — спросила я. — Я с удовольствием дам вам несколько рупий на самое необходимое».
«Спасибо, — ответил мне мой собеседник. — Восемь анн будет вполне достаточно на сегодня. Завтра мне больше не потребуется помощь».
Я настаивала, но безрезультатно. Спустившись в сад, я вручила ему сумму, которую он просил. С вежливым поклоном он взял деньги.
Спустя три дня после этого случая я пошла на могилу известного отшельника Башкарананды, которую я иногда посещала в память о старом святом, ученицей которого я была в годы моей юности. Когда я подошла близко к этому месту, я натолкнулась на группу людей, возглавляемую моим отшельником — джентльменом. На лице его последователей я увидела выражение невероятного усердия, столь свойственного индусским ученикам, сопровождающим своего мастера.
Он двигался со спокойной уверенностью. Бамбуковый шест с завязанным тройным узлом и оранжево-розовым бантом из марли, символом отказа от трех миров [97], в его тонкой коричневой руке уверенно упирался в землю, напоминая пастуший шест. Он узнал меня, скромно улыбнулся и почти незаметным жестом указал своим украшенным лентами шестом на небольшую группку своих приверженцев.
«Вы видите, — говорил его жест, — я гуру, и мои преданные ученики — число которых растет — выполнят любое мое желание. Ваших восьми анн было вполне достаточно».
Можно ли сказать, что этот человек был самозванцем? Несомненно, он не был таким же, как многие другие «мастера». Он был ученым человеком и, я уверена, способным читать лекции на многие философские темы. Может быть, преподавая другим, он сам смог познать великие индусские доктрины; его повлекло к очаровательной аскетической жизни на берегах Ганга, и он стал таким же восторженным почитателем философии, как и любой из его учеников. Индия — земля самых удивительных чудес.
Пока импровизированные гуру с удовольствием обсуждают философские идеи, подвергается опасности только мозг ученика, но когда они начинают обучать физическим упражнениям, появляется опасность для здоровья их тела.
Это особенно верно для всего, что касается дыхательной гимнастики. У тех, кто невнимательно относится к подобным упражнениям, могут возникать различные проблемы — кровохарканье, разрыв барабанных перепонок и прочие неприятности.
Это разумно — научиться хорошо регулировать естественные функции тела, но абсурдно применять к ним насилие. Никакой подлинный мастер мистики никогда не будет рекомендовать своим ученикам использовать методы, которые могли бы оказаться вредными для них.
Действительно, дыхательные упражнения, выполняемые в местах, где воздух идеально чист, могут быть весьма полезными, но это всего лишь методы, изобретенные для того, чтобы обеспечить ментальное спокойствие.
Будда, который отверг физические методы брахманистов — после того, как полностью опробовал их, — не придавал в своем духовном методе особого значения дыхательным упражнениям, возможно, он даже полностью отказался от них. Использование буддистами некоторых из этих методов может происходить из-за того, что некоторые ученики возвратились к ним после смерти Мастера. Поскольку Будда никогда ничего не писал сам и поскольку легенды о его беседах появились в письменной форме только после его смерти, мы не можем сказать ничего определенного по этому вопросу.
Однако канонические Священные писания примитивного буддизма просто упоминают «рассуждения о вдохах и выдохах» как способ взрастить внимательность, и, естественно, такие упражнения входят в состав методов ментального обучения.
Мы можем привести в пример так называемую «медитацию тела», одну из «четырех фундаментальных забот». Эта практика описана следующим образом: «Ученик удаляется в лес, к подножию дерева или в какое-то другое уединенное место. Там он садится, скрестив ноги, тело вертикально, и концентрирует сознание.
Сначала он делает вдох, затем он делает выдох. Делая длинное дыхание, он ощущает его и думает: «Я делаю длинный вдох». Точно так же, когда он делает короткий выдох, он осознает это. Когда он делает длинные или короткие выдохи, он ощущает их.
Он думает: «Я собираюсь сделать вдох» или «Я собираюсь выдохнуть» и действует соответственно, обучая себя успокаиваться и все лучше справляться с этой физической функцией».
К чему ведет эта практика? Комментарий буддистского монаха (Преподобный Ньянатилока), хорошо сведущего в ортодоксальных традициях тхеравадинов, объясняет это следующим образом: «затем ученик, посредством наблюдения за своими вдохами и выдохами, достигает четырех трансов. Первый транс освобождает от похоти, гнева, слабости, беспокойных мыслей, сохраняя при этом способности рассуждения, сомнения, достижения экстаза, счастья и ментальной концентрации. После подавления рассуждений и размышлений, но при сохранении экстаза и счастья ученик обретает душевное спокойствие и единство сознания, которое рождается из концентрации. Это второй транс. После подавления экстаза ученик обретает хладнокровие, его чувства бодры, полностью осознаваемы, он испытывает в своем сердце ощущение, относительно которого мудрецы говорят: «Счастливо живет человек хладнокровный и с думающим сознанием». Это третий транс. И далее, когда ученик отвергнет и удовольствие, и боль, отринет прошлые радости и печали, он вступит в состояние спокойствия, свободного от радости и боли, в нейтральное состояние чистого разума — состояние четвертого транса».
Он медитирует в своем сознании, на чем базируются вдох и выдох, и обнаруживает, что вдох и выдох предполагают существование тела. Тело, однако, есть всего лишь название для четырех главных элементов и свойств, зависящих от них, а именно — глаз, ушей, носа, языка, тела, формы, звука, запаха, вкуса и т. д. Сознание возникает в результате контакта чувств и соответствующих им объектов, а через сознание возникают все пять Аспектов Существования: ментальный аспект, состоящий из восприятия, ощущений, субъективных формаций, сознания и материального аспекта, то есть формы.
Четыре основы внимания, а именно изучение тела, изучение ощущений, ощущение мыслей и ощущение субъективных явлений, помогают отрабатывать «семь элементов просветления»: внимательность, исследование истины, энергию, интерес, ментальную концентрацию и хладнокровие . В свою очередь эти семь элементов создают мудрость и освобождение [98].
Ученые ламы знакомы с этими теориями, но именно поэтому им не слишком интересна практика дыхательных упражнений.
За исключением нескольких медитаций вроде «Аум мани падме хум», описанной выше, в которых вдох и выдох служат основой мистической медитации, дыхательные гимнастики у ламаистов нацелены прежде всего на получение телесных результатов.
Первое, чего желает человек, который желает обучаться по тому или другому методу, это обрести мастерство дыхания. Чтобы добиться этого, рекомендуются следующие упражнения [99]:
Медленно сделайте вдох через правую ноздрю, затем медленно выдохните через левую ноздрю.
Медленно сделайте вдох через левую ноздрю и так же медленно выдохните через правую ноздрю.
Медленно сделайте вдох через правую ноздрю, а затем быстро и резко сделайте выдох через левую ноздрю.
То же самое упражнение выполните в обратном порядке.
Быстро сделайте вдох через одну ноздрю и затем быстро сделайте выдох через другую ноздрю; сделайте упражнение в обратном порядке. Сделайте вдох и выдох, сначала быстро, затем медленно, через ту же самую ноздрю.
Сделайте вдох через обе ноздри сразу, затем точно так же сделайте выдох.
Задержите дыхание. После долгой и упорной практики вы можете обойтись без выдоха в течение очень долгого времени.
Новички часто рассчитывают промежуток времени, потраченного на задержку дыхания, последовательно касаясь кончиками пальцев лба, затем каждого колена, а затем загибая пальцы. Каждый раз, когда они загибают пальцы, они считают: один, два, три и т. д.
Новичок также мысленно повторяет формулу и при помощи четок считает количество раз, когда он повторил ее, задерживая дыхание.
Точно так же, когда он задерживает дыхание без выдоха, нужно также научиться выдыхать, не вдыхая сразу же после выдоха, «оставаться пустым», как это называется.
Нужно также научиться прервать вдох прежде, чем наступит конец вдоха, и выдыхать воздух, который уже вдохнули. Можно выполнить и прямо противоположное упражнение: прервать выдох до его завершения и начать делать вдох.
Нужно научиться чрезвычайно медленно делать вдох и затем точно так же делать выдох, ноздрями или ртом, сжимая губы вместе, чтобы оставить между ними отверстие не больше булавочной головки. И наоборот, нужно сделать вдох насильственно, сразу же вводя значительное количество воздуха в легкие, которые затем надо освободить, резко удаляя этот воздух через ноздри. Это упражнение вызывает шум, напоминающий звук, создаваемый мехами кузнеца.
Можно научиться многим другим вещам вроде поверхностного дыхания «в глубине горла», как говорят жители Тибета, затем нервным центром, который, по их мнению, находится в середине груди около верхней части живота, затем «пупком». Некоторые из них также практикуют вдыхание воздуха посредством прямой кишки и заставляют его проходить вверх через кишечник; они также упражняются применением других странных методов, во время которых дыхательные упражнения объединяются с различными необычными позами.
Глава VIII
Ежедневные духовные упражнения
Ежедневные духовные упражнения
В то время, когда ученик тибетских мастеров является простым новичком или уже прошел определенные виды посвящения, он ежедневно выполняет различные упражнения в соответствии с программой, составленной для него ламой, которого он хотел бы видеть своим духовным наставником. Только те, кто достиг конца пути, пройдя различные стадии посвящения, считаются освобожденными от подобных упражнений. Из этого не следует, что все ученики затем полностью отказываются от них, но они становятся свободными принять те правила, которые, по их мнению, подходят им больше всего, и изменяют программу по своему разумению. Действительно, большинство мистиков — и живущие в монастыре, и отшельники — составляют для себя своего рода личную «программу», сопоставляя определенные моменты дня или ночи с различными духовными практиками. Те, кто перестал опираться на программу, — в большинстве своем отшельники, поглощенные непрерывной мистической медитацией, которая не прерывается действиями, относящимися к повседневной жизни.
Методы, рекомендуемые ученикам, сильно разнятся. Они зависят от характера новичка, от его уровня интеллекта, его способностей, его духовных потребностей и даже от его физической конституции. Они также зависят от дамнгага (традиционное тайное обучение), которому он следует при обучении, и, что еще важнее, от личных идей его мастера относительно эффективности различных упражнений.
Следует опасаться рассматривать последние с западной точки зрения. Эти методы не были изобретены для того, чтобы их использовали европейцы или американцы, ментальная наследственность которых, а также способ мышления сильно отличаются от азиатских.
В качестве примера я приведу программу упражнений, предназначенных для посвященных учеников, используемую в дамнгаг лана мед-па (damnag lana med pa) [100].
Она разбита на четыре периода, известные как «тхун » (thune), оставленные для медитации: первый — на восходе солнца, второй — в полдень, третий — в сумерках, четвертый — перед отходом ко сну.
Мы последовательно рассмотрим их.
I. На восходе. Тема медитации: как действует цепочка причин и следствий, представляющая собой наш мир, и Нирвана, находящаяся вне его, и как они оба возникают из Пустоты?
II. В полдень. Тема медитации состоит из трех загадочных фраз, подобных тем, которые так любят китайские и японские ученики Бодхидхармы (школы Чань и Дзэн ).
Мое тело подобно горе.
Мои глаза подобны океану.
Мое сознание подобно небу.
Ученик не получает никакого указания на то, как следует использовать эти три фразы и что с ними делать. Считается, что они могут привести к размышлениям и ввести ученика в состояние ментальной концентрации, граничащей с экстазом, или позволят ему предчувствовать определенные аспекты реальности.
Так что же в действительности скрыто под этими странными сравнениями? Некоторые люди притязают на знание смысла этих фраз, и отрицать это априорно, не проверив это в том же самом месте, где медитируют тибетские ученики, не пройдя при этом их подготовку, предписанную им, возможно, было бы слишком опрометчиво.
Хотя природа экстатических состояний, вызванных этими тремя фразами, остается тайной для тех, кто пробовал это упражнение, вполне возможно открыть, какие образы они вызывают у новичков. Ниже я приведу некоторые из этих образов, о которых мне сообщили молодые новички с разрешения — и в присутствии — их духовных наставников. Я постараюсь перевести их на язык западной культуры как можно точнее.
«В гору ударяется буря. В мое тело ударяет водоворот внешних воздействий. Как гора остается бесстрастной и устойчивой посреди бури, так и мое тело закрывает врата чувств и может не реагировать на проявления активности, когда восприятие и ощущения атакуют его, как ураган», — сказал один ученик.
«Гора дает почву лесу, который пускает в нее свои корни. Бесчисленные растения кормят гору… Это — символ милосердия, дарения самого себя», — думает другой ученик.
«Независимость… — говорит третий. — Времена года сменяют друг друга, покрывая гору мантией зелени или снега; она следит за этим с полным безразличием».
Мастер улыбается; все это слишком мелкое рассуждение, на которое не следовало обращать никакого внимания.
Еще один ученик объясняет: «Вздымаясь из огромной поверхности земли, с которой она образует единство, гора не должна считаться чем-то отдельным. Все формы — включая мое собственное тело — появились из общей основы всего сущего (Кунгджи) и остаются связанными с ним. Они не что иное, как Кунгджи»[101].
Мастер снова улыбается. Я чувствую огромное желание сказать, что этот ученик, скорее всего, на верном пути, но лама уже говорит: «Медитируйте, вы должны найти не теории. Нужно видеть и понимать…»
Молодой монах заявляет: «Океан отражает свет солнца и луны, по нему двигаются тени, отбрасываемые облаками. В нем множество образов. Они касаются только его поверхности, не каждый проникает в его глубины. Точно так же изображения предметов, которые отражают мои глаза, не должны затронуть мое сознание».
Мастер замечает: «Это превосходно как правило поведения, но необходимо нечто большее, чем просто создание правил поведения для себя. Медитируй!»
Другой отвечает своему соученику, медленно произнося отстраненным голосом спящего: «Если океан должен был впитать все изображения, которые отражаются на его поверхности, поглотив их всех, ни один образ не мог нарушить чистоту его прозрачной поверхности. Позволяя образам, отраженным глазами, опускаться в глубины сознания, пока все формы не утонут в нем и тени их больше не будут беспокоить наше зрение, мы можем увидеть то, что скрыто за ними».
Мастер молчит; он смотрит на учеников, сидящих у него в ногах.
Ни один не отвечает на его немое приглашение. Может ли так быть, что те, кто молчит, понимают загадку лучше, чем два новичка, которые осмелились говорить? Я чувствую, что последние так же далеки от решения задачи, как и первые.
«В огромном пространстве неба, — сказали мне в другом случае, — возникают облака. Они не возникают из ниоткуда и не исчезают в никуда. Нигде не существует склада облаков. Они возникают в пустоте небес и распадаются там, как мысли в человеческом сознании».
Говоривший отступает от доктрины примитивного буддизма, которая не признает существования «сознания», отличного от мыслей, своего рода сосуда для прохождения ментальных процессов. Я рискую ответить на манер ученых лам, указывая на текст канонических Священных писаний, но за эту несвоевременную демонстрацию эрудиции получаю мягкий упрек.
«Противоречие находится в его положении в чода (cheuda)[102], — говорит лама. — Здесь не идет речь о повторении слов или мнения других людей. Знание приходит из личного контакта».
Этого ученика, как и его предшественников, отсылают назад, заниматься медитациями.
I. Считается, что за медитацией на три фазы должна следовать другая в следующем порядке: «Я отбрасываю прошлое: все, чем я был или что делал, что любил или ненавидел, мое горе и мои радости. Я отбрасываю будущее: планы, желания, надежды, опасения и т. д.».
Остается преходящая совокупность, которая составляет мое «я» в данный конкретный момент. Я исследую его, анализируя каждую из составляющих его частей.
Откуда возникает это ощущение? — Куда оно уйдет, когда это прекращается? — Откуда возникает эта идея? — Куда она уйдет, когда это прекращается?
То же самое исследование применяется к каждому из пяти элементов, которые, согласно представлениям буддистов, составляют личность, а именно: форма, восприятие, ощущения, ментальные формации и сознание.
Цель этих самосозерцательных исследований — принудить ученика убедиться в том, что элементы так называемого «я» непостоянны, что невозможно приписать некий первоначальный первоисточник этому постоянно движущемуся и меняющемуся процессу ощущения, восприятия и идей или дать любому из них некую фиксированную форму. Все сущее лишено субстанциальной реальности, своего «я».
Продолжая действовать подобным образом, ученик приближается к пониманию той из восемнадцати форм Пустоты, признаваемых ламаистами, которую называют ранг-дзин-тонг-па-нид (djine tong-pa-gnid)[103], «пустота сама по себе».
Таким образом, медитация возвращается к отправной точке. «Все — пустота», и в этой Пустоте явления, составляющие вселенную, так называемую личность и так называемое существование, возникают из самих себя.
II. На закате каждый из учеников наблюдает вдохи и выдохи и занимается различными упражнениями дыхательной гимнастики. Мысль снова направляется к очевидному противопоставлению между Пустотой и различными явлениями. Выдыхая, ученик думает: «Возникает неведение, оно существует». Вдыхая, ученик думает: «Оно не существует; оно растворяется в Пустоте». Затем, делая новый выдох, ученик думает: «Возникает знание, оно существует», после вдоха возникает мысль: «Оно не существует, оно растворяется в Пустоте».
III. Упражнение, связанное со знанием, выполняется буддистскими монахами Бирмы и острова Цейлон во время ходьбы. Делая шаг, они думают: «Сознание и тело рождаются». При следующем шаге они думают: «Они исчезли». И так далее. Нередко в Пали эту формулу бормочут при ходьбе, чтобы закрепить свое внимание. Цель этой практики заключается в том, чтобы закрепить в сознании факт непостоянства вселенной, непрерывного изменения и зарождения.
IV. Когда ученик собирается спать, он ложится в «позе льва», как у них это называется, то есть на правый бок, и опирает голову на ладонь правой руки[104].
Новичку предписывается следующая медитация.
Новичок воображает, что в его сердце стоит восьмиугольная хрустальная ваза, в которой плавает лотос с лепестками пяти мистических цветов: белый, красный, синий, зеленый, желтый. В центре лотоса стоит крупная буква A, окруженная полосами ослепительного света.
Он представляет на своей макушке другую букву, белого цвета. Из этой буквы появляются бесчисленные маленькие белые буковки А, которые мчатся стремительным потоком к светящейся букве А, стоящей в хрустальной вазе, проходят сквозь нее и возвращаются на голову, образуя бесконечную цепочку.
Другая буква A, красного цвета (некоторые говорят, что она коричневато-красная), появляется в области промежности. Из этой буквы появляются бесчисленные маленькие буковки А того же цвета, которые мчатся стремительным потоком к светящейся букве А, которую воображение помещает в сердце, и возвращаются в красное А, из которого они вышли, образуя круг в нижней части тела, так же как круг из белых букв А в верхней части тела.
Когда внимание ослабляется и сон одолевает ученика, он проверяет оба процесса и поглощает все буковки А в центральной букве A. Эта последняя растворяется в лотосе, который закрывает свои лепестки. Затем из цветка вырывается поток света. В этот момент у ученика должна остаться только одна мысль: «Все — пустота».
Затем он престает ощущать окружающую среду. Уходит представление о комнате и доме, в котором он находится, о мире и о собственном «я».
Если ученик ночью проснется, он должен удерживать мысль «о свете», видение «света», исключая все остальное и не вводя никаких мыслей относительно «формы».
Самый важный результат этого упражнения состоит в том, чтобы подготовить сознание к пониманию Пустоты.
Обычно этот результат приходит в три ступени. На высшей ступени человек более не спит. На средней ступени, когда человек спит, он осознает события и действия, происходящие в то время, пока он спит. На самой низшей ступени все сны — приятные.
При этом следует отметить, что некоторые люди утверждают, что спящий пробуждается, когда начинает подозревать, что он спит, или, скорее, что полубессознательное состояние, которое позволяет ему понять, что он спит, отмечает приближение его пробуждения. Это ни в коем случае не происходит с обучаемыми практикам самосозерцательной медитации.
Налджорпы, которые еще не достигли достаточного спокойствия духа, чтобы спать совсем без сновидений, знают в своих снах о том, что они спят и видят нереальные образы.
Таким образом, получается, что они, не пробуждаясь, с удовольствием медитируют на объектах своих снов. Иногда они смотрят на это так, как если бы это было театральное представление, последовательность приключений, которые они переживают во сне. Я слышала, как они говорили, что некоторые ученики порой колебались совершать в своих снах те поступки, которые они не хотели бы совершить в период бодрствования, но решали подавить свою щепетильность, потому что знали, что это нереально.
Жители Тибета не одиноки в подобной казуистике. Если мне позволительно будет небольшое отклонение, я хотела бы рассказать странный случай, о котором поведала мне одна леди. Она говорила о сне, который, приснись он ей несколькими веками ранее, мог бы привести ее на костер.
Эта леди видела во сне дьявола. Удивительно, но дьявол был влюблен в нее. Он стремился заключить ее в свои объятия, и отвратительное искушение овладело спящей. Она была набожной католичкой, и мысль о том, чтобы уступить искушению, наполнила ее ужасом, и все же ее покорило все усиливающееся чувственное любопытство. Любовь Сатаны! Какая глубина чувственности, неизвестной целомудренной супруге!.. Какое невероятное переживание! Однако религиозные чувства уже одерживали победу в этой борьбе, когда в сознании спящей леди внезапно вспыхнул свет. Она поняла, что все это — сон. И так как это был только сон…
Я не знаю, признала ли моя юная собеседница свой «грех» и что сказал об этом ее отец-исповедник, но — факт, что ламы не выказывают никакой снисходительности к грехам, совершенным при подобных обстоятельствах. Согласно их мнению, ментальные последствия действия, хорошего или злого, совершенного во сне, идентичны тем, которые то же самое действие произвело бы в состоянии бодрствования. Я еще вернусь к этому позднее.
В этот период обучения новичок может спать всю ночь, не пробуждаясь, чтобы медитировать в полночь, как и более продвинутые отшельники. Он должен, однако, уже бодрствовать на рассвете или, что лучше, незадолго до рассвета.
Его первая мысль должна быть о букве А в сердце.
Есть два метода, позволяющих это сделать: самый обычный, используемый новичками, состоит в том, чтобы видеть, как буква А выходит из сердца и повисает в воздухе. Она рассматривается как символ Пустоты, и ученики предпринимают усилия для того, чтобы полностью сконцентрироваться на ней.
Во втором методе, который применяют более продвинутые ученики, буква А мгновенно выскакивает в пространство и исчезает, как если бы была поглощена бесконечностью. Затем ученик остается, поглощенный мыслью о Пустоте.
Когда солнце поднимается над горизонтом, он продолжает медитацию, описанную в разделе I.
Это очень сжатое, сокращенное описание методов не может показать их во всей полноте и не позволяет дать им взвешенную оценку, демонстрируя только их странную, даже легкомысленную, сторону.
Я не слишком квалифицирована, чтобы выступить в их защиту, но считаю своим долгом объявить, что, если смотреть на них в свете объяснений опытного ламы, они выглядят совершенно иначе.
Например, А рассматривается не просто как буква алфавита, а скорее как символ неразрушимости бытия, не имеющего ни начала, ни конца, универсального закона. Сосредотачивая внимание на буквах, текущих как речная вода, ученик наконец постигает мысль о потоках энергии, протекающей через него, идею непрерывного и взаимного обмена между ним и внешним миром, идею единства этой универсальной деятельности, которая здесь создала человека, там — дерево, в другом месте — гальку. К тем, кто занимается подобными упражнениями, приходит очень много интересных идей.
Идея пустоты, соединенной с подобными разнообразными методами, связана с постоянным несоставным «я», чье существование, согласно фундаментальной доктрине буддизма, отрицается во всех существах и вещах. Тибетцы выражают эту идею словами канзаг-даг-мед-па, чой-даг-мед-па (kanzag dag med pa, tchos dag med pa) — «человек пуст, он не содержит «я» — все вещи пусты, они не содержат «я».
Это перевод ортодоксальной буддистской формулы: все совокупности непостоянны; все совокупности — мучительны, все вещи пусты, они не содержат «я» (Дхаммапада) [105].
Ламаисты особенно настаивали на этой доктрине не-я, разделяя третий род на два. Они говорят, что на более низкой ступени просветления человек ощущает, что его личность — это водоворот постоянно меняющихся форм, но при этом сохраняется идея о том, что его «я» существует повсюду. Понимание того, что любое существование подобно отсутствию «я», указывает на полное просветление.
Ежедневные упражнения, описанные здесь, пусть и достаточно поверхностно, а также другие подобные методы используются для того чтобы привлечь и зафиксировать внимание новичка, хотя он не сможет сразу понять их смысл или цель.
Медитация, описанная во II разделе, имеет целью выработать хладнокровие. Учителя надеются, что ее выполнение позволит ученику глубоко погрузиться внутрь себя, в область удивительного спокойствия, из которой он сможет беспристрастно рассматривать свои действия, чувства и мысли.
Глава IX
Как спать и правильно использовать время, отведенное на сон. Как вести себя во сне для того, чтобы увидеть свои скрытые устремления
Как спать и правильно использовать время, отведенное на сон. Как вести себя во сне для того, чтобы увидеть свои скрытые устремления
Ламы, принадлежащие к школе так называемых «Желтых шапок» [106], ученики Цзонхавы выказывают меньшую склонность к жизни, полной медитации, чем ламы школы «Красных шапок». Большинство отшельников, живущих в одиночестве, принадлежит к той или другой из крупных сект «Красных шапок» — Кармапа, Сакьяпа (Karmapas, Sakyapas) или Дзогченпа (Dzogchenpas). Те из «Желтых шапок», кто предпочитает жить в уединении, вполне довольны одной из хижин, носящих название цам кханг (tsams khang) (место медитации), построенной в уединенном месте, хотя и недалеко от монастыря; или они присоединяются к колонии ритодпа (ritodpas) (отшельников), которые устраивают свои отдельные жилища группами в пустынных местах.
Более богатые представители «Желтых шапок» живут в достаточно тихих местах, где они могут оставаться, когда желают уединения.
Их медитации, как правило, менее странные и сложные, чем медитации мистиков, носящих название «налджорпа». Однако не следует считать, что они ограничиваются только интеллектуальными медитациями. Напротив, много «Красных шапок» признают, что различные упражнения, которыми они занимаются, всего лишь опора, помогающая их умственной немощи двигаться по пути духовности, пока не придет время отбросить все обряды, в то время как большинство «Желтых шапок» рассматривают обрядность как основу и выказывают значительные колебания и нежелание отбросить их.
Те из них, кто дальше других продвинулся в духовном обучении, настаивают на полезности сохранения самоконтроля даже во время сна. В этом отношении они следуют по стопам Изонхавы, который посвятил этим предметам несколько страниц своей великой работы — «Ламрим».
Теперь я расскажу об основных элементах этой практики.
Изонхава говорит, что важно не тратить впустую время, данное нам на сон, становясь таким же инертным, как камень, или позволяя сознанию погрузиться в несвязные, абсурдные или вредные сны.
Беспорядочные проявления ментальной деятельности, когда человек теряет себя в мире сновидений, влекут за собой трату энергии, которая, возможно, могла бы быть применена с пользой для достижения некоей полезной цели. Кроме того, действия и мысли во время сна идентичны по своим последствиям с действиями и мыслями в бодрствующем состоянии.
Я уже говорила, что ламы исповедуют эту теорию, и здесь мы увидим, как ее отстаивает один из наиболее знаменитых из них. Это сильно удивит западных жителей. Как, спросят они, воображаемое действие может привести к тому же результату, как и реальное? Должен ли быть помещен в тюрьму человек, который во сне украл кошелек у прохожего?
Это не слишком хорошее сравнение — оно не соответствует точке зрения ламаистов. С их точки зрения, речь вообще не должна идти о «тюрьме» или «суде», осуждающем вора.
У тибетцев нет веры в воздаяние за добро и зло посредством силы собственного сознания. Даже в популярных религиозных представлениях деятельность Шиндже, Владыки и Судьи Мертвых состоит просто в применении законов, которые не он установил и никоим образом не может пересмотреть. Кроме того, Цзонхава и его ученики не являются обычными представителями толпы верующих.
Согласно их учению, самые серьезные последствия мысли или действия заключаются в психических изменениях, которые они совершают в человеке, произведшем их.
Материальное действие приносит совершившему его видимые материальные последствия, более или менее приятные или неприятные, но ментальное действие, предшествовавшее действию (то есть желание совершить материальное действие), повышает или опускает его автора некоторым невидимым образом, создает в нем тайные интересы и склонности, полезные для него или бедственные, и это изменение в характере человека может так же, в свою очередь, привести к определенным материальным результатам.
Жители Тибета придают огромное значение области подсознательного — хотя, естественно, они не обозначают это таким термином. Они полагают, что проявления нашей истинной природы подавляются ограничениями, в которых мы всегда оказываемся после пробуждения. Причина этого ограничения состоит в том, что в это время мы уже знаем о наших социальных условиях, окружающей нас среде, обучении и примерах, которые память услужливо подбрасывает нам. Тайна этой истинной сущности открывается в побуждениях, а они не возникают из соображений, основанных на этих данных. Сон в значительной степени убирает эти соображения, освобождает сознание от кандалов, в которых оно пребывает в течение периода бодрствования, и позволяет естественным порывам реализовываться намного свободнее.
Именно поэтому столь реален человек, который действует в снах, и его действия, хотя и являются нереальными с точки зрения бодрствующего, очень реальны с точки зрения свободной воли и потому притягивают все последствия, связанные с этим действием.
Опираясь на эти идеи, мастера мистики рекомендуют внимательнее следить за своим поведением во сне, если вы желаете заняться самопознанием. Однако они проявляют большую осторожность, когда советуют ученику попробовать обнаружить, насколько сильно состояние бодрствования способно повлиять на сознание спящего.
Одним словом, по мнению тибетских мистиков, намерение эквивалентно действию. Убийца становится убийцей в тот момент, когда он решил совершить преступление. И если что-то впоследствии помешает ему совершать это действие, это никоим образом не изменит психическое состояние преступника.
Если принять эту теорию, то получается, что убийство, совершенное во сне, обозначает преступные тенденции, и только ограничение различных влияний, воздействующих на сновидящего, останавливает его, когда он бодрствует. И, как уже говорилось выше, оттуда механически переносятся все последствия ментальной формы, составляющие желание «убить».
Жители Тибета не знают о том, что сны могут формироваться на основе реальных обстоятельств, определяющих ощущения спящего, которые он превращает во сне в фантасмагорические видения. Например, человек, замерзавший в тот момент, когда он засыпал, видит во сне, что он ночует под открытым небом в снегу со своими спутниками. Но если во время того же самого сна он обманом или силой украл одеяло или плащ у одного из своих спутников и завернулся в него, чтобы именно ему было тепло, конечно, это указывает на наличие у него эгоистических тенденций.
На Тибете, как во всех других странах, есть те, кто верит в предостерегающие сны, хотя ученые ламы не поощряют подобное суеверие. По их словам, сны подавляющего большинства людей возникают из беспорядочных образов, приходящих во время сна. Единственные знаки, которые они могут вывести оттуда, — тайные тенденции характера, о чем уже говорилось.
Очень небольшое число налджорпа, которые обрели особые психические способности, иногда видят предостерегающие сны или, возможно, узнают в состоянии сна о фактах, происходящих очень далеко от них. Но эта таинственная информация получается ими главным образом в течение особого вида транса, когда человек наполовину спит, а наполовину погружен в особого рода медитацию. Иногда предупреждение принимает форму символических явлений.
Вот способ, которым человек пытается стать «налджорпой, который не спит»:
«Когда приходит время ложиться спать, выйдите наружу, вымойте ноги и затем лягте в положении «льва» на правый бок, вытянув ноги и положив левую ногу на правую.
Затем добейтесь ощущения света, в мельчайших подробностях улавливая все детали. Если, засыпая, налджорпа пропитается этим светом, то его сознание не будет окутано темнотой в течение всего сна.
Восстановите в памяти учение Будды. Затем медитируйте на нем до самого момента засыпания; делайте все возможное, чтобы подавить во сне любые порочные идеи, которые могут у вас возникнуть. Если вы будете действовать подобным образом, то время, проведенное во сне, ни в чем не будет отличаться от времени, проведенного в состоянии бодрствования. Подспудно ваше сознание продолжит ментальные процессы, к которым вы направляли его, и, хотя вы и спите, вы будете совершенствовать свои достоинства».
Также необходимо настроить «сознание пробуждения». Тело может одолеть дремота, но сознание должно оставаться ясным и внимательным. «Ваш сон должен быть чутким, как сон дикого животного. Тогда вы будете в состоянии пробудиться в тот момент, который вы сами себе установили».
Глава X
Медитация на солнце и небо
Медитация на солнце и небо
Медитация на солнце и небо может также являться частью ежедневных упражнений отшельника.
Он направляет свой взгляд на солнце, вынуждая себя не мигать. Сначала он видит множество пляшущих точек, вызванных сверканием света, но через некоторое время остается только одна темная точка. Когда эта точка становится совершенно неподвижной, он считает свое сознание «настроенным» и способным приступить к медитации. Между начальной стадией сверкания и моментом, когда фиксируется одна темная точка, перед человеком может развернуться целое волшебное видение. Тонкие нити образуют бесчисленные рисунки, перед ним появляются различные фигуры. Каждое из этих явлений объясняется и изображается в иллюстрированных трактатах, которые применяются при подобных медитациях.
Другим ученикам рекомендуют медитировать на небо, иногда ограничиваться этой практикой, исключая все остальные. В этом последнем случае они должны построить свою хижину отшельника в месте, из которого видно обширное пространство пустой и необитаемой земли, где ничто, даже на горизонте, не нарушает единство вида. Человек должен лечь на спину и созерцать небесный свод, не позволяя горам или другим объектам попасть в их поле зрения. Эта практика должна привести к первому из «бесформенных» экстазов, связанному с восприятием «бесконечности пространства».
Это лежание и созерцание небес должно привести к неописуемому ощущению единства и связи со вселенной.
Один лама сказал мне: «Как мы нуждаемся в зеркале, чтобы увидеть свое лицо, так мы можем использовать небеса, чтобы увидеть там отражение нашего сознания».
Другой отшельник выразил то же самое в следующих словах: «Мне объяснили, что небо используется как зеркало. В нем появляется изображение Будды, отражение Знания и Мудрости, скрытой внутри нас. Поскольку мы не знаем об их существовании, зеркало небес показывает их нам. Поначалу новичок думает, что он наблюдает видение и получает внешнее откровение, но впоследствии он понимает, что он видел проекцию его собственного сознания. Тогда он может перестать смотреть на небо, поскольку он видит небеса и всю вселенную внутри себя, как постоянно повторяющееся творение собственного сознания».
Я говорю об этой странной практике, которая не имеет ничего общего с рассматриваемым мной предметом ввиду ее необычности. Она заключается в чтении на своде небес предсказаний о состоянии здоровья или приближении смерти.
Об этой практике упоминается в одной из работ ламы Янг Тига, озаглавленной «Зеркало, предвещающее смерть». Она была описана мне устно в довольно похожих терминах.
Очень рано утром или вечером, когда небо будет очень ясное, ученик должен встать на открытом месте без одежды, вытянув руки и ноги и держа в руках посох или четки. В этом положении он смотрит «глазами и сознанием» [Важно!] в сердце своей тени. Глядя туда с предельным вниманием, он видит светло-голубой свет. Когда этот свет начинает восприниматься особенно ясно, он поднимает глаза и смотрит на небо. Если он отчетливо видит, как в зеркале, свое полное изображение, со всеми четырьмя конечностями и посохом или четками в руке, то это значит, у него прекрасное здоровье. Неясное изображение показывает, что его здоровье пошатнулось. Если он вообще не видит своего отражения в небе, то это значит, что его конец близок.
Глава XI
Далай-ламы
Далай-ламы
Многие читатели, вероятно, задаются вопросом, почему в этой книге до сих пор не было упоминания о Далай-ламе. Поскольку этот труд целиком посвящен ламаистским инициациям, им кажется, что Далай-лама должен занимать в ней самое важное место как самый крупный мастер. Давайте рассмотрим этот вопрос.
Хотя мы начинаем все лучше узнавать Тибет и о нем написано множество серьезных книг, иностранцы все еще не слишком осведомлены относительно Далай-ламы и о его роли. Наиболее хорошо осведомленные авторы — британские чиновники, которые или лично контактировали с Далай-ламой, или поддерживали дипломатические отношения с его представителями — немного выходили за рамки описания правителя Тибета как политической фигуры.
Кроме этих авторов, много было написано людьми, которые не только никогда не ступали на землю Тибета, но даже не обладали надежной информацией о ее жителях. Они распространяли много басен, не имевших под собой никакого реального основания. Некоторые представляли Далай-ламу человеком, который понимал все языки на Земле и мог говорить на каждом из них. Другие безапелляционно утверждали, что он был аналогом римского папы для буддистов. Некоторые говорили о нем как о маге, творящем различные магические чудеса самой фантастической природы, в то время как кое-кто даже заявлял, что его дворец в Потале был своего рода «святая святых», куда не было доступа различным непосвященным, в котором жили сверхлюди, жрецы, хранители страшных тайн.
Все это — чистые выдумки. Далай-лама — исключительно временный правитель: он — диктатор-монарх Тибета.
В книге «Мистики и маги Тибета» я кратко описала Далай-ламу в его роли живого символа тулку (tulku) Ченрези. Здесь я дополню некоторые детали, чтобы избежать неверного понимания всего, что связано с этим верховным персонажем ламаистского мира.
Далай-ламы — преемники первых Великих лам секты «Желтых шапок». Чтобы познакомиться с их историей, мы должны вернуться к основанию этой секты Цзонхава, то есть к пятнадцатому веку.
Колыбель Далай-лам — монастырь Галден, расположенный приблизительно в двенадцати милях от Лхасы. Он был построен Цзонхавой в месте, удивительно контрастирующем с местностями, обычно выбираемыми для постройки «гомпас» — монастырей. Обычно они в гордом и несколько строгом одиночестве располагаются на значительной высоте, однако Галден окружен горами. Два других монастыря, относящиеся к тому же периоду и основанные учениками Тсонг Кхапы, также не устроены на вершинах. Они расположены на равнине у подножия гор, но путники отлично могут видеть их, тогда как Галден полностью скрыт в широкой воронкообразной впадине, так что путник может идти по соседним тропам и даже не подозревать, что рядом располагается крупный монастырь.
Эта особенность объясняется в одной легенде. В ней говорится, что Цзонхава предвидел, что придет время, когда его учение будет подвергаться гонению, его отвергнут на Тибете, поэтому он желал предусмотреть для монахов, своих учеников, тихое место, где они могли бы найти убежище и сохранить его учение для будущих поколений.
Цзонхава был первым настоятелем Галдена, и именно там он завершил свой жизненный путь. Для него в большом храме, построенном в центре монастыря, был установлен роскошный мавзолей из литого серебра и золота, украшенный драгоценными камнями и окруженный своего рода шатром. Многочисленные паломники — одним из которых была и я сама — посещают эту могилу, перед которой постоянно горят сотни ламп.
Цзонхава был обычным религиозным мастером. Продолжая работу, начатую Атишей и его учеником Домтоном (пишется Bromston), он приложил все усилия, чтобы реформировать очень слабую монашескую братию тибетского духовенства. Поэтому его учеников называли «гелугпа» (dgelugspa) — «те, кто имеет добродетельные привычки». Название «Желтые шапки» было им дано после того, как Тсонг Кхапа, чтобы отличить своих учеников от других монахов, которые носили красные головные уборы, велел им надеть желтые колпаки. Однако эта простая причина не показалась удовлетворительной людям, очарованным их чудесами.
Считается, что ему явилось женское божество по имени Дордже Налджорма и посоветовало ему поменять цвет и форму головного убора его учеников. Она уверяла его, что, если они будут носить желтые шапки, они одержат победу над их соперниками — «красными шапками».
Сокращая знакомые названия «Желтых шапок» и «Красных шапок» до более короткой формы «Желтой» и «Красной» сект, некоторые иностранцы думают, что одни ламаистские монахи носят желтые одеяния, а другие — красные. Я уже говорила, что это не так. Монашеское одеяние имеет цвет темного граната, а форма его одинакова для обеих сект и обоих полов. Монахи наиболее крупных ветвей знатоков древней религии местных тибетцев — белые Боны — носят такое же платье. Только форма головного убора, его цвет и цвет мантии — своего рода далматика (верхнее одеяние с широкими рукавами у католических и англиканских священнослужителей), носящее название «дагам » (dagam) (zlagam), который ламы носят во время службы, — позволяет распознать секту, к которой принадлежит конкретный священнослужитель.
Мы окажемся неправы, если вообразим, что Цзонхава нацелился на возвращение ламаизма к доктрине исходного буддизма, удаляя из него наслоения индусского-тантрического и Бон-шаманистского происхождения.
Он был столь же привержен ритуалам, как и прежние «Красные шапки», и по большей части разделял их суеверия. Можно сказать, что в основном его реформы касались монашеских наказаний. «Красные шапки» допускают питье продуктов брожения и требуют принесения обета безбрачия только от монахов, которые получили высшее посвящение гелонг (gelong) [107], тогда как Цзонхава запретил брак и употребление сброженных напитков всем членам духовенства без различия [108].
Цзонхава, религиозный мастер, которого почитает наибольшее число учеников, никогда не был главой церкви. Ни его племянник, Кхадуб Дже (Khasgrub je), который ему наследовал, ни другие ламы, про которых говорили, что они являются его воплощениями, ставшие по очереди настоятелями Галдена, не были наделены властью определять представления верующего или отлучать от церкви тех, чье мнение отличалось от их собственного. Эта прерогатива в буддизме никогда и никому не предоставлялась.
Несмотря на интеллектуальный упадок некоторых из тех, кто впал в суеверие, дух исходного учения все еще жив среди буддистов и достаточно мощен, чтобы помешать ученому духовенству отказаться от свободы исследовать, что настоятельно предписывал своим ученикам Будда.
Бескомпромиссное отношение примитивных буддистов к этому вопросу можно заметить во множестве высказываний из Священных писаний пали. Я приведу одно из них, взятое из Калама сутты (Kalama sutta).
Некоторые молодые люди сообщили Будде, что мастера различных философских школ в их стране проповедуют очень много различных доктрин, и они не знают, во что верить. Они хотели получить его совет.
Будда ответил: «Не верьте ничему на основании веры в традиции, даже притом что они почитались многими поколениями людей и во многих местах. Не верьте во что-то только потому, что многие люди говорят об этом. Не принимайте на веру слова мудрецов прошлого. Не верьте тому, что вы сами вообразили, убеждая самого себя в том, что это Бог вдохновляет вас. Не верьте только на основании авторитета ваших мастеров или священников. Верьте тому, что вы сами проверили и нашли разумным, и ведите себя соответственно».
Какие бы изменения ни вводили махаянисты впоследствии в учение Будды, в этом вопросе они были бескомпромиссны. Практически, можно сказать, что они подчеркивают необходимость духовной независимости.
Некоторые пассажи, взятые из ритуалов мистических посвящений, описывавшихся в этой книге, свидетельствуют о том, что ламаисты считают это необыкновенно важным. Здесь можно четко видеть, что истинное «посвящение» — то, которое дает себе само сознание, а все другие являются лишь средствами достижения этого важнейшего посвящения.
Итак, хотя настоятели Галдена, преемники Цзонгавы, получали среди «Желтых шапок» (гелугпа) определенные преимущества, это преимущество всегда оставалось просто почетным, и они никогда не осуществляли эффективную духовную власть над монахами и мирянами, принадлежащими к этой секте. Звание «главы» секты «Желтых шапок», иногда присваиваемое им иностранными авторами и также используемое мной как название, понятное западным жителям, на самом деле не соответствует никакой их официальной функции.
И при этом настоятелей Галдена не слишком часто упоминали в качестве мастеров мистики, обладающих особой изустной традицией дамнаг (дамнгаг ) методов психического обучения. Монополия на дамнгаг, и, следовательно, на связанные с ними посвящения, похоже, удерживается сектами «Красных шапок». Корни дамнгагов уходят в далекое прошлое, в то время, когда религиозный мир Тибета все еще тесно сообщался с индийскими буддистами.
За несколько столетий до рождения Изонхавы два могущественных великих ламы — лама Кармапа и особенно школы из Сакьяпа — временно захватили светскую власть, вытеснив феодалов, которые растащили страну после исчезновения последней королевской династии. Действительно, великий лама школы Сакьяпа стал настоящим королем по милости императора Хубилай Хана (первый китайский император династии Моголов, XIII век). Он, будучи сюзереном Тибета, даровал ему суверенитет.
Однако реформа Цзонхавы, введя более строгую дисциплину в определенные слои ламаистского духовенства, так и не смогла подавить в них жажду мирских богатств и титулов. Власть, которой обладал великий Сакьяпа, вызывала ревность настоятелей Галдена.
Лобсанг Гьяцо, пятый из лам, достиг своей цели, получив поддержку принца из династии Моголов, который захватил Тибет. Этот принц положил конец власти школы «красных». Множество их монастырей было снесено до основания, а остальные были конфискованы в пользу «Желтых шапок», и их члены были насильственно включены в эту школу. Лобсанг Гьяцо при поддержке правителя Моголов получил от него временный суверенитет Тибета, как это было дано приблизительно четыре века ранее другим Моголом, Хубилай Ханом, Великому ламе Сакьяпы.
После его возвышения до королевского статуса Лобсанг Гьяцо объявил себя олицетворением Бодхисаттвы Ченрези, защитника Тибета, и выдвинул собственного мастера в качестве олицетворения мистического Будды Опагмед (санскр. Амитабха).
Став королем, он больше не стал скрываться в монастыре Галден, затерянном среди гор в пустынной местности, хотя был обязан сохранять на троне подобающую ему религиозную среду и даже носить монашеские одежды.
В седьмом веке великий король Сронгцен Гампо построил дворец-крепость, который ныне лежит в руинах, на холме Потала в Лхасе. Трудно было бы найти более подходящую местность для нового суверена. Это место окружают легенды, соединяющие его с памятью о самом известном из тибетских королей, а выступающая верхушка холма, торчащая посреди огромной долины, отлично подходит для того, чтобы послужить опорой жилища божественного суверена. Лобсанг Гьяцо начал строительство огромного здания, которое, постепенно достраиваясь время от времени, должно было стать современной Поталой.
Оно очень далеко от таинственного святилища, созданного воображением некоторых людей. Конечно, в Потале есть монастырь, настоятелем которого является Далай-лама, но это такой же монастырь, как и все другие, во всем, что касается проводимых в нем обрядов. Единственное отличие — его отчетливо аристократический характер. В монахи туда принимают только сыновей из благородных и богатых семей. На них накладываются огромные расходы. Ожидается, что они возьмут на себя расходы, необходимые для содержания монастыря и его гостей, таким образом расплачиваясь за честь быть трапа [109] частного монастыря Далай-ламы. Стоит добавить, что при отборе кандидатов в эту элитную группу рассматриваются также их личные достоинства. Богатства и благородных предков недостаточно; монахи Поталы должны быть учеными, и, как правило, они хорошо образованны. Этим сыновьям из богатых семей, которые освобождены от любых материальных забот, от детства обеспечивают лучших преподавателей, и, поскольку им больше совершенно нечего делать, кроме как учиться, они не видят большой трудности в приобретении схоластической эрудиции, которая так ценится на Тибете.
Мы все еще находимся очень далеко от высот мистики. Правда, нам не стоит ожидать найти их в Потале, равно как в любом из крупных государственных монастырей: Сера, Галден, Депунг и их пристройках, расположенных вблизи от Лхасы. В этих крупных ламаистских учреждениях всегда можно найти замечательно эрудированных людей, ученых эрудитов, философов, несколько скептичных или эпикурейцев, а также некоторое количество лам, действительно набожных и исповедующих особую форму буддистского благочестия, которое принимает вид милосердия. Что касается тибетских мистиков, то, как и их индийские собратья, они предпочитают одиночество и жизнь в пустыне.
Правда заставляет нас лишить Поталу и его суверена фантастического ореола, которым наградили их некоторые люди; тем не менее мы не должны, бросаясь в другую крайность, заключить, что Далай-лама и его ученые монахи лишены знания тайной доктрины, в которой им отказывают некоторые, практически недоступные мастера.
Я думаю, что уже несколько раз совершенно ясно высказывалась по этому вопросу. В буддизме нет ничего тайного, ни в его ламаистской форме, ни даже в наиболее ортодоксальных сектах. Будда отчетливо и определенно заявил это своему двоюродному брату и ученику Ананде, которого некоторые люди, не очень сведущие в буддистских Священных текстах, оценивали как знатока тайного учения.
«Ананда, я преподавал учение без какого-либо ограничения, не делая никакого различия между общепринятым и тайным. Я не похож на тех мастеров, которые сжимают руки, пряча в них что-то или скрывая определенные вещи» [110], — объявил Будда незадолго до своей смерти своему двоюродному брату, когда последний спросил его, есть ли у него что-то еще, о чем он мог бы рассказать ученикам.
Из этого следует, что мы не можем сомневаться — Далай-ламы способны получить максимально полное образование в области самых достойных философских и мистических доктрин ламаизма. Со своей стороны, я могу утверждать, что нынешний Далай-лама является глубоко сведущим в этих доктринах и способен отлично разъяснить их.
Далай-ламы присуждают ангкуры точно так же, как любой другой знаток ламаизма. Цзонхава, их великий духовный предок, просил «инициации» у нескольких мастеров, не только в юности, но и когда стал уже известным мастером и стоял во главе многочисленной группы учеников.
Помните, что факт получения ангкура необязательно указывает на то, что получающий его стоит ниже по ламаистской иерархии, чем тот, кто его дает. Бывают случаи, когда двое лам обмениваются ангкурами при взаимной инициации или — чтобы остаться верным значению слова ангкур — передают друг другу различные полномочия, которыми они обладают.
Естественно, невозможно узнать, какие мистические ангкуры получил Далай-лама или даже вступил ли он на мистический путь. Точно так же невозможно узнать, какие ангкуры способен дать сам Далай-лама. Это — тайна, которую каждый мастер держит при себе. Можно лишь сказать, что Далай-ламы никогда не утверждали, что являются мастерами мистики или духовными наставниками, и они сами искали духовного просветления не в Потале.
Ангкуры, присужденные нескольким особо отмеченным людям Далай-ламой, скорее носят самый общедоступный характер, наиболее часто они дают ангкур Ченрези.
Двенадцать Далай-лам сменили друг друга в Потале, прежде чем там появился нынешний правящий монах-король. Большинство из них умерли молодыми, и только двое из них — по разным причинам — стали широко известны.
Первый — Лобсанг Гьяцо, часто называемый «Великий Пятый». Именно он получил временную светскую власть. Став сувереном, он получил репутацию способного и энергичного человека, не считавшего ниже своего достоинства демонстрировать великолепные церемонии, столь ценимые жителями Тибета.
Его преемник, шестой Далай-лама, знаменит иначе. Он имеет менее благородное происхождение, хотя и заслуживает особого упоминания из-за легенды, связанной с темой этой книги.
Злая судьба заставила считать этого ребенка перевоплощением Лобсанга Гьяцо и олицетворением (аватаром) Ченрези. Он был невероятно интеллектуальным человеком. Несомненно, он был бы и блестящим королем, и отличным поэтом, если бы Далай-ламы, хотя и были единоличными властителями, все же были вынуждены соблюдать монашескую дисциплину, которая предписывает строгое безбрачие. Известно, что Цаньян Гьяцо не соблюдал это.
Титул перевоплощенца — тулку не может быть аннулирован; Далай-лама не отказывался от своего предназначения. Однако это был молодой человек, который не мог держать в узде свои чувства и давал полную волю своим греховным наклонностям.
Цаньян Гьяцо написал много поэм, которые все еще чрезвычайно популярны на Тибете. Они выражают мучение и внутреннюю борьбу несчастного Великого ламы. Вот — вольный перевод некоторых из них.
Когда человек пристально смотрит на сочный персик,
Висящий недоступно на вершине персикового дерева,
Так и я смотрел на деву благородного рождения,
Очаровательную и полную юной энергии.
Украдкой идя по дорожке,
Я встретил мою возлюбленную, такую прекрасную
и ароматную,
Лазурная бирюза, которую я нашел
И затем должен был отвергнуть.
Дева, к которой стремится мое сердце,
Ты не можешь быть ничьей, кроме как моей,
Я хотел бы думать, что я добился
Самого драгоценного из жемчугов Океана.
Мир, ты, бормочущий попугай (те, кто обвинял его),
В ивняке джолмо [111] желает петь,
Ужасные или нет, боги и демоны ждут меня,
Я хотел бы сделать моим сладкое яблоко,
Которое висит здесь передо мной.
Я пошел к самому замечательному из лам [112]
Умолять его направить мое сознание;
И я оказался неспособен, даже в его присутствии,
сосредоточить его на нем,
Оно сбежало и уплыло к моей любви.
Напрасно я вызываю в памяти лицо моего мастера,
Оно не отображается в моем сознании;
Но и без моего желания лицо моей возлюбленной
Всплывает в моем сознании, и там больше ничего нет.
Мои мысли уходят все дальше и дальше, уводя меня далеко,
Они должны были лететь к святому учению,
В этой жизни, несомненно, я должен стать Буддой.
На востоке, на горной вершине
Сияет белый диск луны.
Облик моей возлюбленной
Мелькает перед моим сознанием.
Мое сознание далеко,
Мои ночи бессонны;
Дни не приносят мне объект моего желания,
И мое сердце очень утомлено.
Следующие две строчки дают точное описание шестого Далай-ламы. Они известны всем жителям Тибета:
В Потале я — благородный Цаньян Гьяцо,
Но в городе я — распутник, известный шалопай.
Что жители Тибета думали о том странном виде, в котором благородный Ченрези явился им в этом необычном перевоплощении? Вера заставляет человека видеть все в особом свете; несмотря на оригинальность Цаньян Гьяцо, большинство жителей Тибета продолжало верить в его божественную сущность.
Но китайцы, которые в то время владычествовали на Тибете, выказали меньше терпения. Они свергли чересчур страстного Далай-ламу и казнили его, к великому негодованию жителей Тибета. Напрасно они предлагали впоследствии другого молодого человека, которого они выбрали, утверждая, что Цаньян Гьяцо не был подлинным аватаром Будды и был выбран ошибочно. Верующие отказались признать нового ставленника Далай-ламой и нетерпеливо ждали перевоплощения несчастного Цаньян Гьяцо.
По этому вопросу сам Цаньян Гьяцо, как говорят, оставил следующее предсказание. Как и предыдущие его стихи, эти строки очень популярны на Тибете:
Белый журавль,
Одолжи мне крылья твои.
Полечу я не дальше Литханга
И оттуда вскоре вернусь.
Там фактически и был обнаружен в области Литханг (Восточный Тибет) ребенок, имевший признаки, необходимые для признания его новым воплощением усопшего Далай-ламы.
Все это — подлинные исторические факты. Причина, по которой я остановилась на них столь подробно, заключается в том, что я могла бы прокомментировать некоторые странности Цаньян Гьяцо. Похоже, что он был приобщен к определенным практикам, которые позволяют — или, возможно, даже поощряют — то, что кажется нам распущенностью. И действительно, это было бы верно в любом другом случае, кроме ситуации с «посвященным» в то исключительное учение, о котором трудно говорить вне рамок медицинского трактата.
Нас вынуждает подозревать, что Цаньян Гьяцо был знатоком этих методов, помимо прочих признаков, очевидно фантастическая история, хотя символизм ее совершенно ясен любому, кто был знаком с этим учением. Вот эта история. Однажды Цаньян Гьяцо находился на верхней террасе своего дворца в Потале, в компании тех, кто был шокирован его распущенным поведением.
«Да, у меня есть любовницы, — сказал он в ответ на их упреки, — у вас, тех, кто обвиняет меня, также есть любовницы, но неужели вы думаете, что обладание женщиной для вас — то же самое, что и для меня?»
После этих слов он приблизился к краю террасы и помочился на баллюстраду. Жидкий поток спустился к фундаменту Поталы и затем «поднялся» к высоко расположенной террасе и возвратился в Великого ламу по тому же самому каналу, из которого вышел.
Тогда великий лама обратился к окружающим:
«Сделайте то же самое, — сказал он, — а если не можете, поймите, что мои отношения с женщинами отличаются от ваших».
Подобная история может показаться пародией на учение, но мы вполне можем поверить, что это — искаженная версия вполне реального события.
Определенный класс тибетских мистиков преподает учение, являющееся наполовину физическим, а наполовину духовным, включая даже такие странные методы, как возвращение в тело изошедшей из него жидкости, которая будет израсходована в сексуальном союзе, или впитывание ее обратно после того, как она была выведена из тела.
В качестве объяснения полезности этих упражнений приводятся весьма любопытные причины. В первом случае это не просто вопрос сохранения внутри себя энергии, которая, по мнению жителей Тибета, содержится в семени, — для отшельников, которые строго придерживаются безбрачия, это естественно — но и возбуждения этой скрытой энергии и затем воздержания от ее расходования. Во втором случае говорится, что энергия, заключенная в сперме, может быть обогащена во время совокупления, элементом женской энергии, которую она впитывает и забирает с собой.
Некоторые люди полагают, что таким образом они могут заниматься своего рода мягким вампиризмом, завладевая психической силой женщин, отмеченных специальными знаками, которых они считают реинкарнацией фей.
Отличительный признак людей, способных к этому странному деянию, состоит в том, что их длинные волосы заплетены в одну косу, спускающуюся по спине. Однако в настоящее время значительное число так называемых налджорп носит эту прическу, «не имея на это права», как сообщил мне один из «инициированных».
Новички тренируются в этой практике, заставляя двигаться жидкость (воду или молоко) по каналу уретры.
Об этом исключительном аспекте тайной науки Тибета можно рассказать очень многое. Однако мы в каждом случае убеждаемся, что, какими бы смешными или отвратительными ни казались нам эти методы, нет ничего непристойного или похотливого в тех, кто начинал увлекаться ими, и при этом эти люди никогда не стремились к достижению чувственного удовольствия.
Индусы знакомы с описанным выше особым учением; мы находим описание подобных методов в различных работах по хатха-йоге. Может быть, жители Тибета позаимствовали эти практики у них через непальцев, с которыми они поддерживали тесный контакт в течение столетий, последовавших после прихода к ним буддизма? Весьма возможно; однако происхождение этих практик — как и всей тантрической системы, с которой они связаны, — все еще остается нераскрытой тайной.
И в Индии, и на Тибете есть люди, кто полагает — и в целом не без оснований, — что термины, используемые при описании этих практичных методов, не слишком хорошо сочетаются с объектами, с которыми они имеют дело. Действительно, у тибетцев есть мистический язык, называющийся «язык дакини», слова которого, позаимствованные из обычного языка, для посвященных имеют совсем другое значение.
Таким образом, непонятно, будут ли более правы те, кто заявляет, что образная интерпретация — это единственно подлинная. Они принудительно очищают и возвышают до духовной доктрину, которая первоначально была очень материальной. С другой стороны, возможно также, что приверженцы грубых, материальных методов снизили доктрину, которая первоначально была духовна по своей сути.
Вероятно, у человека Запада нет никакой другой альтернативы, но для восточного жителя это не так. Для представителя восточной культуры нет непроницаемой стены между духовным и телесным, которую заставляют нас искать столетия западного образования.
«Посвященный», стремящийся обрести определенный опыт, или покорный раб слишком обременительных чувств вспоминают шестого Далай-ламу очень сочувственно.
В Лхасе в его честь существует неофициальный и своего рода полусекретный культ. В этом городе таинственным красным значком отмечаются те дома, в которых, согласно легенде, Цаньян Гьяцо встречался со своими прекрасными подругами. Время от времени простые люди украдкой касаются этих значков лбом[113] в знак уважения молодого распутника, который был олицетворением мистического Бога бесконечного сострадания.
Поскольку упоминание о Цаньяне Гьяцо предоставило мне такую возможность, полагаю, что я могу рассказать здесь одну услышанную мной некогда историю, связанную с рассматриваемым предметом.
Герой этой истории — известный знаток Вед, философ Шри Шанкарачарья (мастер Шанкара), которому брахманы обязаны тем, что он восстановил их привилегированное состояние — оно было поставлено под угрозу рационалистичными и антиритуальными проповедями учения Будды. Личность этого мастера, какой мы видим ее в биографиях, хотя и является на три четверти придуманной, легендарной, вероятно, была крайне яркой и интересной. К сожалению, своего рода кастовая политика несколько скрыла глубину его интеллекта, сделав Шанкарачарью поборником губительных социальных теорий, полностью противоположных возвышенному пантеизму, который он проповедовал.
Следующая история была очень хорошо известна в Индии в течение многих столетий, и ученики этого великого философа так и не смогли понять, насколько мрачную тень она бросала на их мастера. В результате последних веяний, и, возможно, под влиянием западных идей, воспринятых вместе с образованием в английских колледжах, определенная часть индийской интеллигенции поняла гротескный характер ситуации, участие в которой приписывалось Шанкарачарье, и отказалась связывать эту историю с его именем. Однако некоторые знатоки индийского тантризма защищают ее подлинность и придают ей особое значение, связанное с тем видом обучения, в которое был, по-видимому, посвящен Цаньян Гьяцо. Я спешу сказать, что этого мнения придерживаются лишь немногие приверженцы тантризма.
Итак, когда Шанкара путешествовал по Индии в поисках достойных оппонентов, с которыми он мог бы схватиться в философском поединке, как было принято в те дни, он бросил вызов мастеру по имени Мандана, ученику знаменитого Батты, который преподавал ритуалистическую доктрину карма-миманса. Согласно этой доктрине, спасение могло быть обретено только путем религиозного служения, таинств, жертв божеству и т. д. Шанкарачарья утверждал, что, напротив, спасение — плод Знания.
Договорились, что тот, кто проиграет в дискуссии, должен стать учеником победителя и принять его образ жизни. Следовательно, поскольку Мандана был мирянином, а Шанкарачарья — аскетом (саньясин), если бы его аргументы позволили ему одержать победу, он должен был бы снять свои религиозные одеяния и взять себе жену. В случае победы Манданы уже он должен был оставить свою жену, дом и надеть одежду из оранжевого хлопка, которую в Индии носили все те, кто полностью отрекся от мира [114].
Никакой индус, за исключением саньясина, не смеет произносить эту формулу, которая считается священной и пугающей. Тот, кто произнес ее, автоматически становится саньясином, поскольку вся его семья, социальные и духовные связи непоправимо разрываются.
Философский поединок происходил публично. Мандана долго держал оборону, но через некоторое время он исчерпал все свои аргументы, и Шанкарачарья уже собирался потребовать, чтобы тот стал его учеником. И в это время жена побежденного мирянина, ученая женщина по имени Бхарати, вмешалась в диспут: «Священные тексты, — сказала она Шанкаре, — говорят, что муж и жена образуют единое целое. Поэтому, победив мужа, вы одержали победу только над одной половиной нашего существа. Ваша победа может считаться полной только в том случае, если вы победите и меня также».
Философ ничего не смог ответить на это, поскольку требование Бхарати было основано на ортодоксальных правилах. Он возобновил дискуссию, теперь уже с ней. Эта женщина быстро обнаружила, что ее ученость и навыки в ведении подобных дискуссий не могли соперничать с возможностями ее противника, поэтому, с присущей женщинам находчивостью, она спасла ситуацию с помощью хитрости.
Священные тексты индусов относят чувственную любовь к наукам. Бхарати задала своему оппоненту-аскету определенные вопросы на эту конкретную тему. Он был смущен и изумлен. Начиная с ранней молодости, объяснил он ученой и лукавой женщине, философия занимала все его мысли, и, как и положено саньясину, он произнес клятву безбрачия. Женщины и все, что их касалось, были ему совершенно чужды. Однако он не считал, что его незнание непоправимо; он был убежден, что способен обрести знания, которых ему не хватает. Это был всего лишь вопрос времени. Разве ученая Бхарати не предоставит ему месяц для самообразования? В конце месяца он мог бы возобновить обсуждение.
Теперь Бхарати показала себя неблагоразумной. Она недооценила возможности своего противника; или, возможно, думала, что столь короткого времени ему будет недостаточно для того, чтобы освоить эту науку. Поэтому она согласилась, и Шанкарачарья пошел искать учителей.
В то время умер раджа по имени Амарука. Шанкара, который не мог начать свои исследования в роли уже столь известного философа-отшельника, расценил эту смерть как исключительную возможность, которую он мог бы использовать в своих интересах.
Он приказал, чтобы его ученики тщательно спрятали его тело в укромном месте, и затем, используя свои возможности йога, сделал так, чтобы его «двойник» оставил его тело и вступил «в двойника» принца, которого несли на погребальный костер. Возрожденного Амаруку привезли обратно во дворец, к величайшей радости многих рани, его законных супруг и значительного числа очаровательных любовниц.
Шанкара показал себя рьяным учеником, приятно удивляя женщин, которыми пренебрегал покойный раджа, бывший к тому времени уже пожилым человеком. Министры и члены Совета также отметили, что после возрождения разум их принца стал значительно острее. Нынешний суверен сильно отличался от того тупого раджи, которого они знали в течение многих лет.
Затем и женщины дворца, и члены государственного Совета начали подозревать, что тело прежнего Амаруки было использовано духом какого-то мощного сиддха[115]. Опасаясь, что этот дух может покинуть их и вернуться в собственное тело, министры приказали начать поиск по всей стране тела человека, находящегося в трансе, спрятанного в каком-то укромном месте. Как только такое тело будет найдено, его следовало немедленно сжечь.
Шанкара был так глубоко поглощен своими исследованиями, что полностью потерял память о своей истинной личности и больше не думал о возвращении в тело философа-отшельника, которое лежало где-то под присмотром нескольких учеников.
Однако, когда день, назначенный для его возвращения, закончился, а их мастер все не возвращался, они начали беспокоиться. Когда они узнали о начавшихся поисках, их беспокойство переросло в настоящую тревогу. Несколько учеников поторопились отправиться во дворец Амаруки, сумели пройти внутрь и, стоя под окнами раджи, запели философский гимн, написанный самим Шанкарачарьей.
Эта песня вернула их мастеру память. Его «двойник» немедленно оставил тело Амаруки и вернулся в свое собственное, которое было обнаружено им уже на погребальном костре…
Теперь хорошо подготовленный в этой новой науке, наш философ вернулся к Бхарати и поразил ее своими знаниями, в результате чего эта женщина должна была признать свое поражение.
Те, кто готов видеть в этой истории то, что в ней не описано напрямую, говорят, что реальные факты были сильно искажены. На самом деле Шанкара в какой-то момент своей жизни, должно быть, приобрел психическую силу, которой ему не хватало, посредством практик, требующих общения с женщинами. Я возлагаю ответственность за это мнение на тех, кто его выражает.
Однако это могло произойти с великим индусским философом. Вполне вероятно, что Миларепа, очень целомудренный и строгий холостяк, приказывал своему ученику Речунгпе сожительствовать в течение некоторого времени с женщиной, на которую он сам ему указывал. Согласно легенде, эта пара должна была жить в одинокой горной пещере — эта подробность указывается, чтобы показать, что адепты подобных методов — не то же самое, что обыкновенные распутники, и их целью является совсем не ощущение чувственного наслаждения [116].
Действительно, независимо от преследуемой цели, буддизм не признает подобных практик, и им нет места и в Тибете, в официальном ламаизме.
Роль лам Таши идентична роли Далай-лам. Единственное различие между ними заключается в том, что последние являются временными правителями Тибета. Практические результаты этого различия весьма значительны. Это выявилось в тот момент, когда лама Таши того времени был вынужден бежать из Тибета от Далай-ламы.
Поскольку ламы Таши официально не интересуются политикой и живут в уединении на своих землях в области Цанг, они считаются некоторыми более преданными религии, чем Далай-ламы. Тем не менее в отношении веры основная масса жителей Тибета не делает между ними никакого различия.
Ламы Таши, не более чем Далай-ламы, считаются представителями цепочки мастеров, передающих друг другу традиционное изустное учение. Их официальное название — Цанг панчен римпоче . Панчен — тибетская адаптация санскритского слова «pandita», означающего «ученый, наиболее сведущий в философии». Таким образом, это название придает ламам Таши характер ученого-философа, а не умозрительного мистика.
Цанг Панчен — Великие ламы монастыря Ташилумпо («Полное процветание») в Шигадзе. По этому монастырю они получили название лам Таши, как их называют иностранцы, но это название не слишком широко распространено на самом Тибете.
Что бы ни думали о широко распространенной теории, согласно которой все эти ламы считаются последовательными перевоплощениями одного и того же человека, кажется очевидным, что все ламы Таши отмечены приятным нравом и чрезвычайной благожелательностью. Практически все путешественники, посещавшие их за прошедшие столетия, отмечали это. Прием, оказанный мне самой ныне здравствующим ламой Таши, позволяет мне добавить свое собственное свидетельство.
Сразу за Далай-ламой и ламой Таши следует еще один живой символ, воплощение Дорджи Фагмо [117], имеющий вид женщины, чей тулку — лама-настоятельница монастыря, расположенного около озера Ямдок в Южном Тибете. Эта достойная личность в мире ламаизма не менее хорошо изучена мистиками, чем два выдающихся тулку — Ченрези и Опагмед — то есть Далай-лама и лама Таши.
В действительности ни один житель Тибета не ожидает, что олицетворения этих Великих лам станут главами философских школ и поведут своих учеников по пути мудрости или даруют им мистические посвящения. Они считаются эманациями существ, находящихся на более высокой ступени, чем боги, и по существу являются защитниками [118]. Тибетцы верят, что их присутствие на Тибете гарантирует повсеместное процветание и счастье, и получить благословение от этих достойнейших и благородных лам — все равно что обрести материальные преимущества в этой или следующей жизнях.
Глава XII
Малая и большая колесницы
Малая и большая колесницы
Хинаяна и махаяна — знакомые термины для тех, кто читал работы по буддизму, поэтому кажется излишним объяснять их. Однако, поскольку значение, данное им буддистами, особенно инициированными ламаистами, значительно отличается от того, что принято понимать под этими терминами на Западе, будет разумно сейчас объяснить их более подробно.
На языке ориенталистов понятия «хинаяна» (у тибетцев тег мен (theg men)) и «махаяна» (у тибетцев тегпа генпо (thegpa chenpo)) используются для разделения буддизма на примитивную доктрину и более поздние учения, представляющие собой развитие или искажение древнего учения.
Я не ставлю перед собой цель разъяснить здесь философские концепции, характеризующие эти две «колесницы». Кроме того, разделение буддистского мира на две совершенно отдельные фракции является сугубо теоретическим и не вполне точно соответствует фактам реальной действительности.
Прежде всего, название «хинаяна», или «малая колесница», когда-то в древности данное традиционалистами своим противникам, ими самими не принимается. Сингалезцы, бирманцы, сиамцы и все буддисты, которых иностранцы объединяют в одну группу, называемую «хинаянистами», не считают себя — и абсолютно справедливо — стоящими на более низкой ступени, чем их единоверцы в Китае, Японии и на Тибете, во всем, что касается буддистской философии. Напротив, они заявляют, что обладают единственным подлинным учением Старейших — учением Тхера .
Буддисты из стран Северной Азии, которых иностранцы называют махаянистами, не делая между ними различия, как правило, более осторожны в использовании этого наименования.
В данном случае я буду говорить только о тибетцах, и в частности о мастерах мистики, которые преподают дамнгаг и присуждают эзотерические и мистические посвящения.
Уже говорилось, что выражение «Большая колесница» обозначает учение, наиболее приемлемое для большинства буддистов, чем учение Старейших, наиболее способное быстрейшим способом привести массы верующих к спасению. Эта интерпретация — которая, естественно, в Азии не является общепринятой — неизвестна ламаистам. По их мнению, махаяна должна восприниматься как «великое» направление, в том смысле что оно является превосходящим, высшим путем.
Если им говорят, что развитие доктрин махаяны следует приписать Асвагоше, Нагарджуне или иному буддистскому философу, они резко выступают против этого мнения. Они отвечают, что эти мастера преподавали доктрины, относящиеся к «Большой Колеснице», но не они придумали их. Эта «Большая колесница» существовала во все времена. Она состоит из различных достойных учений, которые недоступны для понимания простому, заурядному сознанию. Из этого следует, что, согласно мнению ламаистов, вместо того, чтобы стать мощным средством передачи знания, доступным массам, махаяна скорее очень сложный и недоступный источник информации, к которому открыт доступ только избранным.
Ламаистские мистики не считают, что все их канонические Священные тексты относятся только к махаяне. В их состав входят также и более простые работы, в которые собраны предписания по бытовой этике, правила монашеской дисциплины и все, что как-либо связано с подобными вопросами.
Они все время упорно напоминают, что спасение — это сугубо духовное дело. Это овладение «знанием», освобождение от заблуждения, и все эти предписания и правила следует рассматривать только как средство предварительного обучения, которое очищает сознание.
По мнению ламаистов, существует больше, чем всего две «колесницы». Они говорят о наличии многих «колесниц» и пытаются придать особое значение каждой из философских систем, которые мы включаем в махаяну.
Тем не менее обычно упоминаемые «колесницы» можно объединить в следующие группы:
1. Малый путь тег мен (theg men).
2. Колесница Ран санья (rang sangyais), то есть «Будда внутри себя, из себя и для себя», в которой учение не проповедуется.
3. Колесница Чанчуб Семспа (Changchub Semspas); ее приверженцы посвящают всю свою энергию практике безграничного сострадания и трудятся во имя благополучия и просветления всего человечества.
4. Самая превосходная колесница Лана-мед-па-тегпа (blana med pa thegpa).
Более низкая колесница, чаще называемая колесницей «слушателей» Ньян то кьи тэгпа (nien thos kyi thegpa), относится к хинаяне. Она также приводит к Нирване, но двигается по очень длинному маршруту, ведя умы, неспособные к постижению трудноуловимых доктрин махаяны. Кроме того, по мнению тибетцев, ее знатоки нацелены только на личное освобождение от горя и печалей, ничего не делая для спасения других, и по этой причине они стоят на более низкой степени духовного развития, чем альтруистические тибетские Бодхисаттвы Чанчуб Семспа .
Таким образом, суждение тибетцев о «слушателях» совершенно ошибочное и проистекает вследствие полного непонимания не только оригинальной буддистской доктрины, но и, как мы впоследствии увидим, ее философского и мистического развития в махаяне.
Колесница ран сангья (rang sangyais) в понимании ламаистов, является колесницей чистого интеллектуализма. Ранг сангьяс (Rang sangyais) — это подлинный Будда. Он приобрел знания путем исследования, самоанализа и медитаций и теперь наслаждается плодами своего духовного просветления. Он не проповедует учение, более того, он ничего не делает из того, что ведет к пользе для других людей. Портрет, нарисованный ламаистами, изображает его как суперинтеллектуала, заключенного в башню из слоновой кости. Иногда его называют «тот, кто постигает только одну причину», что означает, что он понимает «Пустоту», но не сострадание.
На Тибете этот персонаж непопулярен. Там его обвиняют в самовлюбленности, эгоизме, даже не осознавая, что этот образ является точной копией высоко превозносимого героя «в высшей степени превосходной доктрины», который возвысился до состояния абсолютного недеяния.
Колесница Чанчуб Семспа (на санскрите — Бодхисаттва) — «Большая колесница», именно ее называют махаяной. Она характеризуется целью ее приверженцев. Эта цель — не Нирвана, но состояние Бодхисаттвы, сердце которого переполнено состраданием к мучениям и печалям других людей, и он имеет силу помочь им. Во всяком случае, это его самая яркая черта. Однако в Тибете это сострадание, если следует признавать его как махаянистское, должно сопровождаться пониманием «Пустоты».
Недостаточность этого понимания сократила бы сострадание, опустив его на более низкий уровень простой жалости.
«Объединенные Пустота и Сострадание» — это геральдический девиз тибетских адептов Большой колесницы. Бодхисаттва осуществляет его сострадание, когда освобождается от иллюзии, которая порождает веру в реальность окружающего мира таким, каким мы его ощущаем. Его ментальную позицию трудно понять тем, кто сам не достиг этого состояния. Это совершенно ясно описано в работе, получившей название «Алмазная сутра». Там мы читаем, что «когда Бодхисаттва больше не верит ни во что, значит, пришло время преподнести дары», и только тогда эти дары будут приносить пользу. Также говорится, что «когда Бодхисаттва привел к состоянию Нирваны большее число существ, чем песчинок на берегах Ганга, он понимает, что не спас никого». Почему так? Потому что, если он полагает, что спас какое угодно число живых существ, он все еще сохраняет идею относительно своего «я», и в том случае он не был бы Бодхисаттвой.
Это очень трудные для понимания доктрины, самые термины которых уже представляют трудность для перевода на западные языки, и даже при этом они требуют длинных комментариев.
Четвертая колесница — Лана-мед-па-тегпа (blana med pa thegpa), буквально: «нет ничего более высокого».
Знатоки этого учения утверждают, среди прочего, что Нирвана и мир явлений нангси (nangsi) [119] в основе своей совершенно идентичны, это два вида одного и того же, или, скорее, два способа, одинаково иллюзорных, представления Действительности.
Кроме этих четырех колесниц есть также мистическая колесница Наг кьи тегпа (snags kyi thegpa), тантрическая, или магическая, колесница гьюд кьи тегпа (rgyud kyi thegpa) и некоторые другие.
В этих и других колесницах роль и личность Бодхисаттвы понимается совершенно по-иному, но все они отводят Бодхисаттве очень важное место, и обычно принято получать ангкур у Бодхисаттв, прежде чем начать стремиться к мистическим посвящениям.
Можно сомневаться, что сам Будда делал тему Бодхисаттв предметом своих проповедей. Истории о его прошлых жизнях — джатаки, — в который он является Бодхисаттвой, явно выглядят выдумкой второстепенных орденов малоразвитых поклонников, которые переработали индусские истории или изобрели свои подобные. Кроме того, в поведении исторического Будды не было тех оригинальных поступков, которые отличают многих Бодхисаттв. Более того, его учение не поощряет подобного поведения. Модель, на которую он нацеливает ученика, — спокойная фигура Архата, совершенного мудреца, который полностью отбросил десять оков [120], достиг спокойствия, чистоты сознания и пребывает в Нирване.
Впоследствии те из буддистов, чье сознание не смогло возвыситься до высот подобного духовного совершенства, противопоставили Бодхисаттву и архата. Они сделали из Бодхисаттвы фантастического героя, беспорядочное милосердие которого часто выражается в малопонятных действиях, хотя порой эти действия становятся отвратительными, противоречащими здравому смыслу, порой даже жестокими или безнравственными.
Самая популярная история, связанная с Бодхисаттвами, — рассказ, который выжимает слезы у тысяч простых верующих от самой дальней оконечности тропического острова Цейлон до северных степей Монголии, — это история Вессантары.
Вессантара поклялся, что никогда не откажется сделать то, о чем его просят, чтобы посредством этого множества жертв и благодеяний сделаться способным стать Буддой.
Он был принцем и наследником трона. Случилось так, что он дал вражескому королю волшебный драгоценный камень, который обеспечивал процветание и победу над королевством его отца[121]. Обладая подобным талисманом, враг вторгся на его земли и уничтожил всех жителей. Однако это бедствие никоим образом не нарушило спокойствия нашего героя. Он остался преданным своей клятве — только это имело для него какое-то значение.
Министры его отца выказали низкую оценку подобного «достоинства»: они сослали его. Его преданная жена настояла на том, чтобы разделить его судьбу, и отправилась в изгнание вместе с ним, с их двумя детьми. Таким образом, они стали жить в лесу в маленькой, бедной хижине. И тогда появился старый брамин. У него никого не было, кто мог бы служить ему, и он попросил, чтобы дети Вессантары стали его рабами. Тот сразу же и с удовольствием отдал их брамину. Маленькая девочка и ее брат просили отца оставить их у себя, поскольку злой брамин жестоко обращался с ними, но принц не захотел отрекаться от своей клятвы. Он даже поздравил себя с тем, что получил столь прекрасную возможность продемонстрировать всю величину своего милосердия. Вскоре ему предоставилась и другая возможность: на сей раз он отдал свою жену. И наконец, он согласился вырвать себе глаза и отдать их слепому человеку, чтобы тот «мог использовать их, заменив свои, и вернуть зрение».
Авторы этих рассказов совершенно иначе представляли себе права главы семьи, чем мы. Согласно этим правилам, мужчина был законным хозяином своих жены и детей. По их представлениям, он просто избавлялся от того, что принадлежало ему по праву. Следовательно, действия принца не должны были оскорблять их; его поступки расценивались просто как отказ от вещей, очень дорогих для человека, — следовательно, это демонстрировало величие его жертвы. Эти варварские понятия сейчас совершенно изменились даже у наций, принадлежащих к отсталым цивилизациям. Поклонники Вессантары часто утверждают, что его жена и дети соглашались на эту жертву.
Конечно, история заканчивается хорошо; старый брамин был переодетым богом, который желал проверить Вессантару. Он вернул ему его детей и жену, другой бог восстановил ему зрение, «и его глаза теперь были еще красивее, чем когда-либо»[122], враждебный король вернул драгоценный камень. Люди, читающие эту историю, все время подавляют желание задаться вопросом — не мучила ли авторов повествования совесть, запрещая им позволить страдать жертвам их чересчур ярого героя-благотворителя. Однако я думаю, что было бы ошибкой поддаться на это представление. Авторов интересует лишь принц, и только он один, только его они не хотели оставлять в несчастье; остальные были просто фигурами, бездушными персонажами, которые оказались им совершенно неинтересными.
Таким образом, как это часто случается не только в рассказах, но и в реальной жизни, невероятное милосердие, которое вменяется Бодхисаттве в обязанность, превращается порой в обыкновенный чудовищный эгоизм. Некоторые ламы-мистики отказываются признать эту историю, хотя ее читают и помнят повсюду как достойную того, чтобы быть связанной с махаяной. «Она имеет все свойства малой колесницы», — сказали они мне. Герой этой истории сам желает наслаждаться эйфорией счастья и просветления в мире; он не стал бы так радоваться, если бы то же самое счастье и просветление были подарены человечеству другим Буддой. Он полон веры в реальность собственного «я». Он также считает Будду «человеком». Он не ощутил его истинный характер как возникающий из универсальной «мудрости».
С другой стороны, есть истории о Бодхисаттвах, которые были приняты ламами как отражающие дух махаянизма. Ниже я привожу историю, очень хорошо известную во всех странах, где распространен буддизм.
Молодой принц (говорят, что это был исторический Будда в одном из своих прежних существований) блуждал по лесу. Невероятная засуха иссушила все источники, на дне ручьев и рек можно было увидеть только песок и гальку, листья на деревьях свернулись и высохли, сожженные жарким солнцем, все животные сбежали в другие области. И вот принц увидел, что среди всего этого опустошения, совсем рядом с ним, лежала и умирала тигрица со своим выводком маленьких тигрят. Дикий зверь тоже увидел принца. В глазах тигрицы он прочитал горячее желание броситься на него как на добычу и добыть пищу своим тигрятам, которых она больше не могла кормить молоком, из-за чего они вот-вот должны были умереть от голода. Но ей не хватало сил даже на то, чтобы подняться на ноги и сделать прыжок. И она осталась лежать на земле, жалкая в своем материнском горе и тоске по жизни.
Увидев это, молодой принц был охвачен жалостью. Он свернул со своего пути и, подойдя к тигрице, которая не могла уже напасть на него, предложил ей свое тело в пищу.
Самая прекрасная часть этой истории заключается в том, что в ней нет чуда в конце. Нет бога, который благополучно вмешивается, зверь пожирает принца заживо, и то, что произошло дальше, покрыто завесой тайны. По всей вероятности, это простая легенда, и все же я думаю — и в целом не без причины, — что подобное действие действительно могло иметь место. Трудно понять глубину милосердия и самопожертвования, которых достигают определенные буддисты-мистики. В этом по существу махаянистском деянии, которое вдохновляет массы ламаистов на почитание мифического Бодхисаттвы, такого, как Ченрези, демонстрируется их отказ от Нирваны. Правда, несмотря на то, что благодаря своим достоинствам они получили право на Нирвану, их настойчивый альтруизм заставляет их отказаться от нее, чтобы продолжить помогать их «смертным собратьям», чего не может больше делать Будда, погрузившийся в Нирвану.
Эта сентиментальная история невероятно популярна на Тибете. Мы находим ее отзвуки в многочисленных обрядах, в течение которых святых лам и других героев упрашивают не входить в Нирвану, чтобы продолжать защищать их «сотоварищей — живых существ».
Ничто не может в большей степени противоречить учению буддизма, чем идея о том, что кто-то может отвергнуть Нирвану.
Можно отказаться войти в рай, который является определенным местом, но Нирвана — это, по существу, состояние, достигаемое автоматически с исчезновением невежества, и те, кто достиг знания, не может, как бы он этого ни хотел, не знать того, что он знает.
У мастеров мистики нет никаких заблуждений на этот счет, и, несмотря на их популярность, эти ошибочные представления, касающиеся поведения Бодхисаттвы, не находят места в учении, передаваемом ими ученикам, которых они допустили на посвящения высших степеней.
Желание стать самим Буддой для них, похоже, означает полное непонимание того, что они называют «сознанием Будды». Человеческие формы Будды — или формы, способные появиться в других мирах, — являются только манифестациями или проявлениями тулку этого «сознания», которое, однако, мы не должны считать «личностью», живым существом.
Чтобы выразить свое мнение относительно усилий легендарных Бодхисаттв и тех, кто хотел бы подражать им, некоторые ламы используют довольно странные притчи.
Представьте себе — сказал мне один из них, — что, пока солнце сияет, человек упрямо стремится зажечь лампу, свою лампу, чтобы обеспечить светом себя или еще кого-то. Напрасно ему говорят, что дневного света достаточно и что солнце заливает своими лучами все вокруг. Он отказывается пользоваться этим сиянием, единственное, чего он желает, — это увидеть свет, созданный им самим. Вполне вероятно, что это безумие является следствием того, что этот человек не видит солнечного света; для него солнечный свет не существует, возможно, непрозрачный экран не дает ему ощутить солнечные лучи. Но что является этим экраном? Этим экраном является безумное увлечение собственным «я», своей личностью и ее действием, рассуждением , которое отличается от понимания .
В этом вся тибетская мистика, ее великий принцип: нет ничего, что можно было бы «сделать», есть только то, что можно «вернуть в прежнее состояние». В другом месте я уже говорила, что ламы, стремящиеся к созерцанию и медитации, сравнивают духовные тренинги с процессом очищения, или пропалывания.
Принимая во внимание, что эти и подобные идеи выражает небольшая элита мыслителей, народные представления о Бодхисаттвах все больше и больше запутываются в трясине нелепостей и дают начало многим комическим инцидентам.
Сейчас они предоставляют определенным ламам средства для оправдания несообразностей поведения, предназначенные для того, чтобы оскорбить верующего и превратить подобные поступки в достойные похвалы деяния, наполненные отречением и набожностью. Посмотрим, как это проявляется на конкретном примере.
Лама — глава секты, руководитель группы мастеров или просто настоятель монастыря, но в любом случае тулку (tulku)[123], умело распространяет по округе слух, что, пройдя все ступени в том же или некоем ином монастыре в ходе последовательных перевоплощений, он теперь достиг последнего из них. Его духовное совершенствование достигло заключительной стадии, и после смерти он войдет в Нирвану.
Святой лама, или великий маг, которого он теперь воплощает, больше не будет возрождаться заново в этом мире. И какой теперь будет судьба всех верующих, которых он защищал все минувшие века? Что станется со всеми этими сиротами, теперь остающимися брошенными и преданными неисчислимым видам злых духов, которых благодетельный и могучий лама мог держать на расстоянии? Многие люди теперь погибнут от болезней, ливни уничтожат посевы, и множество умерших окажутся неспособны достигнуть Рая Великого Блаженства — тогда как, выполняя необходимые обряды, лама делал переход туда таким легким для покойных, семьи которых могли щедро оплатить его услуги.
Великий лама не может предусмотреть все бедствия без того, чтобы его сердце не обливалось кровью. Чтобы защитить своих благодетелей, мирян и монахов, от страдания из-за его ухода в Нирвану, он готов пожертвовать собой. Он откажется от Нирваны и продолжит свои перевоплощения. Но как нивелировать последствия его высокого совершенства, которое будет настойчиво заставлять его следовать начертанным курсом и стремиться убрать его из этого мира? Есть только одно — и очень болезненное — средство: отступить от своих достоинств и покорно совершить грех.
Чаще всего выбранный ими грех состоит в том, что они берут себе жену, официально или нет, в то время как все ламы дают обет безбрачия.
Брак Великого ламы Кармап, все предшественники которого начиная с двенадцатого века были неженатыми, приписывался именно такому проявлению милосердия.
Я могу добавить, что тибетцы обладают хорошим чувством юмора, несмотря на их простоватый вид и суеверия, и обычно воспринимают этих чересчур сострадательных лам с хорошей долей шутливой насмешки.
Однажды мне довелось невольно играть роль в одной из подобных комедий, хотя вы должны извинить меня за то, что я не упоминаю героя этой истории, доброго и очень интеллектуального человека, сторонника прогресса и знакомого некоторых европейцев, живущих на китайской границе. Поскольку есть возможность, что они могут прочитать эти строки и перевести их ему, я считаю необходимым скрыть все имена.
Тогда я жила в монастыре Кум Бум. Однажды мне сообщили, что в тех краях путешествует дама из Лхасы и хочет повидать меня. Я сердечно поприветствовала ее. В ходе беседы я узнала, что она была «морганатической» женой одного тулку, настоятеля богатого монастыря секты «Желтых шапок», сострадание которого принудило его выбрать брак как средство отказа от Нирваны. Эта история развлекла меня. Дама была роскошно одета и весьма очаровательна. У нее было особое выражение лица, привлекшее мое внимание.
Когда она ушла, я сказала моему слуге, который представил ее: «В этой женщине есть что-то необычное. Она — лхамо (то есть богиня), которая приняла облик человека». Я сделала это замечание в шутку и была поражена, увидев, что мои слова были восприняты с предельной серьезностью.
Человек, с которым я говорила, был уроженцем Лхасы, и он был хорошо знаком с мужем моей симпатичной посетительницы — он в течение многих лет был его личным секретарем. С волнением он спросил меня: «О, достойная госпожа, вы уверены, что в ней есть какие-то особые признаки?» «Конечно, — заметила я, продолжая шутку. — Она — воплощенная лхамо. Ее лицо имеет синеватый оттенок».
Кожа тибетских женщин бронзового цвета, но иногда имеет немного синеватый или розоватый оттенок[124]. Этот признак воспринимают как свидетельство полубожественного происхождения женщины, имеющей его.
«Тогда лама был прав в отношении того, что он видел в Лхасе», — сказал слуга. В ответ на мой вопрос он рассказал мне историю своего бывшего мастера. Случилось так, что этот мастер находился в своем доме в Лхасе. Однажды, шагая туда-сюда по террасе на крыше своего дома[125], он заметил молодую женщину, которая шила, сидя на крыше.
Этот лама был крепким мужчиной приблизительно тридцати лет, и ему нечего было делать в этом святом городе — возможно, у него наступил один из тех моментов унылого одиночества, когда он не мог не мечтать о неизвестной фее.
На следующий день и через день он видел ее снова и снова на том же самом месте. Без лишних слов он послал своего личного секретаря — того самого, кто рассказывал мне эту историю, — к родителям девушки, чтобы попросить у них ее руку и жениться на ней. Он оправдал свою просьбу тем, что в результате своего сверхъестественного ясновидения он обнаружил признаки, которые показали, что эта девушка является реинкарнацией феи. Кроме того, в ходе глубоких медитаций он понял, что должен жениться на ней, чтобы иметь возможность избежать Нирваны и принести пользу окружающим его людям.
Такие заявления великого ламы, поддержанные существенными подарками, не могли оставаться неуслышанными скромной семьей, дочерью которой была в этом мире «фея». Они немедленно дали свое согласие.
Таким образом получалось, что мои слова стали ценным подтверждением заявления ламы. Я заметила на лице его жены известные «признаки», которые до настоящего времени, похоже, чувствовал только он один. Я не могла взять свои слова назад… эта женщина была настоящим воплощением богини.
Выраженное мной мнение вскоре достигло ее ушей и, наконец, стало известно самому ламе, который явно был восхищен этим, поскольку я быстро получила от него ценный подарок, который он послал мне в обмен на несколько безделушек, подаренных мной его жене.
Два года спустя я гостила у него среди пустынных полей Северного Тибета, заросших травой, где на склонах, окружающих пустынную долину, стоял его монастырь, заполненный художественными ценностями, накопившимися за многие века.
Рядом в беседке, окруженной садами, жила героиня этого приключения. Фея или нет, но правило монашеской жизни запрещало ей жить на территории монастыря и в его окрестностях.
Она показала мне свои драгоценности, предметы одежды из драгоценной золотой парчи… сомнительное благополучие, которое могло в любой момент закончиться в результате смерти ее мужа или если его страсть к ней внезапно закончится.
Совершения греха, который лишал его Нирваны, было достаточно, чтобы обеспечить перевоплощение великого ламы для блага его преданных последователей. Повторение этого греха было бы излишним, и пособник ламы в его благотворительном труде становился ненужным. Монахи, которые не смели выступать против желания своего господина-настоятеля, с удовольствием порадовались бы удалению его молодой жены, присутствие которой в непосредственной близости от них было нарушением дисциплины, принятой в их секте.
Внушительный массив широко раскинувшегося монастыря с его храмами, древними, освященными веками дворцами, его хижинами отшельников гордо опирался на соседние пики, полностью затмевая бедный домик, скрывающийся в его тени. Бедная маленькая фея!
Хотя жители Тибета могут осторожно высмеивать ламу, использующего брак как средство ухода от Нирваны, все же они выказывают значительную снисходительность при обсуждении его поведения. Эта снисходительность отчасти возникает вследствие того, что тибетская мораль не драматизирует любовь. Возможно, это происходит потому, что они повинуются, пусть даже подсознательно, влиянию религиозных доктрин, которые ставят сознание намного выше всего прочего. Тибетцы расценивают проявления чувственной страсти как банальность, лишенную интереса.
Однако снисходительность к ламам тулку, которые так или иначе нарушают монашеские правила, возникает также из неопределенного опасения, которое они вызывают почти всегда, даже у мало суеверных жителей Тибета. Считается, что они должны обладать сверхъестественными и магическими возможностями, которые позволяют им узнать, что о них говорят, и принять соответствующие меры. Тибетцы также полагают, что человек, который обвиняет ламу, являющегося его защитником, нарушает духовные обязательства, соединяющие их, и тем самым автоматически лишает себя его защиты.
Можно также добавить, что народ в целом не ожидает, что Великие ламы должны быть святыми и жить жизнью аскетов. Это требуется только от некоторых отшельников. Высокое положение, которое занимают эти ламы тулку, как я уже говорила, основано на вере в то, что они обладают силой, позволяющей им эффективно защищать своих последователей или, как в случае Далай-ламы, Таши-ламы и некоторых других выдающихся лиц, защищать весь Тибет, людей, животных — всю эту землю. Поэтому все, что от них требуется, — быть в состоянии осуществить эту роль защитника как можно лучше; средства и методы оставляются на их усмотрение, поскольку обычные люди не считают себя способными проникнуть в их мысли.
Глава XIII
Истинное посвящение
Истинное посвящение
Все, что уже говорилось ранее о ламаистских «посвящениях» и упражнениях, связанных с этими посвящениями, может заставить людей вообразить, что слово «посвящение» в том значении, которое придается ему в других странах и западными авторами, не может относиться к любому из многочисленных жителей Тибета, которые получили тот или другой из различных ритуальных ангкуров, даруемых в этой стране. Я хотела бы еще раз напомнить [126], что ангкур сам по себе не предназначен для того, чтобы передать знание, скорее он призван передать силу для того, чтобы совершить определенное физическое или ментальное действие. В мистическом ангкуре эта сила может интерпретироваться как сила, необходимая для выполнения интеллектуальных упражнений, необходимых для развития способностей, позволяющих добиться духовного просветления. Это состояние, которое тибетцы выражают словами tharwar gyourwa — «становиться свободным», — является плодом не обряда, а мистического опыта, который невозможно передать.
В биографии Миларепы мы находим доказательство того, что этой интерпретации придерживались ламы в течение всех прошедших веков.
Я указываю на эту работу, предпочитая ее многим другим, способным предоставить аналогичные доказательства, потому что она была переведена на английский и французский языки, так что мои читатели будут в состоянии лично убедиться во всем, что я говорю.
Марпа, тантрический лама, строго придерживавшийся ритуалов, и гуру Миларепы, не пренебрегал ни ангкурами, ни эзотерическими наставлениями. Однако после каждой церемонии он никогда не забывал отослать своих учеников назад, в их пещеры или хижины, чтобы они помедитировали там в одиночестве.
Затем он призывал их обратно, чтобы они сообщили ему результаты своих медитаций, и исключительно на основании этих результатов он мог понять, преуспели ли они в «знании», сумели ли «инициировать сами себя».
Однако, какими бы неортодоксальными они ни были во многих других отношениях, ламаисты строго поддерживают некоторые из наиболее существенных принципов буддизма, особенно тот, который мы находим в следующих словах Будды: «Будьте своим собственным наставником и своим собственным факелом», эхо которых мы находим на Тибете: «люди ищут защитников и наставников вне себя и тем самым погружаются в горе и боль» [127].
На медитативных отшельников Тибета эти принципы, похоже, оказывают еще большее влияние, чем на их единоверцев из стран, расположенных южнее. Например, в то время как последние утверждают, что ввиду отсутствия в настоящее время Будды на земле никто не может достигнуть состояния архана — полностью просветленной личности, способной живым вступить в Нирвану, — ламаистские мистики полагают, что материальное присутствие проповедующего Будды совершенно необязательно для получения «Знания».
Согласно их мнению, Учение просто существует, и даже без книг, в которых оно записано, и без лам, которые могут преподать его. Человек, готовый к этому, способен обнаружить его путем медитации и повторить в себе духовный опыт Будды.
Одним словом, именно здесь происходит истинное «посвящение», так, как оно было задумано мастерами мистики на Тибете. Правильно это или нет, но они ревниво хранят при себе собственные мысли по этому вопросу. Эта концепция посвящения — один из глубочайших секретов их тайного учения.
И все же, как остроумно сказал мне один лама: «Тайна появляется только тогда, когда понимание терпит неудачу; это — другое название невежества. Проникновение в сознание и его исследование способны все обнаружить».
Легко понять уроки, преподанные в многочисленных историях о самопосвящении, даже не будучи одаренным исключительной проницательностью. Я перескажу вам одну из многих подобных историй, детали которой, даже не касающиеся обсуждаемого вопроса, не лишены занимательности и представляют картину тибетской жизни.
Я не знала Таши Дадула, но у меня есть основания считать его историю совершенно подлинной, поскольку на ней можно ощутить печать тибетского менталитета и те, кто рассказывал ее мне, весьма заслуживают доверия. Однако даже при том, что определенные детали, возможно, и были искажены, это повествование будет ценно хотя бы в том смысле, что оно снабдит нас информацией относительно того, как жители Тибета рассматривают «посвящение».
Таши Дадул был гьяронг-па (Gyarong-pa); он принадлежал к тому среднему классу тибетцев-мирян, члены которого, за незначительным исключением, занимаются торговлей. Он был молод и красив, женился по любви на хорошей женщине из хорошей семьи, стал отцом мальчика трех лет и главой преуспевающего бизнеса. Дадул, как говорится, имел все необходимое, чтобы быть счастливым. И действительно, он был очень счастлив до того дня, когда обнаружил на своем сильном теле первые признаки проказы.
Никто ни в его семье, ни в семье его жены никогда не страдал от этой страшной болезни. Он ждал, с тревогой наблюдая фатальные признаки, но вскоре уже больше не мог сомневаться в том, что болен. Он проконсультировался с местными докторами, затем с врачами из других районов, о хорошей репутации и навыках которых ему рассказывали, и, наконец, предпринял долгую поездку, чтобы попросить о помощи у доктора миссионерской больницы, расположенной на границе с Китаем. Он надеялся, что белый врач, возможно, знает средства, неизвестные тибетцам и китайцам.
Однако белый врач заявил, что чувствует себя столь же беспомощным, как и его азиатские коллеги. Обследовал ли он пациента? Естественно, тот, кто рассказывал мне эту историю, не знал всех подробностей, но я вспомнила аналогичный трагический случай с молодым человеком, который приехал познакомиться со мной в монастыре Кум Бум.
Он также отправился в больницу в Китае, где работали белые врачи, но начал бестактно спрашивать: «Есть ли у вас что-то, что вылечит проказу?» Ему кратко ответили — «Нет!». Около врачебного кабинета своей очереди дожидались толпы пациентов, поэтому он уехал, более не настаивая на лечении. Я порекомендовала ему вернуться и добиться того, чтобы его обследовал врач, но при этом он не должен был говорить доктору о том, что сам он считает, что у него началась проказа. Возможно, признаки, о которых он говорил, были симптомами совершенно другого заболевания.
Я упоминаю этот личный инцидент для того, чтобы избежать связанных с историей Дадула мыслей о некоем чудесном существе. Любой элемент сверхъестественного, присутствующий в данной истории, имеет исключительно духовную природу.
Потеряв всякую надежду получить помощь от науки, Таши Дадул, как и многие другие отчаявшиеся люди, обратился к религии. Однако, в отличие от других людей, он не ожидал чуда; полагая себя неизлечимым, он думал только о том, чтобы подготовиться к смерти. Он также хотел исчезнуть из дома, чтобы его домашние — и особенно его молодая жена — не увидели то отвратительное существо, которым он вскоре должен был стать.
Найдя выход в отшельничестве, он обратился к известному ему отшельнику и попросил его благословения, а также попросил описать ему какой-нибудь метод медитации. Отшельник предложил ему сесть рядом с ним, и так они посидели некоторое время. Затем он посоветовал Дадулу медитацию на Джигджеда («Ужасного»), Великого Йидама секты «Желтых шапок».
Живя в заточении, в полном одиночестве, ему не нужно было использовать никакую другую религиозную практику; этой было бы вполне достаточно.
Затем лама даровал больному ангкур Джигджеда , частично объяснив ему символизм формы и характера Йидама , после чего отослал его домой.
Вскоре Дадул уладил все свои земные дела, которые ему пришлось бы оставить, сойди он в могилу. Он передал товары родственнику, поручив ему заботиться о своих сыне и жене, и завещал ему удовлетворять все ее потребности до тех пор, пока она остается вдовой. Кроме того, он освободил ее от любых обязательств по отношению к себе; при желании она могла бы снова выйти замуж.
В этой истории нет описания чувств этого несчастного человека при подобном уходе из мира — жители Тибета не любят делиться подробностями, описывая свои самые глубокие эмоции. В этой сдержанной стране сентиментальные излияния Миларепы — скорее исключение из правил, но ведь Джецун Миларепа был поэтом.
На расстоянии нескольких дней пути от родной деревни Дадул построил себе домик, возведя каменную стену перед довольно большой пещерой. Он выбрал место на склоне около потока, текущего вниз, в долину. Ему было не очень трудно отвести часть потока и заставить течь рядом с его хижиной. Он заделал землей промежутки между камнями, которые составляли его стену. Поверх этих камней он растянул внутри жилья тент из волос яка — материала, из которого кочевые пастухи делают палатки. Он также построил вторую внешнюю стену, за которой те, кто будет приходить два или три раза в год, чтобы снабдить его пищей, оставят мешки с продуктами и топливом, не видя его. Затем, все еще при помощи сопровождавших его людей, он сложил принесенную с собой провизию, одеяла, ковры, подушки и предметы одежды [128].
Дадул отправился в пустыню не за тем, чтобы заняться суровым аскетизмом и затем умереть там, следовательно, у него не было причин лишать себя в последние дни жизни того комфорта, который могло бы ему обеспечить его состояние.
Когда все было закончено, друзья покинули его. С порога своей будущей могилы он наблюдал, как они уезжают, слышал, как постепенно гаснет мелодичный звон колокольчиков на шеях их лошадей. Затем наездники исчезли вдали и воцарилась тишина. Он был один на один со смертью, скрывающейся внутри него.
Он сделал земной поклон в том направлении, где жил лама, приобщивший его к обряду Джигджеда , а затем, войдя в свою пещеру, снова распростерся в земном поклоне перед танкой (необрамленная картина на свитке), на которой было изображено ужасное божество. После этого он лег на кушетку, где его тело, съедаемое проказой, однажды ляжет мертвой плотью, пищей насекомых и червей…
Шли дни и недели. В конце четвертого месяца его отшельничества двое мужчин принесли ему еды. Он услышал, что они развьючили животных и внесли сумки в «вестибюль» его жилья. Он не видел их, хотя они находились достаточно близко от него.
Было ли у него желание поговорить с ними, узнать, как живут люди, столь дорогие для него, — его жена и ребенок? Хотел ли он спросить их, вспоминает ли кто-нибудь о нем, произносится ли его имя в его доме? В этом повествовании вы не найдете ответов на эти вопросы.
На Тибете есть традиция: те, кто приносит пищу — или что-то еще — отшельникам, не должны разговаривать с ними. Мужчины видели небольшой дымок над стеной, окружавшей «комнату» отшельника, — следовательно, он был жив, так что они уехали, не сказав ни слова.
Шли годы. Прошло пятнадцать, двадцать лет. Дадул был все еще жив, и при этом его болезнь не причиняла ему никаких страданий. В деревне о нем почти забыли, кроме того, кому он поручил следить за своим домом и кто аккуратно посылал ему обильные посылки еды и одежды. Его жена снова вышла замуж. Его сын также женился и практически уже не помнил отца, который покинул дом, когда он был совсем маленьким. Все, что он знал, — что его отец все еще живет в своей хижине отшельника… как несомненно отвратительный фантом, плоть которого медленно разъедается ужасной болезнью.
Несколько раз сын приезжал вместе со слугой, чтобы пополнить его запасы. Они никогда не видели его, не пытались заговорить с ним. Всем было известно правило, запрещающее нечто подобное. Вьющийся в воздухе дымок сообщал — отшельник жив…
Поглощенный своими медитациями, так же как его родственники и друзья были озабочены материальными проблемами, Дадул забыл о них так же, как они забыли о нем.
Джигджед стал присутствовать рядом с ним постоянно. Сначала Дадул вызвал его, стоя перед нарисованным на холсте его изображением и произнося ритуальные слова, выученные во время посвящения. Затем сам Ужасный начал являться ему и долго разговаривать с ним. Позднее видение его формы исчезло, и Дадул вместо символического изображения божества увидел персонификацию самого этого божества. Желание, жажда, возникающая после ощущения действия, неизбежное разрушение, которое следует за этим, и желание, снова возникающее на руинах его трудов, возрождаясь, снова уничтожается, давая начало новым формам, которые также исчезали, порождая новые.
Джигджед и его мифическая жена, обнимающая его, не были парой ужасных любовников — они были миром форм, миром идей, сжимающими Пустоту и порождающими миражи, постоянно исчезающие в Пустоте.
Дадул чувствовал, как бесчисленное множество существ, затаив дыхание, лихорадочно пытаются обрести личное существование, как они сражаются за то, чтобы сохранить это несуществующее «я», как Джигджед — разрушитель пожирал их, чтобы сделать из них ожерелья из черепов, как он возрождал это «я» при помощи своей жены: он ощущал его желание снова забрать это «я» у них, и так бесконечно.
Целая вселенная вошла в хижину отшельника Дадула. «Круг» смертей и возрождений, жизни, которая питается смертью, и смерти, которая поглощает жизнь, — все это он поглощал с каждым куском, который клал в рот, с каждой мыслью, которая появлялась в нем, чтобы в свою очередь уступить место новой, только что рожденной.
И однажды произошло так, что в результате небольшого землетрясения или по какой-то другой, еще более простой причине, несколько камней выпали из стены, окружавшей жилище отшельника. В дни своего ребяческого усердия он нетерпеливо восстановил бы ее; теперь ему это было безразлично. Затем упали другие камни, и проем расширился. Однажды утром вывалился большой кусок стены. Он ударил по внешней стене и снес ее угол.
В пещеру проникли лучи солнца, принося успокоительное тепло, и Дадул, который был лишен их в течение двадцати лет, ощутил их касание.
Со своей кушетки он созерцал зеленую долину, но это зрелище не имело никакого сходства с тем, что он видел в прошлом. Деревья и ветер, струящаяся вода потока, птицы, рассекающие воздух, — все они казались ему разнообразными формами универсального «Ужасного», непрекращающимся Созидателем и Разрушителем.
Дадул теперь видел его повсюду, и ему больше не надо было вызывать Джигджеда в тени пещеры. Он вышел оттуда и направился выпить воды из струящегося потока.
Вдали от основного течения, укрытое естественной защитой скал, мерцало маленькое озерцо стоячей воды. Дадул потянулся к нему. Когда он опустился к воде, ему навстречу придвинулось его отражение. Он увидел лицо, которое было ему неизвестно, и, глядя на него, он вспомнил то, о чем все то время, пока находился в состоянии экстаза, совершенно забыл, — он был Дадулом, прокаженным.
И все же у человека, который серьезно смотрел на него из глубины прозрачного зеркала, не было видно никаких следов проказы. Пораженный, отшельник сбросил с себя одежду. Он стоял обнаженный и при свете дня внимательно осмотрел себя. На теле не было видно ни одной ранки, его кожа была прочной и плотной. Он чувствовал себя совершенно здоровым и полным жизни… Признаки, которые так встревожили его, были симптомами какой-то иной болезни, которая полностью излечилась. Он никогда не был прокаженным.
Что ему оставалось сделать? Вернуться домой и возобновить жизнь торговца? Эта мысль заставила его улыбнуться — он уже принял совсем другое решение.
Сделав земной поклон в направлении хижины отшельника, где он в течение предшествующих двадцати лет занимался обрядами Джигджеда , он отвернулся от своей пещеры и медленно пошел по пустынной равнине.
Таши Дадул отправился на поиски мастера, который поведет его по пути окончательного посвящения, того, кто выведет его из империи «Ужасного», находящейся вне жизни и смерти, к невыразимой Нирване.
Глава XIV
Различные виды моральных правил
Различные виды моральных правил
Тренировка в виде ограничений, столь восхваляемая на Тибете обычными религиозными мастерами, совсем не в почете у посвященных мистиков. Эти последние считают внутренние достоинства человека и объем знаний, которым он обладает, единственным, что будет важно на пути духовного совершенствования.
С социальной точки зрения считается, что человек должен подавить проявления таких своих наклонностей, которые несовместимы с благополучием всего человечества, однако это ограничение не может иметь никаких прямых последствий для его спасения.
Какие бы позитивные действия он ни совершал, стараясь подавить в себе хотя бы на мгновение стремление к насилию, жестокости, ненависти, распущенности или эгоизму, эти качества остаются скрытыми в нем и готовыми при первой возможности выскочить и обрести выражение в действиях. Энергия злых тенденций даже увеличивается время от времени в результате сконцентрированного на них внимания в процессе их подавления.
Кроме того, тибетские мистики полагают, что силы, отправляемые в сокровенные тайники сознания или физического организма, как раз не дают им оставаться в бездействии. Они говорят, что в определенных случаях эти силы испускают тайные потоки, способные принести больше вреда, чем принесли бы действия, осуществленные в том случае, если бы человеку позволили следовать своим естественным склонностям.
Мастера мистики не отрицают пользу ограничения или принуждения. Хотя они не используют для обозначения этого западные термины, тем не менее они хорошо знают, что в результате недостатка упражнения органы способны атрофироваться и что эта тенденция ослабляется упорным подавлением. Например, человек, который старательно справляется со своим гневом и подавляет его проявления, может в конечном счете потерять способность к ощущению сильных душевных волнений.
Тибетские мастера крайне сожалеют об этой неспособности. Они считают слабым человека, неспособного совершить преступление. Они говорят, что человек должен делать добро потому, что он находится под влиянием высоконравственной мотивации. Нет добродетели в том, чтобы избегать злых действий только потому, что человек просто неспособен совершить их.
Я слышала изложение тех же самых теорий в Китае и в Индии. В Индии весьма распространен анекдот, причем рассказывающие его утверждают, что это подлинная история. Человек, страстно желавший вести религиозную жизнь, отправился искать известного саньясина, а когда нашел, упросил его стать его духовным наставником. Саньясин внимательно смотрел на него в течение нескольких мгновений и затем внезапно спросил: «Ты умеешь лгать?» «Нет, — честно ответил ему собеседник. — Я никогда не осмеливаюсь говорить неправду». «Тогда иди и учись, — ответил ему святой человек. — Когда ты будешь в состоянии произнести ложь, возвращайся. Тогда я смогу увидеть, чему можно научить тебя относительно духовной жизни». В сказанном не было ни капли шутки. Неспособность к действию — слабость, а не достоинство.
Именно по этой причине метод, ослабляющий или подавляющий любое материальное проявление, в то время как чувство, которое давало ему начало, остается неразрушенным, считается бесполезным, даже вредным для духовного роста.
Необходимым считается своего рода преобразование вещества, из которого состоит ученик. Силы, существующие внутри него, ни в коем случае не должны быть разрушены, скорее они должны систематически направляться по более правильным каналам. Налджорпа-новичок должен научиться регулировать или объединять антагонистические тенденции, которые он обнаруживает внутри себя, чтобы получать желаемые им результаты.
Мудрый знаток доктрины «Прямого Пути» практикует это «сочетание» противоположных сил, даже когда уступает своим страстям — для того, чтобы провести духовный эксперимент или просто позволить себе некоторое низшее удовольствие, типа мести или похоти.
В последнем случае цель налджорпы заключается в том, чтобы избежать, частично или полностью, вредных последствий его злых дел.
Такой способ умело грешить не может не показаться многим из моих читателей странным, даже отвратительным, но ведь речь идет о людях, которые, вместо того чтобы видеть перед собой заповеди Бога, по образу и подобию коего они читают себя сотворенными, признают только закон причины и следствия с его разнообразными комбинациями событий.
Возможно, философы Тибета сами создали эти идеи, а может быть, они позаимствовали их из Индии. Как бы то ни было, образованная Индия придерживается точно таких же концепций, которые мы можем видеть в известной работе, озаглавленной «Вопросы царя Милинды».
Вот фрагмент, о котором идет речь. Царь спросил Нагасену, известного буддистского философа: «У кого недостаток больше — у того, кто грешит сознательно, или у того, кто грешит по неосторожности?»
«У того, кто грешит по неосторожности, о царь, недостаток больше».
«Но в этом случае, почтенный господин, мы должны вдвойне наказать любого нашего родственника или придворного, которые неумышленно поступает дурно».
«А как вы думаете, о царь? Если человек преднамеренно схватился за раскаленный металл, а другой схватился за него неумышленно, кто из них получил бы больший ожог?»
«Тот, кто не знал, что он сделал».
«Это то же самое, как если бы человек совершил дурной поступок».
Этот эпизод отлично подходит для иллюстрации значения термина «недостаток» в буддистском понимании. Мы не проявляем неповиновение божественному Создателю, который судит нас, имея при этом чувства, похожие на наши собственные. Конечно, он, как король, будет иметь серьезные основания для того, чтобы проявить снисходительность к человеку, который подводит его по неосторожности, но пример, приведенный царем, не распространяется на обсуждаемый вопрос, и именно поэтому Нагасена возражает ему своим примером.
Человек, который знает, что он вот-вот коснется куска раскаленного металла, сможет принять некие меры, которые, возможно, помогут ему смягчить последствия контакта между человеческим телом и раскаленным железом. Он погрузит руку в воду, обернет руку пропитанной водой тканью или будет использовать какое-то другое приспособление. Ничего не подозревающий человек приложит руку к горячему металлу, не предусмотрев никакой меры предосторожности, и в результате жестоко пострадает.
Так что для определенных пороков морального характера существуют противоядия, способные смягчить их злые последствия. Посвященный, который был предупрежден, скорее всего обязательно использует их.
При проповедовании подобных теорий жители Тибета выказывают глубокую веру в этот прозорливый навык, который дал начало очень характерной пословице: «Тот, кто знает, как действовать правильно, устроится удобно даже в аду». Все зависит от того, насколько легко ему удастся защитить себя от недостатков своей собственной природы.
По мнению тибетских философов, заурядный человек, которого захлестнули его собственные страсти, и он решил умалить достоинство моральных законов, установленных Мудрыми для человечества, — слеп и безумен [129]. Он покупает эфемерное удовольствие ценой длительного страдания.
Естественно, мораль посвященного человека — это не то же самое, что мораль масс.
Хотя, по мнению тибетских отшельников, жесткие правила, применяемые без разбора при любых обстоятельствах, могут причинить огромный вред — полное отсутствие правил, скорее всего, нанесет вред еще больший, и, следовательно, посвященный не должен склонять слабые умы к несоблюдению моральных устоев.
Однако просветленного человека это не касается. Его этика заключается в мудром выборе, он способен выбрать, что вредно, а что полезно, в зависимости от обстоятельств.
В доктрине «Мистического пути» нет ни Добра, ни Зла. Степень полезности действия является критерием его положения на шкале моральных ценностей. «Полезность» для налджорпы почти всегда имеет смысл совершенства, милосердия, помощи страдающим или уничтожения причины страдания.
Лгать может стать священной обязанностью, если идет речь о спасении жизни человека, преследуемого убийцами. Ограбить богатого скупца, чтобы накормить тех, кто умирает от голода, — ни в коем случае не зло. И если налджорпа предвидит, что он будет заключен в тюрьму или его побьют в результате его действий, и все же, несмотря на знание риска, которому он подвергается, совершает воровство из жалости к страдающим, тогда он — святой.
Интересно отметить тот факт, что подобные представления, которые многими будут расценены как подстрекающие к революции, являются основой многих древних буддистских историй, герои которых дают милостыню вещами, которые им не принадлежат.
Ламаисты признают, что даже убийство может быть добрым действием, но убийца должен руководствоваться причинами, полностью лишенными личного, корыстного интереса. Он не должен ненавидеть того, кого он хочет убить, и он должен быть способен преобразовать в благотворную силу злую энергию, которая сподвигает на действия того, кого он желает уничтожить. Если он не может сделать этого, он должен, совершая убийство, соединиться с тем, у кого есть подобная сила.
Именно это преобразование, которое в экзотерической и в обычной речи обычно описывается как «передача духа» убитого существа в обиталище счастья.
На этих теориях основываются хвалы, расточаемые в старых легендах ламам или героям, таким как Гесэр, убийца бесноватых гигантов[130].
Один исторический факт — политическое убийство Лангдармы, осуществленное в девятом веке ламой, — ясно показывает точку зрения ламаистов по этому поводу.
Король Лангдарма возвратился к древней религии Тибета; он защищал ее последователей и пытался искоренить в своей стране буддизм. Информацию об этом суверене мы можем почерпнуть только из ламаистских хроник. Он изображается в них как отвратительный, злобный преследователь, но, возможно, ламаистское духовенство, ставшее ныне жадным и честолюбивым, в основном не могло простить этому королю то, что он не допускал покушения монахов на королевскую власть.
Однако убийство этого тибетского Юлиана Отступника даже сейчас расхваливается как доброе дело, и убийца на религиозной почве — важный персонаж «Мистерий» — спектаклей, которые играются и танцуются в монастырях. Для убийства своей жертвы лама не обращался за помощью к тайным средствам, что часто можно увидеть в отношении героев легенд. Он замаскировался под танцующего клоуна и отправился давать представление при дворе, чтобы заставить короля выйти на балкон. Как только король появился, переодетый танцор выстрелил в него стрелой, которую он спрятал в одном из широких рукавов. Затем он взлетел на коня, которого наготове держали для него сообщники.
При подобных обстоятельствах — как и при любых других, в которых убийство может помочь угнетаемым человеческим существам, — истинно сострадательный человек должен стать убийцей, даже при том, что его действие заставляет его выносить ужасные мучения в течение миллионов лет в том или другом чистилище. «Сострадание и служение — прежде всего» — вот девиз посвященного на этой стадии его духовного пути.
То, что действие, считающееся добрым и хорошим, может, с другой стороны, привести к несчастному возрождению, несомненно, покажется удивительным и нелогичным. У ламаистов этому есть много объяснений. Карательное правосудие, применяемое в наших собственных странах, здесь совершенно не подходит. Скорее это можно сравнить со случаем «убийства из-за сострадания», когда доктор подхватывает инфекционное заболевание из-за своей преданности пациенту. Считается, что человеку, который совершает в высшей степени ужасное действие отнятия жизни, угрожает инфекция более тонкой природы. Совершая подобный поступок, он создает внутри себя определенные тайные притяжения, способные привлечь к нему несчастное воплощение. Тем не менее, в отличие от обычного уголовного преступника, среди которых ему, возможно, придется жить в следующем воплощении, убийцу из сострадания будут по-прежнему двигать благородные чувства и он будет способен даже в чистилище к преданности и альтруизму, так же, как доктор, пораженный проказой или раком, останется мыслящим существом, нередко способным продолжать свои научные занятия. Конечно, это сравнение с доктором приблизительно и неправдоподобно, впрочем, как и любое другое сравнение. Что касается посвященных, то им необходимо помнить, что незаконные действия, подобно инфекции, сочатся ядом. Тем не менее они заявляют, что существуют духовные и прочие «антисептики», которые позволяют им бороться с инфекцией.
Я слышала те же самые идеи, выраженные адептами японской секты Нитирен. Один из них, принадлежащий к этому религиозному ордену, сказал мне: «Недостаточно воздержаться от совершения зла, против зла нужно бороться, уничтожая злых существ». Важно заметить, что, согласно мнению буддистов, убитое злое существо не осуждается на вечное пребывание в аду. Возможно, что «несчастный случай», произошедший с ним, подействует благотворно на его судьбу, направляя его по более праведному пути. Во всяком случае, ламаисты лелеют эту надежду и с удовольствием рассуждают обо многих замечательных последствиях этого специфического вида милосердия. Они говорят, что это не только спасает невинные жертвы, но и, пресекая действия преступника, не дает ему еще глубже погрузиться в пучину преступления. Возможно, это пробудит в его сознании в момент смерти благотворное раскаяние, желание искупить свою вину, что позволит ему возродиться, обладая более возвышенными устремлениями. Даже если его извращенное сознание неспособно на подобное усилие, сострадательный убийца может в этом заменить его собой.
Превосходно!.. Возможно, слишком замечательно. И опасно — слишком легко покатиться под откос. Я представляю себе, что определенные дикие инквизиторы испытывали основанное на аналогичных представлениях благотворительное рвение в отношении еретиков, которых они сжигали заживо. Такие представления недопустимы в примитивном буддизме.
Как уже только что говорилось, человек, который нарушает общепринятые моральные законы, должен не иметь никакой личной, корыстной заинтересованности и не получать никакой личной выгоды от их нарушения.
И все же считается, что теоретически те, кто достиг духовных высот, к которым ведет Мистический путь, освобождены из этого последнего ограничения. Они руководствуются в своем поведении исключительно велением собственной мудрости. От них ждут абсолютной беспристрастности, которая заставляет их смотреть на собственные нужды с той же отстраненностью, с которой они смотрят на нужды всех остальных людей.
В целом, им вовсе не запрещено наслаждаться личной выгодой, поскольку в случае определенных высших личностей эта личная выгода может послужить общей пользе.
Можно было бы привести пример, понятный западному читателю. Это, например, случай, когда ученый, попавший в удобные и удачливые обстоятельства, мог бы позволить всему миру воспользоваться открытиями или изобретениями, которые он не смог бы совершить, если бы был бедняком.
Эта часть пути становится все более скользкой, и мастера уже не в состоянии предупредить кандидата-налджорпу об опасностях, от которых он может пострадать, если не сумеет правильно преодолеть желания, порожденные привязанностью к собственному «я». Обычно говорят, что если ученику не удается достигнуть просветления и состояния бесстрастного ума, когда он вступает на этот путь, то он становится демоном.
Подводя итог, скажем, что есть один закон, который управляет большинством форм, порой совершенно парадоксальных, которые Бог может принимать в глазах посвященного: он должен искоренять страдание и никогда не причинять его. Он должен донести до тех, кому он причинил боль, что та самая боль, которую он вынужден был причинить им, несет им пользу. Это очень сложная проблема: простая доброта или любовь к справедливости, основанные на неправильных концепциях, оказываются неспособными решить ее. Посвященные Тибета убеждены в этом и заявляют, что если кто-то желает достичь совершенства Бодхисаттвы, чьи мысли и поступки не содержат ничего вредного для других существ, необходим разум, развитый длительным духовным обучением.
И все же мораль в любом виде — даже когда она интерпретируется как мудрость — относится к той более примитивной части «Мистического пути», где деятельность все еще расценивается как проявление физических и ментальных действий.
Технически эту стадию называют чой-кьи топа (chos kyi tоspa) [131], «религиозной или добродетельной деятельностью».
По мере того как ученик прогрессирует в освоении самоанализа, он все более ясно понимает, насколько бесполезна деятельность, с помощью которой люди пытаются изменить цепочку причин и следствий, базируя свои рассуждения на близоруком восприятии равно близоруких сантиментов.
Затем начинается стадия, называемая той-тал (tos tal) [132] — «отвержение деятельности». Мистик понимает, что на самом деле имеет значение не то, «что делать», но «как быть».
Следующее сравнение поможет вам понять сознание мастеров мистики лучше, чем любые другие объяснения:
Один из них сказал мне: солнце не работает. Оно не думает: «Я собираюсь послать свои лучи на этого конкретного человека и согреть его. Я пошлю лучи на эту конкретную область, чтобы ячмень мог созреть, на эту страну, чтобы ее жители могли наслаждаться светом». Но именно потому, что это — солнце и его сущность — давать тепло и свет, оно освещает и дает тепло и жизнь всему сущему.
То же самое можно сказать и о Чанчуб Семспа, тибетском Бодхисаттве — высшей личности, целиком состоящей из разума, мудрости и совершенства. Поскольку она создана из этого изумительного вещества, благотворная энергия, которую она испускает, исходит на все живые существа и окутывает их, от высших богов до самых жалких и ужасных обитателей чистилища.
Однако ученик, продвигающийся по «Мистическому пути», не должен стремиться к этой роли.
В то время, как в буддизме махаяны религиозные устремления, выраженные в клятве стать могучим Changchub Semspa, способным трудиться ради счастья всех живых существ, считаются самыми благородными, в «Мистическом пути» это желание одобряется только на самых низких степенях. Впоследствии это устремление отвергается, поскольку несет оттенок привязанности к индивидуальной жизни, веры в собственное «я».
Если возникает желание выразить свои устремления в клятве, то ученик, достигнувший более высоких посвящений, сформулирует это безлично: «Пусть Чанчуб Семспа или Будда возникнет ради пользы всех живых существ!», а не «Пусть я сам стану Чанчуб Семспа!».
Одно из важнейших условий достижения более высоких степеней посвящения — полный отказ от собственного «я» в любом его проявлении. Было сказано: «Нирвана не для тех, кто желает ее, потому что сама Нирвана состоит из полного отсутствия желания».
Конечно, Путь на этом не заканчивается, тем не менее в этот момент перед глазами налджорпы открываются новые мистические пики. Правила, методы и обряды — все это теряется позади. С ним остается только медитация, которую мастера сравнивают со свободно блуждающим ветром, веющим над вершинами, купанием в восхитительно чистом и свежем воздухе.
На этом огромном духовном пространстве, бледное отражение которого в материальном мире можно уловить в невыразимом одиночестве Тибета, путь исчезает — он больше не видим. Мы должны перестать идти по стопам полностью свободного мистика, который увидел абсолютную свободу Нирваны. «Его путь проследить так же трудно, как линию полета птиц в воздухе»[133].
И, если один из них поворачивается в нашу сторону, соглашаясь открыть нам тайну того, что он увидел, он вскоре поймет невозможность поведать о своих мистических переживаниях. Именно об этом намекает классическая фраза из Праджняпарамиты[134]: «Я хотел бы говорить, но… у меня нет слов».
Приложение
Чтобы читатели могли составить некоторое представление относительно указаний, которые религиозные учителя Тибета дают своим ученикам, я добавлю здесь множество изречений, приписываемых известному ламе Дагпо Лха Дже, который был третьим в прямом ряду мастеров линии Кагьюпа, самой значительной из школ, утверждающих, что она обладает традиционным изустным учением. Тибетское слово «Кагьюд» означает «строка предписаний».
Предком-основателем этой цепочки преемников является философ Тилопа, изображаемый как своего рода индусский Диоген. Одним из учеников его ученика, Нароты, преподававшего в знаменитом буддистском университете Наланда (в десятом веке), был тибетец Марпа. Последний привез к себе на родину доктрины Тилопы, которые он воспринял у Нароты. Эти доктрины он передал своему ученику, поэту-отшельнику Миларепе (одиннадцатый век), который, в свою очередь, передал учение своим двум выдающимся ученикам — Дагпо Лха Дже и Речунгпе [135].
Этот последний, в подражание своему мастеру, Миларепе, жил жизнью отшельника, а Дагпо Лха Дже продолжил цепочку духовных сыновей Тилопы. Теперь они были руководителями нескольких ветвей учения, которые возникли под руководством учеников Дагпо Лха Дже. Основной ветвью руководил Великий лама Карма-Кагьюд, который жил в монастыре Толунг Черпуг, расположенном в двух днях пешего пути от Лхасы.
Дагпо Лха Дже — автор значительного числа работ, посвященных философии и мистике. Переведенные мной изречения, похоже, подбирались именно из этих его работ. Эти изречения образуют сборник, первоначально предназначенный для верующих мирян и монахов, учеников лам секты Кагьюпа. Они часто просто цитируются устно, и ученики, которые знают их наизусть, порой записывают их, чтобы лучше запомнить. Эти маленькие рукописи затем передаются другим монахам или набожным мирянам, которые могут скопировать их и также передать другим людям. Однако ныне существуют уже изречения и в напечатанном виде. Они отличаются друг от друга, но главные принципы учения остаются неизменными.
Стиль подобного трактата чрезвычайно лаконичен. Четкая форма этих высказываний разработана таким образом, чтобы они сразу приковывали внимание и отпечатывались в памяти. К сожалению, невозможно сделать их буквальный перевод — он оказался бы совершенно непонятным. Поэтому неизбежным злом является использование пояснительных фраз, хотя они в значительной степени снижают удивительный аромат оригинального текста.
Для пользы жаждущих избежать круга последовательных перерождений, здесь были сформулированы изречения и предписания мастера Тагпо Лха Дже, духовного наследника мудрецов секты Кагьюд-па. Позвольте нам отдать дань уважения этой череде учителей, слава которых безупречна, а достоинства неистощимы, как океан, что окутывает все живые существа во вселенной из прошлого, настоящего и будущего, своей бесконечной благожелательностью и щедростью.
Тот, кто стремится быть избавленным от смерти, достичь духовного просветления и состояния Будды, должен сначала помедитировать о следующих вещах.
Было бы жаль родиться в человеческом облике и бездумно промотать эту человеческую жизнь, потратив ее на неблагоразумные или злые действия, умереть, прожив обыкновенную, заурядную жизнь.
В этой, такой короткой, жизни, было бы жаль уступить тщетной амбиции и позволить сознанию вываляться в слизи иллюзий мира.
Было бы жаль отделиться на пороге просветления от мудрого мастера-наставника, ведущего нас к освобождению.
Наши правила поведения и наши моральные обязательства являются колесницей, которая везет нас к освобождению, и было бы жаль, если бы наши страсти принудили нас нарушить первые и не исполнить последние.
Было бы жаль, если бы мы позволили исчезнуть в тривиальных заботах сияющему в нас внутреннему свету.
Было бы жаль, если после того, как мы познали драгоценные доктрины мудрых, нам пришлось бы продать их ради пропитания или мерзкой прибыли тем, кто неспособен понять их.
Поскольку все живые существа — это наши близкие, по отношению к которым у нас есть определенные обязательства, было бы жаль, если бы мы ощущали по отношению к ним антипатию или безразличие.
После внимательного и беспристрастного исследования собственной природы, способностей и возможностей, нужно выработать для себя благоразумную линию поведения.
Ученик должен полностью доверять своему духовному наставнику и верить в него, ему также необходимы настойчивость и энергия. Поэтому необходимо точно знать, какие качества должен иметь мастер и каких ошибок он не должен совершать, и искать такого духовного наставника, который достоин такой веры.
Ученику абсолютно необходимы острый, глубокий интеллект, устойчивая вера, несгибаемая настойчивость и полная сосредоточенность внимания, чтобы извлекать подлинную и сокровенную мысль гуру.
Необходима постоянная бдительность, чтобы удержать себя от ошибок, которые могут быть совершены посредством слова, тела, сознания.
Если вы хотите оставаться независимым, необходимо быть пустым от желаний.
Тот, кто решил не давать никому возможности схватить веревку, свешивающуюся с его носа [136], чтобы вести его, как вола, должен освободиться от обязательств любого вида.
Если человек нацелен на счастье других людей, физически или мысленно, ему необходимо естественное стремление к совершенству и сочувствие.
Ищите мастера, полностью просвещенного в духовных делах, ученого и с избытком награжденного добродетелями.
Ищите тихое и приятное место, которое кажется вам подходящим для исследования и размышлений, и оставайтесь там.
Ищите друзей, которые разделяют ваши мнения и привычки, тех, кому вы можете полностью доверять.
Думайте о злых последствиях ненасытности и удовлетворяйтесь в своем уединении таким количеством пищи, которая необходима лишь для того, чтобы поддерживать вас в добром здоровье.
Строго соблюдайте режим и выбранные правила жизни, выработанные для того, чтобы вы могли оставаться здоровыми и сильными.
Занимайтесь такими религиозными или ментальными упражнениями, которые развивают ваши духовные возможности.
Изучайте беспристрастно все, что вам окажется доступным, какими бы ни были цели, предусматриваемые этими учениями.
Будьте любознательны, будьте готовы учиться везде и всегда, что бы вы ни делали и в каком бы состоянии вы ни были.
Избегайте честолюбивого мастера, который стремится стать известным или обрести материальное благополучие.
Избегайте друзей, спутников, родственников или учеников, компания которых нарушает спокойствие вашего духа или мешает вашему духовному росту.
Избегайте зданий и мест, где люди ненавидят вас или тех, где ваше сознание лишено покоя.
Избегайте зарабатывать себе на жизнь, обманывая или грабя других людей.
Избегайте любых действий, способных повредить или ухудшить ваше сознание.
Избегайте распущенности и беспечности, которые лишают вас уважения других людей.
Избегайте поведения и действий, которые не имеют никакой полезной цели.
Не скрывайте свои недостатки и не обнародуйте недостатки других людей.
Избегайте действий, вызванных жадностью.
Мы должны знать: что бы с нами ни происходило — любые явления — все это чрезвычайно непостоянно. Поскольку сознание не обладает независимым существованием, никаким истинным «я», мы должны знать, что оно похоже на само пространство.
Мы должны знать, что идеи (составляющие сознание) возникают из сцепления причин, что речь и тело, сформированные из четырех элементов, непостоянны.
Мы должны знать, что прошлые действия, приводящие к моральным страданиям, автоматически приводят к соответствующим последствиям. Эти страдания могут быть единственным средством убеждения сознания в полезности Учения (буддистской доктрины), которая учит методам освобождения от страданий; следовательно, они [137] должны быть признаны духовными наставниками.
Поскольку материальное процветание часто вредит духовной жизни, мы должны считать известность и процветание врагами, по отношению к которым мы всегда должны быть настороже. Поскольку, тем не менее, комфорт и богатство могут также быть водой и плодородной землей, способствующими духовному развитию, мы не должны стремиться избежать их (когда они приходят спонтанно).
Поскольку неудачи и опасности порой заставляют человека, переживающего их, обратиться к Доктрине, они должны быть признаны духовными мастерами.
В действительности ничто существующее не существует абсолютно независимо само по себе. Все, что существует во вселенной: объекты знания, которые являются бесформенными или обладают формой, идеи, которые входят в сознание как последствия впечатлений, полученных посредством чувств, обстоятельства нашей жизни, возникающие как результат предыдущих действий, — все это является взаимозависимым и неразрывно связанным между собой.
Тот, кто стал религиозным человеком [138], должен вести себя соответственно, а не просто навести глянец духовности, продолжая жить обычной мирской жизнью. Он должен оставить свою страну и жить в таком месте, где о нем никто не знает, чтобы освободиться от тирании дома и связей, созданных привычным общением и традициями, вдали от людей и вещей, к которым человек привык.
Выбрав мудрого ламу в качестве своего мастера, он должен отбросить гордость и любовь к самому себе, слушая учение из уст мастера, и просить его совета.
Религиозный человек не должен болтать со всеми подряд об учении, которое он впитал, или о психических упражнениях, в которые он был посвящен, он просто должен ввести учение и эти упражнения в ход своей повседневной жизни.
Когда он впервые сумел увидеть этот внутренний свет, он должен не предаться безделью, а как можно скорее использовать эту начальную вспышку и больше никогда не отрывать от него свой внутренний взор.
Если он однажды испытал счастье созерцательной медитации, он должен искать спокойствия и одиночества для своей практики, не погружаясь снова в материальные действия и мирские заботы.
Религиозный человек должен быть абсолютным хозяином своего тела, своей речи, своих мыслей. Нацеливаясь на Спасение, он никогда не должен преследовать собственные интересы (интересы его «я», которое — как он знает — лишь иллюзия) [139], но всегда действовать во имя интересов других людей. Ни на одно мгновение он не должен позволять своему телу, своей речи или даже своим мыслям использоваться ради достижения заурядных целей.
Новички, только недавно вставшие на мистический путь, внимательно слушают беседу о Доктрине.
К вам приходит вера в Доктрину, продолжайте делать ее объектом ваших медитаций.
Упорно сохраняйте одиночество до тех пор, пока вы не обретете силу намерения.
Если ваши мысли блуждают и вам становится трудно сконцентрироваться, упорно продолжайте прилагать усилия, чтобы справиться с ними.
Если вас одолевает вялость, упорно продолжайте заниматься стимулированием и укреплением вашего сознания.
Упорно продолжайте заниматься медитацией, пока не достигнете неподвижного спокойствия.
Когда вы преуспеете в этом, упорно продолжайте прилагать усилия для того, чтобы продлить это состояние ментального спокойствия. Вы должны научиться обретать это состояние по своему желанию, так, чтобы это стало обычным для вас.
Если неудачи преследуют вас, упорно продолжайте сохранять тройное терпение тела, речи и мыслей.
Если внутри вас возникают желания или привязанности и готовы вот-вот одолеть вас, сокрушайте их, как только они появляются.
Если чувства щедрости, благожелательности или жалости слабеют в вас, восстановите их с помощью постоянной практики добрых дел и благотворительности.
Поразмышляйте над тем, как трудно родиться человеком, и, возможно, это приведет вас к мысли заниматься изучением Доктрины всякий раз, когда возникает такая возможность.
Думайте о смерти, о нашей неуверенности относительно длительности и обстоятельств нашей жизни, и, возможно, это склонит вас к тому, чтобы жить в соответствии с Доктриной.
Возможно, мысль о негибкости связи причин и следствий заставит вас избегать действий, которые приводят к дурным результатам.
Подумайте о тщеславии и незначительности жизни в круге последовательных существований, и, возможно, это склонит вас к тому, чтобы действовать таким образом, чтобы освободиться от этого круга.
Подумайте о различных бедствиях, которым подвергаются смертные существа, и, возможно, это склонит вас к тому, чтобы попытаться достигнуть ментального просветления.
Подумайте об ужасных устремлениях, о несправедливости и нечестности, скрытых в большинстве живых существ. Подумайте, как трудно любому живому существу искоренить эти склонности и разрушить ошибочные впечатления, следствием которых являются эти порочные явления. Возможно, это склонит вас к тому, чтобы помедитировать и посредством медитации достигнуть Действительности.
Союз некрепкой веры с высоко развитым интеллектом приводит к тому, что человек впадает в заблуждение и становится простым нанизывателем цветистых фраз.
Сильная вера, соединенная со слабым интеллектом, приводит к тому, что человек впадает в заблуждение и становится сектантом, ограниченным узкой тропой догматизма.
Большой пыл без правильного обучения приводит к тому, что человек впадает в заблуждение и приходит к крайним и ошибочным представлениям.
Практика медитаций, отделенная от знания, приводит к тому, что человек впадает в глупую вялость или в бессознательное состояние.
Если человек изучил что-то и признал это наилучшим учением, но не практикует изученного, он становится тщеславным и самовлюбленным, воображает, что он обладает интуитивным знанием, и смотрит на любое другое учение с презрением.
Если человек не ощущает сильной жалости (ко всем страдающим), это приводит к тому, что он впадает в явный интеллектуализм и эгоистично ищет личного спасения.
Если сознание человека сходит с тропы рациональности и здравого мышления, это приводит к тому, что он начинает идти вслед за грубой тривиальностью мира.
Если человек не способен задавить свою амбицию, это приводит к тому, что он позволяет себе руководствоваться мирскими мотивами.
Тот, кто получает удовольствие от визитов людей, восхищающихся им, восхваляющих его и верящих в него, выставляет себя мелким и убогим гордецом.
Желание может быть принято за веру.
Эгоистичная привязанность может быть принята за любовь или сострадание.
Остановка активности мозга или бессознательное состояние могут быть приняты за экстаз сферы бесконечного сознания [140].
Явления, предоставленные чувствами, могут быть приняты за открытия, сделанные Знанием.
Люди, уступающие своим страстям, могут быть приняты за налджорп (мистиков), которые освободились от любых общепринятых законов.
Действия, совершаемые с эгоистичной целью, могут быть приняты за проявления альтруизма.
Нечестные методы могут быть приняты за благоразумные методы.
Шарлатаны могут быть приняты за мудрецов.
Оторвать себя от любой привязанности и оставить дом, посвящая себя бездомному скитанию отшельника, не означает совершить ошибку.
Уважать духовного мастера не означает совершать ошибку.
Изучать Доктрину до конца, слушать наставления, медитировать и размышлять не означает совершать ошибку.
Питать высокие и благородные устремления наряду со скромным поведением не означает совершать ошибку.
Иметь либеральные представления, быть непреклонным в своих решениях и обязательствах не означает совершать ошибку.
Соединять активное, проницательное сознание с минимумом гордости не означает совершать ошибку.
Способность соединить глубокое знание философских доктрин, упорную энергию в освоении этих доктрин, интенсивность духовного опыта и отсутствие тщеславия — это не означает совершить ошибку.
Способность соединить отречение и некорыстную преданность с мудрыми методами совершения добрых дел для других людей не означает совершить ошибку.
Если после воплощения человек не придает никакого значения духовности, он похож на человека, который возвращается с пустыми руками из мест, богатых драгоценными камнями. Это печальное заблуждение.
Если после вступления в религиозный орден человек возвращается к мирской жизни и преследует цели материальной выгоды, он напоминает мотылька, обжигающего крылышки в пламени лампы. Это печальное заблуждение.
Тот, кто остается невеждой в компании мудрого человека, похож на человека, который умирает от жажды на берегу реки. Это печальное заблуждение.
Знать моральные предписания и при этом не использовать их, чтобы противодействовать последствиям страстей, означает напоминать больного, носящего с собой аптечку, которую он никогда не открывает. Это печальное заблуждение.
Если человек рассуждает о религии, не осуществляя того, о чем говорит, это похоже на бессмысленный лепет попугая. Это печальное заблуждение.
Если человек подает милостыню и занимается благотворительностью из средств, заработанных воровством, хищением, грабежом и обманом, то это похоже на молнию, ударившую в поверхность воды. Это печальное заблуждение.
Предлагать богам мясо, взятое у убитого живого существа, — то же самое, что предложить матери плоть ее собственного ребенка.
Изображать строгость и благочестие, делать дела, заслуживающие похвалы, чтобы привлечь уважение людей и получить известность, означает поменять драгоценный камень на кусок еды.
Если человек искусен в практике духовных упражнений и при этом все же не испытывает никакой склонности к ним, то он похож на богача, потерявшего ключ от комнаты, в которой лежат все его сокровища.
Когда человек пытается объяснить другим людям значение духовных истин или трактатов, в которых описываются важные положения Доктрины, сам не вполне понимая то, что он пытается объяснить, он напоминает слепца, ведущего за собой других слепцов.
Тот, кто считает наиболее важным ощущения или результаты всего, что было создано физическими методами, и теряет из виду сферу сознания, похож на человека, который принимает кусок позолоченной меди за чистое золото.
Пусть даже религиозный человек [141] живет в самом строгом уединении, он совершает ошибку, если при этом заполняет свое сознание мыслями о мире и об успехах, которые мог бы там иметь.
Когда религиозный человек — известный и признанный глава группы монахов или мирян, он совершает ошибку, если начинает преследовать свои собственные, корыстные интересы.
Быть жадным или иметь малейшее желание — ошибка для религиозного человека.
Делать различие между тем, что нравится, и тем, что вызывает отвращение, не отбрасывать все чувства симпатии и отвращения — это ошибка для религиозного человека.
Если, оставив позади обычных смертных, религиозный человек все еще стремится обрести различные достоинства [142], он совершает ошибку.
Религиозный человек совершает ошибку, если он не продолжает упорно заниматься медитацией после того, как он впервые мельком увидел Реальность.
Если религиозный человек дал клятву найти истину, он не должен оставлять свои поиски.
Если религиозный человек не преобразует к лучшему свои небезупречные поступки, он совершает ошибку.
Религиозный человек совершает ошибку, если решает продемонстрировать свои тайные возможности для того, чтобы излечить болезнь или осуществить изгнание злых духов[143].
Если религиозный человек ловко хвалит себя и в то же самое время унижает других людей, он совершает ошибку.
Религиозный человек не должен менять священную правду на средства к существованию и богатство [144].
Проповедовать высокие доктрины другим и действовать противоположно тому, чему учишь, является ошибкой для религиозного человека.
Быть неспособным жить в одиночестве, испытывать недостаток твердости, необходимой для того, чтобы не поддаться развращающему воздействию свободы и беззаботности, испытывать недостаток храбрости, чтобы вынести бедность, что-то желать — ошибка для религиозного человека.
Необходим быстрый, активный и проницательный интеллект, способный уловить практические способы постижения человеком истин.
Как отправная точка духовной жизни абсолютно необходимо подлинное отвращение к непрерывной последовательности смертей и возрождений [145].
Мастер, способный быть уверенным наставником на пути, ведущем к Освобождению, совершенно необходим тому, кто только вступает на этот путь.
Необходимы глубокое понимание, упорная храбрость и уверенная настойчивость.
Обязательна острая проницательность, способность уловить истинную природу «Знающего» [146].
Необходима способность концентрировать сознание на любом объекте, в любом месте или промежутке времени.
Необходимо обладать искусством использования любого действия для дальнейшего духовного развития.
Почти не иметь гордости или зависти означает чистоту натуры.
Иметь мало желаний, быть способным удовлетвориться предметами, не имеющими большой ценности, не использовать лицемерие и обман — это признаки высшего сознания.
Разум — это способность выстраивать поведение в соответствии с законом причины и следствия.
Способность беспристрастно оценивать все существа — признак высшего сознания.
Иметь жалость к тем, кто наслаждается злыми действиями, и быть свободными от гнева на них — признак высшего сознания.
Оставлять победу другим и принимать поражение на себя — признак высшего сознания.
Отличаться от обычных людей [147] даже в самых незначительных мыслях — признак высшего сознания.
Вести себя лицемерно — то же самое, как есть отравленную пищу: это ведет к страданию.
Глупый человек, стоящий во главе монастыря, похож на старуху, присматривающую за стадом скота, — он сам создает себе огромные трудности.
Человек, который не трудится для счастья другого человека, заставляющий другого служить собственному благополучию, подобен слепому, блуждающему в пустыне и устраивающему трудности самому себе.
Тот, кто неспособен успешно управляться со своими собственными делами и все же берется за решение еще более сложных проблем, похож на слабого человека, который пытается нести тяжелый груз, — он создает себе неприятности [148].
Человек, который бездельничает в городе и пренебрегает медитацией, похож на серну, спускающуюся в долину вместо того, чтобы остаться на горах, где она находится в безопасности.
Работать для овладения земными благами вместо того, чтобы развивать свое сознание, делает человека похожим на орла, который потерял навыки использования своих крыльев.
Человек может поздравить себя, если он способен порвать свои связи с обычными формами религии и начать искать мудрого и благородного мастера.
Человек может поздравить себя, если он способен отказаться от накопления богатства.
Человек может поздравить себя, если он способен отказаться от социальной жизни и жить в одиночестве в уединенном месте.
Человек может поздравить себя, если он способен отказаться от стремления к роскоши и от амбиций.
Человек может поздравить себя, если он никогда не решается использовать других людей для достижения своих эгоистичных целей.
Человек может поздравить себя, если он отучил себя от формы и настроился на проникновение в природу сознания.
Вера в закон причины и следствия является лучшим из решений человека низких способностей [149], ведущих к духовному озарению.
Умение распознавать во всем, как внутри, так и вне себя, работу универсальной энергии и ощущающего сознания, является лучшим из решений человека средних способностей, ведущих к духовному озарению.
Способность разглядеть фундаментальную гармонию Знающего, объект знания и действие познания[150], является лучшим из решений человека высших способностей, ведущих к духовному озарению.
Абсолютная, полная концентрация на одиночный объект — лучшая форма медитации для человека невысоких интеллектуальных способностей.
Непрерывная медитация относительно универсальной энергии и ощущающего сознания — лучшая форма медитации для человека средних интеллектуальных способностей.
Оставаться в спокойном состоянии сознания при отсутствии каких-либо процессов рассуждения, зная, что «тот, кто медитирует», объект медитации и акт медитации образуют неразделимое единство, является лучшей формой медитации для человека самых высоких интеллектуальных способностей.
Управлять поведением согласно закону причины и следствия — лучшая форма этики и самая лучшая религиозная практика для человека посредственных интеллектуальных способностей.
Полное отделение, рассматривание всего как образов, которые человек видит во сне, или как нереальных фигур миража, и подобное же отношение к ним является лучшей формой религиозной практики для человека средних интеллектуальных способностей.
Воздержаться от всех желаний и действий — самая высокая форма религиозной практики для человека самых высоких интеллектуальных способностей.
Постепенное сокращение эгоизма и невежества — один из лучших признаков духовного развития для людей любого уровня интеллекта.
Если человек следует за лицемерным шарлатаном вместо того, чтобы идти по стопам мудрого, который искренне практикует Доктрину, то он совершает фатальную ошибку.
Если человек строит далеко идущие планы в ожидании долгой жизни вместо того, чтобы ежедневно выполнять свои обязанности так, как если бы это был последний день его жизни, он совершает фатальную ошибку.
Если человек обязуется проповедовать религиозные доктрины перед большим количеством слушателей, вместо того чтобы медитировать в одиночестве о значении этих доктрин, он совершает фатальную ошибку.
Если человек проводит жизнь в распущенности вместо того, чтобы принять чистоту и целомудрие, он совершает фатальную ошибку.
Если человек проводит жизнь между заурядными опасениями и надеждами вместо того, чтобы познать Реальность, он совершает фатальную ошибку.
Если человек пытается преобразовать других людей вместо того, чтобы преобразовать самого себя, он совершает фатальную ошибку.
Если человек пытается добиться высокого социального положения вместо того, чтобы работать над развитием своего Знания, скрытого внутри него, он совершает фатальную ошибку.
Если человек проводит свою жизнь в безделье вместо того, чтобы искать просветления, он совершает фатальную ошибку.
Прежде всего прочего, необходимо почувствовать сильное отвращение к непрерывной последовательности смертей и возрождений, которой подчинен человек, желать избежать плена повторных существований так пылко, как пойманный олень желает убежать из клетки.
Затем необходимо решительное и смелое упорство, которое ничто не может сломить.
Третье, что необходимо, — удовлетворенность, радость от усилий.
В высшей степени необходимо понять, что нам отмерено столько же времени, сколько его есть у человека, получившего смертельное ранение.
Затем необходимо помедитировать над этим.
И, наконец, необходимо понять, что ничего нельзя сделать.
Прежде всего, необходимо ощущать к Доктрине столь же страстное желание, какое чувствует голодный к хорошей еде.
Во-вторых, необходимо понять природу сознания человека.
И, наконец, нужно признать ошибку дуальности и фундаментальную идентичность всего сущего.
Признав пустоту сознания [151], больше нет необходимости слушать религиозные беседы или медитировать на них.
Признав чистую природу «интеллекта», больше нет необходимости искать прощение за грехи.
Нет нужды в прощении для того, кто вступил на путь спокойствия и безмятежности.
Тот, чье сознание достигло состояния беспримесной чистоты [152], не должен медитировать на «Пути» или о том, как вступить на него.
Тому, кто отбросил все страсти, больше не нужно бороться с ними.
Тот, кто знает, что все явления — это просто иллюзия, больше не должен ни с чем бороться или к чему-то стремиться.
Во втором собрании ламаистских канонических книг, носящих название Тенгьюр (Tengyur, пишется bstan hgyur) — «комментарии», находится известное послание, приписываемое великому индусскому философу Нагарджуне, философская доктрина которого очень почитаема у ламаистов. Ниже я привожу некоторые отрывки из этого послания.
Сейчас уже неважно, был ли Нагарджуна действительно автором этого послания или оно было написано одним из его учеников или вообще кем-то, кто использовал его имя. Мы просто хотим отметить, что хотя краткий список назиданий, из которых оно состоит, относится к махаянизму и рекомендован тибетскими гуру, тем не менее он отлично сочетается с учением примитивного буддизма.
Пусть ваше тело, ваша речь и ваше сознание придерживаются пути десяти добродетельных действий[153]. Воздерживайтесь от питья хмельных напитков и восхищайтесь честной жизнью[154].
Зная, что богатство быстро исчезает, что оно мимолетно и скоротечно, помогай свободно бедным, твоим нуждающимся друзьям и отшельникам. Ничто столь не добродетельно, как милосердие, это твой самый лучший друг, который поможет тебе обеспечить хлеб насущный в будущей жизни.
Высоко почитай целомудрие, не загрязняй и не ухудшай себя грубыми и жестокими действиями. Целомудрие сознания — основа всех достоинств, так же как земля — опора для всех живых существ и неподвижных предметов.
Пусть наполнят тебя безграничное милосердие, целомудрие, зоркость и спокойствие. И пусть к ним добавится мудрость, ее энергия, и тогда, с их помощью, ты пересечешь океан мира, приближаясь к состоянию Будды.
Уважай отца и мать своих, добрых друзей и своих наставников. Подобное уважение принесет тебе справедливую славу и впоследствии счастливое возрождение.
Приносить зло, ранить, грабить, лгать, совершать непорядочные действия: пить допьяна, проявлять ненасытность, которая побуждает есть в неположенное время, мягкая роскошь, которая приглашает откинуться на кушетке, пение, танцы, украшения — все это следует отринуть [155].
Выполняя эти указания и обучая этим правилам непосвященных, как мужчин, так и женщин, человек следует по стопам архатов и готовит себя к возрождению среди богов.
Относись как к злейшим врагам: к жадности, нечестности, зависти, высокомерию, ненависти, гневу, гордыне в отношении социального положения, красоты, богатства, молодости или знания. Относись к власти как к своему врагу.
Те, кто вел распущенную или преступную жизнь и, признавая свои проступки, изменили свое поведение, — те обрели душевную красоту, как луна, вышедшая наконец из-за облаков.
Никакой аскетизм не превысит по значимости терпение, поэтому никогда не позволяйте себе терять голову от гнева.
Пока мы думаем: «Эти люди оскорбили, обвинили или одолели меня, они погубили меня», внутри нас рождаются гнев и ярость. Поэтому отбросьте негодование и спите спокойно.
Знайте, что сознание, в котором создаются образы, может быть похоже на воду, землю или склад[156]. Когда вас одолевают злые страсти, лучше, если сознание будет похоже на воду[157]. Для человека, который следует по пути истины, лучше, если оно будет похоже на безопасный склад.
Есть три вида слов: приятные, верные и ложные. Первые похожи на мед, вторые похожи на цветы, а третьи похожи на нечистоты. Избегайте третьих.
Некоторые люди идут от света к свету, другие от тьмы к тьме. Некоторые люди идут от света во тьму, другие — из тьмы к свету. Будьте среди первых.
Знайте, что люди похожи на плоды дерева манго. Некоторые кажутся созревшими (мудрость), но на самом деле совершенно незрелые. Другие, хотя и являются зрелыми, выглядят недозрелыми и неспелыми. Есть такие, кто, без сомнения, уже созрел, но совсем не кажутся спелыми. Другие, совершенно спелые, и выглядят зрелыми и спелыми. Учитесь видеть разницу между этими плодами.
Среди различных философских систем в Тибете есть одна наиболее высоко уважаемая система, носящая название Чаг гья ченпо (Chag gya chenpo) [158]. Она состоит из знания высшей доктрины неотъемлемого единства всего сущего, соединенного с практикой деяний, вдохновленных этой доктриной. Тайное значение слова «Чаг» (chag (phyag) — Пустота или отсутствие любых качеств, любых условий существования, какие только могут быть обозначены словами или представлены в мыслях, так как слова и мысли могут выразить только ограниченные объекты, а то, что обозначается словом «Пустота», есть Абсолют. Слово гья (gya (rgya)) эзотерически обозначает освобождение от рабства мирских трудов, и к этому освобождению ученик приходит путем знания этой доктрины. Слово chenpo [159] в данном случае обозначает союз этого высшего знания фундаментального единства всего сущего и освобождения от мирских забот. Таковы объяснения, которые дают мастера, преподающие Чаг гья ченпо , и они подтверждаются работами древних авторов, которые проповедовали эту доктрину в прошлые века.
Я не собираюсь здесь рассказывать об историческом происхождении этой философской системы и лишь ограничусь заявлением, что истоки ее находятся в индусской философии. Эта система связана с dbuma[160], — философией, проповедовавшейся мастером Нагарджуной, она была принесена на Тибет великим ламой школы Сакья: Сакья Панчен, а также другими религиозными мастерами.
Ниже собраны советы относительно метода медитации, даваемые своим ученикам ламами, проповедовавшими доктрину Чаг гья ченпо после того, как им был дан соответствующий ангкур.
Я взяла эти советы из моих собственных примечаний, записанных со слов некоторых из этих лам; я также сделала выдержки из работы, к которой эти ламы относятся с огромным пиететом, — это труд, озаглавленный «Чаг-чен-гьюи-зинди » (Chag chen gyi zindi (phyag tchen gyi zin bris)). Это руководство — своего рода справочник для тех, кто ищет спасения на пути Чаг гья Ченпо .
Сев в тихом и уединенном месте, человек поначалу должен оставаться неподвижным и спокойным, не предпринимая ни малейшего умственного усилия. Он не должен предлагать себе медитировать и готовиться выполнять духовное упражнение, как порой некоторые думают: «Я пришел сюда, чтобы медитировать… Я должен выполнить работу по медитации…» Это спокойствие тела, речи и сознания, которое не поддерживается даже малейшим усилием, даже небольшим напряжением, не имеющее никакой цели, называют «позволить сознанию оставаться в его естественном состоянии».
Говорят: [161]
Думайте не о прошлом.
Думайте не о будущем[162].
Не думайте: я медитирую.
Не воображайте Пустоту как Небытие.
Какие бы ощущения ни поступали от всех пяти чувств, в этот момент нельзя стремиться анализировать их; напротив, нужно, чтобы сознание оставалось в абсолютном покое.
Сказано:
«Воздерживаясь от формирования понятий или идей, связанных с воспринимаемыми объектами,
Оставляя сознание в покое, как у маленького ребенка[163],
Рьяно следуя советам своего духовного наставника,
Человек безусловно обретет понимание Пустоты и будет освобожден от мирских забот, — эти две вещи сливаются воедино»[164].
Тилопа сказал:
Не воображайте, не рассуждайте, не анализируйте;
Не медитируйте, не размышляйте,
Сохраняйте естественное состояние сознания[165].
Мастер Мармидз сказал:
«Отсутствие отвлечений (идеальное внимание) — путь, по которому идут все Будды».
Именно это называется спокойствием сознания, неподвижностью сознания, остающегося в его естественном состоянии (или остающегося в его истинном жилище).
Нагарджуна сказал:
«Помните, что внимание считается единственным путем, по которому ступают Будды. Постоянно наблюдайте за своим телом (за действиями, выполняемыми телом, за деятельностью пяти чувств, за причинами этих действий и их последствиями), чтобы познать это.
Пренебрежение этим наблюдением лишает все духовные упражнения любого смысла и не приводит ни к каким результатам.
Именно это непрерывное внимание называют свободой от рассеянности.
Сказано в Абхидхарме: «Память (предписываемая ученику) состоит в том, что он не должен никогда забывать существ или предметы, которые когда-либо попадали в поле его зрения».
Ощутив ментальное спокойствие, необходимо сосредоточить сознание на одной-единственной точке.
Один из методов, ведущих к достижению этой цели, может быть осуществлен при помощи некоторого материального объекта или без него.
В первом случае объект может быть маленьким шариком или палкой[166]. В последнем случае можно сконцентрировать сознание на физической форме, на слове или на сознании Будды.
Можно использовать материальные объекты следующим образом.
Положите перед собой маленький шарик или палку, чтобы сконцентрировать на нем свои мысли.
Не позволяйте «знающему»[167] отклонять внимание от этого объекта, рассеивать внимание вокруг или входить в него[168], просто упорно смотрите на предмет, не позволяя мысли никуда отклоняться.
Затем помедитируйте о своем духовном мастере, то есть сформируйте его образ и держите сознание прикрепленным к нему.
Если вы чувствуете утомление, вас одолевает вялость или сонливость, нужно упорно продолжать медитацию, уперев в предмет пристальный взгляд, медитируя на месте, откуда можно увидеть широкие просторы пустой земли.
Если, с другой стороны, сознание блуждает, нужно запереться в хижине отшельника и, опустив глаза, удерживать спокойствие сознания, пресекая любое усилие, как объяснялось ранее.
Когда человек берет в качестве предмета телесную форму, речь или сознание Будды, они отображаются следующим образом: в качестве тела человек использует маленькую статую или красочный рисунок Будды;
в качестве речи человек использует слог;
в качестве сознания человек использует точку.
Можно обойтись без статуи или рисунка, и представить себе форму Будды. Тогда он представляется в образе человека, одетого в религиозную одежду и окруженного светом, и постоянно стоит перед мысленным взором человека.
Концентрация на речи происходит путем визуализации изображения круга размером с шляпку гвоздя, на которой написан слог «Хри» (hri)[169], причем линии букв — толщиной в волос.
Концентрация на сознании происходит путем представления перед собой точки размером с горошину, из которой исходят лучи света[170].
В упражнения, преподаваемые новичкам (предварительное или элементарное обучение), включается упражнение по удалению мыслей в тот самый момент, когда они только зарождаются; также в этом упражнении новичку предлагается позволить мысли продолжаться, не давая ей принять конкретную форму (не останавливаясь, чтобы сделать из нее ментальный образ).
Когда человек медитирует, он чувствует, что в нем с огромной скоростью возникает множество идей, одна за другой. Поэтому, как только начинает возникать некая мысль, она должна быть срезана под корень, чтобы медитация могла продолжиться.
Продолжая медитацию и постепенно продлевая длительность периодов безмыслия, человек наконец замечает (чего до этого момента он просто не видел), что идеи формируются непроизвольно, следуя одна за другой, и образуют бесконечную последовательность.
Это открытие непроизвольного формирования идей равноценно обнаружению скрытых врагов. Таким образом, человек оказывается в состоянии, подобном тому, когда он стоит на берегу реки и смотрит на протекающую мимо него воду. Спокойное и наблюдающее сознание наблюдает за движением непрерывного потока — как вода — идей, которые непрерывно следуют одна за другой.
Если сознание достигает этого состояния, хотя бы на мгновение, оно начинает понимать рождение и прекращение ментальных образований.
Затем кажется, что эти ментальные образования — поскольку на них было сосредоточено наблюдение (а прежде человек не осознавал этого), — становятся более многочисленными, но это не так.
Реальность находится вне возникновения ментальных образований и немедленно кладет конец этому их возникновению.
На втором месте находится упражнение, которое состоит в отбрасывании возникших несформулированных идей.
Какой бы ни была пришедшая вам в голову идея, на нее не следует обращать никакого внимания; ее следует оставить саму по себе, не позволяя себе оказаться под ее влиянием, не рассуждая о ней и даже не стремясь отбросить ее. Таким образом, сознание напоминает пастуха, пасущего стадо, и продолжает медитацию.
Если вы будете упорно продолжать действовать подобным образом, ментальные образования больше не будут появляться и сознание достигнет состояния покоя, сконцентрируется в одну точку.
Мастер Гамбопа (другое имя Дагпо Лха Дже) сказал:
Когда сознание остается расслабленным,
оно становится тихим,
Когда ничто не взбаламучивает воду, она становится
прозрачной.
Отшельник Миларепа, Бог созерцательных отшельников, сказал: «Сохраняя естественное состояние сознания, не заставляя его принимать конкретную форму [171], вы видите, как занимается первая заря Знания.
Когда вы держите сознание расслабленным, текущим, как спокойный речной поток, в нем отражается Реальность».
Мудрый Сараха подвел итог этого двойного процесса медитации в следующих строках:
«Когда сознание остается привязанным к чему-либо, оно пытается блуждать, двигаясь беспорядочно.
Когда оно остается свободным, оно остается неподвижным.
Я понял, что это такое же трудноуправляемое животное, как верблюд».
Высшее учение включает медитацию относительно того, что есть сознание, остающееся без движения, и что находится в движении (зритель и действующее лицо).
(1) Сознание должно наблюдаться, находясь в состоянии тихого покоя. (2) Мы должны исследовать природу этого неподвижного «объекта». (3) Мы должны исследовать, как то, что называют сознанием, остается в покое и как оно перемещается, оставляя свое спокойствие.
Мы должны исследовать: (1) появляется ли в сознании движение в состоянии ином, кроме спокойствия; (2) перемещается ли это сознание даже когда оно находится в покое; (3) является ли его движение чем-то иным, кроме как состоянием неподвижности (состоянием покоя) или нет.
Мы должны исследовать, каков вид реальности этого движения и какова причина, обуславливающая прекращение этого движения.
Мы сделали вывод, что то, что движется, совершенно не отличается от того, что остается неподвижным. Достигнув этой точки, мы должны спросить себя: если сознание, которое замечает то, что перемещается, и то, что остается неподвижным, отличается от них — не есть ли это «я» того, что перемещается, и того, что остается неподвижным.
Затем мы устанавливаем, что наблюдатель и наблюдаемый объект неотделимы. И, поскольку невозможно классифицировать эти два предмета (наблюдатель и наблюдаемый объект) как являющиеся дуальностью или единым объектом, их называют «целью, находящейся за пределами сознания» и «целью, выходящей за пределы всех теорий».
Сказано:
«Однако, сколь благородны могут быть, цели, созданные столь бренным сознанием .
И то, что находится вне сознания, нельзя назвать целью».
В Сутре, озаглавленной «Вопросы Кашьяпы», мы читаем:
«Если тереть две палочки одна об другую, возникает огонь.
И порожденный ими огонь затем пожирает обе палочки.
Точно так же поглощается разум, рожденный двумя — парой, образованной «неподвижным» и «движущимся», а также наблюдателем, который рассматривает их дуальность».
Эта медитация называется: «прозорливая медитация отшельника». Ее не следует путать с «прозорливой медитацией ученого», потому что последний исследует объекты извне.
Законоведы «Чаг гья ченпо » также проповедуют способы использования в целях духовного развития препятствий; кроме того, они обучают множеству способов анализировать сознание:
Действительно ли это — вещь, состоящая из материи?
Если этот объект материален, из какого вида материи он сделан?
Если это объективно существующая вещь, какова ее форма, ее цвет?
Если это — «знающий», не является ли это идеей, которая пришла на время?
Что тогда является этим нематериальным объектом, который проявляется в различных формах?
Что является тем, что создало этот нематериальный объект?
Если бы сознание было реальной сущностью, то было бы возможно считать его своего рода веществом.
После дальнейших рассуждений человек приходит к выводу, что сознание не материально и не нематериально и что оно не относится ни к какой категории объектов, относительно которых можно сказать, что «они существуют» или «они не существуют».
Вопросы все еще продолжаются, и мы приходим к проблеме относительно составного или несоставного характера сознания.
Является ли сознание простым, несоставным объектом?
Является ли сознание составным объектом?
Если оно несоставной объект, то почему оно проявляется столь различными способами?
Если оно является составным, как оно может быть приведено к тому состоянию «пустоты», в котором есть только единство и гармония?
Продолжая наши исследования, мы приходим к тому, что признаем: сознание свободно от крайностей, как единственности, так и множественности.
«В состоянии покоя человек, который достиг этого понимания, дошел до истинного результата медитации; для него все объекты кажутся столь же иллюзорными, как и формы, созданные миражом».
Сказано:
Передо мной, позади меня, во все стороны от меня,
Везде, куда бы я ни посмотрел, я вижу «Это оно само».
Сегодня, o мастер, иллюзия была рассеяна;
Впредь я не спрошу ничего подобного.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ