ТРУБАДУРЫ

Трубадуры и жонглеры

Кто не слышал о трубадурах? Кому из образованных людей при этом слове не представляется в воображении рыцарский замок с зубчатыми стенами и башнями, с подъемными мостами и рвом? Кому из них не представляется при этом обширная замковая зала со стенами, увешанными различными рыцарскими доспехами, с огромным камином, с резными скамьями, столами и креслами? Кто в воображении своем не заполнял эту залу живым обществом рыцарей и дам в живописных, ярких цветами своими поэтических костюмах поэтической эпохи? Кто из людей, одаренных живым воображением и способностью переживать поэтические настроения, не рисовал себе этого общества жадно внимающим вдохновенному певцу, который поет пред ним о любви, о любви счастливой и несчастной, о любви земной, о любви возвышенной? Большинство и представляет себе трубадуров певцами любви. Во взгляде этом есть большая доля правды, но любовь далеко не исчерпывает содержания тех песен, которые слагались трубадурами.
И прежде всего, что значит само слово «трубадур», которое приобрело себе такую широкую известность, такой поэтический колорит? Оно произошло от провансальского глагола «trobar» (фр. trouver), что значит «находить», «изобретать». Таким образом, слово «трубадур» (прованс. trobaire, trobador) обозначает в буквальном переводе изобретателя, сочинителя песен.
Под названием трубадуров разумеют тех поэтов XII и XIII столетий, которые слагали свои песни на провансальском наречии. Поэтическая деятельность трубадуров противополагалась народному творчеству и называлась самими трубадурами «искусством находить, изобретать» (art de trobar). При этом имелось в виду исключительно искусство слагать стихи, петь рифмованной речью. Словом «trobar» называлось и само стихотворение в смысле изобретения или выдумки отдельного лица. Другое название искусства трубадуров — «веселое знание» или «веселая наука» (прованс. gai saber, фр. le gai savoir или la gaie science) — возникло значительно позже. Что касается столь распространенного слова «трубадур», то оно вошло в оборот очень быстро. Впервые его употребил Рембо (Раймбаут) Оранский (Raimbaut d’Aurenga), умерший в 1173 году, но мы встречаем его вскоре у Бертрана де Борна; впрочем, и у Рембо Оранского это слово применяется, если не ошибаемся, не более одного раза, а именно в стихотворении, написанном на кончину английского принца Генриха, где поэт говорит: «Скорбят по нем жонглер и трубадур».
Рембо Оранский считал себя поэтом-новатором, ставя себе в заслугу сочинение такого рода стихов, образца которых до него не было, и слово «трубадур» употребил, по-видимому, именно в этом смысле. Удачно придуманное или выхваченное им из житейского обихода слово получило право гражданства в области литературного языка.
Под именем трубадуров подразумевались только лирические певцы, то есть поэты, выражавшие в своих всегда сравнительно небольших произведениях свое личное чувство или свой личный взгляд на то или другое лицо, на то или другое событие. Трубадуры резко отличались от авторов рассказов и новелл. Про одного из поэтов в средневековой рукописной книге высказано такое мнение: «Он был не добрым (то есть не настоящим) трубадуром, но автором новелл», иначе говоря — не лирическим, а эпическим поэтом[4]. Вообще трубадуры относились пренебрежительно к эпическому виду литературного творчества, и один из известнейших трубадуров, Гиро (Гираут) де Борнель (Guiraut de Bornelh), выражал даже негодование на то, что романы и новеллы находят себе благосклонный прием при дворах. Таким образом, на свою поэзию они смотрели как на единственно достойную внимания высшего феодального общества, как на поэзию придворную.
Сводя все вышеизложенное в одно целое, мы можем дать уже вполне точное определение понятия «трубадур». Под трубадурами следует разуметь лирических поэтов, слагавших свои песни на провансальском наречии и распространявших их среди высшего феодального общества. Как же зародилась, при каких условиях достигла своего блестящего развития эта лирическая поэзия, влияние которой распространилось далеко за пределами ее родины? Откуда заимствовала она красоту формы, искусство и изящество слога? Откуда взяты ею яркие краски и музыкальные созвучия, отличающие ее? На этом интересном вопросе мы и остановим теперь свое внимание.
Вся нынешняя Франция, или Галлия, была, как известно, покорена римлянами еще за полвека до Рождества Христова и составила римскую провинцию. Ее первоначальное кельтское население в сравнительно скорое время восприняло римскую образованность. Народный латинский говор сделался языком ее населения. Завоевание Галлии франками привнесло в область языка много нового. Из соединения латинского языка с языком франков, испытавшим сильное влияние первого, образовался так называемый романский язык. Сначала в этой сфере под влиянием указанных событий господствовало почти полное однообразие. Наречия, на которых говорило население различных частей Галлии, представляли собой лишь незначительные оттенки господствующего языка. По крайней мере, население ее различных частей отлично понимало друг друга. Но с течением времени единство языка, и без того неполное, стало нарушаться еще более, и в разных областях Галлии проявились и стали развиваться местные особенности. Уже в знаменитой Страсбургской клятве (842 год), текст которой, к счастью, дошел до нас в современных мемуарах графа Нитгарда[5], встречаются черты, принадлежащие Северной Франции и непонятные ее югу. С течением времени с развитием феодализма, привносившего с собой торжество местных начал, разница между северофранцузским и южнофранцузским говорами увеличивалась все более и более. Говор, господствовавший в Южной Франции, получил специальное название провансальского наречия. По различному произношению на севере и юге Франции утвердительной частицы оба эти говора стали называться своими собственными именами. На севере Франции, отвечая на вопрос утвердительно, говорили oïl, из чего вышла французская частица oui. Поэтому и язык Северной Франции назывался langue d’oil. В Южной Франции вместо oïl говорили ос, и потому провансальское наречие, господствовавшее в ней, стало называться langue d’oc. Если мы проведем линию от устья реки Севры, отделяющей департамент Шаранты от Вандеи и впадающей в Атлантический океан, до Женевы, то отметим приблизительную границу между частями Франции, в которых царил каждый из этих языков. Таким образом, провансальское наречие господствовало на обширном пространстве. В этой стране находились когда-то (в эпоху империи) семь южных провинций Галлии, которые Рим застроил своими цирками, театрами, храмами, школами, самоуправляющимися городскими общинами… Здесь римское влияние сказалось с особенной силой. Здесь-то и процветала лирическая поэзия трубадуров с XI по XIV век.
Но ни Пиренейские горы, ни Средиземное побережье Франции не были границами ни языка, ни лирической поэзии французского юга. И тот, и другая процветали во всей восточной половине полуострова Пиренейского и на Балеарских островах. Таким образом, провансальское наречие было народным языком в восточной части того полуострова, политические судьбы которого были тесно связаны с судьбами юга; не раз значительная часть Пиренейского полуострова соединялась в одно целое с Тулузским и Прованским графствами. Различие между севером и югом Франции и сходство последнего с Пиренейским полуостровом было так велико, что трубадур XII века Альберт Систерон делит население Франции на французов и каталонцев, под которыми разумеет население французского юга. Конечно, различие между северными и южными французами не ограничивалось только областью языка, но выражалось и в характере населения. Последнее различие ярко отмечено французскими писателями; достаточно указать на романы писателя Альфонса Доде — «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона», «Тартарен в Альпах», «Порт-Тараскон» и др.
Оставляя в стороне осмеянные отрицательные стороны, мы отметим следующие черты, характеризующие южанина: он отличается поразительно богатым воображением, любит и умеет поговорить, его речь блещет яркими метафорами, он — поэт в душе, находчивость его изумительна, его ум необычайно гибок. Говоря о самом несбыточном деле, он готов верить в его осуществимость. И теперь, несмотря на то что прошли века после тесного слияния обеих половин Франции, эти особенности бросаются в глаза.
Яркость метафор, пылкость воображения, страстность чувств — все это питалось и поддерживалось палящим солнцем и зноем юга, роскошным расцветом растительного царства, богатством красок и их оттенков в самой атмосфере. Между хлебными полями и виноградниками здесь возвышались многочисленные богатые города, из которых каждый представлял республику в миниатюре, и много великолепных замков, которые представляли миниатюрные подобия императорского двора. Юг Франции находился в непрерывных сношениях с Италией, Грецией и Востоком. Особенно славились этими сношениями богатые города — Марсель, Авиньон, Арль, Нарбонна, Тулуза и Бордо. Здесь на рынках в торговое время можно было видеть смешение племен, языков и вер. Тут вместе с мусульманами были все народности, подвластные некогда Римской империи. Тут говорили почти на всех языках тогдашнего мира. Сюда свозились предметы и необходимые в обиходе, и изысканной роскоши: шелка и шерстяные ткани Азии и Италии, оружие Дамаска, зеркала, драгоценные камни, золотые и серебряные вещи, восточные пряности и благоухания.
Этот постоянный обмен богатств, эта живая деятельность, это разнообразие и плодотворное движение сопровождались и обменом идей, обменом цивилизаций. Здесь находили гостеприимный прием врачи и математики, получившие образование в центрах мавританской культуры — в Кордове и Гренаде. Греки завозили на ярмарки Нарбонны и Тулузы не только восточные ароматы и шелк, но и смелые учения, подрывавшие авторитет господствующей церкви. Цивилизация мавров, достигшая в короткое время замечательного расцвета, их тонкая наука, их элегантные искусства, их изобретения проникали на полуиспанский юг Франции. Основатель Кордовского халифата Абдеррахман[6] задумал украсить свою столицу по образу лучших городов далекого Востока. При завоевании каждого города арабы прежде всего строили мечеть и основывали при ней школу. Абдеррахман начал строить ту мечеть[7], которая до нашего времени вызывает удивление путешественников, несмотря на множество обезображивающих ее переделок. Припомним, что говорит один из наших туристов только об одном уголке этой мечети, о михрабе — часовне созерцания: «Надобно видеть, с какой изящной роскошью украсила ее арабская фантазия! Вся она из чистого белого мрамора, с маленькими колоннами, окруженными мозаикой из цветных кристаллов; всюду разбросаны изречения Корана, буквы из золоченых кристаллов, и около всего этого вьются самые роскошные, самые капризные арабески» (Боткин[8]).
Тот же халиф выстроил себе загородный дворец и окружил его обширными садами, которые засадил редкими растениями, вывезенными из Сирии и других стран Востока. Финиковая пальма, насажденная им, отлично привилась в мягком климате Андалузии и стала родоначальницей всех остальных пальм того же вида, растущих в Европе.
Тот же халиф покровительствовал поэзии и сам был поэтом. Остановим на несколько мгновений свое внимание на одном из его стихотворений, обращенном к одинокой финиковой пальме.
О, пальма стройная моя!
Себя ты чувствуешь чужою
В стране заката: ты, как я,
Разлучена с родной страною.
О, плачь!.. Но как же плакать ей?
Она безгласна, одинока;
Она не ведает скорбей,
Меня терзающих глубоко.
Когда б жила ты, как я сам,
Ты заливалась бы слезами,
К Евфрату, к пальмовым лесам
Летя крылатыми мечтами.
Стоишь без чувств ты предо мной;
Я сам почти забыл о милой
С тех пор, как бросил край родной,
Гонимый вражескою силой![9]
Благодаря образцовой системе орошения в Испании стало процветать земледелие. В то же время необычайно развилась и промышленная деятельность населения. Преемники Абдеррахмана шли по его стопам. Юноши с увлечением занимались науками в Кордове, Севилье, Толедо и других городах, сделавшихся научными центрами. Вообще начиная с X века в Испании проявляется необыкновенный интерес к научным знаниям. Образовательные экскурсии стали почти заурядными явлениями. Просвещенные обитатели Пиренейского полуострова совершали далекие поездки вдоль всего североафриканского побережья в Египет, а оттуда в Бухару или Самарканд, чтобы послушать лекции какого-нибудь светила науки. Одного увлекало стремление собрать предания о жизни и изречениях Магомета, другого влекли в такие поездки филологические интересы, третьи желали изучать под руководством прославленных знатоков право, медицину, астрономию или философию.
Отдельные такие путешествия предпринимались в Индию, в Китай и в глубь Африки. Многие из халифов с благородным увлечением собирали книги и полагали начало знаменитым книгохранилищам, другие расширяли их. Когда Кордовский халифат разделился на несколько самостоятельных владений, это политическое разделение только способствовало дальнейшему развитию культуры. Владетели соперничали друг с другом в просвещенном содействии наукам и искусствам. Толпами собирались при их дворах жрецы науки и искусства; их привлекали сюда и различные льготы, и богатые дары.
Сохранилось прекрасное сказание об арабском филологе Абу-Гамбе. Один из местных мавританских владетелей в Испании просил его посвятить ему свою книгу и послал ему в подарок за это тысячу червонцев, коня и роскошную одежду. Автор отослал подарки обратно и сказал при этом: «Я написал свою книгу, чтобы принести пользу людям, а себе доставить бессмертие; неужели же я украшу ее теперь чужим именем и отдам свою славу другому? Никогда!» Когда посланные передали владетельному князю слова ученого, он выразил свое удивление и вдвое наградил ученого за его труд. Таковы были покорители Испании, ближайшие соседи провансальцев.
Простите за это отступление, но вы сами чувствуете теперь его необходимость. Победители — христиане Пиренейского полуострова — сами поддавались обаятельному влиянию арабской культуры и, в свою очередь, распространяли это влияние на юг Франции. Мудрено ли после этого, что именно здесь развилась в полном блеске лирическая поэзия трубадуров?
Все указанные нами влияния подготавливали почву и создавали атмосферу для возникновения и развития этой литературы и вообще культурных условий жизни. Но необходимо отметить еще одно обстоятельство, с которым мы встречаемся в Испании и Южной Франции. Мы имеем в виду борьбу с магометанами. Эта борьба, происходившая и в самой Южной Франции и увлекавшая ее бойцов в Испанию, воспитала в населении Южной Франции воинственную отвагу. Церковь пошла ей навстречу и благословила ее. Так на провансальской почве выросло европейское рыцарство. Быстро распространилось оно отсюда по всем странам Западной Европы, так как вполне соответствовало понятиям и чувствованиям их населения. Не забудем, что именно здесь, в Южной Франции, раздалась впервые проповедь крестовых походов и отсюда уже охватила всю Западную Европу. Здесь создались те рыцарские идеалы, которые, конечно, всегда стояли выше действительности, но все же облагораживали ее. Без них жизнь была бы еще низменнее, еще грубее, еще насильственнее. Храбрость рыцаря, его великодушие, его идеалы чести и любви, его набожность нашли себе выражение в лирических песнях трубадуров. Рыцарство было новой и могучей силой в руках церкви. И нельзя не отметить его влияние на положение женщины. Отвергать это влияние нельзя, но необходимо рядом с ним отметить и другое — влияние испанских арабов.
Положение женщины у последних было свободнее, чем у других магометан. У них женщины принимали участие во всех сферах умственной жизни. Число женщин, прославившихся научными трудами и поэтическими произведениями, довольно значительно. По этой причине здесь и создалось то уважение к женщинам, которое едва ли знал мусульманский Восток. Союз мужчины с женщиной облагораживался наличием духовного сближения. Любовь мужчины воспламенялась не только под влиянием телесных совершенств, но и умственного превосходства любимого предмета. Нередко бывали такие случаи, когда два сердца соединялись в одном союзе под влиянием обоюдного влечения к музыке или поэзии. Это уважение к женщине, этот более возвышенный взгляд на нее нашли себе отражение в произведениях арабской литературы. Читая арабские стихотворения даже в переводах, мы поражаемся их необыкновенной грациозности, искренности и яркости красок. Сильно напоминают они «Buch der Lieder» Гейне[10]. Такой же свободой пользовалась женщина и на юге Франции. Здесь женщины могли быть обладательницами поземельной собственности. Они пользовались в обществе большим влиянием. На этой почве и возникло здесь так называемое служение дамам (domnei от слова domna — дама, госпожа, лат. domina).
Рыцарь-трубадур избирал себе даму, которая отличалась прежде всего молодостью и красотой, а также умом, прекрасными манерами и вообще любезным обращением с людьми. Он избирал ее себе как предмет рыцарской любви или служения. Один из трубадуров так изображает нам эту рыцарскую любовь: «В этой любви есть четыре степени: первая степень — любовь колеблющегося (feignaire), вторая — просящего, умоляющего (pregaire), третья — услышанного (entendeire) и последняя — друга (drutz). Тот, кто стремится к любви и часто ухаживает за своей дамой, но не осмеливается поведать ей свою муку, по справедливости может быть назван колеблющимся, боязливым. Но если дама оказывает ему столько чести и так ободряет его, что он осмеливается поведать ей о своей муке, такой человек вполне правильно может быть назван умоляющим. Если умоляющий своей речью и просьбами достигает того, что она удерживает его при себе, дает ему свои ленты, перчатки или пояс, он поднимается уже на степень услышанного. Наконец, если даме благоугодно выразить свое согласие на любовь поцелуем, она делает его своим другом». Избранный рыцарь терял свою свободу и становился в зависимость от своей дамы. Зависимость эта напоминала ту, в которую становился вассал от своего сеньора. Рыцарь становился на колени перед своей дамой, клал свои руки в ее руки и клялся служить ей верно до своей смерти и защищать ее от всякого зла, от всякого оскорбления. Она же объявляла, что принимает его в свою службу, обещала раскрыть для него свое сердце, вручала ему перстень, поднимала его с земли и давала ему свой первый поцелуй. Рыцарь носил любимые цвета своей дамы, которые всегда напоминали ему ту, с кем он был соединен клятвой. Само собой, что союз этот обусловливался свободным согласием сторон. Если рыцарь, обязавшийся служить даме, обладал поэтическим даром, он должен был слагать в честь нее стихи.
Распространение же последних, конечно, зависело от степени таланта их автора. Здесь необходимо отметить одну особенность южнофранцузского рыцарства. На юге Франции рыцарское звание не было так тесно связано с обладанием землей, как на севере. Таким образом, и само обладание землей не было здесь принадлежностью феодальных привилегий. Чаще, чем где-либо, рыцарское звание распространялось здесь на средние классы и снисходило даже до виллана[11]. Безземельные рыцари образовали значительное сословие.
Свободные от вассальных обязанностей, полные господа в любви и ненависти, они поступали на жалованье к богатым баронам и крупным владельцам. Не было ни одного сколько-нибудь известного двора, при котором нельзя было бы встретить этого добровольного воинства рыцарей, независимых в силу самой своей бедности и совершенно непохожих на тех рыцарей-вассалов, которых сюзерен созывал для безвозмездной службы. Тем с большим жаром защищали они свое благородство: наиболее восторженные из них жертвовали жизнью, чтобы защитить это священное в их глазах наследие, заменявшее им наследственную землю. Они охотно останавливались в тех местах, где ожидало их приятное времяпрепровождение. Они-то и были жрецами служения дамам. Многие из этих странствующих рыцарей делались трубадурами; благодаря этому поэзия рассматривалась здесь как благородное занятие. Она была одним из цветков рыцарского венка.
В прежнее время по вопросу о возникновении провансальской поэзии высказывались, между прочим, взгляды, выводившие это явление из античного мира, из Древнего Рима или от арабов. Потом появилось новое направление, сводящееся к положению о полной самобытности южнофранцузской литературы. Само собой разумеется, что все эти взгляды, не исключая и последнего, страдают односторонностью. В каждом из этих взглядов есть доля правды, но преувеличенная до больших размеров. Приводя к одному знаменателю все сказанное нами выше по вопросу о возникновении блестящей лирической поэзии на юге Франции, мы останавливаемся на следующем положении. Провансальская литература выросла на родной почве, как ее лучший цветок, но в образовании этой почвы, в создании необходимых для полного его расцвета условий участвовали и римская культура, и арабы Испании.
Местным началом провансальской поэзии были народные песни, дошедшие до нас, к сожалению, только в незначительных обрывках да в некоторых припевах. Распевались эти песни на сельских хороводах. Кроме того, от времен Рима сохранились бродячие певцы, жонглеры, которые нередко импровизировали на разные темы. Сперва они распевали свои песни на народном латинском языке, а потом и на провансальском наречии. Песни эти были разнообразного характера — и лирические, и повествовательные, и комические, и серьезные, и духовные, и светские. Распевались они на площадях, на турнирах, в замках.
Пение сопровождалось простым, однообразным аккомпанементом. Жонглеры смешивались в одно сословие с различными фокусниками, фиглярами и шарлатанами, выдававшими себя за волшебников и магов. Они должны были уметь играть на разных инструментах, танцевать, бросать ножи и ловко ловить их, подражать пению птиц, скакать сквозь обручи. Нередко они водили с собой обезьян или собак, потешали публику марионетками; последние представляли собой подобие нашего Петрушки. Они могли удовлетворять только низменным вкусам. Потребностям же более утонченного вкуса, когда последний народился, стали отвечать трубадуры. Потребности же эти народились постепенно, под воздействием многих, уже выясненных нами обстоятельств.
Таким образом, трубадуры имели своих предшественников в жонглерах. Но и с появлением последних жонглеры не перевелись. Одни из них продолжали заниматься прежним делом, другие примкнули к трубадурам. Они стали помогать им слагать мелодии, пели их стихи, аккомпанировали им на своих инструментах. Наиболее употребительным из последних была виола. Виола — одна из прабабушек нашей скрипки.
Усовершенствования в области струнных инструментов начались с XII века. Наиболее древним видом их является крута (crout, crotta). Она представляла собой продолговатый ящик с закругленными углами. По бокам этого звучного ящика делались выемки, но не слишком заметные. Рукоятка не была верхней надстройкой корпуса, как мы видим это у гитары или скрипки, а приделывалась к самому корпусу с его оборотной стороны, так что играющий на круге брал этот инструмент за его дно. Для пропуска пальцев на переднюю доску круты, на струны, в соответствующем месте ящика заготавливались отверстия; благодаря этому левая рука, которой играющий держал инструмент, не была видна, видны были только пропущенные в отверстие пальцы. В правую руку музыкант брал смычок; он бывал и прямым, и сильно согнутым, снабжался только одной проволокой или, как и теперь, пучком волос. Сначала крута снабжалась только тремя струнами, потом это число было увеличено еще одной и, наконец, дошло до шести, но две из них не модулировали.
Кругу сменила рота. Она уже приближалась по форме к нашей виолончели; над корпусом у нее находим шейку; тут уже не было того стеснения левой руки играющего, которое мы замечаем в круте.
И на круге, и на роте играли так, как теперь играют на виолончели или контрабасе. Иное дело — виола. Этот инструмент, представлявший собой ту же роту, но в уменьшенных размерах, прикладывался играющим к груди или к подбородку, как это делают теперь со скрипкой. Последняя, изобретенная в Италии, вытеснила из употребления свою предшественницу. Очень может быть, что само название «виола», означающее «фиалка», произошло от верхнего конца ее шейки, которому придавалась форма, напоминающая строение цветка.
В изобретениях этих инструментов и в усовершенствовании их принимали участие Англия, Франция и Италия. Крута распространялась из Англии, рота — изобретение французов, Италия — родина скрипки. Кроме указанных инструментов, бывших в руках жонглеров и трубадуров, шпильманов[12] и миннезингеров, часто упоминается еще гига (старонем. gige; нем. geige; во французском языке превратилось в gigue).
Каждый из трубадуров имел при себе одного или нескольких жонглеров, смотря по своим средствам. Жонглеры всецело зависели от своих трубадуров. Вот что говорит один из трубадуров про своего жонглера: «Я бы мог легко погубить его: для этого стоило бы только не передавать ему моих стихотворений, и тогда не нашлось бы ни одного человека, который накормил бы его или позволил ему переночевать у себя хотя бы одну ночь». Жонглеры не только кормились трубадурами и жили у них, но получали еще частицу тех наград и подарков, которые выпадали на долю трубадуров. Прекрасно характеризует положение жонглеров рассказ, написанный в XII веке: «Один жонглер пришел к королю. Тот посадил его за стол вместе с другим жонглером. Жонглер, ранее прибывший, позавидовал своему товарищу, так как последний больше него понравился королю и его придворным. И он задумал высмеять его перед всеми. Для этого он собрал потихоньку все кости, оставшиеся от съеденного присутствующими мяса, и положил все эти кости перед своим товарищем. После этого он показал королю на груду костей и, питая в душе злой умысел, сказал ему: «Государь, мой товарищ съел мясо со всех этих костей». Король косо посмотрел на него. Обвиненный же жонглер сказал, обращаясь к королю: «Государь, я поступил по-людски, съел мясо, а кости оставил, мой же товарищ, как собака, съел и мясо, и кости».
Кроме жонглеров, сопровождавших трубадуров, оставались еще и такие, которые бродили из замка в замок, из города в город, или в одиночку, или целыми толпами. Они не только проделывали различные фокусы, но распевали песни, рассказывали сказки: последние передавались ими большей частью в стихотворной форме. Вот эти-то бродившие целыми ватагами жонглеры содействовали тому, что само имя жонглера стало чем-то достойным презрения. Кроме жонглеров существовали и жонглерессы; они бродили вместе и принимали совместное участие в представлениях. Вот как отзывается о бродячих жонглерах Ригор, средневековый историк (XII и начала XIII века), написавший историю Филиппа II Августа:
«Дворы королей и других влиятельных особ — обыкновенное место встречи целой толпы скоморохов, которые приходили туда, чтобы урвать себе что-нибудь: золото, серебро, лошадей, одежду, которой они часто меняются; они с намерением говорят забавные вещи, приправленные лестью. Чтобы понравиться наверняка, они подделываются под вкусы своих слушателей, без отдыха заливают их потоком самых необузданных и смешных любезностей, веселых и безнравственных сказок. Мы видели владетельных особ, которые, поносив едва восемь дней платье, изукрашенное рисунками, сделанными с громадным трудом, усеянное чрезвычайно искусно изготовленными цветами, купленное за 20 или 30 серебряных марок, отдавали его при первом появлении шутов». Но Ригор был монахом (монастыря Сен-Дени); поэтому его отзыв можно заподозрить в пристрастии; с другой стороны, он так говорит о дорогой одежде, что невольно возникает подозрение, что он желал бы видеть эти дорогие и прекрасные ткани принесенными в дар своему аббатству.
Послушаем же, что говорит светское лицо, один из поэтов XIII века («Beuve de Hanstone»[13]): «Жонглер — человек неблагопристойный; он проводит всю свою жизнь за игрой, в тавернах или местах еще худших. Только он заполучит немного денег, как сейчас же тащит их туда. Когда у него нет ничего, он идет к еврею и закладывает ему свой музыкальный инструмент. Жалко смотреть на него, оборванного, босого, без рубахи при северном ветре, в дождь. Но, несмотря на все это, он всегда весел, его голова всегда украшена розами; он непрерывно поет и просит у Бога только одной вещи — чтобы все дни недели превратились в воскресенья». Справедливость требует согласиться с тем, что жонглеры не добывали себе средств к жизни без труда. Сколько нужно было иметь им ловкости и уменья, чтобы держаться при дворах или в замках! «Умей, — обращается к новичку-жонглеру мастер этого дела, — умей творить и приятно рифмовать, хорошо говорить, предлагать различные забавы, вертеть бубен, играть на кастаньетах и на симфонии[14]. Умей бросать и ловить ножами маленькие яблоки, играть на ситоле[15], на мандоре[16], скакать через четыре обруча, играть на арфе, на гиге и пользоваться своим голосом. Играй весело на псалтерионе[17]; заставляй звучать десять струн. Научившись, ты сможешь справляться с десятью инструментами. Ты расскажешь потом, как сын Пелея разрушил Трою…»
С течением времени жонглеры стали называться менестрелями (старофр. menestrel, англ, minstrel). В продолжение всех Средних веков между этими названиями не существовало никакой разницы. Нетрудно прийти к тому выводу, что положение жонглеров, служивших трубадурам, было лучше сравнительно с положением жонглеров описанного нами вида.
Случалось, что прозвище жонглера давалось и трубадурам. Вот, например, как жалуется на это трубадур Сордель[18]: «Большая несправедливость называть меня жонглером: он следует за другими — напротив, другие следуют за мной; я даю, не получая за это ничего, а он получает, ничего не давая; всем, что он при себе имеет, он обязан милости других; я не беру ничего, что могло бы мне принести бесчестие; скорее, я раздаю свое, не желая подарков». Но это заявление не может быть отнесено к большинству трубадуров, в силу своей бедности не пренебрегавших дарами богатых и знатных покровителей.
Нас поражает большое число поэтов рыцарского происхождения. «Из пятисот южных трубадуров, — говорит Фориэль[19], — имена которых дошли до нас, по крайней мере половина принадлежит к рыцарскому сословию. В числе их много могущественных феодалов, графов, князей и даже королей». Таким образом, высшее сословие содействовало развитию поэзии в двух отношениях: оно покровительствовало ей, ласкало и одаряло трубадуров, оно и само выставляло из своей среды много выдающихся певцов; оно, по удачному выражению Дица[20], брало первый аккорд.
Особенно же много находило себе адептов искусство слагать стихи в среде безземельных бедных рыцарей (например, Раймбаут де Вакейрас[21] и др.) Но среди трубадуров не были люди исключительно рыцарского происхождения. Зная необычайное развитие городской жизни на юге Франции, богатство и культурность городов, исходя только из этого общего положения, мы заранее ответили бы в утвердительном смысле на вопрос об участии в поэтической деятельности представителей городов. Об этом свидетельствуют произведения трубадуров, вышедших из рядов буржуазии (например, Фолькет Марсельский[22], Пьер (Пейре) Видаль[23] и др.) Были в среде трубадуров и лица темного происхождения, и даже беглые монахи. Монах Монтодон сделался странствующим певцом с разрешения своего настоятеля, который потребовал при этом, чтобы заработок монаха-жонглера шел в пользу монастыря.
Где же формировались эти поэты? Существовало ли правильно устроенное общество трубадуров или школа, в которой они учились своему искусству? До XIV века, то есть до времени упадка лирической поэзии, таких обществ не было. Школ также не существовало. Если бы существовали такие школы, то их влияние сказалось бы и на произведениях трубадуров; между тем таких однородных черт и выражений, которые можно было бы приписать школьному влиянию, в произведениях трубадуров не встречается. С другой стороны, до нашего времени дошло много стихотворений критического содержания, в которых трубадуры критикуют произведения своих коллег, но ни в одном из них нет критики форм, нет указаний на какие-либо заранее установленные правила, критике подвергается только мысль, высказанная автором. Наконец, будь такая школа, о ней непременно сохранилось бы хоть беглое известие, но такого известия нет. Здесь, на юге Франции, господствовала полная свобода, царили личные приемы, личные склонности. Правда, молодые трубадуры учились у старых, прислушивались к песням наиболее известных певцов. Таким образом, существовали известные традиции, которые и передавались одним поколением другому. «Я имею вокруг себя довольно наставников, — говорит один из трубадуров, Жоффруа Рюдель[24], — луга, сады, деревья и еще пение птиц». Не было на юге Франции и правильно устроенных, периодически происходивших поэтических состязаний. Если и встречаются у летописцев указания на увенчание лавровым или золотым венком того или другого из замечательных трубадуров в торжественном собрании, то на них приходится смотреть как на явления случайные.
В прежнее время господствовала гипотеза о существовании в Средние века особых судов (cours d’amour), которые разрешали возникавшие спорные вопросы или недоразумения в сфере любви и имели свои собственные уставы. Вот что находим по поводу них у одного из французских писателей, правда довольно легкомысленного[25]:
«Вот мы дошли, наконец, в своем изложении до одной из интереснейших и характерных черт тех отдаленных столетий, которые занимают наше внимание, до одного из самых оригинальных, самых колоритных и самых культурных учреждений, существовавших в Средние века. Дамские парламенты, в которых прабабушки наши, жившие в эпоху Крестовых походов, постановляли всеми уважавшиеся решения в форме, практикуемой в обыкновенных судах, казались историкам фактом столь странным, что большая часть из них оставила в тени существование этих судилищ. Эти куртуазные ассизы долгое время считались даже за простые вымыслы поэтов». Автор, слова которого мы только что привели, пытается доказать, что сомнения в действительном существовании таких судов — простое заблуждение, что суды действительно существовали, а решения дам-судей постановлялись на основании особого кодекса (code d’amour). Он пытается доказать верность своего положения ссылками на современных описываемой им эпохе летописцев и заключает свое рассуждение следующими словами: «Суды любви не принадлежат только к обширной области поэтических фантазий».
Автор верит в существование подобного кодекса и рассказывает легенду, действительно жившую в поэтическом во-обряжении средневекового общества: «Как и все священные книги, пред которыми преклоняется человеческий разум, и эта книга, составленная из золотых листочков, на которых были начертаны догматы новой веры любви, имела таинственное и легендарное происхождение. В течение целого ряда веков этот идеал сердечных откровений, удерживаемый могущественным волшебством в когтях символического сокола при дворе короля Артура, дожидался, чтобы какой-нибудь рыцарь возымел отвагу разрушить волшебные чары и овладеть им». Затем автор серьезно задается вопросом, в каких костюмах творили дамы свой суд, в обычных ли, или были особые судейские мантии, в которые облачались они для таких случаев? Убеждение в верности своего взгляда сообщило изложению автора поэтический колорит, но убеждение это совершенно неосновательно.
Еще Диц убедительно доказал это. «Никогда, — говорит он в своем классическом исследовании, — никогда не существовало формально установленных и постоянных cours d’amour, куда приходили бы любящие друг друга существа выставлять, вопреки всем правилам благопристойности, на глаза общества свои несогласия и тайну своих отношений. В случае несогласия или ссоры и невозможности сговориться обе стороны обращались к одному или нескольким лицам, иначе говоря, к маленькому и совершенно случайному трибуналу, избранному заинтересованными сторонами; обыкновенно спорящие не доверялись избранным судьям иначе, как под охраной анонимности и при посредничестве третьего лица. Не существовало ни закона, ни кодекса любви, которые могли бы применять дворы или судьи. Но в случайно составлявшихся кружках, куда входили только приглашенные лица, благородные рыцари и приятные замковладетельницы, любили упражняться в остроумии: поднимали трудные вопросы из области любовной науки, обсуждали их, давали их разрешение. Это было просто приятным препровождением времени в обществе». В очерке, посвященном жизнеописанию и поэзии Бертрана де Борна, мы увидим блестящее подтверждение только что приведенного здесь положения. Подтверждение этому найдем и при рассмотрении тех видов, на которые подразделялись произведения лирической поэзии трубадуров.
Как же подразделяются эти произведения? Древнейшая и самая простая лирическая композиция называлась у трубадуров словом vers (лат. versus — стих). Тем же словом трубадуры называли и произведения народной поэзии. Как в произведениях народной поэзии, как в церковных латинских гимнах древней формации, так и в элементарных стихотворениях трубадуров, в их vers, обыкновенно повторялась одна и та же рифма (прованс. rima, rim), а именно — мужская, то есть односложная.
Скоро этот вид поэзии, содержание которого сводилось почти исключительно к любви, был брошен трубадурами, которые стали писать кансоны, или канцоны (прованс. canso; uт. canzona). По форме кансона является более совершенной сравнительно со своей предшественницей. Кроме изображения чувств любви и восхваления любимого предмета, она употреблялась для прославления благодетелей или умерших и заметно клонилась в сторону сюжетов религиозных. Приведем как пример кансону Арно (Арнаута) де Марейля (Arnaud de Marveil), талантливого певца, происходившего из самого низкого общественного слоя, но любившего графиню Аделаиду, дочь Раймунда V, графа Тулузского, и воспевшего ее.
Все о ней говорит: утром ранним заря,
И цветы, что весной украшают поля,
Все твердит мне о ней, о прекрасных чертах,
И ее воспевать побуждает в стихах.
Ее первой красавицей мира готов
Я назвать, хоть и много на свете льстецов;
Прозывали они так красавиц своих;
Имя точное ей то прозвание их[26].
Третьим распространенным видом был сирвента (прованс. sirventes). Она резко отличается от кансоны, так как в ней воспеваются война, мщение, ненависть, а не любовь.
По счастливому выражению Обертина[27], в сирвентах воспевали все алчные и сильные страсти, которые спускаются с цепи личными интересами и политикой. Как лучшим орудием им пользовались знатные владетели в борьбе со своими противниками. К сирвенте можно применить то, что Пушкин сказал про эпиграмму:
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Изложу на тетиву тугую,
Послушный лук согнув в дугу,
А там пошлю наудалую —
И горе нашему врагу!
Этот вид лирической поэзии отличался лихорадочным жаром памфлета, горечью и колкостью сатиры. Само название «сирвента» происходит от латинского слова servire, что значит «служить». Сирвентами назывались такие песни или стихотворения, которые писались придворным поэтом, состоящим на службе у своего сеньора. Это были служебные стихотворения. Конечно, трубадуры могли слагать их и для своих собственных потребностей, высказывать в них свои собственные взгляды.
Нередко сирвента посылалась врагу вместо вызова на войну. Если другой поэт желал ответить на сирвенту, то был обязан сохранить в своем ответе ту же форму, воспроизвести те же рифмы. Сирвенты не щадили никого, не останавливались, замолкая, ни перед кем; не было такого величия, которое могло бы остановить их убийственный полет. Они летели в любого без разбору, как никого не разбирает на войне пуля. Не всегда авторам этих злобных произведений отвечали сирвентами. Поэт Маркабрюн[28] заплатил своей жизнью за сирвенту, на которую было трудно возразить.
Конечно, сирвента не давалась всякому: необходимо было иметь для этого известные задатки в своем характере. Самым известным слагателем сирвент был Бертран де Борн, которому мы посвящаем отдельный очерк. Но и здесь, как везде и всегда, жизнь не шла по предписаниям теории, и два различных стихотворных вида — кансона и сирвента — нередко сливались в одно целое.
Трубадур Пьер Видаль вплетал в свои кансоны политический элемент и заканчивал свои сирвенты похвалой в честь своей возлюбленной. Если кансона, оплакивая умершего, игравшего при жизни большую роль, приобретала политический характер, то она сближалась с сирвентой. Особым видом сирвенты была крестовая песнь, имевшая отношение к борьбе с неверными в Сирии и Испании.
Сами трубадуры редко участвовали в Крестовых походах, но не щадили своей энергии на призыв рыцарей к священной войне. Может быть, они предпочитали опасностям и лишениям на Востоке спокойную и приятную жизнь при дворах владетельных особ Прованса. Впрочем, некоторые из них прославились и романтическими похождениями на Востоке.
Жоффруа Рюдель был известен во Франции своими песнями и отличным голосом. Он влюбился в триполитанскую графиню Годьерну, которой никогда не видел, но много слышал о ее доброте и куртуазности от пилигримов, возвращавшихся с Востока на родину. Он сочинил о ней много прелестных песен и положил их на музыку. Увидя портрет графини, Рюдель захотел лично повидать ее, а для этого вступил в число крестоносцев и пустился по морю. Напрасны были все увещевания друзей, старавшихся отклонить его от задуманного предприятия. Друзья как будто предчувствовали грустную развязку. Дорогой поэт заболел и приехал в Триполи едва живым. Когда корабль вошел в гавань, в городе распространилась весть о том, что на нем приехал рыцарь-поэт, привлеченный в этот далекий край молвой о графине, что он опасно болен и, прежде чем умереть, желает увидеть графиню. Годьерна, тронутая преданностью и несчастьем рыцаря, отправилась к нему на корабль, подошла к его постели, обняла его и подарила ему свой перстень. В объятиях прекрасной Годьерны трубадур скончался. Графиня велела похоронить его тело в храме тамплиеров, а сама в скором времени вступила в монастырь.
На этом прелестном рассказе французский поэт Ростан[29]построил свою поэтическую драму-сказку «Принцесса Грёза» (La Princesse lointaine).
Из других главнейших видов поэзии трубадуров остановимся еще на двух — на тенсоне, или тенцоне (фр. tenson; прованс. tenso), и пасторели, или пастурели (фр. pastourelle).
Тенсоны представляют собой рифмованные диалоги. В них изображался поэтом спор по какому-либо вопросу. Тенсона слагалась не одним, а двумя поэтами, из которых каждый защищал свое мнение. Каждому из спорящих уделялось по строфе. Поэт возражающий должен был повторить рифмы своего противника, что выдерживалось всегда, по крайней мере в трех первых строфах. Противники не только защищали свое мнение, но и едко нападали друг на друга. Иногда в оригинальных произведениях изображался спор не между двумя трубадурами, а между трубадуром, автором тенсоны, и воображаемым противником. Иногда выводились в тенсонах и аллегории. Так, например, в одной анонимной тенсоне, посвященной графине Фландрской, беседуют Разум и Приятная Мысль — соперники спорят за сердце поэта.
Тибо Шампанский изображает в тенсоне свой спор с любовью; несмотря на доводы любви, которая стремится его удержать, он отказывается служить ей. Анонимный поэт рассказывает в своей тенсоне, что ему удалось подслушать спор двух дам, не будучи замеченным ими, так как он ловко скрылся за кустами роз. Спор этих дам и является содержанием тенсоны. Одна из дам сообщила про себя, что ее любят два рыцаря: один — богат, и в этом все его достоинства; другой — мужествен, отвечает всем требованиям куртуазности и прекрасен, но беден; кого должна она предпочесть? «Второго», — отвечает ей подруга. Первая дама возражает, но последнее слово остается не за ней.
Тенсоны не только слагались из пересылаемых трубадурами друг другу стихотворных возражений, но и разыгрывались в присутствии более или менее обширного общества. С этою целью лица, желавшие принять участие в этом занятии, посылали друг другу вызовы, как это делалось по отношению к настоящим турнирам. Одним словом, устраивались публичные диспуты. Обыкновенно диспутам этим предшествовали личные переговоры певцов; все приготавливалось заранее, импровизировали редко. Если в споре принимали участие более двух противников, он уже терял характер поединка, превращался в турнир (tomeyamen). Эти поэтические турниры были очень любимы в Средние века. С величайшим интересом относились тогда к решению вопросов, таких, как, например: «чего больше дает любовь — радостей или страданий?», «кто из влюбленных больше любит: тот, кто не может противостоять потребности говорить о своей даме, или тот, кто думает о ней только про себя?»
Дошедшие до нас тенсоны, плохо понятые тексты, сомнительные свидетельства, встречающиеся в средневековой литературе, и навели на неверное представление о существовании судов любви. Это представление распространилось и долго держалось в литературе. Теперь, как мы уже говорили, это представление отвергнуто.
Приведем в заключение разговора о тенсонах произведение этого вида, принадлежащее одному из замечательнейших трубадуров Гиро (Гирауту) де Борнелю (Guiraut de Bornelh), жившему в период расцвета поэзии трубадуров[30]. «Он был, — читаем в его биографии, составленной в конце ХIII века, — лучшим трубадуром из всех, бывших как до, так и после него: поэтому его и называли «мастером трубадуров» и называют еще до сих пор те, кто понимает его изречения, глубокомысленные и украшенные любовью и мудростью».
В тенсоне, предлагаемой нами вниманию читателей, спор идет о так называемой «темной манере» писать стихи. Дело в том, что существовало два направления: одно требовало ясности и простоты, другое — качеств прямо противоположных.
Первое направление было известно под именем светлой манеры (trobar leu), второе называлось темной манерой (trobar dus). Второе представляло некоторое подобие современного декадентства.
Тенсона передает спор между двумя поэтами, самим Гиро де Борнелем и Рембо Оранским, скрывающимся под псевдонимом Линор.
Тенсона эта была результатом их совместной работы. Некоторое время и сам Гиро был сторонником темной манеры, но в тенсоне он горячо отстаивает противоположное направление.
Гиро! За что вы так браните
Манеру темную писать
Стихи, хотелось бы мне знать?
Ужели тем,
Что ясно всем,
Вы дорожите так? Тогда
Ведь были б все равны всегда.
Сеньор Линор! прошу, поймите —
Как пишет кто, к чему мне знать?
Поэту волю нужно дать.
Но мило всем
Лишь то, над чем
Не утомится голова.
Вам мысль моя понятна, да?
Гиро! коль вы узнать хотите,
Мне нелегко стихи писать;
Зачем же труд мне прилагать?
Ужель затем,
Чтоб после всем
Казался вздором труд мой, да?
Лишь в тяжком видит прок толпа.
Линор! вниманье обратите —
Я, как и вы, тружусь всегда,
Но стоят ли стихи труда,
Когда их свет
Не знает? Нет!
Завидна доля песен тех,
Что создает поэт для всех!
Гиро! Мне дела нет, поймите,
Распространю ль я вещь свою,
Когда я лучшее творю!
Ведь суть не в том,
Что всем кругом
Известна вещь: и соль тогда
Ценней бы золота была!
Линор! Вы, верно, подтвердите,
Что, споря с милою своей,
Желает милый блага ей…
Кому стихи
Претят мои,
Тот пусть бранит, коль хочет, их
В среде приверженцев своих![31]
Гиро! О чем вы говорите,
Неясно мне, клянуся я
Всем небом, солнцем, светом дня!
Я — как во сне…
Лишь радость мне
Волнует сладко грудь мою;
Я огорченье прочь гоню.
Линор! Враждебно так, поймите,
Та отнеслась ко мне, в ком вновь
Хотел бы я возжечь любовь,
Что пред Творцом
Молюсь о том![32]
А что во мне родило пыл
И ревность речи, я забыл.
Клянусь, мне жаль — на Рождество
Вы уезжаете, Гиро!
Линор! Уехать должен я:
Зовет к себе король меня.
Обратимся к пасторели. Так назывались стихотворения, в которых изображалась беседа трубадура с пастухом или пастушкой. В XII и XIII веках этот вид стихотворений был в пренебрежении, но у позднейших трубадуров стал пользоваться большим вниманием.
Дело представляется обыкновенно так. Рыцарь, то есть сам поэт, бродит по деревне при восходе солнца; он преисполнен заботами или печалью любви. На самом лугу или на тропинке он встречает молодую пастушку, занятую обыкновенно украшением своей шляпы или распевающую какую-либо песню. Красота пастушки восхищает рыцаря. Он сходите лошади и предлагает ей свою любовь каким-либо более или менее открытым образом. До этого момента все пасторели схожи друг с другом; только после него обнаруживается разница.
Пасторели оканчивались или установлением любви между рыцарем и пастушкой, или же побоями рыцаря, которые наносились ему родственниками пастушки. Приводим для ясного ознакомления с пасторелями прозаический перевод большей части пасторели Гюи д’Юизеля (Ги д’Юссель[33]; Gui d’Ussel). Гюи, едучи верхом, встречает утром пастушку, которая пела и говорила со вздохом: «Несчастна та, которая теряет все, составлявшее ее радость!» Он просит ее рассказать о причине своего горя. «Сеньор, еще недавно я имела в своей власти того, в ком заключается теперь мое мученье. Его уже нет со мной; он удалился от меня и забывает меня для другой. Я страдаю, и если я пою, то делаю это лишь для того, чтобы обмануть себя в действительности того несчастья, которое убивает меня». — «Прекрасная! Сказать по правде, моя история совсем такая же: чем вы страдаете от того, кто вас покинул, тем же мучает меня одна вероломная особа. Я любил ее страстно, и вот, к своему великому вреду, она покидает меня для другого, которого я охотно погубил бы своими руками». — «Сеньор, вы можете найти средство отомстить за ужасный поступок, причиненный этой женщиной с вероломным сердцем… Я полюбила вас на всю жизнь, и, если вы желаете, мы можем заменить наше горе наслаждением и радостью». — «Милая девушка! Я должен благословлять вас; это мое самое дорогое желание; я должен объявить, что благодаря вам я пребываю здесь без всяких злополучий, радостный и свободный от всякого вреда». — «Сеньор, я забываю причиненное мне горе. Ваша любовь столь приятна, что я не желаю более и вспоминать о том зле, которое было мне причинено: так сладок бальзам, который вы изливаете на мою рану!»
Из остальных видов лирической поэзии трубадуров мы остановим свое внимание только на двух — обаде, или альбе (прованс, alba; старофр. aube или aubade), и серенаде (фр. serenade, от ит. serenata). Альба — песнь любви, она изображала перед слушателями чету любящих, принужденных утренней зарей расстаться. Постоянные лица этого вида стихотворений — двое возлюбленных и ночной сторож. Альба наполняется или жалобами самих возлюбленных, взаимными обетами или предостережениями по их адресу со стороны сторожа. Эти стихотворения ярко рисуют перед нами жизнь феодального общества. В замках Франции и Германии на верхушке башни дежурил сторож. Он оповещал о восходе солнца и, вероятно, об известных часах ночи — или голосом, или звуками какого-либо инструмента: то был обыкновенно рог, а иногда и тростниковая свирель. Он наигрывал какую-нибудь песенку или для того, чтобы разогнать свою скуку, или чтобы показать, что он не спит. В древнейших произведениях этого вида вместо сторожа напоминают возлюбленным о рассвете птички, обыкновенно — ласточки. Иногда альба заканчивалась утренней молитвой. Под серенадами разумели те стихотворения, в которых влюбленный призывал со вздохом наступление вечера, находя день, разлучающий его с избранницей сердца, слишком уж продолжительным. Припев повторял в конце каждой строфы в альбах слово «alba», в серенадах — «sers», что означает на провансальском наречии «вечер». Эти произведения отличаются своею грацией и простодушной меланхолией.
Наконец, только упомянем здесь балладу (balada) и дан-су (dansa) — легкие песенки, в которых имела большее значение мелодия, чем слова; эти песенки сопутствовали обыкновенно танцам.
Трубадуры старались тщательно отделывать свои произведения. Если Линор говорит в тексте Гиро де Борнеля: «Мне нелегко стихи писать», если Гиро отвечает ему: «Я, как и вы, тружусь всегда», — это не пустые слова. Трубадуры отличались прилежанием и даже хвалились им. Они употребляли выражения: «построить», «сковать», «сработать» стихотворение. Они работали над ним не спеша, с любовью и тщательно, как старинные мастера над бессмертными картинами. Поэтому-то трубадуры так дорожили своими произведениями и не терпели, чтобы в них производились какие-либо перемены посторонними лицами.
Можно смело сказать, что они были истинными художниками. Вот почему их произведения не утратили своей красоты, своего замечательного колорита до сих пор. До сих пор мы пользуемся наследием, полученным от трубадуров: это — куплет и рифма.
Поэзия трубадуров пережила три периода: во-первых, период возникновения и первого развития литературных форм, занявший X и XI столетия, во-вторых, период наибольшего процветания и блеска, приходящийся на XII и XIII века, и, в-третьих, период упадка лирической поэзии и постепенного исчезновения трубадуров в XIV и XV веках.
Именно к этому последнему периоду и относится учреждение в Тулузе «Консистории веселой науки» (la gaya scienza). Ее основали в 1323 году семеро тулузских горожан. Во главе ее стояли канцлер и семеро протекторов. Целью ее было поощрение поэтов к творческой деятельности. С этою целью каждый год в первое воскресенье после 1 мая происходили поэтические состязания на улице Августинцев. Одержавшим победу выдавались призы: за лучшую кансону или дескорт[34] выдавалась золотая фиалка; за сирвенты, пасторели и гимны Пресвятой Деве — серебряный шиповник; за баллады, дансы и за хорошие произведения первой группы, оставшиеся без награды, — серебряные ноготки. В 1356 году был составлен особый устав. По примеру университетов здесь стали раздавать различные степени. Но все эти попытки не привели ни к чему: никакие гальванические токи не могли воскресить к жизни трупа.
В начале настоящего очерка мы останавливали внимание на вопросе о причинах, вызвавших к жизни лирическую поэзию трубадуров. Теперь уместно ответить на вопрос о причинах ее упадка. Прежде всего причина этого упадка заключается в том, что лирическая поэзия французского юга пережила все стадии своего развития в кругу, начертанном ею для своей деятельности. Ни у одного из исследователей мы не нашли указания на это обстоятельство, а между тем его важность очевидна сама собою. Ее исчезновение было совершенно естественным явлением. Не нужно суровой осени для того, чтобы стал увядать тот или другой цветок. Ни безоблачное небо, ни могучее светило дня, ни благодатный воздух — ничто не спасет того цветка, для которого наступил назначенный ему предел жизни. Почти неуловима для глаза та тонкая грань, которая определяет два периода в жизни розы: высший момент расцвета почти сливается с первым моментом увядания. Лирическая поэзия трубадуров свершила все, что могла свершить. Ее песни были спеты, ее свечи догорели, ее жар остыл, ее кумиры разбиты… Она не создала себе новых, она не раздвинула своего волшебного круга. Живые родники, которыми питалась она, эта прекрасная дочь роскошного юга, иссякли.
Ей суждено было умереть, как всему живому, естественной смертью, но нашли одновременно с севера и юга грозовые тучи, которые ускорили эту смерть. Цветущее состояние Южной Франции было разрушено войнами, которые велись против нее крестоносцами севера по воле папы Иннокентия III. Его воля была исполнена в точности. Двадцать лет продолжались опустошительные войны, двадцать лет цветущие земли Южной Франции подвергались разорению. Умирающая поэзия юга стала в это время выразительницей злобного и мстительного чувства побежденных. Их неумеренный, как и все страсти, но совершенно понятный нам, посторонним судьям, гнев был направлен против Рима, изрекшего на них анафему, и против Северной Франции, взявшей на себя экзекуцию. На этой-то почве и выросло множество едких сатир против «обманов, измен, алчности, пороков и тирании духовенства», против хищной и вероломной жестокости северных французов.
В сирвентах, направленных против Рима, мы встречаем указания на те его пороки, которые вызвали впоследствии великое реформационное движение. Рим обвиняется в политике обмана, в чрезмерной алчности. «Рим, ты слишком преступаешь заповеди Божии, — читаем мы в знаменитой сирвенте Гильома Фигейры[35] (Guillem или Guilhem Figueira или Figera), — ибо алчность твоя так велика, что ты прощаешь грехи за деньги; ты взваливаешь на себя слишком тяжелое бремя…» Рим наносил кровавые удары Южной Франции не только потому, что она была пропитана альбигойской ересью, но и потому, что там процветала неприятная ему свобода совести.
Людовик Святой во имя человеколюбия и справедливости пытался загладить те бедствия, которые поразили Южную Францию в правление его отца и деда. Но разоренные гнезда баронов уже не вернули себе своего прошлого: оно погибло безвозвратно. Большинство трубадуров покидало те чудные страны, которые один из них (Филипп Муске[36]) объявил наследием, оставленным Карлом Великим трубадурам и менестрелям. Они бежали в Арагон, Кастилию, Италию; там угас последний отблеск их вечерней зари.
Но за вечерней зарею, за ночью, сверкающей звездами, восходит новая заря. Из смерти зарождается новая жизнь. Какие же семена жизни были брошены трубадурами из их богатой кошницы? Заслуга трубадуров состоит в том, что они привнесли в романский мир идею о поэзии, возвышенной по мысли, изящной по форме, способной удовлетворить лучшие умы и нашедшей свое выражение не в латинском, а в народном языке. Чтобы понять достоинство этой идеи, нужно представить себе то влияние, которое сохраняла литературная латынь, ту цепкость, с которой она держалась за обладание всяким возвышенным родом литературы, то упорство, с которым она старалась выдать себя за живой язык, тогда как в течение веков она была ничто. Трубадуры на деле доказали то, что после них доказал логически Данте в «Convito» («Пир») и «De vulgari eloquio», — достоинство народного языка[37].
Велика заслуга трубадуров в области стихотворной техники. Они насадили и культивировали в этой области самые разнообразные формы. И это семя, брошенное ими, не пало на почву каменистую, но было воспринято поэтами всех стран и народов и достигло богатого расцвета. Семена лирики трубадуров были занесены на север Франции и посодействовали там развитию искусственной лирики. Семена эти были занесены и в другие страны — в Испанию, Италию, Германию и Англию. Особенно сильно сказалось их влияние в Испании и Италии, в странах латинского мира.
Вообще в истории поэзии заслуга трубадуров громадна. Их поэзия была яркой вспышкой лиризма; такие вспышки не только не забываются, но не дают забыться и той стороне человеческого духа, которая проявляется в его поэтической деятельности.
Наконец, произведения трубадуров являются тем волшебным зеркалом, в котором много веков тому назад отразилась давно отошедшая жизнь со всеми ее особенностями, яркими достоинствами и яркими недостатками, да так и осталась отраженной до нашего времени. Одни и те же лица были и героями песен, и авторами их.
Таким образом, поэзия трубадуров не утратила своего значения для последующих поколений, не утратила своего интереса и значения и для нас. Мы как будто видим перед собой этих рыцарей-поэтов и в пылу сражений, и под сводами замковых зал. Отголоски их песен не замерли совсем и для нас; они еще продолжают звучать где-то далеко, далеко; не поблекли совсем яркие краски их поэзии, не развеялось совершенно в воздухе благоухание ее…
Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана — она еще цветет,
Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает![38]
Бертран де Борн
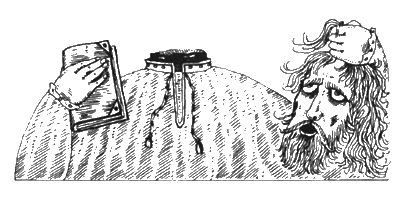
Я знаю все, что лгут вам про меня
Льстецы презренные, клянусь вам я!
Не верьте им, их речь полна обмана;
Не уклоняйте сердца своего
Вы от меня, служителя его;
Подругою останьтеся Бертрана.
Пусть улетит позорно ястреб мой,
Пусть дичь его погонит пред собой,
Пусть сокол мой его ощиплет в ссоре,
Коль ваша речь уж неприятна мне,
Коль я люблю кого на стороне,
Коль радость мне вдали от вас не горе!
Когда с щитом я еду за спиной,
Пускай меня продует ветер злой;
Пускай галоп меня в труху истреплет;
Пусть конюх мой, напившися вина,
Порвет узду, ослабит стремена,
Коль речь льстецов напраслины не клеплет!
Когда приду к игорному столу,
Пускай в игру пуститься не смогу,
Пускай при мне играют лишь другие,
Пусть кости мне приносят тьму вреда,
Коль я влюблен в другую был когда,
Коль раньше вас уж ведал о любви я!
В руках чужих пусть вас оставлю я,
Не отомстив, как олух, за себя;
Пускай попутный ветер мне не веет,
Пусть во дворце слуга побьет меня;
Пусть раньше всех уйду из битвы я,
Коль низкий лжец напраслины не сеет![39]
В этих строфах Бертран изобразил себя перед нами замечательно полно. В них прекрасно отразились как личность самого певца, так и особенность его поэтических произведений. Из тумана веков резко вырисовывается перед нами его личность: воображению нашему представляется человек пылкий, отважный, умеющий постоять за себя и делом, и словом, а слово его резко, метко и саркастично. Особенности его произведений заключаются в замечательной сжатости речи, образности выражений и своеобразности метафор, заимствуемых автором из различных сторон феодального быта. Они выхвачены целиком из этого быта и служат яркими иллюстрациями к нему.
Родился Бертран де Борн приблизительно в 1145 году в родовом замке де Борнов, находившемся в епископстве Перигорском в Гиэни. Вот какую характеристику Перигора находим мы в одной книге времени кардинала Ришелье: «Воздух там так чист и климат отличается такой умеренностью, что в стране этой редко видывали чуму. Она богата каменистыми крутыми возвышенностями, но плодородна; особенно же славится она каштанами; кроме того, в ней есть много алюминиевых и серных источников, очень полезных в медицинском отношении…» Вблизи замка, в котором родился один из замечательнейших трубадуров, была раскинута деревня и рос большой лес; тут же неподалеку протекал ручеек.
В этой-то живописной местности под ясным голубым небом Южной Франции протекли младенческие и отроческие годы Бертрана. Рано лишился он матери: ему было тогда всего семь лет. Эта утрата, без сомнения, сказалась на его характере, как она сказывается всегда. Мать не успела сообщить его характеру некоторой мягкости, не успела сгладить шероховатостей, не успела развить сердца, в чем состоит святой долг и высокая заслуга каждой матери. Девяти лет Бертран был отправлен в соседний монастырь, где через пять лет окончил образование. Монахи, как видно, не исполнили той задачи, которую не успела выполнить мать поэта. Но во всяком случае, монастырь оставил по себе хорошее воспоминание, так как поэт на склоне дней не нашел лучшего места для отдыха, для мирной жизни, чем монастырь, его воспитавший.
Четырнадцатилетним юношей он был отправлен в Пуату, в замок товарища по оружию и друга своего отца. Жил он здесь сначала, конечно, в качестве пажа, проходя практическую школу так называемой куртуазии, то есть учился вежливости и вообще светскому обращению. В замках крупных владельцев жили не только сыновья рыцарей, но и девицы рыцарского происхождения. Насколько эта практическая школа была полезна для молодых людей, можно судить по некоторым местам тех «Наставлений», которые написал для своих дочерей рыцарь де ла Тур. Он рекомендовал своим дочерям куртуазное обращение с людьми разного общественного положения. Более важным он считал даже куртуазное обращение с лицами, занимающими более низкое общественное положение. «Последние, — говорит он, — больше будут хвалить вас, распространять о вас более лестную молву, вообще принесут вам больше добра, чем люди знатные; почет, оказываемый людям высокородным, и куртуазное обращение с ними принадлежат им по праву; относясь же таким точно образом к людям, занимающим низшее общественное положение, мы повинуемся свободному движению гуманного сердца; простой человек считает такое отношение к нему за честь для себя и повсюду разносит похвалу и добрые отзывы о том или о той, кто оказал ему такую честь. Так, от людей малых, почитаемых нами, исходит большая похвала, распространяется добрая слава и возрастает с каждым днем». Кроме общих указаний, он дает ряд частных советов о том, как держать себя, как говорить, как отвечать, смотреть и т. п. Не исполняя этого, прибавляет он, многие девицы упустили случай выйти замуж. Подобные наставления, за исключением специально женских, слушал и наш трубадур и видел на живых примерах подтверждения им. Через четыре года, следовательно восемнадцати лет, он получил из рук священника благословенный меч и сделался оруженосцем. В этом звании он оставался недолго и два года спустя был посвящен в рыцари.
В это время его младший брат Константин женился на Агнесе де ла Тур и приобрел в приданое расположенный недалеко от родового замка Борнов крепкий замок Отфор с округом в 1000 душ населения. Вероятно, это обстоятельство и породило ту вражду, которая существовала, как известно, между братьями и даже возрастала с годами. Вскоре после возвращения Бертрана из Пуату на родину скончался их отец. Спустя несколько лет после этого наш трубадур отправился путешествовать и, между прочим, жил в Бордо, бывшем резиденцией Элеоноры, супруги английского короля Генриха II Плантагенета. Здесь он свел дружбу с сыновьями короля — Генрихом, Ричардом, приобретшим впоследствии прозвище Львиное Сердце, и Готфридом. В их среде он был самым старшим. На интимность их отношений указывает то обстоятельство, что каждого из них Бертран называл не по имени, а по их семейным прозвищам. Так, например, в своих произведениях, а по всей вероятности, и в личных сношениях Ричарда он называл Ос et Non (прованс. Да и Нет[40]), а Готфрида, которого особенно полюбил, именовал Рассой (Rassa) — на провансальском наречии это слово соответствует нашему слову «родня». Здесь же его пленила и вызвала с его стороны рыцарское служение красота их сестры Матильды, которую в своих произведениях он называл Еленой, сравнивая ее, очевидно, с той прекрасной гречанкой, похождения которой послужили поводом к Троянской войне. Но выход замуж молодой красавицы за знаменитого баварского герцога Генриха Льва разрушил смелые мечты юного Бертрана. Таким образом, с самого выхода своего в свет он стал вращаться в среде высшей аристократии. И это должно было наложить свою печать на его характер и поэзию. Бертран, как мы увидим, был проникнут до мозга костей аристократическими понятиями.
Элеонора была покинута своим царственным супругом и побудила сыновей к войне против отца. Надо полагать, что Бертран также принимал участие в этой войне. Правда, ни в современных хрониках, ни в стихотворениях Бертрана де Борна нет никакого прямого указания, подтверждающего это, но в пользу его верности говорят и дружественные связи трубадура с принцами, и вольнолюбивый его характер. Имейте в виду, что перу Бертрана принадлежит следующее стихотворение:
Повсюду мир — а все ж со мною
Еще немножечко войны.
Тот да ослепнет, чьей виною
Мы будем с ней разлучены!
Их мир — не для меня,
С войной в союзе я,
Ей верю потому,
А больше — ничему.
Можно смело сказать, что вся его жизнь прошла в войнах. В этих войнах Бертран проявлял необыкновенное увлечение, одинаково страстно работая и мечом, и пером. Мы не станем вдаваться здесь в подробности этих войн; это было бы и утомительно, и отвлекло бы нас от намеченной нами цели, и заслонило бы своей хаотической грудой образ самого поэта. Мы остановимся только на самых главных из них — на таких, которые характеризуют поэта и его музу.
Мы говорили уже о браке младшего брата Бертрана, Константина, и о приобретении последним прекрасного замка Отфор. Обладая этим замком, лучшим в округе, Константин был сеньором своего старшего брата, что противоречило феодальным понятиям и причиняло много неприятностей Бертрану, не умевшему подчиняться никакому авторитету. Очень может быть, что и тесть Константина, понимая ненормальность положения и предвидя вражду, передал Отфор в общее владение обоим братьям. Во всяком случае, Бертран начал войну против своего брата. Он напал на его замок, овладел им и объявил изменниками как своего брата, так и его сыновей, которые бежали из замка подземным ходом. Константин не захотел примириться с таким положением дел, хотя вообще был человеком рассудительным, любил покой и не был склонен к смелым планам и предприятиям. Он заключил союз с несколькими феодалами и, в свою очередь, пошел войной на брата, завладел замком и выгнал оттуда утвердившегося было там Бертрана. Последний созвал своих друзей и при помощи их осадил Отфор. Замок был крепок и на этот раз не сдавался отважному трубадуру. Борьба не приносила выгод ни той, ни другой стороне; вот почему обе стороны пошли на уступки, и между враждующими братьями был заключен мир на условии совместного обладания замком. На этом пока и остановились.
Наступил бурный 1183 год. Старший из английских принцев, Генрих, предъявил своему отцу требование, чтобы тот дал ему в ленное владение Нормандию или какую-нибудь другую страну. Король английский не исполнил этого требования, но обещался выдавать Генриху такое содержание, благодаря которому он мог бы жить настоящим королем, устроить ему двор и побудить его братьев, Ричарда и Готфрида, присягнуть ему как будущему королю Англии. Был назначен день для принесения возвещенной присяги. Оба брата явились в условленное место, Готфрид сразу же исполнил требование своего отца, но Ричард медлил с его исполнением, ссылаясь на договор, на основании которого он владел своей Аквитанией в качестве непосредственного вассала французского короля. С точки зрения феодального права подчинение Ричарда Генриху низвело бы его на целую ступень ниже. Кроме того, у Ричарда с Генрихом были еще свои собственные счеты. Ричард выстроил и укрепил замок (Клерло, Clairvaux) на той земле, которая после смерти отца должна была перейти к будущему королю Англии, то есть к Генриху.
Население Аквитании, в свою очередь, содействовало развитию вражды между братьями. Оно снарядило к Генриху посольство, которое высказало различные жалобы на Ричарда. Несмотря на уступку Ричарда, согласившегося в конце концов присягнуть брату, последний пошел против него войной. Бертран де Борн не мог оставаться спокойным зрителем этой войны. Он бросился в нее со всем пылом своей отваги, став на сторону Генриха, получившего прозвище «молодого короля».
В одной из своих сирвент, написанной по данному случаю, он гордо перечисляет баронов своей маленькой родины, Перигора, и при этом высказывает надежду на то, что его партия найдет поддержку не только из Гаскони — с юга, но и из Пуату — с севера. Он стремится втянуть в эту войну возможно большее число баронов. Ему уже заранее предвидится победа, и он зовет Ричарда, которому, однако, не отказывает в храбрости, прийти со своим войском и помериться с ним силой. Чтобы еще больше подзадорить его, Бертран напоминает ему о том, что Ричард воздвиг крепкий замок на той земле, на которой не имел права его строить. Наконец, как бы все еще недовольный размерами войны, он выражает желание, чтобы сторону Генриха принял и французский король Филипп-Август.
Война разгорелась с необыкновенной жестокостью. Наемные брабантцы Генриха вторглись в Пуату и Аквитанию. Ричард со своей стороны бросился на врагов со всеми своими силами. Эта война осложнилась для Бертрана новой войной с братом Константином. По всей вероятности, поводом к новому столкновению послужило разногласие братьев по политическим вопросам. Константин желал сохранить нейтралитет в борьбе английских принцев, чтобы не подвергнуть опасности свои владения. Совместное обладание Отфором было при таких условиях немыслимым. Началась борьба, в которой победа осталась на стороне трубадура. Тогда Константин обратился с просьбой о помощи к Ричарду. Ричард быстро откликнулся. Его возмутила измена Бертрана их старой дружбе.
Соединившись с одним из врагов Бертрана, он вторгся во владения дерзкого трубадура, отмечая свой след разрушениями и пожарами. Певец должен был смотреть из Отфора на дымящиеся развалины и опустошенные посевы. Помощь не подходила. Тогда Бертран разразился сирвентой, в которой злобно осмеял бездеятельность баронов. О, если бы они имели столько злоключений, сколько могут только иметь! Он жалуется на свое бедствие, на то, что он должен непрерывно обороняться, между тем как его страну разоряют и жгут и на него нападают все его враги — и храбрые, и трусливые. Это тем непонятнее для него, что он употребил всевозможные старания, чтобы пробудить баронов к деятельности и соединить их, сварить, как варят железо, но они созданы из жалкого материала, и тот дурак, кто связывается с ними. Он не ограничивается массовым обвинением, но называет некоторых баронов по именам. Например, одному из них трубадур бросает упрек в том, что он не трогается с места, не обращается к оружию, а живет, как купец; он настолько преисполнен ленью, что беспрестанно потягивается и зевает. Но скоро лист будет перевернут, грозится Бертран, он примчится сам на своем боевом коне, и, если встретится с толстяком из Пуату, толстяку этому придется почувствовать острие его меча.
Английский король долго не вмешивался в борьбу своих сыновей, но когда Ричарда стали одолевать, он пришел к нему на помощь.
Вмешательство короля дало решительный перевес стороне Ричарда. Генрих пошел навстречу отцу, попросил у него прощения, объявил ему, что готов отказаться от своего намерения, и лишь просил отца отобрать у Ричарда злополучный замок. Вообще Генрих отличался характером мягким и дружелюбным. Он так же не походил на своего брата Ричарда, которому не были чужды благородные побуждения, но который был человеком жестоким и ничего не уважающим, как Константин не походил на своего брата Бертрана.
На этот раз Ричард послушался отца и передал ему неправильно воздвигнутый замок. После этого король съехался со своими сыновьями в Анжере, где они поклялись хранить ему послушание и верность и поддерживать мир между собой. Ввиду совершившегося события большое число вое-ставших думало только о собственном спасении и предлагало мир Ричарду. Последний охотно принимал эти предложения, чтобы направить их силы против тех врагов, которые еще не сложили оружия.
Бертран де Борн принадлежал к последним: он считал себя связанным клятвой со своей партией, гневался на Ричарда за разорение своей страны и, должно быть, надеялся упорно сопротивляться Ричарду, сидя за крепкими стенами Отфора. Но надежде его не суждено было осуществиться. Ричард появился со своим войском перед замком и поклялся, что он не уйдет до тех пор, пока Бертран не покорится ему. Когда последний узнал об этой клятве и убедился в том, что подкреплений ждать неоткуда, то открыл ворота Отфора и попросил у Ричарда прощения.
Трудно сказать, чем руководствовался Ричард. Чувствовал ли он невольное уважение к гордому и до последней возможности сражавшемуся Бертрану? Или он вспомнил былые годы, те годы, когда его связывала с Бертраном нежная дружба? Как бы то ни было, увидев последнего у своих ног, он поднял его, обнял и простил ему все. Однако он ввел во владение Отфором и изгнанного оттуда Бертраном Константина.
На этот момент своей жизни трубадур написал сервенту. Хотя, говорит он в ней, я и потерпел неудачу, но я все-таки не унываю и буду снова стараться получить Отфор, который я передал Ричарду по его повелению. Так как он простил меня по моей просьбе и поцеловал меня, мне нечего опасаться с его стороны какого-либо вреда, которым раньше он грозился мне. После этого трубадур пересчитывает всех своих вероломных союзников из Лимузена, Перигора, Гаскони, Гиэни и Тулузы. В церкви Св. Марциала, говорит он, они поклялись быть союзниками Бертрана, но никто из них не помог ему в нужде. Один из них уверял его своим честным словом не заключать ни с кем никакого уговора без него, но нарушил свое слово.
Бертран никак не мог позабыть того, что некоторое время безраздельно владел Отфором, и обращается в той же сир-венте к Ричарду с просьбой или поручить ему охрану Отфора, или отдать ему этот замок в полное владение. Очевидно, он презирал своего невоинственного брата и не считал его способным удержать в своих руках столь любезное ему владение. Но главным виновником своих бед трубадур считал молодого Генриха и не отказал себе в удовольствии написать злобную сирвенту и против него.
В сирвенте этой он смеется над ним за то, что тот отказался от своих требований по отношению к Ричарду только потому, что этого потребовал его отец. Так как, по мнению Бертрана, Генрих будет не в состоянии более повелевать никакой страной, то может сделаться королем трусов; ведь и сам он ведет себя как трус, хотя и живет, как коронованная особа. Певец предсказывает Генриху, что последствием его позорного поведения будет для него утрата той любви, которой он пользовался в Пуату. Если он будет спать, мудрено будет ему господствовать в сане английского короля над Кумберлендом, покорять Ирландию и крепко удерживать власть над своими владениями во Франции. Теперь Ричарду нечего будет стесняться своих подданных и ласкать их из боязни популярности своего брата. Впрочем, прибавляет саркастически Бертран, Ричард и не стесняется своих подданных; скорее, он обращается с ними жестоко, захватывает и разрушает их замки. Таким образом, Бертран де Борн был недоволен и Генрихом, и Ричардом, хотя и выразил последнему покорность. Вся надежда его теперь обращается на третьего брата, Готфрида. Заключая свою сирвенту, он высказывает злорадное пожелание, чтобы старшим из них сделался Готфрид и чтобы за ним остались и королевство, и герцогство. Говоря другими словами, он замечательно развязно и откровенно желает Генриху смерти.
Скоро, однако, положение дел внезапно изменилось. Восставшие бароны, как мы знаем, уже согласились на мир с английским королем, и все, казалось, предвещало этот мир. Готфрид приехал по поручению отца, чтобы сговориться с баронами, но вместо того неожиданно перешел на их сторону. Восстание возобновилось, и Готфрид во главе брабантского отряда вторгся во владения отца. К восставшим присоединился и «молодой король».
Началась война отца с сыновьями. Война была жестокая. Когда Готфриду пришлось платить своим наемникам деньги, а их у него не оказалось, не долго думая он ограбил монастырь Св. Марциала, не пощадив и раки святого. Генрих не прекращал войны с отцом, несмотря на угрозу интердиктом; он говорил, что воюет не с отцом, а с Ричардом, желая избавить от его тирании население Пуату. В праздник Вознесения церковное проклятие поразило всех восставших против английского короля, кроме молодого Генриха: на него смотрели как на игрушку в руках восставших баронов.
Восставшим помогал и французский король. Таким образом, эта борьба была предвестницей разразившейся полтораста лет спустя Столетней войны.
Наш поэт употреблял все усилия к тому, чтобы вселить в слабого Генриха решимость продолжать борьбу. Последний стал неузнаваем, занимался разграблением монастырей и до такой степени раздражил когда-то любивших его лиможских граждан, что они встретили его целым градом камней, когда он подъезжал к их городу. Впрочем, дни его были сочтены. Он заболел лихорадкой; болезнь приняла дурной оборот, и врачи объявили больному о полной безнадежности его положения. Тогда Генрих отправил к отцу посланца, умоляя его о прощении, и просил навестить его. Чувствительное сердце отца повлекло его к умирающему сыну, но близкие к королю лица не советовали ему ехать, боясь, что болезнь это мнимая и в ней кроется какая-то хитрость. Отец послушался их. Король послал к умирающему бордоского архиепископа. Последний должен был объявить несчастному сыну, что отец прощает его, а в удостоверение вручить ему отцовский перстень. Генрих поцеловал этот перстень и отослал архиепископа к королю. Архиепископ должен был передать королю просьбу умирающего о помиловании аквитанских баронов и об уплате денег его рыцарям. После этого Генрих завернулся в плащ, повязал вокруг шеи веревку и велел положить себя на кучу пепла, которая была насыпана для этого на земле. Высказав затем желание быть похороненным в Руане с соблюдением церковных обрядов, он скончался.
Для аквитанских баронов эта смерть была невознаградимой потерей. Они лишились не только главы, но и повода к восстанию, потому что они и поднялись только для того, чтобы посадить «молодого короля» Генриха на место ненавистного Ричарда. Этому событию Бертран посвятил два стихотворения, первое из них мы приведем целиком в своем переводе, сделанном непосредственно с провансальского оригинала:
Когда бы все и слезы, и печали,
Потери все и бедствия земли
Слились в одно, одним бы горем стали,
То и тогда сравниться б не могли
Со смертью «молодого короля».
Печальна Юность, Славы скорбен вид,
Над миром тьма унылая лежит,
Исчезла радость, все полно печали.
Придворные и воины в печали,
Скорбят по нем жонглер и трубадур,
И смерть его нам грозный враг, едва ли
Не огорчила всех нас чересчур,
Похитив «молодого короля»:
И самый щедрый скуп в сравненьи с ним,
Со скорбью той, которой мы скорбим,
Сравнить нельзя, поверь, другой печали.
Ликуешь ты, виновница печали,
Гордишься, смерть, добычею своей:
Где рыцаря подобного встречали?
Кто был его отважней и честней?
Нет с нами «молодого короля»…
О, лучше, если бы Господь решил,
Чтоб с нами он теперь, как прежде, жил!
Не знали б мы тогда такой печали!
Ослаблен мир, исполненный печали,
В нем нет любви, а радость — лживый сон,
Страданья всюду доступ отыскали,
И с каждым днем все хуже, хуже он.
А в сердце «молодого короля»,
Как в зеркале, все отражалось, что
Есть в мире лучшего, и сердце то
Уже не здесь, и все полно печали.
Возносим мы к Тому свои моленья,
Кто в мир пришел, чтоб нас освободить,
Кто принял смерть для нашего спасенья:
Он — Справедлив, Он — Милостив; молить
Начнем за «молодого короля»
Мы Господа, чтоб Он его простил,
Чтоб Он его в том месте поселил,
Где нет болезней, скорби и печали[41].
Не меньшей грустью веет и от второго стихотворения. Поэт думает, что с этих пор уж больше не будут раздаваться его песни, так как вместе с «молодым королем» он утратил рассудок и дар песнопений. Но так как он боится, что немая скорбь убьет его, то он хочет говорить и просит у Бога, чтобы Он отправил его возлюбленного друга в место пребывания блаженных. Покойный с полным правом носил прозвание «молодого короля», так как был руководителем и отцом молодежи; да, он был бы королем всех придворных и императором всех храбрецов, если бы только жил подольше. Всем, что относится к войне, турнирам и служению дамам, он обладал в полном совершенстве, но так как все это потеряло в нем своего покровителя и поборника, то все оно и покинет вместе с ним этот безрадостный свет. У света оторван главный защитник не только рыцарских, но и товарищеских добродетелей, ибо все, что украшает свет, что скрашивает жизнь: дружеское обращение, готовность к услугам, приятный разговор, гостеприимство, соответствующая сану поступь, щедрость, превосходные пиры в обществе смелых и сильных сотрапезников с музыкой и пением, — все это теперь осиротело и не имеет покровителя. Принц, по словам Бертрана, слыл за избранного рыцаря, и со времен Роланда не было еще никого, кто мог бы помериться с ним в битве и на турнире, и слава его, как слава Роланда, распространилась повсюду на восток и на запад. Поэтому-то настоящая потеря постигла отнюдь не одного его, поэта, но всех, кто только был в соприкосновении с покойным принцем… В заключение Бертран объявляет, что со смертью друга самый свет со всеми своими обитателями не имеет более для него никакой цены.
Таким образом, в обоих произведениях принц Генрих выставляется образцом куртуазии и всех рыцарских добродетелей. Поэт увлекается до такой степени, что сравнивает его с Роландом, в котором воплотился идеал рыцарского мужества и служения долгу. Здесь кстати напомнить читателю о том, как отзывался Бертран де Борн о том же принце Генрихе в одной из своих сирвент: «И так как он будет не в состоянии более повелевать никакой страной, то может сделаться королем трусов; ведь и сам он ведет себя, как трус, хотя и живет, как коронованная особа…»
Обратите внимание на эти крайние противоположности, на эти противоречия: один и тот же человек выставляется и трусом, и Роландом, и «королем трусов», и «императором всех храбрецов». Эти крайности, этот гиперболизм — отличительная черта Бертрановой музы. Его муза обладала дикой, неукротимой натурой, страсть доводила ее до полного ослепления. Сопоставляя злобную сирвенту со вторым стихотворением, посвященным памяти английского принца, нетрудно прийти к выводу, не отмеченному исследователями: очевидно, этим вторым стихотворением певец хотел загладить ложь первого. Хронисты (например, Гервазий[42]) и другие провансальские поэты отзываются о принце Генрихе прекрасно. Но он обладал двумя взаимно обуславливающими друг друга недостатками: слабохарактерностью и непостоянством.
Смерть Генриха расстроила все войско восставших. О сопротивлении нечего было и думать. Каждый спешил добраться до своего гнезда, чтобы найти надежную защиту за крепкими стенами своего замка. Ричард гнался за бежавшими и уничтожал их по частям; отдельные бароны сдавались ему безусловно.
Скорбь короля не имела границ. Три раза он падал в обморок, когда принесли ему роковое известие о смерти сына. Рядом со скорбью в сердце короля пробудился страшный гнев против всех тех, кого он считал виновниками восстания: им он приписывал преждевременную кончину своего наследника. Он позабыл о предсмертной просьбе своего сына и весь отдался одному ужасному делу— делу мщения. Говоря о нем, мы вспоминаем одно место в прелестной повести известного немецкого историка и романиста Феликса Дана[43] «Odhin’s Rache» («Месть Одина»).
Бог Один, несмотря на все свои усилия, не мог сделать своей женой прекрасную невесту смертного: она все-таки вышла замуж за своего жениха. Один, забывая о неравенстве сторон, решился мстить людям, имевшим несчастье навлечь на себя его божественный гнев. В эти критические минуты долетает до Одина весть о восстании против него великанов. Один хватается за свое оружие и стремится вступить в борьбу с ними. Он хочет заглушить в этой борьбе тоску об утраченном навсегда счастье, хочет забыть в этой борьбе обаятельный образ смертной, за все свое несчастие, за свою неудачу, за свой позор он хочет отомстить великанам. Он весь отдался одному чувству, чувству мести.
Потоками крови, разрушением замков, пожарами стал мстить английский король баронам за свою невозвратимую утрату, хотя сын его пал жертвой болезни, которая легко могла постигнуть его и при иных обстоятельствах. Он овладел Лиможским замком и сровнял его с землей, а потом стал разрушать замки участников восстания. Очередь дошла идо нашего трубадура.
Английский король подступил к замку Отфор вместе со своим союзником, королем арагонским Альфонсом II. Они смотрели на Бертрана как на главного подстрекателя к братоубийственной войне. В стене Отфор была пробита стенобитными машинами брешь, через которую враги проникли в замок. В историческом объяснении к одному из стихотворений Бертрана воспроизводится в эпической простоте свидание поэта с королем после взятия Отфора: «И господин Бертран был приведен вместе со всеми своими людьми в королевскую палатку, и король принял его очень худо и сказал: «Бертран, Бертран, вы говорили, что никогда не имеете надобности и в половине только своего разума, но знайте, что теперь он необходим вам в полном объеме». — «Господин, — отвечал Бертран, — совершенно верно: он у меня потерян». — «Как же так?» — спросил король. «Господин, — сказал Бертран, — в тот день, когда храбрый «молодой король», сын ваш, умер, тогда я потерял и разум, и знания, и понятие». И тогда король понял то, что сказал ему со слезами Бертран о его сыне, от страдания скорбь вошла ему в сердце и на глаза, так что он не мог удержаться и упал от горя в обморок. И когда он снова пришел в себя, то сказал, не удерживая плача: «Бертран, Бертран, вы сказали правду; и понятно, почему вы потеряли свой разум из-за моего сына: ведь он любил вас более, чем кого бы то ни было на свете. И я из любви к нему дарю вам жизнь, и состояние, и ваш замок и возвращаю вам свою любовь и милость, дарю вам 500 марок серебра для покрытия убытков, которые вы потерпели». И Бертран пал к его ногам и благодарил его. И король удалился со всем своим войском»[44].
Едва окончилась война, как затеялась новая борьба Бертрана и его брата Константина из-за Отфора. В написанной вскоре после благополучного исхода неудачной войны против Ричарда и короля сирвенте Бертран заявляет, что испытывает сердечную радость, так как счастливо избежал опасности, хвалится своей храбростью и ловкостью. Король и Ричард простили его, а бароны могут воевать против него сколько угодно: он не отдаст ни одного куска от Отфора, а кто с этим не согласен, тот может начинать новую войну. Чтобы возможно отчетливее представить себе, как любил наш трубадур войну, обратимся к следующему, переведенному нами с оригинала стихотворению:
Пора весны приятна мне
С ее листвою и цветами;
Люблю и птичек я: оне
Лелеют слух мой голосами,
Что в роще весело звучат.
Приятно, если перед вами
Равнины стелются с шатрами,
И если рыцари спешат
Туда и в шлемах, и в бронях,
На боевых своих конях.
Приятно мне, когда летят
Гонцы, гоня перед собою
Людей, животных, и гремят
За ними воины бронею.
Во мне родят восторг живой
Осады замков крепких сцены;
Смотрю, как рушатся их стены
И тащат балки за собой;
И палисады все, и ров
Уж перешли во власть врагов.
Вот собралися на конях
Вооруженные сеньоры;
Всех впереди они в боях,
Они отважны, бодры, скоры;
Они умеют увлекать
Своих вассалов за собою.
Вот дан сигнал условный к бою,
Тут не приходится дремать:
Немало дела здесь для рук,
Удары сыплются вокруг.
Здесь меч, копье, там в перьях шлем
Иль щит разбил удар удалый;
Сперва любуюся я тем,
Как бьются храбрые вассалы.
В бою поверженных бойцов
В широком поле кони бродят;
Живые ж, если происходят
Они от доблестных отцов,
Рубяся, мыслят про себя:
«Скорей умру, чем сдамся я!»
Не даст питье мне, ни еда,
Ни сон такого наслажденья,
Что ощущаю я, когда
Заслышу крик в пылу сраженья:
«Вперед, туда!» В тиши лесной —
Коней осиротелых ржанье,
Вот слышно к помощи воззванье,
И кроет ров своей травой
Тела бойцов… Вон, погляди —
Лежит боец с копьем в груди.
В этом стихотворении Бертран де Борн весь перед нами[45]. Война была его стихией, его музой: он был поэтом войны. Для него война была тем же, чем охота для царя Алексея Михайловича[46] и водная стихия для Петра Великого[47].
Как ни защищает нашего трубадура Штимминг, трудно возражать против того, что в основе своей это была эгоистическая, суровая и злая натура. Конечно, вы не забыли, что английский король взял замок Отфор с помощью Альфонса Арагонского. И вот Бертран не может позабыть этого и чернит Альфонса в одной из сирвент до крайности. Он забрасывает грязью не только его общественную деятельность, но и его частную жизнь.
Он жадно собирал все нелепые рассказы, распространявшиеся про арагонского короля, и пускал их в свет, как дикари пускали на неприятеля свои ядовитые стрелы. И фамилия-то его, вошедшая теперь в славу, низкого происхождения, и все-то владения ее отойдут от нее в пользу соседей, и сам-то Альфонс — человек боязливый, только и делает, что откармливает себя и пьет вино в Руссильоне. Что же будет делать бедный король, если лишится своих владений? Бертран не задумывается над этим вопросом и решает его очень просто: король может отправиться в Тир (вероятно, в Крестовый поход). Но и на этом Бертран не успокаивается. По его мнению, Альфонс вряд ли может решиться на это: Альфонса будет отвращать морской воздух, так как этот король и робок, и изнежен. Читая эти злобные выходки трубадура против арагонского короля, мы должны иметь в виду, что Альфонс II присоединил к своим владениям Руссильон и Беарк, что его воспевали трубадуры как покровителя их «веселой науки», что он сам, наконец, был одним из известнейших трубадуров. Что касается его отношения к жонглерам, говорит в той же сирвенте Бертран, то следует заметить, что некоторым из них он раздавал платья и небольшие денежные подарки. Но, по мнению Бертрана, это обстоятельство только ухудшает положение дела, так как Альфонс, тратясь на одного из них, возмещал свои убытки на других. При этом Бертран приводит в пример совершенно немыслимый факт, рассказывая, будто Альфонс предал одного из жонглеров евреям, а те сожгли его. Конечно, Альфонс — клятвопреступник и в военном деле ничего не смыслит: что это за король, который зевает и потягивается, когда ему говорят о войне? В заключение Бертран пускает последний козырь, насмешливо объявляя, что прощает королю все зло, которое тот причинил ему. Главная вина, конечно, не в нем: он слишком труслив для этого. Он сам по себе не посмел бы сделать ничего, а делал только то, что приказывал ему делать граф Ричард (Львиное Сердце). Единственной целью всего его похода был денежный заработок, и он не устыдился, хотя и король, принять деньги от простого вассала, именно от Ричарда.
Вскоре после окончания войны, которую в главных чертах мы проследили, началась новая война. Английский король потребовал от Ричарда, чтобы тот отказался от Аквитании в пользу своего младшего брата Иоанна (Безземельного). Ричард попросил два-три дня на размышление, чтобы обсудить этот вопрос со своими друзьями.
Время было дано. Воспользовавшись им, Ричард покинул тайком королевский двор, направился в Пуату и послал оттуда своему отцу объявить, что он не допустит, чтобы Аквитанией владел кто-нибудь другой, кроме него. Король был недоволен, но старался действовать и лаской, и угрозой, прося если не всей, то по крайней мере части Аквитании для Иоанна. Ричард отвечал решительным отказом. Тогда король поручил Иоанну собрать войско и силой отнять Аквитанию у Ричарда. Иоанн заключил союз со своим братом Готфридом, и началась новая война. Бертран кинулся и в эту войну, приняв на этот раз сторону Ричарда. Принял он участие и в той войне, которая загорелась несколько лет спустя между королями Англии и Франции. К этой последней войне относится следующая сирвента Бертрана. Написана она в короткий промежуток перемирия. Предлагаем его здесь в переводе, сделанном нами с провансальского наречия:
Расцвет пленительной весны
Я вижу полный пред собою.
Кто может хмуриться весною?
Такой веселою порою
Быть должен каждый из людей
Доступней чувству, веселей,
Чем был он в пору зимних дней.
Дни мира для меня скучны;
Иванов день все не приходит,
И день так медленно проходит,
Как тридцать дней; меня изводит
Их милый мир. Когда бы мне
Уступлен город был Дуэ,
Желал бы взять я и Камбре.
О, пусть виновник тишины
Болячку на глаза получит!
Ах, этот жалкий мир наскучит!
Что даст он нам? чему научит?
Что лучше времени и нет,
Как время битв, волнений, бед,
Филиппу[48] то не знать не след.
Он не знавал еще войны:
Еще при нем не отсекали
Ни рук, ни ног, мечом из стали
Голов в сраженьях не снимали;
Не показали ни Руан,
Ни Сэ ему болящих ран;
Он, говорят, в войне профан.
Филипп, король большой страны,
Не вел в ответ на оскорбленья
Войны кровавой, полной мщенья;
Да, в этом мало поученья!
Потом бы отдыха вкусил!
Коль юный битв не полюбил,
Он будет слаб, он будет хил!
Взгляни хоть с этой стороны,
Король Филипп: здесь честь страдает;
Тур податей не высылает,
А мир Жизорский[49]… кто не знает,
Какая это благодать?
Да, лишь начав борьбу опять,
Ты можешь честь свою поднять!
Но увещанья не нужны
Для «Да и Нет»[50], они напрасны;
Не любит мира воин страстный,
На подвиг трудный и опасный
Идет, не медля, он всегда;
И нет опасности, труда,
Чтоб он не шел сейчас туда.
Король французский — друг покоя,
Совсем как добрый капеллан,
А «Да и Нет» — тот жаждет боя,
Как смелой банды атаман.
Заключенный между воюющими сторонами мир не нравился Бертрану, и он всеми силами пытался возжечь новую войну.
В это время прилетела в Европу из Святой земли печальная весть: 4 июля 1187 года при Хаттине на Тивериадском озере Саладином было разбито наголову войско христиан; в этой битве пал цвет христианского рыцарства и был взят врагами в плен король Иерусалима[51]. Сам Иерусалим открыл ворота Саладину в сентябре того же года. Со всех сторон послышались призывные крики и просьбы. Антиохийский патриарх ярко изобразил бедствия Обетованной земли в послании своем к английскому королю, архиепископ Тирский Вильгельм сам поспешил в Европу, а папа Григорий VIII в двух посланиях призывал все христианские народы к Крестовому походу. Все это вызвало в Западной Европе уснувшие было интересы. Религиозное одушевление могущественной волной прокатилось с одного ее края до другого. Французы нашивали на свои одежды красный крест, англичане белый, фламандцы зеленый и т. д. Само собой понятно, что Бертран живо откликнулся на это движение.
Из важнейших городов в руках христиан оставались еще Антиохия и Тир. Саладин направился против Тира, но встретил здесь геройское сопротивление со стороны Конрада Монферратского[52]. Бертран де Борн написал последнему послание и отправил его в далекую Сирию через своего жонглера Папиола. Мы перевели это послание с оригинала и предлагаем его вниманию читателей:
Того теперь я знаю, кто из всех
Достигнул славы высшей в этом мире;
Конечно, то — сеньор Конрад; не грех
Сказать, что он… Один в далеком Тире
Он Саладина отразил.
Бог помочь! но… подмога не идет…
Тому почет, кто тяжесть всю несет.
Сеньор Конрад, да сохранит вас Бог!
Придет пора, я буду также с вами,
Но до сих пор собраться я не мог;
Ведь не спешат и принцы с королями,
Да я и сердце загубил:
Блондинка дивная, владычица моя,
Мне не велит плыть в дальние края.
Сеньор Конрад, к вам оба короля —
Филипп и Ричард[53] — будут с подкрепленьем,
Но вот беда: вражду в себе тая,
Они полны взаимным подозреньем.
Боюсь я, чтоб не угодил
Тот и другой к врагу в тяжелый плен:
Не стерпит Бог, конечно, их измен[54].
Сеньор Конрад, и друг, и даже враг
Всегда почтет вас полным уваженьем;
Но, дав обет отправиться, никак
Уже нельзя покрыть его забвеньем;
Забывший Бога прогневил!
А вот они покоятся, когда
Вас тяготят и голод, и нужда.
Сеньор Конрад, все к худшему ведет
То колесо, что наша жизнь вращает;
Здесь большинство обманами живет,
Вредя другим; обманутый страдает,
Но тот, кто злое совершил,
Не убежит: Господь рукой Своей
Заносит в книгу все дела людей.
Сеньор Конрад, и Ричард к вам придет;
Я слышал так; сильна его природа;
Он полчища большие соберет
И двинет их до окончанья года.
Да и Филипп отплыть решил;
Отправятся другие короли,
Придет конец бедам Святой земли!
Мой Папиол прекрасный, ты ступай
В Савойю, путь держи к Бриндизи, там
Ты сядешь на корабль, тебе я дам
К Конраду порученье. Не скучай!
Скажи ему, что если обещанье
Исполнят короли, приду и я,
А если мне прелестное созданье
Велит остаться, ехать мне нельзя.
Из этого произведения мы видим, что обыкновенно пылкий до самозабвения Бертран не возложил на себя креста в ту пору, когда вокруг него кипело религиозное воодушевление, когда раскрывалось перед рыцарями широкое и славное поприще для новых подвигов. Он проповедует крестоносное предприятие, восхваляет его участников, грозится королям, возложившим на себя крест, Божьей карой, упрекает их за взаимное недоверие, забывая совершенно о том, какую деятельную роль играл он сам в развитии этого недоверия и вражды. Но сам он не отправляется в Крестовый поход и самую возможность своего участия ставит в зависимость от согласия той «блондинки дивной», которой он служит в качестве рыцаря. Такое объяснение, конечно, является не совсем благовидной шуткой. В том же произведении он ставит свое отправление в зависимость от королей. Но вот оправились в поход и короли, а наш трубадур остался дома.
Для объяснения этого факта выставляют в виде предположений две причины: недостаток средств и опасение, что брат Константин воспользуется его отсутствием и захватит Отфор. Первое объяснение вряд ли основательно. Мы знаем, как поступали в таких случаях малоимущие рыцари, да мы и не имеем никаких оснований считать Бертрана малоимущим. Мы знаем, что он трижды делал щедрые дары монастырю, в школе которого получил образование. Второе объяснение более солидно.
Но возможно и еще одно объяснение, которое мы не находим у Штимминга. Можем ли мы положиться на искренность сирвентов Бертрана, которые относятся к крестоносным предприятиям? Выше мы уже приводили примеры такой же горячности в других его сирвентах, но видели, что действительность была иной.
Верил ли он в благоприятный исход этих далеких, не согласовавшихся ни с национальными, ни с политическими потребностями того времени предприятий? Не относился ли он к ним скептически? Сочувствовал ли он, наконец, самой их идее? Он мог пропагандировать ее в виде известной уступки общественному настроению минуты. Ведь идея походов была популярной, и проповедник ее пополнял их проповедью свою популярность. Внутренние же движения Бертрана навсегда скрыты от нас. Не забудем, однако, что он открыто хвастался не только своей храбростью, но также хитростью и ловкостью.
Мы рассмотрели, таким образом, в самых существенных чертах общественную деятельность Бертрана. С этой деятельностью, как мы видели, были тесно связаны его поэтическая деятельность и личная жизнь. Теперь остается остановить свое внимание на другой стороне поэтической деятельности Бертрана, ознакомиться хоть с некоторыми образцами той дани, которую он принес любви.
Мы уже указывали вскользь на то впечатление, которое произвела на сердце Бертрана сестра английских принцев Матильда. Воспоминание об ее светлом образе навсегда осталось живым в душе трубадура. Роковые обстоятельства разлучили их, но это не только не помешало, но скорее содействовало его служению другим дамам. Война, военные потехи и служение женщинам были, по мнению Бертрана, да и вообще современников его круга, единственно благородными и подходящими для рыцаря занятиями. Послушайте, что говорит по поводу этого сам трубадур:
Пусть лес, кто хочет, вырубает,
А я работаю живей,
Когда надолго мне хватает
Оружья всякого, коней…
Стремлюсь к турнирам я,
К войне, войну любя,
Я щедр и не тужу,
И женщинам служу[55].
Прелестное стихотворение написал Бертран де Борн в честь сестры английских принцев. Вы, конечно, помните, что он называл ее Еленой. Если иметь в виду ту обстановку, среди которой оно было написано поэтом, его содержание сделается вполне понятным. Обстановка же была такова. В зимнюю пору Ричард задумал в сопровождении Бертрана произвести смотр своим войскам. В лагере обнаружился такой недостаток съестных припасов, что в одно воскресенье все оставались без еды. Поэт мечтал о теплом убежище, о хорошем обеде и вызвал в своем воображении, по противоположности, ту обстановку, в которой жила принцесса. Ее очаровательный образ стоял перед ним как живой. Тогда-то он и написал свое стихотворение.
Обеда нет, пришла кручина.
Ах, если б дома я сидел!
Там было мясо, хлеб и вина,
Огонь там весело горел.
Сегодня праздник; в день священный
Забыть приятно суету:
Хотелось быть бы мне с Еленой
Да и с сеньором Пуату[56].
Я в Лимузен сбирался, чтобы
Красавиц местных воспевать;
Теперь прошу всех дам без злобы
Певца другого поискать;
Теперь пою я самой верной
И превосходнейшей из них;
Поклонник преданный, примерный,
Я не глядел бы на других.
Вы так чисты, так благородны,
Течет в вас царственная кровь;
Свой край я бросил бы свободно,
Чтоб повидаться с вами вновь.
Вы выше всех неизмеримо,
Вас не сравню я ни с одной;
И вы, надев корону Рима,
Ее украсили б собой!
Меня пленил ваш взор чудесный;
Я подчинился вам, любя;
Вы часто на скамье прелестной
Меня сажали близ себя.
И в вашей речи милой, звонкой
Все было просто и свежо.
Вы мне казались каталонкой
Иль дамой города Фанжо.
Когда ваш ротик улыбался,
Сверкал зубов жемчужный ряд…
Я вашим телом любовался;
С ним гармонировал наряд;
Лицо так нежно, так румяно;
Любуясь им, я в рабство впал,
А сам владыкой Хоросана
Себя тогда воображал!
И на земле, и в недрах океана
Все — ниже вас; вы — выше всех похвал[57].
К той же принцессе Матильде обращается наш трубадур и в следующих строках. Но здесь она называется уже не Еленой, а другим именем — Сезам.
Нельзя то место звать двором,
Где смех не слышится кругом,
И шуток нет,
И щедрости не виден след.
Я умер бы — и верю в то —
От скуки в грубом Аржанто,
Когда бы там
Не встретил я средь местных дам
Одной красавицы: она —
Проста, изящна и умна…
Тобой, Сезам,
Была мне жизнь сохранена!
Служа той или другой даме, Бертран де Борн прославлял не только ее внешность, но отчасти и ее внутренние достоинства. Сперва он воспевает Матильду Монтаньяк. Он прославляет ее за то, что она превосходит всех соперниц не только тем, что является вместилищем всех телесных прелестей, но и тем, что выдается своими внутренними достоинствами: она не окружает себя, подобно кокеткам, толпой обожателей, но довольствуется одним, а при выборе такого не ослепляется могуществом и внешним положением. Она горда с людьми, которые только богаты, но милостива к достойным, хотя бы они были бедны. Любопытно обратить внимание на те обстоятельства, которые омрачили добрые отношения между Матильдой Монтаньяк и поэтом. Они характеризуют и среду, в которой вращался поэт, и эпоху, в которую он жил. Один из соседей поэта женился на Гюискарде, всюду прославляемой за свою красоту. Посвятил ей несколько строф и Бертран. В этих строфах он объявляет счастливой всю страну Лимузен, так как в нее войдут все достойные любви качества и добродетели в лице Гюискарды. Необходимо и мужчинам выказывать все те преимущества, благодаря которым можно надеяться на приобретение дамской благосклонности. Истый обожатель, по словам Бертрана, должен быть здоровым, мужественным и благородным в своих мыслях; он должен быть по отношению к дамам готовым на услуги и покорным, великодушным и щедрым. Он должен отличаться не только на придворных праздниках, но на турнирах и в боях. Наступило самое удобное время испытать себя во всем этом, так как появилась Гюискарда.
Стихотворение, воспевавшее Гюискарду, живо распространилось повсюду. Матильда Монтаньяк после этого разгневалась на поэта и поссорилась с ним. Ссора, по-видимому, была серьезная. По крайней мере, и Бертран в одной из своих песен заявил, что тот поступает правильно, кто меняет хорошее на лучшее; он сам имеет намерение верно служить и покоряться лучшей, чтобы она вознаградила его за понесенную потерю и превратила боль, которую причинила ему неверная изменница, в сладкую надежду. Лимузенцы, продолжает он, имеют причину радоваться, потому что между ними пребывает дама, которая не имеет себе подобной на всем протяжении земли. Всякая радость исходит только от нее, она в такой степени идеал всяких преимуществ и добродетелей, что все те, которые хоть раз служили ей, разлучаясь с нею, испытывают пламенное желание увидеться вновь. Далее Бертран заявляет об ее обещании приблизить к себе в качестве обожателя того, кто окажется лучшим. Песнь призывает к соревнованию всех — и бедных, и богатых.
Но вскоре после этого, по причинам, нам неизвестным, Бертран снова обратил свои помыслы к Матильде Монтаньяк. Тогда-то он и написал то стихотворение, лучшие строфы которого приведены нами в начале настоящего очерка. Он приписывает причину размолвки между ними льстецам, окружающим Матильду и клевещущим на него:
Я знаю все, что лгут вам про меня
Льстецы презренные, клянусь вам я!
Не верьте им, их речь полна обмана;
Не уклоняйте сердца своего
Вы от меня, служителя его;
Подругою останьтеся Бертрана.
Но Матильда не смягчалась. Она отлично знала, как это знаем и мы, что причина размолвки лежала не в наговорах льстецов, а в увлечении нашего трубадура прекрасной Гюискардой. Но Бертран и в деле служения дамам проявлял ту же настойчивость, которая так громко кричит о себе в его воинственных сирвентах. Он решился затронуть тщеславие оскорбленной Матильды и обратился к ней с новой песнью. Вот ее содержание. Поэта прогнала прекрасная сеньора — хотя и без всякого основания. Он беспомощен и, если не отыщет дамы, которая была бы подобна первой, совершенно откажется от любви. Но так как ни одна из дам не может сравниться с первой по красоте, приятности и вообще по прелести существа своего, он хочет заменить утраченную тем, что будет искать помощи у прославленных дам своего времени; у каждой из них он позаимствует то преимущество, которым она особенно отличается. Свежий цвет лица и чудный взгляд он возьмет у прекрасной Цимбелины; Элиза предоставит ему свое умение вести остроумную беседу; виконтесса Шалэ даст свою шею и свои нежные руки; Агнесса Рошкуар — свои замечательные волосы; у госпожи Одиар он позаимствует ее приятный нрав; у Гюискарды — ее стройное, юное тело… Тогда составится истинный образец красоты. Но поэт сознает, что ощущает в душе стремление не к этому идеалу, а к своей разгневанной Матильде… В заключение он спрашивает ее, почему же она пренебрегает им, несмотря на его преданную любовь?
Но ни клятвы, ни тонкие комплименты не помогали. Тогда Бертран отправился к виконтессе Шалэ и просил у нее, чтобы она приняла его в качестве своего рыцаря. Дама, к которой обратился наш трубадур, отвечала ему: «Господин Бертран, ваши слова доставили мне, с одной стороны, радость, а с другой — принесли огорчение: радость вы доставили мне тем, что пришли ко мне и предложили себя в качестве рыцаря; огорчение же мое происходит из опасения, что вы подали какой-нибудь повод к образу действий госпожи Матильды. Я узнёю всю правду в этом деле и постараюсь, если это удастся, вернуть вам ее милость; если же выяснится, что вина на вашей стороне, то ни я, ни другая какая дама не примем вас в качестве своего рыцаря». Так устроилось третейское посредничество. Бертран очень обрадовался такому исходу дела и обещался, если он не вернет себе любви Матильды, никогда не служить никакой даме, кроме виконтессы. Она же обещала принять его в качестве кавалера, но только при наличности двух следующих условий: во-первых, если попытка к примирению окончится неудачей и, во-вторых, если выяснится невиновность Бертрана. Даме, вызвавшейся быть посредницей между сторонами, удалось убедить Матильду в наличности недоразумения. Матильда согласилась примириться с Бертраном, но прежде всего она потребовала, чтобы и трубадур, и дама-посредница обоюдно освободили друг друга от данных ими обещаний.
Этот случай, характеризующий эпоху, далеко не единственный. Даму и ее рыцаря обоюдные обещания связывали в такой же степени, в какой связывали они вассала с его сеньором. Само существование таких обещаний считалось как бы делом чести, и для изменения взаимных отношений необходимо было отречься от обещаний.
Война и любовь — вот к чему сводились все стремления Бертрана. Имея перед собой все то, что сохранилось нам о жизни Бертрана, имея перед собой все его произведения, мы приходим к следующим выводам. Он любил войну ради нее самой; никакими высшими соображениями при появлении войны он не задавался: ему было безразлично, за что и с кем воевать, если только не ставили ему серьезной преграды его личные, чисто эгоистические интересы.
Он был беспокойным и заносчивым человеком, никогда не вымирающим типом забияки. Нам кажется, мы не ошибемся, если скажем, что Бертран де Борн, трубадур второй половины XII и начала XIII века, был ближайшим родственником по духу знаменитому французскому дуэлисту и писателю XVII века — Сирано де Бержераку. Что касается его служения дамам, почти все сводилось в этом деле к чисто материальной стороне. Все эти Матильды, Гюискарды, Цимбелины, Элизы, Агнессы и, без сомнения, многие другие привлекали его своими внешними качествами и преимуществами. Избранная дама не должна была быть кокеткой, не должна ослепляться ни богатством, ни могуществом своего избранника; большой заслугой является умение вести остроумную беседу, умение отвечать, как следует, на вопросы и т. п. Одним словом, все это — те добродетели, которые обусловливались куртуазией.
По своим понятиям Бертран де Борн не возвышался над тем обществом, среди которого жил, он был истинным сыном своего века, плотью от плоти его и костью от костей его. Может быть, в этом и заключалась причина его необыкновенной популярности среди современников. Его песни разбирались нарасхват, но не всегда и не всем он давал их. Один жонглер обратился к Бертрану с просьбой написать для него песнь. В ответ Бертран написал стихотворение, набросав карикатурный портрет злополучного жонглера; у него — сиплый голос, он скорее каркает, чем поет; цвет его кожи настолько темен, что его можно принять за сарацина; он, Бертран, удивляется его просьбе, так как никогда не слышал о нем, и т. д. В песне, написанной по просьбе другого жонглера, он говорит следующее: «Я слышал много рассказов о вас; вы просите у меня песни, я хочу удовлетворить вас. Вы — лукавец: будучи, по существу, нищим, вы умеете придавать себе вид годного человека. Было бы, однако, лучше, если бы вы покончили с собой, чем жить состраданием других. Вы глупее овцы, и больше доставит всем удовольствия слушать ворону или хрюкающую свинью, чем вас. Вы молоды, высоки ростом и корчите из себя мужественного человека, но даже в тех случаях, когда заяц становится львом, вы — трус, существо бесполезное и совершенно не обладающее силой сопротивления… Даже между негодяями вас считают за ненадежного человека, так как каждый из обозных погонщиков решится на битву скорее, чем вы. Но где только вы заслышите запах жареной баранины, вы бежите туда скорее, чем на палисады и окопы, и самые большие почки поглощаете в один или два приема».
Бертран де Борн лишен сострадания. Так как крестьяне ведут постоянную борьбу со знатью, то ему доставляет, по его словам, величайшее наслаждение видеть их в самой глубокой нужде. Мужик живет, как свинья, пока пребывает в окружающей его среде; когда же он разбогатеет, в нем развивается величайшее самомнение, а потому и следует держать пустым его корыто. Кто не держит мужика в ежовых рукавицах, тот поддерживает в нем его упрямство, а потому его всегда следует гнуть; когда он чувствует себя в безопасности, нет равного ему р подлости. В своем озлоблении против крестьян трубадур доходит до того, что считает непростительной слабостью жалеть крестьянина, если он сломает себе руку или ногу или подвергнется какому-нибудь несчастью.
Мы не поставим только что высказанный взгляд в особую вину Бертрану де Борну. Он далеко не представлял в этом отношении исключения. Припомним следующие слова Грановского[58]: «В средневековой Европе не было народов в настоящем смысле слова, а были враждебные между собой сословия, начало которых восходит к эпохе распадения Западной Римской империи и занятия ее областей германскими племенами. Из пришельцев образовались почти исключительно высшие, из покоренного или туземного населения — низшие классы новых государств. Насильственное основание этих государств провело резкую черту между их составными частями. Граждане французской общины принимали к сердцу дела немецких или итальянских городов, но у них не было почти никаких общих интересов с феодальной аристократией собственного края. В свою очередь барон редко унижал себя сознанием, что в городе живут его соотечественники. Он стоял неизмеримо выше их и едва ли с большим высокомерием смотрел на беззащитного и бесправного виллана»[59]. Так подготавливалась веками та почва, на которой выросла страшная Жакерия[60].
Бертран порицал и свою братию — баронов. Но за что? За чрезмерное увлечение тем, что и они, и он сам считали рыцарскими добродетелями, а главным образом — за бесконечные турниры, за безмерную любовь к постройкам, за обжорство и т. д. Забывая о себе, он порицает своих современников за сварливость, за готовность броситься в феодальную войну по всякому ничтожному поводу.
Вглядевшись в личность Бертрана, мы не станем бросать в него каменьями, но воздержимся и от желания отыскивать в нем какие-то особенно благородные чувства. Истина где-то посередине. Бертран был не хуже, но и не лучше своих современников. Он был заурядным французским феодалом XII века, отличаясь от большинства только поэтическим дарованием, а может быть, и своей исключительной страстью ко всяким военным предприятиям, кроме крестоносных.
Бурная жизнь, как и следовало ожидать, истомила Бертрана де Борна. После смерти Ричарда Львиное Сердце, последовавшей в 1199 году, он призвал к себе своих сыновей, Бертрана и Итье, старшему отдал Отфор, а младшему родовой замок де Борнов, сам же прожил последние годы жизни в стенах того цистерианского монастыря, в котором когда-то учился. Старший сын пошел по следам отца и писал, подобно ему, сирвенты, в которых высказывал свое мнение о животрепещущих событиях своего времени.
Умер Бертран де Борн между 1210 и 1215 годом. Мы имеем точное свидетельство о том, что в 1215 году уже молились за него как за усопшего. В хронике Бертрана Итье читаем под 1215 годом: «Sub anno 1215 octava candela in sepulchro ponitur pro Bertrando de Born. Cera très solidos empta est», что значит: «В 1215 году поставлена на гробнице[61] восьмая свеча за упокой Бертрана де Борна. Воску куплено на 3 солида».
Слава о поэтической деятельности и характере Бертрана де Борна распространилась далеко за пределы его родины. Сильное впечатление производила та роковая роль, которую наш трубадур играл в борьбе английских принцев против своего отца. Великий итальянский писатель Данте Алигьери поместил Бертрана де Борна в восьмом круге своего Ада, среди сеятелей раскола и поджигателей раздора. Пылкое воображение великого флорентийца придумало ему страшную казнь. Он должен был бродить по аду, держа в руке свою собственную, отделенную от туловища голову.
В своем очерке мы совершенно не коснулись враждебных действий Иоанна Безземельного против своего отца, так как этот эпизод совершенно отвлек бы нас в сторону и даже затемнил бы то главное, что мы имели в виду изобразить. Напротив того, мы сравнительно подробно проследили войну, поднятую против отца «молодым королем», так как именно в этой войне и проявилось во всей своей силе пагубное влияние Бертрана. Между тем в «Божественной комедии» Бертран изображен наказанным за возмущение Иоанна, а не «молодого короля»[62]. Сущность дела, впрочем, остается неизменною.
Закончим же наш очерк рассказом самого Данте[63]:
Он голову за волосы так смело,
Бесчувственно, как бы фонарь, держал,
И голова, крича «увы», смотрела.
Он сам себе дорогу освещал
То два в одном и в двух один шагали,
Но как — решит лишь Тот, Кто казнь послал.
Чуть у моста мы призрак увидали,
Он руку вверх приподнял с головой,
Чтоб лучше речь его мы услыхали:
«Смотри, — вскричал, — мучения, живой!
Имел ли ты, надсмотрщик, их в предмете?
Как мучусь я, не мучится другой.
И чтоб сказать мог обо мне ты в свете,
То знай, что то Бертран де Борн предстал,
Кем Иоанн подбит на зло в совете.
За то, что месть столь близких разлучала,
Мой мозг с своим началом разлучен,
И в этом пне живет его начало:
На мне удар возмездия свершен![65]
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ