ЧАСТЬ III. Эпоха господства Запада с 1500 г. до настоящего времени
Общее введение
1500 г. вполне символизирует наступление современной эпохи как во всем мире, так и в истории Европы. Незадолго до этой даты технические новшества в мореходстве, введенные португальцами при принце Генрихе Мореплавателе (ум. 1460), сделали приемлемыми опасности Северной Атлантики с ее штормами и течениями. После укрощения этих опасных водных просторов для европейских моряков больше не было недоступных морей и не покрытых льдами берегов, которых бы они страшились. Один за другим отважные капитаны открывали до тех пор неведомые моря, и в их числе Колумб (1492 г.), Васко да Гама (1498 г.) и Магеллан (1519-1522 гг.) были лишь самыми известными.
В результате Атлантическое побережье оказалось связанным с большинством других берегов земли. То, что раньше было самым краем Евразии, меньше чем за жизнь одного поколения стало центром мировых морских путей, оказывая и испытывая влияние каждого человеческого общества, живущего в пределах досягаемости моря. Тем самым тысячелетнее равновесие, установившееся на земле среди евразийских цивилизаций, было резко нарушено и в течение трех столетий совершенно изменено. Защитный океанский барьер между Америками и остальным миром был внезапно разрушен, а работорговля поместила большую часть Африки под сень цивилизации. Только Австралия да некоторые мелкие острова Тихого океана оставались на какое-то время в безопасности, но уже к концу XVIII в. они также стали испытывать на себе силу европейского искусства мореплавания и европейской цивилизации.
Западная Европа выиграла, разумеется, больше всех от таких чрезвычайных перемен в мировых отношениях как в материальном, так и в более широком смысле, поскольку она стала местом, не знающим равным по привлечению всевозможных новшеств. Это позволяло европейцам заимствовать понравившиеся им орудия у других народов и побуждало к переосмыслению, переделке и изобретению новых приспособлений на основе собственного возросшего культурного достояния. Наиболее показательными жертвами нового мирового равновесия стали американские цивилизации Мексики и Перу, так как их грубо низвели до относительно простого сельского уровня после того, как.испанцы уничтожили или разложили их правящую элиту. В Старом Свете мусульмане утратили свое положение в центре ойкумены, когда караванные пути были вытеснены океанскими. Только на Дальнем Востоке влияние нового созвездия мировых отношений поначалу было незначительным. Китай не видел большой разницы в том, что торговля с другими странами, регулировавшаяся традиционными формами, перешла из рук мусульман в руки европейских торговцев. Как только европейская энергия экспансии стала угрожать их политической независимости, сначала Япония, а за ней и Китай изгнали нарушителей спокойствия и закрыли свои границы для новых посягательств. И все же к середине XIX в. даже такая сознательно выбранная изоляция не могла больше поддерживаться. Цивилизация Дальнего Востока — одновременно с первобытными культурами Центральной Африки — начала расшатываться под действием только что индустриализованного европейского (и внеевропейского) Запада.
Ключом к мировой истории с 1500 г. служит растущее политическое господство сначала Западной Европы, а затем разросшегося общества европейского типа от американского побережья Атлантики на западе до просторов Сибири на востоке. При этом вплоть до начала XVIII в. старые сухопутные границы азиатских цивилизаций сохраняли немалую часть своего былого значения. И Индия (с 1526 г.), и Китай (ок. 1644 г.) становились объектом завоевательских набегов через эти границы, а Османская империя не исчерпала свою экспансионистскую мощь почти до конца XVII в. Только в Центральной Америке и в западной части Южной Америки европейцам удалось создать в этот период обширные заморские империи. Таким образом, 1500-е — 1700-е гг. следует рассматривать как период перехода от старой сухопутной к новой океанской модели всемирных отношений, период, когда европейская предприимчивость изменила, но еще не опрокинула четырехстороннее равновесие Старого Света.
В следующий знаменательный период 1700-1850-х гг. произошло решительное изменение баланса в пользу Европы, не коснувшееся, однако, Дальнего Востока. К западному миру добавились две большие окраинные части: Россия благодаря петровским реформам и Северная Америка в результате колонизации. Менее масштабные отростки европейского общества укоренялись одновременно в самой южной части Африки, в равнинных областях Южной Америки и в Австралии. Индию подчинили европейским законам, а мусульманский Средний Восток избежал этой участи только благодаря внутриевропейскому соперничеству. Варварский заповедник степей Евразии утратил остатки военного и культурного значения с активизацией процесса завоеваний и колонизации со стороны России и Китая.
После 1850 г. быстрое развитие промышленности на основе механической тяги в огромной степени расширило политическое и культурное превосходство Запада. В начале этого периода дальневосточная цитадель не устояла перед орудиями западных кораблей, а несколько европейских держав расширили и упрочили колониальные империи в Азии и в Африке. Хотя европейские империи после 1945 г. распадались, а лидерство национальных государств Европы скрылось за концентрацией народов и стран под эгидой американского и советского правительств, следует признать, что с конца Второй мировой войны стремление копировать и овладевать наукой, технологией и другими элементами западной культуры чрезвычайно усилилось во всем мире. Таким образом, свержение Западной Европы с трона, на котором она столь недолго правила миром, совпало (и было вызвано) с беспрецедентным быстрым «озападниванием» всех народов земли. Подъем Запада кажется сегодня все еще далеким от своего апогея; неочевидно также, пусть даже и в самом узком политическом смысле, что эра превосходства Запада миновала. Американская и российская окраины европейской цивилизации в военном отношении остаются гораздо сильнее остальных государств мира, тогда как мощь реорганизованной в федеральном духе Западной Европы потенциально выше, чем у названных двух держав, и остается меньше лишь по причине трудностей с увязкой общей политики государств, по-прежнему цепляющихся за атрибуты их приходящего в упадок суверенитета.
С высоты середины XX в. развитие западной цивилизации с 1500 г. представляется сильнейшим взрывом, значительно превосходящим по масштабности любое подобное явление прошлого как по географическим меркам, так и по социальной глубине. Современную историю Европы характеризовало беспрерывное и ускоряющееся самопреобразование, возникающее из пены конфликтующих идей, институтов, устремлений и изобретений. С недавней институционализацией осмысленного нововведения в виде промышленных научно-исследовательских лабораторий, университетов, военных генеральных штабов и всевозможных комиссий по планированию растущие темпы технических и общественных изменений будут оставаться постоянной характерной чертой западной цивилизации.
Такая способность к переменам делает историю Европы и Запада последних веков увлекательной и сложной для исследования. Тот факт, что мы наследники, но также и пленники прошлого, оказавшиеся в самой гуще непредсказуемых и невероятно далеко идущих потоков, не облегчает задачу по сколь возможно хладнокровному, если не безошибочному, установлению знаковых вех для давно минувших эпох и отличных от нашей цивилизаций.
И все же нужно попытаться написать картину европейской и мировой истории в современную эпоху такими же широкими мазками, которыми мы пользовались в этой книге до сих пор, чтобы не утратить художественные пропорции всего труда. К счастью, благородное войско историков уже промаршировало по этой дороге, а потому нетрудно будет поделить историю Запада на периоды и охарактеризовать их достаточно корректно. Более серьезное затруднение возникает в связи с тем, что требуемые периоды истории Запада не совпадают с периодами мировой истории. В этом нет ничего удивительного, так как Европе приходилось первой перестраиваться на новом уровне до того, как действие ее возросшей силы смогло в значительной мере сказаться в других частях света. Можно, таким образом, увидеть разрыв между последовательными самоизменениями европейского общества и их проявлениями на более широкой сцене всемирной истории.
Я соответственно расположил следующие главы по линиям, характерным для мировой истории. При этом в каждой главе для Европы делается поправка во времени, чтобы рассмотреть отдельные трансформации европейской жизни, предвосхитившие и в значительной степени вызвавшие новый этап развития мира. Так, в главе, посвященной 1500-1700 гг., будет рассматриваться развитие Европы только до 1650 г., когда она болезненно выбралась из своей средневековой формы. В главе, отведенной периоду 1700-1850 гг. в истории мира, будет рассмотрена и Европа, и неевропейский Запад времен Старого режима 1650-1789 гг. Заключительная глава, касающаяся процессов 1850-1950 гг., содержит анализ Запада с 1789-го по 1917 г. В заключении рассмотрены вопросы, которые считаются ключевыми в трансформации западного общества с 1917 г., а также сделано несколько предположений относительно возможных путей всемирной истории на будущее.
Компенсацией за неизбежное неудобство такой схемы должна, по замыслу, стать удачно подчеркнутая основная динамика современной истории.
ГЛАВА XI.
Вызов Дальнего Запада миру в 1500-1700 гг.
А. ВЕЛИКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ИХ МИРОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
К началу XVI в. европейцы с Атлантического побережья владели тремя секретами успеха, которые позволили им покорить все океаны мира за какие-то полвека и подчинить себе наиболее развитые районы Америки за жизнь одного поколения. Этими талисманами были глубоко укоренившаяся задиристость и безрассудство (1), реализуемые с помощью сложной военной технологии, особенно в морском деле (2), а также население, привычное к тем видам болезней, которых не знал Новый Свет (3).
О варварских корнях европейской агрессивности, уходящих в бронзовый век, о сохранении в средние века воинских навыков у купечества Западной Европы, а также среди городского и сельского дворянства уже говорилось в нашей книге. При этом, если вспомнить почти невероятную храбрость, отвагу и жестокость Кортеса и Писарро в Америке, поразмыслить о безжалостной агрессивности Алмейды и Альбукерка в Индийском океане, узнать о том пренебрежении, с которым даже такой образованный европеец, как отец Маттео Риччи, относился к воспитанности китайцев[912], становится ясна вся сила европейской воинственности в сравнении с поведением и склонностями других крупных цивилизаций земли. Только мусульмане и японцы могут выдержать сравнение по тому почету, который оказывали они воинской доблести. Однако мусульманские торговцы обычно уступали насилию, которое пребывало в большой чести у их правителей, и редко брали на себя смелость противостоять ему. Таким образом, мусульманским торговцам недоставало голой, хорошо организованной, широкой силы, ставшей основным товарным запасом европейских морских торговцев в XVI в. Японцы, конечно, могли бы скрестить мечи с любым европейцем; но рыцарский стиль их военного искусства в сочетании с сильно ограниченным количеством железа означал, что ни самураи, ни морские пираты не могли бы достойно ответить бортовому залпу Европы.
Господство на море значительно усилило возможности проявления воинственности европейцев с начала XVI в. Однако морское превосходство Европы само было результатом сознательного сочетания науки и практики, начавшегося в торговых городах Италии и достигшего зрелости в Португалии благодаря стараниям Генриха Мореплавателя и его наследников. С введением в обиход компаса (XIII в.) плавание вне пределов видимости земли стало регулярной практикой Средиземноморья, а штурманские карты, или портуланы, требовали для таких путешествий указания берегов, гаваней, береговых знаков и направления по компасу между основными портами. И хотя рисовали их от руки, без точных математических проекций, на портуланах все же соблюдались довольно точные масштабы расстояний. Однако подобным образом составленные карты можно было применять для плавания на большие расстояния в Атлантике, только если удалось бы найти способ точного определения ключевых точек вдоль побережья. Для решения этой задачи принц Генрих пригласил в Португалию некоторых лучших математиков и астрономов Европы, и те изготовили простые астрономические приборы и тригонометрические таблицы, с помощью которых капитаны могли измерять широту вновь открываемых мест вдоль Африканского побережья. Расчет долготы был более сложным, и пока в XVIII в. не изобрели удовлетворительный морской хронометр, долготу определяли приблизительно только навигационным счислением. Тем не менее новые способы оказались действенными, и правительство принца Генриха разрешило португальцам изготавливать практичные карты Атлантического побережья. Эти карты позволяли португальским мореходам смело плавать вне видимости берега неделями и месяцами и уверенно приводить свои суда в нужный пункт[913].
При португальском дворе собирали также систематические сведения об океанских ветрах и течениях, однако хранили их как высшую государственную тайну, поэтому современные исследователи не могут с уверенностью сказать, насколько много знали первые португальские мореходы. В то же время португальские морские мастера взялись за совершенствование конструкции судов. Работали они «на глаз», но систематические продуманные эксперименты быстро позволили повысить мореходность, маневренность и скорость португальских, а затем (поскольку усовершенствования в судовой архитектуре нельзя сохранить в тайне) и других европейских кораблей. К наиболее важным новшествам относятся уменьшение ширины корпуса относительно длины, установка нескольких мачт (как правило, трех или четырех), а также использование вместо одного паруса на мачте, как было изначально, нескольких небольших, но лучше поддающихся управлению парусов. Эти нововведения позволяли команде подбирать паруса соответственно условиям ветра и моря, что значительно облегчало управление судном и предохраняло его от беды при внезапно налетевшем шторме[914].
Благодаря таким усовершенствованиям можно было строить большие корабли, а увеличение размера и прочность конструкции[915] позволяло превратить суда дальнего плавания в артиллерийские платформы для тяжелых орудий.
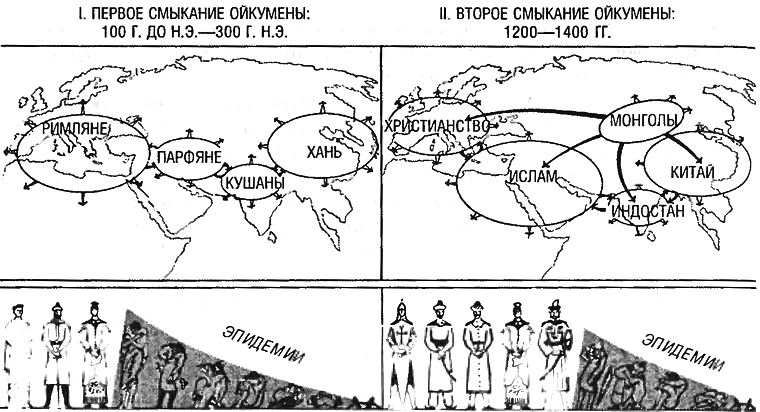
 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СООБЩЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СООБЩЕНИЯ
Таким образом, к 1509 г., когда португальцы вели решающие сражения за контроль над Аравийским морем из-за индийского порта Диу, их корабли могли дать мощный бортовой залп на дальность, чего не могли сделать корабли их мусульманских противников. При таких условиях численное превосходство вражеского флота лишь давало португальцам дополнительные цели для стрельбы. Старая тактика морского боя — таран и абордаж — оказалась почти бесполезной против орудийного огня, эффективного на расстоянии до 200 ярдов[916].
Третье оружие в арсенале европейцев — болезни — было не менее эффективным, чем их агрессивность и сила металла. Эндемические европейские болезни типа оспы и кори были смертельны для американского населения, не имевшего врожденного или приобретенного иммунитета. Буквально миллионами умирали они от этих и других европейских болезней. Эпидемия оспы, свирепствовавшая в Теночтитлане, когда в 1520 г. Кортес с его людьми был выбит из цитадели, сыграла более весомую роль в поражении ацтеков, чем военные действия. Империя инков тоже, очевидно, была опустошена и ослаблена подобной эпидемией до того, как Писарро смог достичь Перу[917].
С другой стороны, такие болезни, как желтая лихорадка и малярия, нанесли большие потери европейцам в Африке и Индии[918]. Однако климатические условия, как правило, препятствовали проникновению новых тропических болезней в саму Европу в серьезных масштабах. Те же болезни, которые могли развиваться в условиях умеренного климата, такие как тиф, холера, бубонная чума, были давно известны в ойкумене, и народы Европы, очевидно, приобрели определенную сопротивляемость к ним. Несомненно, новые, более частые контакты по морю с отдаленными районами имели заметные медицинские последствия для европейцев, как, например, чума, жертвами которой стали Лиссабон и Лондон. Но постепенно инфекции, которые в прежние века спонтанно приводили к эпидемиям, становились не более чем эндемическими по мере того, как у населения вырабатывался достаточный уровень сопротивляемости. До 1700 г. европейцы успешно отражали удары, наносимые им усилившимся в результате их же морских путешествий притоком болезней. Постепенно эпидемии перестали быть угрозой в демографическом смысле[919]. Как результат, с 1650 г. (или еще раньше) наметился ускоренный рост населения в Европе. Более того, насколько позволяют судить несовершенные данные, в 1550-1650 гг. население начало быстро расти в Китае, Индии и на Среднем Востоке[920]. Такое ускорение роста населения в каждой большой цивилизации Старого Света вряд ли может быть простым совпадением. Предположительно одинаковые экологические процессы стали происходить во всех частях населенного мира, когда нашествия старых эпидемий угасли до уровня эндемических болезней[921].
Замечательное сочетание воинственности европейцев, их морских достижений и относительно высокого уровня сопротивляемости болезням изменило культурный баланс мира в поразительно короткий отрезок времени. Колумб связал Америку с Европой в 1492 г., и испанцы бросились осваивать, завоевывать и колонизировать Новый Свет с необыкновенной энергией, невиданной жестокостью и высоким миссионерским идеализмом. Кортес уничтожил государство ацтеков в 1519-1521 гг.; Писарро подчинил себе империю инков в 1531-1535 гг. В последующие поколения менее знаменитые, но не менее отважные конкистадоры основали испанские поселения вдоль берегов Чили и Аргентины, проникли в горные районы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы и Центральной Америки, разведали бассейн Амазонки и юг современных Соединенных Штатов. Уже в 1571 г. Испания совершила прыжок через Тихий океан до Филиппинских островов и столкнулась там с морской империей, которую ее соседи по Пиренейскому полуострову -португальцы — тем временем разбросали вокруг Африки и по южным морям Восточного полушария.
Экспансия Португалии в Индийском океане происходила еще быстрее. Ровно десять лет прошло от завершения Васко да Гама его первого плавания в Индию (1497-1499 гг.) до решающей морской победы португальцев при Диу (1509 г.). Португалия тотчас же развила этот успех, захватив Гоа (1510 г.) и Малакку (1511 г.), которые вместе с Ормузом в Персидском заливе (занятым в 1515 г.) служили ей необходимыми базами, откуда можно было контролировать торговлю во всем Индийском океане. Этими успехами Португалия не ограничилась. Ее корабли без промедления отправились за драгоценными пряностями в самое дальнее место их добычи — на Молуккские острова (1511-1512 гг.), а в 1513-1514 гг. португальский купец-путешественник на малайском судне посетил Кантон (Гуанчжоу). К 1557 г. в Макао на южном побережье Китая было основано постоянное португальское поселение. В 1540-е гг. развернулись торговля и миссионерская деятельность в Японии. На другом конце света португальцы в 1500 г. открыли Бразилию и начали обосновываться в этих краях после 1530 г. Береговые посты на западе и востоке Африки, размещенные там в 1471-1507 гг., дополнили цепь портов назначения, связывающих воедино португальскую империю.
 ПОРТУГАЛЬЦЫ В ЯПОНИИ
ПОРТУГАЛЬЦЫ В ЯПОНИИ
На этой красивой, ярко расписанной ширме японский художник конца XVII в. отразил свои впечатления от прибытия португальского корабля. Корабль только что прибыл, матросы еще спускаются по снастям, а некоторые готовятся к высадке. На переднем плане встречающих японских сановников окутали плотные клубы дыма, произведенные, без сомнения, орудийным салютом. Длинный волнообразный язык дыма, вползающий на берег с европейской плавучей орудийной платформы, символизирует начальный этап европейского влияния на весь остальной мир в эпоху великих морских открытий.
Никакая другая европейская держава не могла сравниться с Испанией и Португалией по их первым успехам в заморских странах[922]. Тем не менее оба пиренейских государства недолго безмятежно вкушали плоды своих завоеваний. С самого начала Испании трудно было защитить свои суда от французских и португальских корсаров. Новой страшной угрозой с 1568 г. после первого открытого столкновения между английскими контрабандистами и испанскими властями в Карибском море стали английские пираты. В 1516-1568 гг. другой великий морской народ того времени — голландцы — находился под властью правивших Испанией Габсбургов и пользовался соответственно привилегированным положением посредника между испанскими и североевропейскими портами. Поэтому первоначально голландский флот не посягал на морскую мощь пиренейских государств.
Равновесие на море резко изменилось во второй половине XVI в., когда восстание Голландии против Испании (1568 г.) и последующий разгром Англией испанской Непобедимой армады (1588 г.) ознаменовали отступление пиренейских морских держав перед надвигающимися на них северными морскими государствами. Нападения на голландские корабли в испанских портах лишь ускорили этот процесс, поскольку Голландия ответила тем, что направила свои суда прямо на Восток (1594 г.), а Англия последовала ее примеру. С этого момента голландская морская и торговая мощь стала быстро вытеснять португальскую[923] в южных морях. Размещение базы на Яве (1618 г.), захват Малакки у португальцев (1641 г.) и крупнейших торговых постов на Цейлоне (к 1644 г.) обеспечили голландцам господство в Индийском океане. В этот же период английские купцы закрепились в Западной Индии. Колонизация Англией (1607 г.), Францией (1608 г.) и Голландией (1613 г.) материковой части Северной Америки и захват этими же державами большинства малых Карибских островов подорвали претензии Испании на монополию в Новом Свете, хотя им и не удалось выдворить ее хоть из одного сколько-нибудь важного района, в котором она утвердилась.
* * *
Поистине чрезвычайный порыв первых завоеваний пиренейских государств и не менее замечательная миссионерская деятельность, начавшаяся следом за ними, без сомнения, ознаменовали начало новой эры в истории человеческого сообщества. При этом следует отметить, что не все более старые вехи этой истории сразу же исчезли из поля зрения. Движение из евразийских степей продолжало влиять на историю, как, например, завоевание узбеками междуречья Амударьи и Сырдарьи (1507-1512 гг.), а также его прямое следствие — завоевание Моголами Индии (1526-1688 гг.) или завоевание маньчжурами Китая (1621-1683 гг.)
Новый режим морей очень слабо отразился на китайской цивилизации, а экспансия мусульманского мира, бывшая главной особенностью мировой истории в течение многих столетий до 1500 г., не прекращалась и даже заметно не угасала вплоть до конца XVII в. Своими завоеваниями в далеких морях западноевропейские страны, разумеется, окружили мусульманский мир в Индии и в Юго-Восточной Азии, в то время как продвижение России по сибирской тайге отрезало мусульманские земли с севера. Но такая «проба» европейской (и европеизированной) мощи в XVII в. оставалась незначительной и относительно слабой. Мусульмане отнюдь не были раздавлены громадными европейскими клещами, а наоборот, продолжали одерживать важные победы и занимать новые территории в Юго-Восточной Европе, Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. До начала XVIII в. мусульмане понесли серьезные территориальные потери только в западных и центральных степных районах.
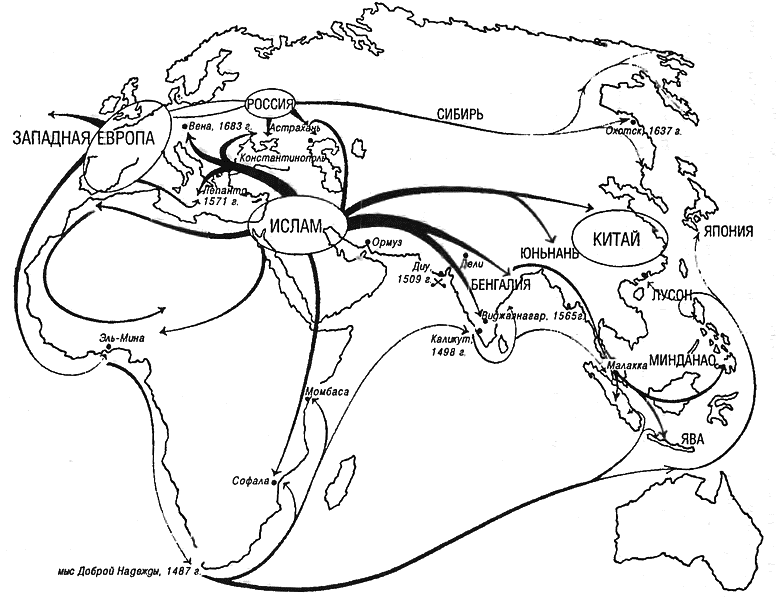 ПУТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В 1000-1700 гг.
ПУТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ В 1000-1700 гг.
Таким образом, только два обширных района земного шара претерпели коренные изменения в течение двух веков европейской заморской экспансии: районы высокой культуры американских индейцев и сама Западная Европа. Европейские морские экспедиции, несомненно, расширили масштабы и наладили контакты между различными народами мира, а также познакомили новые народы с разрушительным общественным влиянием высоких цивилизаций. При этом Китай, мусульманские страны, индусы не отклонились по-настоящему от своих прежних путей развития, а значительные пространства суши, так же как Австралия и Океания, тропические леса Южной Америки и Северо-Восточной Азии, почти не были затронуты европейским влиянием.
Тем не менее мировая история получила новую размерность. Край океана, где европейские мореходы и солдаты, купцы, миссионеры и поселенцы встретились с другими цивилизованными и нецивилизованными народами мира, начал угрожать бывшему господству евразийской сухопутной границы, где степные кочевники веками испытывали на прочность и беспокоили цивилизованные земледельческие народы. Древнейшие общественные устои стали меняться, когда берега Европы, Азии и Америки превратились в арену все более значительных социальных процессов и новшеств. Болезни, золото, серебро и некоторые полезные сельскохозяйственные культуры первыми свободно потекли по новым трансокеанским каналам сообщения. Их ввоз имел важные и далеко идущие последствия для Азии, Европы и американских стран. Однако до начала XVIII в. лишь отдельные заимствования более непонятных методов и идей переносились по морским путям, соединявшим отныне четыре великие цивилизации Старого Света. В таких обменах Европа чаще получала, чем отдавала, поскольку ее народы были движимы живой любознательностью, ненасытной алчностью и безрассудным духом авантюризма, резко отличаясь этим от самодовольного консерватизма китайских, мусульманских и индусских вождей.
Отчасти в силу побудительных факторов, принесенных в Европу из-за моря, но преимущественно по причине внутренних конфликтов, возникавших на почве ее собственного разнородного культурного наследия, в 1500-1650 гг. Европа вступила в эпоху настоящих социальных взрывов, принесшую с собой болезненные процессы, которые тем не менее вознесли европейскую мощь на новый уровень действенности, и впервые обеспечили европейцам явное превосходство над прочими великими цивилизациями мира.
Б. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЕВРОПЫ В 1500-1650 ГГ.
1. ПОЛИТИКА
Прежняя направленность европейской цивилизации, прослеживающаяся как минимум до классической Греции, отдавала предпочтение организации в виде государств в ущерб альтернативным типам объединений. Возможно, по этой причине сравнительно нетрудно понять политические аспекты преобразований европейской цивилизации в XVI-XVII вв., когда местничество городов и феодальных сословий, а также универсализм империи и папства рухнули перед промежуточным слоем средневековой политической иерархии — территориальным и в наиболее удачных случаях национальным государством.
Упрочение относительно крупных территориальных государств было достигнуто благодаря переносу в Северную и Западную Европу административных методов и нравственных норм, развившихся первоначально в небольших городах-государствах Италии в XIII-XV вв. Помимо их выдающейся роли в определении порядка налогообложения, судебного процесса и прочего итальянские города показали, что возможно объединить поместную аристократию и городскую буржуазию в действенное территориально-политическое сообщество, держащееся частично на чувстве патриотизма и частично на профессиональном чиновничестве. В Северной Европе город и деревня до XVI в. находились, как правило, в отчуждении друг от друга. Горожане, дворяне и крестьяне относились друг к другу с недоверием и пренебрежением, а связующие их нити, исходившие от королевского или императорского правительства, были слишком тонки и непрочны, чтобы исправить положение. Однако к середине XVII в. территориальные правительства значительно усилили свою власть в большей части Европы, подорвав обособленность городов и обуздав привычку аристократии к насилию. Светские правители также в немалой степени забрали церковные дела в сферу своего управления и заставили даже крестьян почувствовать силу королевского закона, проводимого в жизнь профессиональным чиновничеством. Короче, государства Европы нового времени (автор употребляет термин «новое время» в обычном для западной и дореволюционной российской историографии смысле для обозначения эпохи XVI-XIX вв., причем «раннее новое время» относится к первым двум векам этого периода, которые в советской историографии называли «поздним средневековьем». Советская историография обозначала термином «новое время», или «новая история», период между Английской буржуазной революцией, начало которой датировалось 1640 г., и Октябрьской революцией в России (1917 г.). — Прим. пер.) слили в себе средневековые сословия и создали национальные государства на севере и западе и династические империи в центральной и восточной частях континента. По мере того как накладывались более упорядоченные политические рамки на средневековый лабиринт корпоративных и частных юрисдикции, соперничающие правительства Европы получали возможность еще сильнее концентрировать рабочую силу и средства как для военных, так и (в менее ярких формах) для мирных предприятий. Результатом стал значительный рост мощи Европы, особенно военной.
Появление ограниченного числа сравнительно четко очерченных суверенных образований в Европе означало как более, так и менее выраженное общественное и политическое разнообразие. Громадное множество чисто местных обычаев, законов и институтов, управлявших жизнью большинства европейцев в средние века, в каждом территориальном государстве развивалось в направлении общей нормы — в этом смысле разнообразие было невелико. Однако одновременное ослабление папского престола и империй приводило к более резкой дифференциации между регионами и между государствами. Разные государства по-разному регулировали равновесие между соперничающими классами и группами интересов. Каждый такой баланс, сохранявшийся национальными и территориальными институтами, способствовал выделению и разделению населявших Европу народов сильнее, чем это происходило в эпоху средневековья. Отказ от латыни как «лингва франка», языка международного общения, и использование местных диалектов для все более разнообразных целей ускорило эту дифференциацию. Нет сомнения, однако, в том, что именно религиозное разнообразие, внесенное Реформацией и расширенное дальнейшими расхождениями в протестантской среде, больше всего повлияло на разделение населения Европейского континента на самостоятельные, соперничавшие части.
Начиная с XVI в. самые процветающие и богатые государства Европы располагались по побережью Атлантики. Первой великой державой современной Европы была Испания, где Фердинанд Арагонский (1479-1516 гг.) воспользовался своим браком с Изабеллой Кастильской, чтобы слить два королевства в одно новое мощное государство. Самым действенным средством, которое Фердинанд использовал для того, чтобы привести отдельные королевства и сословия его державы к повиновению, стала испанская инквизиция. Это была система церковных судов, предназначенная для искоренения ереси и наделенная с этой целью власть отменять местные иммунитеты и любые формы социальных привилегий. Поскольку неподчинение королевской воле могло указывать также на религиозную ересь, по-настоящему исполнительный инквизитор был обязан арестовать и допросить ослушников. Если их религиозные убеждения оказывались вне подозрений, то их, разумеется, отпускали, но перспектива провести несколько дней, недель, а то и лет в руках инквизиции действовала весьма устрашающе на внутренних противников Фердинанда.
Тесный союз с католической церковью был не единственным источником испанского политического величия. Наращиванию силы Испании способствовали также американские сокровища и высокопрофессиональная армия. Однако и этой силы оказалось недостаточно, чтобы нести бремя династических амбиций и случайностей. Когда юный Карл Габсбург заявил о своих претензиях на испанский трон своего деда Фердинанда (1516 г.), он принес с собой земли Габсбургов в Германии, бургундское наследство на Нидерланды и вскоре добавил к этой палитре власти еще и претензии на положение императора «Священной Римской империи» (1519 г.). В силу этого государственная политика Испании оказалась нераздельно связанной со всеевропейскими династическими интересами Габсбургов и вобрала в себя блестящие, но умирающие имперские идеалы. Католического рвения, испанской крови и американского серебра было мало, чтобы нести такой груз. Даже после того, как Карл V отрекся от престола (1556 г.) и императорский титул перешел к его брату в Австрии, что дало возможность сыну Карла Филиппу II (ум. 1598) сосредоточить силы Испании на поддержке только одного из двух универсальных институтов средневекового прошлого — папства, испанцы все равно были не в состоянии справляться с Голландией (с 1568 г.) и Англией.
Тем не менее крестовый поход Испании увенчался реальными успехами в Италии, где оружие подкрепило католические реформы и помогло отточить лезвие Контрреформации[924]. Дело средневековой империи было, конечно же, абсолютно проиграно и к 1648 г. сведено до положение Hausmacht -«семейного дела» австрийской ветви Габсбургов. Однако папство и католицизм совершили поразительный взлет после периода религиозной пассивности и политической слабости начала XVI в. — в значительной степени благодаря испанской религиозности и политике Испании. Почти полностью искоренив протестантство в Южной и Восточной Европе, властный союз Испании, Габсбургов и папства наложил прочный отпечаток на религиозную и культурную карту континента.
* * *
В XVII в. главенствующие роли в Европе переместились на север — во Францию, Англию и Голландию. Во Франции Генрих IV (1589-1610 гг.) восстановил монархию после долгого периода гражданских и религиозных войн. Официально государство оставалось католическим, но национальные интересы Франции были старательно отделены от интересов папы или международного католицизма. Действенный королевский контроль над церковью во Франции, восходивший к XIV в., жестко и успешно поддерживался против ожившего папского престола в XVI-XVII вв.[925] Так, Ришелье, первый министр французского короля и кардинал церкви, без колебаний выступил на стороне протестантов в Тридцатилетней войне, когда этого потребовали интересы Франции.
Во время царствования Людовика XIII (1610-1643 гг.) Ришелье использовал королевское войско для разрушения замков и покорения городов, сопротивлявшихся централизованному управлению. После этого королевская власть впервые стала по-настоящему действенной во всех уголках Франции. Однако лишь после поражения длительного, многопланового восстания, известного как Фронда, французская форма абсолютной монархии окончательно вырисовалась в качестве выдающейся модели государственного управления для Европы нового времени в целом.
К тому времени власть во Франции стала широко опираться на профессиональное чиновничество, набираемое преимущественно из средних классов, и на регулярную армию. Эти привычные инструменты позволили французскому правительству осуществлять более жесткий контроль над более многочисленным и зажиточным населением, чем это могло делать какое-либо другое европейское правительство. Более того, административное объединение страны поддерживалось широко распространенным чувством гордости французов за то, что они принадлежат к самому сильному и цивилизованному королевству Европы. При этом приверженность масс режиму достигалась также точным равновесием между теоретически абсолютной властью короля и традиционными привилегиями дворян, интересами горожан и правами крестьян.
Король редко упразднял старые политические институты. Чаще всего он позволял им постепенно вырождаться в пустые вычурные церемонии, тогда как настоящие дела по управлению передавались в руки новых административных каналов, создаваемых специально для того, чтобы обходить неуправляемые местные обычаи и законы. Из-за такой осторожной политики часто складывалось впечатление административной путаницы, но пока королю Франции служили энергичные, способные чиновники, система показывала себя чрезвычайно эффективной, несмотря на вкрапления (а возможно, даже благодаря им) алогичных пережитков средневекового прошлого.
Голландия с ее федеральной формой правления, ставшей продолжением лиги самостоятельных средневековых городов, и не менее архаичный английский парламентский стиль правления находились не на главном направлении политического развития Европы. Тем не менее, несмотря на внешнюю архаичность, обе эти страны предоставили средним классам больше свободы, чем французская монархия. Конечно же, зажиточные горожане в Голландии стремились влиять на городское управление, а через него и на все государство. В Англии поместные аристократы всегда уравновешивали и обычно перевешивали интересы городов, представленные в парламенте. Но представители городов и страны были достаточно близки к делам власти в английском обществе, чтобы превратить парламент в значащий фактор во всех внутренних делах. Победа в английской гражданской войне (1640-1649 гг.)[926] над зарождавшимся королевским абсолютизмом позволила парламенту добиться права на надзор за правительственными финансами, а контроль за казной дал парламенту возможность контролировать управление государством вообще. Таким образом, дворяне и купцы Англии стали играть более активную и прямую роль в вопросах большой политики, чем это могло быть при абсолютной монархии во Франции.
Оригинальным формам правления в Англии и Голландии отвечала в Центральной Европе федеральная лига городских и сельских швейцарских кантонов, также сочетавшая в себе внешнюю архаичность с необычной внутренней гибкостью. В Восточной Европе шляхетская республика в Польше отказалась от французских моделей правления и ослабляла королевскую власть с каждыми выборами на трон. Волею судьбы восточный сосед Польши, Московия, двинулся в противоположном направлении от европейских норм, поскольку здесь самодержавие царей затмило собой права всех общественных классов, а при Иване Грозном (1533-1584 гг.) провело нечто похожее на социальную революцию сверху[927].
Несмотря на эти и многие другие местные особенности, а также несмотря на все военные и дипломатические конфликты (воистину, в значительной мере благодаря им), система управления постепенно укреплялась почти во всех государствах Европы. Это значит, что сила европейской государственной системы в целом возрастала очень быстро по сравнению с остальным миром, где традиционные политические системы испытывали гораздо меньшее давление. С наибольшей очевидностью новая европейская государственная мощь проявлялась в военной сфере. Европейские армии обучались жесткой муштрой и крупными маневрами, причем и то, и другое было направлено на достижение максимальной огневой мощи в любой момент сражения. Аналогичные принципы, применяемые в морском военном деле, позволили флотам, действующим в качестве боевых единиц, еще больше повысить и без того сокрушительную действенность стрельбы одиночных кораблей. При численном равенстве европейские армии и флоты стали гораздо более совершенными инструментами насилия, чем силы любого другого цивилизованного народа, исключая разве что Японию.
Такие преобразования в организации и управлении вооруженными силами были частью общего повышения эффективности государственного управления. По мере того как вооружения в Европе становились все совершеннее и дороже, монархам было легче монополизировать организованное насилие внутри своих государств, укрепляя тем самым внутреннюю власть. Но даже и укрепив свой дом изнутри, правители не давали себе большой передышки в своих усилиях по обновлению, ибо внешние противники, стремящиеся к власти теми же способами, постоянно вынуждали даже самые сильные государства разрабатывать все новые и новые военные технологии, от которых столь очевидно зависели их власть и безопасность.
2. ЭКОНОМИКА
Процессы экономического развития Европы шли рука об руку с процессами политического становления и дифференциации. С возникновением более крупных образований и по мере того, как государство дополняло или вытесняло цеховое и городское управление, предпринимательство получило больше свободы и возможность разворачиваться на более обширных территориях. Купцы, рудокопы и ремесленники часто могли расширять теперь географические масштабы своей деятельности, не опасаясь дискриминации со стороны местных властей в отношении пришлых или не путаясь в противоречащих друг другу системах права. Кроме того, понимание большинством европейских правительств торговых и финансовых интересов и прямые действия многих из них по созданию новых мануфактур и ремесел на своей территории, очевидно, способствовали ускорению экономического развития. Точнее, экономическая политика обычно диктовалась податными и военными целями, война же разрушала экономику. Тем не менее к XVII в. европейские государственные мужи твердо усвоили, что процветающая торговля и промышленность несут прямую выгоду государству. Усилия официальной власти по поощрению торговли и ремесел не всегда приводили к желаемым результатам, однако противоположную политику подавления торговли путем государственного вмешательства (как в Китае) в Европе проводить перестали.
Правительства стран в других частях цивилизованного мира не проявляли подобной заботы о процветании городского населения, возможно, потому, что социальный разрыв между правящими кликами и торговцами и ремесленниками был слишком велик. Разрыв этот существовал не менее реально и в Европе, однако он не был настолько непреодолимым. У европейских горожан была за плечами традиция самоуправления и эффективного отстаивания своих прав против любых чужаков, и даже после слияния в более широкие рамки национальных или династических государств европейские горожане сохранили немалую часть своего прежнего политического влияния. В тех странах, где в XVII в. были достигнуты наибольшие политические успехи, средние классы обеспечили себе надежное место в правительственных механизмах и оказывали прямое влияние на большую политику. Купеческие сыновья поступали на королевскую службу и занимали высокие посты, а многие разорившиеся дворяне смиряли гордыню и брали в жены дочерей банкиров с хорошим приданым. Тем самым сокращался разрыв между купцами и аристократами, и несмотря на то что новая бюрократия наложила руку на многие свободы и права, когда-то гордо осуществлявшиеся горожанами и дворянами, оба эти класса нашли себе более или менее удовлетворительное место в преобразованном государстве.
Хотя правительства многих стран и пытались всерьез прибрать к рукам торговлю, в частности пряностями, европейская торговая экономика никогда по-настоящему не была разбита на отдельные ячейки соперничающих политических образований. В XVI-XVII вв. торговля между различными частями Европы активизировалась и была дополнена растущим объемом торговли с заокеанскими странами и территориями. Завозимые издалека товары по-прежнему были товарами, имевшими высокую удельную цену на единицу веса. Пересечение границы при перевозке из Северной Италии на склады Южной Германии не было непреодолимым препятствием для такой торговли, на долгое время ставшей главным направлением торговой деятельности в Европе. Как следствие, прибыли накапливались в Италии и Южной Германии, так что, когда процентное кредитование перестало, хотя бы отчасти, считаться занятием предосудительным и низким[928], международные банковские фирмы, сыгравшие важную роль в развитии в Европе горнорудного дела и других видов хозяйственной деятельности, стали стремиться располагать свои конторы в городах, стоящих на этом пути, таких как Флоренция, Генуя, Венеция, Аугсбург и Ульм.
Такой порядок торговли и использования финансов дополнился, а к XVII в. был оттеснен перемещением центра международной торговли в Нидерланды. Большинство товаров, перевозимых по морю: зерно, сельдь, треска, лес, металлы, шерсть, уголь и т.д. — составляло в северной торговле более значительную часть, чем специи и пряности, хотя эти и другие товары старой торговли тоже проходили через руки голландских и фламандских купцов.
Еще в средние века изрезанное побережье и судоходные реки Северо-Западной Европы обеспечили существенное развитие крупной торговли на дальние расстояния. В финансовом же смысле превосходство оставалось за торговлей предметами роскоши, сосредоточенной в Италии. Тем не менее в XVII в. массовая торговля более дешевыми товарами обогнала старый стиль торговли, и европейская товарная экономика тем самым достигла той степени прагматизма, который отличал ее от торговых моделей в других частях света. Это означало, что по сравнению с остальным миром гораздо большая часть населения активно вступила в рынок, покупая товары из дальних краев. Венцом такого расширенного участия в рыночных отношениях стало то, что изменения цен начали все шире сказываться на повседневной деятельности, побуждая европейцев расширять одни и сокращать другие традиционные занятия, а также осваивать совершенно новые виды. В европейскую экономику были тем самым внесены элементы сравнительно радикального рационализма. В силу того, что ресурсы перебрасывались с одного участка на другой в соответствии с требованиями рынка, стало возможным мобилизовать средства и усилия для особо привлекательных проектов — как, например, торговля с Индией — гораздо быстрее и в более обширных масштабах, чем было способно любое другое цивилизованное сообщество. Благодаря этому рост богатства и мощи Европы все более ускорялся.
В сельском хозяйстве тоже проявлялось влияние расширения и интенсификации торговой экономики. В наиболее активных центрах европейской жизни расчет цен и прибыли начал приводить к изменениям в севообороте и в методах обработки земли, а также в балансе между животноводством (овцеводством) и земледелием. Порой даже земля и аренда рассматривались как товар для купли-продажи. В результате, возможно, впервые за всю цивилизованную историю для абсолютного большинства населения жизнь перестала ограничиваться установленным с незапамятных времен кругом традиционных сельскохозяйственных работ. Взамен пришли взлеты и падения непредсказуемой рыночной экономики, когда кто-то мог разбогатеть, некоторые становились зажиточными людьми, а многие — нищими, но при этом и богатые, и нищие испытывали неизбежную неуверенность в завтрашнем дне.
Цена, особенно для бедных, была, разумеется, высока, но растущая сложная рыночная экономика Европы, опирающаяся на недорогую перевозку по воде больших грузов, служила мощным рычагом для подъема европейской силы и богатства до уровня, превышающего все, что было достигнуто в любом другом месте. Технические достижения в горнорудном деле, в производстве товаров и в транспортировке, как правило, приносили финансовую отдачу, так что реальная надежда на прибыль уравновешивала и часто побеждала традиционное сопротивление переменам. Тем временем поистине массовый рынок придал европейской товарной экономике энергию, гибкость и размах, равных которым не было больше нигде.
В итоге быстрый рост цен, сильно подкрепленный невиданным притоком золота и серебра из Америки, стал действовать как мощный растворитель на все традиционные экономические и общественные отношения. Когда цены удваивались, утраивались или даже учетверялись в течение одного столетия, рантье и наемные работники, а также правительства испытывали на себе серьезное сокращение реальных поступлений, в то время как всевозможные предприниматели увеличивали свои прибыли. Такая «революция цен» помогает лучше понять подъем средних классов к политическим высотам в Северо-Западной Европе, хотя противоположный ход событий в Испании показывает, что один только рост цен не мог привести к такому результату. Более того: революция цен вылилась в систематическое нарушение традиционных общественных отношений и внесла серьезную напряженность в традиционные ожидания почти всех слоев общества. Ощущение тревоги и чувство неуверенности, охватившее людей в эпоху, когда ничто не казалось надежным, сыграло большую роль в чрезвычайных по степени насилия религиозных и политических столкновениях XVI — начала XVII вв.
3. КУЛЬТУРА
Процессы Возрождения и Реформации разорвали имевшее коренное значение слияние древнегреческих и иудео-христианских элементов в культурном наследии Европы. Крайние представители каждой из этих культур, подчеркивая справедливость только своей точки зрения, отвергали деликатный компромисс между этим светом и тем, разумом и верой, чувственными наслаждениями и духовным совершенствованием, который отстаивали мыслители и художники позднего средневековья[929]. При этом отношения между двумя этими движениями были чрезвычайно сложны и зачастую парадоксальны. Протестантские реформаторы твердили о достижении радикального освящения всех человеческих стараний перед Богом, но фактически через каких-нибудь два поколения добились в некоторых частях Европы невиданного прежде усердия в деле обогащения. В то же время иезуиты, борясь за души для Христа и папы, обнаружили в языческом учении гуманистов один из самых эффективных способов воспитания.
Не исключено, что путем обобщения в таком смешении и борьбе противоречий можно видеть, что и религия, и сторонники светского общества обретали новую энергию от столкновений друг с другом. В мире, полном новых достижений разума и охваченном религиозными страстями, стало одинаково трудно как не проявлять усердие в вере (тем более отрицать ее), так и сохранять догматическую убежденность в способности христианского учения направлять людей во всем и всюду.
Если после 1648 г. страсти утихли, то достижения разума сохранились, но при этом расширилась и углубилась приверженность народов к той или иной устоявшейся форме христианской веры, поддерживаемая развитыми образовательными системами, находившимися под контролем духовенства. Новая атмосфера в общественном мнении, проявившаяся во второй половине XVII в. в наиболее активных центрах европейской культуры, позволила разуму и вере двигаться постепенно расходящимися путями. Претензии на открытие и предъявление абсолютной истины, утверждаемой при необходимости силой, утратили свое влияние на людские умы и перестали быть вопросом практического руководства государством. В таких условиях растущая самостоятельность отдельных интеллектуальных сфер стремилась лишить теологию привычного господства над искусством и наукой, хотя при этом не бросала вызов традиционным прерогативам религии.
Результат бурной борьбы в XVI — начале XVII вв. оказался прямо противоположным намерениям почти всех тех, кто в ней участвовал. Именно неспособность европейцев договориться об истинах религии как в пределах государств, так и за их границами открыла дорогу светскости и современной науке. В тех государствах, где религиозные устремления эпохи Реформации наиболее приблизились к успеху, т.е. там, где светские и церковные верхи объединили усилия, чтобы добиться почти совершенного религиозного послушания, последовал определенный интеллектуальный застой, компенсировавшийся иногда художественным блеском. Таким образом, политическое разнообразие Европы помешало горячему желанию чуть ли не всех интеллектуалов той эпохи[930], сделав невозможным построение единственно авторитетной, окончательной и опирающейся на силу кодификации истины.
По иронии судьбы оказалось, однако, что неудача с установлением всеобщего согласия, которое могло бы управлять мировоззрением, стала великим достижением рассматриваемой эпохи. Европейцы унаследовали от страстной и исполненной мук борьбы XVI в. большее упорство в погоне за знаниями и спасением. Они унаследовали также ряд нерешенных проблем и новых вопросов, обеспечивших продолжение быстрого интеллектуального и художественного развития. Ни интеллектуальное дилетантство, к которому сползало итальянское Возрождение в XV в., ни вулканический догматизм Реформации XVI в. не смогли бы справиться с проблемами, поставленными каждым из них для другого. Коллизии и взаимодействие Возрождения и Реформации, увеличивая напряженность между несовместимыми нераздельными величинами в сердце европейской культуры — древнегреческим язычеством и иудео-христианским наследием, — умножали разнообразие и потенциальные возможности, поднимали интеллектуальную и духовную энергию Европы на новую высоту.
* * *
Богословские страсти периода Реформации легче понять, чем разделить. Когда дела людей более или менее отвечают общим ожиданиям, интеллектуальные гипотезы и новые учения могут привлекать внимание ограниченного круга профессионалов, но пройдут почти незамеченными для подавляющего большинства населения. Так было в XIV-XV вв., когда планы коренной церковной реформы нашли поддержку только у малого числа последователей, когда в итальянских интеллектуальных кругах свободно распространялись еретические мысли о природе Бога и человека, когда ученые-гуманисты все больше относились с презрением к схоластической теологии и философии. Все это резко изменилось в 1517 г., когда один монах в далеком немецком университетском городе вывесил на дверь замковой церкви Виттенберга девяносто пять тезисов, действуя в лучших традициях средневековых академических диспутов. Но вместо диспута вспыхнула вся Германия. Со скоростью взрыва проповедники и печатники распространяли все более радикальные взгляды Мартина Лютера, пока не только Германию, но и всю Северную Европу не охватил спор. Прошла жизнь целого поколения, прежде чем владыки католической церкви в Риме по-настоящему обратили внимание на вызов Реформации. Но когда римская церковь перестроилась, то самоотверженность ее представителей, и прежде всего иезуитов, сравнялась с религиозным рвением и превзошла строгую дисциплину протестантов. К 1648 г. после столетия поражений и побед установилось прочное деление континента на католические и протестантские государства: большая часть германской Европы стала протестантской, тогда как почти вся латинская Европа вместе со славянской, венгерской и ирландской окраинами средневекового христианства остались верны Риму.
Сложные богословские споры между протестантами и католиками, а также между различными протестантскими церквами вспыхнули вслед за крутой волной лютеранского движения. Такие тонкости вероучения, как точное определение сущности и случайности в таинстве причастия или доводы в пользу супра- или инфралапсарианизма (спор о том, было ли предопределено наказание грешникам еще до грехопадения. — Прим. пер.), казавшиеся когда-то жизненно важными, перестали привлекать к себе внимание. Самой же важной точкой разногласий между протестантами и католиками оставался вопрос о природе и истоках религиозной власти. Лютер, Кальвин и их последователи учили, что священнодействовать могут все верующие, распространяя тем самым на всех христиан религиозные обязанности и власть, которые средневековая теология оставляла за профессиональным сословием рукоположенного духовенства. Реформаторы утверждали, что церковная служба налагает определенные обязанности и ответственность, но не наделяет особыми правами по отпуску или лишению спасительной Божьей благодати. Благодать нисходит от самого Бога на тех, кто избран им для спасения от проклятия, которое они заслужили, а единственной подлинной силой в вопросах религии есть слово самого Бога, записанное в Библии. Задача духовенства состоит в том, чтобы излагать и объяснять Божье слово, прививать веру мирянам и ждать с надеждой чуда Божьей благодати.
Точности ради следует сказать, что когда лютеранская и кальвинистская церкви обрели свою форму, практические следствия этих учений перестали быть очевидными. Учения и обряды, выведенные лютеранскими и кальвинистскими священнослужителями из Библии, во многих деталях отличались от вероучения и литургии римской церкви. При этом все учения догматически толковали люди, не позволявшие себе сомневаться в богословских вопросах и подготовленные к насаждению своих взглядов силой, если это позволяли политические условия. Тем не менее, отрицая монополию профессионального духовенства на сверхъестественную силу, протестантские теологи оказались в трудном положении, когда другие пришли к иным выводам из Священного Писания. В результате ярко выраженной чертой протестантства с самого начала стали умножение сект и расколы. А когда некоторые головы отошли от борьбы за бесспорную религиозную истину, предпочитая изучать мир и его чудеса без каких бы то ни было богословских предположений, протестантское духовенство обрушилось со своих кафедр на такое уклонение от вечных истин, но оказалось, по крайней мере логически, с точки зрения своего же собственного определения власти священника, не в силах воспрепятствовать этому.
В итоге непосредственное, личное и отдельное общение верующего с Богом, лежавшее в основе протестантского движения в его начале (1517-1525 гг.), было быстро заглушено созданием ортодоксальных протестантских церквей, оказавшихся столь же авторитарными, как и католическая иерархия, а в некоторых отношениях и более тоталитарными в требованиях к вере. При этом индивидуалистическая слабость осталась под толщей протестантских учреждений и открыто проявилась только тогда, когда протестантские меньшинства перестали слушать официальную религиозную власть, ссылаясь на ту же самую Библию, к которой взывали все протестанты. Сложность с достижением согласия на основе Библии способствовала расширению границ терпимости в протестантских государствах. В католических — границы терпимости были значительно уже по той причине, что высшая религиозная власть в лице папы и каноническое право оставляли куда меньше простора для толкований или сомнений[931], чем Священное Писание протестантам.
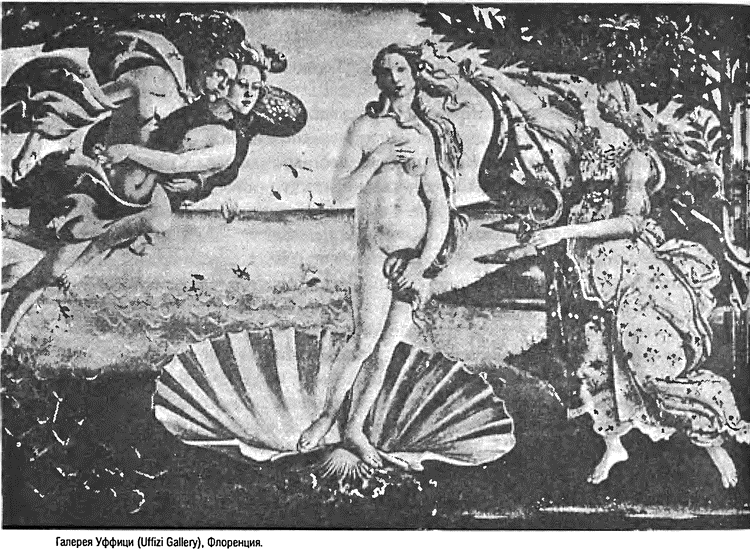
 ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕФОРМАЦИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕФОРМАЦИЯ
Представленные здесь картины ясно указывают на сложные связи и силы, объединявшие европейское Возрождение и Реформацию. Полотно Боттичелли «Рождение Венеры» колеблется между языческим и классическим духом. Портреты четырех евангелистов кисти Дюрера возвращают нас к библейским временам в не меньших раздумьях. Оба произведения разделяют реалистический идеал искусства и используют технику перспективы для создания объема, в котором фигуры обретают свободу обернуться, сделать движение в глубь полотна или навстречу зрителю. При этом «Венера» Боттичелли смущена наготой, как это ни странно для языческой богини любви. Евангелисты Дюрера серьезны, напряжены, исполнены внутренней работы мысли, обходясь, однако, без трансцендентного взора и твердости в вере, характерных для русских икон того времени (см. «Спас Нерукотворный», гл. X). В этих произведениях, таким образом, отразились безмерно плодотворные неопределенности европейской культуры XVI в.
Независимо от того, ускорила Реформация воцарение разнообразия мысли и терпимости в протестантских государствах или нет, не вызывает сомнения, что, разделив Европу на противоборствующие лагери, протестантство вывело на арену новый ряд религиозного разнообразия в рамках европейской цивилизации. Такое разнообразие ставило под сомнение непогрешимость любой отдельной религиозной или интеллектуальной системы, и такая ситуация будила мысль лучше, чем любая другая, способная возникнуть, пока устройство церкви оставалось незатронутым.
В вопросах политики и протестантская, и католическая Реформация прямо способствовала продвижению светской власти за счет папства и империи. Протестантские правители конфисковывали церковные владения и зачастую переводили духовенство на положение наемных служащих государства. Даже в католических странах, где церковь сохранила за собой часть собственности, папство было вынуждено уступить очень широкие полномочия местным правителям в таких сферах, как назначение духовенства, налогообложение церковного имущества и судебная власть над священнослужителями. В результате стали формироваться совершенно различные национальные или государственные церкви даже в универсальных рамках католицизма. И хотя международные образования, подобные ордену иезуитов, стремились препятствовать раздроблению церкви по национальному признаку, даже иезуитам пришлось договариваться со светскими правителями, и, действуя обдуманно, они достигли некоторых блестящих успехов, завоевав доверие королей.
Протестантство также объединило немецких князей в борьбе против намерений Габсбургов подчинить Германию своей империи. Сугубо религиозные объединения влияли, но не управляли на самом деле союзами, успешно создававшимися в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), разрушившей имперские амбиции. Так, католическая Франция объединилась с еретиками и турками, когда этот шаг ей продиктовала общая вражда к Габсбургам. С другой стороны, отдельные князья в Германии не единожды становились на сторону Габсбургов в своих собственных интересах. К концу войны территориальные князья Германии стали по-настоящему суверенными благодаря выступлению Швеции, Франции и других иностранных государств против Габсбургов. Таким образом, окончательное крушение средневековой идеи имперского единства (и косвенным путем крах зарождавшегося немецкого национализма), а также в не меньшей степени развал Вселенской церкви можно приписать влиянию немецкой Реформации.
 КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ 1000—1700 гг.
КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ 1000—1700 гг.
Громогласный шум Реформации и Контрреформации резко отличается от тонких песнопений сирен Возрождения. Хотя звуки сирен были тоже действенными. Их можно' было слышать даже среди вулканических страстей и бунтов, вызванных религиозными раздорами, и они мучили многих тех, кого не могли одолеть. Красота, созданная воображением и искусством человека ради самой красоты, и истина, к которой стремился сбросивший оковы разум, не зависящий от какой-либо внешней власти, оказывали притягательное действие даже на тех, кто отчаянно цеплялись за религиозную и духовную определенность. Когда такие идеалы нашли ясное и бескомпромиссное выражение, как это произошло в Италии в XV в. и в Северной Европе в начале XVI в., дорога назад стала невозможной. Люди делали выбор между этими идеалами и громкими требованиями религии подчас болезненно, как это случилось с Эразмом (ум. 1536), Паскалем (ум. 1662) или Мильтоном (ум. 1674), подчас с приятным чувством освобождения, как это было с Лойолой (ум. 1556), Кальвином (ум. 1564) и Декартом (ум. 1650), а подчас без какой-либо видимой внутренней борьбы, как это видно на примере Шекспира (ум. 1616), Сервантеса (ум. 1616) и Френсиса Бэкона (ум. 1626).
Возможно, оттого, что так много основ старого европейского общества и цивилизации были поставлены под сомнение, эта эпоха оказалась чрезвычайно плодовита в искусстве и литературе и дала жизнь точным естественным наукам. Ни одна последующая эпоха не была столь революционной, и никогда больше европейская культура столь отчетливо не поднималась на новый уровень.
Прогресс культуры разрывался между явно противоположными направлениями. Искусство и литература стремились к выделению в самобытные национальные школы, тогда как науки и ремесла сохраняли общеевропейский характер, хотя при этом и проявлялась растущая профессиональная независимость и самостоятельность мышления. Оба эти пути развития выводили ведущих европейских представителей культуры из-под власти какого бы то ни было всеобъемлющего философско-богословского мировоззрения, чем и объясняется бесчисленное множество противоречий в европейском культурном наследии и достижениях.
Народные языки Испании, Португалии, Франции, Англии и Германии нашли свое прочное литературное выражение в XVI-XVII вв. Сервантес и Лопе де Вега (ум. 1635) в Испании, Камоэнс (ум. 1580) в Португалии, Рабле (ум. 1553) и Монтень (ум. 1592) во Франции, Лютер (ум. 1546) в Германии, Шекспир, Мильтон и переводчики Библии короля Якова (1611 г.) придали своим языкам окончательную литературную форму. В Италии, где народный язык раньше обрел литературный вид, эти века в данном смысле сыграли лишь второстепенную роль. В Центральной же и Восточной Европе литературные диалекты увяли, когда Контрреформация придавила всем весом латинской, германской и итальянской литературы еще нежные и несмелые ростки, выпущенные различными местными славянскими языками.
В изобразительном искусстве языковой барьер не способен изолировать национальные школы друг от друга, и убедительный пример итальянских стилей в живописи и архитектуре был широко воспринят и за Альпами. Хотя и в этих краях художники Голландии, Германии создали собственные национальные школы, невзирая на то что такие основополагающие приемы, как математическая и воздушная перспектива, светотень и идея о том, что живопись должна так копировать природу, чтобы создавать иллюзию оптического опыта (а приемы эти и идеи зародились и достигли полного расцвета в XV-XVI вв.), придавали общую связность всем самостоятельным европейским школам живописи. Архитектура в Северной Европе была более консервативной, итальянское барокко, как правило, ограничивалось католическими странами, тогда как в протестантских — вариации старого готического стиля продержались вплоть до второй половины XVII в.
Развитие науки, техники и ремесел в Европе происходило не путем региональной или национальной дифференциации, а путем разделения на специальные дисциплины и области знаний. Тем не менее заимствования и взаимное влияние нарождающихся дисциплин были важны. Математика особенно стремилась занять среди наук главенствующее место, некогда принадлежавшее Аристотелевой логике. Таким образом появились на свет математическая география и картография, математическая физика, математическая астрономия и (после Декарта) математическая философия. Латынь продолжала оставаться общепринятым языком ученых, так что республика учености, сконцентрировавшаяся преимущественно в Италии, но имевшая крепкий второй центр в Голландии, легко преодолевала национальные и местные языковые барьеры.
Быстрый прогресс естественных наук в Европе объяснялся в значительной мере растущей привычкой проверять теории тщательными измерениями, наблюдениями, а при случае и экспериментом. Такой подход предполагал отказ от веры в авторитетность унаследованной учености, а некоторые проявления новых веяний, как, например, вскрытие человеческого тела и практические опыты в физике и оптике, также бросали вызов давним предубеждениям образованных людей против возможности испачкать свои руки чем-нибудь еще, кроме чернил[932].
В эпоху, когда экспериментальный метод достиг ранга догмы, следует подчеркнуть, что астрономы и физики принялись за активные наблюдения и более точные измерения только после того, как Коперник (ум. 1543) выдвинул альтернативу традиционным теориям Птолемея и Аристотеля для ученого мира, причем сделал это Коперник не на основе наблюдений и измерений, а опираясь на логическую простоту и эстетичную симметрию. Его гелиоцентрическая теория родилась, как представляется, отчасти из знания того, что некоторые из древних, в особенности Аристарх [Самосский], отстаивали такое объяснение небесного движения, а отчасти из-за моды на пифагорейский числовой мистицизм и «культ солнца», исповедовавшийся в итальянских интеллектуальных кругах в годы его учебы в Падуанском университете.
Интеллектуальные пристрастия Коперника были не просто его личной эксцентричностью, поскольку пифагорейско-платоническая традиция сказалась на многих (если не на большинстве) первопроходцах современной математической науки, по меньшей мере вплоть до эпохи Ньютона (ум. 1727). Разумеется, едва ли было бы преувеличением сказать, что дверь для точных измерений и наблюдений явлений природы была открыта в Европе XVII в. трениями между схоластической ортодоксальностью Аристотелевой физики и разнородностью ожившего пифагорейско-платонического математического мистицизма. При наличии на поле брани альтернативных гипотез точные измерения движений планет и подробные математические расчеты, основанные на таких наблюдениях, получили смысл как средства разрешения спора между соперничающими теориями. Более того, учитывая, что защитники идей Пифагора и Платона принялись разрушать устоявшееся здание научной доктрины, именно они и возглавили поход за новыми данными. Так, например, Иоганн Кеплер (ум. 1630) решился посвятить жизнь утомительным расчетам в надежде свести музыку сфер к математическим формулам. Благодаря необыкновенной удаче он нашел часть того, что искал, в простой элегантности своих законов движения планет, хотя и не ответил на главный свой вопрос: как различаются гармонические отношения параметров орбит планет.
Следует иметь в виду, что и измерения, и наблюдения вошли в жизнь вовсе не с черного хода. Прогресс таких прикладных наук, как горное дело, гидротехника, кораблестроение, печать, литье пушек, производство стекла и т.д., географические открытия, привлекшие внимание Европы к новым растениям и животным, появление в Европе диковинных изделий чужестранных мастеров, например китайского фарфора или индийского хлопка, навели Френсиса Бэкона (ум. 1626), в частности, на мысль, что у природы еще много тайн, которые наблюдательный ум может раскрыть и применить на практике, если только возьмет на себя довольно труда, чтобы наблюдать, записывать и сравнивать явления природы. Такой оптимистический эмпиризм нашел родственную почву в медицине, где простейшие анатомические и клинические наблюдения развенчали массу общепринятых идей о физиологии и лечении болезней и ран. При этом даже в медицине напыщенность слога Парацельса (ум. 1541), творившего главным образом под влиянием неоплатонического мистицизма и убежденной самозначимости («эготизма»), помогла расчистить дорогу для детальных трудов Везалия (ум. 1564) по анатомии человека и Уильяма Гарвея (ум. 1657) по физиологии. Оспаривая древний авторитет Галена, Парацельс дал жизнь альтернативной теории в своей науке, подобно Копернику в астрономии.
Вторым залогом успеха точных наук стало быстрое развитие приборов, расширивших природные возможности человеческого глаза и других органов чувств. Такие устройства, как телескоп (изобретен ок. 1608 г.), микроскоп (изобретен ок. 1590 г.), термометр (изобретен ок. 1592 г.), барометр (изобретен ок. 1643 г.) и маятниковые часы (изобретены ок. 1592 г.), придали новый масштаб и точность наблюдениям и измерениям физических явлений[933]. Изобретение новых знаков для математических записей оказало подобное же действие благодаря упрощению расчетов. Даже более крупные, значительно более обобщенные знаки часто подсказывали новые действия и новые взаимосвязи, которые были надежно скрыты за несовершенством старых выражений или за сложностью прежних методов расчета. Аналогичным образом использование гравюр и рисунков для иллюстрирования трактатов по ботанике, географии, медицине и прочим наукам позволило записывать и передавать личные свидетельства наблюдателя с точностью, недостижимой с помощью одних только слов.
Обычай эмпирической проверки теории, использование (и изобретение) усовершенствованных приборов и математический склад ума, вышедший из пифагорейско-платонической традиции, соединились в личности Галилео Галилея (1564-1642), который больше других заслужил право считаться отцом современной европейской науки. Выведенные Галилеем законы движения Земли, поразительные открытия, сделанные им с помощью телескопа (пятна на Солнце, спутники Юпитера), изобретательные опыты и тщательные измерения в сочетании с его упорядоченными (порой ошибочными) теоретическими объяснениями того, что он открыл, вывели европейскую физическую науку на путь открытий, который до сих пор не исчерпан. Несмотря на осуждение его астрономических выводов папской инквизицией, европейский интеллектуальный мир постоянно преобразовывался под влиянием его трудов не меньше, чем под влиянием литературного искусства и полемического мастерства, с которым он высказывал свои мысли.
Ко временам Галилея средневековая иерархия наук, уложенная логикой и теологией в стройное мировоззрение, оказалась разрушенной неустанными исследованиями. Какие-либо новые авторитетные обобщения не возникали, хотя законы Ньютона вплотную подошли к этому в области астрономии и физики. В отличие от своих средневековых предшественников, ученые и изобретатели XVI-XVII вв. ограничивались усилиями, необходимыми, чтобы понять лишь маленькую частичку действительности за раз, оставляя в стороне крупные вопросы религии и философии. Быстрый рост объема данных, все больше получаемых наблюдениями и опытным путем, постоянно приводил к сомнению в правильности старых понятий и к появлению новых. Таким образом, в добром десятке отдельных наук установился самоподдерживающийся круг все более усложняющейся профессиональной деятельности. В таких обстоятельствах все усилия вместить научную теорию в те или иные авторитетные рамки были обречены на неудачу, даже если они пользовались поддержкой церковных властей, энергично ссылались на непогрешимость Священного Писания или опирались на строгую дисциплину картезианского сомнения и априорной дедукции.

 НОВЫЕ ВЫСОТЫ И ГЛУБИНЫ
НОВЫЕ ВЫСОТЫ И ГЛУБИНЫ
Деталь картины Иеронима Босха (ум. 1516) «Ад» слева и голова св. Иоанна Крестителя кисти Эль Греко (ум. 1614) справа показывают контрастные аспекты поисков европейцами определенности перед лицом невиданного общественного и культурного переворота, ознаменовавшего собой вступление в эпоху нового времени. Босх изображает пороки чувств с неким завороженным отвращением. Такая живопись ведет в подсознательные глубины человеческого духа — глубины, оказавшиеся необычно близкими к открытому выражению в период бурного перехода Европы от средневековой к новой форме. Картина Эль Греко, с другой стороны, воплощает слияние земного великолепия и стремления к внеземному, присущее католической Европе в XVII в. Эль Греко использует здесь мастерство художников итальянского Возрождения, чтобы выразить обновленное религиозное видение католической реформации. Он достигает задуманного эффекта, свободно уходя от идеала оптической точности, удлиняя лица, увеличивая их глаза и другими способами создавая образ, напоминающий критско-византийский художественный стиль, с которым он познакомился в юности. Такое смешение греческой манеры, итальянской техники и испанской религиозности служит великолепным образцом культурной открытости Западной Европы — открытости, в которой заключены и тайна, и мера ее усилившейся мощи в ранний период нового времени.
* * *
Величие достижений европейской культуры в XVI-XVII вв., сила и размах религиозных, политических и общественных сдвигов этой эпохи пробуждают интерес и вызывают восхищение. Прежние отношения между людьми, старый образ мыслей и старые шаблоны чувств и набожности утратили привычную твердость, а значение личности соответственно возросло, как еще никогда в истории цивилизации. В каждом конкретном случае традиции лишились былой ортодоксальной точности в определении того, что следует думать, и в указании того, что надлежит делать. Вместо этого отдельные личности и группы получили возможность выбора. В результате стали проявляться необычайной широты человеческие возможности. Высоты и глубины человеческого духа нашли необычно разнообразное выражение, когда формируемые способности человека столкнулись с неопределенностью как с безвыходной ситуацией. Тут уже европейцы воспользовались всеми своими преимуществами: и богатым культурным наследием, и совершенной для своего времени техникой, и стимулирующим действием контактов по всему свету — для разрешения проблем быстрого распада общественных и культурных рамок их средневекового прошлого.
В Древнем Риме подъем христианства стал реакцией цивилизации на разрушение традиционного общества, аналогично тому, как произошла религиозная революция в Китае во времена династии Хань. В XVI в. индуистская Индия и Европа нашли в религии ответ на распад своего культурного мира: в Индии — в виде эмоционально ожившего и обретшего широкую популярность индуизма, в Европе — в виде Реформации и Контрреформации. Европа к тому же отреагировала на разрушение своего средневекового порядка созданием точных наук и светской литературы, искусства барокко и рационалистической философии, и в этом были заложены ростки силы для прыжка к светскому обществу, ставшему главной чертой последующей истории Европы.
Многообразие реакции на общественный и культурный кризис в Европе XVI-XVII вв. легче понять, если учесть изначальную двойственность европейского культурного наследия. Однако Европа не была единственной частью мира с подобной двойственностью. Китай тоже получил двойное культурное достояние после наводнения его буддистами, а взаимовлияние конфуцианства и буддизма, несомненно, стало существенным фактором роста для позднейшей китайской культуры. Мусульманский мир также с самого начала испытывал культурное раздвоение между эллинистическим и древневосточным наследием. Следует отметить, что взаимодействие между культурными течениями в Китае и на Среднем Востоке, ограничиваясь обычно узкими интеллектуальными кругами, оставалось сравнительно мягким, без страстей и резкости, крайностей и безрассудства, характерных для европейского процесса. Этот контраст объясняется общей устойчивостью китайского и средневосточного общества, всегда основывавшихся на полярном положении землевладельцев и крестьян при вкраплении подавленного населения городов.
Следует иметь в виду, что приведенные объяснения оставляют в стороне фактор личности и стимулирующую роль, которую отдельные люди способны играть в критических ситуациях. Реформацию без Лютера, иезуитов без Лойолы или современную науку без Галилея поистине трудно представить. Недостаток исторических трудов, подобных этому, заключается в том, что уникальный личный жизненный путь либо особо важный момент в мышлении той или иной личности могут быть легко перекрыты весом неточных обобщений.
Даже после того, как надлежащим образом рассмотрены все благоприятные обстоятельства и условия, всегда остается элемент непредсказуемости в делах человека. Элемент этот принимает особенно большие размеры в ситуациях, подобных тем, с которыми столкнулись европейцы в XVI — начале XVII вв., когда человеческое величие, — как и порочность, — расцвели буйным цветом на благодатной почве духовной неопределенности. Интерес и изумление, возникающие при виде проявлений таких масштабов человеческих возможностей, опираются на подобающее признание личных и коллективных ограничений, в рамках которых должны жить все люди. Мы все и весь мир XX в. в особенности — творение и наследники гениальных личностей ранней эпохи современной Европы, поскольку именно они определили особые и отличные современные черты европейцев, в частности западных, а теперь — на весьма существенном уровне — и мировой цивилизации.
В. СТРАНЫ, ЛЕЖАЩИЕ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЕВРОПЫ: АМЕРИКА И РОССИЯ В 1500-1650 ГГ.
1. АМЕРИКА
Взаимодействие между европейской цивилизацией и цивилизацией американских индейцев в XVI-XVII вв. было на редкость односторонним. Испанцы нашли немного привлекательного для себя в коренных американских культурах и за исключением таких полезных местных растений, как кукуруза, табак и картофель[934], мало что переняли у покоренных ими народов. Что касается самих индейцев, то военное превосходство завоевателей было чрезвычайно преумножено упадком духа местных вождей, чьи вековые устои и правила оказались совсем непригодны для того, чтобы противостоять испанским идеям, испанским болезням и испанской мощи. Таким образом, высокая политическая и культурная организация империй ацтеков и инков исчезла почти внезапно, когда жрецы и воины, поддерживавшие эти структуры, утратили веру в свои традиционные общественные и культурные системы. Вместо того чтобы упорно держаться за привычные идеи и установки, индейцы оцепенело подчинялись словам миссионеров и приказам чиновников. Они оказались такими покорными, что христианство закрепилось в Мексике и Перу чуть меньше, чем за жизнь одного поколения.
Пионерами испанской Америки стали миссионеры, когда утихла золотая лихорадка конкистадоров. Поскольку иезуиты, доминиканцы и францисканцы охотились не за золотом, а за душами, им было легче проникать в сравнительно первобытные районы, такие как Парагвай или долина реки Ориноко, где они основали крупные миссионерские колонии. Впечатляющий характер европейской техники[935], а также католического ритуала и доктрины, самоотверженность (не лишенная порой своекорыстия) тысяч священников и монахов, поразительная податливость менталитета американских индейцев перед лицом почти полного развала их прежних общественных систем — все это способствовало успеху испанских миссионеров. К концу XVII в. очаги нетронутого язычества в пределах контроля испанцев были немногочисленны и сильно разбросаны по территории. В каждом крупном городе красовались большие церкви впечатляющей архитектуры, а индейцы хранили лишь остатки своих прежних религий, переодетых, иногда вполне сознательно, в христианские одежды[936].
Воцарение испанских порядков и светской культуры шло рука об руку с распространением христианства. Система законности и политических взаимоотношений на уровне, выше сельского, стала быстро строиться по испанскому образцу, а в наиболее доступных индейских деревнях новые экономические шаблоны, вводимые испанцами, быстро вытесняли традиционное натуральное хозяйство. Полупринудительный труд на испанских хозяев в рудниках и на ранчо требовал рабочей силы из деревень, так что к концу XVII в. самостоятельные деревни доколумбового типа оставались лишь в отдельных районах гор, пустыни или джунглей[937].
Правительство Испании и многие миссионеры на местах добросовестно пытались защитить права индейского населения. Испанские предприниматели были менее щепетильны и находили способы обеспечивать себе индейских работников для рудников и плантаций как с официальными разрешениями, так и обходясь без них. Непривычные и порой очень тяжелые условия труда приводили к гибели части индейских работников, однако непрерывные вспышки европейских болезней были гораздо более опустошительны. По иронии судьбы попытка восполнить нехватку рабочей силы за счет негритянских рабов из Африки только усугубила проблему появлением еще и африканских болезней. Результатом стало резкое вымирание населения. По некоторым оценкам, население Центральной Мексики, равнявшееся в 1519 г. 11 млн., сократилось до 2,5 млн. к 1600 г., и вымирание продолжалось, так что в 1650 г. это население составляло около 1,5 млн.[938] Приведенные цифры при всей их относительной точности красноречиво объясняют деморализацию коренного населения и легкость, с которой численно небольшое испанское меньшинство[939] навязало ему свои культурные и экономические порядки.
Ближе к окраинам испанской империи в Новом Свете распад индейского общества был не таким резким и глубоким. Так, в Чили арауканы противостояли испанской военной силе два десятка лет, прежде чем были разбиты; воинственные племена в северной части Мексики нередко беспокоили испанцев в течение всего XVII в. Еще более изолированные общины, например воинственные племена Северной Мексики, избежали глубокого нарушения своих традиционных устоев, даже когда оказались под сенью испанского господства.
Однако на великих равнинах Северной Америки, куда не добралась испанская сила, к быстрым общественным преобразованиям привело распространение коневодства. Племена, жившие на территории пастбищ или поблизости, стали охотиться на буйволов верхом, что позволило им значительно увеличить добычу по сравнению с пешими охотниками. Это было всего лишь начало коренных общественных изменений, так как племена, перебравшиеся в прерии и пересевшие на лошадей, должны были также пересмотреть и приспособить немалую часть общественных обычаев к полувоенному, полукочевому образу жизни[940].
Когда в XVII в. поселения французов, англичан и голландцев стали разрастаться на Атлантическом побережье Северной Америки, индейцы восточных лесистых районов ощутили на себе действие тех же болезней и подавленности, которые столь серьезно сказались на их собратьях в испанской Америке. Французы, как и испанцы, уделяли значительное внимание миссионерской деятельности среди индейцев Канады, в то время как голландцы и англичане предоставили это занятие эксцентричным одиночкам и по большей части относились к индейцам как к врагам или как к легковерным партнерам по торговле. В силу этого французы в целом поддерживали лучшие отношения с индейцами, чем их английские соперники, однако болезни от этого не становились менее опустошительными. Крепкие напитки усугубили разлагающее влияние военного поражения, экономической эксплуатации и болезней. Вследствие всего этого коренное общественное устройство индейцев было поражено гнетущей апатией, которую время от времени нарушали спонтанные и безуспешные восстания как на французской, так и на английской территории поселений.
Смешанные в расовом отношении общества возникли на большей части территории испанской и португальской Америки и состояли из европейцев, индейцев и вкраплений африканцев. Довольно распространенная практика предоставления вольной смягчала тяготы рабства в этих районах, а католическая церковь поощряла браки белых иммигрантов с индейскими женщинами в качестве средства от половой распущенности. Однако в южных английских колониях и на большинстве островов Карибского моря наличие вывезенных из Африки рабов способствовало созданию более резко поляризованного двухрасового общества. Строгие расовые предрассудки и рабское положение почти всех чернокожих эффективно препятствовали смешанным бракам, даже если не было законодательного запрета. Такая дискриминация все же не мешала смешению кровей, но дети от родителей разной расы наследовали положение матери. Мулаты и индейские метисы были, таким образом, исключены из белого сообщества. На испанских (и, с некоторым отличием на португальских) территориях установился более тонкий и менее жесткий принцип расовой дискриминации. Немногие родившиеся в Европе притязали на самое высокое положение в обществе, за ними шли потомки европейских переселенцев, а ниже располагались различные расовые смеси, образующие общественную пирамиду, где многочисленные расовые классификации означали, что ни один барьер не может стать таким же трудным и непреодолимым, как те, которыми темнокожие отделены от белых в английских, голландских и французских колониях[941].
 СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И СМЕШЕНИЕ РАС
СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И СМЕШЕНИЕ РАС
В Аргентине и в северной части английских и французских колоний индейцы были слишком отсталы и слишком малочисленны, чтобы служить серьезным источником рабочей силы, а плантационное сельское хозяйство, основанное на труде черных рабов, было невыгодным. Поэтому в Новой Англии и в колониях на среднем побережье Атлантики тяжелым трудом по расчистке лесов и обработке полей приходилось заниматься самим поселенцам, а в Аргентине тем же приезжим европейцам выпадал более легкий труд на ранчо. Таким образом, в этих районах возникли прочные европейские общества, во многом похожие на родственные общества Старого Света в своих основах и ценностях. Самым очевидным отличием между обществами Старого и Нового Света была слабость или отсутствие класса аристократов в Америке, за исключением рабовладельческих районов. Не менее важным была и более пестрая религиозная картина Нового Света в силу того, что английское правительство разрешило религиозным меньшинствам свободно выезжать в колонии. При этом Франция, как и Испания, ограничивала иммиграцию правоверными католиками и поддерживала строгое религиозное послушание в своих колоссальных владениях.
Французское и испанское правительства удерживали свои колонии в жесткой политической и экономической зависимости от метрополии. В отличие от них власти Англии позволяли колониальному самоуправлению развиваться в широком масштабе отчасти потому, что конституционные трудности и гражданские войны в Англии середины XVII в. отвлекали ее внимание от дел в Америке. В отсутствие тесного надзора и контроля со стороны метрополии на поверхность всплывала тенденция к установлению в обществе равноправия, дремлющая в недрах любого общества, где население невелико, а земли в изобилии, что придавало английским колониальным правительствам четкую демократическую окраску.
В перспективе более свободные, более незарегулированные и более демократичные модели английских колоний должны были создать (и позже создали) большие возможности для развития. В XVI-XVII вв., однако, забота Испании о своих американских владениях давала лучший результат. Суровые условия жизни в Новой Англии не идут ни в какое сравнение с роскошью Лимы или Мехико. Утонченным манерам при дворе вицекоролей в Мексике и Перу, великолепию церквей в стиле барокко в мексиканских провинциях, образовательной и благотворительной деятельности испанских миссий ничего нельзя было противопоставить в лесной глуши Массачусетса. Но за такие достижения нужно было платить. В короткий срок демографический и экономический упадок подорвали величие колониальной жизни Испании, а экономическому подъему последующих веков не удалось выправить ситуацию. Скованной, стесненной и связанной священниками, чиновниками, законниками и землевладельцами, постоянно удерживаемой вожжами из Мадрида латиноамериканской общине пришлось нелегко, когда самозванные покровители испано-индейско-негритянской общины Америки перессорились друг с другом, а подчиненные классы перестали принимать опеку над собой с безропотной покорностью предшественников двух столетий[942].
2. РОССИЯ
Экспедиции и открытия европейцев в XVI-XVII вв. не ограничивались только далекими морями. В те самые десятилетия, когда испанцы исследуют Новый Свет за туманной Атлантикой, итальянцы, немцы, голландцы и англичане начинают подобное предприятие по открытию для Западной Европы России. Хотя русские православные княжества, разумеется, соседствовали с латинским христианским миром с XIII в., а ганзейские купцы обосновались крупными поселениями в Новгороде и в некоторых других русских городах с XIV-XV вв., масштабы таких контактов были ограничены, а случаи проникновения в глубь российской территории были редки. Когда же Москва стала политическим центром обширного государства, русские меха и древесина начали привлекать азартных торговцев с Запада как раз в тот момент, когда минеральные богатства Нового Света ускорили освоение заокеанских территорий испанцами.
Естественно, Россия не была такой же отсталой по сравнению с Западной Европой, как американские индейцы. Коренные российские устои и культура легко пережили захват Москвы поляками в 1610 г., в то время как цивилизации ацтеков и инков были безвозвратно разрушены под натиском испанских конкистадоров. Но несмотря на эту разницу, Россия, как и Америка, с XVI в. тоже стала окраиной Западной Европы. И не только в географическом смысле, но и потому, что решающе важным для нее стал вопрос о том, как выстоять перед натиском европейцев и их цивилизации.
Московские правители поначалу гостеприимно принимали западных купцов и авантюристов, ценя мастерство и технические знания, которые те несли с собой. При этом с самого же начала существовала и загадка русского ума и души, которые с силой отвергали иностранное влияние во имя православия и самодержавия. По мере того как превосходство западных наций над русской цивилизацией становилось все очевиднее, отношение России к ним принимало все более болезненный двойственный характер. Противоречивое отношение часто раздирало душу отдельных людей, так что каждое обращение к Западу выглядело лишь временным, а отказ от западного влияния всякий раз считался окончательным. В XVI в., когда контакты с Западной Европой были все еще слабыми, и до того, как западная угроза православной культуре и обществу стала явной, русские в целом были вполне готовы к тому, чтобы усваивать те чужеземные приемы мастерства и знания, которые казались выше их собственных. Однако в первой половине XVII в., после того как нападение Польши наглядно указало на опасность, идущую с Запада, возникло противодействие и главным стало стремление укрыться за самобытным русским прошлым.
Глубокая ирония судьбы, связанная с военными потребностями, ослабляла все усилия России, направленные на освоение западного мастерства. Русское правительство никогда не могло совершенно спокойно пренебрегать угрозой, исходящей от любого изменения западной военной технологии. К тому же усилия по переносу всего арсенала западных вооружений на русскую почву требовали быстрых преобразований в существующих общественных отношениях и в практической жизни. Это, в свою очередь, побуждало, если не требовало, прибегать в массовом порядке к насильственным мерам как к простейшему способу заставить народ делать то, что верхи считают необходимым. При том, что технический разрыв между русским и западным обществом сужался, массовое применение силы для того, чтобы принудить население выполнять то, что правители находили нужным, в то же время расширяло пропасть между общественным устройством России и западных держав. Таким образом, срочные усилия России по копированию западных технологий сделали невозможным полный перенос достижений западной культуры. Более того, массовое применение правительством мер насильственного принуждения для достижения целей, которые в большинстве своем были непонятны русскому крестьянству, вызвали сильное стихийное сопротивление большинства русского народа, который, будучи вынужденным подчиняться, никогда полностью не мог смириться с тяжелой неволей, в которую его ввергало государство.
Такого рода дилеммы начали возникать в период правления Ивана III (1462-1505 гг.), установившего дипломатические отношения с некоторыми западными государствами и приглашавшего иностранных мастеров и зодчих (в основном из Венеции) для строительства в Москве каменных дворцов и церквей. Иван IV Грозный (1533-1584 гг.) оказал гостеприимство английским купцам, прибывшим через Архангельск, и предоставил им специальные торговые привилегии. Даже в XVII в., когда неприятие Запада достигло наивысшей точки, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович (1613-1645 гг.) пригласил голландца для налаживания оружейного дела в Туле, с тем чтобы обеспечить надежную поставку оружия своему войску.
Несмотря на то что превосходство Запада в технике никого не оставляло равнодушным, следует иметь в виду, что мастера и промышленники, которых Россия приглашала или допускала на свою территорию, должны были служить только ее интересам. Эффективность контроля, под которым находились иноземцы, определялась силой двух центральных институтов русского общества — православной церкви и московского самодержавия. При этом перед лицом растущего вызова Запада показывать такую силу было нелегко. Поэтому и русской церкви, и русскому государству нужно было принимать радикальные меры по урегулированию давления Запада, и в ходе этого процесса ему не удалось избежать серьезных внутренних волнений.
* * *
Русскую церковь в конце XV — в начале XVI вв. раздирали сильные противоречия. Страстные защитники каждой капли существующих форм русского православного обряда и веры вели жесткие схватки с теми, кто желал коренных преобразований. Реформаторы сначала действовали в одиночку и более или менее тайно, за что противники клеймили их словом «жидовствующие», скорее звучавшим как поношение, нежели отвечавшим смыслу их действий. Не успели предать их идеи анафеме, как вспыхнул новый спор о том, имеют ли право церкви и монастыри владеть землями[943]. По этому вопросу московские законники заняли двусмысленную позицию, поскольку они колебались между соблазном конфисковать обширные владения церкви, как это предлагали радикалы, и торжественным прославлением пышной власти, бывшим главным козырем консервативного лагеря. Спор привел к выражению диаметрально противоположных взглядов на само назначение церкви. Критики православной верхушки хотели, чтобы духовенство подражало Христу и апостолам и жило в смирении и бедности вместе с народом, тогда как их противники желали, чтобы церковью руководили набожные и грамотные священники, которые бы дисциплинировали и воспитывали рядовое духовенство и вывели бы церковь в первые ряды защитников от чужеземной ереси и греха. В конце концов Василий III (1505-1533 гг.) встал на сторону консерваторов и потребовал от войска и чиновников подавления критиков, радикалов и реформаторов.
 ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО В МОСКВЕ
ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО В МОСКВЕ
Иван IV Грозный (1533—1584 гг.) построил этот храм в ознаменование покорения им Казанского и Астраханского ханств. Перед нами предстает старая Московия: церковь и государство, объединенные в самой идее собора, построенного самодержцем в честь военных побед. Черты византийского, персидского, итальянского и русского средневекового зодчества соединились и вылились в странный в своей гармонии и колоритный результат. Этот архитектурный подвиг отразил в кирпиче и камне не менее замечательное политическое достижение, заключающееся в том, что Иван Грозный и его ближайшие предшественники перетянули татарских и европейских мастеров на службу России и использовали их технические знания для укрепления и расширения московского самодержавия.
Но и такая политика натыкалась на подводные камни. Русские богослужебные книги и обряды значительно отличались друг от друга в силу того, что за прошедшие века переводчиками и переписчиками в них было сделано немало ошибок. Казалось бы, что необходимо было привести все к единому виду, однако подлинные нормы нельзя было определить без критического изучения написанного, на что русское духовенство тогда не было способно. Требовалось, следовательно, обратиться к иностранным ученым. Но такая мысль противоречила глубокому убеждению, вынашиваемому со времени падения Константинополя (1453 г.), что только Россия сохранила православную веру в ее цельной чистоте. Таким образом, когда одна церковная партия пригласила из Италии ученого мужа по имени Максим Грек в Россию, дабы привести русские церковные книги в соответствие с греческими оригиналами, разыгралась новая буря, и несчастный ученый окончил свои дни (1556 г.) заточенным в одном из отдаленных монастырей.
Проблема обострилась после 1568 г., когда в Речи Посполитой (Польско-Литовском государстве) активизировались иезуиты, вооруженные научным багажом Контрреформации. Они быстро добились успеха в борьбе с польскими протестантами, а затем обратили свое внимание на многочисленных православных. Степень учености и благочестия православной верхушки Украины (большая часть которой была тогда в составе Польско-Литовского государства) была весьма низкой. Ввиду этого православное духовенство было практически неспособно действенно противостоять иезуитам, опиравшимся на силу королевской власти и дворянства. В результате в 1595 г. большинство православных епископов Украины и Литвы согласились на унию с Римом при условии, что им разрешат сохранить старославянский обряд. Так возникла «униатская» церковь. Это вызвало глубокий страх и враждебность в русском православном духовенстве, видевшем в униатстве компромисс с папством и повторение отступничества (Флорентийская уния 1439 г.), приведшего к падению Константинополя.
Тем не менее доводы и ученость римских католиков опровергать было трудно, особенно если в официальных русских церковных книгах находили очевидные ошибки. Однако у православия было одно сильное средство, которое могло выдержать наступление латинян: большая древность греческого христианства. Нужно было возобновить усилия по реорганизации русских церковных обрядов и по приведению богослужебных книг в соответствие с греческими образцами, и в 1653 г. патриарх Никон[944] официально приступил к реформе. Чтобы опровергнуть нападки иезуитов, Никону нужно было «обобрать египтян», пользуясь методами разбора текстов, в которых большими мастерами слыли римские католики. Хуже всего, по мнению его православных противников, было то, что люди, способные воспользоваться такими методами, все учились в Киеве или где-нибудь еще, в среде, испорченной тесными связями с западными еретиками.
В результате русское православие на долгое время раскололось, поскольку властолюбивый Никон и такие же неподатливые и фанатичные по духу его противники[945] не терпели компромиссов. Даже после того, как Никон поссорился с царем и был лишен своего сана, его политику продолжили церковь и государство. Бегство и ссылки старообрядцев, сопровождавшие официальные гонения на тех, кто не принимал новшества Никона, лишь распространили раскол во всю ширь и глубь России. Старообрядческие секты ушли в подполье, оказывая оттуда упорное сопротивление своим гонителям, в которых они видели посланцев и даже воплощение антихриста. Таким образом, русское православие выдержало наступление Запада только ценой серьезного раскола, вызванного намерением усвоить одним разом науку, которую Запад постигал постепенно в течение четырех-пяти столетий.
* * *
Как и церковь, русское государство переживало сильные потрясения и трудности, пытаясь справиться с нападениями из-за рубежа и внутренней анархией. В 1564 г. царь Иван IV[946] развязал террор против наследственной аристократии (боярства) России, отбирая его земли и наделяя поместьями людей, состоявших на воинской и других видах службы у государства. Таким путем царь полагал создать войско и систему управления, способные одолеть его иностранных врагов. Выдающиеся успехи были одержаны им на Востоке. Так, русские войска начали занимать Сибирь и открыли Волгу для русской торговли с завоеванием Казанского и Астраханского ханств (1552 г., 1558 г.). Однако в противостоянии с Польшей и Швецией Россия одерживала лишь редкие победы и в течение царствования Ивана IV уступила некоторые свои территории западным соседям.
После смерти Ивана IV правление его неумелого сына и ряда самозванцев привело к периоду беспорядков, известного в российской истории как Смутное время (1584-1613 гг.). Здесь смешались кровавые заговоры в среде высшего боярства, стремление казаков к грабежам и наживе, слепой гнев угнетенных крестьян[947], и все это увенчивалось путаным, но массовым единением с православным прошлым России в борьбе против захватчиков из католической Польши. Больше всех выиграли от такой реакции народа патриарх Московский Филарет и его сын Михаил Романов, возведенный на российский трон (1613-1645 гг.) и восстановивший самодержавие и служилое дворянство в качестве основ правления российским государством.
В XVI в. русские правители экспериментировали с полунезависимыми органами местного самоуправления и с Земскими соборами, — совещательными органами в составе представителей высшего чиновничества, дворянства, мещан и духовенства, — однако эти органы сошли со сцены при первых Романовых. Их аналоги во Франции — провинциальные собрания и генеральные штаты — в ту же эпоху уступали путь централизованной власти абсолютной и бюрократической монархии. Таким образом, по своему внешнеполитическому развитию Россия вплотную приблизилось к самым передовым странам Западной Европы. Однако вместо сложного равновесия между монархом, дворянством и буржуазией, на которое опирался французский абсолютизм, русское самодержавие оседлало закрепощенное, угнетаемое и в основном недовольное крестьянство и деспотически относилось к мещанам и духовенству. Только созданное самодержавием служилое дворянство могло добиться, чтобы государство прислушивалось к его желаниям; но даже и это сословие, как бы оно ни было необходимо правительству, можно было заставить плясать под дудку волевого правителя. Видно, что, несмотря на внешнее сходство, русское самодержавие и французский абсолютизм на самом деле очень отличались друг от друга.
При первых Романовых Россия стремилась исключить иностранное влияние настолько, насколько это позволяла ее безопасность. Это значит, что хотя в иностранцах и нуждались как в инструкторах по подготовке войска и в оружейных мастерах, что хотя иностранные купцы нужны были для сбыта мехов, приносивших казне существенный доход[948], тем не менее всех иностранцев держали насколько возможно на безопасной дистанции. Им выделяли для проживания специальные слободы в Москве и других городах и относились к ним с общим подозрением как к опасным еретикам. Живое любопытство и скорее капризная благосклонность, с которой Иван Грозный согласился на приезд в Россию первого англичанина, исчезли. При этом протяженная и открытая сухопутная русская граница с Западом не позволяла полностью исключить проникновение назойливых чужеземцев, как это могли, например, сделать японцы. Невзирая на все усилия избежать иностранного влияния, Россия оказалась крепко втянутой в дела расширяющейся, опасно могучей и весьма притягательной западноевропейской цивилизации.
В то же время опирающееся на военную силу русское самодержавие занимало очень выгодное положение на южных и восточных границах страны, поскольку уровень готовности к войне с Западом обеспечил русской военной и политической машине решающее превосходство над всеми соперниками в Сибири, а также позволил Москве оторвать большую часть Украины от разваливающегося Польского государства во второй половине XVII в.[949] Амбиции России и болезненные отношения с Западной Европой получили превосходную компенсацию на других границах и, несомненно, превратили Россию в полузападное государство по отношению к более отсталым народам лесных и степных районов Северной Азии.[950]
Г. ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО БАЛАНСА В 1500-1700 ГГ.
1. МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
К концу XV в. обращенные в ислам степные воины, воспользовавшись помощью мусульманских миссионеров, купцов и местных мусульман, захватили сердце православного христианства, проникли глубоко в Индию и принесли мусульманскую веру и культуру во внутренние провинции Китая. Даже в Африке к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии, вдали от стрел кочевников, купцам и миссионерам удалось многих обратить в ислам к началу XVI в. Энергия мусульманской экспансии не угасла, когда немногочисленные европейцы обошли вокруг Африки и установили свое превосходство в Индийском океане. Мусульманские воины и купцы вместе с суфийскими святыми и учеными-богословами продолжали, как и до XVI в. завоевывать новые территории и новых верующих в XVI-XVII вв. И хотя военные победы мусульман после 1700 г. стали более редкими, тихая пропаганда ислама и обращение в него не прекращаются и в наши дни.
Более того, общественная поддержка, на которую опиралась мусульманская экспансия до XVI в., продолжала действовать в почти неизменном виде на протяжении последующих двух столетий. Так, в 1507-1515 гг. узбекские кочевники вторглись в города междуречья Амударьи и Сырдарьи, как это делала не одна племенная конфедерация до них. Остатки бывшей правящей верхушки этого района — тюрки, ассимилировавшиеся в персидской культуре, враждовавшие между собой наследники Тимура, ринулись на юг, в долины Северной Индии, где основали империю Великих Моголов[951]. Почти в то же время, в 1565 г., мусульманские правители в Южной Индии, набрав войско в Иране и Туркестане, объединились для захвата Виджаянагара — последнего сильного индуистского государства. Ислам одержал победу и на Яве, где в 1513-1526 гг. объединение мусульманских прибрежных княжеств свергло индуистское правительство внутренней части острова и начало распространять свою веру в глубь территории. Другие острова и прибрежные территории Юго-Восточной Азии, особенно те, где активно велась торговля, в XIV-XVIII вв. также были вовлечены в орбиту ислама[952].
Практически такие же миссионерские процессы проходили и в Судане — в западной части Африки, где купцы и праведники, поддерживаемые такими мусульманскими государствами, как Тимбукту, Кано, Борну, Марокко, спорадически распространяли ислам даже в периоды войн между собой[953]. В Восточной Африке мусульманские торговые города с начала XVI в., как правило, находились под португальским господством, однако кочевые мусульманские племена проникали глубоко внутрь территории (главным образом на севере региона), несмотря на то что побережье находилось под контролем христиан[954].
Подъем сильного Персидского государства был также отчасти вызван узбекской угрозой. Все происходило в соответствии с очень давними прецедентами с той разницей, что это был последний в истории Западной Азии случай, когда степные народы смогли свергнуть цивилизованные правительства и привести в действие цепную реакцию создания государств в Индии и на Среднем Востоке. Завоевание маньчжурами Китая в следующем веке — та же ситуация для восточных степей.
Даже в христианской Европе, где культурное и военное сопротивление исламу было гораздо сильнее, чем в Африке или в Азии, Османскому государству удавалось теснить христиан вплоть до начала XVIII в. Османские войска в 1526-1543 гг. захватили большую часть Венгрии и создали кольцо зависимых государств вокруг Черного моря. После периода волнений (1579-1623 гг.), когда из-за недостатков османской системы престолонаследия была парализована центральная власть, новый султан (1623-1640 гг.) провел победоносную войну, однако на этот раз против соперничающей мусульманской империи, появившейся в Персии. По завершении еще одного периода слабого правления решительный и воинственный великий визирь Мухаммед Копрюлю развязал еще одну (оказавшуюся последней) кампанию военной экспансии в Европе (1656 г.), выдохшуюся в 1683 г. при осаде Вены[955]. Такой ход истории, казалось, приносил успех мусульманской экспансии, вытеснявшей христианство, хотя оно и возникло раньше ислама. Все правоверные мусульмане могли чувствовать себя уверенно, по крайней мере, до победы Австрии при Зенте в 1697 г., настолько, что тысячелетняя борьба против христианства складывалась, как и в прошлом, в пользу мусульман.
И все же, несмотря на такое впечатляющее продолжение процессов предыдущих столетий, мусульмане потерпели в начале XVI в. три серьезные неудачи, от которых так и не смогли оправиться, а именно: 1) победы государств Пиренейского полуострова в войнах против ислама в Средиземном море, в районе Атлантического и Индийского океанов; 2) укрепление Московского государства, в результате которого ханства западных степей уже не могли больше противостоять русской военной мощи; 3) глубокий раскол между суннитскими и шиитскими мусульманскими сектами, произошедший после побед шаха Исмаила Сефеви.
Последнее обстоятельство, несомненно, воспринималось современниками как наиболее серьезное, а последовавшие изменения в исламе, вызванные или усиленные соперничеством суннитов и шиитов, со всей очевидностью подтверждают этот вывод. Войны с Испанией и Португалией отвлекали значительную часть сил Османов, но к концу XVI в. турки могли поздравить себя с отражением этой угрозы. В то же время мусульмане Индийского океана — не без помощи Османов — избавились от угрозы со стороны португальцев в отношении их политических и торговых завоеваний в Южной Азии. Что же касается Русского государства, то исламскому миру не удалось организовать сколько-нибудь внушительного отпора. Процветание ислама в западных степях было тесно связано с судьбой тюркской конницы, чье традиционное преимущество перед оседлым населением исчезло с началом использования огнестрельного оружия. Тем не менее до 1676 г., когда Россия и Турция стали впервые граничить между собой, остатки прежних степных империй служили буфером между центрами мусульманской и русской силы. Поэтому какое-то время великие мусульманские державы могли безнаказанно пренебрегать новым, но все еще отдаленным соперником на севере.
ИБЕРИЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И ОТВЕТ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА. Крестовые походы в Испании начались раньше и длились дольше, чем в любой другой части Европы. И даже еще до падения последнего мусульманского государства на полуострове в 1492 г. Испания и Португалия отправились воевать по морю в Африку. Португальцы укрепились у Гибралтара еще в 1415 г. и продолжали удерживать различные участки побережья Западной Африки вплоть до 1578 г. Главной целью всего португальского замысла в отношении Африки было обойти мусульман и связать христианскую Европу с легендарным христианским царством пресвитера Иоанна. И хотя царство пресвитера Иоанна к вящему разочарованию сжалось до размеров полуварварской Эфиопии (куда португальцы добрались по суше уже в 1493 г., а южным морским путем в 1520 г.), военные успехи Португалии в Индийском океане позволили ей перекрыть торговые пути мусульман в южных морях. В этот же период Испания возобновила военные действия против мусульман, завоевав сначала Гранаду (1492 г.), а некоторое время спустя перенеся их в Северную Африку (1509-1511 гг.). Когда Карл V присоединил земли Испании к владениям Габсбургов в Германии и Нидерландах, Испания оказалась косвенно вовлеченной в третий фронт против мусульман — на этот раз на Дунае.
Османская империя ответила решительными действиями на угрозу Габсбургов. На суше Сулейман Кануни (Законодатель) (1520-1566 гг.) отодвинул границы империи до Карпат. На Средиземном море долгая и безрезультатная борьба завершилась в 1578 г., когда заключенный между Испанией и Турцией мир, мыслившийся простой передышкой, стал продолжительным modus vivendi в силу истощения финансовых возможностей Испании и ведения ею действий на других фронтах. Несмотря на победу христиан при Лепанто (1571 г.), Турция могла справедливо гордиться окончательным успехом, поскольку она удержала, по меньшей мере под своим номинальным контролем, Тунис и Алжир, а также сохранила превосходство в Восточном Средиземноморье, отвоеванное ею у Венеции в XV в.
Исламу не удалось достичь подобных решающих успехов в Индийском океане. Хотя турецкие флотоводцы преодолели серьезные географические препятствия[956], чтобы снарядить три крупные экспедиции против Португалии (1536 г., 1554-1556 гг., 1586-1589 гг.), они не смогли ликвидировать превосходство португальцев в южных морях[957]. Тем не менее ко второй половине XVI в. инициативные действия местных мусульманских мореходов способствовали восстановлению торговли мусульманских купцов почти в прежних размерах в Южной Азии. Избегая портов, находившихся под контролем португальцев, и беря на борт достаточно вооружения, чтобы отбить случайные нападения, мусульманские суда легко проскальзывали мимо португальских патрульных кораблей. С точки зрения мусульман усилия португальцев по поддержанию своего превосходства на море сузились в тот период до размеров терпимых пиратских наскоков. И действительно, мусульмане настолько успешно ускользали из-под контроля португальцев, что еще до конца столетия те открыли свои порты мусульманским судам, считая портовую пошлину более выгодной, чем добычу от пиратства и войны[958].
Господство иберийских держав в Средиземном море и в Индийском океане постепенно переходило к голландцам, французам и англичанам. Их успехи объяснялись в значительной мере официальным положительным к ним отношением мусульманских правителей, видевших в них солидный противовес Испании и Португалии. Так, например, в 1536 г. Франция получила торговые преимущества как участница франко-османского военного союза против Габсбургов, заключенного в том же году. Английская «Левантийская компания» добилась подобных льгот в 1580 г. В 1597 г. в Восточном Средиземноморье (под французским флагом до 1612 г.) появились голландцы, быстро составившие торговую конкуренцию и французам, и англичанам[959]. Подобным образом голландские и английские купцы добрались до Индии, пользуясь защитой договоров, заключенных с Моголами и другими мусульманскими правителями. Более того, принимая во внимание первоначальную зависимость от доброй воли мусульман, протестантские державы намеренно воздерживались от миссионерской деятельности, бывшей основной особенностью экспансии с Иберийского полуострова[960].
Таким образом, деятельность французских, голландских и английских купцов на мусульманских землях, несмотря на то что она велась при покровительстве местных правителей, подготовила почву для будущего европейского владычества. Особенно ярко это проявилось в Индии и в Ост-Индии (Индонезии), где еще в XVII в. торговая активность англичан и голландцев повлекла существенные перемены в экономике азиатских стран. Крупные голландские и английские торговые компании упорно насаждали в Европе спрос на восточные товары, такие как индиго, хлопковые ткани и селитра из Индии, шелк, чай и фарфор из Китая, арабский кофе и персидские ковры, а растущая популярность этих товаров в Европе не замедлила оказать серьезное влияние на производственную систему Азии.
Голландские и английские купцы не довольствовались торговлей между Европой и азиатскими странами, а активно и настойчиво стремились развивать торговлю и промышленность в самих «Индиях». Ставилась цель сделать выгодной внутреннюю торговлю в Азии, так как европейские компании крайне нуждались в получении прибыли в Азии, с тем чтобы ограничить отток золота и серебра из Европы, вызывавший год от года возрастающую тревогу правительств европейских стран. Вывоз звонкой монеты из Европы нельзя было сдержать (если не прекратить ввоз новых восточных товаров), пока в Азии не появится вкус к европейским товарам. Однако до второй половины XVII в. европейские товары были, как правило, непригодны для азиатских рынков и часто выглядели грубыми и неотделанными по сравнению с местной продукцией. Даже после того, как европейские мастера научились имитировать некоторые виды азиатского шелка и изобрели более совершенные методы производства, азиатский рынок для европейских товаров оставался очень узким, а значит, давление на торговые компании с целью принудить их добывать деньги в самой Азии оставалось весьма сильным.
Последствия для экономики азиатских стран в некоторых случаях были поразительны. Голландцы, например, широко вводили рациональные методы ведения сельского хозяйства на Яве и близлежащих островах, наладив выращивание яванскими крестьянами чайных кустов, сахарного тростника и пряностей. В свою очередь, англичане мало-помалу устанавливали широкий управленческий контроль над текстильщиками Западной Индии. Выдавая небольшие суммы ткачам в качестве аванса, английские агенты могли указывать типы товаров, которые им требовались, а размер предоставляемых средств непосредственно регулировал количество одежды, поступающей на рынок. Произведенные таким образом товары предлагали затем на продажу европейские посредники не только в Европе, но и в прибрежных странах Африки и на южном побережье Азии, а также в Японии и Китае, короче говоря, там, где открывались выгодные рынки. В таких экономических условиях стали быстро развиваться отсталые ранее районы, например Филиппины и восточное побережье Бенгальского залива. Европейские торговцы, объединенные в мощные, хорошо оснащенные компании, повсеместно захватывали решающий контроль над крупной торговлей, тогда как местные предприятия постепенно оттеснялись в мелкую локальную торговлю[961].
Экономическое проникновение Европы в Османскую империю шло гораздо медленнее. Хотя следует отметить, что к концу XVII в. французские, английские и голландские корабли осуществляли основную массу дальних торговых перевозок из турецких портов. Модель обмена турецкого сырья на европейские готовые изделия обрекала Восток на экономическую пассивность. Неблагоприятный социальный статус купцов в Османской империи, находившихся в зависимости от военных и чиновничьих кругов, которые, в основном относились к их интересам безразлично, а то и враждебно, препятствовал и в конце концов подорвал широкомасштабное торговое соперничество подданных султана с европейскими купцами. Доходы посредников от продажи товаров из Азии резко сократились в результате завоевания европейцами океанов, и после такой потери традиционного экономического положения Среднего Востока местные ремесленные и торговые предприятия оказались не в состоянии удерживать за собой ведущее место в мировой торговле. Тем не менее до самого начала XVIII в. европейские купцы редко могли продвигаться дальше османских портов, поскольку внутренняя торговля оставалась в руках местных торговцев, а после 1592 г. торговля на Черном море стала вотчиной Османов[962].
В начале XVIII в. никто не смог бы предугадать отдаленные последствия европейской торговой мощи. Крестовые походы иберийских государств получили отпор в Средиземное море и угасли в Индийском океане, а политические намерения Голландии, Франции и Англии, связанные с торговым проникновением в исламские земли, были еще не очевидны. Мусульмане, следовательно, имели достаточные основания надеяться, что вековые устои послужат им и в будущем, как служили в прошлом. По всем признакам наступление Европы на ислам провалилось, как провалились когда-то средневековые крестовые походы. Казалось, не было повода для тревоги, причин для реформ и оснований для сомнений в существенном преимуществе пути мусульман.
ВЗЛЕТ РОССИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИСЛАМА. Когда в 1480 г. Иван III Московский добился политической независимости от Золотой Орды, татары были настолько ослаблены междоусобицами, что оказались неспособны противопоставить ему нечто большее, чем безрезультатную демонстрацию военной силы. В итоге к 1517 г. Московия и Польско-Литовское государство разобрали между собой все русские княжества, находившиеся ранее под властью татар, и обе эти державы начали быстро распространять свое влияние на южные степные районы.
В XVI в. независимые казацкие общины в южных степях сформировали непокорные республиканские объединения, оказавшиеся на короткое время способными образовать силовые центры, соперничающие с Варшавой и Москвой[963]. Однако в XVII в. продвижение России, Польши и Турции в степь все сильнее подрывало независимость казаков. Казацкая старшина считала выгодным заключать союзы то с тем, то с другим соседним правительством, получая взамен плату за военную службу и гарантии от Польши и России (но не от Турции) признания их помещиками и господами над чернью. После сложных маневров между Россией, Польшей и Турцией казацкие общины в итоге в 1681 г. высказались за объединение с Россией, в результате чего так называемые реестровые казаки, т.е. мужчины, внесенные в специальные воинские реестры, образовали боеспособные вспомогательные силы русского войска. Преданные собственными вождями, остальные рядовые казаки были низведены до состояния крепостных. Таким образом, не признающая никакой власти вольница первых казацких общин ушла в легенды и в тайное сопротивление, чтобы затем вспыхивать в виде стихийных крестьянских восстаний в XVII-XVIIII вв. (Можно оставить на совести автора многочисленные неточности данного абзаца, достаточно серьезные, чтобы вызвать протест, но тем не менее не отвлекающие от основной логики повествования. — Прим. пер.)
Задолго до укрепления своей власти в Украине Россия завоевала Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556 г.) ханства, открыв все Поволжье для русских поселений и торговли. Вслед за этим первые купцы и авантюристы перевалили через Уральские горы и начали устанавливать власть России в верховьях Оби (1579-1587 гг.). Братоубийственные раздоры в мусульманском ханстве Сибири сделали победу России относительно легкой. Перед ней открывались обширные пространства тайги и тундры, населенные преимущественно первобытными и невоинственными народами, а также горностаем и другим пушным зверем. Русским агентам нетрудно было принудить коренное население добывать меха и отдавать их в качестве дани. Освоив способы передвижения на санях по замерзшим рекам и перетаскивания грузов волоком от одной реки к другой, русские исследователи и авантюристы уже не встречали непреодолимых препятствий на всем пути до Охотска на берегу Тихого океана, куда они вышли в 1638 г.[964]
Успехи России в западных степях и в сибирской тайге, а также продвижение ламаизма в центральных[965] и восточных степях способствовали значительному оттеснению северной границы ислама в XVI-XVII вв. Великие мусульманские державы не предпринимали серьезных усилий, чтобы повлиять на ход событий[966]. Персия — этот естественный страж ворот, ведущих в центральные степи, вела тяжелую борьбу с Османской империей и не имела лишних сил. Бухарская узбекская империя, принявшая строго ортодоксальный и ограниченный вариант суннизма, активно подавляла миссионерский дух суфизма, принесший исламу в предыдущие столетия его главные успехи в обращении степных народов. Сами степи были бедны и бесперспективны, тем более после того, как караванные пути в Азии утратили в основном былое значение, уступив свою роль новым морским и речным путям, протянувшимся далеко на юг и север Центральной Азии. У представителей мусульманской цивилизации, таким образом, оставалось мало возможностей для проникновения в степные просторы. Образовавшийся культурный и религиозный вакуум соответственно заполнялся тибетским ламаизмом.
Итак, ислам потерпел свои первые серьезные поражения в степях Восточной Европы и Центральной Азии, тогда как в районах, подвергавшихся прямому наступлению Запада, мусульманские империи по-прежнему победоносно расширяли свои границы.
КОНФЛИКТ МЕЖДУ СУННИТАМИ И ШИИТАМИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИСЛАМА. Расходящиеся во взглядах секты, которые мусульманское учение в какой-то мере произвольно выделило в сообществе правоверных, разделились по вопросу о законности правопреемства пророка на две основные группировки: шиитов, считавших, что наследство должно переходить только по линии зятя Мухаммеда — Али, и суннитов, признававших законность власти Абу Бекра, Омара, Османа и их наследников в халифате. С появлением многочисленных суфийских орденов, братств и других религиозных объединений основной спор о правоверности осложнился еще больше. Четкие границы спора стали расплываться с увеличением разнородных религиозных групп, бравших набожность у шиитов, но остававшихся суннитами в вопросах признания законности трех первых халифов. Смешение усугублялось еще и тем, что, хотя в большей части мусульманского мира шииты оставались в меньшинстве, имитация ими суннитской ортодоксальности с посвящением в истинное положение дел только надежных сторонников позволила шиитским общинам распространиться по всем мусульманским землям. В таких условиях долгое время между сектами ислама удерживалось непростое равновесие, нарушавшееся на местном уровне, когда какой-нибудь особо правоверный законник брался бороться за чистоту принципов или же появлялся некий фанатик, предвещавший проклятие всем, кто не придерживался его богословских принципов.
Политическая нестабильность на мусульманских землях после X в., частые случаи непрочного захвата власти турецкими военачальниками, делившими ее во многих частях исламских земель, способствовали сохранению этого религиозного равновесия, поскольку немногие правители хотели или отваживались вызвать бунт, слишком энергично добиваясь религиозной покорности. Османское государство не было исключением, так как, хотя султаны и пришли к поддержке суннитской ортодоксальности, сделав суннизм в XV в. государственной религией, они не разрывали отношений с разнородными общинами дервишей, чей религиозный порыв так сильно помог расширению Османской империи на первых этапах.
Религиозное и политическое равновесие ислама было резко нарушено в 1499 г., когда фанатическая шиитская секта, чьи руководители уже несколько веков жили по соседству с южной оконечностью Каспийского моря, начала одерживать одну за другой головокружительные победы. Начав всего лишь с горстки горячих последователей, предводитель секты 13-летний Исмаил Сефеви быстро создал фанатичное и мощное войско, в течение года захватил Тебриз и был объявлен шахом (1500 г.). Затем последовали новые победы, и в 1506 г. все иранское плато было объединено под флагом нового завоевателя. В 1508 г. Исмаил установил свою власть над Багдадом и над большей частью Ирака, а в 1510 г. нанес жестокое поражение среднеазиатским узбекам, укрепив тем самым свою восточную границу.
 РАСКОЛ ИСЛАМА НА СУННИЗМ И ШИИЗМ
РАСКОЛ ИСЛАМА НА СУННИЗМ И ШИИЗМ
Секрет этих успехов лежал в религиозном фанатизме воинов Исмаила, который после нескольких поколений подпольного проповедования шиизма увенчался столь поразительными победами. Следуя силе своих шиитских убеждений, Исмаил подвергал преследованиям всех мусульман-суннитов, попадавших под его власть, и оказывал мощную поддержку распространению шиизма как внутри своего нового государства, так и за его пределами. Более того, победы Исмаила подталкивали многих приверженцев шиизма открыто выступать в различных частях мусульманского мира, в частности в Восточной Анатолии, где брошенный ими вызов не мог остаться без внимания со стороны османского султана. Так, в 1514 г. в Анатолии вспыхнул массовый бунт шиитов против Османов, и султану пришлось собрать в кулак всю силу своего войска, чтобы подавить его. Подавив еретиков у себя дома, османские силы двинулись на восток, против самого источника заразы. При Чалдыране, недалеко от Тебриза, османская артиллерия взяла верх над фанатизмом Сефевидов (1514 г.), но волнения среди янычар вынудили султана отступить, так и не уничтожив власть Исмаила[967].
На протяжении XVI в. империя Сефевидов оставалась силой, нарушавшей спокойствие в мусульманском мире, защищая и распространяя шиитское учение у себя дома и в других странах. Такая политика приводила, естественно, к состоянию вражды с Османской империей, в котором мир наступал лишь на короткие периоды. Тем не менее к XVII в., когда империя Сефевидов достигла своего апогея при шахе Аббасе Великом (1587-1629 гг.), фанатизм шиитского движения стал угасать, по крайней мере в придворных кругах, и в 1639 г. был заключен долгий мир с Османами[968].
Резкое противостояние между шиитами и суннитами, больше века разделявшее самое сердце ислама, отразилось на мусульманском мире и превратилось в неизбежный политический вопрос для каждого мусульманского правителя. Прежний непростой симбиоз мусульманских сект повсюду грозил превратиться в тяжелые междоусобицы по мере того, как религиозные убеждения становились критерием политической лояльности. Самые крайние проявления шиизма ограничивались в основном владениями Сефевидов, в то время как на османских землях жесткими и эффективными контрмерами султану удалось подавить шиитскую ересь до того, как она смогла приобрести политическое влияние. Но за пределами Османской империи, на окраинах мусульманского мира местные правители находились в нелегком положении и постоянно колебались между лагерями суннитов и шиитов.
После того как в 1514 г. не удалось искоренить первоисточник нарушения всего установившегося порядка, следующим шагом османского султана стало завоевание находившихся под властью мамелюков Египта и Сирии. Селим I Грозный одержал победу за одну кампанию 1516-1517 гг. благодаря все тому же превосходству в артиллерии, которым он воспользовался против шаха Исмаила. Эта победа предотвратила зарождавшийся союз между шахом Исмаилом и мамелюками. Она также позволила Османам взять под свой контроль стратегически важные в религиозном отношении священные города Мекку и Медину, долгое время находившиеся в зависимости от мамелюков.
Кроме того, Селим распространил свое влияние на побережье Северной Африки: отчасти для отражения испанской угрозы мусульманской Северной Африке, а отчасти для предотвращения экспансии еще одного очага шиитской власти — марокканской династии шерифов Саади. К 1511 г. шерифы создали мощное государство на основе племен и городского населения мусульманского Дальнего Запада, действуя с помощью религиозной пропаганды, подобной той, которая в это же время одерживала столь яркие успехи в Персии и Ираке[969]. В том же году османские морские силы стали вести активные действия вблизи Алжирского побережья, вызвав тем самым длительные морские войны с Испанией, шедшие почти весь XVI в.
Безрезультатность морского противостояния с Испанией не отвратила Турцию от ее цели: опередить Испанию и Марокко в Алжире[970]. Общая вражда с иберийскими христианами помогла избежать прямого столкновения между Османским и Марокканским государствами. Когда натиск иберийских держав был отражен (после 1578 г.), Марокко обратило свои взгляды на юг — на негритянское королевство Тимбукту (завоевано в 1591 г.), тогда как силы Османов были по-прежнему полностью заняты на других фронтах[971].
Революция Сефевидов вызвала более сложные политические изменения на мусульманском Востоке. Новая узбекская держава довольно естественно встала на защиту суннитского правоверия против соседних еретиков Сефевидов. Тем временем в Индии Моголы балансировали, как на проволоке, между суннитами и шиитами вплоть до эпохи Аурангзеба (1659-1707 гг.). В критические моменты своего неспокойного правления и Бабур (ум. 1525), основатель государства Моголов, и его сын Хумаюн публично исповедывали шиизм, чтобы заручиться более необходимой помощью Сефевидов. Когда же нужда отпадала, каждый из них демонстрировал свою политическую независимость, переходя к вере суннитов. Но и такая политика не была полностью удовлетворительной, поскольку османские султаны выдвигали претензии на главенство над всей суннитской общиной в противовес поддержке, оказываемой шиитам Сефевидами[972].
В результате династия, ведшая свою родословную от Чингисхана и Тимура и глядевшая на Османов и на Сефевидов просто как на выскочек, не могла чувствовать себя хорошо ни в стане суннитов, ни в стане шиитов. И как только император Акбар (1556-1605 гг.) укрепил власть Моголов, установив твердое и эффективное правление над всей Северной Индией, он заявил претензии на независимую религиозную власть[973]. Сын Акбара Джа-хангир мало интересовался вопросами религии и, следовательно, поддерживал значительно лучшие отношения с мусульманскими богословами, чем его отец. Следует отметить при этом, что, внешне соблюдая требования суннизма, правительство не становилось на сторону ни суннитских, ни шиитских улемов, пока император Аурангзеб силой оружия не поддержал суннитов. Его войско разбило шиитских правителей Южной Индии, расширив тем самым империю Моголов до наибольших ее размеров. Со временем, однако, религиозное рвение Аурангзеба ослабило империю, так как его нетерпимость к индуистскому идолопоклонству привела к массовым народным выступлениям в Центральной Индии, а мусульманское сообщество было настолько сильно разделено борьбой суннитов и шиитов, что не могло уже вести согласованные действия против наступавшего индуизма[974].
Более серьезно шиизм затронул Азербайджан, Персию и Ирак, так как именно в этих странах Исмаил и его последователи предприняли значительные усилия для перестройки общества согласно своим религиозным принципам. Трудности не заставили себя ждать, когда Сефевиды принялись устанавливать новый режим, поскольку, как и многие другие революционеры до и после них, они быстро обнаружили, что простое сектантское рвение само по себе было недостаточной основой для правления. Тогда Исмаил призвал шиитских богословов и ученых правоведов со всех концов мусульманского мира, где они нашли себе прибежище, и предписал им (как двумя столетиями раньше при почти аналогичных обстоятельствах османские султаны использовали суннитских правоведов) составить правила, по которым должны жить его последователи и подданные. Религиозных противников, включая суфийские братства, ордена дервишей и, разумеется, все суннитские общины, жестоко истребляли — столь же беспощадно, как примерно в это же время уничтожали монастыри в протестантской Европе.

 ИСЛАМ В XVII В.
ИСЛАМ В XVII В.
Приведенные здесь миниатюры выполнены при дворе могольского императора Джахангира (1605—1627 гг.). На миниатюре слева Джахангир обнимает шаха Сефеви, а у их ног лежат лев и овечка. Художник отразил политическое и духовное примирение суннитов и шиитов, прекращение индийско-иранского соперничества. На миниатюре справа император изображен на своем троне. Он принимает книгу (Коран?) из рук мусульманского священника в присутствии двух европейцев и индуса. Молитвенная поза темноволосого европейца с бородой указывает, что он, возможно, прибыл испросить разрешение на торговлю (или какую-то другую привилегию) у могущественного мусульманского правителя Индии.
Неудивительно, что императорское окружение и шиитские богословы быстрее пришли к согласию о том, что следует уничтожить, чем о том, что следует создать. Шахи неохотно расставались с малейшими из своих прерогатив даже в пользу духовенства, а борцы за чистоту шиизма не склонны были прощать остающиеся отклонения даже тем, кто больше других симпатизировал шиизму. Тем не менее ссоры с шахским окружением только усиливали энергию, с которой шиитские распространители идеи двенадцати имамов внушали населению принципы своей веры[975]. Пользуясь репутацией людей, обладающих чудодейственной силой, которым открыта воля бога, шиитские богословы оказывали большое влияние на широкие народные массы, пока их мнение не стало превращаться в средство контроля за действиями самого шаха[976].
Система светского правления и военная организация развивались не столь быстро, пока при шахе Аббасе Великом племенная основа войска Исмаила[977] и его правительства не была заменена и уравновешена созданием регулярной армии, набиравшейся преимущественно из грузин и армян, обращенных в ислам, по образцу янычарского корпуса Османов[978].
Жесткие реформы, проводимые Сефевидами, были беспримерны как для Османской империи, так и для государства Моголов. Сунниты давно смирились с религиозным многообразием, и в народе больше не возникали вспышки суннитского фанатизма, которые могли бы приводить к религиозным революциям, подобно той, которая преобразила Персию в XVI в. Разнородные ордена дервишей были слишком тесно сплетены с основами Османского государства, чтобы их можно было спокойно уничтожить[979], а после восстания и резни 1514 г. выжившие на османских землях шииты прибегали к обычному для них средству спасения, соблюдая внешне суннитские обычаи. Когда опасность открытых выступлений была таким образом устранена, суннитская община с ее терпимым характером не допускала и мысли о жестокой контрреформации, подобной той, которая как раз начиналась в католической Европе. Османские султаны ограничивались административными мерами предосторожности. Так, Сулейман Кануни (1520-1566 гг.) усовершенствовал и расширил иерархическую структуру улемов империи, предоставил средства суннитским учебным заведениям, и его администрация, как правило, стояла на стороне более четко определившегося суннизма. Благодаря таким взвешенным законодательным мерам религиозные и политические институты Османской империи достигли вида, в котором они сохранялись практически без изменений на протяжении более двух столетий[980]. Похожей формы достигли институты Моголов при императоре Акбаре (1556-1605 гг.). Акбар построил свой двор и центральную администрацию по образцу персидских, но позволил в селах и городах преобладать местным обычаям. Он дал разрешение некоторым индуистским кланам и местным феодалам — раджпутам — отправлять правосудие на местах. Однако высшие сферы правления оставались за мусульманами. Пестрота религий в империи представляла собой деликатную проблему. В XVII в. суфийские мистики и различные объединения индуистов и мусульман приобрели влияние над беднейшими слоями населения, видевшими в таких вероучениях выход из тяжелого положения, в которое их ставила индуистская доктрина. Огромная пропасть, разделявшая беднейших мусульман и тонкий слой чиновников и военных, окружавших императоров, позволяет понять провал усилий Аурангзеба, направленных на удержание индийского ислама в рамках официального суннизма[981].
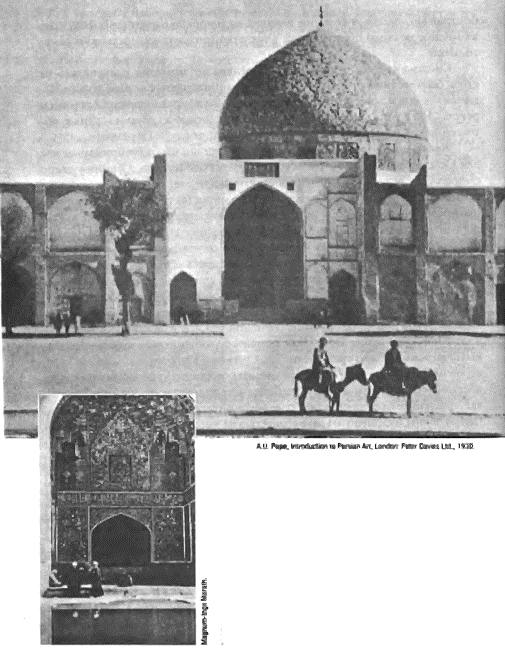 ПЕРСИДСКАЯ МЕЧЕТЬ И МЕДРЕСЕ
ПЕРСИДСКАЯ МЕЧЕТЬ И МЕДРЕСЕ
Оба здания украшают город Исфахан — столицу Сефе-видов. Мечеть (фото вверху) сооружена в 1621 г., во времена правления шаха Аббаса Великого. Медресе (фото слева), построенная в 1710 г., —доказательство востребованности персидского искусства вплоть до сравнительно недавних пор. Внешнее обрамление обоих зданий представляет собой важную часть всего ансамбля, ведь Исфахан выглядит как город-сад, служащий для царской услады. Бассейны и обширные площади для игр и других массовых церемоний свидетельствуют о мастерстве зодчих и о самодержавной власти шаха, сумевшего на деле дать жизнь новому городу.
* * *
Религиозные и политические трансформации исламского мира, последовавшие за восстанием шиитов, привели и к определенным резким изменениям в мусульманской культуре. Так, в литературе иссякли источники персидской поэзии, поскольку нетерпимый фанатизм не мог совмещаться с тонкой чувственностью и религиозной двусмысленностью классической персидской поэзии. Знание произведений великих персидских поэтов и подражание их стилю было главным элементом в образовании людей из высшего общества в Османской империи и в государстве Моголов, однако, когда дело доходило до собственных сочинений, угодливые рифмоплеты подменяли подлинную тонкость образцов словесной ловкостью и цветистыми клише.
Упадок персидской литературы в какой-то мере компенсировал развитие литературы на турецком языке (в обеих его формах — османской и среднеазиатской) и на языке урду — разновидности хинди с заимствованиями из персидского, использовавшейся при дворе Моголов. Как носители поэзии эти новейшие литературные языки испытывали сильнейшее влияние персидских образцов, однако некоторые произведения турецкой прозы, например замечательные мемуары Бабура, производили эффект дуновения свежего воздуха в паутине традиционного многословия[982].
Расцвет великих императорских мусульманских дворов в Турции, Персии и Индии означал более устойчивое и щедрое покровительство для зодчих и всевозможных мастеров — художников, каллиграфов, ковроделов. И хотя многие произведения этого последнего периода исламского художественного величия утрачены, осталось достаточно их образцов, оставляющих неизгладимое впечатление великолепия и вкуса, необычайного мастерства и изумительного колорита. Известно, что живопись считалась сомнительной с религиозной точки зрения и мусульмане относили ее к низшим искусствам, однако в XVI-XVII вв. придворные художники в Персии и в Индии пытались выйти за рамки своей традиционной роли по украшению рукописей и росписи ванных комнат, создавая портреты, картины на исторические и даже религиозные (!) сюжеты. Такое стремление, очевидно, поддерживалось примерами Европы и Китая, но, как бы то ни было, китайские пейзажные мотивы и европейская линейная перспектива не были чужды мусульманским придворным живописцам и находили среди них подражателей. При этом художники, прибегавшие к таким заимствованиям, не отказывались от собственной стилистической самобытности, в которой яркая цветовая гамма и щедрое обилие мелких деталей в целом приводили к великолепному, чарующему глаз результату.
В XVI-XVII вв. архитектура оставалась великим искусством ислама, и когда правители новых империй возжелали увековечить свою набожность и величие в камне, по всему мусульманскому миру прокатилась волна строительной активности. Творения персидских и индийских зодчих отличались порой необычайной утонченностью и красотой как в общем плане, так и в деталях. Индийский мавзолей Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом в 1632-1653 гг., и царская мечеть в Исфахане, возведенная для шаха Аббаса Великого двумя десятилетиями раньше, представляют собой всемирно известные образцы искусства и вкуса зодчих и мастеров, которых эти правители у себя собирали. Здания в Персии и в Индии часто сооружали среди строго распланированных садов, разбитых вокруг прудов и бассейнов и украшенных кипарисами и цветниками. Такие сады служили островками прохлады, цвета и тонкого вкуса на изнывающей от зноя и пыли местности и выступали такой же неотъемлемой частью всего произведения искусства, как и само здание. Архитектура в Османской империи была традиционно более монументальной и строгой, выдержанной в византийском стиле. Этот стиль предполагает подчеркнуто замкнутое внутреннее пространство — будь то мечеть или дворец, тогда как персидский и особенно индийский стиль характеризуется созданием декоративных и смысловых эффектов на основе места расположения и окрестного пейзажа. Таким образом, сравнительно суровые климатические условия Константинополя отвечали строгости суннитского учения, которому приличествовала монументальная и массивная архитектура в османских владениях, резко отличавшаяся от более роскошных, почти женственно утонченных зданий в Персии и в империи Моголов[983].
Тот, кто знакомится с мусульманским искусством XVI-XVII вв., отмечает разнообразие дворцовой культуры, отражаемой каждым стилем, а глядя на смешение персидских, турецких, арабских, индуистских, китайских и европейских элементов, а также на удачное объединение различных стилей искусства из такого разнообразия, трудно поверить, что мусульманская культура и цивилизация с начала XVI в. находились в состоянии упадка. Мусульманская литература, художественное крыло которой пробавлялось игрой слов, а философское под крепкой уздой богословов и законников предназначалось лишь для ядовитых выпадов между суннитами и шиитами, выглядит, конечно же, менее привлекательно на вкус западного читателя, однако и здесь расцвет новых диалектов как литературных носителей может, очевидно, восприниматься как признак непрекращающейся способности к росту.

 ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР И ИНДИЙСКОЕ ОКНО
ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР И ИНДИЙСКОЕ ОКНО
Изящные линии и четкий орнамент этих двух образчиков мусульманского искусства XVI в. свидетельствуют о поразительном мастерстве, опирающемся на вековые традиции. Такому уровню в XVI—XVII вв. Европа еще не могла противопоставить ничего подобного.
Не вызывает сомнений тот факт, что по всем стандартам за исключением только одного, имеющего отношение к делу, а именно стандарта, установленного современным развитием европейской цивилизации, — ислам находился в состоянии процветания, а с учетом того, что острота религиозных конфликтов в XVII в. притупилась, мусульмане вполне справедливо могли считать, что они успешно прошли через все невзгоды, угрожавшие в начале XVI в. их сообществу как изнутри, так и извне. Результатом была чрезмерная самоуспокоенность по отношению к миру неверных — европейцев и пр., тогда как непоколебимый внутренний консерватизм стоял твердой преградой на пути всяким новшествам.
Обращенный по своей сути в прошлое характер исламского права и обрядовой системы, несомненно, предрасполагал мусульманский мир к такой негибкой позиции. При этом жестокие столкновения между суннитами и шиитами в XVI в. еще сильнее привязывали мусульман к старым догматам об истине и вели к отказу от тех элементов в исламском интеллектуальном наследии, которые могли позволить им в меньшей степени отставать от невиданных революционных преобразований в культуре и экономике Европы[984]. Дух, подобный духу итальянского Возрождения, широко присутствовал при дворе Мехмеда Фатиха[985] и Акбара, однако Селим I Грозный и Сулейман Кануни принимали меры для искоренения опасных мыслей в Османской империи, тогда как Аурангзеб пытался делать то же самое в Индии. Сулейман здесь настолько преуспел, что в Османской империи (да и в других мусульманских государствах) иссякли пытливый дух и стремление к новшествам, которые в XVII в. в Европе дали жизнь современной литературе и науке. Именно в этом гораздо больше, чем в утрате прибылей от посредничества в торговле пряностями, лежит главная причина неудач ислама в современную эпоху.
Такому результату в значительной мере способствовала социальная структура исламского мира. Новые идеи наталкивались на невосприимчивую почву в государствах, опиравшихся на небольшой класс чиновников и военных, стоявший гораздо выше обремененного податями крестьянства. Рабская покорность горожан в отношении чиновников и землевладельцев была постоянно характерна для общества Среднего Востока начиная со II тыс. до н. э., а Османская империя и империя Моголов самим размахом своей имперской структуры лишь закрепили такую модель общественных отношений. Только в империи Сефевидов, где распространение шиитского учения привнесло некоторый вес народного фактора в политический баланс и где остатки тюркского племенного строя служили противовесом царской бюрократии, политикам удалось создать несколько более широкую социальную базу.
В XVI в. раскол между суннитами и шиитами не отразился на основных социальных характеристиках в мире ислама. Тем не менее, побуждая султанов к более твердому принятию суннитского учения, он мог бы способствовать еще большему расширению разрыва между сельским и городским населением. Как бы то ни было, в XVII-XVIII вв. ремесленники и торговцы в Османской империи оставались открыты для различных форм религиозного иноверия, а ордена дервишей, оторванные от поддерживаемых государством образовательных заведений и от высшего мусульманского учения, все больше пропитывались духом суеверий и колдовства[986].
К такому результату привело углубление пропасти между суннитской верхушкой и простыми горожанами и мещанами, а также подавление шиитского восстания. Таким образом, в этом отношении, как и в плане политических и культурных последствий, раскол на суннитов и шиитов оказался центральным событием истории ислама в XVII-XVIII вв. По сравнению с ним противостояние с Европой носило незначительный характер.
2. УГНЕТЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ
ИНДУИСТСКАЯ ИНДИЯ И БУДДИЙСКАЯ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ. Несмотря на политический закат индуизма в XVI в., подавляющее большинство индуистов оставались верны своей древней религии и образу жизни. Завоевание страны Моголами лишь слегка затронуло простых крестьян и городских жителей, которые относились к мусульманам в своей среде как к еще одной касте. Главное звено связи правительства с населением -сборщики налогов — управлялось по большей части индуистами, поскольку только они разбирались во всех лабиринтах традиционных земельных систем и податных списков. Более того, во многих районах индуистская аристократия сохранила за собой свои владения, и, как мы видели, император Акбар даже допускал раджпутов в свои официальные высшие круги в армии и чиновничестве. Таким образом, политическое господство мусульман в Индии существенно не влияло на преемственность жизни индуистов со всей ее незапамятной древностью.
И все же переход политической власти к чужой религиозной общности способствовал обеднению высокой индуистской культуры. Так, например, строительство индуистских храмов велось за счет казны и соответственно остановилось, когда править стали мусульмане. Только на крайнем юге, где политический контроль мусульман никогда не был более чем номинальным, продолжалась некоторая архитектурная деятельность. Кроме того, высшие индуистские классы стремились приобрести внешний лоск персидской культуры своих мусульманских сюзеренов, даже если они и оставались при этом верны своей собственной религии. Наиболее ярким продуктом такого смешения культур была живопись раджпутов, так как применение персидской художественной техники при изображении индуистских божеств и героев вскоре привело к возникновению искусства, отличавшегося по стилю от своего прототипа и наделенного собственным очарованием.
Как уже указывалось, религиозный синкретизм между индуистскими и мусульманскими традициями значительно предшествовал завоеваниям Моголов. Так, сикхи, крупнейшая из сект, которые стремились примирить обе веры высшим откровением, предприняли в XVII в. интересную попытку преобразований. Их канон священных писаний был официально закрыт в 1604 г. Сразу же после этого сикхская знать вступила в конфликт с властями Моголов, а община взялась за оружие в такой мере, что когда в XVIII в. империя распалась, сикхи оказались самым сильным преемником Моголов в Пенджабе. За этот успех пришлось дорого заплатить, поскольку преобразование сикхской общины в военное государство на деле означало отказ от стремления ранних сикхских учителей ко всеобщему спасению душ. Многообразие индуистской религиозной традиции и выработанные официальные заповеди ислама не могли быть сведены к тонкой нити повиновения сикхским гуру, независимо от того, насколько впечатляюще оправдывалось их учение успехами в сражениях.
Гораздо более значительными для индуистской общины были народные верования и литературное творчество, которые не поддавались ученым определениям, но оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на своих последователей. До XVI в. обширное разнообразие местных индуистских правил существовало для большинства населения в виде простых обычаев, немногие из которых оформлялись в письменных источниках или какими-то определениями. Древнее учение брахманов, хотя и не было отброшено, мало что значило для неграмотных людей, которым санскрит был недоступен, и брахманские претензии на общественные привилегии, основанные на санскритской традиции, не всегда с легкостью воспринимались низшими кастами. Однако в XVI в. индуизм пережил процесс жизненно важного реформирования. Святые мужи и поэты не только переместили направленность народных верований, но смогли также дать литературное выражение диалектам Северной Индии и стали пользоваться такими языками для резко усилившихся религиозных проповедей. Тем самым индуизм получил мощную эмоциональную поддержку, обеспечившую ему постоянную приверженность подавляющего большинства индийцев с тех пор и поныне.
Выдающуюся роль в этом процессе сыграли три личности: святой «возрожденец» Чайтанья (ум. 1534) и индуистские поэты Тулсидас (ум. 1627) и Сурдас (ум. 1563). Творения поэтов и деятельность секты, сформировавшейся вокруг харизматической личности Чайтаньи, привели в итоге к проявлениям высоко эмоционального почитания одного, отдельно взятого божественного воплощения, хотя его выбор из множества инкарнаций, воспеваемых в традиционной индуистской мифологии, у разных адептов отличался.
Чайтанья был незаурядным человеком даже с точки зрения традиции индийских аскетов. По мере становления его личности под влиянием необычайных впечатлений от силы и славы Кришны он отошел от жизни брахмана, для которой был рожден, и стал бродячим проповедником. Легкость, с которой он входил в экстаз и достигал абсолютного отрешения чувств, выражавшегося в сильных конвульсиях и в бесконечном вознесении похвал божеству, давали его недругам основания считать его больным, однако собиравшиеся вокруг него толпы людей видели в нем человека, действительно воплощавшего в себе божество, которому он поклонялся. Бог во плоти не был обычным явлением даже для Индии, и религиозное возбуждение, охватившее последователей Чайтаньи, стирало кастовые и прочие общественные различия и внушало им острое чувство близости к божеству[987].
Поэт Тулсидас, со своей стороны, ревностно служил другому воплощению божества — Раме, и неустанно описывал его подвиги и славные деяния. И хотя он черпал материал из «Рамаяны», его поэмы были гораздо большим явлением, чем простым переводом с санскрита на хинди. Он обрабатывал и развивал отбираемые эпизоды, постоянно заботясь о подчеркивании божественного начала в прославляемом им боге-человеке. Поэмы Тулсидаса завоевали широкую популярность и играли огромную роль в духовном и религиозном воспитании последующих поколений индуистов.
 ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНДУИЗМА
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНДУИЗМА
Весьма схожим по характеру было творчество Сурдаса, в котором мифы о детстве Кришны, в частности истории о его юношеской любви к пастушке, были преобразованы в аллегорию любви божества к людям. Позднее Сурдас был приглашен ко двору Акбара, а его религиозные взгляды и чувства очень напоминали сплетение божественной и плотской любви, долгое время наполнявшее персидскую поэзию и мистицизм суфизма. Возможно, отчасти в силу такого чужеземного налета его влияние на религиозную восприимчивость более поздних поколений было не так ярко выражено, как влияние Тулсидаса.
Согласно индуистской традиции, и Рама, и Кришна были аватарами бога Вишну, а последователи Чайтаньи считали его еще одним воплощением этого же бога. Таким образом, сообщества, выросшие под влиянием Чайтаньи и двух великих индуистских поэтов, были почти совместимы в плане учения, так как каждое из них могло утверждать, что фактически оно поклонялось одной и той же божественной реальности, хотя и в разных проявлениях. При этом каждое сообщество, сосредоточиваясь почти исключительно на выбранной им форме божества, практически создавало отдельную секту с собственными обрядами и книгами, отодвигая на задний план другие стороны разнообразного индуистского наследия. Так, часть своих последователей потерял Шива, а тантрические заклинания и ритуалы растворялись в тепле поклонения очень человечному и в то же время высоко божественному существу, называемому Рамой, Кришной или Чайтаньи.
Ни в одной из этих сект учение и обряды брахманов не играли какой-либо роли. Тем не менее древняя санскритская традиция сохранялась и пользовалась большим уважением у всех, кроме последователей Чайтаньи, и брахманов по-прежнему приглашали на семейные торжества при рождении детей, свадьбах, похоронах и в других особых случаях. Учитывая, что сокровища санскритского учения были закрыты для подавляющего большинства населения, индуизм как практическая религиозная система стал опираться на новую литературу, созданную на диалектах, и вошел в семейные церемонии, народные процессии и другие красочные проявления религиозности[988].
Эти процессы привели к популярности индуистской веры в противовес прелестям и суровости ислама. Тепло и колорит религии, построенной на боге-человеке, с которым в моменты религиозного душевного подъема может отождествить себя бедный, ничтожный человек точно так же, как и богатый, не нуждались в поддержке формального богословия. Живой личный опыт миллионов, подпитывавшийся и, конечно же, вырабатывавшийся публичными внехрамовыми обрядами, сам утверждал себя. Ни строгость традиционного знания брахманов, ни рутина священнодействий больше не могли удерживать индуизм в своих рамках. Религиозность народа была также спасена от незамысловатых и низменных проявлений тантризма. Человек, хоть раз лично и непосредственно видевший живого бога индуизма, какие бы одежды на том ни были, становился невосприимчивым к мусульманской, христианской и любой другой религиозной пропаганде. Таким образом, индуизм избежал упадка и разрушения, настигших индийский буддизм всего пятью веками раньше.
Однако описанные преобразования не смогли укрепить индуизм за морями, и ислам вытеснил культ Шивы из Юго-Восточной Азии, за исключением лишь далекого острова Бали. Буддизм, напротив, выжил на Цейлоне (Шри-Ланке), в Бирме и в Сиаме (современный Таиланд). С древних времен на Цейлоне находилась особо почитаемая буддийская святыня, а центральная роль храма в Канди для буддизма всей Юго-Восточной Азии способствовала сохранению этой веры на Цейлоне. Еще важнее было то, что буддизм стал оплотом сингальской культурной самобытности, служившей противовесом вторгшимся на остров с Индийского субконтинента тамилам с их индуистской верой. Подобные силы способствовали сохранению буддизма в Бирме и Сиаме, поскольку народы этих стран держались за свою религию уже в силу того, что она оберегала их от мусульманских общин, окруживших их со всех сторон. Приход европейских торговцев и миссионеров привнес новый беспокоящий фактор в жизнь Бирмы и особенно Сиама. Однако после периода имперской экспансии и соперничества в XVI в. обе страны замкнулись в своих границах, ограничили контакты с иностранцами и стали стремиться с помощью политики изоляции свести до минимума давление, которое мусульмане и европейцы начали на них оказывать[989].
ХРИСТИАНЕ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ. В XVI в. на основных исламских территориях оставались лишь мелкие вкрапления сирийских и коптских христиан. Они жили крестьянским трудом в отдаленных горных районах либо занимались каким-либо ремеслом в городах и играли очень незначительную роль в османском обществе. Более обширные христианские общины сохранились в Грузии, Армении и на Балканском полуострове. Грузия удерживала политическую автономию и управлялась царями из местных династий, опасно балансировавшими между османским и персидским сюзеренитетом. До конца XVII в. румынские провинции Молдавия и Валахия часто лишь номинально находились под османским контролем. Однако анатолийские армяне, а также греки и славяне на Балканах жили в условиях прямого османского правления. Это не означало тем не менее полной утраты самостоятельности, поскольку священники греческой, сербской и армянской церквей выполняли немало обязанностей, которые в Западной Европе возлагались на правительства. Христианское духовенство разрешало споры между собратьями по религии, когда сельских обычаев оказывалось недостаточно. Священники выступали также посредниками между христианской общиной и османскими властями. Еще одним важным звеном между османскими чиновниками и подчиненным им христианским населением были откупщики, многие из которых — христиане.
В XVII в. стала быстро возрастать роль товарного сельского хозяйства. Важнейшими культурами в земледелии были хлопок, табак, пшеница и кукуруза. Традиционные способы крестьянского хозяйства, особенно в плодородных долинах восточной половины Балкан, насильственно меняли сельскохозяйственные предприниматели, заинтересованные в максимальном увеличении доходов от земли. Как правило, товарное производство сельскохозяйственных продуктов способствовало увеличению доли помещиков в общем объеме собираемого урожая в ущерб интересам крестьян[990].
Еще одной жизненно важной переменой для христианского крестьянства стало прекращение после 1638 г. практиковавшегося османскими властями угона в рабство христианских юношей, которых обучали для службы при дворе и в армии. Это означало конец своеобразной дани, часто вызывавшей возмущение крестьянских семей. Однако для османского общества в целом такое решение вылилось в гибельную потерю социальной мобильности. В результате разрыв между христианами и мусульманами, землевладельцами и крестьянами, деревней и городом в XVII в. и в последующем серьезно расширялся. Поскольку все государственные чиновники первые 12-20 лет своей жизни жили в христианских деревнях и обычно сохраняли определенные сдержанное чувство симпатии к своей прежней нации и вере[991], политика управления не могла отражать только интересы мусульманских землевладельцев и городских группировок общества. Когда же, напротив, в войска и в государственный аппарат стали набирать детей мусульман, причем отцы многих из них уже находились в числе военной и государственной верхушки, такая политика прекратилась. Крестьяне-христиане стали объектом узаконенного и беззаконного угнетения. Энергичные крестьянские юноши, которые в прежние времена могли рассчитывать на высокое положение в государстве, вынуждены были заниматься разбоем, и скрытая, сдерживаемая в нормальных условиях вражда между крестьянином-христианином и помещиком-мусульманином, не проявлявшаяся в ранний период существования Османской империи, начала разделять и ослаблять общество в целом. Возможно, эти явления в большей степени, чем другие одиночные факторы, подорвали и разрушили государственность Османов, но их последствия в XVII в. только начинали сказываться.
В XVI-XVII вв. культура христиан в Османской империи достигла нижней отметки. Церковные иерархи и немногочисленные городские торговцы, банкиры и откупщики, составлявшие верхушку христианского населения, как правило, были довольны привилегиями, предоставленными им османским строем. Часто они даже не уступали турецким феодалам и чиновникам в угнетении своих собратьев христиан. Отголоски религиозных споров, так сильно будораживших христианство на Западе в период Реформации, едва-едва доносились до христиан православных. Однако давнее народное предубеждение против латинских еретиков усиливало духовное и интеллектуальное безразличие продажных интриганов, стоявших во главе православной церкви в эпоху, когда должности открыто покупались у султана или его великого визиря. Таким образом, усилия патриарха Кирилла Лукариса, направленные на более эффективную борьбу с католицизмом путем реформирования православия на кальвинистский манер, были успешно подавлены его противниками, убедившими султана казнить его по надуманному обвинению (1638 г.). После этого иерархи греческой церкви сосредоточились на расположении к себе османских властей, с презрением отвергая все западное как ересь.
В то время как городские культурные традиции балканских христиан пребывали в состоянии такого застоя, живая крестьянская культура расцветала в горах дикого Запада полуострова, где в героических балладах описывалось поражение сербского рыцарства на Косовом Поле (1389 г.) и подвиги благородных лесных разбойников. Однако балканские христиане практически ничего не создали на более высоком уровне в литературе, искусстве или в науках. Лишь в нескольких монастырях сохранялись некоторые жалкие остатки былого византийского, сербского и болгарского великолепия в виде заброшенных библиотек и приходящих в упадок церквей[992].
ЕВРЕИ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ. XVI в. можно назвать золотым веком для евреев Османской империи. Многие из них нашли здесь убежище от преследований со стороны Испании и Португалии. Принося с собой не только капитал, но и торговые связи и дух предприимчивости, они очень быстро достигли значительного положения в экономической жизни Османской империи. Так, например, некто Иосиф Нази завоевал доверие султана и играл важную роль в финансовых и дипломатических делах османского правительства в течение более чем двух десятилетий (1553-1574 гг.)[993].
В XVII в. наметился, однако, сильный спад, поскольку закат торгового процветания Османской империи сказался на евреях более заметно, чем на других общинах. Экономические трудности, в свою очередь, стали основой для необычайного взлета Шаббатая Цви, объявившего себя в 1666 г. долгожданным Мессией, что привело в состояние неистового возбуждения евреев по всей Османской империи и за ее пределами. Результатом стала дискредитация всех евреев в глазах султана, переставшего доверять их политической лояльности. Это позволило выдвинуться на стратегические посты в османском обществе, ранее занятые преимущественно евреями, грекам и армянам. Так, например, христиане стали банкирами османского строя, предоставляя турецким пашам средства, необходимые для покупки должностей, и широко вознаграждая себя получением сложных процентов, всевозможных официальных привилегий и мест откупщиков. Греки стали также основными переводчиками и посредниками для турок в их делах с собственными христианскими подданными и с западными европейцами. Таким образом, во второй половине XVII в. основная масса еврейской общины состояла из подавленных торговцев, бедствующих ремесленников и отвергнутых толмачей. От привилегированного и прочного положения предшественников осталось совсем мало[994].
3. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
КИТАЙ. С точки зрения Пекина, «варвары южных морей» из Европы, которые с 1513 г. время от времени появлялись в портах Южного Китая и к 1557 г. основали постоянную базу в Макао, были наименьшим из зол, нарушавших покой династии Мин. Центральное правительство постепенно теряло контроль над страной, пока на смену ему не пришло в течение каких-то шести десятилетий (1621-1683 гг.) правление варваров-завоевателей, нахлынувших из маньчжурских лесов и степей на северо-востоке. Такие перемены вряд ли потрясли Китай до основания, поскольку маньчжурские завоеватели XVII в. были гораздо более окитаены перед захватом Китая, чем большинство их предшественников среди варваров. Соответственно жизнь и государственные органы в Китае оказались затронуты меньше, чем при прошлых вторжениях варваров.
Несмотря на не изменившийся в целом характер жизни Китая, новый режим на морях, возвещенный прибытием первых португальских купцов в Кантон в 1513 г., имел важные последствия для китайского общества. К концу XVII в. новые морские связи впрыснули в жизнь Китая элементы брожения, начавшие разъедать из глубины традиционную структуру. Однако эти явления сказались не сразу. Напротив, в 1700 г. Китай был по-прежнему велик и благополучен, а его древние устои, искусства и обычаи пребывали в хорошем действующем состоянии.
Переход от династии Мин к маньчжурскому правлению вполне соответствовал историческим примерам, поскольку обычные проблемы долго находящихся у власти китайских династий постепенно подорвали и династию Мин. Тяжелую и несправедливую податную систему дополняли страхи и амбиции лишившихся расположения двора чиновников, способных поднимать бунты в провинции, а военная верхушка империи, по-прежнему многочисленная и временами грозная, утратила свою сплоченность, когда ее руководители погрязли в трясине дворцовых интриг[995].
Естественно, внутренней слабостью воспользовались варвары. К давним врагам китайцев — монгольским и маньчжурским племенам на северо-востоке — прибавились японские и европейские морские пираты, при этом китайские бунтовщики часто помогали и тем, и другим. В конце XVI в. слабость Китая стала соблазном для Японии, незадолго перед тем объединившейся при военном диктаторе Хидэеси и решившей развить локальные успехи пиратов массовым вторжением на материк. После нескольких лет победных, но не получивших логического завершения военных действий в Корее смерть Хидэеси (1598 г.) вынудила японцев отступить.
Ничто подобное не мешало продвижению маньчжуров. Образовав после 1615 г. прочную конфедерацию, они начали захватывать китайские поселения в Южной Маньчжурии (1621 г.) и в 1644 г. коварством захватили Пекин: маньчжурские войска вошли в столицу как союзники «верного» императору династии Мин генерала, но отказались признавать верховенство Мин и провозгласили новую династию — Цин. Последние сторонники династии Мин продолжали бороться вплоть до 1683 г., а после того, как были повержены или принуждены сдаться, в Китай вернулись мир и порядок и была создана основа для нового периода процветания, надежности и стабильности.
Маньчжуры восстановили китайскую администрацию во всех гражданских сферах, но военное дело держали в своих руках. Лучшие регулярные части стояли по всей империи в стратегически важных пунктах. Если солдатскую службу, кроме маньчжуров, несли и монголы, и некоторые китайские подразделения, то в высшем командовании были только маньчжуры. Прилагались сознательные усилия, чтобы традиции, обмундирование и приемы маньчжурских воинов отличались от китайских, так что в течение нескольких поколений варварская сила и воинская дисциплина новых хозяев Китая позволяли им держать Тибет и Монголию в страхе, если и не всегда в полной покорности.
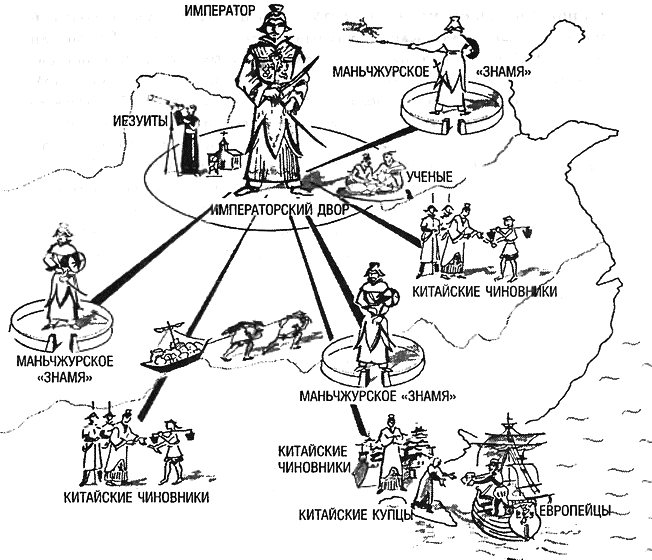 КИТАЙ ПРИ МАНЬЧЖУРАХ
КИТАЙ ПРИ МАНЬЧЖУРАХ
Все эти события полностью соответствовали предыдущей истории страны. Каждая новая китайская династия стремилась контролировать западные и северные пограничные земли, и все варварские завоеватели рано или поздно признавали преимущества восстановления китайской администрации в центральных районах страны. В этом можно было видеть и симптомы ослабления степных народов, когда в своей борьбе с организованной военной системой цивилизованных государств маньчжурам пришлось столкнуться с новым соперником за влияние на степных кочевников — Россией. Передовые казацкие отряды простерли щупальца Российского государства на сибирскую тайгу еще в начале XVI в., а в дальнейшем не без успеха стремились распространить свое влияние на южные степные районы Центральной и Восточной Азии. Но центры российской власти находились очень далеко, а русские войска были целиком заняты на Западе, поэтому после нескольких стычек между обеими империями они договорились (Нерчинский договор 1689 г.) о разграничении зон влияния на Дальнем Востоке в целях урегулирования караванной торговли между Сибирью и Пекином. По этому договору, Внешняя Монголия и центральные степные районы оставались ничейными. Китайские силы впоследствии продвинулись глубже в Центральную Азию, и Кяхтинским договором (1727 г.) Россия была вынуждена признать юрисдикцию Пекина над последними крупными оплотами политической власти кочевников[996]. Никогда ранее китайским династиям не удавалось столь успешно укрепить свои границы с кочевниками.
Однако точного соблюдения традиционных способов вскоре уже оказалось недостаточно для защиты китайских берегов. Японские пираты и европейская морская мощь намного превосходили все, с чем прежним китайским правительствам приходилось когда-либо сталкиваться, а морская империя, созданная вблизи южного побережья Китая пиратским главарем Коксингой[997], оказалась такой угрозой, которой традиционная военная машина не могла легко противостоять[998]. Основным принципом китайской дипломатии был все же принцип «разделяй и властвуй», и, вежливо договариваясь с назойливыми европейскими морскими купцами, и династия Мин, и маньчжуры обеспечивали нужный противовес местным пиратским силам[999].
Еще важнее для ослабления идущей с моря опасности оказалась политика японского правительства, становившаяся все более враждебной по отношению к пиратству, из-за которого уже больше ста лет слова «японец» и «пират» означали в китайских морях одно и то же. Венцом этой политики стал указ 1638 г., официально запрещавший японцам покидать их острова и строить морские суда. Тем самым был перекрыт главный источник пополнения пиратов людьми и их снабжения. После этого Китай получил возможность заняться приспособлением своих вооружений к таким нападениям, отражать которые они были неспособны в силу вековой сосредоточенности на защиту сухопутных границ от конницы кочевых народов.
Вот так, в значительной мере благодаря стечению обстоятельств (поскольку меры Японии против морского разбоя были вызваны внутренней политической ситуацией) и отчасти дипломатической хитростью, китайскому правительству удалось существенно уменьшить угрозу с моря. После 1683 г., когда внук Коксинги сдал Тайвань маньчжурам и тем самым прекратил существование последнего публичного оплота сторонников династии Мин, спорадические нападения пиратских джонок и европейских купцов-пиратов стали рассматриваться всего лишь как дела местного масштаба на южном побережье Китая. Вплоть до 1759 г. основные военные усилия Китая сосредоточивались на его западных границах, где традиционная задача по подчинению и управлению кочевыми общинами выполнялась традиционными же методами, но с более чем обычным успехом.
В отличие от монголов Чингисхана, маньчжуры абсолютно не запятнали себя контактами с какими-либо другими цивилизациями, кроме китайской. Вследствие этого, захватывая постепенно Китай, они с минимальными трудностями усваивали всю широту китайской культуры. При этом под непотревоженной поверхностью китайского государственного устройства стали проявляться медленные и практически не замечаемые изменения, вызванные к жизни европейской торговлей и открытиями. В начале XVIII в. эти нововведения достаточно легко встраивались в здание китайской цивилизации и не ослабляли, а скорее укрепляли империю. Те европейские новшества, которые с трудом вписывались в китайские традиции, просто отвергались как недостойные внимания.
Крупнейшим преобразованием, которое можно приписать завоеванию европейцами океанов, стал ввоз в Китай американских продовольственных культур. В течение XVI-XVII вв. завезенный в страну батат, отличающийся неприхотливостью к почвам и высокой урожайностью при интенсивном земледелии, позволил обрабатывать склоны холмов и другие неплодородные и непригодные для риса земли[1000]. Социальный эффект этого нововведения вместе с внедрением других, менее ценных новых культур (кукуруза, арахис, табак, «ирландский» картофель и др.) оказался аналогичным результату распространения скороспелого риса в XI-XIII вв. Появилась возможность обрабатывать новые обширные площади, особенно в Южном Китае. Это, в свою очередь, способствовало повышению веса помещиков в китайском обществе в целом, что можно расценивать как вопрос критической важности в эпоху, когда ремесленничество и торговля также заметно находились на подъеме.
Второй важной особенностью, проявившейся во второй половине XVII в., стал рост населения. Ему, несомненно, способствовали новые американские сельскохозяйственные продукты и умиротворение Китая в результате побед маньчжуров, а также, вероятно, повышение иммунитета к эпидемическим болезням. К началу XVII в. население Китая составляло около 150 млн. человек, т.е. в два с половиной раза больше, чем в начале царствования династии Мин (1368 г.). И хотя длительные политические волнения и войны XVII в. привели к сокращению населения, основные потери были восполнены к 1700 г., когда общее население Китая снова достигло примерно 150 млн.[1001]
Китайская торговля и ремесленничество в XVI-XVII вв. также расширялись. Китайский экспорт нашел для себя новые рынки в Европе и Америке (через Филиппины), а по некоторым видам товаров, например фарфоровым изделиям, было организовано своего рода массовое производство для заморских рынков. Наплыв мексиканского серебра восполнил давнюю нехватку в Китае металла для чеканки монет. Описанные процессы обогатили новых китайских торговцев и, очевидно, способствовали росту числа ремесленников, хотя и не привели к заметным изменениям в социальном статусе тех или иных групп. Пока сельское хозяйство развивалось на равных с городом, ничто не могло разрушить старый порядок подчинения торговцев и ремесленников классу помещиков и чиновников, а вся китайская традиция, политика правительства и даже самые высокие ценности, взлелеянные самими горожанами, были направлены на сохранение такой общественной иерархии.
* * *
Культурные процессы в Китае в точности отражали прочную устойчивость китайского общества в целом. Новшества, когда они мирно вписывались в существующие шаблоны мысли и чувств, воспринимались активно, независимо от того, расходились ли они с городских улиц, как это случилось с плутовской прозой, обосновавшейся в китайской литературной культуре в XVII в., или их приносили европейские варвары, как, например, очень интересные новые сведения по математике, астрономии и географии. Отдельные китайские художники экспериментировали также с европейской линейной перспективой и светотенью, а придворным очень нравились часы с боем и другие механические игрушки, розданные в качестве подарков иезуитами-миссионерами в Пекине.
Отметим, что сам по себе интерес к заграничным вещам ничего не означал. Иностранные взгляды и техника оставались не больше, чем забавными курьезами, ничуть не способными нарушить то самодовольство, с которым образованные китайцы взирали на свое культурное достояние. В конце концов, главной задачей было сохранять это высокое наследие добросовестным почитанием предков как в искусстве, так и в науках. Официальной доктриной государства оставалось неоконфуцианство, и хотя писатели серьезно расходились, толкуя учение Конфуция, все они были согласны, что основные усилия должны направляться на более тесное соответствие «классике Хань» путем очищения от буддийского и даосского наслоений. Такая робкая архаичность[1002] едва ли вела к отрыву от неоконфуцианских идеалов; она лишь отчасти ограничивала смелость ранних интерпретаций классики, сосредоточивая внимание на тщательном анализе слов и их значений[1003].
Итак, к 1700 г. торговое, военное и миссионерское давление Европы на традиционный китайский уклад успешно сдерживалось восстановленным государственным устройством Срединного царства. Интеллектуальные вызовы, приносимые новым дыханием мира, в основном пролетали мимо. Китайские политические проблемы успешно решались традиционными методами, а экономические перемены лишь укрепляли и упрочняли китайское общество.
ЯПОНИЯ. Несмотря на сохранение призрачной императорской власти, Япония в 1500 г. была разделена на многочисленные феодальные владения и то там, то тут шла гражданская война. Общины воинствующих монахов оспаривали власть самурайских родов, а под руководством буддийских сект даже простые крестьяне время от времени брались за оружие. Морской разбой, организованный владетелями прибрежных княжеств и шайками городских авантюристов, дополнял беспорядки на суше. Пиратские банды совершали опустошительные набеги в глубь территории Китая, поднимаясь даже по Янцзы до Нанкина, который был осажден ими в 1559 г., а японские корабли выходили временами в Индийский океан. В течение XVI в. все более крупные объединения самурайских родов увеличивали масштабы военных действий, а более высокое мастерство и организованность этих профессиональных воинов вскоре привели к тому, что буддийские монахи и их крестьянские ополченцы были изгнаны с полей сражений. Укрепление военной системы[1004] не прекратилось с победой самураев, поскольку к 1590 г. все военные кланы были вынуждены признать верховенство самозванного диктатора Хидэеси (ум. 1598). После временного перерыва, когда Хидэеси тщетно, но упрямо пытался с помощью пиратов полностью захватить Китай, его преемники, сегуны рода Токугава, ликвидировали единственный оставшийся оплот независимой военной силы, запретив выходить в море и строить корабли (1626-1628 гг.).
Благодаря этим мерам в Японию вернулись мир и порядок. За ними последовала вспышка экономического процветания, позволившего по иронии судьбы купечеству вернуть многое из утраченного во время войны. Лишенные в наступившей мирной эпохе своих занятий самураи бросились в расточительство и безнадежно завязли в долгах. Финансисты и купцы, со своей стороны, использовали богатство для поддержки городской культуры средних классов, отличавшейся силой и чувственностью и вольно или невольно противостоявшей суровому кодексу самураев. Таким образом, города взяли на себя ту роль, которую ранее в истории японской культуры играл императорской двор, и предложили альтернативу жизненному укладу, почитавшемуся, хотя и не всегда соблюдавшемуся, военной земельной аристократией.
Такие стремительные и резкие перемены в японском обществе вызывали сильные водовороты и противные течения, и действия правителей, сменявших друг друга в высших сферах власти, должны были учитывать развитие событий. Хидэеси, начавший свою карьеру подручным конюха и ставший в конце концом деспотичным диктатором, чьи приказы не обсуждались нигде и никем в Японии, в течение всей своей жизни проводил безудержную агрессивную политику. Основатель сегуната Токугава — Иэясу — был человеком совершенно другого склада, и его политика была куда менее грандиозной, чем политика его друга и предшественника. Его целью и целью его преемников было укрепление внутренней мощи против всевозможных врагов, а не распространение величия Японии за ее рубежами. Хидэеси пытался слить самурайские традиции с такими же кровожадными традициями морских пиратов. Иэясу предпочитал использовать свою власть над самураями, получившими из его рук право на сбор податей с крестьян, против морских пиратов и всех самовольных военных авантюристов. Таким образом, экспансионистская самоуверенность эпохи Хидэеси была сведена до забот сторонников линии внутреннего развития о сохранении их привилегированного положения перед лицом возможных соперников. Для осуществления таких преобразований потребовалось время. Только к 1639-1638 гг. осторожная политика Токугава пришла к своему логическому завершению, когда третий сегун закрыл Японию для внешнего мира и запретил японским морякам выходить из внутренних вод и строить морские корабли[1005].
Проведению такой политики изоляции способствовала деятельность христианских миссионеров. Португальские авантюристы впервые достигли Японии в 1542-м или 1543 г., а миссионерская деятельность началась с прибытием св. Франциска Ксавье в 1549 г. Успех миссионерской пропаганды объяснялся праведностью и властным характером Ксавье, мужеством, ученостью и упорством его собратьев иезуитов, а также привлекательностью христианских обрядов и учения. При этом в других районах цивилизованной Азии подобные миссии производили небольшое впечатление. Следовательно, необычный успех христианской миссии в Японии, как и последующий ее провал, надлежит приписать местным особенностям.
Успешным начинаниям первых иезуитов, прибывших в Японию, благоприятствовал политический хаос и наличие массы суверенов по всей Японии. Если какой-либо феодал отвергал попытки миссионеров, то его сосед автоматически настраивался в их пользу, тем более, когда усматривал в этом возможность получить более совершенное оружие или другие преимущества от торговли с португальцами. В отличие от Китая, в Японии сразу же оценили техническое превосходство европейского оружейного искусства, и восхищение мушкетами и пушками вскоре перешло и на другие аспекты португальской цивилизации. Так, мода на европейскую одежду сопровождалась и широким распространением моды на крещение, так что в течение нескольких десятилетий иезуиты в Японии могли поздравлять себя с казавшимся им неминуемым обращением в христианство целого народа.
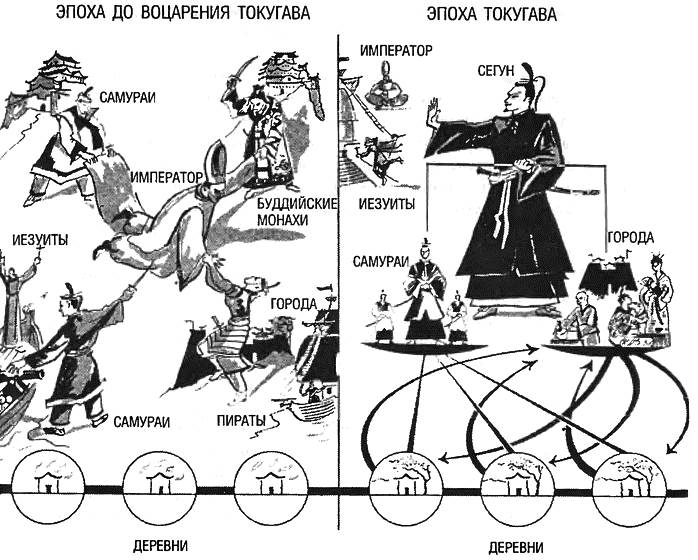 ЯПОНИЯ В 1500—1650 ГГ.
ЯПОНИЯ В 1500—1650 ГГ.
Подъем действенной центральной власти в Японии поначалу не казался опасным для христианских миссий. Начавший этот процесс Нобунага (ум. 1582) и продолживший его Хидэеси, завершивший объединение страны, были оба дружественно настроены к миссионерам, разделяя с ними ярую неприязнь к буддийским монахам, представлявшим собой огромное препятствие и для политики военных диктаторов, и для планов иезуитов. Впрочем, следует отметить, что Хидэеси принадлежал к религиозным скептикам и не доверял христианам как реальным или потенциальным агентам иностранных государств. Так, в 1587 г. он издал указ об изгнании иностранных миссионеров из Японии, но затем остерегся от введения его в силу, очевидно, потому, что не желал прекращения португальской торговли[1006].
В отличие от Хидэеси, Иэясу был практикующим буддистом, но, как и его предшественник, питал недоверие к политическим пристрастиям христианских миссионеров. К тому же появление с 1609 г. в японских водах голландцев стало дополнительным источником оружия и других западных товаров, и примирение с португальцами казалось уже необязательным. В результате начались спорадические преследования христианских общин. Большинство японских феодалов, принявших крещение, отреклись от христианской веры, а некоторые лишились своих владений. Однако представители отдельных низших слоев общества оставались непоколебимыми христианами даже перед лицом растущих преследований. Такое упорство вызвало сильные опасения третьего сегуна Токугава, усматривавшего в религиозном рвении японских христиан открытый вызов его власти. В 1637 г. вспыхнуло восстание на острове Кюсю, подтвердившее опасения сегуна и предопределившее полный разгром христианства в Японии. Больше года потребовалось войскам сегуна, чтобы захватить последний оплот христиан. Борьба сопровождалась массовыми убийствами и травлей христиан по всей Японии. Иностранных миссионеров пытали и казнили вместе с обращенными в их веру японцами, а отношения с португальцами были полностью разорваны. С этого времени торговля с другими странами была сведена к минимуму и находилась под жестким контролем, чтобы предотвратить повторение нарушения европейцами вообще и римскими католиками в частности политического порядка, созданного в Японии династией Токугава.
Высокоразвитая японская культура XVI-XVII вв. претерпела такие же резкие изменения, как и те, что сотрясали общественную арену. Крупные военачальники, объединившие Японию, в общественном плане были выскочками, мало ценившими тонкую и неброскую чувственность китаизированной традиции придворного искусства. Хидэеси был великим строителем, и возводившиеся по его приказу строения отличались огромными размерами и яркостью украшений. Однако при сегунах Токугава вновь утвердилась прежняя эстетическая сдержанность. Моральный кодекс воина — бусидо -получил письменное закрепление в официальном эдикте 1615 г., и постепенно этические каноны придали деяниям, приличествующим самураям, некоторую дополнительную элегантность. Ритуалы, наподобие чайной церемонии, в центре которых лежали использование и восхищение древней и прекрасной посудой для угощения чаем, или стилизованный театр «Но» задавали тон этой поновому оформившейся самурайской эстетике.
А кричащая вульгарность эпохи Хидэеси сохранилась в развивающихся городских центрах, где профессиональные артисты — гейши, кукольники, мимы театра «Кабуки», акробаты и другие угождали прихотям богатых горожан. Поэзия, проза, драматургия и живопись принимали новые формы, отражая роскошь и распущенные нравы растущих городов. Традиционные моральные нормы редко открыто отвергались, хотя искусство и литература отличались духом непочтительности, веселья, а порой явной сексуальности, плохо сочетавшихся со сдержанной благопристойностью старой аристократической Японии. Такие развлечения легко соблазняли самураев, отвлекая их от строго дисциплинированной жизни людей, чьим ремеслом было насилие.
Правительство сегуна с подозрением относилось ко всем этим новшествам и прилагало усилия к тому, чтобы с помощью соответствующих законов и цензуры ограничивать наиболее яркие проявления нового духа. Правительство поощряло неоконфуцианские взгляды, и немало известных ученых пытались — не без определенного успеха — популяризировать идеи Конфуция. Буддизм, политически выведенный из строя в войнах XVI-XVII вв., погрузился в культурную спячку, в то время как древняя религия богини солнца синто стала почвой для сплочения неортодоксальных ученых, отвергавших принятые официально неоконфуцианские доктрины. Но поскольку в синтоизме превозносилось положение императора как потомка богини солнца в ущерб власти сегуна, то такие мысли вполне могли бы вызвать официальный отпор. Они, однако, высказывались с такими учеными предосторожностями и так замысловато, что нужда в жестких преследованиях отпадала.
Таким образом, после изгнания европейцев и уничтожения христианства Япония вошла в период любопытной культурной двойственности. Официальный мир бусидо, неоконфуцианства и китаизированных стилей в искусстве столкнулся с новой, нерелигиозной, городской культурой, несдерживаемая чувственность и стихийная сила которой отчетливо противостояли официально поддерживаемой благопристойности и сдержанности. Столь явные различия не помешали хитросплетенному балансу японского общества и культуры, установившемуся при первых сегунах Токугава, сохраняться на протяжении более трех столетий.
ТИБЕТ, МОНГОЛИЯ, СРЕДНЯЯ АЗИЯ. В период, когда Япония продолжала свой независимый путь развития по соседству с континентальным Китаем, происходили также интересные и в исключительной степени неясные преобразования в тибетском и монгольском обществе. Центральным явлением стало расширение ламаистской «желтой церкви» среди практически всех монгольских племен. «Желтая церковь» возникла в XIV в. и отличалась требованием безбрачия и строгой дисциплиной монахов. В начале XVI в. «желтая церковь» подчинила себе тибетское правительство, когда ее глава -Далай-лама из Лхасы стал своего рода управляющим царского дворца и взял на себя политическую и религиозную власть в крае.
К концу XVI в. многие монгольские племена начали признавать власть «желтой церкви», а к началу XVII в. большинство их было обращено в ее веру. Китайское правительство пыталось установить дипломатическое влияние на высших пастырей этой церкви, однако точные сведения о том, насколько успешными были эти попытки, отсутствуют. Так, например, религиозная верхушка ламаистов, очевидно, приложила руку к укреплению внушительной конфедерации калмыков, которая из своего центра на реке Или противостояла самым смелым военным предприятиям китайского правительства вплоть до 1757 г., когда эпидемия оспы довершила начатое китайскими войсками и поставила точку на политическом существовании упорных кочевников. После этого Тибет отказался от существовавшей в предыдущие десятилетия двусмысленности в своих отношениях с более сильным соседом и покорился Китаю.
Какой бы ни была роль ламаизма в кочевых объединениях XVI-XVII вв., религия, как представляется, послужила для защиты степных наездников от духовного владычества их более цивилизованных соседей даже в эпоху, когда развитие военной техники лишало азиатских кочевников привычного для них значения в мировой истории[1007].
4. АФРИКА
До начала XVI в. Африка к югу от Сахары была знакома с цивилизованным миром только благодаря посредничеству мусульман, поскольку изолированные христианские государства Эфиопии и Нубии были едва способны противостоять давлению мусульман на собственные границы и не могли соперничать с исламом в плане влияния на всю Африку. Ситуация изменилась, когда португальцы обогнули мыс Доброй Надежды и наладили торговлю и основали морские стоянки в удобных местах на побережье Африки. В результате народы Африки оказались зажаты между европейским и исламским миром и в отдельных случаях могли выбирать тот или иной из них. И мусульмане, и христиане активно занимались работорговлей, так что не раз их хищнические повадки сводили на нет усилия миссионеров в африканских племенах и царствах. Таким образом, язычество сохранялось, а порой и возрождалось и после официального обращения в христианство или в ислам.
Вплоть до XVIII в. проникновение европейцев в Африку носило очень поверхностный характер. В Западной Африке, где установился ислам и веками существовали мириады сменяющих друг друга местных государств и империй, европейцы просто занимали некоторые прибрежные стоянки, с которых могли заниматься работорговлей. Попав дальше на юг, португальцы открыли обширные по своей территории царства, расположенные в бассейне реки Конго или между реками Замбези и Лимпопо в Восточной Африке. Однако эти государства были сравнительно слабыми, и даже обращение их правителей в христианство привело к незначительным результатам.
Как бы то ни было, и королевство Конго, и империя Мономатапа в Восточной Африке развалились или практически утратили свое значение в течение XVII в., несмотря на поддержку португальцев (а может быть, и по ее причине).
В XVI-XVII вв. Африка претерпела два важных вида экономических перемен. Во-первых, во многих частях континента стали развиваться животноводство и кочевой образ жизни, чего там до тех пор не было либо же оно существовало в незначительных масштабах. Двигаясь через северные районы Судана, от восточной окраины Африки к Марокканскому побережью, кочевые племена расширяли свою среду обитания порой за счет оседлых сельскохозяйственных общин. Кочевники были мусульманами, хотя и откровенно примитивного уровня, но их движение означало проникновение ислама все глубже в Африку. Вдобавок к этому языческие племена народности банту перемещались со своими стадами скота на юг через восточные нагорья Африки по направлению к мысу Доброй Надежды. Их продвижение вынуждало первобытные охотничьи племена бушменов и готтентотов искать себе надежные убежища и в отличие от нашествия кочевников на севере обеспечивало заметные преимущества в техническом уровне использования окружающей среды.
Во-вторых, в Африку было завезено немало сельскохозяйственных культур, скорее всего теми кораблями, которые поставляли в Новый Свет рабов. Кукуруза, маниока, батат, арахис, кабачки и какао быстро заняли ведущее место в африканском сельском хозяйстве, а первые три из названных видов стали стремительно распространяться по широким просторам континента. Очевидно, быстрому освоению этих новых продуктов способствовали сходство климата Африки и Центральной и Южной Америки и непостоянный характер «огородного» сельского хозяйства, преобладавшего в Африке, поскольку экспериментам с новыми растениями не препятствовали твердый севооборот или устоявшиеся сельскохозяйственные правила.
Появление обширных территориальных государств в Центральной и Восточной Африке, выход скотоводов, кочевников и полукочевников на широкие просторы континента, освоение американских продовольственных культур означали тесное соединение Африки с остальным миром. Важным связующим звеном была работорговля, принявшая гораздо большие размеры, когда запасы рабочей силы американских индейцев для плантаций и рудников были истощены и пришлось заменять ее африканскими рабами. И мусульманские, и европейские работорговцы действовали в глубине континента, грубо вламываясь в вековой уклад сельских и племенных общин и захватывая сотни тысяч беспомощных жертв. Их действия были жестоки, однако без такого безжалостного насилия африканские общества не смогли бы так быстро воспрянуть от своего первобытного сна. Возможно, способность африканских народов выдержать влияние европейского политического и экономического господства в XIX в. объясняется тем, что их предки уже испытали на себе и пережили грубое разрушение работорговцами их коренных социальных устоев[1008].
Д. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В XVI-XVIII вв. евразийский мир расширился, вобрав в себя отдельные части Америки, большую часть Африки к югу от Сахары и всю Северную Азию. Более того, в самом Старом Свете Западная Европа начала опережать всех соперников, взяв на себя роль самого активного центра географической экспансии и культурного обновления. Бесспорно, революционное самопреобразование Европы превратило средневековые рамки западной цивилизации в новую и гораздо более мощную структуру общества. Следует заметить, что мусульманские, индийские и китайские земли не были серьезно затронуты воздействием новой энергии, исходившей от Европы. Вплоть до начала XVIII в. жизнь в этих районах продолжала вращаться вокруг старых традиций и привычных проблем.
Большая часть остального мира, которой не хватало общей самодостаточности мусульманской, индуистской и китайской цивилизаций, более остро ощутила на себе соприкосновение с европейцами. В Новом Свете такими контактами были сначала обезглавлены, а затем уничтожены общества американских индейцев, однако в других районах с более сильными местной властью и сопротивлением проявлялась на удивление стойкая реакция. В столь различных странах, как Япония, Бирма, Сиам, Россия и некоторые части Африки, первоначальный интерес и энтузиазм, с которым порой воспринимались европейская техника, идеи, религия или мода на платье, в XVII в. сменились политикой отдаления и сознательной изоляцией от европейского влияния. Аналогичным духом были проникнуты возрождение индуизма в Индии и реформа ламаизма в Тибете и Монголии, поскольку и в том, и в другом случае речь шла о том, чтобы защитить местные культурные ценности от чужеземного влияния, хотя оно шло в первую очередь от мусульман и Китая, а не от Европы.
Незначительное число областей на планете оставались незатронутыми беспокойными силами цивилизации. Но к началу XVIII в. к обширным обитаемым районам, остававшимся за пределами ойкумены, относились Австралия, джунгли Амазонки и северо-западная часть Северной Америки, хотя и они уже почувствовали толчки общественных потрясений, вызванные приближающимся натиском цивилизации.
Никогда раньше в истории мира общественные преобразования не происходили настолько быстро. Все более плотные контакты через океанские просторы земного шара обеспечивали постоянное взаимовлияние основных культур человечества. Попытки ограничить общение с чужеземцами и уберечься от нарушающих покой отношений с пришельцами, особенно с беспокойными и беспощадными представителями Запада, были обречены на провал тем обстоятельством, что продолжающееся преобразование западной европейской цивилизации и, в частности, развитие западной техники быстро усилили давление, которое Запад мог оказывать на другие народы земли. Историю мира с XVI в. можно рассматривать как гонку между растущей способностью Запада подчинять себе остальной мир и все более отчаянными усилиями других народов отбиться от Запада, цепляясь сильнее, чем раньше, за собственное культурное наследие, либо же, когда такие попытки не приводили к успеху, путем заимствования некоторых аспектов западной цивилизации, особенно техники, в надежде найти тем самым способ сохранить свою самостоятельность.
А. ВЕЛИКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ИХ МИРОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
К началу XVI в. европейцы с Атлантического побережья владели тремя секретами успеха, которые позволили им покорить все океаны мира за какие-то полвека и подчинить себе наиболее развитые районы Америки за жизнь одного поколения. Этими талисманами были глубоко укоренившаяся задиристость и безрассудство (1), реализуемые с помощью сложной военной технологии, особенно в морском деле (2), а также население, привычное к тем видам болезней, которых не знал Новый Свет (3).
О варварских корнях европейской агрессивности, уходящих в бронзовый век, о сохранении в средние века воинских навыков у купечества Западной Европы, а также среди городского и сельского дворянства уже говорилось в нашей книге. При этом, если вспомнить почти невероятную храбрость, отвагу и жестокость Кортеса и Писарро в Америке, поразмыслить о безжалостной агрессивности Алмейды и Альбукерка в Индийском океане, узнать о том пренебрежении, с которым даже такой образованный европеец, как отец Маттео Риччи, относился к воспитанности китайцев[912], становится ясна вся сила европейской воинственности в сравнении с поведением и склонностями других крупных цивилизаций земли. Только мусульмане и японцы могут выдержать сравнение по тому почету, который оказывали они воинской доблести. Однако мусульманские торговцы обычно уступали насилию, которое пребывало в большой чести у их правителей, и редко брали на себя смелость противостоять ему. Таким образом, мусульманским торговцам недоставало голой, хорошо организованной, широкой силы, ставшей основным товарным запасом европейских морских торговцев в XVI в. Японцы, конечно, могли бы скрестить мечи с любым европейцем; но рыцарский стиль их военного искусства в сочетании с сильно ограниченным количеством железа означал, что ни самураи, ни морские пираты не могли бы достойно ответить бортовому залпу Европы.
Господство на море значительно усилило возможности проявления воинственности европейцев с начала XVI в. Однако морское превосходство Европы само было результатом сознательного сочетания науки и практики, начавшегося в торговых городах Италии и достигшего зрелости в Португалии благодаря стараниям Генриха Мореплавателя и его наследников. С введением в обиход компаса (XIII в.) плавание вне пределов видимости земли стало регулярной практикой Средиземноморья, а штурманские карты, или портуланы, требовали для таких путешествий указания берегов, гаваней, береговых знаков и направления по компасу между основными портами. И хотя рисовали их от руки, без точных математических проекций, на портуланах все же соблюдались довольно точные масштабы расстояний. Однако подобным образом составленные карты можно было применять для плавания на большие расстояния в Атлантике, только если удалось бы найти способ точного определения ключевых точек вдоль побережья. Для решения этой задачи принц Генрих пригласил в Португалию некоторых лучших математиков и астрономов Европы, и те изготовили простые астрономические приборы и тригонометрические таблицы, с помощью которых капитаны могли измерять широту вновь открываемых мест вдоль Африканского побережья. Расчет долготы был более сложным, и пока в XVIII в. не изобрели удовлетворительный морской хронометр, долготу определяли приблизительно только навигационным счислением. Тем не менее новые способы оказались действенными, и правительство принца Генриха разрешило португальцам изготавливать практичные карты Атлантического побережья. Эти карты позволяли португальским мореходам смело плавать вне видимости берега неделями и месяцами и уверенно приводить свои суда в нужный пункт[913].
При португальском дворе собирали также систематические сведения об океанских ветрах и течениях, однако хранили их как высшую государственную тайну, поэтому современные исследователи не могут с уверенностью сказать, насколько много знали первые португальские мореходы. В то же время португальские морские мастера взялись за совершенствование конструкции судов. Работали они «на глаз», но систематические продуманные эксперименты быстро позволили повысить мореходность, маневренность и скорость португальских, а затем (поскольку усовершенствования в судовой архитектуре нельзя сохранить в тайне) и других европейских кораблей. К наиболее важным новшествам относятся уменьшение ширины корпуса относительно длины, установка нескольких мачт (как правило, трех или четырех), а также использование вместо одного паруса на мачте, как было изначально, нескольких небольших, но лучше поддающихся управлению парусов. Эти нововведения позволяли команде подбирать паруса соответственно условиям ветра и моря, что значительно облегчало управление судном и предохраняло его от беды при внезапно налетевшем шторме[914].
Благодаря таким усовершенствованиям можно было строить большие корабли, а увеличение размера и прочность конструкции[915] позволяло превратить суда дальнего плавания в артиллерийские платформы для тяжелых орудий.
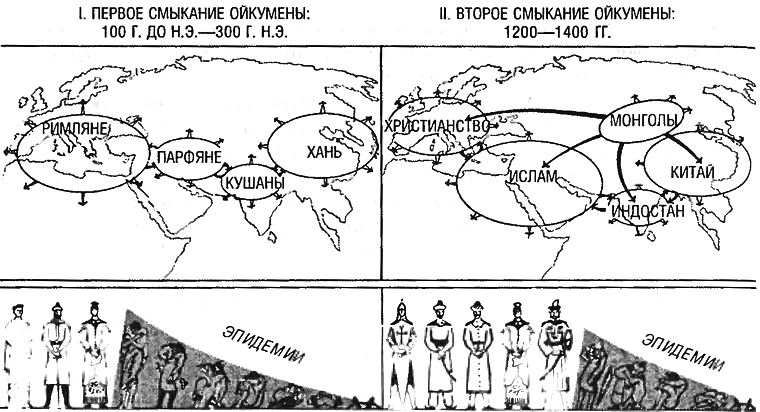

Таким образом, к 1509 г., когда португальцы вели решающие сражения за контроль над Аравийским морем из-за индийского порта Диу, их корабли могли дать мощный бортовой залп на дальность, чего не могли сделать корабли их мусульманских противников. При таких условиях численное превосходство вражеского флота лишь давало португальцам дополнительные цели для стрельбы. Старая тактика морского боя — таран и абордаж — оказалась почти бесполезной против орудийного огня, эффективного на расстоянии до 200 ярдов[916].
Третье оружие в арсенале европейцев — болезни — было не менее эффективным, чем их агрессивность и сила металла. Эндемические европейские болезни типа оспы и кори были смертельны для американского населения, не имевшего врожденного или приобретенного иммунитета. Буквально миллионами умирали они от этих и других европейских болезней. Эпидемия оспы, свирепствовавшая в Теночтитлане, когда в 1520 г. Кортес с его людьми был выбит из цитадели, сыграла более весомую роль в поражении ацтеков, чем военные действия. Империя инков тоже, очевидно, была опустошена и ослаблена подобной эпидемией до того, как Писарро смог достичь Перу[917].
С другой стороны, такие болезни, как желтая лихорадка и малярия, нанесли большие потери европейцам в Африке и Индии[918]. Однако климатические условия, как правило, препятствовали проникновению новых тропических болезней в саму Европу в серьезных масштабах. Те же болезни, которые могли развиваться в условиях умеренного климата, такие как тиф, холера, бубонная чума, были давно известны в ойкумене, и народы Европы, очевидно, приобрели определенную сопротивляемость к ним. Несомненно, новые, более частые контакты по морю с отдаленными районами имели заметные медицинские последствия для европейцев, как, например, чума, жертвами которой стали Лиссабон и Лондон. Но постепенно инфекции, которые в прежние века спонтанно приводили к эпидемиям, становились не более чем эндемическими по мере того, как у населения вырабатывался достаточный уровень сопротивляемости. До 1700 г. европейцы успешно отражали удары, наносимые им усилившимся в результате их же морских путешествий притоком болезней. Постепенно эпидемии перестали быть угрозой в демографическом смысле[919]. Как результат, с 1650 г. (или еще раньше) наметился ускоренный рост населения в Европе. Более того, насколько позволяют судить несовершенные данные, в 1550-1650 гг. население начало быстро расти в Китае, Индии и на Среднем Востоке[920]. Такое ускорение роста населения в каждой большой цивилизации Старого Света вряд ли может быть простым совпадением. Предположительно одинаковые экологические процессы стали происходить во всех частях населенного мира, когда нашествия старых эпидемий угасли до уровня эндемических болезней[921].
Замечательное сочетание воинственности европейцев, их морских достижений и относительно высокого уровня сопротивляемости болезням изменило культурный баланс мира в поразительно короткий отрезок времени. Колумб связал Америку с Европой в 1492 г., и испанцы бросились осваивать, завоевывать и колонизировать Новый Свет с необыкновенной энергией, невиданной жестокостью и высоким миссионерским идеализмом. Кортес уничтожил государство ацтеков в 1519-1521 гг.; Писарро подчинил себе империю инков в 1531-1535 гг. В последующие поколения менее знаменитые, но не менее отважные конкистадоры основали испанские поселения вдоль берегов Чили и Аргентины, проникли в горные районы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы и Центральной Америки, разведали бассейн Амазонки и юг современных Соединенных Штатов. Уже в 1571 г. Испания совершила прыжок через Тихий океан до Филиппинских островов и столкнулась там с морской империей, которую ее соседи по Пиренейскому полуострову -португальцы — тем временем разбросали вокруг Африки и по южным морям Восточного полушария.
Экспансия Португалии в Индийском океане происходила еще быстрее. Ровно десять лет прошло от завершения Васко да Гама его первого плавания в Индию (1497-1499 гг.) до решающей морской победы португальцев при Диу (1509 г.). Португалия тотчас же развила этот успех, захватив Гоа (1510 г.) и Малакку (1511 г.), которые вместе с Ормузом в Персидском заливе (занятым в 1515 г.) служили ей необходимыми базами, откуда можно было контролировать торговлю во всем Индийском океане. Этими успехами Португалия не ограничилась. Ее корабли без промедления отправились за драгоценными пряностями в самое дальнее место их добычи — на Молуккские острова (1511-1512 гг.), а в 1513-1514 гг. португальский купец-путешественник на малайском судне посетил Кантон (Гуанчжоу). К 1557 г. в Макао на южном побережье Китая было основано постоянное португальское поселение. В 1540-е гг. развернулись торговля и миссионерская деятельность в Японии. На другом конце света португальцы в 1500 г. открыли Бразилию и начали обосновываться в этих краях после 1530 г. Береговые посты на западе и востоке Африки, размещенные там в 1471-1507 гг., дополнили цепь портов назначения, связывающих воедино португальскую империю.

На этой красивой, ярко расписанной ширме японский художник конца XVII в. отразил свои впечатления от прибытия португальского корабля. Корабль только что прибыл, матросы еще спускаются по снастям, а некоторые готовятся к высадке. На переднем плане встречающих японских сановников окутали плотные клубы дыма, произведенные, без сомнения, орудийным салютом. Длинный волнообразный язык дыма, вползающий на берег с европейской плавучей орудийной платформы, символизирует начальный этап европейского влияния на весь остальной мир в эпоху великих морских открытий.
Никакая другая европейская держава не могла сравниться с Испанией и Португалией по их первым успехам в заморских странах[922]. Тем не менее оба пиренейских государства недолго безмятежно вкушали плоды своих завоеваний. С самого начала Испании трудно было защитить свои суда от французских и португальских корсаров. Новой страшной угрозой с 1568 г. после первого открытого столкновения между английскими контрабандистами и испанскими властями в Карибском море стали английские пираты. В 1516-1568 гг. другой великий морской народ того времени — голландцы — находился под властью правивших Испанией Габсбургов и пользовался соответственно привилегированным положением посредника между испанскими и североевропейскими портами. Поэтому первоначально голландский флот не посягал на морскую мощь пиренейских государств.
Равновесие на море резко изменилось во второй половине XVI в., когда восстание Голландии против Испании (1568 г.) и последующий разгром Англией испанской Непобедимой армады (1588 г.) ознаменовали отступление пиренейских морских держав перед надвигающимися на них северными морскими государствами. Нападения на голландские корабли в испанских портах лишь ускорили этот процесс, поскольку Голландия ответила тем, что направила свои суда прямо на Восток (1594 г.), а Англия последовала ее примеру. С этого момента голландская морская и торговая мощь стала быстро вытеснять португальскую[923] в южных морях. Размещение базы на Яве (1618 г.), захват Малакки у португальцев (1641 г.) и крупнейших торговых постов на Цейлоне (к 1644 г.) обеспечили голландцам господство в Индийском океане. В этот же период английские купцы закрепились в Западной Индии. Колонизация Англией (1607 г.), Францией (1608 г.) и Голландией (1613 г.) материковой части Северной Америки и захват этими же державами большинства малых Карибских островов подорвали претензии Испании на монополию в Новом Свете, хотя им и не удалось выдворить ее хоть из одного сколько-нибудь важного района, в котором она утвердилась.
Поистине чрезвычайный порыв первых завоеваний пиренейских государств и не менее замечательная миссионерская деятельность, начавшаяся следом за ними, без сомнения, ознаменовали начало новой эры в истории человеческого сообщества. При этом следует отметить, что не все более старые вехи этой истории сразу же исчезли из поля зрения. Движение из евразийских степей продолжало влиять на историю, как, например, завоевание узбеками междуречья Амударьи и Сырдарьи (1507-1512 гг.), а также его прямое следствие — завоевание Моголами Индии (1526-1688 гг.) или завоевание маньчжурами Китая (1621-1683 гг.)
Новый режим морей очень слабо отразился на китайской цивилизации, а экспансия мусульманского мира, бывшая главной особенностью мировой истории в течение многих столетий до 1500 г., не прекращалась и даже заметно не угасала вплоть до конца XVII в. Своими завоеваниями в далеких морях западноевропейские страны, разумеется, окружили мусульманский мир в Индии и в Юго-Восточной Азии, в то время как продвижение России по сибирской тайге отрезало мусульманские земли с севера. Но такая «проба» европейской (и европеизированной) мощи в XVII в. оставалась незначительной и относительно слабой. Мусульмане отнюдь не были раздавлены громадными европейскими клещами, а наоборот, продолжали одерживать важные победы и занимать новые территории в Юго-Восточной Европе, Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. До начала XVIII в. мусульмане понесли серьезные территориальные потери только в западных и центральных степных районах.
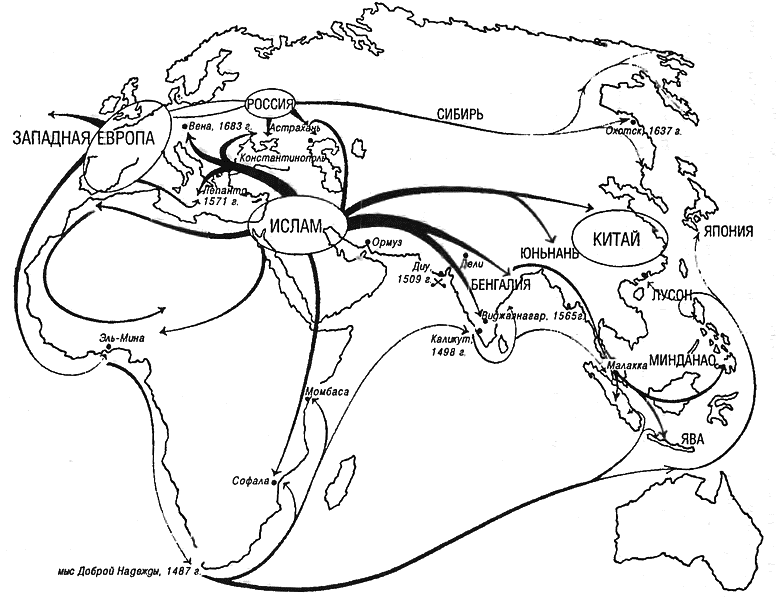
Таким образом, только два обширных района земного шара претерпели коренные изменения в течение двух веков европейской заморской экспансии: районы высокой культуры американских индейцев и сама Западная Европа. Европейские морские экспедиции, несомненно, расширили масштабы и наладили контакты между различными народами мира, а также познакомили новые народы с разрушительным общественным влиянием высоких цивилизаций. При этом Китай, мусульманские страны, индусы не отклонились по-настоящему от своих прежних путей развития, а значительные пространства суши, так же как Австралия и Океания, тропические леса Южной Америки и Северо-Восточной Азии, почти не были затронуты европейским влиянием.
Тем не менее мировая история получила новую размерность. Край океана, где европейские мореходы и солдаты, купцы, миссионеры и поселенцы встретились с другими цивилизованными и нецивилизованными народами мира, начал угрожать бывшему господству евразийской сухопутной границы, где степные кочевники веками испытывали на прочность и беспокоили цивилизованные земледельческие народы. Древнейшие общественные устои стали меняться, когда берега Европы, Азии и Америки превратились в арену все более значительных социальных процессов и новшеств. Болезни, золото, серебро и некоторые полезные сельскохозяйственные культуры первыми свободно потекли по новым трансокеанским каналам сообщения. Их ввоз имел важные и далеко идущие последствия для Азии, Европы и американских стран. Однако до начала XVIII в. лишь отдельные заимствования более непонятных методов и идей переносились по морским путям, соединявшим отныне четыре великие цивилизации Старого Света. В таких обменах Европа чаще получала, чем отдавала, поскольку ее народы были движимы живой любознательностью, ненасытной алчностью и безрассудным духом авантюризма, резко отличаясь этим от самодовольного консерватизма китайских, мусульманских и индусских вождей.
Отчасти в силу побудительных факторов, принесенных в Европу из-за моря, но преимущественно по причине внутренних конфликтов, возникавших на почве ее собственного разнородного культурного наследия, в 1500-1650 гг. Европа вступила в эпоху настоящих социальных взрывов, принесшую с собой болезненные процессы, которые тем не менее вознесли европейскую мощь на новый уровень действенности, и впервые обеспечили европейцам явное превосходство над прочими великими цивилизациями мира.
Б. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЕВРОПЫ В 1500-1650 ГГ.
1. ПОЛИТИКА
Прежняя направленность европейской цивилизации, прослеживающаяся как минимум до классической Греции, отдавала предпочтение организации в виде государств в ущерб альтернативным типам объединений. Возможно, по этой причине сравнительно нетрудно понять политические аспекты преобразований европейской цивилизации в XVI-XVII вв., когда местничество городов и феодальных сословий, а также универсализм империи и папства рухнули перед промежуточным слоем средневековой политической иерархии — территориальным и в наиболее удачных случаях национальным государством.
Упрочение относительно крупных территориальных государств было достигнуто благодаря переносу в Северную и Западную Европу административных методов и нравственных норм, развившихся первоначально в небольших городах-государствах Италии в XIII-XV вв. Помимо их выдающейся роли в определении порядка налогообложения, судебного процесса и прочего итальянские города показали, что возможно объединить поместную аристократию и городскую буржуазию в действенное территориально-политическое сообщество, держащееся частично на чувстве патриотизма и частично на профессиональном чиновничестве. В Северной Европе город и деревня до XVI в. находились, как правило, в отчуждении друг от друга. Горожане, дворяне и крестьяне относились друг к другу с недоверием и пренебрежением, а связующие их нити, исходившие от королевского или императорского правительства, были слишком тонки и непрочны, чтобы исправить положение. Однако к середине XVII в. территориальные правительства значительно усилили свою власть в большей части Европы, подорвав обособленность городов и обуздав привычку аристократии к насилию. Светские правители также в немалой степени забрали церковные дела в сферу своего управления и заставили даже крестьян почувствовать силу королевского закона, проводимого в жизнь профессиональным чиновничеством. Короче, государства Европы нового времени (автор употребляет термин «новое время» в обычном для западной и дореволюционной российской историографии смысле для обозначения эпохи XVI-XIX вв., причем «раннее новое время» относится к первым двум векам этого периода, которые в советской историографии называли «поздним средневековьем». Советская историография обозначала термином «новое время», или «новая история», период между Английской буржуазной революцией, начало которой датировалось 1640 г., и Октябрьской революцией в России (1917 г.). — Прим. пер.) слили в себе средневековые сословия и создали национальные государства на севере и западе и династические империи в центральной и восточной частях континента. По мере того как накладывались более упорядоченные политические рамки на средневековый лабиринт корпоративных и частных юрисдикции, соперничающие правительства Европы получали возможность еще сильнее концентрировать рабочую силу и средства как для военных, так и (в менее ярких формах) для мирных предприятий. Результатом стал значительный рост мощи Европы, особенно военной.
Появление ограниченного числа сравнительно четко очерченных суверенных образований в Европе означало как более, так и менее выраженное общественное и политическое разнообразие. Громадное множество чисто местных обычаев, законов и институтов, управлявших жизнью большинства европейцев в средние века, в каждом территориальном государстве развивалось в направлении общей нормы — в этом смысле разнообразие было невелико. Однако одновременное ослабление папского престола и империй приводило к более резкой дифференциации между регионами и между государствами. Разные государства по-разному регулировали равновесие между соперничающими классами и группами интересов. Каждый такой баланс, сохранявшийся национальными и территориальными институтами, способствовал выделению и разделению населявших Европу народов сильнее, чем это происходило в эпоху средневековья. Отказ от латыни как «лингва франка», языка международного общения, и использование местных диалектов для все более разнообразных целей ускорило эту дифференциацию. Нет сомнения, однако, в том, что именно религиозное разнообразие, внесенное Реформацией и расширенное дальнейшими расхождениями в протестантской среде, больше всего повлияло на разделение населения Европейского континента на самостоятельные, соперничавшие части.
Начиная с XVI в. самые процветающие и богатые государства Европы располагались по побережью Атлантики. Первой великой державой современной Европы была Испания, где Фердинанд Арагонский (1479-1516 гг.) воспользовался своим браком с Изабеллой Кастильской, чтобы слить два королевства в одно новое мощное государство. Самым действенным средством, которое Фердинанд использовал для того, чтобы привести отдельные королевства и сословия его державы к повиновению, стала испанская инквизиция. Это была система церковных судов, предназначенная для искоренения ереси и наделенная с этой целью власть отменять местные иммунитеты и любые формы социальных привилегий. Поскольку неподчинение королевской воле могло указывать также на религиозную ересь, по-настоящему исполнительный инквизитор был обязан арестовать и допросить ослушников. Если их религиозные убеждения оказывались вне подозрений, то их, разумеется, отпускали, но перспектива провести несколько дней, недель, а то и лет в руках инквизиции действовала весьма устрашающе на внутренних противников Фердинанда.
Тесный союз с католической церковью был не единственным источником испанского политического величия. Наращиванию силы Испании способствовали также американские сокровища и высокопрофессиональная армия. Однако и этой силы оказалось недостаточно, чтобы нести бремя династических амбиций и случайностей. Когда юный Карл Габсбург заявил о своих претензиях на испанский трон своего деда Фердинанда (1516 г.), он принес с собой земли Габсбургов в Германии, бургундское наследство на Нидерланды и вскоре добавил к этой палитре власти еще и претензии на положение императора «Священной Римской империи» (1519 г.). В силу этого государственная политика Испании оказалась нераздельно связанной со всеевропейскими династическими интересами Габсбургов и вобрала в себя блестящие, но умирающие имперские идеалы. Католического рвения, испанской крови и американского серебра было мало, чтобы нести такой груз. Даже после того, как Карл V отрекся от престола (1556 г.) и императорский титул перешел к его брату в Австрии, что дало возможность сыну Карла Филиппу II (ум. 1598) сосредоточить силы Испании на поддержке только одного из двух универсальных институтов средневекового прошлого — папства, испанцы все равно были не в состоянии справляться с Голландией (с 1568 г.) и Англией.
Тем не менее крестовый поход Испании увенчался реальными успехами в Италии, где оружие подкрепило католические реформы и помогло отточить лезвие Контрреформации[924]. Дело средневековой империи было, конечно же, абсолютно проиграно и к 1648 г. сведено до положение Hausmacht -«семейного дела» австрийской ветви Габсбургов. Однако папство и католицизм совершили поразительный взлет после периода религиозной пассивности и политической слабости начала XVI в. — в значительной степени благодаря испанской религиозности и политике Испании. Почти полностью искоренив протестантство в Южной и Восточной Европе, властный союз Испании, Габсбургов и папства наложил прочный отпечаток на религиозную и культурную карту континента.
В XVII в. главенствующие роли в Европе переместились на север — во Францию, Англию и Голландию. Во Франции Генрих IV (1589-1610 гг.) восстановил монархию после долгого периода гражданских и религиозных войн. Официально государство оставалось католическим, но национальные интересы Франции были старательно отделены от интересов папы или международного католицизма. Действенный королевский контроль над церковью во Франции, восходивший к XIV в., жестко и успешно поддерживался против ожившего папского престола в XVI-XVII вв.[925] Так, Ришелье, первый министр французского короля и кардинал церкви, без колебаний выступил на стороне протестантов в Тридцатилетней войне, когда этого потребовали интересы Франции.
Во время царствования Людовика XIII (1610-1643 гг.) Ришелье использовал королевское войско для разрушения замков и покорения городов, сопротивлявшихся централизованному управлению. После этого королевская власть впервые стала по-настоящему действенной во всех уголках Франции. Однако лишь после поражения длительного, многопланового восстания, известного как Фронда, французская форма абсолютной монархии окончательно вырисовалась в качестве выдающейся модели государственного управления для Европы нового времени в целом.
К тому времени власть во Франции стала широко опираться на профессиональное чиновничество, набираемое преимущественно из средних классов, и на регулярную армию. Эти привычные инструменты позволили французскому правительству осуществлять более жесткий контроль над более многочисленным и зажиточным населением, чем это могло делать какое-либо другое европейское правительство. Более того, административное объединение страны поддерживалось широко распространенным чувством гордости французов за то, что они принадлежат к самому сильному и цивилизованному королевству Европы. При этом приверженность масс режиму достигалась также точным равновесием между теоретически абсолютной властью короля и традиционными привилегиями дворян, интересами горожан и правами крестьян.
Король редко упразднял старые политические институты. Чаще всего он позволял им постепенно вырождаться в пустые вычурные церемонии, тогда как настоящие дела по управлению передавались в руки новых административных каналов, создаваемых специально для того, чтобы обходить неуправляемые местные обычаи и законы. Из-за такой осторожной политики часто складывалось впечатление административной путаницы, но пока королю Франции служили энергичные, способные чиновники, система показывала себя чрезвычайно эффективной, несмотря на вкрапления (а возможно, даже благодаря им) алогичных пережитков средневекового прошлого.
Голландия с ее федеральной формой правления, ставшей продолжением лиги самостоятельных средневековых городов, и не менее архаичный английский парламентский стиль правления находились не на главном направлении политического развития Европы. Тем не менее, несмотря на внешнюю архаичность, обе эти страны предоставили средним классам больше свободы, чем французская монархия. Конечно же, зажиточные горожане в Голландии стремились влиять на городское управление, а через него и на все государство. В Англии поместные аристократы всегда уравновешивали и обычно перевешивали интересы городов, представленные в парламенте. Но представители городов и страны были достаточно близки к делам власти в английском обществе, чтобы превратить парламент в значащий фактор во всех внутренних делах. Победа в английской гражданской войне (1640-1649 гг.)[926] над зарождавшимся королевским абсолютизмом позволила парламенту добиться права на надзор за правительственными финансами, а контроль за казной дал парламенту возможность контролировать управление государством вообще. Таким образом, дворяне и купцы Англии стали играть более активную и прямую роль в вопросах большой политики, чем это могло быть при абсолютной монархии во Франции.
Оригинальным формам правления в Англии и Голландии отвечала в Центральной Европе федеральная лига городских и сельских швейцарских кантонов, также сочетавшая в себе внешнюю архаичность с необычной внутренней гибкостью. В Восточной Европе шляхетская республика в Польше отказалась от французских моделей правления и ослабляла королевскую власть с каждыми выборами на трон. Волею судьбы восточный сосед Польши, Московия, двинулся в противоположном направлении от европейских норм, поскольку здесь самодержавие царей затмило собой права всех общественных классов, а при Иване Грозном (1533-1584 гг.) провело нечто похожее на социальную революцию сверху[927].
Несмотря на эти и многие другие местные особенности, а также несмотря на все военные и дипломатические конфликты (воистину, в значительной мере благодаря им), система управления постепенно укреплялась почти во всех государствах Европы. Это значит, что сила европейской государственной системы в целом возрастала очень быстро по сравнению с остальным миром, где традиционные политические системы испытывали гораздо меньшее давление. С наибольшей очевидностью новая европейская государственная мощь проявлялась в военной сфере. Европейские армии обучались жесткой муштрой и крупными маневрами, причем и то, и другое было направлено на достижение максимальной огневой мощи в любой момент сражения. Аналогичные принципы, применяемые в морском военном деле, позволили флотам, действующим в качестве боевых единиц, еще больше повысить и без того сокрушительную действенность стрельбы одиночных кораблей. При численном равенстве европейские армии и флоты стали гораздо более совершенными инструментами насилия, чем силы любого другого цивилизованного народа, исключая разве что Японию.
Такие преобразования в организации и управлении вооруженными силами были частью общего повышения эффективности государственного управления. По мере того как вооружения в Европе становились все совершеннее и дороже, монархам было легче монополизировать организованное насилие внутри своих государств, укрепляя тем самым внутреннюю власть. Но даже и укрепив свой дом изнутри, правители не давали себе большой передышки в своих усилиях по обновлению, ибо внешние противники, стремящиеся к власти теми же способами, постоянно вынуждали даже самые сильные государства разрабатывать все новые и новые военные технологии, от которых столь очевидно зависели их власть и безопасность.
2. ЭКОНОМИКА
Процессы экономического развития Европы шли рука об руку с процессами политического становления и дифференциации. С возникновением более крупных образований и по мере того, как государство дополняло или вытесняло цеховое и городское управление, предпринимательство получило больше свободы и возможность разворачиваться на более обширных территориях. Купцы, рудокопы и ремесленники часто могли расширять теперь географические масштабы своей деятельности, не опасаясь дискриминации со стороны местных властей в отношении пришлых или не путаясь в противоречащих друг другу системах права. Кроме того, понимание большинством европейских правительств торговых и финансовых интересов и прямые действия многих из них по созданию новых мануфактур и ремесел на своей территории, очевидно, способствовали ускорению экономического развития. Точнее, экономическая политика обычно диктовалась податными и военными целями, война же разрушала экономику. Тем не менее к XVII в. европейские государственные мужи твердо усвоили, что процветающая торговля и промышленность несут прямую выгоду государству. Усилия официальной власти по поощрению торговли и ремесел не всегда приводили к желаемым результатам, однако противоположную политику подавления торговли путем государственного вмешательства (как в Китае) в Европе проводить перестали.
Правительства стран в других частях цивилизованного мира не проявляли подобной заботы о процветании городского населения, возможно, потому, что социальный разрыв между правящими кликами и торговцами и ремесленниками был слишком велик. Разрыв этот существовал не менее реально и в Европе, однако он не был настолько непреодолимым. У европейских горожан была за плечами традиция самоуправления и эффективного отстаивания своих прав против любых чужаков, и даже после слияния в более широкие рамки национальных или династических государств европейские горожане сохранили немалую часть своего прежнего политического влияния. В тех странах, где в XVII в. были достигнуты наибольшие политические успехи, средние классы обеспечили себе надежное место в правительственных механизмах и оказывали прямое влияние на большую политику. Купеческие сыновья поступали на королевскую службу и занимали высокие посты, а многие разорившиеся дворяне смиряли гордыню и брали в жены дочерей банкиров с хорошим приданым. Тем самым сокращался разрыв между купцами и аристократами, и несмотря на то что новая бюрократия наложила руку на многие свободы и права, когда-то гордо осуществлявшиеся горожанами и дворянами, оба эти класса нашли себе более или менее удовлетворительное место в преобразованном государстве.
Хотя правительства многих стран и пытались всерьез прибрать к рукам торговлю, в частности пряностями, европейская торговая экономика никогда по-настоящему не была разбита на отдельные ячейки соперничающих политических образований. В XVI-XVII вв. торговля между различными частями Европы активизировалась и была дополнена растущим объемом торговли с заокеанскими странами и территориями. Завозимые издалека товары по-прежнему были товарами, имевшими высокую удельную цену на единицу веса. Пересечение границы при перевозке из Северной Италии на склады Южной Германии не было непреодолимым препятствием для такой торговли, на долгое время ставшей главным направлением торговой деятельности в Европе. Как следствие, прибыли накапливались в Италии и Южной Германии, так что, когда процентное кредитование перестало, хотя бы отчасти, считаться занятием предосудительным и низким[928], международные банковские фирмы, сыгравшие важную роль в развитии в Европе горнорудного дела и других видов хозяйственной деятельности, стали стремиться располагать свои конторы в городах, стоящих на этом пути, таких как Флоренция, Генуя, Венеция, Аугсбург и Ульм.
Такой порядок торговли и использования финансов дополнился, а к XVII в. был оттеснен перемещением центра международной торговли в Нидерланды. Большинство товаров, перевозимых по морю: зерно, сельдь, треска, лес, металлы, шерсть, уголь и т.д. — составляло в северной торговле более значительную часть, чем специи и пряности, хотя эти и другие товары старой торговли тоже проходили через руки голландских и фламандских купцов.
Еще в средние века изрезанное побережье и судоходные реки Северо-Западной Европы обеспечили существенное развитие крупной торговли на дальние расстояния. В финансовом же смысле превосходство оставалось за торговлей предметами роскоши, сосредоточенной в Италии. Тем не менее в XVII в. массовая торговля более дешевыми товарами обогнала старый стиль торговли, и европейская товарная экономика тем самым достигла той степени прагматизма, который отличал ее от торговых моделей в других частях света. Это означало, что по сравнению с остальным миром гораздо большая часть населения активно вступила в рынок, покупая товары из дальних краев. Венцом такого расширенного участия в рыночных отношениях стало то, что изменения цен начали все шире сказываться на повседневной деятельности, побуждая европейцев расширять одни и сокращать другие традиционные занятия, а также осваивать совершенно новые виды. В европейскую экономику были тем самым внесены элементы сравнительно радикального рационализма. В силу того, что ресурсы перебрасывались с одного участка на другой в соответствии с требованиями рынка, стало возможным мобилизовать средства и усилия для особо привлекательных проектов — как, например, торговля с Индией — гораздо быстрее и в более обширных масштабах, чем было способно любое другое цивилизованное сообщество. Благодаря этому рост богатства и мощи Европы все более ускорялся.
В сельском хозяйстве тоже проявлялось влияние расширения и интенсификации торговой экономики. В наиболее активных центрах европейской жизни расчет цен и прибыли начал приводить к изменениям в севообороте и в методах обработки земли, а также в балансе между животноводством (овцеводством) и земледелием. Порой даже земля и аренда рассматривались как товар для купли-продажи. В результате, возможно, впервые за всю цивилизованную историю для абсолютного большинства населения жизнь перестала ограничиваться установленным с незапамятных времен кругом традиционных сельскохозяйственных работ. Взамен пришли взлеты и падения непредсказуемой рыночной экономики, когда кто-то мог разбогатеть, некоторые становились зажиточными людьми, а многие — нищими, но при этом и богатые, и нищие испытывали неизбежную неуверенность в завтрашнем дне.
Цена, особенно для бедных, была, разумеется, высока, но растущая сложная рыночная экономика Европы, опирающаяся на недорогую перевозку по воде больших грузов, служила мощным рычагом для подъема европейской силы и богатства до уровня, превышающего все, что было достигнуто в любом другом месте. Технические достижения в горнорудном деле, в производстве товаров и в транспортировке, как правило, приносили финансовую отдачу, так что реальная надежда на прибыль уравновешивала и часто побеждала традиционное сопротивление переменам. Тем временем поистине массовый рынок придал европейской товарной экономике энергию, гибкость и размах, равных которым не было больше нигде.
В итоге быстрый рост цен, сильно подкрепленный невиданным притоком золота и серебра из Америки, стал действовать как мощный растворитель на все традиционные экономические и общественные отношения. Когда цены удваивались, утраивались или даже учетверялись в течение одного столетия, рантье и наемные работники, а также правительства испытывали на себе серьезное сокращение реальных поступлений, в то время как всевозможные предприниматели увеличивали свои прибыли. Такая «революция цен» помогает лучше понять подъем средних классов к политическим высотам в Северо-Западной Европе, хотя противоположный ход событий в Испании показывает, что один только рост цен не мог привести к такому результату. Более того: революция цен вылилась в систематическое нарушение традиционных общественных отношений и внесла серьезную напряженность в традиционные ожидания почти всех слоев общества. Ощущение тревоги и чувство неуверенности, охватившее людей в эпоху, когда ничто не казалось надежным, сыграло большую роль в чрезвычайных по степени насилия религиозных и политических столкновениях XVI — начала XVII вв.
3. КУЛЬТУРА
Процессы Возрождения и Реформации разорвали имевшее коренное значение слияние древнегреческих и иудео-христианских элементов в культурном наследии Европы. Крайние представители каждой из этих культур, подчеркивая справедливость только своей точки зрения, отвергали деликатный компромисс между этим светом и тем, разумом и верой, чувственными наслаждениями и духовным совершенствованием, который отстаивали мыслители и художники позднего средневековья[929]. При этом отношения между двумя этими движениями были чрезвычайно сложны и зачастую парадоксальны. Протестантские реформаторы твердили о достижении радикального освящения всех человеческих стараний перед Богом, но фактически через каких-нибудь два поколения добились в некоторых частях Европы невиданного прежде усердия в деле обогащения. В то же время иезуиты, борясь за души для Христа и папы, обнаружили в языческом учении гуманистов один из самых эффективных способов воспитания.
Не исключено, что путем обобщения в таком смешении и борьбе противоречий можно видеть, что и религия, и сторонники светского общества обретали новую энергию от столкновений друг с другом. В мире, полном новых достижений разума и охваченном религиозными страстями, стало одинаково трудно как не проявлять усердие в вере (тем более отрицать ее), так и сохранять догматическую убежденность в способности христианского учения направлять людей во всем и всюду.
Если после 1648 г. страсти утихли, то достижения разума сохранились, но при этом расширилась и углубилась приверженность народов к той или иной устоявшейся форме христианской веры, поддерживаемая развитыми образовательными системами, находившимися под контролем духовенства. Новая атмосфера в общественном мнении, проявившаяся во второй половине XVII в. в наиболее активных центрах европейской культуры, позволила разуму и вере двигаться постепенно расходящимися путями. Претензии на открытие и предъявление абсолютной истины, утверждаемой при необходимости силой, утратили свое влияние на людские умы и перестали быть вопросом практического руководства государством. В таких условиях растущая самостоятельность отдельных интеллектуальных сфер стремилась лишить теологию привычного господства над искусством и наукой, хотя при этом не бросала вызов традиционным прерогативам религии.
Результат бурной борьбы в XVI — начале XVII вв. оказался прямо противоположным намерениям почти всех тех, кто в ней участвовал. Именно неспособность европейцев договориться об истинах религии как в пределах государств, так и за их границами открыла дорогу светскости и современной науке. В тех государствах, где религиозные устремления эпохи Реформации наиболее приблизились к успеху, т.е. там, где светские и церковные верхи объединили усилия, чтобы добиться почти совершенного религиозного послушания, последовал определенный интеллектуальный застой, компенсировавшийся иногда художественным блеском. Таким образом, политическое разнообразие Европы помешало горячему желанию чуть ли не всех интеллектуалов той эпохи[930], сделав невозможным построение единственно авторитетной, окончательной и опирающейся на силу кодификации истины.
По иронии судьбы оказалось, однако, что неудача с установлением всеобщего согласия, которое могло бы управлять мировоззрением, стала великим достижением рассматриваемой эпохи. Европейцы унаследовали от страстной и исполненной мук борьбы XVI в. большее упорство в погоне за знаниями и спасением. Они унаследовали также ряд нерешенных проблем и новых вопросов, обеспечивших продолжение быстрого интеллектуального и художественного развития. Ни интеллектуальное дилетантство, к которому сползало итальянское Возрождение в XV в., ни вулканический догматизм Реформации XVI в. не смогли бы справиться с проблемами, поставленными каждым из них для другого. Коллизии и взаимодействие Возрождения и Реформации, увеличивая напряженность между несовместимыми нераздельными величинами в сердце европейской культуры — древнегреческим язычеством и иудео-христианским наследием, — умножали разнообразие и потенциальные возможности, поднимали интеллектуальную и духовную энергию Европы на новую высоту.
Богословские страсти периода Реформации легче понять, чем разделить. Когда дела людей более или менее отвечают общим ожиданиям, интеллектуальные гипотезы и новые учения могут привлекать внимание ограниченного круга профессионалов, но пройдут почти незамеченными для подавляющего большинства населения. Так было в XIV-XV вв., когда планы коренной церковной реформы нашли поддержку только у малого числа последователей, когда в итальянских интеллектуальных кругах свободно распространялись еретические мысли о природе Бога и человека, когда ученые-гуманисты все больше относились с презрением к схоластической теологии и философии. Все это резко изменилось в 1517 г., когда один монах в далеком немецком университетском городе вывесил на дверь замковой церкви Виттенберга девяносто пять тезисов, действуя в лучших традициях средневековых академических диспутов. Но вместо диспута вспыхнула вся Германия. Со скоростью взрыва проповедники и печатники распространяли все более радикальные взгляды Мартина Лютера, пока не только Германию, но и всю Северную Европу не охватил спор. Прошла жизнь целого поколения, прежде чем владыки католической церкви в Риме по-настоящему обратили внимание на вызов Реформации. Но когда римская церковь перестроилась, то самоотверженность ее представителей, и прежде всего иезуитов, сравнялась с религиозным рвением и превзошла строгую дисциплину протестантов. К 1648 г. после столетия поражений и побед установилось прочное деление континента на католические и протестантские государства: большая часть германской Европы стала протестантской, тогда как почти вся латинская Европа вместе со славянской, венгерской и ирландской окраинами средневекового христианства остались верны Риму.
Сложные богословские споры между протестантами и католиками, а также между различными протестантскими церквами вспыхнули вслед за крутой волной лютеранского движения. Такие тонкости вероучения, как точное определение сущности и случайности в таинстве причастия или доводы в пользу супра- или инфралапсарианизма (спор о том, было ли предопределено наказание грешникам еще до грехопадения. — Прим. пер.), казавшиеся когда-то жизненно важными, перестали привлекать к себе внимание. Самой же важной точкой разногласий между протестантами и католиками оставался вопрос о природе и истоках религиозной власти. Лютер, Кальвин и их последователи учили, что священнодействовать могут все верующие, распространяя тем самым на всех христиан религиозные обязанности и власть, которые средневековая теология оставляла за профессиональным сословием рукоположенного духовенства. Реформаторы утверждали, что церковная служба налагает определенные обязанности и ответственность, но не наделяет особыми правами по отпуску или лишению спасительной Божьей благодати. Благодать нисходит от самого Бога на тех, кто избран им для спасения от проклятия, которое они заслужили, а единственной подлинной силой в вопросах религии есть слово самого Бога, записанное в Библии. Задача духовенства состоит в том, чтобы излагать и объяснять Божье слово, прививать веру мирянам и ждать с надеждой чуда Божьей благодати.
Точности ради следует сказать, что когда лютеранская и кальвинистская церкви обрели свою форму, практические следствия этих учений перестали быть очевидными. Учения и обряды, выведенные лютеранскими и кальвинистскими священнослужителями из Библии, во многих деталях отличались от вероучения и литургии римской церкви. При этом все учения догматически толковали люди, не позволявшие себе сомневаться в богословских вопросах и подготовленные к насаждению своих взглядов силой, если это позволяли политические условия. Тем не менее, отрицая монополию профессионального духовенства на сверхъестественную силу, протестантские теологи оказались в трудном положении, когда другие пришли к иным выводам из Священного Писания. В результате ярко выраженной чертой протестантства с самого начала стали умножение сект и расколы. А когда некоторые головы отошли от борьбы за бесспорную религиозную истину, предпочитая изучать мир и его чудеса без каких бы то ни было богословских предположений, протестантское духовенство обрушилось со своих кафедр на такое уклонение от вечных истин, но оказалось, по крайней мере логически, с точки зрения своего же собственного определения власти священника, не в силах воспрепятствовать этому.
В итоге непосредственное, личное и отдельное общение верующего с Богом, лежавшее в основе протестантского движения в его начале (1517-1525 гг.), было быстро заглушено созданием ортодоксальных протестантских церквей, оказавшихся столь же авторитарными, как и католическая иерархия, а в некоторых отношениях и более тоталитарными в требованиях к вере. При этом индивидуалистическая слабость осталась под толщей протестантских учреждений и открыто проявилась только тогда, когда протестантские меньшинства перестали слушать официальную религиозную власть, ссылаясь на ту же самую Библию, к которой взывали все протестанты. Сложность с достижением согласия на основе Библии способствовала расширению границ терпимости в протестантских государствах. В католических — границы терпимости были значительно уже по той причине, что высшая религиозная власть в лице папы и каноническое право оставляли куда меньше простора для толкований или сомнений[931], чем Священное Писание протестантам.
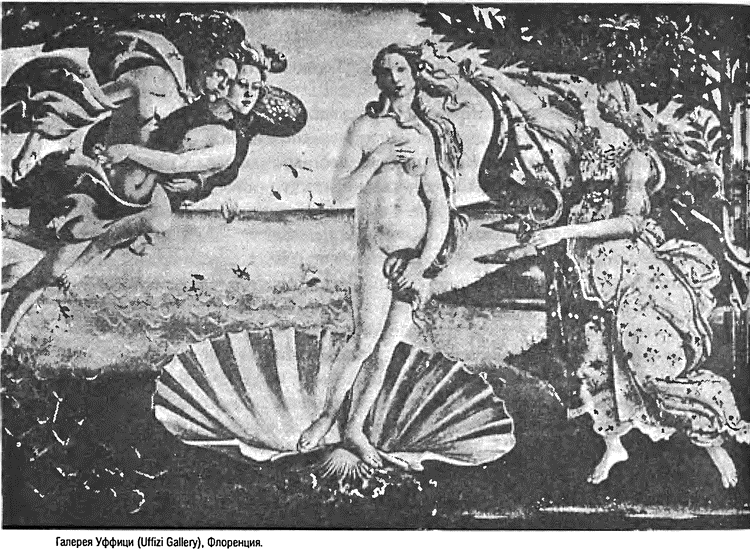

Представленные здесь картины ясно указывают на сложные связи и силы, объединявшие европейское Возрождение и Реформацию. Полотно Боттичелли «Рождение Венеры» колеблется между языческим и классическим духом. Портреты четырех евангелистов кисти Дюрера возвращают нас к библейским временам в не меньших раздумьях. Оба произведения разделяют реалистический идеал искусства и используют технику перспективы для создания объема, в котором фигуры обретают свободу обернуться, сделать движение в глубь полотна или навстречу зрителю. При этом «Венера» Боттичелли смущена наготой, как это ни странно для языческой богини любви. Евангелисты Дюрера серьезны, напряжены, исполнены внутренней работы мысли, обходясь, однако, без трансцендентного взора и твердости в вере, характерных для русских икон того времени (см. «Спас Нерукотворный», гл. X). В этих произведениях, таким образом, отразились безмерно плодотворные неопределенности европейской культуры XVI в.
Независимо от того, ускорила Реформация воцарение разнообразия мысли и терпимости в протестантских государствах или нет, не вызывает сомнения, что, разделив Европу на противоборствующие лагери, протестантство вывело на арену новый ряд религиозного разнообразия в рамках европейской цивилизации. Такое разнообразие ставило под сомнение непогрешимость любой отдельной религиозной или интеллектуальной системы, и такая ситуация будила мысль лучше, чем любая другая, способная возникнуть, пока устройство церкви оставалось незатронутым.
В вопросах политики и протестантская, и католическая Реформация прямо способствовала продвижению светской власти за счет папства и империи. Протестантские правители конфисковывали церковные владения и зачастую переводили духовенство на положение наемных служащих государства. Даже в католических странах, где церковь сохранила за собой часть собственности, папство было вынуждено уступить очень широкие полномочия местным правителям в таких сферах, как назначение духовенства, налогообложение церковного имущества и судебная власть над священнослужителями. В результате стали формироваться совершенно различные национальные или государственные церкви даже в универсальных рамках католицизма. И хотя международные образования, подобные ордену иезуитов, стремились препятствовать раздроблению церкви по национальному признаку, даже иезуитам пришлось договариваться со светскими правителями, и, действуя обдуманно, они достигли некоторых блестящих успехов, завоевав доверие королей.
Протестантство также объединило немецких князей в борьбе против намерений Габсбургов подчинить Германию своей империи. Сугубо религиозные объединения влияли, но не управляли на самом деле союзами, успешно создававшимися в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), разрушившей имперские амбиции. Так, католическая Франция объединилась с еретиками и турками, когда этот шаг ей продиктовала общая вражда к Габсбургам. С другой стороны, отдельные князья в Германии не единожды становились на сторону Габсбургов в своих собственных интересах. К концу войны территориальные князья Германии стали по-настоящему суверенными благодаря выступлению Швеции, Франции и других иностранных государств против Габсбургов. Таким образом, окончательное крушение средневековой идеи имперского единства (и косвенным путем крах зарождавшегося немецкого национализма), а также в не меньшей степени развал Вселенской церкви можно приписать влиянию немецкой Реформации.

Громогласный шум Реформации и Контрреформации резко отличается от тонких песнопений сирен Возрождения. Хотя звуки сирен были тоже действенными. Их можно' было слышать даже среди вулканических страстей и бунтов, вызванных религиозными раздорами, и они мучили многих тех, кого не могли одолеть. Красота, созданная воображением и искусством человека ради самой красоты, и истина, к которой стремился сбросивший оковы разум, не зависящий от какой-либо внешней власти, оказывали притягательное действие даже на тех, кто отчаянно цеплялись за религиозную и духовную определенность. Когда такие идеалы нашли ясное и бескомпромиссное выражение, как это произошло в Италии в XV в. и в Северной Европе в начале XVI в., дорога назад стала невозможной. Люди делали выбор между этими идеалами и громкими требованиями религии подчас болезненно, как это случилось с Эразмом (ум. 1536), Паскалем (ум. 1662) или Мильтоном (ум. 1674), подчас с приятным чувством освобождения, как это было с Лойолой (ум. 1556), Кальвином (ум. 1564) и Декартом (ум. 1650), а подчас без какой-либо видимой внутренней борьбы, как это видно на примере Шекспира (ум. 1616), Сервантеса (ум. 1616) и Френсиса Бэкона (ум. 1626).
Возможно, оттого, что так много основ старого европейского общества и цивилизации были поставлены под сомнение, эта эпоха оказалась чрезвычайно плодовита в искусстве и литературе и дала жизнь точным естественным наукам. Ни одна последующая эпоха не была столь революционной, и никогда больше европейская культура столь отчетливо не поднималась на новый уровень.
Прогресс культуры разрывался между явно противоположными направлениями. Искусство и литература стремились к выделению в самобытные национальные школы, тогда как науки и ремесла сохраняли общеевропейский характер, хотя при этом и проявлялась растущая профессиональная независимость и самостоятельность мышления. Оба эти пути развития выводили ведущих европейских представителей культуры из-под власти какого бы то ни было всеобъемлющего философско-богословского мировоззрения, чем и объясняется бесчисленное множество противоречий в европейском культурном наследии и достижениях.
Народные языки Испании, Португалии, Франции, Англии и Германии нашли свое прочное литературное выражение в XVI-XVII вв. Сервантес и Лопе де Вега (ум. 1635) в Испании, Камоэнс (ум. 1580) в Португалии, Рабле (ум. 1553) и Монтень (ум. 1592) во Франции, Лютер (ум. 1546) в Германии, Шекспир, Мильтон и переводчики Библии короля Якова (1611 г.) придали своим языкам окончательную литературную форму. В Италии, где народный язык раньше обрел литературный вид, эти века в данном смысле сыграли лишь второстепенную роль. В Центральной же и Восточной Европе литературные диалекты увяли, когда Контрреформация придавила всем весом латинской, германской и итальянской литературы еще нежные и несмелые ростки, выпущенные различными местными славянскими языками.
В изобразительном искусстве языковой барьер не способен изолировать национальные школы друг от друга, и убедительный пример итальянских стилей в живописи и архитектуре был широко воспринят и за Альпами. Хотя и в этих краях художники Голландии, Германии создали собственные национальные школы, невзирая на то что такие основополагающие приемы, как математическая и воздушная перспектива, светотень и идея о том, что живопись должна так копировать природу, чтобы создавать иллюзию оптического опыта (а приемы эти и идеи зародились и достигли полного расцвета в XV-XVI вв.), придавали общую связность всем самостоятельным европейским школам живописи. Архитектура в Северной Европе была более консервативной, итальянское барокко, как правило, ограничивалось католическими странами, тогда как в протестантских — вариации старого готического стиля продержались вплоть до второй половины XVII в.
Развитие науки, техники и ремесел в Европе происходило не путем региональной или национальной дифференциации, а путем разделения на специальные дисциплины и области знаний. Тем не менее заимствования и взаимное влияние нарождающихся дисциплин были важны. Математика особенно стремилась занять среди наук главенствующее место, некогда принадлежавшее Аристотелевой логике. Таким образом появились на свет математическая география и картография, математическая физика, математическая астрономия и (после Декарта) математическая философия. Латынь продолжала оставаться общепринятым языком ученых, так что республика учености, сконцентрировавшаяся преимущественно в Италии, но имевшая крепкий второй центр в Голландии, легко преодолевала национальные и местные языковые барьеры.
Быстрый прогресс естественных наук в Европе объяснялся в значительной мере растущей привычкой проверять теории тщательными измерениями, наблюдениями, а при случае и экспериментом. Такой подход предполагал отказ от веры в авторитетность унаследованной учености, а некоторые проявления новых веяний, как, например, вскрытие человеческого тела и практические опыты в физике и оптике, также бросали вызов давним предубеждениям образованных людей против возможности испачкать свои руки чем-нибудь еще, кроме чернил[932].
В эпоху, когда экспериментальный метод достиг ранга догмы, следует подчеркнуть, что астрономы и физики принялись за активные наблюдения и более точные измерения только после того, как Коперник (ум. 1543) выдвинул альтернативу традиционным теориям Птолемея и Аристотеля для ученого мира, причем сделал это Коперник не на основе наблюдений и измерений, а опираясь на логическую простоту и эстетичную симметрию. Его гелиоцентрическая теория родилась, как представляется, отчасти из знания того, что некоторые из древних, в особенности Аристарх [Самосский], отстаивали такое объяснение небесного движения, а отчасти из-за моды на пифагорейский числовой мистицизм и «культ солнца», исповедовавшийся в итальянских интеллектуальных кругах в годы его учебы в Падуанском университете.
Интеллектуальные пристрастия Коперника были не просто его личной эксцентричностью, поскольку пифагорейско-платоническая традиция сказалась на многих (если не на большинстве) первопроходцах современной математической науки, по меньшей мере вплоть до эпохи Ньютона (ум. 1727). Разумеется, едва ли было бы преувеличением сказать, что дверь для точных измерений и наблюдений явлений природы была открыта в Европе XVII в. трениями между схоластической ортодоксальностью Аристотелевой физики и разнородностью ожившего пифагорейско-платонического математического мистицизма. При наличии на поле брани альтернативных гипотез точные измерения движений планет и подробные математические расчеты, основанные на таких наблюдениях, получили смысл как средства разрешения спора между соперничающими теориями. Более того, учитывая, что защитники идей Пифагора и Платона принялись разрушать устоявшееся здание научной доктрины, именно они и возглавили поход за новыми данными. Так, например, Иоганн Кеплер (ум. 1630) решился посвятить жизнь утомительным расчетам в надежде свести музыку сфер к математическим формулам. Благодаря необыкновенной удаче он нашел часть того, что искал, в простой элегантности своих законов движения планет, хотя и не ответил на главный свой вопрос: как различаются гармонические отношения параметров орбит планет.
Следует иметь в виду, что и измерения, и наблюдения вошли в жизнь вовсе не с черного хода. Прогресс таких прикладных наук, как горное дело, гидротехника, кораблестроение, печать, литье пушек, производство стекла и т.д., географические открытия, привлекшие внимание Европы к новым растениям и животным, появление в Европе диковинных изделий чужестранных мастеров, например китайского фарфора или индийского хлопка, навели Френсиса Бэкона (ум. 1626), в частности, на мысль, что у природы еще много тайн, которые наблюдательный ум может раскрыть и применить на практике, если только возьмет на себя довольно труда, чтобы наблюдать, записывать и сравнивать явления природы. Такой оптимистический эмпиризм нашел родственную почву в медицине, где простейшие анатомические и клинические наблюдения развенчали массу общепринятых идей о физиологии и лечении болезней и ран. При этом даже в медицине напыщенность слога Парацельса (ум. 1541), творившего главным образом под влиянием неоплатонического мистицизма и убежденной самозначимости («эготизма»), помогла расчистить дорогу для детальных трудов Везалия (ум. 1564) по анатомии человека и Уильяма Гарвея (ум. 1657) по физиологии. Оспаривая древний авторитет Галена, Парацельс дал жизнь альтернативной теории в своей науке, подобно Копернику в астрономии.
Вторым залогом успеха точных наук стало быстрое развитие приборов, расширивших природные возможности человеческого глаза и других органов чувств. Такие устройства, как телескоп (изобретен ок. 1608 г.), микроскоп (изобретен ок. 1590 г.), термометр (изобретен ок. 1592 г.), барометр (изобретен ок. 1643 г.) и маятниковые часы (изобретены ок. 1592 г.), придали новый масштаб и точность наблюдениям и измерениям физических явлений[933]. Изобретение новых знаков для математических записей оказало подобное же действие благодаря упрощению расчетов. Даже более крупные, значительно более обобщенные знаки часто подсказывали новые действия и новые взаимосвязи, которые были надежно скрыты за несовершенством старых выражений или за сложностью прежних методов расчета. Аналогичным образом использование гравюр и рисунков для иллюстрирования трактатов по ботанике, географии, медицине и прочим наукам позволило записывать и передавать личные свидетельства наблюдателя с точностью, недостижимой с помощью одних только слов.
Обычай эмпирической проверки теории, использование (и изобретение) усовершенствованных приборов и математический склад ума, вышедший из пифагорейско-платонической традиции, соединились в личности Галилео Галилея (1564-1642), который больше других заслужил право считаться отцом современной европейской науки. Выведенные Галилеем законы движения Земли, поразительные открытия, сделанные им с помощью телескопа (пятна на Солнце, спутники Юпитера), изобретательные опыты и тщательные измерения в сочетании с его упорядоченными (порой ошибочными) теоретическими объяснениями того, что он открыл, вывели европейскую физическую науку на путь открытий, который до сих пор не исчерпан. Несмотря на осуждение его астрономических выводов папской инквизицией, европейский интеллектуальный мир постоянно преобразовывался под влиянием его трудов не меньше, чем под влиянием литературного искусства и полемического мастерства, с которым он высказывал свои мысли.
Ко временам Галилея средневековая иерархия наук, уложенная логикой и теологией в стройное мировоззрение, оказалась разрушенной неустанными исследованиями. Какие-либо новые авторитетные обобщения не возникали, хотя законы Ньютона вплотную подошли к этому в области астрономии и физики. В отличие от своих средневековых предшественников, ученые и изобретатели XVI-XVII вв. ограничивались усилиями, необходимыми, чтобы понять лишь маленькую частичку действительности за раз, оставляя в стороне крупные вопросы религии и философии. Быстрый рост объема данных, все больше получаемых наблюдениями и опытным путем, постоянно приводил к сомнению в правильности старых понятий и к появлению новых. Таким образом, в добром десятке отдельных наук установился самоподдерживающийся круг все более усложняющейся профессиональной деятельности. В таких обстоятельствах все усилия вместить научную теорию в те или иные авторитетные рамки были обречены на неудачу, даже если они пользовались поддержкой церковных властей, энергично ссылались на непогрешимость Священного Писания или опирались на строгую дисциплину картезианского сомнения и априорной дедукции.


Деталь картины Иеронима Босха (ум. 1516) «Ад» слева и голова св. Иоанна Крестителя кисти Эль Греко (ум. 1614) справа показывают контрастные аспекты поисков европейцами определенности перед лицом невиданного общественного и культурного переворота, ознаменовавшего собой вступление в эпоху нового времени. Босх изображает пороки чувств с неким завороженным отвращением. Такая живопись ведет в подсознательные глубины человеческого духа — глубины, оказавшиеся необычно близкими к открытому выражению в период бурного перехода Европы от средневековой к новой форме. Картина Эль Греко, с другой стороны, воплощает слияние земного великолепия и стремления к внеземному, присущее католической Европе в XVII в. Эль Греко использует здесь мастерство художников итальянского Возрождения, чтобы выразить обновленное религиозное видение католической реформации. Он достигает задуманного эффекта, свободно уходя от идеала оптической точности, удлиняя лица, увеличивая их глаза и другими способами создавая образ, напоминающий критско-византийский художественный стиль, с которым он познакомился в юности. Такое смешение греческой манеры, итальянской техники и испанской религиозности служит великолепным образцом культурной открытости Западной Европы — открытости, в которой заключены и тайна, и мера ее усилившейся мощи в ранний период нового времени.
Величие достижений европейской культуры в XVI-XVII вв., сила и размах религиозных, политических и общественных сдвигов этой эпохи пробуждают интерес и вызывают восхищение. Прежние отношения между людьми, старый образ мыслей и старые шаблоны чувств и набожности утратили привычную твердость, а значение личности соответственно возросло, как еще никогда в истории цивилизации. В каждом конкретном случае традиции лишились былой ортодоксальной точности в определении того, что следует думать, и в указании того, что надлежит делать. Вместо этого отдельные личности и группы получили возможность выбора. В результате стали проявляться необычайной широты человеческие возможности. Высоты и глубины человеческого духа нашли необычно разнообразное выражение, когда формируемые способности человека столкнулись с неопределенностью как с безвыходной ситуацией. Тут уже европейцы воспользовались всеми своими преимуществами: и богатым культурным наследием, и совершенной для своего времени техникой, и стимулирующим действием контактов по всему свету — для разрешения проблем быстрого распада общественных и культурных рамок их средневекового прошлого.
В Древнем Риме подъем христианства стал реакцией цивилизации на разрушение традиционного общества, аналогично тому, как произошла религиозная революция в Китае во времена династии Хань. В XVI в. индуистская Индия и Европа нашли в религии ответ на распад своего культурного мира: в Индии — в виде эмоционально ожившего и обретшего широкую популярность индуизма, в Европе — в виде Реформации и Контрреформации. Европа к тому же отреагировала на разрушение своего средневекового порядка созданием точных наук и светской литературы, искусства барокко и рационалистической философии, и в этом были заложены ростки силы для прыжка к светскому обществу, ставшему главной чертой последующей истории Европы.
Многообразие реакции на общественный и культурный кризис в Европе XVI-XVII вв. легче понять, если учесть изначальную двойственность европейского культурного наследия. Однако Европа не была единственной частью мира с подобной двойственностью. Китай тоже получил двойное культурное достояние после наводнения его буддистами, а взаимовлияние конфуцианства и буддизма, несомненно, стало существенным фактором роста для позднейшей китайской культуры. Мусульманский мир также с самого начала испытывал культурное раздвоение между эллинистическим и древневосточным наследием. Следует отметить, что взаимодействие между культурными течениями в Китае и на Среднем Востоке, ограничиваясь обычно узкими интеллектуальными кругами, оставалось сравнительно мягким, без страстей и резкости, крайностей и безрассудства, характерных для европейского процесса. Этот контраст объясняется общей устойчивостью китайского и средневосточного общества, всегда основывавшихся на полярном положении землевладельцев и крестьян при вкраплении подавленного населения городов.
Следует иметь в виду, что приведенные объяснения оставляют в стороне фактор личности и стимулирующую роль, которую отдельные люди способны играть в критических ситуациях. Реформацию без Лютера, иезуитов без Лойолы или современную науку без Галилея поистине трудно представить. Недостаток исторических трудов, подобных этому, заключается в том, что уникальный личный жизненный путь либо особо важный момент в мышлении той или иной личности могут быть легко перекрыты весом неточных обобщений.
Даже после того, как надлежащим образом рассмотрены все благоприятные обстоятельства и условия, всегда остается элемент непредсказуемости в делах человека. Элемент этот принимает особенно большие размеры в ситуациях, подобных тем, с которыми столкнулись европейцы в XVI — начале XVII вв., когда человеческое величие, — как и порочность, — расцвели буйным цветом на благодатной почве духовной неопределенности. Интерес и изумление, возникающие при виде проявлений таких масштабов человеческих возможностей, опираются на подобающее признание личных и коллективных ограничений, в рамках которых должны жить все люди. Мы все и весь мир XX в. в особенности — творение и наследники гениальных личностей ранней эпохи современной Европы, поскольку именно они определили особые и отличные современные черты европейцев, в частности западных, а теперь — на весьма существенном уровне — и мировой цивилизации.
В. СТРАНЫ, ЛЕЖАЩИЕ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЕВРОПЫ: АМЕРИКА И РОССИЯ В 1500-1650 ГГ.
1. АМЕРИКА
Взаимодействие между европейской цивилизацией и цивилизацией американских индейцев в XVI-XVII вв. было на редкость односторонним. Испанцы нашли немного привлекательного для себя в коренных американских культурах и за исключением таких полезных местных растений, как кукуруза, табак и картофель[934], мало что переняли у покоренных ими народов. Что касается самих индейцев, то военное превосходство завоевателей было чрезвычайно преумножено упадком духа местных вождей, чьи вековые устои и правила оказались совсем непригодны для того, чтобы противостоять испанским идеям, испанским болезням и испанской мощи. Таким образом, высокая политическая и культурная организация империй ацтеков и инков исчезла почти внезапно, когда жрецы и воины, поддерживавшие эти структуры, утратили веру в свои традиционные общественные и культурные системы. Вместо того чтобы упорно держаться за привычные идеи и установки, индейцы оцепенело подчинялись словам миссионеров и приказам чиновников. Они оказались такими покорными, что христианство закрепилось в Мексике и Перу чуть меньше, чем за жизнь одного поколения.
Пионерами испанской Америки стали миссионеры, когда утихла золотая лихорадка конкистадоров. Поскольку иезуиты, доминиканцы и францисканцы охотились не за золотом, а за душами, им было легче проникать в сравнительно первобытные районы, такие как Парагвай или долина реки Ориноко, где они основали крупные миссионерские колонии. Впечатляющий характер европейской техники[935], а также католического ритуала и доктрины, самоотверженность (не лишенная порой своекорыстия) тысяч священников и монахов, поразительная податливость менталитета американских индейцев перед лицом почти полного развала их прежних общественных систем — все это способствовало успеху испанских миссионеров. К концу XVII в. очаги нетронутого язычества в пределах контроля испанцев были немногочисленны и сильно разбросаны по территории. В каждом крупном городе красовались большие церкви впечатляющей архитектуры, а индейцы хранили лишь остатки своих прежних религий, переодетых, иногда вполне сознательно, в христианские одежды[936].
Воцарение испанских порядков и светской культуры шло рука об руку с распространением христианства. Система законности и политических взаимоотношений на уровне, выше сельского, стала быстро строиться по испанскому образцу, а в наиболее доступных индейских деревнях новые экономические шаблоны, вводимые испанцами, быстро вытесняли традиционное натуральное хозяйство. Полупринудительный труд на испанских хозяев в рудниках и на ранчо требовал рабочей силы из деревень, так что к концу XVII в. самостоятельные деревни доколумбового типа оставались лишь в отдельных районах гор, пустыни или джунглей[937].
Правительство Испании и многие миссионеры на местах добросовестно пытались защитить права индейского населения. Испанские предприниматели были менее щепетильны и находили способы обеспечивать себе индейских работников для рудников и плантаций как с официальными разрешениями, так и обходясь без них. Непривычные и порой очень тяжелые условия труда приводили к гибели части индейских работников, однако непрерывные вспышки европейских болезней были гораздо более опустошительны. По иронии судьбы попытка восполнить нехватку рабочей силы за счет негритянских рабов из Африки только усугубила проблему появлением еще и африканских болезней. Результатом стало резкое вымирание населения. По некоторым оценкам, население Центральной Мексики, равнявшееся в 1519 г. 11 млн., сократилось до 2,5 млн. к 1600 г., и вымирание продолжалось, так что в 1650 г. это население составляло около 1,5 млн.[938] Приведенные цифры при всей их относительной точности красноречиво объясняют деморализацию коренного населения и легкость, с которой численно небольшое испанское меньшинство[939] навязало ему свои культурные и экономические порядки.
Ближе к окраинам испанской империи в Новом Свете распад индейского общества был не таким резким и глубоким. Так, в Чили арауканы противостояли испанской военной силе два десятка лет, прежде чем были разбиты; воинственные племена в северной части Мексики нередко беспокоили испанцев в течение всего XVII в. Еще более изолированные общины, например воинственные племена Северной Мексики, избежали глубокого нарушения своих традиционных устоев, даже когда оказались под сенью испанского господства.
Однако на великих равнинах Северной Америки, куда не добралась испанская сила, к быстрым общественным преобразованиям привело распространение коневодства. Племена, жившие на территории пастбищ или поблизости, стали охотиться на буйволов верхом, что позволило им значительно увеличить добычу по сравнению с пешими охотниками. Это было всего лишь начало коренных общественных изменений, так как племена, перебравшиеся в прерии и пересевшие на лошадей, должны были также пересмотреть и приспособить немалую часть общественных обычаев к полувоенному, полукочевому образу жизни[940].
Когда в XVII в. поселения французов, англичан и голландцев стали разрастаться на Атлантическом побережье Северной Америки, индейцы восточных лесистых районов ощутили на себе действие тех же болезней и подавленности, которые столь серьезно сказались на их собратьях в испанской Америке. Французы, как и испанцы, уделяли значительное внимание миссионерской деятельности среди индейцев Канады, в то время как голландцы и англичане предоставили это занятие эксцентричным одиночкам и по большей части относились к индейцам как к врагам или как к легковерным партнерам по торговле. В силу этого французы в целом поддерживали лучшие отношения с индейцами, чем их английские соперники, однако болезни от этого не становились менее опустошительными. Крепкие напитки усугубили разлагающее влияние военного поражения, экономической эксплуатации и болезней. Вследствие всего этого коренное общественное устройство индейцев было поражено гнетущей апатией, которую время от времени нарушали спонтанные и безуспешные восстания как на французской, так и на английской территории поселений.
Смешанные в расовом отношении общества возникли на большей части территории испанской и португальской Америки и состояли из европейцев, индейцев и вкраплений африканцев. Довольно распространенная практика предоставления вольной смягчала тяготы рабства в этих районах, а католическая церковь поощряла браки белых иммигрантов с индейскими женщинами в качестве средства от половой распущенности. Однако в южных английских колониях и на большинстве островов Карибского моря наличие вывезенных из Африки рабов способствовало созданию более резко поляризованного двухрасового общества. Строгие расовые предрассудки и рабское положение почти всех чернокожих эффективно препятствовали смешанным бракам, даже если не было законодательного запрета. Такая дискриминация все же не мешала смешению кровей, но дети от родителей разной расы наследовали положение матери. Мулаты и индейские метисы были, таким образом, исключены из белого сообщества. На испанских (и, с некоторым отличием на португальских) территориях установился более тонкий и менее жесткий принцип расовой дискриминации. Немногие родившиеся в Европе притязали на самое высокое положение в обществе, за ними шли потомки европейских переселенцев, а ниже располагались различные расовые смеси, образующие общественную пирамиду, где многочисленные расовые классификации означали, что ни один барьер не может стать таким же трудным и непреодолимым, как те, которыми темнокожие отделены от белых в английских, голландских и французских колониях[941].

В Аргентине и в северной части английских и французских колоний индейцы были слишком отсталы и слишком малочисленны, чтобы служить серьезным источником рабочей силы, а плантационное сельское хозяйство, основанное на труде черных рабов, было невыгодным. Поэтому в Новой Англии и в колониях на среднем побережье Атлантики тяжелым трудом по расчистке лесов и обработке полей приходилось заниматься самим поселенцам, а в Аргентине тем же приезжим европейцам выпадал более легкий труд на ранчо. Таким образом, в этих районах возникли прочные европейские общества, во многом похожие на родственные общества Старого Света в своих основах и ценностях. Самым очевидным отличием между обществами Старого и Нового Света была слабость или отсутствие класса аристократов в Америке, за исключением рабовладельческих районов. Не менее важным была и более пестрая религиозная картина Нового Света в силу того, что английское правительство разрешило религиозным меньшинствам свободно выезжать в колонии. При этом Франция, как и Испания, ограничивала иммиграцию правоверными католиками и поддерживала строгое религиозное послушание в своих колоссальных владениях.
Французское и испанское правительства удерживали свои колонии в жесткой политической и экономической зависимости от метрополии. В отличие от них власти Англии позволяли колониальному самоуправлению развиваться в широком масштабе отчасти потому, что конституционные трудности и гражданские войны в Англии середины XVII в. отвлекали ее внимание от дел в Америке. В отсутствие тесного надзора и контроля со стороны метрополии на поверхность всплывала тенденция к установлению в обществе равноправия, дремлющая в недрах любого общества, где население невелико, а земли в изобилии, что придавало английским колониальным правительствам четкую демократическую окраску.
В перспективе более свободные, более незарегулированные и более демократичные модели английских колоний должны были создать (и позже создали) большие возможности для развития. В XVI-XVII вв., однако, забота Испании о своих американских владениях давала лучший результат. Суровые условия жизни в Новой Англии не идут ни в какое сравнение с роскошью Лимы или Мехико. Утонченным манерам при дворе вицекоролей в Мексике и Перу, великолепию церквей в стиле барокко в мексиканских провинциях, образовательной и благотворительной деятельности испанских миссий ничего нельзя было противопоставить в лесной глуши Массачусетса. Но за такие достижения нужно было платить. В короткий срок демографический и экономический упадок подорвали величие колониальной жизни Испании, а экономическому подъему последующих веков не удалось выправить ситуацию. Скованной, стесненной и связанной священниками, чиновниками, законниками и землевладельцами, постоянно удерживаемой вожжами из Мадрида латиноамериканской общине пришлось нелегко, когда самозванные покровители испано-индейско-негритянской общины Америки перессорились друг с другом, а подчиненные классы перестали принимать опеку над собой с безропотной покорностью предшественников двух столетий[942].
2. РОССИЯ
Экспедиции и открытия европейцев в XVI-XVII вв. не ограничивались только далекими морями. В те самые десятилетия, когда испанцы исследуют Новый Свет за туманной Атлантикой, итальянцы, немцы, голландцы и англичане начинают подобное предприятие по открытию для Западной Европы России. Хотя русские православные княжества, разумеется, соседствовали с латинским христианским миром с XIII в., а ганзейские купцы обосновались крупными поселениями в Новгороде и в некоторых других русских городах с XIV-XV вв., масштабы таких контактов были ограничены, а случаи проникновения в глубь российской территории были редки. Когда же Москва стала политическим центром обширного государства, русские меха и древесина начали привлекать азартных торговцев с Запада как раз в тот момент, когда минеральные богатства Нового Света ускорили освоение заокеанских территорий испанцами.
Естественно, Россия не была такой же отсталой по сравнению с Западной Европой, как американские индейцы. Коренные российские устои и культура легко пережили захват Москвы поляками в 1610 г., в то время как цивилизации ацтеков и инков были безвозвратно разрушены под натиском испанских конкистадоров. Но несмотря на эту разницу, Россия, как и Америка, с XVI в. тоже стала окраиной Западной Европы. И не только в географическом смысле, но и потому, что решающе важным для нее стал вопрос о том, как выстоять перед натиском европейцев и их цивилизации.
Московские правители поначалу гостеприимно принимали западных купцов и авантюристов, ценя мастерство и технические знания, которые те несли с собой. При этом с самого же начала существовала и загадка русского ума и души, которые с силой отвергали иностранное влияние во имя православия и самодержавия. По мере того как превосходство западных наций над русской цивилизацией становилось все очевиднее, отношение России к ним принимало все более болезненный двойственный характер. Противоречивое отношение часто раздирало душу отдельных людей, так что каждое обращение к Западу выглядело лишь временным, а отказ от западного влияния всякий раз считался окончательным. В XVI в., когда контакты с Западной Европой были все еще слабыми, и до того, как западная угроза православной культуре и обществу стала явной, русские в целом были вполне готовы к тому, чтобы усваивать те чужеземные приемы мастерства и знания, которые казались выше их собственных. Однако в первой половине XVII в., после того как нападение Польши наглядно указало на опасность, идущую с Запада, возникло противодействие и главным стало стремление укрыться за самобытным русским прошлым.
Глубокая ирония судьбы, связанная с военными потребностями, ослабляла все усилия России, направленные на освоение западного мастерства. Русское правительство никогда не могло совершенно спокойно пренебрегать угрозой, исходящей от любого изменения западной военной технологии. К тому же усилия по переносу всего арсенала западных вооружений на русскую почву требовали быстрых преобразований в существующих общественных отношениях и в практической жизни. Это, в свою очередь, побуждало, если не требовало, прибегать в массовом порядке к насильственным мерам как к простейшему способу заставить народ делать то, что верхи считают необходимым. При том, что технический разрыв между русским и западным обществом сужался, массовое применение силы для того, чтобы принудить население выполнять то, что правители находили нужным, в то же время расширяло пропасть между общественным устройством России и западных держав. Таким образом, срочные усилия России по копированию западных технологий сделали невозможным полный перенос достижений западной культуры. Более того, массовое применение правительством мер насильственного принуждения для достижения целей, которые в большинстве своем были непонятны русскому крестьянству, вызвали сильное стихийное сопротивление большинства русского народа, который, будучи вынужденным подчиняться, никогда полностью не мог смириться с тяжелой неволей, в которую его ввергало государство.
Такого рода дилеммы начали возникать в период правления Ивана III (1462-1505 гг.), установившего дипломатические отношения с некоторыми западными государствами и приглашавшего иностранных мастеров и зодчих (в основном из Венеции) для строительства в Москве каменных дворцов и церквей. Иван IV Грозный (1533-1584 гг.) оказал гостеприимство английским купцам, прибывшим через Архангельск, и предоставил им специальные торговые привилегии. Даже в XVII в., когда неприятие Запада достигло наивысшей точки, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович (1613-1645 гг.) пригласил голландца для налаживания оружейного дела в Туле, с тем чтобы обеспечить надежную поставку оружия своему войску.
Несмотря на то что превосходство Запада в технике никого не оставляло равнодушным, следует иметь в виду, что мастера и промышленники, которых Россия приглашала или допускала на свою территорию, должны были служить только ее интересам. Эффективность контроля, под которым находились иноземцы, определялась силой двух центральных институтов русского общества — православной церкви и московского самодержавия. При этом перед лицом растущего вызова Запада показывать такую силу было нелегко. Поэтому и русской церкви, и русскому государству нужно было принимать радикальные меры по урегулированию давления Запада, и в ходе этого процесса ему не удалось избежать серьезных внутренних волнений.
Русскую церковь в конце XV — в начале XVI вв. раздирали сильные противоречия. Страстные защитники каждой капли существующих форм русского православного обряда и веры вели жесткие схватки с теми, кто желал коренных преобразований. Реформаторы сначала действовали в одиночку и более или менее тайно, за что противники клеймили их словом «жидовствующие», скорее звучавшим как поношение, нежели отвечавшим смыслу их действий. Не успели предать их идеи анафеме, как вспыхнул новый спор о том, имеют ли право церкви и монастыри владеть землями[943]. По этому вопросу московские законники заняли двусмысленную позицию, поскольку они колебались между соблазном конфисковать обширные владения церкви, как это предлагали радикалы, и торжественным прославлением пышной власти, бывшим главным козырем консервативного лагеря. Спор привел к выражению диаметрально противоположных взглядов на само назначение церкви. Критики православной верхушки хотели, чтобы духовенство подражало Христу и апостолам и жило в смирении и бедности вместе с народом, тогда как их противники желали, чтобы церковью руководили набожные и грамотные священники, которые бы дисциплинировали и воспитывали рядовое духовенство и вывели бы церковь в первые ряды защитников от чужеземной ереси и греха. В конце концов Василий III (1505-1533 гг.) встал на сторону консерваторов и потребовал от войска и чиновников подавления критиков, радикалов и реформаторов.

Иван IV Грозный (1533—1584 гг.) построил этот храм в ознаменование покорения им Казанского и Астраханского ханств. Перед нами предстает старая Московия: церковь и государство, объединенные в самой идее собора, построенного самодержцем в честь военных побед. Черты византийского, персидского, итальянского и русского средневекового зодчества соединились и вылились в странный в своей гармонии и колоритный результат. Этот архитектурный подвиг отразил в кирпиче и камне не менее замечательное политическое достижение, заключающееся в том, что Иван Грозный и его ближайшие предшественники перетянули татарских и европейских мастеров на службу России и использовали их технические знания для укрепления и расширения московского самодержавия.
Но и такая политика натыкалась на подводные камни. Русские богослужебные книги и обряды значительно отличались друг от друга в силу того, что за прошедшие века переводчиками и переписчиками в них было сделано немало ошибок. Казалось бы, что необходимо было привести все к единому виду, однако подлинные нормы нельзя было определить без критического изучения написанного, на что русское духовенство тогда не было способно. Требовалось, следовательно, обратиться к иностранным ученым. Но такая мысль противоречила глубокому убеждению, вынашиваемому со времени падения Константинополя (1453 г.), что только Россия сохранила православную веру в ее цельной чистоте. Таким образом, когда одна церковная партия пригласила из Италии ученого мужа по имени Максим Грек в Россию, дабы привести русские церковные книги в соответствие с греческими оригиналами, разыгралась новая буря, и несчастный ученый окончил свои дни (1556 г.) заточенным в одном из отдаленных монастырей.
Проблема обострилась после 1568 г., когда в Речи Посполитой (Польско-Литовском государстве) активизировались иезуиты, вооруженные научным багажом Контрреформации. Они быстро добились успеха в борьбе с польскими протестантами, а затем обратили свое внимание на многочисленных православных. Степень учености и благочестия православной верхушки Украины (большая часть которой была тогда в составе Польско-Литовского государства) была весьма низкой. Ввиду этого православное духовенство было практически неспособно действенно противостоять иезуитам, опиравшимся на силу королевской власти и дворянства. В результате в 1595 г. большинство православных епископов Украины и Литвы согласились на унию с Римом при условии, что им разрешат сохранить старославянский обряд. Так возникла «униатская» церковь. Это вызвало глубокий страх и враждебность в русском православном духовенстве, видевшем в униатстве компромисс с папством и повторение отступничества (Флорентийская уния 1439 г.), приведшего к падению Константинополя.
Тем не менее доводы и ученость римских католиков опровергать было трудно, особенно если в официальных русских церковных книгах находили очевидные ошибки. Однако у православия было одно сильное средство, которое могло выдержать наступление латинян: большая древность греческого христианства. Нужно было возобновить усилия по реорганизации русских церковных обрядов и по приведению богослужебных книг в соответствие с греческими образцами, и в 1653 г. патриарх Никон[944] официально приступил к реформе. Чтобы опровергнуть нападки иезуитов, Никону нужно было «обобрать египтян», пользуясь методами разбора текстов, в которых большими мастерами слыли римские католики. Хуже всего, по мнению его православных противников, было то, что люди, способные воспользоваться такими методами, все учились в Киеве или где-нибудь еще, в среде, испорченной тесными связями с западными еретиками.
В результате русское православие на долгое время раскололось, поскольку властолюбивый Никон и такие же неподатливые и фанатичные по духу его противники[945] не терпели компромиссов. Даже после того, как Никон поссорился с царем и был лишен своего сана, его политику продолжили церковь и государство. Бегство и ссылки старообрядцев, сопровождавшие официальные гонения на тех, кто не принимал новшества Никона, лишь распространили раскол во всю ширь и глубь России. Старообрядческие секты ушли в подполье, оказывая оттуда упорное сопротивление своим гонителям, в которых они видели посланцев и даже воплощение антихриста. Таким образом, русское православие выдержало наступление Запада только ценой серьезного раскола, вызванного намерением усвоить одним разом науку, которую Запад постигал постепенно в течение четырех-пяти столетий.
Как и церковь, русское государство переживало сильные потрясения и трудности, пытаясь справиться с нападениями из-за рубежа и внутренней анархией. В 1564 г. царь Иван IV[946] развязал террор против наследственной аристократии (боярства) России, отбирая его земли и наделяя поместьями людей, состоявших на воинской и других видах службы у государства. Таким путем царь полагал создать войско и систему управления, способные одолеть его иностранных врагов. Выдающиеся успехи были одержаны им на Востоке. Так, русские войска начали занимать Сибирь и открыли Волгу для русской торговли с завоеванием Казанского и Астраханского ханств (1552 г., 1558 г.). Однако в противостоянии с Польшей и Швецией Россия одерживала лишь редкие победы и в течение царствования Ивана IV уступила некоторые свои территории западным соседям.
После смерти Ивана IV правление его неумелого сына и ряда самозванцев привело к периоду беспорядков, известного в российской истории как Смутное время (1584-1613 гг.). Здесь смешались кровавые заговоры в среде высшего боярства, стремление казаков к грабежам и наживе, слепой гнев угнетенных крестьян[947], и все это увенчивалось путаным, но массовым единением с православным прошлым России в борьбе против захватчиков из католической Польши. Больше всех выиграли от такой реакции народа патриарх Московский Филарет и его сын Михаил Романов, возведенный на российский трон (1613-1645 гг.) и восстановивший самодержавие и служилое дворянство в качестве основ правления российским государством.
В XVI в. русские правители экспериментировали с полунезависимыми органами местного самоуправления и с Земскими соборами, — совещательными органами в составе представителей высшего чиновничества, дворянства, мещан и духовенства, — однако эти органы сошли со сцены при первых Романовых. Их аналоги во Франции — провинциальные собрания и генеральные штаты — в ту же эпоху уступали путь централизованной власти абсолютной и бюрократической монархии. Таким образом, по своему внешнеполитическому развитию Россия вплотную приблизилось к самым передовым странам Западной Европы. Однако вместо сложного равновесия между монархом, дворянством и буржуазией, на которое опирался французский абсолютизм, русское самодержавие оседлало закрепощенное, угнетаемое и в основном недовольное крестьянство и деспотически относилось к мещанам и духовенству. Только созданное самодержавием служилое дворянство могло добиться, чтобы государство прислушивалось к его желаниям; но даже и это сословие, как бы оно ни было необходимо правительству, можно было заставить плясать под дудку волевого правителя. Видно, что, несмотря на внешнее сходство, русское самодержавие и французский абсолютизм на самом деле очень отличались друг от друга.
При первых Романовых Россия стремилась исключить иностранное влияние настолько, насколько это позволяла ее безопасность. Это значит, что хотя в иностранцах и нуждались как в инструкторах по подготовке войска и в оружейных мастерах, что хотя иностранные купцы нужны были для сбыта мехов, приносивших казне существенный доход[948], тем не менее всех иностранцев держали насколько возможно на безопасной дистанции. Им выделяли для проживания специальные слободы в Москве и других городах и относились к ним с общим подозрением как к опасным еретикам. Живое любопытство и скорее капризная благосклонность, с которой Иван Грозный согласился на приезд в Россию первого англичанина, исчезли. При этом протяженная и открытая сухопутная русская граница с Западом не позволяла полностью исключить проникновение назойливых чужеземцев, как это могли, например, сделать японцы. Невзирая на все усилия избежать иностранного влияния, Россия оказалась крепко втянутой в дела расширяющейся, опасно могучей и весьма притягательной западноевропейской цивилизации.
В то же время опирающееся на военную силу русское самодержавие занимало очень выгодное положение на южных и восточных границах страны, поскольку уровень готовности к войне с Западом обеспечил русской военной и политической машине решающее превосходство над всеми соперниками в Сибири, а также позволил Москве оторвать большую часть Украины от разваливающегося Польского государства во второй половине XVII в.[949] Амбиции России и болезненные отношения с Западной Европой получили превосходную компенсацию на других границах и, несомненно, превратили Россию в полузападное государство по отношению к более отсталым народам лесных и степных районов Северной Азии.[950]
Г. ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО БАЛАНСА В 1500-1700 ГГ.
1. МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
К концу XV в. обращенные в ислам степные воины, воспользовавшись помощью мусульманских миссионеров, купцов и местных мусульман, захватили сердце православного христианства, проникли глубоко в Индию и принесли мусульманскую веру и культуру во внутренние провинции Китая. Даже в Африке к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии, вдали от стрел кочевников, купцам и миссионерам удалось многих обратить в ислам к началу XVI в. Энергия мусульманской экспансии не угасла, когда немногочисленные европейцы обошли вокруг Африки и установили свое превосходство в Индийском океане. Мусульманские воины и купцы вместе с суфийскими святыми и учеными-богословами продолжали, как и до XVI в. завоевывать новые территории и новых верующих в XVI-XVII вв. И хотя военные победы мусульман после 1700 г. стали более редкими, тихая пропаганда ислама и обращение в него не прекращаются и в наши дни.
Более того, общественная поддержка, на которую опиралась мусульманская экспансия до XVI в., продолжала действовать в почти неизменном виде на протяжении последующих двух столетий. Так, в 1507-1515 гг. узбекские кочевники вторглись в города междуречья Амударьи и Сырдарьи, как это делала не одна племенная конфедерация до них. Остатки бывшей правящей верхушки этого района — тюрки, ассимилировавшиеся в персидской культуре, враждовавшие между собой наследники Тимура, ринулись на юг, в долины Северной Индии, где основали империю Великих Моголов[951]. Почти в то же время, в 1565 г., мусульманские правители в Южной Индии, набрав войско в Иране и Туркестане, объединились для захвата Виджаянагара — последнего сильного индуистского государства. Ислам одержал победу и на Яве, где в 1513-1526 гг. объединение мусульманских прибрежных княжеств свергло индуистское правительство внутренней части острова и начало распространять свою веру в глубь территории. Другие острова и прибрежные территории Юго-Восточной Азии, особенно те, где активно велась торговля, в XIV-XVIII вв. также были вовлечены в орбиту ислама[952].
Практически такие же миссионерские процессы проходили и в Судане — в западной части Африки, где купцы и праведники, поддерживаемые такими мусульманскими государствами, как Тимбукту, Кано, Борну, Марокко, спорадически распространяли ислам даже в периоды войн между собой[953]. В Восточной Африке мусульманские торговые города с начала XVI в., как правило, находились под португальским господством, однако кочевые мусульманские племена проникали глубоко внутрь территории (главным образом на севере региона), несмотря на то что побережье находилось под контролем христиан[954].
Подъем сильного Персидского государства был также отчасти вызван узбекской угрозой. Все происходило в соответствии с очень давними прецедентами с той разницей, что это был последний в истории Западной Азии случай, когда степные народы смогли свергнуть цивилизованные правительства и привести в действие цепную реакцию создания государств в Индии и на Среднем Востоке. Завоевание маньчжурами Китая в следующем веке — та же ситуация для восточных степей.
Даже в христианской Европе, где культурное и военное сопротивление исламу было гораздо сильнее, чем в Африке или в Азии, Османскому государству удавалось теснить христиан вплоть до начала XVIII в. Османские войска в 1526-1543 гг. захватили большую часть Венгрии и создали кольцо зависимых государств вокруг Черного моря. После периода волнений (1579-1623 гг.), когда из-за недостатков османской системы престолонаследия была парализована центральная власть, новый султан (1623-1640 гг.) провел победоносную войну, однако на этот раз против соперничающей мусульманской империи, появившейся в Персии. По завершении еще одного периода слабого правления решительный и воинственный великий визирь Мухаммед Копрюлю развязал еще одну (оказавшуюся последней) кампанию военной экспансии в Европе (1656 г.), выдохшуюся в 1683 г. при осаде Вены[955]. Такой ход истории, казалось, приносил успех мусульманской экспансии, вытеснявшей христианство, хотя оно и возникло раньше ислама. Все правоверные мусульмане могли чувствовать себя уверенно, по крайней мере, до победы Австрии при Зенте в 1697 г., настолько, что тысячелетняя борьба против христианства складывалась, как и в прошлом, в пользу мусульман.
И все же, несмотря на такое впечатляющее продолжение процессов предыдущих столетий, мусульмане потерпели в начале XVI в. три серьезные неудачи, от которых так и не смогли оправиться, а именно: 1) победы государств Пиренейского полуострова в войнах против ислама в Средиземном море, в районе Атлантического и Индийского океанов; 2) укрепление Московского государства, в результате которого ханства западных степей уже не могли больше противостоять русской военной мощи; 3) глубокий раскол между суннитскими и шиитскими мусульманскими сектами, произошедший после побед шаха Исмаила Сефеви.
Последнее обстоятельство, несомненно, воспринималось современниками как наиболее серьезное, а последовавшие изменения в исламе, вызванные или усиленные соперничеством суннитов и шиитов, со всей очевидностью подтверждают этот вывод. Войны с Испанией и Португалией отвлекали значительную часть сил Османов, но к концу XVI в. турки могли поздравить себя с отражением этой угрозы. В то же время мусульмане Индийского океана — не без помощи Османов — избавились от угрозы со стороны португальцев в отношении их политических и торговых завоеваний в Южной Азии. Что же касается Русского государства, то исламскому миру не удалось организовать сколько-нибудь внушительного отпора. Процветание ислама в западных степях было тесно связано с судьбой тюркской конницы, чье традиционное преимущество перед оседлым населением исчезло с началом использования огнестрельного оружия. Тем не менее до 1676 г., когда Россия и Турция стали впервые граничить между собой, остатки прежних степных империй служили буфером между центрами мусульманской и русской силы. Поэтому какое-то время великие мусульманские державы могли безнаказанно пренебрегать новым, но все еще отдаленным соперником на севере.
ИБЕРИЙСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И ОТВЕТ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА. Крестовые походы в Испании начались раньше и длились дольше, чем в любой другой части Европы. И даже еще до падения последнего мусульманского государства на полуострове в 1492 г. Испания и Португалия отправились воевать по морю в Африку. Португальцы укрепились у Гибралтара еще в 1415 г. и продолжали удерживать различные участки побережья Западной Африки вплоть до 1578 г. Главной целью всего португальского замысла в отношении Африки было обойти мусульман и связать христианскую Европу с легендарным христианским царством пресвитера Иоанна. И хотя царство пресвитера Иоанна к вящему разочарованию сжалось до размеров полуварварской Эфиопии (куда португальцы добрались по суше уже в 1493 г., а южным морским путем в 1520 г.), военные успехи Португалии в Индийском океане позволили ей перекрыть торговые пути мусульман в южных морях. В этот же период Испания возобновила военные действия против мусульман, завоевав сначала Гранаду (1492 г.), а некоторое время спустя перенеся их в Северную Африку (1509-1511 гг.). Когда Карл V присоединил земли Испании к владениям Габсбургов в Германии и Нидерландах, Испания оказалась косвенно вовлеченной в третий фронт против мусульман — на этот раз на Дунае.
Османская империя ответила решительными действиями на угрозу Габсбургов. На суше Сулейман Кануни (Законодатель) (1520-1566 гг.) отодвинул границы империи до Карпат. На Средиземном море долгая и безрезультатная борьба завершилась в 1578 г., когда заключенный между Испанией и Турцией мир, мыслившийся простой передышкой, стал продолжительным modus vivendi в силу истощения финансовых возможностей Испании и ведения ею действий на других фронтах. Несмотря на победу христиан при Лепанто (1571 г.), Турция могла справедливо гордиться окончательным успехом, поскольку она удержала, по меньшей мере под своим номинальным контролем, Тунис и Алжир, а также сохранила превосходство в Восточном Средиземноморье, отвоеванное ею у Венеции в XV в.
Исламу не удалось достичь подобных решающих успехов в Индийском океане. Хотя турецкие флотоводцы преодолели серьезные географические препятствия[956], чтобы снарядить три крупные экспедиции против Португалии (1536 г., 1554-1556 гг., 1586-1589 гг.), они не смогли ликвидировать превосходство португальцев в южных морях[957]. Тем не менее ко второй половине XVI в. инициативные действия местных мусульманских мореходов способствовали восстановлению торговли мусульманских купцов почти в прежних размерах в Южной Азии. Избегая портов, находившихся под контролем португальцев, и беря на борт достаточно вооружения, чтобы отбить случайные нападения, мусульманские суда легко проскальзывали мимо португальских патрульных кораблей. С точки зрения мусульман усилия португальцев по поддержанию своего превосходства на море сузились в тот период до размеров терпимых пиратских наскоков. И действительно, мусульмане настолько успешно ускользали из-под контроля португальцев, что еще до конца столетия те открыли свои порты мусульманским судам, считая портовую пошлину более выгодной, чем добычу от пиратства и войны[958].
Господство иберийских держав в Средиземном море и в Индийском океане постепенно переходило к голландцам, французам и англичанам. Их успехи объяснялись в значительной мере официальным положительным к ним отношением мусульманских правителей, видевших в них солидный противовес Испании и Португалии. Так, например, в 1536 г. Франция получила торговые преимущества как участница франко-османского военного союза против Габсбургов, заключенного в том же году. Английская «Левантийская компания» добилась подобных льгот в 1580 г. В 1597 г. в Восточном Средиземноморье (под французским флагом до 1612 г.) появились голландцы, быстро составившие торговую конкуренцию и французам, и англичанам[959]. Подобным образом голландские и английские купцы добрались до Индии, пользуясь защитой договоров, заключенных с Моголами и другими мусульманскими правителями. Более того, принимая во внимание первоначальную зависимость от доброй воли мусульман, протестантские державы намеренно воздерживались от миссионерской деятельности, бывшей основной особенностью экспансии с Иберийского полуострова[960].
Таким образом, деятельность французских, голландских и английских купцов на мусульманских землях, несмотря на то что она велась при покровительстве местных правителей, подготовила почву для будущего европейского владычества. Особенно ярко это проявилось в Индии и в Ост-Индии (Индонезии), где еще в XVII в. торговая активность англичан и голландцев повлекла существенные перемены в экономике азиатских стран. Крупные голландские и английские торговые компании упорно насаждали в Европе спрос на восточные товары, такие как индиго, хлопковые ткани и селитра из Индии, шелк, чай и фарфор из Китая, арабский кофе и персидские ковры, а растущая популярность этих товаров в Европе не замедлила оказать серьезное влияние на производственную систему Азии.
Голландские и английские купцы не довольствовались торговлей между Европой и азиатскими странами, а активно и настойчиво стремились развивать торговлю и промышленность в самих «Индиях». Ставилась цель сделать выгодной внутреннюю торговлю в Азии, так как европейские компании крайне нуждались в получении прибыли в Азии, с тем чтобы ограничить отток золота и серебра из Европы, вызывавший год от года возрастающую тревогу правительств европейских стран. Вывоз звонкой монеты из Европы нельзя было сдержать (если не прекратить ввоз новых восточных товаров), пока в Азии не появится вкус к европейским товарам. Однако до второй половины XVII в. европейские товары были, как правило, непригодны для азиатских рынков и часто выглядели грубыми и неотделанными по сравнению с местной продукцией. Даже после того, как европейские мастера научились имитировать некоторые виды азиатского шелка и изобрели более совершенные методы производства, азиатский рынок для европейских товаров оставался очень узким, а значит, давление на торговые компании с целью принудить их добывать деньги в самой Азии оставалось весьма сильным.
Последствия для экономики азиатских стран в некоторых случаях были поразительны. Голландцы, например, широко вводили рациональные методы ведения сельского хозяйства на Яве и близлежащих островах, наладив выращивание яванскими крестьянами чайных кустов, сахарного тростника и пряностей. В свою очередь, англичане мало-помалу устанавливали широкий управленческий контроль над текстильщиками Западной Индии. Выдавая небольшие суммы ткачам в качестве аванса, английские агенты могли указывать типы товаров, которые им требовались, а размер предоставляемых средств непосредственно регулировал количество одежды, поступающей на рынок. Произведенные таким образом товары предлагали затем на продажу европейские посредники не только в Европе, но и в прибрежных странах Африки и на южном побережье Азии, а также в Японии и Китае, короче говоря, там, где открывались выгодные рынки. В таких экономических условиях стали быстро развиваться отсталые ранее районы, например Филиппины и восточное побережье Бенгальского залива. Европейские торговцы, объединенные в мощные, хорошо оснащенные компании, повсеместно захватывали решающий контроль над крупной торговлей, тогда как местные предприятия постепенно оттеснялись в мелкую локальную торговлю[961].
Экономическое проникновение Европы в Османскую империю шло гораздо медленнее. Хотя следует отметить, что к концу XVII в. французские, английские и голландские корабли осуществляли основную массу дальних торговых перевозок из турецких портов. Модель обмена турецкого сырья на европейские готовые изделия обрекала Восток на экономическую пассивность. Неблагоприятный социальный статус купцов в Османской империи, находившихся в зависимости от военных и чиновничьих кругов, которые, в основном относились к их интересам безразлично, а то и враждебно, препятствовал и в конце концов подорвал широкомасштабное торговое соперничество подданных султана с европейскими купцами. Доходы посредников от продажи товаров из Азии резко сократились в результате завоевания европейцами океанов, и после такой потери традиционного экономического положения Среднего Востока местные ремесленные и торговые предприятия оказались не в состоянии удерживать за собой ведущее место в мировой торговле. Тем не менее до самого начала XVIII в. европейские купцы редко могли продвигаться дальше османских портов, поскольку внутренняя торговля оставалась в руках местных торговцев, а после 1592 г. торговля на Черном море стала вотчиной Османов[962].
В начале XVIII в. никто не смог бы предугадать отдаленные последствия европейской торговой мощи. Крестовые походы иберийских государств получили отпор в Средиземное море и угасли в Индийском океане, а политические намерения Голландии, Франции и Англии, связанные с торговым проникновением в исламские земли, были еще не очевидны. Мусульмане, следовательно, имели достаточные основания надеяться, что вековые устои послужат им и в будущем, как служили в прошлом. По всем признакам наступление Европы на ислам провалилось, как провалились когда-то средневековые крестовые походы. Казалось, не было повода для тревоги, причин для реформ и оснований для сомнений в существенном преимуществе пути мусульман.
ВЗЛЕТ РОССИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИСЛАМА. Когда в 1480 г. Иван III Московский добился политической независимости от Золотой Орды, татары были настолько ослаблены междоусобицами, что оказались неспособны противопоставить ему нечто большее, чем безрезультатную демонстрацию военной силы. В итоге к 1517 г. Московия и Польско-Литовское государство разобрали между собой все русские княжества, находившиеся ранее под властью татар, и обе эти державы начали быстро распространять свое влияние на южные степные районы.
В XVI в. независимые казацкие общины в южных степях сформировали непокорные республиканские объединения, оказавшиеся на короткое время способными образовать силовые центры, соперничающие с Варшавой и Москвой[963]. Однако в XVII в. продвижение России, Польши и Турции в степь все сильнее подрывало независимость казаков. Казацкая старшина считала выгодным заключать союзы то с тем, то с другим соседним правительством, получая взамен плату за военную службу и гарантии от Польши и России (но не от Турции) признания их помещиками и господами над чернью. После сложных маневров между Россией, Польшей и Турцией казацкие общины в итоге в 1681 г. высказались за объединение с Россией, в результате чего так называемые реестровые казаки, т.е. мужчины, внесенные в специальные воинские реестры, образовали боеспособные вспомогательные силы русского войска. Преданные собственными вождями, остальные рядовые казаки были низведены до состояния крепостных. Таким образом, не признающая никакой власти вольница первых казацких общин ушла в легенды и в тайное сопротивление, чтобы затем вспыхивать в виде стихийных крестьянских восстаний в XVII-XVIIII вв. (Можно оставить на совести автора многочисленные неточности данного абзаца, достаточно серьезные, чтобы вызвать протест, но тем не менее не отвлекающие от основной логики повествования. — Прим. пер.)
Задолго до укрепления своей власти в Украине Россия завоевала Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556 г.) ханства, открыв все Поволжье для русских поселений и торговли. Вслед за этим первые купцы и авантюристы перевалили через Уральские горы и начали устанавливать власть России в верховьях Оби (1579-1587 гг.). Братоубийственные раздоры в мусульманском ханстве Сибири сделали победу России относительно легкой. Перед ней открывались обширные пространства тайги и тундры, населенные преимущественно первобытными и невоинственными народами, а также горностаем и другим пушным зверем. Русским агентам нетрудно было принудить коренное население добывать меха и отдавать их в качестве дани. Освоив способы передвижения на санях по замерзшим рекам и перетаскивания грузов волоком от одной реки к другой, русские исследователи и авантюристы уже не встречали непреодолимых препятствий на всем пути до Охотска на берегу Тихого океана, куда они вышли в 1638 г.[964]
Успехи России в западных степях и в сибирской тайге, а также продвижение ламаизма в центральных[965] и восточных степях способствовали значительному оттеснению северной границы ислама в XVI-XVII вв. Великие мусульманские державы не предпринимали серьезных усилий, чтобы повлиять на ход событий[966]. Персия — этот естественный страж ворот, ведущих в центральные степи, вела тяжелую борьбу с Османской империей и не имела лишних сил. Бухарская узбекская империя, принявшая строго ортодоксальный и ограниченный вариант суннизма, активно подавляла миссионерский дух суфизма, принесший исламу в предыдущие столетия его главные успехи в обращении степных народов. Сами степи были бедны и бесперспективны, тем более после того, как караванные пути в Азии утратили в основном былое значение, уступив свою роль новым морским и речным путям, протянувшимся далеко на юг и север Центральной Азии. У представителей мусульманской цивилизации, таким образом, оставалось мало возможностей для проникновения в степные просторы. Образовавшийся культурный и религиозный вакуум соответственно заполнялся тибетским ламаизмом.
Итак, ислам потерпел свои первые серьезные поражения в степях Восточной Европы и Центральной Азии, тогда как в районах, подвергавшихся прямому наступлению Запада, мусульманские империи по-прежнему победоносно расширяли свои границы.
КОНФЛИКТ МЕЖДУ СУННИТАМИ И ШИИТАМИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИСЛАМА. Расходящиеся во взглядах секты, которые мусульманское учение в какой-то мере произвольно выделило в сообществе правоверных, разделились по вопросу о законности правопреемства пророка на две основные группировки: шиитов, считавших, что наследство должно переходить только по линии зятя Мухаммеда — Али, и суннитов, признававших законность власти Абу Бекра, Омара, Османа и их наследников в халифате. С появлением многочисленных суфийских орденов, братств и других религиозных объединений основной спор о правоверности осложнился еще больше. Четкие границы спора стали расплываться с увеличением разнородных религиозных групп, бравших набожность у шиитов, но остававшихся суннитами в вопросах признания законности трех первых халифов. Смешение усугублялось еще и тем, что, хотя в большей части мусульманского мира шииты оставались в меньшинстве, имитация ими суннитской ортодоксальности с посвящением в истинное положение дел только надежных сторонников позволила шиитским общинам распространиться по всем мусульманским землям. В таких условиях долгое время между сектами ислама удерживалось непростое равновесие, нарушавшееся на местном уровне, когда какой-нибудь особо правоверный законник брался бороться за чистоту принципов или же появлялся некий фанатик, предвещавший проклятие всем, кто не придерживался его богословских принципов.
Политическая нестабильность на мусульманских землях после X в., частые случаи непрочного захвата власти турецкими военачальниками, делившими ее во многих частях исламских земель, способствовали сохранению этого религиозного равновесия, поскольку немногие правители хотели или отваживались вызвать бунт, слишком энергично добиваясь религиозной покорности. Османское государство не было исключением, так как, хотя султаны и пришли к поддержке суннитской ортодоксальности, сделав суннизм в XV в. государственной религией, они не разрывали отношений с разнородными общинами дервишей, чей религиозный порыв так сильно помог расширению Османской империи на первых этапах.
Религиозное и политическое равновесие ислама было резко нарушено в 1499 г., когда фанатическая шиитская секта, чьи руководители уже несколько веков жили по соседству с южной оконечностью Каспийского моря, начала одерживать одну за другой головокружительные победы. Начав всего лишь с горстки горячих последователей, предводитель секты 13-летний Исмаил Сефеви быстро создал фанатичное и мощное войско, в течение года захватил Тебриз и был объявлен шахом (1500 г.). Затем последовали новые победы, и в 1506 г. все иранское плато было объединено под флагом нового завоевателя. В 1508 г. Исмаил установил свою власть над Багдадом и над большей частью Ирака, а в 1510 г. нанес жестокое поражение среднеазиатским узбекам, укрепив тем самым свою восточную границу.

Секрет этих успехов лежал в религиозном фанатизме воинов Исмаила, который после нескольких поколений подпольного проповедования шиизма увенчался столь поразительными победами. Следуя силе своих шиитских убеждений, Исмаил подвергал преследованиям всех мусульман-суннитов, попадавших под его власть, и оказывал мощную поддержку распространению шиизма как внутри своего нового государства, так и за его пределами. Более того, победы Исмаила подталкивали многих приверженцев шиизма открыто выступать в различных частях мусульманского мира, в частности в Восточной Анатолии, где брошенный ими вызов не мог остаться без внимания со стороны османского султана. Так, в 1514 г. в Анатолии вспыхнул массовый бунт шиитов против Османов, и султану пришлось собрать в кулак всю силу своего войска, чтобы подавить его. Подавив еретиков у себя дома, османские силы двинулись на восток, против самого источника заразы. При Чалдыране, недалеко от Тебриза, османская артиллерия взяла верх над фанатизмом Сефевидов (1514 г.), но волнения среди янычар вынудили султана отступить, так и не уничтожив власть Исмаила[967].
На протяжении XVI в. империя Сефевидов оставалась силой, нарушавшей спокойствие в мусульманском мире, защищая и распространяя шиитское учение у себя дома и в других странах. Такая политика приводила, естественно, к состоянию вражды с Османской империей, в котором мир наступал лишь на короткие периоды. Тем не менее к XVII в., когда империя Сефевидов достигла своего апогея при шахе Аббасе Великом (1587-1629 гг.), фанатизм шиитского движения стал угасать, по крайней мере в придворных кругах, и в 1639 г. был заключен долгий мир с Османами[968].
Резкое противостояние между шиитами и суннитами, больше века разделявшее самое сердце ислама, отразилось на мусульманском мире и превратилось в неизбежный политический вопрос для каждого мусульманского правителя. Прежний непростой симбиоз мусульманских сект повсюду грозил превратиться в тяжелые междоусобицы по мере того, как религиозные убеждения становились критерием политической лояльности. Самые крайние проявления шиизма ограничивались в основном владениями Сефевидов, в то время как на османских землях жесткими и эффективными контрмерами султану удалось подавить шиитскую ересь до того, как она смогла приобрести политическое влияние. Но за пределами Османской империи, на окраинах мусульманского мира местные правители находились в нелегком положении и постоянно колебались между лагерями суннитов и шиитов.
После того как в 1514 г. не удалось искоренить первоисточник нарушения всего установившегося порядка, следующим шагом османского султана стало завоевание находившихся под властью мамелюков Египта и Сирии. Селим I Грозный одержал победу за одну кампанию 1516-1517 гг. благодаря все тому же превосходству в артиллерии, которым он воспользовался против шаха Исмаила. Эта победа предотвратила зарождавшийся союз между шахом Исмаилом и мамелюками. Она также позволила Османам взять под свой контроль стратегически важные в религиозном отношении священные города Мекку и Медину, долгое время находившиеся в зависимости от мамелюков.
Кроме того, Селим распространил свое влияние на побережье Северной Африки: отчасти для отражения испанской угрозы мусульманской Северной Африке, а отчасти для предотвращения экспансии еще одного очага шиитской власти — марокканской династии шерифов Саади. К 1511 г. шерифы создали мощное государство на основе племен и городского населения мусульманского Дальнего Запада, действуя с помощью религиозной пропаганды, подобной той, которая в это же время одерживала столь яркие успехи в Персии и Ираке[969]. В том же году османские морские силы стали вести активные действия вблизи Алжирского побережья, вызвав тем самым длительные морские войны с Испанией, шедшие почти весь XVI в.
Безрезультатность морского противостояния с Испанией не отвратила Турцию от ее цели: опередить Испанию и Марокко в Алжире[970]. Общая вражда с иберийскими христианами помогла избежать прямого столкновения между Османским и Марокканским государствами. Когда натиск иберийских держав был отражен (после 1578 г.), Марокко обратило свои взгляды на юг — на негритянское королевство Тимбукту (завоевано в 1591 г.), тогда как силы Османов были по-прежнему полностью заняты на других фронтах[971].
Революция Сефевидов вызвала более сложные политические изменения на мусульманском Востоке. Новая узбекская держава довольно естественно встала на защиту суннитского правоверия против соседних еретиков Сефевидов. Тем временем в Индии Моголы балансировали, как на проволоке, между суннитами и шиитами вплоть до эпохи Аурангзеба (1659-1707 гг.). В критические моменты своего неспокойного правления и Бабур (ум. 1525), основатель государства Моголов, и его сын Хумаюн публично исповедывали шиизм, чтобы заручиться более необходимой помощью Сефевидов. Когда же нужда отпадала, каждый из них демонстрировал свою политическую независимость, переходя к вере суннитов. Но и такая политика не была полностью удовлетворительной, поскольку османские султаны выдвигали претензии на главенство над всей суннитской общиной в противовес поддержке, оказываемой шиитам Сефевидами[972].
В результате династия, ведшая свою родословную от Чингисхана и Тимура и глядевшая на Османов и на Сефевидов просто как на выскочек, не могла чувствовать себя хорошо ни в стане суннитов, ни в стане шиитов. И как только император Акбар (1556-1605 гг.) укрепил власть Моголов, установив твердое и эффективное правление над всей Северной Индией, он заявил претензии на независимую религиозную власть[973]. Сын Акбара Джа-хангир мало интересовался вопросами религии и, следовательно, поддерживал значительно лучшие отношения с мусульманскими богословами, чем его отец. Следует отметить при этом, что, внешне соблюдая требования суннизма, правительство не становилось на сторону ни суннитских, ни шиитских улемов, пока император Аурангзеб силой оружия не поддержал суннитов. Его войско разбило шиитских правителей Южной Индии, расширив тем самым империю Моголов до наибольших ее размеров. Со временем, однако, религиозное рвение Аурангзеба ослабило империю, так как его нетерпимость к индуистскому идолопоклонству привела к массовым народным выступлениям в Центральной Индии, а мусульманское сообщество было настолько сильно разделено борьбой суннитов и шиитов, что не могло уже вести согласованные действия против наступавшего индуизма[974].
Более серьезно шиизм затронул Азербайджан, Персию и Ирак, так как именно в этих странах Исмаил и его последователи предприняли значительные усилия для перестройки общества согласно своим религиозным принципам. Трудности не заставили себя ждать, когда Сефевиды принялись устанавливать новый режим, поскольку, как и многие другие революционеры до и после них, они быстро обнаружили, что простое сектантское рвение само по себе было недостаточной основой для правления. Тогда Исмаил призвал шиитских богословов и ученых правоведов со всех концов мусульманского мира, где они нашли себе прибежище, и предписал им (как двумя столетиями раньше при почти аналогичных обстоятельствах османские султаны использовали суннитских правоведов) составить правила, по которым должны жить его последователи и подданные. Религиозных противников, включая суфийские братства, ордена дервишей и, разумеется, все суннитские общины, жестоко истребляли — столь же беспощадно, как примерно в это же время уничтожали монастыри в протестантской Европе.


Приведенные здесь миниатюры выполнены при дворе могольского императора Джахангира (1605—1627 гг.). На миниатюре слева Джахангир обнимает шаха Сефеви, а у их ног лежат лев и овечка. Художник отразил политическое и духовное примирение суннитов и шиитов, прекращение индийско-иранского соперничества. На миниатюре справа император изображен на своем троне. Он принимает книгу (Коран?) из рук мусульманского священника в присутствии двух европейцев и индуса. Молитвенная поза темноволосого европейца с бородой указывает, что он, возможно, прибыл испросить разрешение на торговлю (или какую-то другую привилегию) у могущественного мусульманского правителя Индии.
Неудивительно, что императорское окружение и шиитские богословы быстрее пришли к согласию о том, что следует уничтожить, чем о том, что следует создать. Шахи неохотно расставались с малейшими из своих прерогатив даже в пользу духовенства, а борцы за чистоту шиизма не склонны были прощать остающиеся отклонения даже тем, кто больше других симпатизировал шиизму. Тем не менее ссоры с шахским окружением только усиливали энергию, с которой шиитские распространители идеи двенадцати имамов внушали населению принципы своей веры[975]. Пользуясь репутацией людей, обладающих чудодейственной силой, которым открыта воля бога, шиитские богословы оказывали большое влияние на широкие народные массы, пока их мнение не стало превращаться в средство контроля за действиями самого шаха[976].
Система светского правления и военная организация развивались не столь быстро, пока при шахе Аббасе Великом племенная основа войска Исмаила[977] и его правительства не была заменена и уравновешена созданием регулярной армии, набиравшейся преимущественно из грузин и армян, обращенных в ислам, по образцу янычарского корпуса Османов[978].
Жесткие реформы, проводимые Сефевидами, были беспримерны как для Османской империи, так и для государства Моголов. Сунниты давно смирились с религиозным многообразием, и в народе больше не возникали вспышки суннитского фанатизма, которые могли бы приводить к религиозным революциям, подобно той, которая преобразила Персию в XVI в. Разнородные ордена дервишей были слишком тесно сплетены с основами Османского государства, чтобы их можно было спокойно уничтожить[979], а после восстания и резни 1514 г. выжившие на османских землях шииты прибегали к обычному для них средству спасения, соблюдая внешне суннитские обычаи. Когда опасность открытых выступлений была таким образом устранена, суннитская община с ее терпимым характером не допускала и мысли о жестокой контрреформации, подобной той, которая как раз начиналась в католической Европе. Османские султаны ограничивались административными мерами предосторожности. Так, Сулейман Кануни (1520-1566 гг.) усовершенствовал и расширил иерархическую структуру улемов империи, предоставил средства суннитским учебным заведениям, и его администрация, как правило, стояла на стороне более четко определившегося суннизма. Благодаря таким взвешенным законодательным мерам религиозные и политические институты Османской империи достигли вида, в котором они сохранялись практически без изменений на протяжении более двух столетий[980]. Похожей формы достигли институты Моголов при императоре Акбаре (1556-1605 гг.). Акбар построил свой двор и центральную администрацию по образцу персидских, но позволил в селах и городах преобладать местным обычаям. Он дал разрешение некоторым индуистским кланам и местным феодалам — раджпутам — отправлять правосудие на местах. Однако высшие сферы правления оставались за мусульманами. Пестрота религий в империи представляла собой деликатную проблему. В XVII в. суфийские мистики и различные объединения индуистов и мусульман приобрели влияние над беднейшими слоями населения, видевшими в таких вероучениях выход из тяжелого положения, в которое их ставила индуистская доктрина. Огромная пропасть, разделявшая беднейших мусульман и тонкий слой чиновников и военных, окружавших императоров, позволяет понять провал усилий Аурангзеба, направленных на удержание индийского ислама в рамках официального суннизма[981].
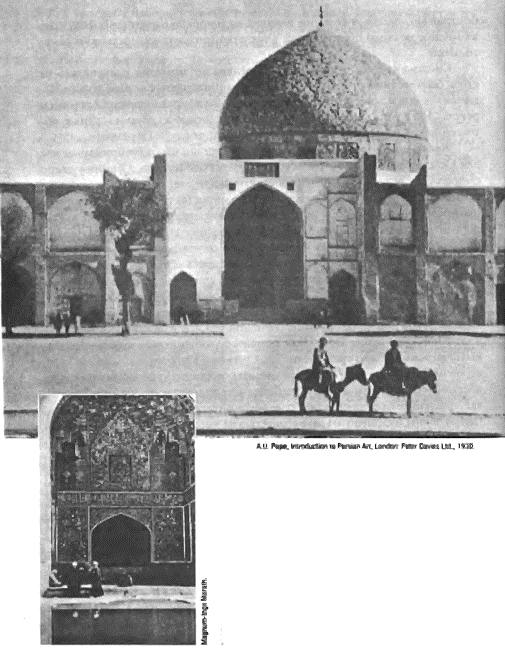
Оба здания украшают город Исфахан — столицу Сефе-видов. Мечеть (фото вверху) сооружена в 1621 г., во времена правления шаха Аббаса Великого. Медресе (фото слева), построенная в 1710 г., —доказательство востребованности персидского искусства вплоть до сравнительно недавних пор. Внешнее обрамление обоих зданий представляет собой важную часть всего ансамбля, ведь Исфахан выглядит как город-сад, служащий для царской услады. Бассейны и обширные площади для игр и других массовых церемоний свидетельствуют о мастерстве зодчих и о самодержавной власти шаха, сумевшего на деле дать жизнь новому городу.
Религиозные и политические трансформации исламского мира, последовавшие за восстанием шиитов, привели и к определенным резким изменениям в мусульманской культуре. Так, в литературе иссякли источники персидской поэзии, поскольку нетерпимый фанатизм не мог совмещаться с тонкой чувственностью и религиозной двусмысленностью классической персидской поэзии. Знание произведений великих персидских поэтов и подражание их стилю было главным элементом в образовании людей из высшего общества в Османской империи и в государстве Моголов, однако, когда дело доходило до собственных сочинений, угодливые рифмоплеты подменяли подлинную тонкость образцов словесной ловкостью и цветистыми клише.
Упадок персидской литературы в какой-то мере компенсировал развитие литературы на турецком языке (в обеих его формах — османской и среднеазиатской) и на языке урду — разновидности хинди с заимствованиями из персидского, использовавшейся при дворе Моголов. Как носители поэзии эти новейшие литературные языки испытывали сильнейшее влияние персидских образцов, однако некоторые произведения турецкой прозы, например замечательные мемуары Бабура, производили эффект дуновения свежего воздуха в паутине традиционного многословия[982].
Расцвет великих императорских мусульманских дворов в Турции, Персии и Индии означал более устойчивое и щедрое покровительство для зодчих и всевозможных мастеров — художников, каллиграфов, ковроделов. И хотя многие произведения этого последнего периода исламского художественного величия утрачены, осталось достаточно их образцов, оставляющих неизгладимое впечатление великолепия и вкуса, необычайного мастерства и изумительного колорита. Известно, что живопись считалась сомнительной с религиозной точки зрения и мусульмане относили ее к низшим искусствам, однако в XVI-XVII вв. придворные художники в Персии и в Индии пытались выйти за рамки своей традиционной роли по украшению рукописей и росписи ванных комнат, создавая портреты, картины на исторические и даже религиозные (!) сюжеты. Такое стремление, очевидно, поддерживалось примерами Европы и Китая, но, как бы то ни было, китайские пейзажные мотивы и европейская линейная перспектива не были чужды мусульманским придворным живописцам и находили среди них подражателей. При этом художники, прибегавшие к таким заимствованиям, не отказывались от собственной стилистической самобытности, в которой яркая цветовая гамма и щедрое обилие мелких деталей в целом приводили к великолепному, чарующему глаз результату.
В XVI-XVII вв. архитектура оставалась великим искусством ислама, и когда правители новых империй возжелали увековечить свою набожность и величие в камне, по всему мусульманскому миру прокатилась волна строительной активности. Творения персидских и индийских зодчих отличались порой необычайной утонченностью и красотой как в общем плане, так и в деталях. Индийский мавзолей Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом в 1632-1653 гг., и царская мечеть в Исфахане, возведенная для шаха Аббаса Великого двумя десятилетиями раньше, представляют собой всемирно известные образцы искусства и вкуса зодчих и мастеров, которых эти правители у себя собирали. Здания в Персии и в Индии часто сооружали среди строго распланированных садов, разбитых вокруг прудов и бассейнов и украшенных кипарисами и цветниками. Такие сады служили островками прохлады, цвета и тонкого вкуса на изнывающей от зноя и пыли местности и выступали такой же неотъемлемой частью всего произведения искусства, как и само здание. Архитектура в Османской империи была традиционно более монументальной и строгой, выдержанной в византийском стиле. Этот стиль предполагает подчеркнуто замкнутое внутреннее пространство — будь то мечеть или дворец, тогда как персидский и особенно индийский стиль характеризуется созданием декоративных и смысловых эффектов на основе места расположения и окрестного пейзажа. Таким образом, сравнительно суровые климатические условия Константинополя отвечали строгости суннитского учения, которому приличествовала монументальная и массивная архитектура в османских владениях, резко отличавшаяся от более роскошных, почти женственно утонченных зданий в Персии и в империи Моголов[983].
Тот, кто знакомится с мусульманским искусством XVI-XVII вв., отмечает разнообразие дворцовой культуры, отражаемой каждым стилем, а глядя на смешение персидских, турецких, арабских, индуистских, китайских и европейских элементов, а также на удачное объединение различных стилей искусства из такого разнообразия, трудно поверить, что мусульманская культура и цивилизация с начала XVI в. находились в состоянии упадка. Мусульманская литература, художественное крыло которой пробавлялось игрой слов, а философское под крепкой уздой богословов и законников предназначалось лишь для ядовитых выпадов между суннитами и шиитами, выглядит, конечно же, менее привлекательно на вкус западного читателя, однако и здесь расцвет новых диалектов как литературных носителей может, очевидно, восприниматься как признак непрекращающейся способности к росту.


Изящные линии и четкий орнамент этих двух образчиков мусульманского искусства XVI в. свидетельствуют о поразительном мастерстве, опирающемся на вековые традиции. Такому уровню в XVI—XVII вв. Европа еще не могла противопоставить ничего подобного.
Не вызывает сомнений тот факт, что по всем стандартам за исключением только одного, имеющего отношение к делу, а именно стандарта, установленного современным развитием европейской цивилизации, — ислам находился в состоянии процветания, а с учетом того, что острота религиозных конфликтов в XVII в. притупилась, мусульмане вполне справедливо могли считать, что они успешно прошли через все невзгоды, угрожавшие в начале XVI в. их сообществу как изнутри, так и извне. Результатом была чрезмерная самоуспокоенность по отношению к миру неверных — европейцев и пр., тогда как непоколебимый внутренний консерватизм стоял твердой преградой на пути всяким новшествам.
Обращенный по своей сути в прошлое характер исламского права и обрядовой системы, несомненно, предрасполагал мусульманский мир к такой негибкой позиции. При этом жестокие столкновения между суннитами и шиитами в XVI в. еще сильнее привязывали мусульман к старым догматам об истине и вели к отказу от тех элементов в исламском интеллектуальном наследии, которые могли позволить им в меньшей степени отставать от невиданных революционных преобразований в культуре и экономике Европы[984]. Дух, подобный духу итальянского Возрождения, широко присутствовал при дворе Мехмеда Фатиха[985] и Акбара, однако Селим I Грозный и Сулейман Кануни принимали меры для искоренения опасных мыслей в Османской империи, тогда как Аурангзеб пытался делать то же самое в Индии. Сулейман здесь настолько преуспел, что в Османской империи (да и в других мусульманских государствах) иссякли пытливый дух и стремление к новшествам, которые в XVII в. в Европе дали жизнь современной литературе и науке. Именно в этом гораздо больше, чем в утрате прибылей от посредничества в торговле пряностями, лежит главная причина неудач ислама в современную эпоху.
Такому результату в значительной мере способствовала социальная структура исламского мира. Новые идеи наталкивались на невосприимчивую почву в государствах, опиравшихся на небольшой класс чиновников и военных, стоявший гораздо выше обремененного податями крестьянства. Рабская покорность горожан в отношении чиновников и землевладельцев была постоянно характерна для общества Среднего Востока начиная со II тыс. до н. э., а Османская империя и империя Моголов самим размахом своей имперской структуры лишь закрепили такую модель общественных отношений. Только в империи Сефевидов, где распространение шиитского учения привнесло некоторый вес народного фактора в политический баланс и где остатки тюркского племенного строя служили противовесом царской бюрократии, политикам удалось создать несколько более широкую социальную базу.
В XVI в. раскол между суннитами и шиитами не отразился на основных социальных характеристиках в мире ислама. Тем не менее, побуждая султанов к более твердому принятию суннитского учения, он мог бы способствовать еще большему расширению разрыва между сельским и городским населением. Как бы то ни было, в XVII-XVIII вв. ремесленники и торговцы в Османской империи оставались открыты для различных форм религиозного иноверия, а ордена дервишей, оторванные от поддерживаемых государством образовательных заведений и от высшего мусульманского учения, все больше пропитывались духом суеверий и колдовства[986].
К такому результату привело углубление пропасти между суннитской верхушкой и простыми горожанами и мещанами, а также подавление шиитского восстания. Таким образом, в этом отношении, как и в плане политических и культурных последствий, раскол на суннитов и шиитов оказался центральным событием истории ислама в XVII-XVIII вв. По сравнению с ним противостояние с Европой носило незначительный характер.
2. УГНЕТЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ
ИНДУИСТСКАЯ ИНДИЯ И БУДДИЙСКАЯ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ. Несмотря на политический закат индуизма в XVI в., подавляющее большинство индуистов оставались верны своей древней религии и образу жизни. Завоевание страны Моголами лишь слегка затронуло простых крестьян и городских жителей, которые относились к мусульманам в своей среде как к еще одной касте. Главное звено связи правительства с населением -сборщики налогов — управлялось по большей части индуистами, поскольку только они разбирались во всех лабиринтах традиционных земельных систем и податных списков. Более того, во многих районах индуистская аристократия сохранила за собой свои владения, и, как мы видели, император Акбар даже допускал раджпутов в свои официальные высшие круги в армии и чиновничестве. Таким образом, политическое господство мусульман в Индии существенно не влияло на преемственность жизни индуистов со всей ее незапамятной древностью.
И все же переход политической власти к чужой религиозной общности способствовал обеднению высокой индуистской культуры. Так, например, строительство индуистских храмов велось за счет казны и соответственно остановилось, когда править стали мусульмане. Только на крайнем юге, где политический контроль мусульман никогда не был более чем номинальным, продолжалась некоторая архитектурная деятельность. Кроме того, высшие индуистские классы стремились приобрести внешний лоск персидской культуры своих мусульманских сюзеренов, даже если они и оставались при этом верны своей собственной религии. Наиболее ярким продуктом такого смешения культур была живопись раджпутов, так как применение персидской художественной техники при изображении индуистских божеств и героев вскоре привело к возникновению искусства, отличавшегося по стилю от своего прототипа и наделенного собственным очарованием.
Как уже указывалось, религиозный синкретизм между индуистскими и мусульманскими традициями значительно предшествовал завоеваниям Моголов. Так, сикхи, крупнейшая из сект, которые стремились примирить обе веры высшим откровением, предприняли в XVII в. интересную попытку преобразований. Их канон священных писаний был официально закрыт в 1604 г. Сразу же после этого сикхская знать вступила в конфликт с властями Моголов, а община взялась за оружие в такой мере, что когда в XVIII в. империя распалась, сикхи оказались самым сильным преемником Моголов в Пенджабе. За этот успех пришлось дорого заплатить, поскольку преобразование сикхской общины в военное государство на деле означало отказ от стремления ранних сикхских учителей ко всеобщему спасению душ. Многообразие индуистской религиозной традиции и выработанные официальные заповеди ислама не могли быть сведены к тонкой нити повиновения сикхским гуру, независимо от того, насколько впечатляюще оправдывалось их учение успехами в сражениях.
Гораздо более значительными для индуистской общины были народные верования и литературное творчество, которые не поддавались ученым определениям, но оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на своих последователей. До XVI в. обширное разнообразие местных индуистских правил существовало для большинства населения в виде простых обычаев, немногие из которых оформлялись в письменных источниках или какими-то определениями. Древнее учение брахманов, хотя и не было отброшено, мало что значило для неграмотных людей, которым санскрит был недоступен, и брахманские претензии на общественные привилегии, основанные на санскритской традиции, не всегда с легкостью воспринимались низшими кастами. Однако в XVI в. индуизм пережил процесс жизненно важного реформирования. Святые мужи и поэты не только переместили направленность народных верований, но смогли также дать литературное выражение диалектам Северной Индии и стали пользоваться такими языками для резко усилившихся религиозных проповедей. Тем самым индуизм получил мощную эмоциональную поддержку, обеспечившую ему постоянную приверженность подавляющего большинства индийцев с тех пор и поныне.
Выдающуюся роль в этом процессе сыграли три личности: святой «возрожденец» Чайтанья (ум. 1534) и индуистские поэты Тулсидас (ум. 1627) и Сурдас (ум. 1563). Творения поэтов и деятельность секты, сформировавшейся вокруг харизматической личности Чайтаньи, привели в итоге к проявлениям высоко эмоционального почитания одного, отдельно взятого божественного воплощения, хотя его выбор из множества инкарнаций, воспеваемых в традиционной индуистской мифологии, у разных адептов отличался.
Чайтанья был незаурядным человеком даже с точки зрения традиции индийских аскетов. По мере становления его личности под влиянием необычайных впечатлений от силы и славы Кришны он отошел от жизни брахмана, для которой был рожден, и стал бродячим проповедником. Легкость, с которой он входил в экстаз и достигал абсолютного отрешения чувств, выражавшегося в сильных конвульсиях и в бесконечном вознесении похвал божеству, давали его недругам основания считать его больным, однако собиравшиеся вокруг него толпы людей видели в нем человека, действительно воплощавшего в себе божество, которому он поклонялся. Бог во плоти не был обычным явлением даже для Индии, и религиозное возбуждение, охватившее последователей Чайтаньи, стирало кастовые и прочие общественные различия и внушало им острое чувство близости к божеству[987].
Поэт Тулсидас, со своей стороны, ревностно служил другому воплощению божества — Раме, и неустанно описывал его подвиги и славные деяния. И хотя он черпал материал из «Рамаяны», его поэмы были гораздо большим явлением, чем простым переводом с санскрита на хинди. Он обрабатывал и развивал отбираемые эпизоды, постоянно заботясь о подчеркивании божественного начала в прославляемом им боге-человеке. Поэмы Тулсидаса завоевали широкую популярность и играли огромную роль в духовном и религиозном воспитании последующих поколений индуистов.

Весьма схожим по характеру было творчество Сурдаса, в котором мифы о детстве Кришны, в частности истории о его юношеской любви к пастушке, были преобразованы в аллегорию любви божества к людям. Позднее Сурдас был приглашен ко двору Акбара, а его религиозные взгляды и чувства очень напоминали сплетение божественной и плотской любви, долгое время наполнявшее персидскую поэзию и мистицизм суфизма. Возможно, отчасти в силу такого чужеземного налета его влияние на религиозную восприимчивость более поздних поколений было не так ярко выражено, как влияние Тулсидаса.
Согласно индуистской традиции, и Рама, и Кришна были аватарами бога Вишну, а последователи Чайтаньи считали его еще одним воплощением этого же бога. Таким образом, сообщества, выросшие под влиянием Чайтаньи и двух великих индуистских поэтов, были почти совместимы в плане учения, так как каждое из них могло утверждать, что фактически оно поклонялось одной и той же божественной реальности, хотя и в разных проявлениях. При этом каждое сообщество, сосредоточиваясь почти исключительно на выбранной им форме божества, практически создавало отдельную секту с собственными обрядами и книгами, отодвигая на задний план другие стороны разнообразного индуистского наследия. Так, часть своих последователей потерял Шива, а тантрические заклинания и ритуалы растворялись в тепле поклонения очень человечному и в то же время высоко божественному существу, называемому Рамой, Кришной или Чайтаньи.
Ни в одной из этих сект учение и обряды брахманов не играли какой-либо роли. Тем не менее древняя санскритская традиция сохранялась и пользовалась большим уважением у всех, кроме последователей Чайтаньи, и брахманов по-прежнему приглашали на семейные торжества при рождении детей, свадьбах, похоронах и в других особых случаях. Учитывая, что сокровища санскритского учения были закрыты для подавляющего большинства населения, индуизм как практическая религиозная система стал опираться на новую литературу, созданную на диалектах, и вошел в семейные церемонии, народные процессии и другие красочные проявления религиозности[988].
Эти процессы привели к популярности индуистской веры в противовес прелестям и суровости ислама. Тепло и колорит религии, построенной на боге-человеке, с которым в моменты религиозного душевного подъема может отождествить себя бедный, ничтожный человек точно так же, как и богатый, не нуждались в поддержке формального богословия. Живой личный опыт миллионов, подпитывавшийся и, конечно же, вырабатывавшийся публичными внехрамовыми обрядами, сам утверждал себя. Ни строгость традиционного знания брахманов, ни рутина священнодействий больше не могли удерживать индуизм в своих рамках. Религиозность народа была также спасена от незамысловатых и низменных проявлений тантризма. Человек, хоть раз лично и непосредственно видевший живого бога индуизма, какие бы одежды на том ни были, становился невосприимчивым к мусульманской, христианской и любой другой религиозной пропаганде. Таким образом, индуизм избежал упадка и разрушения, настигших индийский буддизм всего пятью веками раньше.
Однако описанные преобразования не смогли укрепить индуизм за морями, и ислам вытеснил культ Шивы из Юго-Восточной Азии, за исключением лишь далекого острова Бали. Буддизм, напротив, выжил на Цейлоне (Шри-Ланке), в Бирме и в Сиаме (современный Таиланд). С древних времен на Цейлоне находилась особо почитаемая буддийская святыня, а центральная роль храма в Канди для буддизма всей Юго-Восточной Азии способствовала сохранению этой веры на Цейлоне. Еще важнее было то, что буддизм стал оплотом сингальской культурной самобытности, служившей противовесом вторгшимся на остров с Индийского субконтинента тамилам с их индуистской верой. Подобные силы способствовали сохранению буддизма в Бирме и Сиаме, поскольку народы этих стран держались за свою религию уже в силу того, что она оберегала их от мусульманских общин, окруживших их со всех сторон. Приход европейских торговцев и миссионеров привнес новый беспокоящий фактор в жизнь Бирмы и особенно Сиама. Однако после периода имперской экспансии и соперничества в XVI в. обе страны замкнулись в своих границах, ограничили контакты с иностранцами и стали стремиться с помощью политики изоляции свести до минимума давление, которое мусульмане и европейцы начали на них оказывать[989].
ХРИСТИАНЕ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ. В XVI в. на основных исламских территориях оставались лишь мелкие вкрапления сирийских и коптских христиан. Они жили крестьянским трудом в отдаленных горных районах либо занимались каким-либо ремеслом в городах и играли очень незначительную роль в османском обществе. Более обширные христианские общины сохранились в Грузии, Армении и на Балканском полуострове. Грузия удерживала политическую автономию и управлялась царями из местных династий, опасно балансировавшими между османским и персидским сюзеренитетом. До конца XVII в. румынские провинции Молдавия и Валахия часто лишь номинально находились под османским контролем. Однако анатолийские армяне, а также греки и славяне на Балканах жили в условиях прямого османского правления. Это не означало тем не менее полной утраты самостоятельности, поскольку священники греческой, сербской и армянской церквей выполняли немало обязанностей, которые в Западной Европе возлагались на правительства. Христианское духовенство разрешало споры между собратьями по религии, когда сельских обычаев оказывалось недостаточно. Священники выступали также посредниками между христианской общиной и османскими властями. Еще одним важным звеном между османскими чиновниками и подчиненным им христианским населением были откупщики, многие из которых — христиане.
В XVII в. стала быстро возрастать роль товарного сельского хозяйства. Важнейшими культурами в земледелии были хлопок, табак, пшеница и кукуруза. Традиционные способы крестьянского хозяйства, особенно в плодородных долинах восточной половины Балкан, насильственно меняли сельскохозяйственные предприниматели, заинтересованные в максимальном увеличении доходов от земли. Как правило, товарное производство сельскохозяйственных продуктов способствовало увеличению доли помещиков в общем объеме собираемого урожая в ущерб интересам крестьян[990].
Еще одной жизненно важной переменой для христианского крестьянства стало прекращение после 1638 г. практиковавшегося османскими властями угона в рабство христианских юношей, которых обучали для службы при дворе и в армии. Это означало конец своеобразной дани, часто вызывавшей возмущение крестьянских семей. Однако для османского общества в целом такое решение вылилось в гибельную потерю социальной мобильности. В результате разрыв между христианами и мусульманами, землевладельцами и крестьянами, деревней и городом в XVII в. и в последующем серьезно расширялся. Поскольку все государственные чиновники первые 12-20 лет своей жизни жили в христианских деревнях и обычно сохраняли определенные сдержанное чувство симпатии к своей прежней нации и вере[991], политика управления не могла отражать только интересы мусульманских землевладельцев и городских группировок общества. Когда же, напротив, в войска и в государственный аппарат стали набирать детей мусульман, причем отцы многих из них уже находились в числе военной и государственной верхушки, такая политика прекратилась. Крестьяне-христиане стали объектом узаконенного и беззаконного угнетения. Энергичные крестьянские юноши, которые в прежние времена могли рассчитывать на высокое положение в государстве, вынуждены были заниматься разбоем, и скрытая, сдерживаемая в нормальных условиях вражда между крестьянином-христианином и помещиком-мусульманином, не проявлявшаяся в ранний период существования Османской империи, начала разделять и ослаблять общество в целом. Возможно, эти явления в большей степени, чем другие одиночные факторы, подорвали и разрушили государственность Османов, но их последствия в XVII в. только начинали сказываться.
В XVI-XVII вв. культура христиан в Османской империи достигла нижней отметки. Церковные иерархи и немногочисленные городские торговцы, банкиры и откупщики, составлявшие верхушку христианского населения, как правило, были довольны привилегиями, предоставленными им османским строем. Часто они даже не уступали турецким феодалам и чиновникам в угнетении своих собратьев христиан. Отголоски религиозных споров, так сильно будораживших христианство на Западе в период Реформации, едва-едва доносились до христиан православных. Однако давнее народное предубеждение против латинских еретиков усиливало духовное и интеллектуальное безразличие продажных интриганов, стоявших во главе православной церкви в эпоху, когда должности открыто покупались у султана или его великого визиря. Таким образом, усилия патриарха Кирилла Лукариса, направленные на более эффективную борьбу с католицизмом путем реформирования православия на кальвинистский манер, были успешно подавлены его противниками, убедившими султана казнить его по надуманному обвинению (1638 г.). После этого иерархи греческой церкви сосредоточились на расположении к себе османских властей, с презрением отвергая все западное как ересь.
В то время как городские культурные традиции балканских христиан пребывали в состоянии такого застоя, живая крестьянская культура расцветала в горах дикого Запада полуострова, где в героических балладах описывалось поражение сербского рыцарства на Косовом Поле (1389 г.) и подвиги благородных лесных разбойников. Однако балканские христиане практически ничего не создали на более высоком уровне в литературе, искусстве или в науках. Лишь в нескольких монастырях сохранялись некоторые жалкие остатки былого византийского, сербского и болгарского великолепия в виде заброшенных библиотек и приходящих в упадок церквей[992].
ЕВРЕИ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ. XVI в. можно назвать золотым веком для евреев Османской империи. Многие из них нашли здесь убежище от преследований со стороны Испании и Португалии. Принося с собой не только капитал, но и торговые связи и дух предприимчивости, они очень быстро достигли значительного положения в экономической жизни Османской империи. Так, например, некто Иосиф Нази завоевал доверие султана и играл важную роль в финансовых и дипломатических делах османского правительства в течение более чем двух десятилетий (1553-1574 гг.)[993].
В XVII в. наметился, однако, сильный спад, поскольку закат торгового процветания Османской империи сказался на евреях более заметно, чем на других общинах. Экономические трудности, в свою очередь, стали основой для необычайного взлета Шаббатая Цви, объявившего себя в 1666 г. долгожданным Мессией, что привело в состояние неистового возбуждения евреев по всей Османской империи и за ее пределами. Результатом стала дискредитация всех евреев в глазах султана, переставшего доверять их политической лояльности. Это позволило выдвинуться на стратегические посты в османском обществе, ранее занятые преимущественно евреями, грекам и армянам. Так, например, христиане стали банкирами османского строя, предоставляя турецким пашам средства, необходимые для покупки должностей, и широко вознаграждая себя получением сложных процентов, всевозможных официальных привилегий и мест откупщиков. Греки стали также основными переводчиками и посредниками для турок в их делах с собственными христианскими подданными и с западными европейцами. Таким образом, во второй половине XVII в. основная масса еврейской общины состояла из подавленных торговцев, бедствующих ремесленников и отвергнутых толмачей. От привилегированного и прочного положения предшественников осталось совсем мало[994].
3. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
КИТАЙ. С точки зрения Пекина, «варвары южных морей» из Европы, которые с 1513 г. время от времени появлялись в портах Южного Китая и к 1557 г. основали постоянную базу в Макао, были наименьшим из зол, нарушавших покой династии Мин. Центральное правительство постепенно теряло контроль над страной, пока на смену ему не пришло в течение каких-то шести десятилетий (1621-1683 гг.) правление варваров-завоевателей, нахлынувших из маньчжурских лесов и степей на северо-востоке. Такие перемены вряд ли потрясли Китай до основания, поскольку маньчжурские завоеватели XVII в. были гораздо более окитаены перед захватом Китая, чем большинство их предшественников среди варваров. Соответственно жизнь и государственные органы в Китае оказались затронуты меньше, чем при прошлых вторжениях варваров.
Несмотря на не изменившийся в целом характер жизни Китая, новый режим на морях, возвещенный прибытием первых португальских купцов в Кантон в 1513 г., имел важные последствия для китайского общества. К концу XVII в. новые морские связи впрыснули в жизнь Китая элементы брожения, начавшие разъедать из глубины традиционную структуру. Однако эти явления сказались не сразу. Напротив, в 1700 г. Китай был по-прежнему велик и благополучен, а его древние устои, искусства и обычаи пребывали в хорошем действующем состоянии.
Переход от династии Мин к маньчжурскому правлению вполне соответствовал историческим примерам, поскольку обычные проблемы долго находящихся у власти китайских династий постепенно подорвали и династию Мин. Тяжелую и несправедливую податную систему дополняли страхи и амбиции лишившихся расположения двора чиновников, способных поднимать бунты в провинции, а военная верхушка империи, по-прежнему многочисленная и временами грозная, утратила свою сплоченность, когда ее руководители погрязли в трясине дворцовых интриг[995].
Естественно, внутренней слабостью воспользовались варвары. К давним врагам китайцев — монгольским и маньчжурским племенам на северо-востоке — прибавились японские и европейские морские пираты, при этом китайские бунтовщики часто помогали и тем, и другим. В конце XVI в. слабость Китая стала соблазном для Японии, незадолго перед тем объединившейся при военном диктаторе Хидэеси и решившей развить локальные успехи пиратов массовым вторжением на материк. После нескольких лет победных, но не получивших логического завершения военных действий в Корее смерть Хидэеси (1598 г.) вынудила японцев отступить.
Ничто подобное не мешало продвижению маньчжуров. Образовав после 1615 г. прочную конфедерацию, они начали захватывать китайские поселения в Южной Маньчжурии (1621 г.) и в 1644 г. коварством захватили Пекин: маньчжурские войска вошли в столицу как союзники «верного» императору династии Мин генерала, но отказались признавать верховенство Мин и провозгласили новую династию — Цин. Последние сторонники династии Мин продолжали бороться вплоть до 1683 г., а после того, как были повержены или принуждены сдаться, в Китай вернулись мир и порядок и была создана основа для нового периода процветания, надежности и стабильности.
Маньчжуры восстановили китайскую администрацию во всех гражданских сферах, но военное дело держали в своих руках. Лучшие регулярные части стояли по всей империи в стратегически важных пунктах. Если солдатскую службу, кроме маньчжуров, несли и монголы, и некоторые китайские подразделения, то в высшем командовании были только маньчжуры. Прилагались сознательные усилия, чтобы традиции, обмундирование и приемы маньчжурских воинов отличались от китайских, так что в течение нескольких поколений варварская сила и воинская дисциплина новых хозяев Китая позволяли им держать Тибет и Монголию в страхе, если и не всегда в полной покорности.
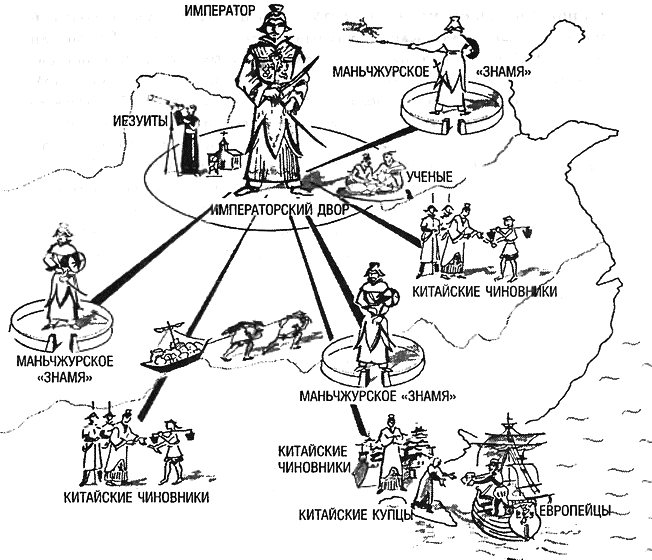
Все эти события полностью соответствовали предыдущей истории страны. Каждая новая китайская династия стремилась контролировать западные и северные пограничные земли, и все варварские завоеватели рано или поздно признавали преимущества восстановления китайской администрации в центральных районах страны. В этом можно было видеть и симптомы ослабления степных народов, когда в своей борьбе с организованной военной системой цивилизованных государств маньчжурам пришлось столкнуться с новым соперником за влияние на степных кочевников — Россией. Передовые казацкие отряды простерли щупальца Российского государства на сибирскую тайгу еще в начале XVI в., а в дальнейшем не без успеха стремились распространить свое влияние на южные степные районы Центральной и Восточной Азии. Но центры российской власти находились очень далеко, а русские войска были целиком заняты на Западе, поэтому после нескольких стычек между обеими империями они договорились (Нерчинский договор 1689 г.) о разграничении зон влияния на Дальнем Востоке в целях урегулирования караванной торговли между Сибирью и Пекином. По этому договору, Внешняя Монголия и центральные степные районы оставались ничейными. Китайские силы впоследствии продвинулись глубже в Центральную Азию, и Кяхтинским договором (1727 г.) Россия была вынуждена признать юрисдикцию Пекина над последними крупными оплотами политической власти кочевников[996]. Никогда ранее китайским династиям не удавалось столь успешно укрепить свои границы с кочевниками.
Однако точного соблюдения традиционных способов вскоре уже оказалось недостаточно для защиты китайских берегов. Японские пираты и европейская морская мощь намного превосходили все, с чем прежним китайским правительствам приходилось когда-либо сталкиваться, а морская империя, созданная вблизи южного побережья Китая пиратским главарем Коксингой[997], оказалась такой угрозой, которой традиционная военная машина не могла легко противостоять[998]. Основным принципом китайской дипломатии был все же принцип «разделяй и властвуй», и, вежливо договариваясь с назойливыми европейскими морскими купцами, и династия Мин, и маньчжуры обеспечивали нужный противовес местным пиратским силам[999].
Еще важнее для ослабления идущей с моря опасности оказалась политика японского правительства, становившаяся все более враждебной по отношению к пиратству, из-за которого уже больше ста лет слова «японец» и «пират» означали в китайских морях одно и то же. Венцом этой политики стал указ 1638 г., официально запрещавший японцам покидать их острова и строить морские суда. Тем самым был перекрыт главный источник пополнения пиратов людьми и их снабжения. После этого Китай получил возможность заняться приспособлением своих вооружений к таким нападениям, отражать которые они были неспособны в силу вековой сосредоточенности на защиту сухопутных границ от конницы кочевых народов.
Вот так, в значительной мере благодаря стечению обстоятельств (поскольку меры Японии против морского разбоя были вызваны внутренней политической ситуацией) и отчасти дипломатической хитростью, китайскому правительству удалось существенно уменьшить угрозу с моря. После 1683 г., когда внук Коксинги сдал Тайвань маньчжурам и тем самым прекратил существование последнего публичного оплота сторонников династии Мин, спорадические нападения пиратских джонок и европейских купцов-пиратов стали рассматриваться всего лишь как дела местного масштаба на южном побережье Китая. Вплоть до 1759 г. основные военные усилия Китая сосредоточивались на его западных границах, где традиционная задача по подчинению и управлению кочевыми общинами выполнялась традиционными же методами, но с более чем обычным успехом.
В отличие от монголов Чингисхана, маньчжуры абсолютно не запятнали себя контактами с какими-либо другими цивилизациями, кроме китайской. Вследствие этого, захватывая постепенно Китай, они с минимальными трудностями усваивали всю широту китайской культуры. При этом под непотревоженной поверхностью китайского государственного устройства стали проявляться медленные и практически не замечаемые изменения, вызванные к жизни европейской торговлей и открытиями. В начале XVIII в. эти нововведения достаточно легко встраивались в здание китайской цивилизации и не ослабляли, а скорее укрепляли империю. Те европейские новшества, которые с трудом вписывались в китайские традиции, просто отвергались как недостойные внимания.
Крупнейшим преобразованием, которое можно приписать завоеванию европейцами океанов, стал ввоз в Китай американских продовольственных культур. В течение XVI-XVII вв. завезенный в страну батат, отличающийся неприхотливостью к почвам и высокой урожайностью при интенсивном земледелии, позволил обрабатывать склоны холмов и другие неплодородные и непригодные для риса земли[1000]. Социальный эффект этого нововведения вместе с внедрением других, менее ценных новых культур (кукуруза, арахис, табак, «ирландский» картофель и др.) оказался аналогичным результату распространения скороспелого риса в XI-XIII вв. Появилась возможность обрабатывать новые обширные площади, особенно в Южном Китае. Это, в свою очередь, способствовало повышению веса помещиков в китайском обществе в целом, что можно расценивать как вопрос критической важности в эпоху, когда ремесленничество и торговля также заметно находились на подъеме.
Второй важной особенностью, проявившейся во второй половине XVII в., стал рост населения. Ему, несомненно, способствовали новые американские сельскохозяйственные продукты и умиротворение Китая в результате побед маньчжуров, а также, вероятно, повышение иммунитета к эпидемическим болезням. К началу XVII в. население Китая составляло около 150 млн. человек, т.е. в два с половиной раза больше, чем в начале царствования династии Мин (1368 г.). И хотя длительные политические волнения и войны XVII в. привели к сокращению населения, основные потери были восполнены к 1700 г., когда общее население Китая снова достигло примерно 150 млн.[1001]
Китайская торговля и ремесленничество в XVI-XVII вв. также расширялись. Китайский экспорт нашел для себя новые рынки в Европе и Америке (через Филиппины), а по некоторым видам товаров, например фарфоровым изделиям, было организовано своего рода массовое производство для заморских рынков. Наплыв мексиканского серебра восполнил давнюю нехватку в Китае металла для чеканки монет. Описанные процессы обогатили новых китайских торговцев и, очевидно, способствовали росту числа ремесленников, хотя и не привели к заметным изменениям в социальном статусе тех или иных групп. Пока сельское хозяйство развивалось на равных с городом, ничто не могло разрушить старый порядок подчинения торговцев и ремесленников классу помещиков и чиновников, а вся китайская традиция, политика правительства и даже самые высокие ценности, взлелеянные самими горожанами, были направлены на сохранение такой общественной иерархии.
Культурные процессы в Китае в точности отражали прочную устойчивость китайского общества в целом. Новшества, когда они мирно вписывались в существующие шаблоны мысли и чувств, воспринимались активно, независимо от того, расходились ли они с городских улиц, как это случилось с плутовской прозой, обосновавшейся в китайской литературной культуре в XVII в., или их приносили европейские варвары, как, например, очень интересные новые сведения по математике, астрономии и географии. Отдельные китайские художники экспериментировали также с европейской линейной перспективой и светотенью, а придворным очень нравились часы с боем и другие механические игрушки, розданные в качестве подарков иезуитами-миссионерами в Пекине.
Отметим, что сам по себе интерес к заграничным вещам ничего не означал. Иностранные взгляды и техника оставались не больше, чем забавными курьезами, ничуть не способными нарушить то самодовольство, с которым образованные китайцы взирали на свое культурное достояние. В конце концов, главной задачей было сохранять это высокое наследие добросовестным почитанием предков как в искусстве, так и в науках. Официальной доктриной государства оставалось неоконфуцианство, и хотя писатели серьезно расходились, толкуя учение Конфуция, все они были согласны, что основные усилия должны направляться на более тесное соответствие «классике Хань» путем очищения от буддийского и даосского наслоений. Такая робкая архаичность[1002] едва ли вела к отрыву от неоконфуцианских идеалов; она лишь отчасти ограничивала смелость ранних интерпретаций классики, сосредоточивая внимание на тщательном анализе слов и их значений[1003].
Итак, к 1700 г. торговое, военное и миссионерское давление Европы на традиционный китайский уклад успешно сдерживалось восстановленным государственным устройством Срединного царства. Интеллектуальные вызовы, приносимые новым дыханием мира, в основном пролетали мимо. Китайские политические проблемы успешно решались традиционными методами, а экономические перемены лишь укрепляли и упрочняли китайское общество.
ЯПОНИЯ. Несмотря на сохранение призрачной императорской власти, Япония в 1500 г. была разделена на многочисленные феодальные владения и то там, то тут шла гражданская война. Общины воинствующих монахов оспаривали власть самурайских родов, а под руководством буддийских сект даже простые крестьяне время от времени брались за оружие. Морской разбой, организованный владетелями прибрежных княжеств и шайками городских авантюристов, дополнял беспорядки на суше. Пиратские банды совершали опустошительные набеги в глубь территории Китая, поднимаясь даже по Янцзы до Нанкина, который был осажден ими в 1559 г., а японские корабли выходили временами в Индийский океан. В течение XVI в. все более крупные объединения самурайских родов увеличивали масштабы военных действий, а более высокое мастерство и организованность этих профессиональных воинов вскоре привели к тому, что буддийские монахи и их крестьянские ополченцы были изгнаны с полей сражений. Укрепление военной системы[1004] не прекратилось с победой самураев, поскольку к 1590 г. все военные кланы были вынуждены признать верховенство самозванного диктатора Хидэеси (ум. 1598). После временного перерыва, когда Хидэеси тщетно, но упрямо пытался с помощью пиратов полностью захватить Китай, его преемники, сегуны рода Токугава, ликвидировали единственный оставшийся оплот независимой военной силы, запретив выходить в море и строить корабли (1626-1628 гг.).
Благодаря этим мерам в Японию вернулись мир и порядок. За ними последовала вспышка экономического процветания, позволившего по иронии судьбы купечеству вернуть многое из утраченного во время войны. Лишенные в наступившей мирной эпохе своих занятий самураи бросились в расточительство и безнадежно завязли в долгах. Финансисты и купцы, со своей стороны, использовали богатство для поддержки городской культуры средних классов, отличавшейся силой и чувственностью и вольно или невольно противостоявшей суровому кодексу самураев. Таким образом, города взяли на себя ту роль, которую ранее в истории японской культуры играл императорской двор, и предложили альтернативу жизненному укладу, почитавшемуся, хотя и не всегда соблюдавшемуся, военной земельной аристократией.
Такие стремительные и резкие перемены в японском обществе вызывали сильные водовороты и противные течения, и действия правителей, сменявших друг друга в высших сферах власти, должны были учитывать развитие событий. Хидэеси, начавший свою карьеру подручным конюха и ставший в конце концом деспотичным диктатором, чьи приказы не обсуждались нигде и никем в Японии, в течение всей своей жизни проводил безудержную агрессивную политику. Основатель сегуната Токугава — Иэясу — был человеком совершенно другого склада, и его политика была куда менее грандиозной, чем политика его друга и предшественника. Его целью и целью его преемников было укрепление внутренней мощи против всевозможных врагов, а не распространение величия Японии за ее рубежами. Хидэеси пытался слить самурайские традиции с такими же кровожадными традициями морских пиратов. Иэясу предпочитал использовать свою власть над самураями, получившими из его рук право на сбор податей с крестьян, против морских пиратов и всех самовольных военных авантюристов. Таким образом, экспансионистская самоуверенность эпохи Хидэеси была сведена до забот сторонников линии внутреннего развития о сохранении их привилегированного положения перед лицом возможных соперников. Для осуществления таких преобразований потребовалось время. Только к 1639-1638 гг. осторожная политика Токугава пришла к своему логическому завершению, когда третий сегун закрыл Японию для внешнего мира и запретил японским морякам выходить из внутренних вод и строить морские корабли[1005].
Проведению такой политики изоляции способствовала деятельность христианских миссионеров. Португальские авантюристы впервые достигли Японии в 1542-м или 1543 г., а миссионерская деятельность началась с прибытием св. Франциска Ксавье в 1549 г. Успех миссионерской пропаганды объяснялся праведностью и властным характером Ксавье, мужеством, ученостью и упорством его собратьев иезуитов, а также привлекательностью христианских обрядов и учения. При этом в других районах цивилизованной Азии подобные миссии производили небольшое впечатление. Следовательно, необычный успех христианской миссии в Японии, как и последующий ее провал, надлежит приписать местным особенностям.
Успешным начинаниям первых иезуитов, прибывших в Японию, благоприятствовал политический хаос и наличие массы суверенов по всей Японии. Если какой-либо феодал отвергал попытки миссионеров, то его сосед автоматически настраивался в их пользу, тем более, когда усматривал в этом возможность получить более совершенное оружие или другие преимущества от торговли с португальцами. В отличие от Китая, в Японии сразу же оценили техническое превосходство европейского оружейного искусства, и восхищение мушкетами и пушками вскоре перешло и на другие аспекты португальской цивилизации. Так, мода на европейскую одежду сопровождалась и широким распространением моды на крещение, так что в течение нескольких десятилетий иезуиты в Японии могли поздравлять себя с казавшимся им неминуемым обращением в христианство целого народа.
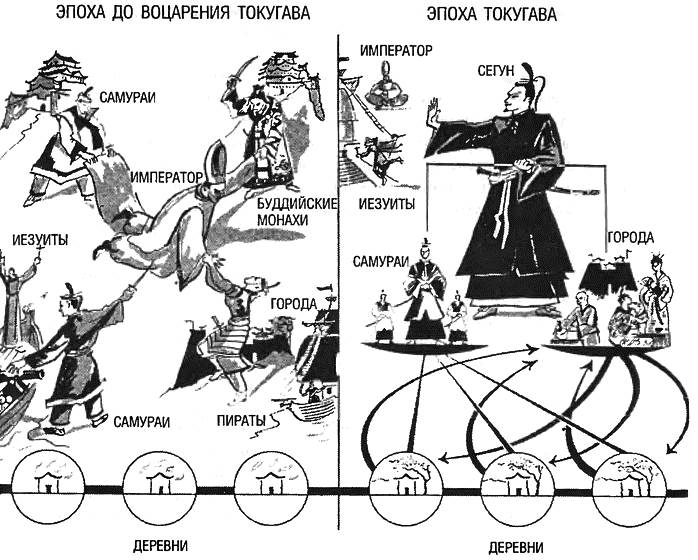
Подъем действенной центральной власти в Японии поначалу не казался опасным для христианских миссий. Начавший этот процесс Нобунага (ум. 1582) и продолживший его Хидэеси, завершивший объединение страны, были оба дружественно настроены к миссионерам, разделяя с ними ярую неприязнь к буддийским монахам, представлявшим собой огромное препятствие и для политики военных диктаторов, и для планов иезуитов. Впрочем, следует отметить, что Хидэеси принадлежал к религиозным скептикам и не доверял христианам как реальным или потенциальным агентам иностранных государств. Так, в 1587 г. он издал указ об изгнании иностранных миссионеров из Японии, но затем остерегся от введения его в силу, очевидно, потому, что не желал прекращения португальской торговли[1006].
В отличие от Хидэеси, Иэясу был практикующим буддистом, но, как и его предшественник, питал недоверие к политическим пристрастиям христианских миссионеров. К тому же появление с 1609 г. в японских водах голландцев стало дополнительным источником оружия и других западных товаров, и примирение с португальцами казалось уже необязательным. В результате начались спорадические преследования христианских общин. Большинство японских феодалов, принявших крещение, отреклись от христианской веры, а некоторые лишились своих владений. Однако представители отдельных низших слоев общества оставались непоколебимыми христианами даже перед лицом растущих преследований. Такое упорство вызвало сильные опасения третьего сегуна Токугава, усматривавшего в религиозном рвении японских христиан открытый вызов его власти. В 1637 г. вспыхнуло восстание на острове Кюсю, подтвердившее опасения сегуна и предопределившее полный разгром христианства в Японии. Больше года потребовалось войскам сегуна, чтобы захватить последний оплот христиан. Борьба сопровождалась массовыми убийствами и травлей христиан по всей Японии. Иностранных миссионеров пытали и казнили вместе с обращенными в их веру японцами, а отношения с португальцами были полностью разорваны. С этого времени торговля с другими странами была сведена к минимуму и находилась под жестким контролем, чтобы предотвратить повторение нарушения европейцами вообще и римскими католиками в частности политического порядка, созданного в Японии династией Токугава.
Высокоразвитая японская культура XVI-XVII вв. претерпела такие же резкие изменения, как и те, что сотрясали общественную арену. Крупные военачальники, объединившие Японию, в общественном плане были выскочками, мало ценившими тонкую и неброскую чувственность китаизированной традиции придворного искусства. Хидэеси был великим строителем, и возводившиеся по его приказу строения отличались огромными размерами и яркостью украшений. Однако при сегунах Токугава вновь утвердилась прежняя эстетическая сдержанность. Моральный кодекс воина — бусидо -получил письменное закрепление в официальном эдикте 1615 г., и постепенно этические каноны придали деяниям, приличествующим самураям, некоторую дополнительную элегантность. Ритуалы, наподобие чайной церемонии, в центре которых лежали использование и восхищение древней и прекрасной посудой для угощения чаем, или стилизованный театр «Но» задавали тон этой поновому оформившейся самурайской эстетике.
А кричащая вульгарность эпохи Хидэеси сохранилась в развивающихся городских центрах, где профессиональные артисты — гейши, кукольники, мимы театра «Кабуки», акробаты и другие угождали прихотям богатых горожан. Поэзия, проза, драматургия и живопись принимали новые формы, отражая роскошь и распущенные нравы растущих городов. Традиционные моральные нормы редко открыто отвергались, хотя искусство и литература отличались духом непочтительности, веселья, а порой явной сексуальности, плохо сочетавшихся со сдержанной благопристойностью старой аристократической Японии. Такие развлечения легко соблазняли самураев, отвлекая их от строго дисциплинированной жизни людей, чьим ремеслом было насилие.
Правительство сегуна с подозрением относилось ко всем этим новшествам и прилагало усилия к тому, чтобы с помощью соответствующих законов и цензуры ограничивать наиболее яркие проявления нового духа. Правительство поощряло неоконфуцианские взгляды, и немало известных ученых пытались — не без определенного успеха — популяризировать идеи Конфуция. Буддизм, политически выведенный из строя в войнах XVI-XVII вв., погрузился в культурную спячку, в то время как древняя религия богини солнца синто стала почвой для сплочения неортодоксальных ученых, отвергавших принятые официально неоконфуцианские доктрины. Но поскольку в синтоизме превозносилось положение императора как потомка богини солнца в ущерб власти сегуна, то такие мысли вполне могли бы вызвать официальный отпор. Они, однако, высказывались с такими учеными предосторожностями и так замысловато, что нужда в жестких преследованиях отпадала.
Таким образом, после изгнания европейцев и уничтожения христианства Япония вошла в период любопытной культурной двойственности. Официальный мир бусидо, неоконфуцианства и китаизированных стилей в искусстве столкнулся с новой, нерелигиозной, городской культурой, несдерживаемая чувственность и стихийная сила которой отчетливо противостояли официально поддерживаемой благопристойности и сдержанности. Столь явные различия не помешали хитросплетенному балансу японского общества и культуры, установившемуся при первых сегунах Токугава, сохраняться на протяжении более трех столетий.
ТИБЕТ, МОНГОЛИЯ, СРЕДНЯЯ АЗИЯ. В период, когда Япония продолжала свой независимый путь развития по соседству с континентальным Китаем, происходили также интересные и в исключительной степени неясные преобразования в тибетском и монгольском обществе. Центральным явлением стало расширение ламаистской «желтой церкви» среди практически всех монгольских племен. «Желтая церковь» возникла в XIV в. и отличалась требованием безбрачия и строгой дисциплиной монахов. В начале XVI в. «желтая церковь» подчинила себе тибетское правительство, когда ее глава -Далай-лама из Лхасы стал своего рода управляющим царского дворца и взял на себя политическую и религиозную власть в крае.
К концу XVI в. многие монгольские племена начали признавать власть «желтой церкви», а к началу XVII в. большинство их было обращено в ее веру. Китайское правительство пыталось установить дипломатическое влияние на высших пастырей этой церкви, однако точные сведения о том, насколько успешными были эти попытки, отсутствуют. Так, например, религиозная верхушка ламаистов, очевидно, приложила руку к укреплению внушительной конфедерации калмыков, которая из своего центра на реке Или противостояла самым смелым военным предприятиям китайского правительства вплоть до 1757 г., когда эпидемия оспы довершила начатое китайскими войсками и поставила точку на политическом существовании упорных кочевников. После этого Тибет отказался от существовавшей в предыдущие десятилетия двусмысленности в своих отношениях с более сильным соседом и покорился Китаю.
Какой бы ни была роль ламаизма в кочевых объединениях XVI-XVII вв., религия, как представляется, послужила для защиты степных наездников от духовного владычества их более цивилизованных соседей даже в эпоху, когда развитие военной техники лишало азиатских кочевников привычного для них значения в мировой истории[1007].
4. АФРИКА
До начала XVI в. Африка к югу от Сахары была знакома с цивилизованным миром только благодаря посредничеству мусульман, поскольку изолированные христианские государства Эфиопии и Нубии были едва способны противостоять давлению мусульман на собственные границы и не могли соперничать с исламом в плане влияния на всю Африку. Ситуация изменилась, когда португальцы обогнули мыс Доброй Надежды и наладили торговлю и основали морские стоянки в удобных местах на побережье Африки. В результате народы Африки оказались зажаты между европейским и исламским миром и в отдельных случаях могли выбирать тот или иной из них. И мусульмане, и христиане активно занимались работорговлей, так что не раз их хищнические повадки сводили на нет усилия миссионеров в африканских племенах и царствах. Таким образом, язычество сохранялось, а порой и возрождалось и после официального обращения в христианство или в ислам.
Вплоть до XVIII в. проникновение европейцев в Африку носило очень поверхностный характер. В Западной Африке, где установился ислам и веками существовали мириады сменяющих друг друга местных государств и империй, европейцы просто занимали некоторые прибрежные стоянки, с которых могли заниматься работорговлей. Попав дальше на юг, португальцы открыли обширные по своей территории царства, расположенные в бассейне реки Конго или между реками Замбези и Лимпопо в Восточной Африке. Однако эти государства были сравнительно слабыми, и даже обращение их правителей в христианство привело к незначительным результатам.
Как бы то ни было, и королевство Конго, и империя Мономатапа в Восточной Африке развалились или практически утратили свое значение в течение XVII в., несмотря на поддержку португальцев (а может быть, и по ее причине).
В XVI-XVII вв. Африка претерпела два важных вида экономических перемен. Во-первых, во многих частях континента стали развиваться животноводство и кочевой образ жизни, чего там до тех пор не было либо же оно существовало в незначительных масштабах. Двигаясь через северные районы Судана, от восточной окраины Африки к Марокканскому побережью, кочевые племена расширяли свою среду обитания порой за счет оседлых сельскохозяйственных общин. Кочевники были мусульманами, хотя и откровенно примитивного уровня, но их движение означало проникновение ислама все глубже в Африку. Вдобавок к этому языческие племена народности банту перемещались со своими стадами скота на юг через восточные нагорья Африки по направлению к мысу Доброй Надежды. Их продвижение вынуждало первобытные охотничьи племена бушменов и готтентотов искать себе надежные убежища и в отличие от нашествия кочевников на севере обеспечивало заметные преимущества в техническом уровне использования окружающей среды.
Во-вторых, в Африку было завезено немало сельскохозяйственных культур, скорее всего теми кораблями, которые поставляли в Новый Свет рабов. Кукуруза, маниока, батат, арахис, кабачки и какао быстро заняли ведущее место в африканском сельском хозяйстве, а первые три из названных видов стали стремительно распространяться по широким просторам континента. Очевидно, быстрому освоению этих новых продуктов способствовали сходство климата Африки и Центральной и Южной Америки и непостоянный характер «огородного» сельского хозяйства, преобладавшего в Африке, поскольку экспериментам с новыми растениями не препятствовали твердый севооборот или устоявшиеся сельскохозяйственные правила.
Появление обширных территориальных государств в Центральной и Восточной Африке, выход скотоводов, кочевников и полукочевников на широкие просторы континента, освоение американских продовольственных культур означали тесное соединение Африки с остальным миром. Важным связующим звеном была работорговля, принявшая гораздо большие размеры, когда запасы рабочей силы американских индейцев для плантаций и рудников были истощены и пришлось заменять ее африканскими рабами. И мусульманские, и европейские работорговцы действовали в глубине континента, грубо вламываясь в вековой уклад сельских и племенных общин и захватывая сотни тысяч беспомощных жертв. Их действия были жестоки, однако без такого безжалостного насилия африканские общества не смогли бы так быстро воспрянуть от своего первобытного сна. Возможно, способность африканских народов выдержать влияние европейского политического и экономического господства в XIX в. объясняется тем, что их предки уже испытали на себе и пережили грубое разрушение работорговцами их коренных социальных устоев[1008].
Д. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В XVI-XVIII вв. евразийский мир расширился, вобрав в себя отдельные части Америки, большую часть Африки к югу от Сахары и всю Северную Азию. Более того, в самом Старом Свете Западная Европа начала опережать всех соперников, взяв на себя роль самого активного центра географической экспансии и культурного обновления. Бесспорно, революционное самопреобразование Европы превратило средневековые рамки западной цивилизации в новую и гораздо более мощную структуру общества. Следует заметить, что мусульманские, индийские и китайские земли не были серьезно затронуты воздействием новой энергии, исходившей от Европы. Вплоть до начала XVIII в. жизнь в этих районах продолжала вращаться вокруг старых традиций и привычных проблем.
Большая часть остального мира, которой не хватало общей самодостаточности мусульманской, индуистской и китайской цивилизаций, более остро ощутила на себе соприкосновение с европейцами. В Новом Свете такими контактами были сначала обезглавлены, а затем уничтожены общества американских индейцев, однако в других районах с более сильными местной властью и сопротивлением проявлялась на удивление стойкая реакция. В столь различных странах, как Япония, Бирма, Сиам, Россия и некоторые части Африки, первоначальный интерес и энтузиазм, с которым порой воспринимались европейская техника, идеи, религия или мода на платье, в XVII в. сменились политикой отдаления и сознательной изоляцией от европейского влияния. Аналогичным духом были проникнуты возрождение индуизма в Индии и реформа ламаизма в Тибете и Монголии, поскольку и в том, и в другом случае речь шла о том, чтобы защитить местные культурные ценности от чужеземного влияния, хотя оно шло в первую очередь от мусульман и Китая, а не от Европы.
Незначительное число областей на планете оставались незатронутыми беспокойными силами цивилизации. Но к началу XVIII в. к обширным обитаемым районам, остававшимся за пределами ойкумены, относились Австралия, джунгли Амазонки и северо-западная часть Северной Америки, хотя и они уже почувствовали толчки общественных потрясений, вызванные приближающимся натиском цивилизации.
Никогда раньше в истории мира общественные преобразования не происходили настолько быстро. Все более плотные контакты через океанские просторы земного шара обеспечивали постоянное взаимовлияние основных культур человечества. Попытки ограничить общение с чужеземцами и уберечься от нарушающих покой отношений с пришельцами, особенно с беспокойными и беспощадными представителями Запада, были обречены на провал тем обстоятельством, что продолжающееся преобразование западной европейской цивилизации и, в частности, развитие западной техники быстро усилили давление, которое Запад мог оказывать на другие народы земли. Историю мира с XVI в. можно рассматривать как гонку между растущей способностью Запада подчинять себе остальной мир и все более отчаянными усилиями других народов отбиться от Запада, цепляясь сильнее, чем раньше, за собственное культурное наследие, либо же, когда такие попытки не приводили к успеху, путем заимствования некоторых аспектов западной цивилизации, особенно техники, в надежде найти тем самым способ сохранить свою самостоятельность.
ГЛАВА XII.
Шаткое мировое равновесие в 1700-1850 гг.
А. ВВЕДЕНИЕ
К 1700 г. богатство и мощь, сосредоточенные в руках Европы, намного превышали все, чем могли располагать другие цивилизованные сообщества на земле, а европейское общество достигло своего рода равновесия, основанного на усилении и расширении предпринимательства как на своей территории, так и за ее рубежами. Наибольшее пространство для европейской экспансии предлагал Новый Свет, хотя от внимания европейцев не ускользала полностью ни одна часть обитаемой земли. С 1700-го по 1850 г. такие обширные районы, как Северная Азия, Австралия, Южная Африка, Индия и Левант, превратились в той или иной степени в сателлиты европейской политико-экономической системы. Только на Дальнем Востоке крупные цивилизованные сообщества сохраняли полную самостоятельность, но даже там Китай и Япония начинали вступать в полосу внутренних кризисов, готовивших почву для окончательного распада традиционного общественного порядка, совершившегося на Дальнем Востоке в начале второй половины XIX в.
Тысячелетнее равновесие ойкумены между цивилизациями Среднего Востока, Индии, Китая и Европы окончательно нарушилось только к середине XIX в. К этому времени, когда возросшая в результате промышленной революции мощь Запада соединилась с прежней энергией европейской экспансии, правители других народов и цивилизаций на земле стали чувствовать, что в их собственном прошлом отсутствовали некие крайне важные факторы. До этого времени, однако, мусульмане и индуисты могли думать и за редким исключением верили, что ценные традиции их цивилизаций могут быть сохранены в неприкосновенности даже перед лицом очевидного военного и экономического превосходства Европы. На Дальнем же Востоке вопрос о том, как реагировать на присутствие Запада, еще не стоял достаточно остро. Политика удерживания европейцев на почтительном расстоянии казалась вполне эффективной, и Китай и Япония не считали необходимым менять унаследованный уклад и традиции с тем, чтобы справиться с Западом. Период 1700-1850 гг. служит, таким образом, промежуточным этапом в подъеме Запада, когда европейцы стали властвовать над материальным, но еще не добились большого влияния на умы подавляющей части населения земного шара.
Этот этап мировой истории частично совпал с промышленными и демократическими[1009] революциями в истории самой Европы. Два этих революционных движения резко разладили компромиссы Старого режима Европы, приведя к судорожному процессу самопреобразования западной цивилизации, напоминавшему происшедший ранее распад средневековых европейских институтов и идей в ходе Возрождения и Реформации. Несомненно, и промышленная, и демократическая революция начали выливаться в глубокие изменения в западном обществе еще до середины XIX в., а растущее богатство и сила, которыми они наделяли человека европейской культуры, уже начинали сказываться и на остальной части мира. И все же эти процессы пока еще относительно слабо очерчивали будущее, и вплоть до второй половины XIX в. европейское влияние на остальные народы планеты в значительной степени опиралось на достижения Старого режима. Железные дороги и прочие устройства новой техники на механической тяге стали выражаться в преобразованиях даже европейского общества только с середины XIX в., а новые идеи политической лояльности и ответственности, провозглашенные в 1776-м и 1789 г. в ходе Американской и Французской революций, проникали в незападный мир еще более медленно.
Учитывая сказанное, в настоящей главе, как и в предыдущей, Европа и лежащие за ее пределами части света будут рассматриваться в хронологическом промежутке, отличном от остального содержания главы. После описания распространения обществ европейского типа на новую почву и анализа европейского Старого режима (1650-1789 гг.) мы перейдем к исследованию влияния европейского Старого режима на мусульманскую, индуистскую и дальневосточную цивилизации (1700-1850 гг.).
Б. СТАРЫЙ РЕЖИМ В ЕВРОПЕ, 1650-1789 ГГ.
Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну (1648 г.), а также такие его следствия, как Пиренейский мир между Францией и Испанией (1659 г.) и реставрация монархии Стюартов в Англии (1660 г.), знаменовали собой новую эру в истории Европы. К концу XVII в. религия стала более личным делом, а искусство управления государством начало поворачиваться в сторону более неприкрытой, но также и более сдержанной борьбы за богатство и власть. С помощью серии молчаливых компромиссов смягчались или скрывались прежние принципиальные конфликты, а новые или вновь укрепленные институты уравновешивали, разрешали или подавляли столкновения интересов, сохранявшиеся еще в довольно сильной форме в европейских государствах.
Такая изменившаяся атмосфера стала победой здравого смысла и духовного кризиса перед лицом неподатливого разнообразия и противоречий европейского культурного пейзажа. В свою очередь, смягчить усилия, направляемые на открытие, а затем и на воцарение «совершенно правильного» учения, помогла — возможно, решающим образом — способность европейцев обратить свою неутомимую энергию на окружающий их мир. На востоке и на западе, на суше и на море границы были открыты. Отовсюду предприимчивых людей манили огромные богатства, которыми можно завладеть, территории, которые можно заселить, авантюры, в которые можно пускаться. Таким образом, у Европы в руках был готовый к действию «выпускной клапан». Мятежные души часто могли вырваться из плена стоячей жизни, уходя подальше от родных мест, а растущая кривая благосостояния означала, что сомнения, связанные с колебаниями рынка, были терпимы, если не удобны,, для тех, кто оставался дома.
В таких обстоятельствах поиски абсолютной истины, отмеченные размахом и страстями в XVI — начале XVII вв., перестали тревожить общественный покой и тоже стали заботой профессиональных интеллектуалов. Различия в подходах и акцентах между богословами и учеными надлежащим образом урегулировались не с помощью всеобъемлющей логической систематизации, а путем предоставления каждой специальности надежной институциональной ниши в обществе и обеспечения гражданам возможности более или менее свободно обсуждать разногласия между собой. Господствующая церковь, официально осуждающая ереси, существовала в каждом европейском государстве, а официальная цензура на публикации фактически сохранялась даже во Франции. При этом закон и реалии жизни все больше расходились, несмотря на вспышки религиозных преследований, как это было, например, при отмене Людовиком XIV Нантского эдикта (1685 г.).
Подобного же рода нелогичные, но действенные компромиссы между монархией, аристократией, купеческим сословием и простым людом превращались в достаточно стабильные политические институты во всех государствах Европы, тогда как в хозяйственной жизни новаторская, захватывающая, рационализующая деятельность капиталистов и компаний, созданных на основе государственных концессий, проникала в старые формы цеховой организации, не вызывая резкого противодействия. Таким образом, беспорядочная алогичность Старого режима, столь высмеиваемая новым поколением рационалистов и социальных теоретиков, оказывалась тем не менее востребованной, доказывая свою жизнеспособность и высокую эффективность как общественная система.
Наиболее очевидной мерой эффективности Старого режима были его успехи в отношении неевропейского мира. Учитывая, что европейские институты и идеи тяготели к балансу сил, правительства меньше отвлекались на внутренние дела, а те из них, которые располагались на краю Европы, получали соответственно более широкую свободу для приграничной и колониальной экспансии. Тем самым высвобождались силы для новых форм хозяйственного и военного устройства, развивавшихся европейцами в XVI -начале XVII вв., в частности акционерных компаний, регулярной армии и флота. С такими институтами европейцы все глубже проникали в ткани более слабых обществ почти во всех частях земного шара.
Экспансия благоприятствовала, а возможно, даже поддерживала относительную стабильность в Европе, и эта стабильность усиливала натиск Европы за ее пределами. В результате этого кругового процесса к концу XVIII в. Европа превратилась в гигантское общество, оседлавшее Атлантику, достигшее далеких пределов евразийских степей и добравшееся до противоположной стороны земного шара. Такая разросшаяся Европа стала центром обширной политико-экономической мощной системы, захватившей большую часть мусульманского и индуистского мира и окружившей края самой дальневосточной цитадели. Одним словом, Европа стала Западом.
Единственным подобным событием в истории мира был расцвет космополитической цивилизации на Среднем Востоке в 1500-500 гг. до н. э. Тогда тоже серия ударов из Месопотамии вовне бросила в огромный котел независимые ранее цивилизации и культуры. Египет, Анатолия, Иран вместе с окраинами греческого и индийского мира утратили свою самостоятельность и слились в пучине месопотамского космополитизма. Отметим все же, что приведенная аналогия не совсем справедлива. Европейская экспансия совершалась не действовавшими друг за другом имперскими завоевателями, а шла разными путями из политически разделенного центра. Тот факт, что Европа двинулась в районы с неустоявшимся укладом и слабой внутренней организацией, позволил приступить к массовой миграции и заселению с включением обширных и часто отдаленных зон в расширенное «западное» целое. Параллелью этого процесса в миниатюре может служить колонизация греками и финикийцами древнего Средиземноморья. Хотя и в данном случае, если не считать Сицилии, господство финикийцев и греков над коренным населением никогда не было настолько подавляющим, чтобы привести к уничтожению уже существовавшего общества. Европейская же колонизация, напротив, часто вела именно к такому результату, возможно, в большей степени из-за смертоносного действия незнакомых болезней на местное население, чем в силу сознательной политики.
Исходя из соображений ясности кажется предпочтительным последовательно рассмотреть: 1) европейскую экспансию на новые территории; 2) усиление европейского влияния в зоне Америки и России; 3) состояние Старого режима на его родине. Предложенное деление является, разумеется, искусственным. Не следует упускать из виду тесную взаимосвязь между экспансией за пределами того или иного государства и хрупким равновесием в центре.
1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Разнообразные аспекты европейской экспансии в XVII-XVIII вв. можно свести, не прибегая к излишне резкой схематизации, к трем видам использования земель и народов, с которыми европейцы вступали в контакт. В соответствии с первым и важнейшим из них европейцы продолжали проникать в районы, где уже имеющиеся местные продукты и изделия представляли ценность для европейских или других цивилизованных рынков. В 1650-1789 гг. важнейшими из таких товаров были меха из холодных северных районов Азии и Америки, а также золото и алмазы из бразильских джунглей. Во-вторых, в некоторых тропических и субтропических зонах, в частности в Вест-Индии и Ост-Индии, европейцы перестраивали местную экономику для производства товаров, пользовавшихся спросом на мировом рынке. Это предполагало грубое нарушение существующих общественных отношений, поскольку европейское предпринимательство основывалось на рабстве и других формах принудительного труда, а иногда приводило к массовому перемещению населения. В-третьих, в странах с умеренным климатом, прежде всего в Северной и Южной Америке и в западных районах евразийской степи, европейские поселения превращались из стихийных времянок в подлинные проводники европейского типа общества, даже если их и отделяли от Европы тысячи миль.
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ТОРГОВЛЯ И СОПЕРНИЧЕСТВО НАЦИЙ. В середине XVII в. океанские экспедиции почти прекратились, несмотря на то что оставались неисследованными просторы Тихого океана. К этому времени сначала испанцы и португальцы, а затем голландцы уже разведали самые богатые и с коммерческой точки зрения наиболее выгодные части земли. Экспедиции вдоль берегов Северной Америки или в направлении Австралии позволили открыть лишь бесперспективные и неразвитые районы, где нельзя было рассчитывать на прибыльную торговлю. Таким образом, корабли можно было использовать с большей отдачей на уже установившихся торговых путях, а не пускаться в рискованные, полные случайностей, невыгодные путешествия по не нанесенным на карту маршрутам. Отсутствие способов точного определения долготы означало, что даже когда судно сбивалось с курса и подходило к новым землям, как это, конечно же, случалось гораздо чаще, чем о том свидетельствуют дошедшие до нас записи, то надежной возможности повторить выход к такому берегу не существовало. Поскольку долгие плавания оканчивались для экипажа цингой в силу нехватки витаминов в корабельном рационе, экспедиции по большим морским просторам вроде Тихого океана были очень опасны, и оправдать их могла только уверенность в большой выгоде от торговли.
На суше тем временем охота за мехами быстро продвигала все дальше и дальше русские, французские, а после создания в 1670 г. компании Гудзонова залива и британские фактории. Со своих баз в Квебеке французы вышли в район Великих озер, а затем двинулись на запад от Верхнего озера внутрь Североамериканского континента (Радисон и Грозелье, 1658-1659 гг.) и на юг по Миссисипи (Ла Саль, 1679-1683 гг.). Британцы, еще не освоившие способы передвижения и выживания в суровых районах Северной Арктики, довольствовались поначалу тем, что держались поближе к Гудзонову заливу. Что касается России, то ее экспансия характеризовалась даже более поразительными темпами, чем французская. Выйдя в 1639 г. к Тихому океану в районе Охотска, последующие российские экспедиции спустились по Амуру до самого его устья (1649-1653 гг.) и по Колыме до Арктики, обогнув Сибирь через Камчатку (1648-1656 гг.)[1010]. Вслед за этим наступил явный перерыв в разведке новых земель, ибо горстке искателей приключений, сделавших такие шаги в неизведанное, требовалось время, чтобы организовать сбор пушнины и преодолеть невероятные трудности с перевозкой мехов к рынкам сбыта.
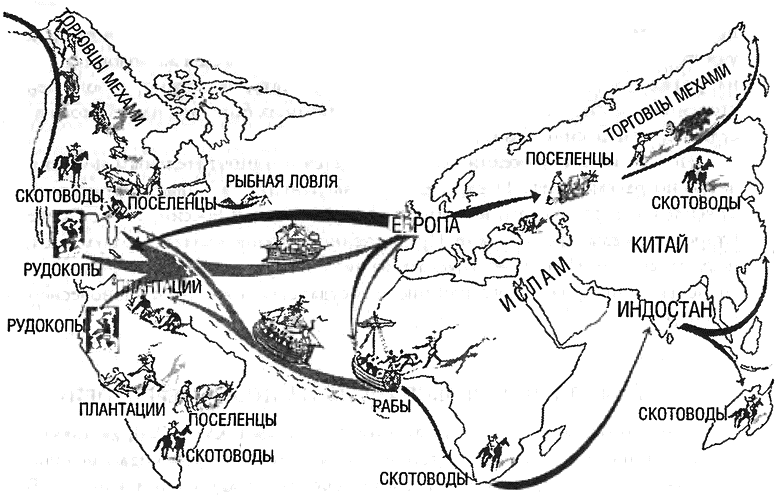 ЭКСПАНСИЯ ЕВРОПЫ в 1500 – 1850 гг.
ЭКСПАНСИЯ ЕВРОПЫ в 1500 – 1850 гг.
Относительно быстрому проникновению в глубь Бразилии в XVII-XVIII вв. способствовала погоня не за мехами, а за золотом. Первоначально отряды метисов шли в джунгли в поисках рабов, однако открытие месторождений золота и алмазов на континенте (1695 г.) привело к «золотой лихорадке» в джунглях Амазонки. В результате Бразилия в XVIII в. стала одной из первых стран в мире по добыче золота, и группы золотоискателей в стремлении найти новые жилы пересекали страну вплоть до Анд, устраивая небольшие поселения вдоль многочисленных притоков Амазонки, даже в тех местах, где золота не было[1011].
В конце XVIII в. успехи мореплавания в сочетании с соперничеством главных европейских держав дали толчок новой волне освоения территорий. Исследование новых земель стало частью государственной политики, а не делом отдельных флибустьеров или местной самодеятельностью, как это было ранее. Официальные агенты российского, британского и французского правительств, поддерживаемые силами своих флотов и движимые отчасти научным интересом, а отчасти стремлением взять под свой суверенитет новые территории, возобновили морские экспедиции. Первым из таких официальных исследователей стал капитан российского флота Витус Беринг (1728 г., 1741 г.), а самыми успешными и дальними оказались плавания капитана британского флота Джеймса Кука (1768-1779 гг.). Экспедиции Кука принесли два значительных технических достижения. Он победил цингу, введя в рацион матросов кислую капусту[1012], а во втором плавании он испытал первый образец морского хронометра, оказавшегося достаточно прочным и надежным, чтобы обеспечить точный расчет долготы. Таким образом, составленные Куком карты береговой линии и островов северной и южной частей Тихого океана были гораздо надежнее карт его предшественников, что позволило европейским мореплавателям отправляться даже на мельчайшие острова южных морей.
В подобной мере в конце XVIII в. соперничество между государствами стимулировало и освоение суши. Русские торговцы пушниной не замедлили воспользоваться открытиями Беринга на Аляске, основав фактории сначала на Алеутских островах, а затем и на континенте. Прослышав о продвижении русских, торговцы пушниной, базировавшиеся в Монреале, бросились в свою очередь на новые земли и заявили права на дальние районы Северо-Западной Канады (экспедиция Александера Макензи в Арктику в 1789 г.). По той же причине испанцы продвинули свою линию поселений к северу от Мексики вдоль Тихоокеанского побережья в Калифорнию (основание Сан-Франциско в 1775 г.) и в Британскую Колумбию (основание Нутки в 1789 г.). Таким образом, к концу XVIII в. русские торговцы пушниной и исследователи, двигавшиеся на восток, встретились с британскими торговцами (занявшими место французов в Канаде после 1763 г.) на линии канадских Скалистых гор. Они замкнули арктический пояс и ввели тундру и лесистые районы приполярных земель в русло цивилизованной торговли. В этот же период русские и испанцы сделали то же по всему Тихоокеанскому побережью Америки.
Итак, к началу XIX в., когда организованные экспедиции, снаряженные европейскими флотами, исследовали в основном Мировой океан за исключением покрытых льдами полярных зон, только внутренние районы Африки и Австралии оставались терра инкогнита для европейцев. А на всем громадном пространстве остального, уже изведанного, мира европейские купцы и мореходы повсюду несли гибель коренным обществам посредством болезней и благ цивилизации.
ПЛАНТАЦИИ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. Сколь бы резким ни было влияние европейцев на охотников Арктики, на рыболовов и земледельцев Океании, оно в определенном смысле было случайным. Пришельцев интересовала только пушнина, либо же им нужно было пополнить запасы и экипажи после тягот океанского плавания, и они не намеревались переделывать хозяйственный уклад и культуру местного населения.
Иначе обстояло дело в других частях света. В Ост-Индии (Индонезии) голландцы, очевидно, первыми использовали местную рабочую силу для ведения рационального сельского хозяйства, выращивая продукты специально для заокеанских рынков и периодически регулируя объемы производства для извлечения максимальных прибылей[1013]. Однако коммерческое разведение пряностей уже издавна практиковалось в Ост-Индии к тому времени, когда голландцы впервые появились на арене, и их действия по монополизации и рационализации торговли не влекли коренного разрыва с устоявшимся укладом. В Новом Свете, наоборот, колониальное сельское хозяйство не могло опираться на имеющуюся рабочую силу или знания. Португальские сахарозаводчики, перебравшиеся с островов Мадейры[1014] в Бразилию, завезли первый тростник в Америку около 1520 г., и эта культура прижилась настолько хорошо, что испанцы вскоре последовали этому примеру в некоторых прибрежных зонах Карибского бассейна. Однако первые успехи этой деятельности были оставлены далеко позади во второй половине XVIII в. быстрым развитием плантаций сахарного тростника на Карибских островах, где сначала англичане, а затем французы и наконец голландцы внедрили строго рациональную коммерческую систему сельского хозяйства на основе рабского труда.
Развитие производства сахара на островах Карибского моря способствовало чрезвычайно выгодной трансатлантической торговле, так как корабли могли везти из Европы дешевые ткани и другие промышленные товары к побережью Африки, где их обменивали на рабов, которых с немалой прибылью сбывали на Карибах или на континенте, а затем возвращались с грузом американского сахара и рома для продажи в Европе. В этом торговом треугольнике ост-индский длинноволокнистый хлопок и индиго оказались менее ценными, но все же важными товарами. Более того, треска с Ньюфаундленда, древесина и зерно из Новой Англии и колоний Средней Атлантики нашли крупные рынки сбыта на островах Карибского бассейна, где сельское хозяйство стало вскоре настолько специализированным, что основные сельскохозяйственные культуры были заброшены. Таким образом, оба конца Атлантики оказались связаны активной торговлей, сконцентрированной вокруг крошечных Подветренных и Наветренных островов в Карибском море[1015].
Менее прибыльные, но все же крупные плантации, на которых использовался рабский труд негров, устраивали в южных английских колониях на Американском континенте и вдоль Бразильского побережья. На другом конце света, в Ост-Индии, уже с самого начала XVIII в. голландцы придавали все большее значение сельскому хозяйству как дополнительному фактору их успехов в торговле. Основой сельского хозяйства становились новые продукты и прежде всего кофе. Хозяйство вели отдельные голландские плантаторы, в некоторых случаях приезжие китайские предприниматели, но в большинстве случаев — местные феодалы, от которых требовалось поставлять определенное количество кофе или других продуктов голландцам в качестве своеобразной дани. Труд в Ост-Индии, как правило, формально не был рабским, но местные «регенты» на Яве тем не менее часто прибегали к силе, чтобы заставить своих подданных выращивать кофейные деревья и другие, новые для них культуры[1016].
РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Оседая в различных частях света, европейцы становились причиной целого ряда изменений общественных структур в землях, где они устраивали свои поселения. Жесткое рабство на сахарных плантациях Вест-Индии и примитивное равноправие на границах Новой Англии представляют собой крайние проявления спектра, в котором можно различить многие другие промежуточные общественные формы. Безжалостное рабство на Барбадосе переходит в менее жесткие условия неволи на испанских и португальских плантациях в Центральной Америке и Бразилии. Крепостничество в Восточной Европе и эксплуатация индейцев в испанской Америке представляли собой более мягкую форму принуждения, по крайней мере официально, если не на деле, и в данном случае политика Испании вновь оказывалась мягче, коль скоро сила правительственных мер оставалась на стороне прав индейцев. Наем рабочих на несколько лет по договору (распространенная в старой Вирджинии практика) и высылка преступников в Австралию или Сибирь занимают место посередине в этом спектре. И наконец, свободный поселенец колонии, пожалованной кому-либо Британией, плативший откуп аристократу-землевладельцу, и мелкий фермер Новой Англии, владеющий землей согласно безусловному праву собственности, пользовались личной свободой, уступавшей только полной вольнице таких разных людей, как американские пионеры Запада, сибирские и канадские охотники за пушниной, бразильские бандьерос, гаучо в аргентинской пампе, украинские казаки или испанские морские пираты.
На любой расширяющейся территории главная проблема всегда — нехватка рабочей силы. Для ее разрешения применяют диаметрально противоположные методы: радикальное принуждение для поддержания социального расслоения или же не менее радикальная свобода, ведущая к откату в новое варварство с его равноправием. У каждой политики есть свои преимущества и свои недостатки. Жесткое насилие может применяться для того, чтобы поддерживать специалистов, необходимых обществу, если оно вообще хочет существовать. Так, без беспощадных хозяйственных предпринимателей не могли бы создаваться плантации, а без профессионального класса военных нельзя было бы защитить сельскохозяйственные поселения в западных частях евразийских степей. К тому же высшие классы, держащиеся на принудительном труде, могут быстро достичь сравнительно высокого уровня культуры и придать обществу в целом внешний лоск изысканности, которого нельзя добиться другим путем. Такие достижения легко преуменьшать в эпоху демократии, когда люди готовы больше сочувствовать рабам или крепостным, чем симпатизировать их хозяевам. Но подъем цивилизации происходит прежде всего через эксплуатацию труда одной группы населения другой, и за счет подобного процесса цивилизованные общества могли неоднократно переходить через сдерживающие географические барьеры, как это было в давние времена в хеттской Малой Азии и римской Галлии или в более позднее время в испанской Америке или в российской Украине. При этом всегда сохраняются отрицательные стороны такого насильственного распространения цивилизации, ибо культура, исключающая из сферы своего действия большинство населения, будет обязательно непрочной.
По-видимому, нам гораздо симпатичнее второй элемент названной альтернативы: глубокий эгалитаризм. Хотя следует иметь в виду, что грубое насилие таких сообществ, направленное против беспомощных коренных жителей и выливающееся в пьяные драки между самими пионерами, означало также опускание прежде цивилизованного населения до состояния варварства. Несмотря на то что европейские переселенцы были вооружены ружьями, изготовленными на цивилизованных заводах, они не обременяли себя законными и культурными ограничениями цивилизованного общества. Точнее говоря, цивилизованная жизнь постепенно приходила вслед за грубыми пионерами через социальную дифференциацию, образование и технический прогресс. Более того, этот процесс происходил, без сомнения, быстрее и равномернее, чем культурное просачивание просвещенной аристократии. В этом заключается фактическое превосходство анархической окраинной свободы над ее альтернативой в виде массового принуждения. Однако в XVII-XVIII вв. преимущества погружения в анархию оставались почти целиком потенциальными, тогда как текущие успехи принуждения были очевидны и неоспоримы. Несомненно, утонченная изысканность аристократической Вирджинии, Новой Испании, Венгрии и России, основанная на принудительном труде, намного перевешивала скромные зачатки цивилизации в районах, расположенных вдоль морского побережья Новой Англии.
При этом Новая Англия и колонии Среднеатлантического побережья Северной Америки компенсировали свою культурную отсталость сравнительно большим числом европейских (или скорее бывших европейских) поселенцев. Ни в каком другом конце света больше не возникало таких обширных и компактных сельскохозяйственных общин. Тем не менее в XVIII в. был отмечен существенный рост испанского населения в районе Ла-Платы в Аргентине, а в Южной Бразилии португальские переселенцы завладели громадными территориями. И в той, и в другой зоне над традиционным сельским хозяйством преобладали скотоводческие ранчо, так что поселения оставались сравнительно незначительными. В Канаде французские фермеры держались берегов залива Святого Лаврентия, а лежащие в лесной глуши районы начали осваивать лишь к концу XVIII в. по большей части силами тори, сторонников британской короны, бежавших от Американской революции. В Южной Африке голландские колонисты высадились у мыса Доброй Надежды в 1652 г. Когда британцы захватили эту колонию в 1795 г., голландские фермеры проникли уже далеко в глубь территории, а возле самого мыса обосновалась крупная сельскохозяйственная община (вскоре выросшая в город Кейптаун. — Прим. пер.). В 1789 г. первые английские поселенцы прибыли в Австралию. Таким образом, за исключением Новой Зеландии, впервые колонизированной в 1840 г., все основные заморские центры европейских поселений начали развиваться к концу XVIII в.
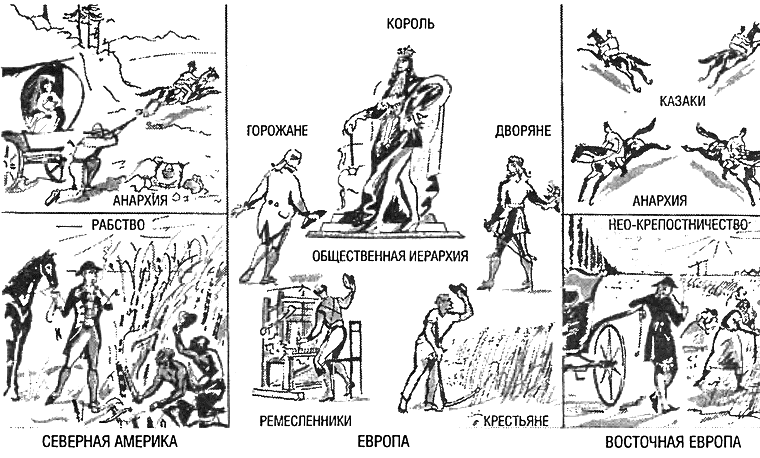 АЛЬТЕРНАТИВЫ ДАЛЬНИХ ГРАНИЦ
АЛЬТЕРНАТИВЫ ДАЛЬНИХ ГРАНИЦ
Перемещение европейских поселенцев за океаны носило впечатляющий характер и было важным для будущего. В то же время заселение западных евразийских степных просторов, очевидно, предполагало более крупную миграцию, но было менее значительным в изменении культурного баланса мира. В XVII-XVIII вв. миллионы первопроходцев распахивали плодородные земли, лежащие между Центральной Венгрией и Западной Сибирью. На дальних оконечностях этого движения на восток анархические условия жизни были сходны с Новым Светом. Русские поселенцы в Сибири подчинялись контролю только номинально и вели суровую жизнь охотников, рыболовов или земледельцев, во многом похожую на жизнь американских поселенцев на Дальнем Западе. Но все же такая жизнь была нетипичной. В западных степях крупные европейские поселения смогли возникнуть только после того, как Австрия и Россия вооруженной рукой вытеснили мусульманских скотоводов и воинов из этого района. В Венгрии это произошло после 1699 г., а из района Украины мусульманская государственная сила ушла только в результате аннексии татарского Крыма Россией в 1783 г.
Одержав верх над бывшими мусульманскими властителями западной степи, австрийское и российское правительства могли распоряжаться вновь завоеванными, но слабо населенными землями на свое усмотрение. Заселение западных степей шло тремя путями. На большей части Венгрии и Украины крупные наделы передавали знатным дворянам, имевшим влияние при дворе, и они заселяли новые районы, по крайней мере частично, крепостными из своих же более заселенных земель. Вдоль границ с Османской империей и Персией Австрия и Россия шли по пути образования военизированных, свободных крестьянских общин под особой имперской юрисдикцией. На такие поселения можно было положиться в плане защиты их собственных владений от набегов извне. Как бы то ни было, ни российских казаков, ни австрийских граничаров, привыкших носить оружие и время от времени вступать в схватки с татарами или турками на их границах, вряд ли можно было легко превратить в крепостных. Таким образом, сербы, хорваты, румыны и другие народы, жившие на австрийской Военной границе, а также реестровые казаки Южной России продолжали пользоваться личной свободой в обмен на обязательную воинскую службу в специальных полках[1017]. Третий путь заключался в том, чтобы привлекать поселенцев из-за границы, предлагая им земли на особо выгодных условиях. Такую политику проводила Австрия в Банате, а Россия в отдельных специфических районах Украины.
По мере того как занимались пустовавшие земли, и военные поселения, и свободные крестьянские общины, образованные под эгидой империи, начинали попадать под пяту феодалов. В некоторых случаях этому способствовала внутренняя дифференциация среди поселенцев, как это было казаками, но иногда официальным актом правительства до тех пор свободные общины отдавались на очень условную милость придворных фаворитов[1018].
И все же следует привести особый пример, когда освоение европейцами заморских земель не было увенчано такими большими успехами. Колонизация Ирландии Кромвелем и его предшественниками не привела к переходу английского общества через пролив Святого Георгия. Дикие ирландцы, вынужденные жить на одном картофеле, могли работать на новых землевладельцев за меньшую плату, чем английские или даже шотландские поселенцы. Тем самым они сохранили демографическое превосходство, хотя и ценой жалкой экономической зависимости от чужой в культурном смысле аристократии[1019]. Несмотря на различие официальных форм, общественные модели Ирландии XVIII в. были похожи на модели Восточной Европы и южных колоний Северной Америки в том, что касается резкой поляризации между привилегированным классом землевладельцев, относившимся к европейской цивилизации, и обездоленной в культурном плане, психологически отчужденной массой сельскохозяйственных работников.
2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ АМЕРИКИ И РОССИИ
Экспансия европейской цивилизации после 1648 г. продолжалась не только путем захвата новых земель, но и путем привития европейского стиля жизни в районах, лежавших за пределами Европы и находившихся в ее сфере влияния. К 1789 г. этот процесс распространился на обширные области России и Нового Света, сделав их полноправными членами того, что в результате следует называть уже западной, а не просто европейской цивилизацией. Включение Америки и России в политическое целое Запада с центром в Европе увеличило разнообразие и разбавило или, возможно, даже ухудшило качество западной цивилизации. При этом, несмотря на сохранявшиеся различия между старыми центрами европейской цивилизации и странами за ее пределами, принципиальная общность культуры все больше объединяла американцев, западных европейцев и народы России, ставя их особняком по отношению к цивилизованным сообществам остальной части мира.
Приобщение России и Америки к европейскому стилю цивилизации шло совершенно различными путями. Прежде чем Россия смогла воспринять Запад, ей нужно было отказаться от многих элементов собственного культурного наследия в ходе бурного и болезненного процесса. Напротив, американские потомки европейских иммигрантов просто восстанавливали то, от чего их предки в разной степени отказались в суровых условиях жизни пионеров, поэтому возврат к европейской цивилизации проходил у них без глубоких психологических потрясений.
И в России, и в Америке культурный прогресс был делом относительного небольших социальных групп. Однако в Америке проводники культуры опирались на добровольную поддержку или по крайней мере пассивное согласие остального населения, тогда как в России насаждение европейской техники, искусства и моды вызывало глухое возмущение большинства населения, плохо или совсем не понимавшего новый культурный мир, в который вступали его хозяева. К тому же культурный процесс в Америке шел без какого-либо осознанного плана, за счет стихийных действий отдельных лиц и групп, лично заинтересованных и видевших возможность обогащения от более полного приобщения к европейской цивилизации. В России же этот процесс принял форму насильственной кампании, сознательно проводимой правительством и первое время неприкрыто направленной на приобретение военной мощи.
Результаты этого культурного процесса отличались в такой же степени, как и методы его проведения. К концу XVIII в. Америка и Россия показали Европе новые крайности свободы и деспотизма. Каждая из этих крайностей противоречила алогичным компромиссам, лежавшим в сердце европейского Старого режима, и каждая из них по-своему способствовала его падению.
ИСПАНСКАЯ АМЕРИКА. Ослабление испанского господства в Европе было символически обозначено восстановлением национальной независимости Португалии после 1640 г. и неблагоприятными условиями Пиренейского мира, заключенного в 1659 г., хотя Испанская империя в Европе продержалась до 1713-1714 гг., а заморская империя сохранялась почти нетронутой вплоть до XIX в. Такой ситуации способствовали династические факторы и консервативное влияние политики равновесия сил в сочетании с внутренней прочностью и имперскими традициями Испании.
Двойная система иерархической церкви и централизованной бюрократии, управляемая доверенными лицами испанской короны, удерживала испанско-американское общество в строгих и традиционных рамках вплоть до третьей четверти XVIII в. Американские индейцы оставались покорными и не имели культурных или политических руководителей, которые могли бы эффективно противостоять испанскому господству[1020]. Но даже и в этом тщательно контролируемом и, на первый взгляд, застывшем обществе про. исходили далеко ведущие перемены. Первой и главнейшей из них было то, что парализующая деградация индейского населения примерно с 1650 г. перестала подрывать благосостояние Мексики и, возможно, также Перу. Можно предположить, что американские индейцы начали приобретать к тому времени более высокий иммунитет к европейским и африканским болезням. При этом росла численность стойких к болезням метисов, доля которых со временем стала преобладать в общем населении. Восстановление поначалу шло медленно, однако в последние десятилетия XVIII в. наметился очень быстрый рост населения, что в свою очередь привело к поразительному подъему экономической активности: рентабельность рудников поднялась до невиданного уровня, достигли процветания сельское хозяйство и торговля[1021].
Экономической экспансии способствовали широкомасштабные административные реформы, проводившиеся в XVIII в. по инициативе новой династии Бурбонов в Испании[1022], и особенно решительная либерализация регулирования торговли. В 1774 г. испанские колонии получили на первое время разрешение на свободную торговлю между собой. Четырьмя годами позже были изданы дополнительные декреты, разрешавшие двадцати четырем испано-американским портам свободную торговлю с любым портом Испании. Тем самым был положен конец исключительным правам Кадиса в Испании, Картахены, Портобелло и Веракруса в Америке на контроль за судами, перевозящими товары между колониями и метрополией.
Более свободная торговля и общий экономический подъем в испанских колониях обеспечили процветание значительного класса купцов, мелких торговцев и лиц свободной профессии. Такой рост среднего класса придал новый отпечаток интеллектуальной и культурной жизни колоний. Несмотря на то что в XV1I-XVIII вв. в испанской Америке существовали солидные учебные заведения и некоторые из них ввели современные программы, включающие изучение таких светил, как Декарт, Лейбниц и Ньютон[1023], обучение все же оставалось неэффективным, ограниченным узким кругом книжников. Тем не менее к концу XVIII в. широкие круги испано-американского общества начали интересоваться новыми идеями, рождавшимися в Европе, и, как везде в мире, купцы и люди свободных профессий прокладывали дорогу освоению новинок Просвещения. Такие люди все более критично относились к окружающему их обществу. Особенно остро они ощущали систематическую дискриминацию со стороны испанского правительства, ставившего на высокие посты в колониях исключительно испанцев из метрополии.
С появлением значительного среднего класса и началом интеллектуального подъема, распространившегося за пределы круга профессиональных ученых, испанская Америка стала гораздо более европеизированной, чем когда-либо. Неуклонное отступление исконно индийских культур перед натиском миссионеров вело к тому же результату. Разумеется, расовое смешение отделяло новое общество от его европейской модели. Большое количество обширных территорий, массовое применение принудительного труда (как в отработку за долги, так и бесправного рабства), а также необычайное экономическое[1024] и культурное влияние церкви по-прежнему отличали испанскую Америку от некоторых частей Европы, однако такие черты американского общества были похожи на существовавшие в самой Испании условия и имели тесное сходство с другим флангом западной цивилизации — Восточной Европой.
БРАЗИЛИЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. У португальской Бразилии и британских колоний в Северной Америке было нечто общее, что отличало их от испанской империи Нового Света. В политическом плане они характеризовались глубокой децентрализацией, и серьезные волнения в метрополии (Гражданская война в Англии 1642-1649 гг., восстание в Португалии против Испании 1640-1659 гг.) вынуждали колонистов в середине XVII в. рассчитывать в основном на собственные силы[1025]. В Бразилии, как и в южных английских колониях, преобладала плантационная экономика, основанная на рабском труде, но и там, и там приграничные территории, заселенные скорыми на решения первопроходцами, могли признавать, а могли и не признавать политическое руководство владельцев плантаций с побережья.
И все же в целом сходство между этими двумя обществами было скорее видимым, чем реальным. Бразильская аристократия, гордившаяся своими воинскими и сексуальными доблестями, презиравшая и тяжелую работу («удел рабов»), и интеллектуальную образованность («дело священников»), коренным образом отличалась от землевладельцев Вирджинии или Южной Каролины. Несмотря на правительственные реформы, начатые в конце XVIII в. деспотичным и «просвещенным» главой португальского кабинета маркизом де Помбалом, а также несмотря на существенный экономический рост, к концу века Бразилия значительно отличалась от других обществ. В частности, индейская и негритянская культуры, хоть они и вплелись в португальскую традицию, сохраняли свою самобытность и энергию в такой степени, что подобного явления не существовало больше нигде в Новом Свете[1026].
Даже в конце XVIII в. английские, бывшие английские и французские колонии далеко отставали от испанской Америки. Город Мехико с его 112 926 жителями в 1793 г.[1027] затмил все, что только было на севере, и, бесспорно, превышал по размерам любой город современной ему Франции и Англии, исключая Париж или Лондон. Население Мексики значительно превышало население всех тринадцати английских колоний, а роскошь, утонченность и образованность высших классов испанских колоний превосходили все, что было к тому времени достигнуто на Атлантическом побережье Северной Америки.
При этом культурно отсталые Новая Англия и колонии Среднего побережья Атлантики Северной Америки представляли собой образец самого радикального перехода общества европейского типа на новую почву. Эти английские колонии быстро превратились из маленьких и обособленных прибрежных плацдармов, какими они были в начале XVII в., в более или менее непрерывную полосу поселений, вытянувшихся от Нью-Хэмпшира до Джорджии и простиравшихся в глубь до Аппалачей. Население здесь увеличивалось очень быстро — частично за счет иммиграции, но в основном за счет естественного прироста. К 1790 г., когда была проведена первая перепись Соединенных Штатов, оно насчитывало 4 млн. человек, т.е. чуть меньше половины населения Великобритании.
Цифры указывают на приближение к политическим и культурным условиям жизни в Европе и, в частности, в Англии. Если быть точным, то в Новой Англии не было аристократии, а власть монарха находилась очень далеко и обычно почти не действовала. К тому же близость открытой границы делала землю доступной и способствовала основанию и сохранению только фермерских общин, отличавшихся необычным духом равноправия. Однако в более старых поселениях, особенно в морских портах, на английских линиях в XVIII в. начала складываться олигархия удачливых торговцев и собственников. Деловые навыки прочно укоренились в Новой Англии и в колониях Средней Атлантики, причем выросли они в значительной мере на той же пуританской почве, которая дала Англии большинство ее самых преуспевающих дельцов. Так, например, суда Новой Англии стали ходить в далекие моря. Обилие дешевого леса и экипажи, приученные к трудной жизни и тяжелой работе кальвинистским учением и каменистыми почвами, позволяли торговому флоту янки конкурировать с любыми соперниками. С другой стороны, промышленность оставалась в зачаточном состоянии вплоть до Американской революции.
Социальная мобильность и политическая свобода господствовали в английских колониях в необычайном масштабе. Способный и энергичный человек мог подняться быстро и высоко, как показала карьера Бенджамина Франклина (1706-1790). Даже на юге плантационная рабская экономика в какой-то мере уравновешивалась дальними фермерскими общинами, походившими на пограничные поселения Новой Англии во всем, кроме строгости кальвинистской дисциплины. Можно сказать, что английские колонии в некотором смысле взяли лучшее от обеих частей света, поскольку образованный вирджинский аристократ, знакомый с обычным (британским) правом и Джоном Локком, разбирающийся во французской литературе и акциях западных земель, активно участвующий в местном управлении и деятельно направляющий дела собственного хозяйства, обеспечивал умелое лидерство отдаленных районов, не господствуя на этой сцене до такой степени, чтобы ускорить приход олигархического правления над общинами. Подобным же образом купцы, судовладельцы и дельцы северных колоний могли удерживать свое политическое господство только до той степени, до которой за ними готова была идти сельская часть населения. Сравнительно широкое избирательное право давало возможность значительной части, а в некоторых колониях и абсолютному большинству взрослых мужчин выражать свою волю в политике. Таким образом создавалась атмосфера, разительно отличавшаяся от пассивной покорности рядовых масс власти бюрократии, олигархов и духовенства в Латинской Америке и французской Канаде.
Ригоризм духовенства и праведников смягчался религиозной неоднородностью. Разнообразие церквей в колониях считалось вполне закономерным, и никто не стремился навязать какую-то единую конфессию в британской Северной Америке. К тому же в XVIII в. все общины постепенно отдалялись от суровой религиозности своих отцов — даже в пуританском Массачусетсе — и проникались секуляризацией, под влиянием которой в то время преобразовывалась Европа. Это не удерживало поборников чистой веры из числа священнослужителей от раздувания крайних выражений религиозных чувств, при этом деисты и атеисты, англиканцы, конгрегационалисты, пресвитериане, квакеры, римские католики, методисты, баптисты (не говоря уже о группах, возникших за пределами английской традиции, таких как меннониты или голландские реформаты) должны были так или иначе уживаться друг с другом. В итоге колониальное общество освободилось от господства какой-либо одной церкви или доктрины.
Пока английские колонии были окружены французами и их индейскими союзниками на севере и западе и подвергались нападению французских военных кораблей или каперов, первостепенное значение имела защита, предоставляемая британским флотом, а при случае и регулярными британскими войсками. Однако после захвата Британией Канады в результате победы в Семилетней войне (1756-1763 гг.) французская угроза практически исчезла и соответственно изменились отношения колоний с метрополией. Попытки британского правительства собирать дополнительные подати, разместить войска в колониях, регулировать торговлю в Новой Англии и ограничить власть колониальных законодательных органов вызвали бурю протестов. Для обоснования сопротивления актам британского парламента приводили ссылки на свободы англичан. Организованное неповиновение британским законам и властям ускорило тем не менее народные выступления под флагом прав не просто англичан, а Человека, провозглашавшихся самыми радикальными теоретиками тех дней. И все же спонтанные вспышки насилия толпы против «тори» не увлекли революционное движение в сторону от в общем-то законных путей, учитывая, что патриотическая партия переписала законы разных колоний и приступила к эксперименту, вначале оказавшемуся скорее неудачным, с федеративным союзом. Когда же британские войска вознамерились восстановить порядок и повиновение, их действия постепенно вызывали все более резкое сопротивление, и к 1775 г. отношения между колонистами и британским правительством переросли в открытую войну. После многих тягот и лишений в 1783 г. дело революции победило — скорее по причине резко разошедшихся мнений в британском правительстве и вмешательства Франции (объявившей в 1778 г. войну Великобритании), чем благодаря победам, одержанным оборванными армиями Джорджа Вашингтона.
Таким образом, Американская революция оказалась успешной благодаря противоречиям европейской политики силы и оружия, а ее руководители черпали идеи из запасов радикальных политических учений, распространившихся в недавнем прошлом по Европе. Те же радикальные идеи, смягченные опытом, вдохновляли и людей, писавших Конституцию Соединенных Штатов. Теоретические принципы разделения власти между законодательной, исполнительной и судебной ветвями, а также распределение управленческих полномочий между местными и федеральными властями были оформлены в виде реально действующей конституции, а принципы индивидуальной свободы и правления с согласия народа были гордо провозглашены на весь мир.
В этом содержался мощный вызов Старому режиму в Европе. Американцы, казалось, принялись за генеральную уборку устаревших институтов с тем, чтобы создать разумную систему управления. И хотя кое-кто мог усомниться в стабильности или отрицать принципы нового режима, никто в западном мире не остался равнодушен к американскому эксперименту. Таким образом, бывшие английские колонии, сколь бы велико ни было их видимое отставание от испанской Америки и сколь бы примитивна ни была их жизнь по сравнению с жизнью европейских аристократов, с удвоенной силой влились в главный поток европейской мысли и практики. Несомненно, пример Американской революции стал сильнодействующим фактором, способствовавшим Французской революции, разрушившей Старый режим в Европе[1028].
РОССИЯ. Усиление более современного, самодержавного и опирающегося на военную силу правительства в России стало вызовом совсем другого рода для Старого режима в Европе. Вызов этот не был таким же решительным и непосредственным, как идеологический вызов Американской революции. Однако подъем новой военной империи, располагавшей обширной территорией и большим населением, а также (по крайней мере, в принципе) направлявшей все людские и материальные ресурсы на служение государству, явно контрастировал с политически раздробленной и социально разделенной старой Европой. Только за счет использования новых ресурсов и изыскания новой базы власти путем непрерывного самопреобразования могли такие относительно небольшие страны, как Франция и Британия, надеяться на равное положение с новым российским великаном. За тем фактом, что в течение XIX в. демократическая и промышленная революции создали новые основы для власти и богатства в Западной Европе, оставив Россию далеко позади более чем на столетие, в какой-то мере оказалась скрыта степень российской угрозы в последние десятилетия XVIII в. В сущности, эта опасность традиционному европейскому многообразию была именно так отодвинута вплоть до нашего времени.
До 1698 г., когда юный Петр Великий возвратился из своей знаменитой поездки по Западной Европе, чтобы начать революцию сверху, Россия двигалась не спеша, следуя политике и строю, принятому первыми Романовыми. Усилия направляли на то, чтобы сохранить в целости самобытное российское наследие путем сведения к минимуму контактов с иностранцами. Такая политика оправдывала себя в XVII в. Так, например, роль России как центра православия помогла царям получить права на Восточную Украину (1667 г.) после долгой войны с Польшей, так как казаки предпочитали иметь над собой православного господина, а не католического, если уж без него нельзя было обойтись.
 РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ
Однако Петр вовсе не заботился о православии, а грубые и шумные нравы иностранных колоний в Москве были ему больше по вкусу, чем ритуальная жизнь русского двора. При этом его тесные связи с иностранцами оставались всего лишь личной привязанностью почти десять лет после того, как он стал полновластным правителем России. И только после того, как недовольство московских стрельцов (1698 г.) вылилось в мятеж, Петр до конца жизни не жалел усилий для превращения окружавших его веселых друзей и авантюристов в господ Российского государства.
Одна за другой исчезали старые приметы: запрещены бороды и кафтаны, введен юлианский календарь, упрощен алфавит, при дворе отменена изоляция женщин, на Финском заливе построена новая столица — Санкт-Петербург. Петр вытащил русских дворян из их вотчин и поместил в казармы, усадил за чиновничьи столы. Он взялся за административную неразбериху России, пытаясь сделать систему управления похожей на шведские модели, и даже осмелился подчинить святую православную церковь светскому прокурору. Повсеместно царь с его неутомимой и капризной энергией загонял свой упирающийся народ на новые пути. Подобно своему предшественнику Ивану Грозному и Сталину в более поздние времена, личность Петра на деле преобразовала русское общество за четверть века.
Устрашением и массовым насилием реформы Петра были прочно укреплены в Российском государстве, чему способствовали также превратности долгой и тяжелой войны со шведами (1700-1721 гг.). Следует отметить, что Петр и его соратники не смогли бы безнаказанно замахнуться на старые русские обычаи и установления, если бы приверженность к старой Руси к тому времени уже сильно не ослабла. Ограниченное, но длительное соприкосновение с ощутимыми преимуществами европейской цивилизации подорвало беззаветную приверженность старым традициям, а официальная церковь была сотрясена до основ старообрядческим расколом. Оставалось только самодержавие, и когда оно перешло в руки революционеров, отвергнувших российское прошлое и решивших перенять достижения европейской цивилизации, то прекратили существовать и объединяющие принципы действенного сопротивления.
В центре всей бурной деятельности Петра находилось поразительное по своей целенаправленности стремление к огромной военной мощи. Его правительственные реформы были подчинены цели набора, оснащения и содержания армии и флота, равных или превышающих силы западных держав. Это требовало не только людей и денег, но также заводов и верфей, математики и практических навыков, более широкой грамотности и принуждения на любой ступени общественной лестницы. Петр набирал крепостных в армию, на новые оружейные заводы на Урале, на строительство Санкт-Петербурга, ставил дворян почти с такой же непоколебимостью на службу туда, где необходимо, записывал их сыновей в полки императорской гвардии, предписал купцам перенести свои дела из Архангельска в новую столицу — Санкт-Петербург, назначал шведских пленных на административные должности в российских губерниях и выписал сотни голландцев и других иностранных мастеров для развития новых ремесел в России. Жизнь самого Петра, влекомого почти демонической неутомимостью, состояла из переменчивого внимания к мелочам, внезапных крутых решений, необузданных попоек и буйных беспричинных вспышек гнева.
Петровские административные реформы оставались хаотичными, и скрытое сопротивление его нововведениям во всех слоях общества серьезно мешало его планам. И все же Петр обновил Россию. Он выиграл войну со шведами, несмотря на искусство своего противника Карла XII, и присоединил к России значительную часть территории на Финском заливе — его знаменитое «окно в Европу». Войны с турками были менее успешными. Победа 1696 г. обеспечила выход к Азовскому морю, но этот успех был сведен на нет в 1711 г. катастрофическим окончанием второй кампании, что вынудило царя отдать все, что было добыто в ходе предыдущей. Отчасти утешало то, что к самому концу царствования Петра его войска победили Персию и передвинули российскую границу к южному побережью Каспия.
Дело Петра стало возможным благодаря его необычайным способностям и неуравновешенности как личности. Секрет его поразительных успехов кроется в том, что он создал неофициальную, но высоко эффективную систему обучения молодых людей, желавших послужить его революционным замыслам. Учебными заведениями Петра были полки императорской гвардии, сформированные на основе ядра из товарищей его детских забав и преобразованные в воинские части. Когда революция сверху начала спускаться вниз, Петр набирал из гвардейцев офицеров для армии, гражданского управления, дипломатии и других целей. Для заполнения освобождавшихся мест в полках дворянам предписывалось посылать в них своих детей рядовыми. В результате Петр быстро создал мощную правящую верхушку, неофициально, но прочно связанную общим опытом службы в гвардии. К тому же тот факт, что новые хозяева России, с пренебрежением отвергшие многое из русского прошлого, были поначалу не более чем крошечным гарнизоном на недружественной земле, служил им всем мощным стимулом к тому, чтобы удерживать приверженность народа к допетровской Руси от какого бы то ни было политического выражения, способного поставить под угрозу их власть. Поэтому жестокие интриги, столь характерные для правящей верхушки в XVIII в., всегда прекращались внезапным дворцовым переворотом. Любые длительные дворцовые распри могли открыть шлюзы для яростной реакции масс, направленной против всех тех, кто изменил старой Руси[1029].
После кончины Петра история России становится историей революционной верхушки, созданной им на основе императорской гвардии. Вражда и союзы в ее среде выражаются в серии знаменитых дворцовых переворотов, когда на смену одному самодержцу приходил другой, не имевший права наследования или каких-либо других законных прав. Самым выдающимся стал переворот 1762 г., в результате которого был свергнут Петр III, а на престол взошла его супруга — никому не известная немецкая принцесса. При этом узурпировавшая власть Екатерина II сохранила ее до самой смерти (1796 г.) и подняла российскую мощь на невиданную до тех пор высоту.
Екатерина удерживала трон благодаря дружбе с гвардией и широкому удовлетворению запросов дворянства. Еще до ее прихода к власти простые нравы, отличавшие окружение Петра, стали постепенно укрощать французские гувернантки и немецкие наставники, которых приглашали в дворянские семьи, чтобы учить их детей языкам и манерам европейской аристократии[1030]. Однако, по мере того как русские дворяне ближе знакомились с жизнью аристократов в Европе, они начинали требовать для себя таких же привилегий и статуса. В частности, они желали освободиться от обязательной государственной службы. Злополучный супруг Екатерины в 1762 г. предоставил им такую привилегию, после чего тысячи дворян покинули армию и государственные учреждения, чтобы осесть в своих вотчинах. Екатерина развила дальше эту уступку, обеспечив юридическую защиту от конфискации дворянского имущества и от других произвольных наказаний. Она также подтвердила и расширила законные права дворян на их крепостных и позволила провинциальному дворянству объединяться в свои организации для конкретных и ограниченных целей.
Екатерина могла себе позволить ослабить давление на дворянство, потому что Россия уже располагала к тому времени значительным числом хорошо образованных людей, желавших и даже жаждавших получить должности в армии и в государственных учреждениях. Экономическое развитие достигло такой степени, когда самодержавие получало достаточные поступления от налогов, чтобы платить своим чиновникам нечто вроде жалования, так что отпала необходимость в прежней форме оплаты в виде раздачи земель[1031]. Государственная служба оставалась лестницей для продвижения вверх, поскольку достижение установленного положения в армии или на гражданской службе обеспечивало автоматическое получение дворянства со всеми официальными привилегиями этого статуса.
Однако находившиеся на нижней ступени общественной лестницы крепостные не видели улучшения своей жизни и, несомненно, подвергались более сильному угнетению, чем раньше. После того как дворян освободили от обязательной государственной службы, крестьяне, естественно, также подумали, что их освободят от необходимости служить дворянам. Это убеждение вылилось в мощное крестьянское восстание с центром в Южной России (1773-1775 гг.), жестоко подавленное властями. С той поры недовольство крестьян перешло от прямых форм выражения к сектантству и массовому пьянству.
Таким образом, Россия разделилась на две все более чужие друг другу части общества, и разрыв между ними становился как никогда ранее резким. Привилегированное дворянство, богатые представители которого к концу XVIII в. усвоили образ мыслей и манеры французских салонов, жили в мире, полностью оторванном от вопиющего невежества и грубости крестьянской жизни. Чем образованнее и цивилизованнее становились русские аристократы, тем тоньше были нити, связывавшие их с собственными крестьянами.
В этом, без сомнения, и заключается главный источник грядущей слабости. Однако в XVIII в. социальные трещины между аристократией и народными массами в Западной Европе были почти такими же, и общественная структура России еще не отставала значительно от западных держав. Да и сами размеры государства играли на пользу России. Екатерина не только аннексировала около половины Польши путем трех последовавших друг за другом разделов этой несчастной страны (1772-1795 гг.), но и отодвинула границы России к Черному морю, и русские корабли получили возможность плавать по ранее считавшемуся турками своим внутренним морю и свободно проходить через проливы (1774 г., 1783 г.). Мечты о полном разрушении Османской империи и о замене ее реставрированной и зависимой греческой империей на Босфоре остались неосуществленными. Тем не менее военная мощь, которой обладало столь обширное государство, как Россия, была недвусмысленно продемонстрирована. При Петре Россия заявила о себе как о великой европейской державе, при Екатерине она стала такой.
3. КОМПРОМИССЫ СТАРОГО РЕЖИМА В ЕВРОПЕ
Главным победителем в Тридцатилетней войне стала Франция, которая быстро превратилась в центр притяжения Европы. Роскошь двора Людовика XIV (1643-1715 гг.) свидетельствовала о силе и богатстве, изысканности и утонченности. Аристократы, укрощенные постоянным присутствием при дворе, утратили старые привычки добиваться всего силой. Французские крестьяне получили, таким образом, возможность узнать, что такое мирная жизнь, а королевские армии совершали марши за пределами страны, давая дипломатам короля аргументы для расширения этих пределов в сторону Рейна. Немецкие князьки, насколько они могли это себе позволить, и Карл II Английский (1660-1685 гг.), насколько он отваживался, стремились повторить успехи французского монарха, и если завести такие же войска было слишком дорого, то завести любовниц не хуже было сравнительно легко. Правды ради, следует отметить, что военное превосходство Франции ослабело после 1715 г., когда Англия, с одной стороны, и Австрия — с другой, нарастили свою мощь. Однако французская философия и литература, достигшие впечатляющего размаха еще в XVII в., приобрели в XVIII в. такой авторитет, который перешагнул через политические и языковые границы и осветил всю Европу, а вместе с ней Америку и Россию.
Со времен упадка латинского христианства в средние века социальное и культурное единство Европы никогда не было таким прочным. Различия европейского наследия, столь сильно вступавшие в противоречие друг с другом в XVI в., удалось примирить в XVII в. с помощью ряда совершенно нелогичных, но от этого не менее действенных компромиссов, охватывавших политику, общество, сферу деятельности мыслителей и менее явно искусство. Возникшее в результате равновесие никогда не было постоянным, меняясь от одной эпохи к другой и от одной территории к другой. Более того, оно изначально содержало в себе семена происшедшего в XIX в. нарушения. Можно все же попытаться охарактеризовать некоторые основные направления и наиболее постоянные черты Старого режима в Европе.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПРОМИССЫ. Старый режим в Европе был основан на множестве территориальных государств, ревниво оберегавших свой суверенитет. Не признавая никакой внешней власти, правители таких государств точно так же не признавали и никаких пределов для собственной власти на своей территории. Хотя на практике даже самые абсолютные монархи были обязаны считаться с интересами городов, провинций, привилегированных компаний, гильдий, церкви и прочего у себя в стране, а баланс сил существенно ограничивал их действия за рубежом.
Суверенитет ограничивался также порядками в области собственности. Отрезвленные яростью религиозных войн, европейские правители отказались от прямого обращения к глубинной сущности дел человеческих и стали смотреть на начетническое исступление, внушенное определенным видением религиозной или другой формы истины, как на нечто смешное, наивное и откровенно опасное. Правители пришли к выводу, что благоразумнее будет расширять рамки профессионализма, на который можно положиться и который будет действовать хоть и не эффектно, но зато эффективно, старыми и хорошо знакомыми способами. Профессиональные юристы, врачи, торговцы, придворные, помещики, чиновники, офицеры, а к XVIII в. и писатели, знающие свое дело и не выходящие за круг его интересов, изменяли жизнь Европы шаг за шагом по мере того, как уходило одно десятилетие за другим, и при этом они лишь изредка обращались к глубинам человеческих страстей или к высотам человеческих устремлений. Даже такой теоретически абсолютный, энергичный и амбициозный правитель, как Людовик XIV, был, таким образом, ограничен в своих возможностях не только союзами иностранных держав, сдерживавшими его агрессивные намерения, но также и менее формальным, но гораздо более прочным союзом самостоятельных или полусамостоятельных профессиональных объединений и корпораций во Франции, каждое из которых упорно держалось за свои права, правила и устоявшиеся обычаи, тем самым выступая стабилизирующей силой в обществе. Устоявшиеся правила и внешние приличия, подкрепленные весом тяжелых установлений, удерживали даже самого абсолютного из королей не просто от крутой ломки в стране, но даже и от самой мысли об этом. Таким образом, теоретически абсолютный суверенитет оставался целиком и полностью теоретическим.
Международные войны и дипломатия хорошо иллюстрируют ограничения суверенитета, присущие Старому режиму. В течение короткого времени в начале царствования Людовика XIV Франция превосходила по силе своих соперников на континенте, однако баланс был восстановлен, когда в 1689 г. к антифранцузскому Великому альянсу присоединилась Англия. После этого даже такие значительные перемены, как распад Испанской империи в Европе (1700-1714 гг.), разгром Шведской империи на Балтике (1700-1721 гг.) и раздел Польши (1772-1795 гг.), происходили при тщательном учете баланса сил между основными европейскими государствами.
На протяжении большей части XVIII в. этот баланс поддерживался идущим параллельно процессом экспансии. На западе Франция и Британия богатели на торговле и заморских авантюрах. В Восточной Европе Австрия, Пруссия и Россия наращивали свою мощь за счет включения в свой состав слабо организованных и частично незаселенных районов на окраине европейского общества. В конечном счете преимущество оказалось на стороне держав, дальше других отстоявших от центра Европы. Так, островная Британия одержала решающую победу в Семилетней войне (1756-1763 гг.) и отобрала у Франции ее владения в Индии и Америке. На востоке Австрия получила такое же преимущество в XVII — начале XVIII вв., когда армии Габсбургов вторглись в Венгрию (1683-1699 гг.) и на Балканы (1714-1718 гг.), открыв самую западную часть евразийских степей для заселения подданными Габсбургской империи. Со второй половины XVIII в., однако, роль Австрии как главного фактора в непрерывном процессе экспансии на границах Европы перешла к России.
При этом у держав на периферии Европы также были свои слабые места. Покорение, заселение и приобщение к цивилизации отдаленных земель ложились бременем на дипломатию и ресурсы центра, и уже само по себе расширение Британской, Австрийской и Российской империй с их пестрым населением и разнообразными обычаями часто ставило перед центром невыполнимые задачи. Восстания в Шотландии (1715 г., 1745 г.), Американская революция (1775-1783 гг.), выступления в Венгрии (1703-1711 гг., 1789 г.), крестьянские войны под руководством Степана Разина (1670-1671 гг.) и Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.) в России указали на трудности и недостатки британского, австрийского и российского правительств на их собственной территории.
В каждом европейском государстве вес различных элементом в системе сдержек и противовесов время от времени менялся. В XVII в. рационалистическое, централизующее давление гражданской и военной бюрократии во Франции имело целью подчинить себе другие элементы французского общества. Так, например, независимость аристократии была подорвана как раздачей королевских пенсий и привилегий, так и прямой узурпацией дворянских прав. Позднее, в XVIII в., аристократия потребовала возвращения определенной части ее самостоятельности, взявшись для этого, однако, не за шпагу, а за перо, с помощью законных аргументов (в парламенте) и теоретических изысканий (Монтескье).
В отличие от галликанской Франции, в Австрии церковь сохранила более значительную независимость и существенную власть. Средние классы здесь были явно слабее, а отдельные земли оставались самостоятельными единицами, слабо связанными воедино лишь подобием вассалитета по отношению к монархии Габсбургов. Административная централизация, с таким успехом проведенная в XVII в. во Франции, стала главной задачей для австрийской бюрократии с середины XVIII в., причем ее выполнение было прервано незадолго до завершения Французской революции. Испания и Португалия в основном двигались вслед за Австрией, пытаясь перенимать опыт Франции в достижении политического и военного величия в середине XVIII в.
Швеция и Польша, игравшие роль великих держав в XVII в., утратили ее в XVIII в. как по причине того, что им не удалось добиться такой централизации в управлении и такого общественного равновесия, каких достигла Франция в XVII в., так и в силу ограниченности людских и природных ресурсов[1032]. Аналогичным образом теряла свое политическое значение в XVIII в. Голландия. Несмотря на территориальную близость к центру европейской цивилизации, ее скудные природные ресурсы и относительно низкая численность населения не позволяли ей сохранять положение великой державы. Позиции, завоеванные в свое время военным и дипломатическим путем Швецией, Польшей и Голландией, перешли в руки Британии и Пруссии, чья политика резко отличалась от норм Старого режима. По удивительному совпадению период 1640-1688 гг., ставший свидетелем революции сверху в Пруссии и снизу в Британии, сыграл решающую роль в установлении специфического для каждой из этих стран государственного и общественного баланса.
В 1640 г., когда к власти в Бранденбурге пришел Великий курфюрст Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн, Пруссия была бедной далекой провинцией, полученной им во владение от польской короны, а другие его земли были широко разбросаны по всей Германии. Ко времени же смерти курфюрста (1688 г.) Бранденбург-Пруссия превратился в государство — военный лагерь, где все имеющиеся ресурсы направляли на содержание многочисленной и боеспособной регулярной армии. Фридрих Вильгельм и его приближенные не допускали ни малейших препятствий на пути к достижению этой цели. Привилегии дворян, иммунитеты провинций и городов, обычаи гильдий и даже сел строго координировались, корректировались, а при необходимости и упразднялись в целях обеспечения максимальной военной мощи. В результате бедные, слабые и разбросанные территории были сплочены в единое административное образование, не только способное защищать себя, но и ставшее прочной базой, с которой власть Гогенцоллернов могла распространяться и на другие земли[1033].
Преемники Великого курфюрста были способными правителями и проявили замечательную целеустремленность в укреплении своей власти и расширении территории государства. Ко времени Фридриха II Великого (1740-1786 гг.) Пруссия сравнялась с Францией на полях сражений, стала соперником Австрии в Германии и союзником России и Австрии при разделе Польши. Одержанные успехи позволили смягчить почти спартанскую жесткость прусского государственного устройства, и скромное благосостояние, заботливо поддерживаемое правительством в его трудах по сборам налогов для усиления войска, стало выливаться в развитие городов и появление привилегированных профессиональных слоев в прусском обществе. Таким образом, к концу правления Фридриха Пруссия уже меньше, чем раньше, отличалась от других государств континентальной Европы.
Развитие Англии шло другим путем. Английская революция (1640-1688 гг.) установила власть парламента даже над королем и ускорила приход олигархической системы управления государством. Последующее развитие, например образование правительства в виде кабинета министров, только увеличило отличия между британскими и континентальными учреждениями. В XVII в. парламент напоминал архаический пережиток средневековья, вызывающий нарушения нормальной жизни в силу отсутствия единства и мешающий современному, действенному правительству своей мелочностью. К середине XVIII в. все же новомодный британский кабинет, подотчетный парламенту, стал производить впечатление даже на континентальных наблюдателей способностью вести успешные войны за границей, поддерживая при этом свободу и порядок у себя дома. Прежде всего британский парламент защищал принцип, согласно которому землевладельцы имеют право активно участвовать в создании законов, в выработке политики правительства и в управлении местными делами. Некоторые французские аристократы, низведенные до декоративной роли при дворе, и ведущие представители французского купечества и профессиональных кругов, время от времени выражавшие недовольство жесткостью королевского контроля, начинали чувствовать, что величие Франции было куплено дорогой ценой лишения их политических свобод. Так, после умелого ведения британским парламентом Семилетней войны (1756-1763 гг.) многие во Франции стали склоняться к тому, что определенная перестройка их собственных установлений в направлении британского парламентаризма была бы полезной.
 СТАРЫЙ РЕЖИМ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
СТАРЫЙ РЕЖИМ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Система управления Британии, как и во Франции, покоилась на плотном клубке юридических корпораций и временных объединений, чей консервативный вес ограничивал парламент почти с такой же силой, как подобные организации во Франции ограничивали абсолютную власть короля. При этом парламентская система обеспечивала более постоянное и более тонкое согласование интересов таких групп, чем это было бы возможно в более жестких рамках бюрократического королевского правления. С ростом богатства и числа указанных групп новые интересы, например, интересы владельцев плантаций сахарного тростника в Вест-Индии, бристольских работорговцев, ведущих прогрессивное сельское хозяйство помещиков Норфолка и даже выбившихся из простонародья владельцев хлопковых мануфактур Манчестера, могли быть представлены в парламенте. Такие группы могли присматривать за тем, чтобы политика правительства согласовывалась с их потребностями в пределах, устанавливаемых с учетом соперничающих интересов, также представленных в парламенте. С другой стороны, система контроля Франции, Австрии и даже Пруссии, вырабатываемая бюрократией, гораздо слабее реагировала на меняющиеся комплексы экономических интересов и стремилась сохранять свою силу даже после того, как изменялись условия. Результатом становилось отставание и даже блокирование экономических и технических новшеств, которым свободная британская система открывала широкую дорогу.
Очевидно, самым коренным различием между общественными моделями Британии и континента (не считая Голландии и некоторых швейцарских и немецких вольных городов) был более высокий авторитет и самостоятельность купцов и финансистов. Во Франции и на континенте вообще удачливый делец торопился оставить позади свою прошлую жизнь, то ли с помощью прямого приобретения королевского патента на дворянство, то ли отправляя сыновей на государственную службу, где они могли надеяться добиться дворянства или приобрести его благодаря высокому посту. Для этого требовалось выйти из принижающих достоинство объединений на товарном рынке. В Англии, однако, дворяне регулярно выходили на товарный рынок и участвовали в торговых сделках, а богатые купцы, приобретавшие поместья и получавшие дворянство, не обязательно оставляли свою торговую деятельность, хотя они становились скорее уже финансистами, чем практическими дельцами. В таких условиях расточительность праздных дворян во Франции и в других странах способствовала более основательному распылению торгового капитала, чем в Англии. И наоборот, доступность относительно больших масс капитала в результате взаимопроникновения классов аристократов-землевладельцев и купцов существенно способствовала поразительному экономическому росту Великобритании в XVII-XVIII вв.
Экономическому развитию Англии способствовала также терпимость к различиям в вероисповедании. После 1689 г. пуританам и последователям различных более радикальных религиозных сект были предоставлены определенные права, в том числе право на участие в делах, хотя право на участие в выборах в парламент, на поступление в университеты и обучение праву, богословию, медицине за ними не признавали. Не принадлежащая к государственной церкви община, самосознание которой определялось евангелической религией и правовым бессилием, стала колыбелью для многих самых активных английских предпринимателей, а ее представители часто прокладывали путь экономическим новшествам. Во Франции же, наоборот, решительное стремление Людовика XIV искоренить ересь в своем королевстве разрушило сообщество купцов и промышленников гугенотов, игравших в экономике сходную роль. Все это сказалось на французской промышленности и торговле, а бежавшие из страны гугеноты обогащали такие принимавшие их государства, как Англия или Пруссия.
Георг III (1760-1820 гг.) был последним английским королем, бросившим вызов парламенту и пытавшимся править по собственному усмотрению. «Король-патриот» воспользовался своей возможностью официального назначения на должности с тем, чтобы провести своих приверженцев в парламент, надеясь таким образом преодолеть бесконечные ссоры между представителями разных группировок, составлявшие саму суть жизни парламента и его методов согласования интересов всех слоев британского общества. Попытка эта провалилась, поскольку была дискредитирована успехом восстания в Америке (1775-1783 гг.) и наступавшим время от времени умопомешательством короля (после 1788 г.). Итак, накануне Французской революции в Британии твердо укрепились верховенство парламента, ответственное правительство в виде кабинета министров и олигархическое правление страной. Свободы англичан, состоявшие в постоянном кипении дискуссий в стенах парламента и за его пределами и подтверждавшиеся успехами экономики и имперской политики, резко контрастировали с почтительной покорностью, которой требовали монархи континента от своих послушных подданных.
В большинстве крупнейших территориальных государств Европы Старый режим обеспечивал центральную власть, будь то в лице парламента или монарха, гораздо более значительными средствами военной и экономической мощи, чем когда-либо. Общее богатство Европы выросло до такой степени, что поступления от налогов были достаточны для оплаты и оснащения сравнительно больших и сильных регулярных армий и профессионального флота. Такие новые или ставшие использоваться шире финансовые инструменты, как британские государственные долговые облигации и банк Англии (основанный в 1694 г.), позволяли мобилизовать экономические средства в новых масштабах, привлекая частные капиталы для государственных целей. Подобного рода инструменты наряду с созданием акционерных компаний, появившихся в начале XVII в., дали Европе возможности для непрерывной экономической экспансии и увеличили ее военную мощь во всех частях света.
Несмотря на то что бедные и неимущие играли слабую роль в расширении мощи и росте благосостояния Европы, энергичные и способные личности нередко поднимались на одну-две ступеньки выше по общественной лестнице, и даже самые нуждающиеся стали выживать чаще. Профессионализация начала сдерживать опустошительное действие войны. Выращивание новых культур (в частности, картофеля и кукурузы), применение новых способов обработки земли и совершенствование транспорта сгюсобствовали борьбе с голодом. Даже болезни переставали быть всеобщим бичом по мере того, как приобретаемый иммунитет и достижения в области медицинской диагностики и лечения приводили к увеличению числа излечиваемых. В результате население Европы совершило скачок вперед. Несмотря на ужасающие условия жизни в таких городах, как Лондон, где дешевый джин на время заменил собой эпидемии в качества главного фактора, уносящего человеческие жизни, низшие, средние и высшие классы в Европе процветали, как это редко бывало до того, благодаря политическим и социальным компромиссам Старого режима.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПРОМИССЫ. Антагонизм между светским образом мышления и религиозной верой, столь пылко выраженный в столкновении идеалов Возрождения и Реформации, нашел свое практическое, если не теоретическое, разрешение при Старом режиме. Так, были прекращены усилия достичь однородности общества. Все в большей и большей степени европейские государства допускали отход от старых законов, требовавших церковного конформизма, и позволяли гражданам следовать собственным религиозным убеждениям. Требовалось только достойное соблюдение условностей, при этом богохульство и крайние проявления сектантства во всех европейских странах по-прежнему были запрещены. Однако признаки отчаяния, столь сильно поднимавшиеся на поверхность в схватках XVI в. за богословскую и метафизическую истину, наряду с беспощадным требованием ортодоксальности в словах, мыслях и делах после окончания Тридцатилетней войны быстро пошли на убыль. К началу XVIII в. ведущие умы Европы сосредоточивали свое внимание на науках и рационалистической философии, а не на богословии и уже не старались приводить результаты своих поисков в соответствие с христианским учением.
Отчасти такую неоднородную интеллектуальную атмосферу объясняют феноменальные успехи рационализма и естествознания в XVII в. Рене Декарт (ум. 1650) поставил перед собой дерзкую задачу вывести полноценную науку из самоочевидных первых принципов, объяснявших метафизическую, физическую, биологическую и психологическую действительность со всей точностью геометрического доказательства. Его современники Ба-рух Спиноза (ум. 1677) и Томас Гоббс (ум. 1679) были также очарованы видимой прочностью и точностью математического рассуждения и, подобно Декарту, пытались применять методы математики к людским и божественным понятиям. Поколением позже аналогично мыслил Готтфрид Вильгельм Лейбниц (ум. 1716). Несмотря на широкое расхождение выводов, к которым приводили их математические способы рассуждения, эти и другие мыслители XVII в. последовательно распространяли царство закона и закономерности на многочисленные новые явления и сужали, а то и полностью отрицали действие каприза, случая, удачи и чуда. Так, например, и Декарт, и Гоббс утверждали, что животные представляют собой автоматы, управляемые определенными законами, а Декарт сделал набросок принципов мировой машины, чтобы объяснить все явления небесного и земного происхождения. Рассуждения Спинозы и Лейбница были глубже, однако над ними также довлело видение мира, подчиняющегося законам и закономерностям, которые могут быть усвоены и истолкованы человеческим разумом.
У Декарта оказалось больше последователей, чем у других философов, возможно, потому, что его теории были более полными и легкими для понимания. Во второй половине XVII в. картезианская (Декартова) философия стала модной во французских интеллектуальных кругах и завоевала многочисленных сторонников в других странах. Мода эта длилась, однако, не очень долго, поскольку картезианство в целом не могло надолго пережить крах Декартовой физики после ее столкновения с элегантными доказательствами Исаака Ньютона в его «Математических началах натуральной философии» (1687 г.). Главная сила учения Ньютона заключается в его эмпирическом подтверждении и в простоте, с которой он свел движение Луны и планет к математическим формулам, совершенно изумительным образом описывающим также поведение тел, движущихся на поверхности земли. Такое радикальное упрощение видимого разнообразия природных явлений подняло разум на новую высоту. То, что так долго стремились доказать философы, отныне казалось правильным вне всякого сомнения: Вселенной в действительности правит простой, ясный и прекрасный в своей математической точности закон — настолько неизбежный и универсальный, что управляет также будущим движением небесных тел и пушечных ядер. Поначалу некоторые критики пугались оккультного характера силы гравитации, действующей на расстоянии, но сомнения вскоре были развеяны в общем хоре голосов восхищения, по мере того как новые наблюдения подтверждали точность математически выраженных Ньютоном законов движения.
Математика успешно отстояла себя. Можно было легко предположить, что сам Бог как создатель Вселенной, чьи законы отныне открыты, был превосходным математиком, который мог показать свою мудрость и великолепие своего творения, всего лишь отстранившись от активного наблюдения за созданным им мировым механизмом. Считалось, что вмешательство в природный порядок вещей способно нарушить Божественные законы и тем самым показать их недостаточность. Верховное существо, создавшее такую сложную, хотя и чудесным образом простую, машину, не могло допустить, чтобы труды его были испорчены произвольным вторжением простых человеческих существ. Такие представления о природе, Боге и человеке в корне противоречили христианскому учению. Ведь, таким образом, не оставалось места для Божественной благодати, провидения или первородного греха, а во Вселенной Ньютона было также трудно найти подходящее место для небес и ада в их традиционном понимании.
Более того, логично было предположить, что Бог установил также законы поведения людей, которые, если их распознать, должны обеспечить человечеству столь же великолепную гармонию жизни, как и гармония физической природы. Какой-нибудь новый Ньютон, который распутает тугой клубок человеческого феномена и откроет природный закон общества, смог бы тем самым возвысить землю до небес, а небеса спустить на землю, как это практически уже сделала физика Ньютона с миром неодушевленных тел.
Такие ожидания были равнозначны коренной секуляризации христианского эсхатологического учения. Вместо того чтобы ждать второго пришествия Христа, разум бесстрашно брался за задачу спасти человечество ото всех бедствий, преступлений и безумия прошлого. Несмотря на стойкую неопределенность всех деталей высшего земного совершенства человечества, смелые шаги по пути прогресса отныне казались реальными, ведь разве человечество в конце концов не рассталось с детством и не прислушалось к голосу разума?
Несмотря на убедительность таких деистских взглядов, подавляющее большинство европейцев по-прежнему придерживались традиционной христианской веры. Причиной тому была отчасти инерция консерватизма; однако деистское мировоззрение имело и серьезные недостатки, способствовавшие существенному усилению ортодоксальной религии. Бог как великий часовщик или математик мало обращался к сердцу человека и не мог помочь ему в трудную минуту. Люди высокого и тонкого ума содрогались при мысли о смерти, механической вселенной с бесконечными просторами и законами, управляющими природой. Самым знаменитым из таких людей был Блез Паскаль (ум. 1662), подтвердивший со всей силой нового убеждения жизненную важность личного соприкосновения и общения с Богом.
Возможно, именно потому, что безмолвная пустота Ньютонова бесконечного пространства грозила поглощением и полным растворением столь малой планеты, как Земля, в XVII-XVIII вв. возникало особенно много новых религиозных движений и сект, подчеркивавших прямой, эмоционально наполненный опыт общения с Богом. В протестантской традиции большой притягательностью обладали квакеры и методисты (Англия) и пиетисты (Германия), а в католических странах янсенизм и квиетизм также могли бы достичь широкого размаха, если бы осуждение со стороны папы не привело к насильственному упразднению обоих течений.

 ВЫСШИЕ И НИЗШИЕ КЛАССЫ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ
ВЫСШИЕ И НИЗШИЕ КЛАССЫ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ
Портрет достопочтенной Фрэнс Данкомб на фоне сельского пейзажа кисти Томаса Гейнсборо с его классическим стилем резко контрастирует с жанровой уличной сценкой в Лондоне, изображенной Уильямом Хогартом. До промышленной революции вся цивилизация строилась на похожем культурном контрасте между богатыми и бедными, образованными и необразованными, хозяевами и слугами. При этом признание такого разрыва и понимание его несправедливости, выраженное в картине Хогарта, редко встречалось когда-либо ранее. Возможно, неустойчивость Старого режима, рост некоторых по-настоящему крупных городов и соответствующий переход от сословных к рыночным отношениям подорвали привычные модели почтения и привели к тому, что на каждой ступени общественной лестницы люди стали активнее задумываться о ненадежности их общества по сравнению с более чистым аграрным строем.
Характерная особенность европейского общества XVIII в. заключалась в том, что таким широко расходящимся взглядам позволялось существовать бок о бок более или менее мирно, а люди делили свои симпатии между ними и часто дремлющим официальным религиозным истеблишментом. Борцы за религиозную ортодоксальность, например французский епископ Боссюэ (ум. 1704), публично высказывали свое глубокое неверие в новую науку. Другие же, подобно английскому епископу Спрату (ум. 1713), восторженно поддерживали дух науки. Как правило, теологи и ученые шли каждый своим путем, оставаясь верными стандартам и условностям их все больше расходящихся интеллектуальных традиций. Многие, включая и самого Ньютона, сочетали новую науку со старой верой, то устанавливая отдельные критерии истины для религии и науки, то пользуясь всяческими хитроумными схемами, предназначенными для того, чтобы выделить место библейской космологии в новом мире науки или новому миру науки в старой христианской космологии.
Не только естествоиспытатели, но и юристы, врачи, писатели, философы, музыканты, художники и другие ученые теперь свободно могли разрабатывать методику и традиции избранной ими профессии без оглядки на соответствие религиозной ортодоксальности. Это стало началом современной плюралистической эпохи интеллекта. Такие новые институты, как Французская академия (основана в 1635 г.) или Английское королевское общество (основано в 1660 г.), поощряли литературную и интеллектуальную деятельность и покровительствовали ей, а профессиональные научные журналы наряду с книгами и брошюрами популяризировали научные результаты, передавали новые идеи и данные всем, кого они интересовали. Менее формальные объединения, например завсегдатаи любимой лондонской кофейни доктора Джонсона или интеллектуальных салонов Парижа, также играли немалую роль в стимулировании и поддержке разнообразия и активности интеллектуальной и художественной жизни в Европе.
Никогда больше западный мир как единое целое не пытался всерьез выработать единую, всеобъемлющую истину и доктрину, хотя отдельные части этого мира — коммунистический Советский Союз, нацистская Германия и фашистская Италия — такие попытки совершали. Память о кровавой и тщетной борьбе прежних поколений в стремлении открыть, а затем навязать всеохватывающую истину помогла людям примириться с «нелогичностью многообразия». Более проникающей и постоянной оказалась самостоятельность различных профессий и объединений, поддерживавших широкое расхождение между мыслью и верой. В итоге — и возможно, именно это важнее всего — общее процветание и успехи европейского общества при политических и социальных компромиссах Старого режима позволили сравнительно легко прийти к терпимости при разногласиях даже по важным вопросам.
В таких условиях мысль в Европе достигла необычайной плодотворности и многообразия. Используя неисчерпаемый запас новых данных, получаемых от более точных наблюдений, с помощью более совершенных инструментов, более тщательного анализа или в результате проникновения в новые районы земли, ведущим представителям интеллектуальной Европы предстояло решать гигантскую задачу уже просто в силу необходимости подтвердить, упорядочить и систематизировать их расширяющийся объем знания. В этом, собственно, и заключались крупнейшие задачи естествознания в XVIII в. В физике астроном Пьер Симон Лаплас (ум. 1827) и французские артиллеристы продолжили дело Ньютона, применив его механику небесных и земных тел к новым явлениям. В ботанике и зоологии швед Карл Линней (ум. 1778) и француз Жорж Луи Леклер де Бюффон (ум. 1788) приступили к классификации и систематизации форм растительной и животной жизни всего мира. Крупнейший теоретический прорыв был совершен в XVIII в. в химии благодаря разработанной Джозефом Пристли (ум. 1804) и Антуаном Лавуазье (ум. 1794) новой теории горения и сформулированным Лавуазье принципам сохранения материи в химических реакциях.
Излишне говорить, что применение разума в гуманитарной сфере шло с меньшим успехом, хотя и тут делались смелые усилия, приносившие свои плоды. Так, например, в изучении истории блестяще сочетались эмпиризм и рационализм. В течение XVII в. ученые с немалым трудом восстановили точные хронологические рамки классического и средневекового прошлого Европы из путаницы старых хроник и календарных систем. В довершение всего монах-бенедиктинец Жан Мабильон (ум. 1681) разработал сложную методику проверки подлинности старых рукописей и их приблизительной датировки. В результате этих и подобных трудов XVIII в. стало возможным создание таких монументальных исторических сочинений, как «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона (ум. 1794), основанная на детальной исследовательской работе сотен ученых.
В то время как историческая наука поднималась на новый уровень точности и отваживалась на смелые обобщения в истолковании событий, существенно снижалось значение метафизики. Джон Локк в своем «Опыте человеческого разума» (1690 г.) выразил сомнение в возможности достижения универсально верного знания; епископ Джордж Беркли (ум. 1753) и Дэвид Юм (ум. 1776) исследовали вопросы, поднятые Локком, и указали на новые препятствия к достижению достоверного знания. Иммануил Кант (ум. 1804) все же вывел философию из тупика, в который ее завел критицизм Юма, согласившись с невозможностью познания вещей в себе, но утверждая при этом, что внимательное изучение структуры самого человеческого интеллекта ведет к универсально верной истине в отношении всех возможных объектов человеческого опыта. Кант, в свою очередь, открыл возможности для возрождения в Германии XIX в. грандиозных систематических философских школ, основанных на уверенности в необходимости анализа духа, активную роль которого в постижении реальности он столь активно подчеркивал.
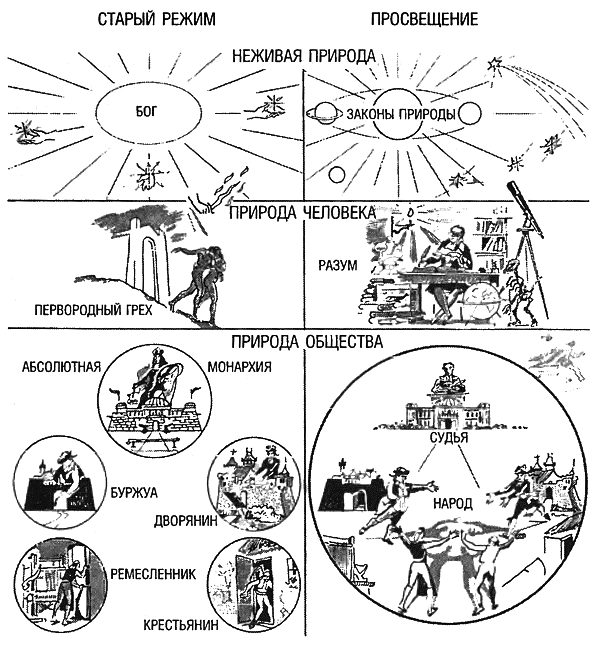 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ СТАРОМУ РЕЖИМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ СТАРОМУ РЕЖИМУ
Трудности эпистемологического и метафизического характера, разумеется, не удерживали публицистов и самозванных философов XVIII в. от критики существующего общества во имя разума. Под их придирчивым взглядом совершенно иными представали многие установившиеся обычаи и устоявшиеся институты. Вольтер (ум. 1778) во Франции взялся высмеивать суеверия и фанатизм официальной религии, а в Шотландии Адам Смит утверждал в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776 г.), что экономическое производство и торговля автоматически придут к своим наиболее эффективным формам, если дать полную свободу человеческой природе, движимой разумным своекорыстием. С этой точки зрения, вмешательство государства в хозяйственный процесс, повсеместно практиковавшееся при Старом режиме, было просто помехой всеобщему благоденствию.
Основы любой политической власти явно требовали переосмысления, поскольку люди больше не верили, что Бог лично вмешивается в дела человеческие. В отсутствие же Божественного провидения ссылающаяся на Божественное право монархия становилась просто узурпацией. Альтернативная основа для легитимизации правления была найдена в понятии общественного договора, однако условия такого договора формулировались с огромными расхождениями. Томас Гоббс (ум. 1679) использовал понятие общественного договора для утверждения необходимости абсолютной монархии, в то время как Джон Локк (ум. 1704) и Жан-Жак Руссо (ум. 1778) оправдывали революцию, прибегая к соответствующему переопределению условий договора. «Общественный договор» Руссо был, несомненно, вполне революционной книгой, так как в ней выдвигалась демократическая теория суверенитета и утверждалось, что восстание является оправданным, если правительство не в состоянии удовлетворить народ, которым оно правит. Такие теории, требовавшие фактически упразднения устоявшихся институтов и их замены рациональным порядком человеческого общества, серьезно подрывали Старый режим и все его устаревшие компромиссы.
И все же критики, высказывавшие свои обоснованные принципы для отрицания существующих моделей жизни, были пока еще в меньшинстве. Несмотря на то что доверие разуму и прогрессу, вера в изначальные добродетели природы человека и более светское мировоззрение в XVIII в. проникали в сравнительно широкие слои населения Европы, основная его часть тем не менее оставалась верна прежним шаблонам веры и поведения. Сколь бы велико ни было несоответствие, которое они могли видеть между христианством и новыми понятиями, большинство людей воздерживалось от того, чтобы делать из этих несоответствий какие-либо логические выводы как на словах, так и на деле. Таким образом, иррациональность институтов, столь сильно возмущавшая просвещенных критиков, находила свой интеллектуальный аналог среди большинства самих критиков.
КОМПРОМИССЫ В ИСКУССТВЕ. Плюрализм европейского общества и мысли при Старом режиме проявлялся и в искусстве. К концу XVII в. в Англии сосуществовали высокий стиль эпической поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667 г.) и развязность комедии эпохи Реставрации, а столетием позже утонченный городской стиль прозы Сэмюэля Джонсона (ум. 1784) соперничал с мастерской безыскусностью Роберта Бернса (ум. 1796). Традиционно в европейской литературе различают классический период, за которым последовал период романтический. Искусствоведы же выделяют три стиля в архитектуре и живописи: барокко, рококо и классицизм. Такая классификация приемлема, если не слишком дотошно анализировать ее, но она едва ли подходит к таким писателям, как Даниель Дефо (ум. 1731), или к голландской живописной школе, и нам следует всегда помнить, что меняющиеся стандарты моды и вкуса никогда не могли вытеснить Шекспира с английской сцены или Библию Лютера из немецких домов.
Внешне в конце XVII — начале XVIII вв. искусство и литература отличались поразительным согласием, учитывая, что благодаря авторитету французской культуры классицизм распространялся по всей Европе. Великие драматурги Франции Пьер Корнель (ум. 1684), Мольер (ум. 1673) и Жан Расин (ум. 1699) всерьез воспринимали правила — как в произношении (в соответствии со «Словарем» Французской академии), так и в композиции (триединство). В последующие годы им старательно подражали и во Франции, и за ее рубежами, так что французский язык стал языком литературы чуть ли не по всей Европе. Лишь английская литература оставалась полностью независимой, придерживаясь при этом классических норм сдержанности, элегантности, точности, благодаря таким писателям, как Джозеф Аддисон (ум. 1719) и Александр Поп (ум. 1744). Наряду с этой высокой, космополитичной, деликатной литературной культурой существовало огромное разнообразие других ее проявлений: от лихорадочных видений основателя квакерства Джорджа Фокса (ум. 1691) до степенных трудов немецкого юриста Самуэля Пуфендорфа (ум. 1694).
Французский идеал классицизма стал отчетливо ослабевать во второй половине XVIII в. В частности, в Англии и в Германии писатели отошли от французских образцов и черпали вдохновение больше в античном наследии Греции или в собственной национальной и средневековой эпохе. Крупными вехами движения в этом направлении стали сборник народных баллад «Реликвии древней английской поэзии», выпущенный в 1765 г. епископом Перси (ум. 1811), и страстные выступления Иоганна Готтфрида Гердера (ум. 1803) за самобытную немецкую литературу, уходящие корнями в язык и мышление простого народа. Романтизм провозглашал спонтанное выражение чувств единственным источником большой литературы и подчеркивал значение национального, местного и личного духа. Такие взгляды подтолкнули (а может быть, это просто совпадение?) внезапный расцвет немецкой литературы. Фридрих фон Шиллер (ум. 1804) и Иоганн Вольфганг фон Гете (ум. 1832) стали центральными фигурами возрождения немецкой литературы, хотя применительно, например, к Гете, термин «романтизм» не может охватить все разнообразие его творчества.
Подобным образом и в архитектуре последовательно воцарявшаяся мода то на барокко, то на рококо, то на классицизм не смогла помешать проявлению широкого разнообразия в практических творениях. Ведь барокко и рококо тяготели к новым и неожиданным эффектам, так что каждый из этих стилей включает огромное разнообразие элементов. В XVIII в. часто намеренно одновременно применялись экзотические архитектурные стили. Так, например, обычный английский полубрусовый дом мог находиться в окружении «готических» руин (построенных по заказу владельца за неимением настоящего замка) и через зеленую лужайку от мрачного грота, скрывающего внутри изысканный интерьер-рококо. Подобный колорит могли дополнять китайский чайный домик или индийские пагоды, тогда как в соседней деревне крытые соломой или черным шифером дома свидетельствовали о неискоренимой верности древнейшим исключительно местным традициям строительства.
Живопись в меньшей степени отражала разнообразный и беспокойный характер европейской культуры. Сохранялась в основном техника эпохи позднего итальянского Возрождения, а привычные сюжеты — портреты аристократов, классические аллегории и религиозные темы — также не выходили за рамки старых традиций. И все же существенным дополнением к жанрам европейской живописи стали пейзажи, на которых люди были изображены очень мелко, а то и вовсе отсутствовали.
В области музыки в начале XVIII в. европейцы уже располагали широким спектром новых или усовершенствованных инструментов благодаря тому, что удалось лучше понять связь между звуковыми волнами и музыкальными тонами. Равномерно темперированный клавикорд Иоганна Себастьяна Баха (ум. 1750), позволивший композиторам использовать все тональности и обозначивший переход от клавесина к фортепиано, а также современная скрипка, усовершенствованная такими мастерами, как, например, Антонио Страдивари (ум. 1737), стали самым заметным из других многочисленных вкладов в музыкальные ресурсы Европы. В результате был открыт новый мир инструментальной музыки, в котором старые принципы гармонии действовали и расширялись с учетом различий в тоне и тембре между инструментами. Весь XVIII в. европейские музыканты занимались раскрытием возможностей, возросших с появлением новых инструментов, и соединением инструментальной музыки с вокалом. Бах, Кристоф Вилли-бальд Глюк (ум. 1787), Вольфганг Амадей Моцарт (ум. 1791) и Франц Иосиф Гайдн (ум. 1809) работали по твердо установленным правилам, как и современные им классические писатели. Однако правила гармонии при этом не были ограничены искусственно подобно тому, как это иногда случалось в литературе. Они скорее направляли композиторов и публику в энергичном исследовании возможностей, обеспечиваемых новыми инструментами и их разнообразными сочетаниями. Так сложился один из величайших периодов европейской музыки.
ЭЛЕМЕНТЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СТАРОГО РЕЖИМА. По мере того как ослабевала память о религиозных войнах и росло доверие к разуму и вера в прогресс, увеличивалась и нетерпимость к многочисленным проявлениям несправедливости в европейском обществе. Французские дворяне были настолько недовольны своей политической малозначимостью, что в годы, непосредственно предшествовавшие Французской революции, они возглавили выступления против абсолютной монархии. Их недовольство сразу нашло отклик среди представителей свободных профессий и деловых кругов, которым легко было убедить себя, что они заслуживают более значительной политической роли и большего веса в обществе. Идеи свободы, прав человека, достоинства личности и даже суверенитета народа вызывали несогласие с существующим порядком вещей. Однако взаимосвязь закрепленных законом интересов затрудняла и даже делала опасными перемены, и в этом смогли убедиться столь разные личности, как, например, деятельный сторонник реформ австрийский император Иосиф II (1780-1790 гг.) или гроза юристов в Англии Иеремия Бентам (ум. 1833).
И все же не только и, может быть, не столько идеи размывали Старый режим. Технический прогресс, набравший скорость в XVII-XVIII вв., сыграл более непосредственную и более существенную роль в переделке общества. Техника входила в жизнь людей постепенно, без всеохватывающих планов или сверхзадач по изменению порядков в обществе. Следует отметить, что некоторые мыслители заявляли о твердой вере в благотворное влияние именно постепенных изменений в технике. Особенно благоприятной для подобных взглядов оказалась английская эмпирическая традиция, поскольку такие личности, как Фрэнсис Бэкон (ум. 1626) и основатели Королевского общества (1660 г.), смотрели вперед с полным доверием к пользе, ожидаемой ими от технических достижений в результате тщательных наблюдений и опытов. На самом же деле научная теория очень медленно приближалась к той точке, когда она могла оказывать серьезное влияние на процессы экономического производства. Пока химия не достигла той точности, которую она смогла продемонстрировать в XVIII в., абстрактная наука мало влияла на промышленное производство. Потребность в теории по-настоящему не ощущалась. Грубый, но эффективный эмпиризм, выражавшийся во всеобщей готовности к пересмотру традиционных приемов, к ремесленничеству с помощью новых устройств, к опробованию новых операций, материалов и инструментов, был вполне достаточен для того, чтобы в европейской технике произошли огромные перемены, а темпы этого движения вперед значительно ускорялись новой культурой фиксирования, измерения, сравнения и публикации результатов в специальных изданиях.
Основным видом экономической деятельности было сельское хозяйство, и такие сравнительно простые направления, как систематическая селекция семян, старательное выведение специализированных пород животных и внедрение или распространение таких новых культур, как клевер, турнепс, картофель, кукуруза, хлопок и табак, способствовали громадному росту производительности фермерских хозяйств. Специальные испытания, проводившиеся с целью определить наилучшую форму плуга, и другие усовершенствования повышали эффективность земледелия. Фермеры регулярно и с энтузиазмом использовали преимущества повторной пахоты, прополки, дренажных устройств, "внесения в почву навоза и других удобрений. Ведущую роль в этих процессах захватила Англия, так как английские землевладельцы могли заставить своих работников применять новые методы ведения хозяйства, тогда как в других частях Европы ограниченное привычным порядком крестьянство продолжало работать по старинке и очень медленно перенимало усовершенствованные сельскохозяйственные приемы.
Строительство дорог и каналов налаживали зачастую таким же методом проб и ошибок, хотя в данном случае правительственная инициатива проявлялась гораздо сильнее, чем в развитии сельского хозяйства. Ведущее положение заняла Франция благодаря строительству пригодных для использования в любую погоду дорог и систем каналов, связавших главные реки страны в единую систему судоходных путей. Англия последовала этому примеру только к концу XVIII в., а остальная Европа (за исключением Голландии) оставалась далеко позади. Неуклонно совершенствовались судо-, вагоно- и пассажирское вагоностроение. Для перевозки громоздких и объемных грузов стали повсеместно использовать рельсовые вагонетки на людской или конской тяге.
В прежние времена основным фактором развития техники служила горнодобывающая промышленность. К началу XVIII в. техническое лидерство у Германии перехватили английские угольные шахты. По мере того как шахты становились глубже и увеличивалась добыча угля, потребность в тяжелом подъемном оборудовании и в насосах для предотвращения затопления шахт стимулировала инженерную мысль. Необходимость в мощных источниках энергии подстегнула опыты с паровыми машинами. Сконструированная Томасом Ньюкоменом машина (1712 г.) впервые позволила использовать уголь для приведения в действие шахтных насосных систем. В последующие десятилетия эффективность таких машин возросла благодаря усовершенствованиям их конструкции и быстрому росту их размеров и мощности. В 1760 г. Джеймс Уатт совершил революционный прорыв в конструкции паровых машин, применив «острый» пар для перемещения поршня[1034]. Он запатентовал свое изобретение в 1769 г., а в последующие годы модификация конструкции машины и ее применение для широкого круга задач, помимо откачки воды, намного увеличили ее ценность.
Практические успехи паровых машин определялись техникой точного формования металла, так, чтобы поршень и цилиндр могли достаточно плотно прилегать друг к другу для предотвращения серьезных потерь пара. Эта и другие технические задачи были решены скорее на практике, чем в теории, небольшой группой изобретательных мастеров и механиков с незначительной — а то и вовсе никакой — научной подготовкой. Постоянная работа в мастерских сама по себе была школой, а реальная координация работ, необходимых для широкомасштабного производства такой сложной механической системы, как паровая машина, была не менее важна, чем технологические детали. Сотням работников пришлось вскоре привыкать к технологической дисциплине при изготовлении массы разнообразных металлических деталей, которые, собранные в машину, должны безупречно одна к другой подойти. Это требовало точных измерений на каждом этапе изготовления и искусного владения напильником и кронциркулем для получения нужных размеров. Прежнее мастерство рук и глазомер ремесленника оказались фактически объединены для получения результата, которого невозможно достичь в одиночку без колоссальных затрат времени. Сама эта взаимосвязь была создана невиданно абстрактной и точной сетью типоразмеров отдельных частей — клапанов и их седел, поршней и цилиндров, колес и подшипников, которые после сборки превращались в работающую паровую машину.
Значительного развития достигла также металлургия, прежде всего опять-таки в Англии, где нехватка леса для получения древесного угля долго сдерживала производство стали. Во второй половине XVIII в. применение кокса в качестве нового топлива позволило разрешить эту проблему. Другие технические достижения обеспечили более однородное качество и увеличение масштабов производства, и по мере удешевления стали она находила новые виды применения в возведении мостов, в производстве строительных конструкций и в машиностроении. Таким образом, Англия и Шотландия уже устремились в век угля и стали, когда разразилась Французская революция.
Самые замечательные технические достижения принадлежали, однако, к текстильной промышленности, где ряд изобретений — от челнока Джона Кея (1733 г.) до прядильной машины Самуэла Кромптона (1774 г.) — позволили механизировать прядение и ткачество, тем самым невероятно увеличив производительность труда и удешевив готовое платье. Хлопковая промышленность, бывшая для Англии новой и не обремененной ремесленными традициями, быстрее других перенимала новые методы работы. В результате в последние десятилетия XVIII в. английскую одежду из хлопка стала продавать дешевле изделий индийских ткачей даже в самой Индии.
Таким образом, Англия и Шотландия стали опережать остальную Европу в важных областях техники. Началась промышленная революция, которой было суждено преобразить облик Европы и мира. И все же до 1789 г. фабрики с происходящими на них переменами и активно работающие угольные шахты только начинали показывать свою силу в преобразовании человеческого общества. Европа в целом оставалась аграрной, и даже в Великобритании превосходство сельского хозяйства еще не ставилось под вопрос.
* * *
Старый режим в Европе был низвергнут не промышленной революцией, не распространившимися радикальными политическими идеями, а Французской революцией, причины которой были столь же многогранны, сколь и сотрясенное ею общество. При этом революция и последовавшие за ней войны могли бы не принять такие жесткие формы без влияния радикальных идей, ставших популярными в последние десятилетия Старого режима. В свою очередь, воздействие революции не оказалось бы столь долговременным, если бы принесенные ею законы, войны и смена собственности не способствовали высвобождению силы машин. Политические события революции (включая предшествовавшие им события в Америке) послужили катализатором, активизировавшим элементы нестабильности Старого режима и умножившим их действие до такой степени, при которой начались процессы преобразования европейского общества. Не будь всех тех деталей меняющегося политического калейдоскопа во Франции — нерешительности Людовика XVI, негибкости французской налоговой системы, неповиновения аристократов, народного недовольства, ни радикальные идеи, ни новые способы производства не смогли бы преобразовать европейское общество столь быстро и столь основательно. Таким образом, даже в предсмертной агонии Старый режим демонстрировал свое сложное и тонкое многообразие.
В. СПЯЧКА МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА В 1700-1850-Х ГГ.
Карловицкий договор 1699 г., по которому Османская империя уступала большую часть Венгрии Австрии, знаменовал собой окончательный поворот в балансе сил между исламским миром и Европой. Всего шестнадцатью годами раньше, в 1683 г., турки поразили и напугали Запад осадой Вены, однако после Карловиц Османское государство было вынуждено постоянно защищаться и оказывалось хронически неспособным противостоять армиям соседних европейских империй. Военная слабость усугублялась нарастанием серьезного расстройства внутри страны, где местные правители игнорировали власть султана, а шайки бандитов грабили население. В этот же период две другие великие мусульманские империи также пережили полный драматизма упадок. Со смертью Аурангзеба в 1707 г. Индия осталась в состоянии хаоса, в котором индуисты, сикхи, мусульмане и британские силы дрались между собой у распростертого тела некогда гордого и могущественного государства Моголов. Двумя годами позже, в 1709 г., империи Сефевидов был нанесен удар восстанием в Афганистане, а следующие два десятилетия ее существования были отмечены полным замешательством по мере того, как турки, русские, афганцы и узбеки отхватывали себе куски территории бывшей империи Сефевидов.
Политический разлад в важнейших частях мусульманского мира, очевидно, сказался и на экономическом благосостоянии. К тому же изменение структуры международной торговли, в частности рост импорта европейского текстиля и других фабричных товаров, ослабляло традиционное ремесленное производство в мусульманских городах. Сокрушительное экономическое превосходство Европы, достигнутое благодаря более дешевым товарам машинного производства, наступило позже, окончательно установившись к 1830 г., и лишь после этого начал рушиться традиционный уклад мусульманских городов. Однако в течение XVIII в. экономика мусульманских стран (сохранившаяся в окраинных зонах Африки и на далеких островах Юго-Восточной Азии), как и мусульманские государственные структуры, повсюду слабели и уступали натиску европейцев.
Опыт прошлых веков не мог подготовить мусульманский мир к такому бедствию. До конца XVII в. извечное противостояние между исламом и христианством, как правило, оборачивалось в пользу мусульман. Иначе и быть не могло, по мнению последователей Аллаха, чей пророк объявил, что ясным проявлением божественной милости служит победа над неверными. Поэтому резкий поворот хода истории, столь очевидно и масштабно совершившийся с началом XVIII в., поставил мусульман перед безнадежной и неразрешимой головоломкой. Неужели Аллах оставил их? И если да, то почему? И даже вопреки всем возможным изъянам общности веры мыслимо ли, чтобы бог благоволил к христианским псам и неверным?
Политические катастрофы случались в истории мусульманского мира и до 1699 г., но они всегда оказывались временными. Даже нашествие монголов на Ирак и уничтожение халифата Аббасидов вскоре закончилось обращением ханов в истинную веру и возобновлением экспансии мусульман на всех фронтах. Таким образом, на несчастья XVIII в. мусульмане реагировали главным образом терпеливым ожиданием конца бури, оставаясь верными своему прошлому, насколько это позволяли обстоятельства.
Когда же стало ясно, что конец бури никак не наступает, в мусульманских обществах начали набирать силу два противоположных подхода. С одной стороны, реформаторы заявляли, что ислам претерпел серьезные искажения за прошедшие столетия. Так, например, чистый монотеизм был затемнен поклонением и почитанием праведников, привнесенных в веру суфизмом. Из этого следовало, что только энергичное и жесткое утверждение изначальных истин религии в том виде, в котором их проповедовал сам Мухаммед, могут вернуть благоволение Аллаха и тем самым вновь поставить мир на правильный путь. Самое крупное движение такого толка возникло в центральной части Аравии в результате проповедей Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703-1792). Влияние ваххабизма весьма медленно распространялось по Аравийской пустыне, но движение это и по сей день остается важной частью реакции мусульман на дилемму, поставленную перед правоверными историей двух последних столетий.
С другой стороны, предпринимались попытки заимствовать те аспекты европейской цивилизации, которые обеспечили успех европейцев. Наиболее очевидным из таких факторов было военное искусство, и начиная с 1716 г. османские правители спорадически пытались перестраивать турецкие вооруженные силы на европейский манер. Однако в течение более чем ста лет непоколебимый консерватизм янычар и улемов сводил на нет все подобные попытки в империи. Перемены, вводившиеся султаном или министром-реформатором, постоянно разбивались о народные бунты в столице, поддерживаемые мятежниками из числа янычар. Даже после 1826 г., когда султан применил обученную воевать поевропейски артиллерию для разгрома в Константинополе восставших янычар, сопротивление реформам оставалось всеобщим и опиралось на глубокие корни в Османской империи. Непрекращающиеся сложности во внешней политике в сочетании с бунтами внутри империи и постоянными неудачами в войнах с европейскими державами отвлекали султанов от задач, требовавших решения для укрепления военной силы. На троне империи не было сильной, подавляющей личности, способной провести революцию сверху, и потому реформы оставались мертворожденными. Как и в империи Моголов в Индии, турецкие правители пытались спастись, копируя европейские военные приемы, в то время как всевозможные узурпаторы, вытеснившие Сефевидов в Персии, использовали свое шаткое положение у власти для сохранения старой общественной и политической системы. Даже в Османской империи реформы нравились очень немногим. Большинство мусульман пребывали в каталепсии и не могли ни интеллектуально, ни практически приспосабливаться к новым условиям, возникшим в связи с военным и культурным превосходством Европы. Слепой консерватизм, цепляющийся за крошащиеся принципы разрушающегося общественного порядка, господствовал в мусульманском мире вплоть до второй половины XIX в.
1. РЕФОРМЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И ВОССТАНИЕ ХРИСТИАН
Многочисленные трещины в обществе Османской империи серьезно осложняли попытки реформ. В европейских провинциях империи большинство населения было христианским, и оно более или менее сознательно сопротивлялось турецким правителям. Арабы, составлявшие большинство населения азиатской части империи, были отделены от турок языком и в такой же степени своей культурой. Аналогично глубокая пропасть разделяла город и деревню, а кроме того, лежала между селами, принадлежавшими феодалам, и свободными селами в горах и других отдаленных районах. Наконец, скотоводы составляли значительную часть населения как в европейских, так и в азиатских провинциях империи. Они, отчасти ведшие племенной образ жизни, а отчасти жившие в более или менее устоявшихся поселениях, всегда вели себя вольнее по отношению к государственным органам правления, чем это могли себе позволить земледельцы с равнин.
Скотоводческие и полускотоводческие группы населения представляли собой источник людей, всегда готовых и желающих заняться разбоем. При наличии цели, оправдывающей грабежи, и руководителей, знающих, как совместить проповеди с разбоем, вольница могла быстро разрастаться в крупный вооруженный мятеж. Так в середине XVIII в. возникла первая «империя» аравийских ваххабитов, которая стала быстро расширяться, пока хорошо оснащенные экспедиционные силы из Египта не подавили ее в 1818 г.[1035] Подобные группы населения на Балканах — пастухи, погонщики мулов, горцы — также сыграли значительную роль в истории сербского (1803-1813 гг.) и греческого (1821-1830 гг.) восстаний, так как военачальники и лучшие бойцы в том и другом случае вышли из разбойничьих банд, поставленных на службу новой идее национализма. Проповедники и наставники этой идеи не были, подобно ваххабитам, реакционными радикалами, а выступали как революционеры, в той или иной степени зараженные знанием и восхищением перед Западом. В ближайшей перспективе эта иностранная «зараза» стала препятствием для сербов и греков, разделившим руководителей и их последователей. Однако, если рассматривать это обстоятельство под углом длительной перспективы, то прививка западных идеалов обеспечила более долгую политическую жизнеспособность национальному движению балканских христиан, чем любые реакционные призывы о возврате к православному наследию, сходные с теми, которыми пользовался ваххабизм в исламском мире.
Совершенно очевидно, что призыв к освященному разбою никоим образом не был единственной причиной выступлений христиан и арабов против своих османских господ. Ваххабизм начал завоевывать популярность среди интеллигенции и горожан именно после того, как распрощался с разбоем, и движение это стало мощной силой за пределами Аравийского полуострова только после своего военного поражения[1036]. Волнения христиан Османской империи имели более сложные причины. Уже в силу самой своей религии они были гораздо более восприимчивы к европейским идеям, чем арабы или турки, особенно после того, как православная Россия стала соперничать с Османами на Черном море. Успешное проведение реформ в самой России породило надежду на подобное возрождение в православных общинах на Балканах, и уже с начала XVIII в. российские агенты спорадически, но вполне успешно внушали мысли о восстановлении христианской империи на Балканах под эгидой России. Когда в 1770 г. в Средиземном море появился российский флот и день окончательной расплаты с турками казался столь близким, на Пелопоннесе вспыхнуло восстание, которое, впрочем, было вскоре подавлено.
Внутренние перемены в балканском христианском сообществе дополнялись действиями извне. В XVIII в. стали процветать купеческие общины в Греции и Сербии. Сначала погонщики мулов с балканских гор обогащались, доставляя мелкие товары в новые поселения на венгерских, румынских и украинских равнинах. Эта своеобразная караванная торговля расширялась по мере того, как более организованным становился вывоз зерна из этих потенциально очень плодородных районов. К концу XVIII в., однако, сухопутную торговлю намного обошла морская. По Кючук-Кайнарджийскому договору (1774 г.) Турция впервые разрешала российским торговым судам плавать по Черному морю и проходить через проливы. Полнейшее начальное отсутствие российских судов и моряков в этих водах было восполнено действиями российских консулов на Балканах, щедро предоставлявших грекам и другим христианам право ходить под российским флагом. В итоге перевозка товаров в восточной части Средиземного моря, в Эгейском и Черном морях быстро оказалась в руках греков[1037]. Эти купцы и связанные с ними ремесленники неизбежно сталкивались с западными идеями и становились тонким, но эффективным «приводным ремнем» между православными Балканами и Западной Европой. Они больше, чем кто-либо другой, приносили идеи и выражали лозунги сербского и греческого восстаний[1038].
Следует заметить, что христиане не выступали единым фронтом против мусульманского господства. Так, с конца XVII в. греки-фанариоты[1039] занимали важное место в османской администрации, работая переводчиками и посредниками турок в их отношениях с европейскими державами и с христианскими подданными империи. Власть фанариотов носила отчасти и финансовый характер, учитывая, что банкиры из их среды регулярно платили турецким пашам за должности и надежные значительные привилегии, например доходные места откупщиков. К тому же семейства фанариотов держали под своим контролем православный патриархат Константинополя и в середине XVIII в. стремились распространить сферу его влияния на прежде самостоятельные церкви Сербии и Болгарии[1040]. В итоге с 1711 г. турки поручили управлять румынскими провинциями фанариотам, а те устраивали свое правление в Бухаресте и Яссах по образцу полузабытого византийского порядка и втайне мечтали о восстановлении владычества Греции на Босфоре[1041]. Занимая столь значительное место в режиме Порты, фанариоты придерживались двух разных точек зрения на попытки его свержения. Некоторые из них поддерживали группы купцов в осторожных переговорах с Россией, лелеяли идеи французского Просвещения[1042] и помышляли о возрождении былой славы Византии. Большинство же вело себя сдержанно, но все равно после 1821 г. лишилось всей своей власти, когда в результате восстания в Греции турки усомнились в лояльности всех греков вообще[1043].
Низвержение фанариотов (1821-1830 гг.) открыло дорогу небольшой группе европейски настроенных турок к государственным постам, занятым ранее греками[1044]. Мусульманские реформаторы рассчитывали, что смогут проникнуть в самые отдаленные уголки Османского государства, чего никогда не смогли бы сделать неверные, и когда в 1839 г. Решид-паша провозгласил широкомасштабные политические и социальные реформы по европейскому образцу, «западники» уже фактически захватили бразды правления. Однако обещания Решида остались невыполненными, так как очень мало османских чиновников были готовы поверить в здравый смысл или необходимость столь решительных отступлений от османских и мусульманских традиций. До окончания Крымской войны (1853-1856 гг.) откровенная враждебность, с которой турки относились к любым переменам, практически сводила на нет любые реформы, которые начинал султан.
Непокорные местные властители иногда намного успешнее ломали закостеневшие традиции, столь жестко ограничивавшие османское общество. Они, прибегая к очень жестоким методам, направленным главным образом на максимизацию своей военной мощи, часто становились гораздо более эффективными агентами европеизации, чем султан и центральное правительство. Наиболее значительным и успешным среди этих военных авантюристов был Мухаммед Али, паша Египта (ум. 1848). Албанец, поднявшийся благодаря безжалостным интригам до поста османского губернатора Египта, Мухаммед Али в 1811 г. вырезал гарнизон мамелюков и стал полновластным хозяином страны, хотя и продолжал номинально подчиняться Константинополю. Он европеизировал армию, реформировал администрацию и построил коммерческую экономику Египта. Он взял на службу многочисленных европейцев (особенно французов) и безжалостно угнетал коренных египтян. Его амбиции не останавливались на границах Египта: он распространил свой контроль над Аравией (Ваххабитская война, 1811-1818 гг.), Суданом (1820-1822 гг.), Критом (1823 г.) и Грецией (1825-1828 гг.). Соединенные военно-морские силы Британии, Франции и России прервали это построение империи, разгромив флот Мухаммеда Али при Наварине (1827 г.). Западные дипломаты принудили его вывести свои войска из Греции и таким образом обеспечили успех войны греков за независимость. Когда в 1832-1833 гг. он захватил Сирию у Османского султана, европейские великие державы снова отняли у него плоды победы, заставив его ограничиться наследственным титулом правителя Египта и Судана[1045].
 РАСПАД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
РАСПАД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Интервенция против Мухаммеда Али подняла на новый уровень степень вмешательства европейцев в дела Османской империи, поскольку великие державы Европы стали рассматривать сохранение Османской империи как жизненную необходимость для европейского равновесия сил. В определенном смысле европейская поддержка османского режима подготовила путь для более широких и далеко идущих внутренних реформ второй половины XIX в. Однако сам факт, что султан оказался в зависимости от иностранной дипломатической и военной поддержки, мог привести к отчуждению мусульман от программы реформ, которые стали походить просто на орудие установления еще более прочного господства европейского могущества над сообществом правоверных[1046].
Ввиду тяжелого политического положения Османской империи неудивительно, что подданные султана не проявляли больших творческих достижений. В языке и литературе, однако, наблюдались важные изменения, поскольку по замечательному совпадению турки, греки и сербы выработали в 1750-1850 гг. новые литературные языки. В XVIII в. турецкая поэзия освободилась от персидских шаблонов, хотя при этом в результате стала беднее и упрощеннее, а турецкая проза в работах Акиф-паши (1787-1847 гг.)[1047] открыла для себя новый и более простой словарь и стиль. Литературный турецкий язык с этой поры в значительной степени основан на преобразованиях в языке, сделанных Акифом.
Сербский и греческий языки пережили еще более осознанную трансформацию. Доситей Обрадович (ум. 1811) и Вук Караджич (ум. 1864) использовали крестьянский диалект Герцеговины[1048] в качестве основы для литературного сербского языка; к середине XIX в. он заменил прежний литературный язык, основанный на церковнославянском. Аналогично Адамандиос Кораис (ум. 1833) создал новое греческое средство литературного общения, в котором подчеркивалась преемственность с классическим языком, а словарный запас был очищен от сильного засорения итальянскими и турецкими словами. Эти усилия принесли мало плодов до 1850 г. Новые литературные языки оформились не благодаря внутреннему развитию сербской или греческой культуры, а под влиянием философских и национальных идей, развитых в Западной Европе, особенно в Германии. Следовательно, появление новых языков в начале XIX в. было скорее манифестацией будущего, чем проявлением местных культурных достижений.
Тем не менее старая структура османского общества с тщательным разграничением между многочисленными религиозными, профессиональными и местными автономными группировками к 1850 г. была определенно и непоправимо сломана. Тот факт, что как турки, так и арабы и христиане были недовольны получившейся смесью, гарантировал будущие потрясения.
2. ИРАН И ТУРКЕСТАН
Когда в 1736 г. династия Сефевидов окончательно ослабела, наследников Исмаила оттеснил новый завоеватель — Надир-шах (1736-1747 гг.). Надир был фактическим правителем Персии за десять лет до того, как сам воссел на трон, и за это время его победами Персия была спасена от афганцев. После безрезультатных войн с турками Надир предпринял эффективное вторжение в Индию (1738-1739 гг.), разбил войско Моголов и занял Дели. Затем с наступлением жаркого сезона он неожиданно вернул трон императору Моголов и вернулся на север, предварительно потребовав уступить ему всю территорию на север и запад от Инда. Победоносные походы в Среднюю Азию в 1740 г. вознесли Надира на вершину славы, однако восстания и возобновившиеся войны с турками вскоре стали разваливать новую империю. Ко времени его убийства в 1747 г. она рассыпалась на куски[1049], многие из которых были подобраны новым афганским завоевателем — Ахмад-шахом Дуррани (1747-1773 гг.). Империя Ахмад-шаха простиралась от Аральского моря на севере до индийских земель на юге, но и она так же распалась вскоре после смерти своего основателя. Однако деятельность Ахмад-шаха оказала значительное влияние на политику Индии, поскольку выигранная им битва при Панипате в 1761 г. у Маратхской конфедерации навсегда ослабила индуистские войска, и Индия в результате оказалась гораздо более уязвимой, чем раньше, к захвату англичанами[1050].
Непрочные правительства и постоянные войны, замешанные на этническом соперничестве, между афганцами, персами и турками, продолжали нарушать мир в Иране и в Средней Азии после ухода двух великих завоевателей. Эти вечные раздоры благоприятствовали китайским походам в Восточный Туркестан в XVIII в., а продолжающийся политический беспорядок способствовал подобному укреплению позиций России в зоне Каспия и на Кавказе в XIX в. В 1835 г. шах сам вступил в тесные отношения с Россией, вызвав тем самым растерянность Британии, которая беспокоилась за свое положение в Индии. В стремлении опередить Россию, британские силы вторглись в Афганистан (1839 г.), но лишь за тем, чтобы с позором отступить, когда истощились припасы. Вторая карательная экспедиция сожгла афганскую столицу (1842 г.) и тоже удалилась восвояси.
В целом старая военная традиция Ирана и Туркестана оставалась почти неизменной вплоть до середины XIX в. Но неудержимые конники при всей их отваге и храбрости уже не могли сражаться на равных с армиями, организованными и оснащенными по европейскому или китайскому образцу. Как следствие, Китай с востока, Россия с севера, а Британия с юга неуклонно сужали прежнюю свободу действий мусульманской конницы. Пускались в ход деньги и снабжение порохом и боеприпасами, чтобы сажать своих и убирать неугодных местных князей, а учитывая, что европейские товары завоевывали все новые рынки, местные ремесленники и купцы теряли почву под ногами. Экономический упадок отбирал даже оставшиеся возможности построения стабильного политического строя на основе местных ресурсов. Таким образом, старое общество Ирана и Туркестана, несмотря на его удаленность от Европы, так же не могло противостоять европейской военной и экономической мощи, как и находившаяся в худшем географическом положении Османская империя. Политическая и экономическая слабость сопровождалась культурным застоем или откровенным откатом назад[1051].
3. РАСПАД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ В ИНДИИ
Еще во времена правления императора Аурангзеба (1658-1707 гг.) власть Моголов стали подтачивать хронические восстания. В гористой местности южнее Бомбея группа маратхов под предводительством Шиваджи (ум. 1680) стала промышлять разбоем и вооруженными нападениями, которые императорские войска были не в состоянии предотвратить. Объявив себя борцами за дело индуизма против ислама, маратхи привлекли в свои ряды немало индуистских авантюристов и в конце концов образовали свое собственное государство. К середине XVIII в. они установили номинальное господство над всей Центральной Индией и определенно выдвинулись в число ведущих претендентов в Индии на наследие слабеющей власти Моголов.
После смерти Аурангзеба (1707 г.) сикхи Пенджаба подобным же образом избавились от контроля Моголов и мусульман и создали свое государство. В довершение мятежные губернаторы провинций империи Моголов образовали целую мозаику из независимых княжеств в разных частях Индии. Наиболее прочным из таких княжеств был Хайдарабад в Декане, где постоянная необходимость обороняться от соседних маратхов помогла выработать настоящий порядок и дисциплину. В конечном счете набеги со стороны Ирана и Афганистана, вторжения гуркхов из Непала завели политику Индии в тупик. Империя Моголов номинально существовала до 1858 г., однако череда слабых и развращенных императоров чаще всего превращала имперскую власть не более чем в фикцию даже в непосредственной близости от столицы.
Такие политические условия все больше вынуждали европейские торговые компании в Индии опираться на собственные ресурсы. Подобно правителям провинций самой империи Моголов, местные агенты компаний постепенно приобретали фактический суверенитет и уходили из-под действенного контроля далеких от них Парижа и Лондона. В сферу деятельности чиновников компаний стали входить как коммерческие, так и военные дела, поскольку набеги и зверства индийских феодалов требовали сооружения фортов и усиления гарнизонов, охраняющих европейские поселения. Учитывая, что коренным жителям можно было платить меньше, чем европейцам, агенты компаний пополняли свое войско новобранцами из местных жителей, однако командирами над ними ставили европейцев. К XVIII в. даже небольшие подразделения таких сипаев, обученных и экипированных на европейский манер, способны были побеждать значительно превосходящие их числом индийские силы[1052]. Это обстоятельство не прошло мимо внимания местных правителей, начавших, в свою очередь, нанимать европейских авантюристов в надежде обзавестись собственными мощными армиями. С точки зрения европейцев это давало им неотразимые поводы для вмешательства во внутреннюю политику Индии, поскольку француз, командующий войском индийского князя, мог благоприятствовать французской компании, а англичанин — английской.
Штаб-квартиры ни французских, ни английских компаний не поощряли такие авантюры, так как излишне амбициозная военная политика сказалась бы на их прибылях. Очевидное решение заключалось в том, чтобы окупить военное предприятие путем захвата территорий, а военные расходы покрывать за счет местных налогов. Французские силы под командованием маркиза Жозефа Француа Дюплекса первыми применили такую тактику в 1749 г., когда в награду за участие в местной войне они получили солидный район вблизи Пондишери. Англичане вскоре последовали примеру французов, а вспыхнувшая между этими державами война в 1756 г. подстегнула их соперничество. У Англии было решающее преимущество перед французами, учитывая, что британский флот контролировал моря и мог усиливать и перевозить британские войска, не давая такой возможности французам. Такая стратегическая мобильность, в полной мере использованная Робертом Клайвом, позволила Британии вытеснить своих соперников из большей части Южной Индии и Бенгалии уже к 1757 г.[1053] Договор, которым была подведена черта под Семилетней войной (1763 г.), закрепил поражение французов в Индии, а также в Европе и Америке.
Эта победа Британии в Индии почти совпала по времени с битвой при Панипате (1761 г.), где, как уже отмечалось, маратхи потерпели сокрушительное поражение от афганцев. Быстро последовавший за этим их крах привел к возникновению военного и политического вакуума в Индии. Местные силы не могли противостоять войскам Ост-Индской компании, найти предлог для вмешательства в политику Индии было нетрудно. А когда компания взяла власть над территорией в свои руки, вопросы защиты границ и необходимость предотвращения усиления недружественных соседних княжеств очень быстро совпали с жаждой работников компании еще больше расширить в Индии земли, находящиеся под британским контролем.
Руководство Ост-Индской компании продолжало сопротивляться аннексии новых территорий в больших масштабах, да и общественная критика алчности и стяжательства ее работников в Индии порой могла задерживать продвижение компании. Однако ни возражения парламента, ни ряд административных реформ, ограничивавших возможности личного обогащения за счет выделенных на освоение Индии средств не могли предотвратить спорадическое вмешательство британских сил в дела того или иного индийского государства. За исключением северо-западной части Индии, где афганцы и другие воинственные племена оказывали упорное сопротивление, британские военные интервенции встречали слабый отпор, так что к 1818 г., когда маратхи потерпели окончательных крах, Ост-Индская компания достигла безоговорочного господства над всем субконтинентом. Но даже в это время чиновники компании непосредственно управляли лишь небольшой частью Индии. Остальная территория контролировалась посредством союзов с местными князьями, чья политика находилась под наблюдением британских резидентов, приписанных ко дворам.
Легкость британских завоеваний помогают понять следующие обстоятельства. Во-первых, мусульманские правители Индии так и не смогли объединиться против англичан. Ввиду нападений афганцев извне и индуистских восстаний внутри страны многие из них считали правильным стать под защиту англичан. Во-вторых, мусульманские правители не имели широкой поддержки среди своих подданных, большинство которых составляли индуисты. Даже низшие классы мусульман не проявляли особой лояльности к своим господам и мало участвовали в борьбе с европейцами.
Тем не менее индийские мусульмане тяжело переживали утрату власти и своего положения. Все это нашло скрытое выражение в реформированном и обновленном исламе, близком к модели ваххабизма[1054], а он, в свою очередь, подготовил дорогу для открытого недовольства мусульман, вылившегося в восстание сипаев 1857 г. Восстание на время поколебало позиции Британии в Индии, но завершилось оно разгромом восставших и одновременным концом существования как империи Моголов, так и ее наследницы — Ост-Индской компании[1055].
4. ИСЛАМ В АФРИКЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Разлад в старых центрах мусульманской цивилизации не остановил продвижение ислама в Африке. Напротив, темпы исламизации возрастали, особенно в XIX в. Обращением в ислам частично занимались торговцы и праведники, частично местные завоеватели, строившие свои государства на принципах ислама. Кроме того, разрушение племенного уклада в результате работорговли открывало двери для ислама в прежде языческих районах, так как люди, лишенные старых культурных традиций, часто находили в исламе привлекательный путь для перестройки своего умственного и духовного мира. Так, например, в Восточной Африке истовая борьба за религиозную чистоту, характерная для аравийских ваххабитов, вызвала живой отклик у скотоводческих и полускотоводческих групп населения. В других местах свободные формы веры, допускающие различные культы и компромиссы с языческими обычаями, были более очевидны[1056].
В Юго-Восточной Азии тоже ощущалось более энергичное в плане доктрины утверждение принципов мусульманства. И хотя столкновения с англичанами, голландцами и испанцами вынуждали мусульман кое-где к серьезному отступлению[1057], постепенный процесс обращения населения материковой части и отдаленных островов продолжал расширять географические рамки ислама в той части света.
Г. ИНДУИСТЫ И БУДДИСТЫ В АЗИИ В 1700-1850 ГГ.
Начиная с XI в. воинственность распространяющегося в Индии и Юго-Восточной Азии ислама в сочетании с ксенофобией неоконфуцианства в Китае и Японии вынуждали индуистскую и буддийскую культуру, как правило, занимать оборонительную позицию. В силу этого индуисты и буддисты обладали уже длительным опытом сопротивления чужеземному культурному и политическому давлению до того, как в Азии стала проявляться сила европейцев. Этот исторический опыт сохранил свою действенность и в XVIII — начале XIX вв. Индуисты поддерживали в себе гибкость мышления и эмоциональную силу, впервые проявленные ими в ответ на натиск мусульман в XVI в. Буддисты же, напротив, укрылись за стенами своей священной рутины, стремясь свести к минимуму всякие нарушающие их покой контакты с пришельцами извне.
Проводимая буддистами повсюду политика самоизоляции могла в лучшем случае оттянуть их упадок. Так, на Дальнем Востоке усиливавшийся уход за монастырские стены привел к постепенному снижению значения буддизма в Китае[1058] и стремительному его упадку в Японии. В Юго-Восточной Азии обстановка была сложнее. Буддизм здесь стал защитой бирманского и сиамского национального самосознания, так что судьба религии была неразрывно связана с судьбой этих двух народов. Бирманские имперские амбиции привели к долгой и ожесточенной войне с Сиамом, длившейся почти всю вторую половину XVIII в., однако за исключением эпизодических вторжений Китая в Северной Бирме (1765-1770 гг.) это противостояние не привлекло внимания извне. Проводившаяся с начала XVIII в. политика по ограничению контактов с иностранцами удерживала европейцев на безопасном расстоянии, что было нетрудно, учитывая, что вся энергия Европы и все ее ресурсы направлялись на покорение Индии.
А вот в XIX в., когда Ост-Индская компания достигла вершины влияния, отношения Британии с буддийскими соседями Индии обрели новый оттенок. На Цейлоне конфликты с британцами[1059] привели к уничтожению в 1815 г. буддийского царства Канди. В 1768-1824 гг. британцы также нарушали суверенитет Сиама, заполучив плацдарм в Малайе благодаря договоренностям с местными мусульманскими князьями[1060]. Даже Бирманская империя уступила большую часть своего побережья тем же британцам после войны 1824-1825 гг. И все же эти демонстрации британской силы не вынудили буддийских правителей и религиозную верхушку Южной Азии предпринять сколько-нибудь серьезные попытки, чтобы перестроить свой образ жизни. Контакты с европейцами были все еще слишком новы, а буддийские культурные традиции слишком прочны, чтобы можно было вызвать подобную реакцию. Как и мусульмане, буддисты были физически потрепаны европейской экспансией, однако их дух оставался незатронутым вплоть до середины XIX в.[1061]
* * *
Индуистские сообщества Индии, и в частности Бенгалии, отнюдь не легко поддавались давлению европейцев. Точнее говоря, основная масса населения почти безразлично относилась к смене мусульманского господства христианским даже в районах, находившихся под прямым британским правлением. Религиозное рвение, получившее такое пылкое выражение в XVI в., по-прежнему привлекало чуть ли не всех индуистов, а кастовая система позволяла даже самым набожным и щепетильным легко приспосабливаться к присутствию европейцев в Индии. Обряда очищения после контактов с европейцами, совершаемого, как то предписывали древнейшие обычаи, было достаточно, чтобы выделить место для еще одной чужеземной общины среди всех разнообразных индуистских каст.
До начала XIX в. эти испытанные временем методы общения с иностранцами довольно хорошо служили индуистам. По мере того как слабела власть турок, персов и афганцев, возрастала сила англичан и французов. С точки зрения индуистов на смену одному иностранцу просто приходил другой, как это часто случалось раньше. Вплоть до 1818 г. или даже позже казалось, что европейское влияние на Индию может быть ограничено сравнительно поверхностным уровнем, которого достигали и прежние завоеватели.[1062]
После решающего разгрома сил маратхов британцами в 1818 г. исчезла всякая перспектива появления мощного индуистского государства и стройной индуистской культуры на руинах империи Моголов. Вместо этого британским чиновникам пришлось столкнуться с задачей управления значительно расширенной и необыкновенно пестрой индуистской империей. Многие из них были убеждены, что даже горсть британцев способна контролировать обширный субконтинент просто путем соблюдения и поощрения индуистских и мусульманских обычаев и традиций. Другие утверждали, что британское правление может быть закреплено только либеральными реформами, которые должны завоевать симпатии простого народа, предложив ему более высокий уровень справедливости, чем тот, который был ранее. Консервативная политика сохранения в неприкосновенности обычаев страны отвечала желаниям подавляющего большинства индийцев, и пока британское господство над Индией оставалось непрочным, эта политика доминировала в британских кабинетах, и в ней признавали только те изменения, которые диктовались военной или финансовой необходимостью.
К концу XVIII в. небольшая группа англичан, самым выдающимся из которых был Уильям Джонс, (ум. 1794), занялась исследованием индийских языков и литературы. В начале следующего столетия британские власти стали выделять официальные средства на поддержку таких исследований и на учебу индийцев в мусульманских и индуистских учебных заведениях. Но даже при намерении сохранить местные культуру и мировоззрение, вмешательство иностранцев, воспитанных в традициях европейского образования, не могло не сместить многих привычных ориентиров. Так, например, европейские ученые вскоре сосредоточили свое внимание на древнейших памятниках индуистской литературы в значительной мере потому, что тогдашняя филология стремилась объяснить первоначальные формы европейской речи путем изучения санскрита. Однако такие исследования выявили бесчисленные расхождения между ведическими и современными религиозными обрядами и верованиями. Пытливые индуисты поняли, что почти невозможно уйти от вопроса о том, как примирить народную религиозность и суеверия с их декларируемой ведической основой[1063].
Таким образом, мысль о том, что индуистская религия нуждается в реформировании, получила веские аргументы в результате самих усилий сохранить и распространить знания о ее корнях. К тому же эта точка зрения легко совпадала с принципами европейских либералов, требовавших гуманистических изменений в индийских институтах и обычаях. Дальнейший толчок к реформам был обеспечен христианскими миссионерами, число которых стало возрастать в Индии после 1813 г., когда в закон о возобновлении привилегий Ост-Индской компании было включено требование о свободном допуске миссионеров в страну[1064]. Христианство приняли немногие индуисты, но миссионеры играли тем не менее немаловажную роль, подталкивая индуистов на поиски ответов в западной цивилизации. Миссионеры были первыми европейцами, обучавшими, проповедовавшими и писавшими на индийских наречиях. Они также основывали школы, в которых светские предметы дополняли религиозное образование, и тем самым они доносили не только принципы христианства, но и более общие европейские идеи и знания до образованных кругов Индии.
В первые десятилетия XIX в. группы британских либералов и миссионеров совместно выступили против некоторых индуистских обычаев и потребовали официального запрещения таких обрядов, как сати — самосожжение вдовы на погребальном костре мужа. Этот вопрос, впрочем, не остался делом одних англичан. Небольшая, но громко заявившая о себе группа индуистов, находившаяся главным образом в Калькутте, также начала требовать реформирования индуистских законов и обычаев, и только после того, как такие радикальные взгляды были высказаны самими индийцами, реформаторская политика получила явное превосходство в официальных британских кругах.
Наиболее заметным из индийских радикалов был бенгальский брахман Раммохан Рай (ум. 1833). Подростком он посещал индуистскую и мусульманскую школы[1065], а позднее основательно освоил английский язык и получил по крайней мере поверхностные знания греческого, латинского и еврейского языков[1066]. Такие лингвистические познания позволили ему преодолеть культурный разрыв между индийской и европейской цивилизациями, на что до него оказались способны лишь немногие европейские востоковеды. Отказавшись еще молодым от карьеры на английской службе, Раммохан Рай посвятил себя преимущественно вопросам религии. Его исследования христианства, индуизма и ислама привели его к выводу, что все эти три веры несут в основном одинаковую идею — этический монотеизм, напоминавший унитаризм Британии и Америки XIX в. С его всеобъемлющей точки зрения детали образов и расхождения в учении не имеют значения.
 ИНДИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОКОЛО 1850 Г.
ИНДИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОКОЛО 1850 Г.
Радикально новое истолкование религии явно бросало вызов как христианской, так и индуистской традиции. Раммохан Рай вступил, таким образом, в спор и с христианскими миссионерами, и с индуистскими консерваторами. В конце концов он основал собственную религиозную общину -«Брахма Самадж», с помощью которой надеялся распространить свои убеждения. И хотя в свою веру он обратил немногих, влияние Рая способствовало ускорению реформы индуистских законов и институтов. Он вел кампанию в литературе против самосожжения вдов и требовал от британских властей запретить этот обычай еще за десять лет до того, как они пошли на это (1829 г.). Также он призывал британцев создавать школы для индийцев, где они могли бы изучать европейские науки. Не дожидаясь мер от властей, он тратил собственное время и деньги на организацию частных школ, где пропагандировались его реформаторские идеи.
В определенном смысле Раммохан Рай был одиноким предшественником тех англизированных представителей высших индийских классов, которым суждено было сыграть важную роль в истории Индии. Несмотря на то что прямое влияние созданных им организаций так и не получило распространения, отдельные его последователи занимали стратегические позиции в обществе, укрепляя веру британцев в то, что Англия морально обязана нести блага европейской цивилизаций и знаний индийским народам. Знаменательным событием в этих усилиях стало решение Британии (1835 г.) об организации государственных школ для индийцев с обучением по европейским программам на английском языке. Устройство таких школ, а после 1857 г. и университетов европейского образца обеспечило пополнение индийского общества людьми, которые, подобно Раммохану Раю, были носителями как индийских, так и европейских культурных традиций. Значение такого образования и интерес к нему чрезвычайно возросли после 1844 г., когда административным языком стал английский, так что молодые индийцы, надеявшиеся получить официальную должность, должны были его учить.
Результаты этой политики стали ощущаться в основном после 1850 г. До этого шел лишь процесс закладки фундамента для полномасштабного взаимодействия между европейской и индийской культурами. Подавляющее большинство индийцев оставались прочно связанными цепью древнейших обычаев, придерживались своих традиционных верований и не стремились заглянуть за пределы своих наследственных каст[1067].
Д. ПРИБЛИЖЕНИЕ КРИЗИСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1700-1850 гг.
1. КИТАЙ
Если мерить XVIII в. традиционными мерками, то для Китая он стал одним из самых великих. Политическая стабильность внутри страны и экспансия империи в направлении соседей сопровождались резким подъемом сельского хозяйства, торговли и ростом численности населения. Мир и процветание были опорой массового развития образования и искусств, что придавало вес поразительному культурному влиянию Китая на таких далеких от него варваров, как европейцы. С такими достижениями империи маньчжуров можно сравнить только великие эпохи империй Хань и Тан.
При этом тот успех, с которым политика маньчжуров повторяла достижения своих древних предшественников, нес в себе семена окончательного и полного распада общественного и политического строя, если учесть, что институты и отношения, вознесшие Китай высоко над окружавшими его варварами в прежние века, внезапно утратили свою действенность в отношении европейцев в XIX в. Тем не менее до середины XIX в. кризис китайского общества оставался главным образом внутренним и, подобно всем аспектам маньчжурского государственного устройства, в полной мере отвечал старым моделям. Только после того, как медленно идущие процессы, способствовавшие усилению продажности чиновников, крестьянским волнениям и ослаблению военной мощи, подготовили почву для вполне традиционного крушения, Китай на деле ощутил угрозу, исходящую от европейской цивилизации. До этого контакты с европейцами лишь незначительно сказывались на истории Китая.
Император Канси блестяще укрепил правление маньчжуров в Китае в период своего долгого царствования (1662-1722 гг.). Главной задачей его преемников было карать чужеземных варваров на внешних границах империи и управлять ими. В результате длинного ряда нелегких войн в 1688-1757 гг. китайское правление было распространено на Тибет, Монголию и Восточный Туркестан. После уничтожения в 1757 г. Джунгарского государства — последней крупной победы в Центральной Азии — маньчжурское правительство стало проводить политику закрытия северо-западной границы, даже прибегая к выселению жителей приграничных районов[1068]. Другие границы Китая имели гораздо меньшее военное значение. Дипломатию редко приходилось подкреплять военными действиями (как это было в Бирме в 1765-1770 гг.), чтобы предотвращать угрозу, идущую из Юго-Восточной Азии или Кореи, и большинство этих государств пребывали с Китаем в отношениях данников, т.е. церемониально признавали свою от него зависимость[1069].
На морских границах деятельность европейцев ограничивалась строгим контролем, сводившим к минимуму контакты китайцев с чужеземцами и возлагавшим ответственность за любые неблагоприятные последствия присутствия европейцев на лиц, находившихся в полной власти местных правителей. Действительно, при пекинском дворе на отношения с европейскими купцами смотрели как на нечто мелкое, недостойное оформления официальными договорами и соответственно перекладывали на местные власти заботу об отношениях с иностранцами. К тому же, поскольку прямое участие в вопросах торговли считалось унизительным для конфуцианского мандарина, то даже местные вельможи возвели барьер между собой и европейцами. Таким барьером стала китайская купеческая гильдия, которая с 1720 г. вела дела со всеми европейскими судами, прибывавшими в Гуанчжоу (Кантон). В 1757 г. император объявил Кантон единственным портом, где была разрешена такая торговля, официально подтвердив монополию, которой город практически владел определенное время[1070].
До 1834 г., когда британский парламент отменил исключительное право Ост-Индской компании на торговлю Англии с Китаем, такой порядок действовал вполне гладко, так как и компания, и купеческая гильдия в Кантоне пользовались своим монопольным положением. Говоря точнее, монополия китайцев была гораздо прочнее, чем у компании, поскольку за торговлю с Кантоном боролись и другие европейские державы, не говоря уже о британских контрабандистах. При каждом удобном случае европейцы стремились добиться более благоприятных условий торговли для себя путем расширения круга китайских купцов в Кантоне или путем нарушения их монополии, однако все эти усилия оказывались тщетными. Тогда европейские купцы стали прибегать к контрабанде, чтобы уравновесить легальные преимущества китайских монополистов. После 1800 г., когда китайское правительство запретило ввоз опиума, но оказалось не в состоянии обеспечить выполнение запрета, эта незаконная торговля приняла большой размах. В результате кантонская торговля в XIX в. утратила официальный и тщательно контролируемый характер, установленный китайскими властями в XVIII в., а взамен стали снова практиковаться нерегулярные и иногда сопровождавшиеся насилием виды торговли, типичные для первых торговых операций европейцев на Китайском побережье.
Значение иностранной торговли в Кантоне для китайской экономики невозможно оценить. Разумеется, объемы ее быстро возрастали. Чай стал основным экспортным товаром Китая, но шелк, лакированная посуда, фарфор и различные диковины также пользовались в Европе большим спросом. Главным предметом китайского импорта была хлопковая одежда из Индии, пока в XVIII в. в Китае не привилась привычка курить опиум[1071]. Производимый преимущественно в Индии опиум стал для европейцев тем первым товаром, который китайцы были готовы покупать в больших количествах. В результате отток денег из Европы для оплаты китайских товаров неуклонно сокращался, пока торговый баланс не склонился в пользу европейцев и не началось выкачивание китайского серебра. По мере того как европейская торговля сосредоточивалась на опиуме, любое стимулирующее действие, которое растущий экспорт китайских товаров мог оказывать на ремесленников и торговые общества, уравновешивалось социально разрушительным эффектом привычки к опиуму. К тому же, вполне вероятно, что с помощью различных форм принуждения большая часть доходов от внешней торговли перекачивалась в руки вельмож, которые всегда могли держать под жестким контролем кантонских купцов, а через них и ремесленников, производящих экспортные товары.
Еще одним оружием Европы в Китае были христианские миссии. Влияние миссионеров резко ослабло в XVIII в., причем в основном из-за споров самих миссионеров о правильном переводе христианских богословских положений на китайский язык и о том, до какой степени обращенные в христианство китайцы могут придерживаться своих древних обычаев. С самого начала своей деятельности в Китае иезуиты утверждали, что семейные обряды почитания предков и народные праздники, посвященные Конфуцию, представляют собой гражданские церемонии, которые не обязательно противоречат христианской вере. Другие миссионеры, в частности доминиканцы, считали, что такое приспособление к китайской жизни не совместимо с христианством. В результате государственных и личных трений разгорелся «спор об обрядах», усложнившийся еще больше, когда спорящие обратились и к папе, и к китайскому императору с просьбой о его разрешении. После некоторых колебаний папа высказался в 1715 г. против иезуитов, чем вызвал сильное негодование «Сына Неба», ставшего тем временем на сторону иезуитов[1072].
Спор имел значительные последствия и в Китае, и в Европе. В 1708 г. китайский император постановил, что все миссионеры должны принять точку зрения иезуитов либо покинуть страну, и когда верные католики больше не могли придерживаться этой позиции, христианские миссии в Китае вынуждены были действовать только вопреки закону страны. В действительности миссионеры продолжали проскальзывать в Китай, и их конгрегации никогда полностью не исчезали, но христианство было низведено до положения тайного общества[1073]. А в таком положении оно было обращено почти целиком к бедным и обездоленным, власти его в лучшем случае не замечали, а в худшем — преследовали изредка и не очень упорно.
И все же император разрешил иезуитам оставаться в Пекине, а император Цяньлун (1736-1795 гг.) регулярно обращался к ним для выполнения таких работ, как проектирование дворцов и строительство фонтанов, изготовление часов и других механических устройств. Иезуиты занимали также официальные должности астрономов и составителей календаря, пока папа не распустил орден в 1773 г., после чего их миссию взял на себя орден св. Лазаря. Однако какие-либо общие стремления или серьезный интерес к европейским знаниям и цивилизации, и без того еще небольшой в XVII в., стали все меньше проявляться в XVIII в. Китайские образованные круги были слишком уверены в надежности китайских институтов и слишком твердо убеждены в самодостаточности их собственного культурного мира, чтобы тратить время на погоню за варварской ерундой.
В Европе, напротив, «спор об обрядах» вызвал живой интерес к Китаю в широких кругах интеллектуальной элиты. Тот факт, что иезуиты во Франции были глубоко вовлечены в дискуссию с янсенистами и галликанцами, привел к обострению спора о законности методов работы иезуитов в Китае. Соответственно сведения о Китае пользовались значительным спросом и не только потому, что касались его самого, но и как пища для дискуссий с носителями других основ и целей. При этом знания о Китае, просачивавшиеся в Европу как второстепенный продукт распри, имели существенное побочное действие. Увлечение «китайскими штучками» окрасило целый стиль рококо, получивший широкое распространение в Европе примерно с 1715 г. Портреты благочестивых китайских мудрецов, чья духовность не зависела от религиозного откровения, привлекали к себе деистов, а такие черты китайского общества, как его воспитанность (вызвавшая презрение Риччи поколением раньше), отсутствие наследственной аристократии и принцип назначения на государственные должности на основе открытого конкурса -все это было созвучно радикальным направлениям мысли, пробивавшим себе дорогу, в особенности во Франции, в XVIII в. Для Вольтера и некоторых других философов Китай стал образцом, которому надлежало следовать в Европе. Разве не была Поднебесная великой, процветающей и мирной империей без какой-либо корысти для духовенства и родовой аристократии? При этом конфуцианство империи рассматривалось как действенная и лишь слегка поистертая модель рациональной религии.
Такое пылкое увлечение Китаем, пусть даже оно исходило от внутриевропейских интеллектуальных и художественных ожиданий, стало тем не менее заметным отходом от неприязни, страха и пренебрежения, которые свойственны людям разных цивилизаций. Горстка европейцев, доброжелательно исследовавших сложность и утонченность китайской цивилизации в XVIII в., были первопроходцами новых и более открытых связей между культурами. Их отношение резко контрастировало с царственным безразличием к иностранному, господствовавшим в аналогичных интеллектуальных сферах Китая[1074].
Само богатство и разнообразие китайского литературного и художественного наследия, требовавшее усилий целой жизни, чтобы освоить их, высокая награда в случае успеха на провинциальном или императорском экзамене достаточно хорошо объясняют безразличие китайцев к иностранной науке. Традиционные формы обучения при маньчжурах продолжали процветать по всей стране. Серьезный сбор, систематизация и обобщение прежних знаний осуществлялись под эгидой властей. Любовно издаваемые документы и авторитетные комментарии выкристаллизовывали давнюю китайскую традицию образования и обеспечили большую часть материалов для современных китаеведов.
Стихотворные и литературные сочинения оставались частью официальных экзаменов и здесь по-прежнему отдавали предпочтение безыскусному прилежанию. Образная проза переросла в самый яркий жанр китайской художественной литературы, и при маньчжурах роман достиг респектабельности, несмотря на свои народные истоки. «Сны красной комнаты», написанный в конце XVIII в., остается, по всеобщему мнению, величайшим китайским романом[1075], хотя он был лишь одним из многих[1076].
Китайская живопись по-прежнему оставалась плодовитой, искусной и разнообразной. Древнекитайские художники отличались преданностью старине и традициям старых мастеров, в то время как современные китайские и западные ученые ценят в первую очередь индивидуальную манеру и стилистические новшества. И тем, и другим было чем восхищаться в китайской живописи XVIII в., хотя и китайские, и западные искусствоведы XX в. высказывают довольно неблагодарное мнение, что подлинное величие китайского искусства относится к прошлому[1077].
Таким образом, судя по всему, китайская цивилизация и китайское государство в XVIII в. процветали. При этом те же механизмы, что приводили к падению прежних династий, уже были в действии и проявлялись в публичных событиях в последнюю четверть столетия. Главной проблемой было дальнейшее обнищание крестьян. Рост сельского населения привел к чрезмерному разделу земли, при котором в неурожайный год образовавшиеся крохотные хозяйства не могли прокормиться[1078]. Неизбежным результатом такого положения были безнадежная долговая кабала и невозможность выкупа просроченных закладных. Земли оказывались в руках ростовщиков из мелкопоместного дворянства, которым часто удавалось уклоняться от уплаты налогов на землю и переносить все увеличивающееся бремя платежей на оставшиеся крестьянские хозяйства. В то же время усиление чиновничьей коррупции и утрата воинской доблести маньчжурскими военачальниками, привыкшими к легкой гарнизонной жизни, со своей стороны способствовали ослаблению режима на фоне растущего недовольства и отчаяния крестьянских масс[1079].
Основным ответом на эти тягостные обстоятельства были курение опиума и крестьянские восстания. Широкомасштабное выступление 1774 г. положило начало длинному ряду подобных вспышек, кульминацией которых стало бурное Тайпинское восстание 1850-1864 гг. Восстания ухудшали экономическое положение страны в целом, вынуждая правительство вводить дополнительные поборы на карательные военные действия, что, в свою очередь, усиливало недовольство крестьян.
Порочный круг, в который, таким образом, попало правительство, не ускользал полностью от внимания верховной власти. Благонамеренные указы против курения опиума и призывы к чиновникам о честности не были эффективны, а вот параллельные усилия с целью поставить под контроль вольнодумство принесли несколько больший успех. Во всяком случае, в 1772-1788 гг. правительство провело большую чистку китайской литературы, предавая огню книги, содержавшие пренебрежительные замечания о маньчжурах или их предках. Некоторые книги, приговоренные в ходе этой инквизиции, очевидно, утрачены навсегда[1080].
Подобный страх перед независимой мыслью стоит, возможно, и за изменениями (1792 г.) в императорских экзаменах, которые включали проверку памяти, каллиграфию, легкость сочинения эссе и поэм на заданные темы по строгим правилам. Поскольку подготовка к этим испытаниям была главным делом в интеллектуальной жизни китайцев, то введенные изменения позволяли сузить круг суждений ведущих представителей китайского общества, ограничив их мысль политически безвредными направлениями[1081]. Усилия эти оказались в высшей степени успешными, и почти весь образованный класс Китая сохранял лояльность по отношению к маньчжурскому строю даже в XX в.
 АРИСТОКРАТКА XVIII В.
АРИСТОКРАТКА XVIII В.
Знатная китаянка, общающаяся с природой под звуки флейты, представляет намного более давний, глубже укорененный и явно более надежный образ жизни, чем тот, который воплощали европейские аристократы того же времени. Когда писалась эта картина, китайские армии одерживали победы в Средней Азии, куда их нога не ступала со времени династии Тан, а энергичные усилия, предпринимавшиеся с тем, чтобы сохранить верность в словах и в мыслях, приносили, казалось, великолепные результаты. В этой картине можно видеть исключительно утонченные мотивы чувствительности, возможно, с опенком смутной тревоги перед подчинением размеренному декоруму китайского общества — злые на язык критики называют это упадочничеством. Был ли художник декадентом или нет, но он верно отразил консервативную аристократичность китайской культуры при маньчжурах.
До 1850 г., когда Тайпинское восстание потрясло империю до самого основания, правительственные контрмеры выглядели в целом адекватными для того, чтобы имперское здание могло выстоять в буре внутренних волнений. Казалось, что принципиальные перемены не требуются, а намеренный акцент на властном прошлом Китая должен был, как обоснованно ожидалось, отвести угрозу развала империи. Китайской самоуверенности был нанесен, однако, страшной силы удар в 1839-1842 гг., когда несколько британских военных кораблей и морской десант смогли пройти через оборону китайских войск почти беспрепятственно.
Поводом для этой демонстрации британской военной мощи стал спор об отправлении правосудия[1082], но за ним крылись принципиальные разногласия во взглядах, вызывавшие бесконечные трения на местном уровне. В 1834 г. британское правительство лишило Ост-Индскую компанию ее прав по контролю за торговлей с Китаем и управлению ею, сделав эту торговлю открытой для всех, попыталось ввести торговые отношения с Китаем в законные рамки, обычные для европейских наций. Это потребовало отмены сложных ограничительных правил, более века регулировавших торговые сделки между европейцами и Китаем. Указанное изменение британской политики произошло в момент, когда китайское правительство взялось за ограничение и контроль внешней торговли еще более жестко, чем раньше. В 1839 г. в Кантон прибыл специальный уполномоченный императора с целью ликвидировать незаконную торговлю опиумом. В результате его энергичных действий было конфисковано не менее 30 тыс. ящиков наркотика у британских и других европейских торговцев. Жалобы с обеих сторон приняли острый характер, и спор по поводу правильности законных мер стал лишь предлогом для войны.
Слабость Китая в военном отношении вскоре вынудила правительство императора принять мир на британских условиях. Согласно Нанкинскому договору 1842 г., были открыты четыре новых порта для британской торговли и в придачу победившей стороне перешел Гонконг. Другие европейские державы и Соединенные Штаты поторопились заключить аналогичные договоры и расширили при этом британские условия, обеспечив освобождение своих граждан от подсудности китайским органам правосудия и добившись официальных гарантий для деятельности христианских миссий в «договорных портах».
Такие уступки никак не совмещались с традиционным отношением китайцев к иностранцам и купцам. Нанесенное этим договором унижение и показанная им же военная беспомощность перед западными канонерками, несомненно, дискредитировали маньчжурский режим в глазах китайцев, хотя при этом в китайском обществе и не возникло сколько-нибудь значительных настроений, направленных на отказ от старых обычаев. Образованные китайцы считали едва ли возможным, чтобы Поднебесная могла поучиться хоть чему-нибудь стоящему у варваров. Действительно, впечатляющие успехи, совсем еще недавно достигнутые Китаем, в абсолютно консервативных рамках политики маньчжуров необычайно затрудняли приспособление к новым реалиям мира и дел в нем. Поэтому Китай только в XX в. серьезно взялся за перестройку общества, с тем чтобы суметь противостоять Западу[1083].
2. ЯПОНИЯ
История Японии в XVIII — начале XIX вв. поразительно отличается от истории Китая в этот же период. В то время как китайские войска вторгались в Центральную Азию, Япония постоянно вела мирную жизнь. Если население Китая больше чем удвоилось за это время, то население Японии оставалось стабильным и даже с 1730-х гг. начало уменьшаться. Главное же отличие состояло в том, что китайская культура была фактически монолитной, закрытой для влияния извне, тогда как культура Японии разрывалась между непримиримыми внутренними течениями и становилась все более восприимчивой к ветрам чужих учений, проносившимся через море из дальних и близких краев. Официальная политика окитаивания ставила целью -и не без успеха — превратить воинов в церемонную знать, однако ей не удалось победить своенравие народной культуры. В то же время небольшая, но занимавшая хорошие стратегические позиции группа японских интеллектуалов рассматривала такие альтернативы неоконфуцианской ортодоксальности, как местная синтоистская религии или западная наука, а люди искусства достоверно отражали напряженные взаимоотношения между местным, западным и китайским стилями.
Учитывая ускоренный и меняющийся ход японской истории как до, так и после периода Токугава, политика строгой изоляции и внутренней стабилизации, столь успешно выдерживавшаяся сегунами более двух столетий, выглядит незаурядным достижением. В Японии в XVIII — начале XIX вв. действовали мощные экономические, политические и интеллектуальные силы, подрывавшие непростое равновесие политической системы, с помощью которой первые сегуны Токугава стремились укрепить и защитить свою власть. Система все же сохранилась нетронутой до 1853 г., и даже после того, как весь механизм сегуната был сметен реставрацией императора в 1867 г., государством продолжала управлять и командовать военная аристократия, правившая Японией при сегунах.
Самые большие трудности сегуната возникли от растущих противоречий между политической и экономической силой. Занимавший высшее политическое положение класс самураев попал в экономическую зависимость от купцов и ростовщиков, официально находившихся в самом низу общественной лестницы. Такому положению способствовала и политика сегунов, требовавших от всех своих сподвижников и полунезависимых феодалов находиться часть времени в городских центрах, ведь когда они уезжали из своих поместий, то даже самые богатые из них должны были обращать урожай риса в деньги, продавая его купцам, и спускать все среди экстравагантной городской жизни. Более того, успех сегунов Токугава в прекращении внешних и внутренних войн оставлял самураям все меньше возможностей вернуться к ратному искусству, оторвавшись от роскошной праздности.
И феодалы, и крестьяне несли убытки от резких колебаний цен на сельскохозяйственные продукты, вызванных проникновением денежных отношений в сельскую жизнь, а недовольство росло вместе с долгами. Отчаяние крестьян находило выражение в спорадических бунтах, вспыхивавших все чаще с конца XVIII в. и служивших ярким признаком растущей социальной нестабильности[1084]. С помощью правительства Токугава самураи прибегали к более изощренным, но едва ли более успешным попыткам покончить со своими долгами. Порча денег, контроль над ценами, увещевания о бережливости, законы, регулирующие расходы, аннулирование долгов, а иногда и незаконная конфискация состояния торговцев — все эти способы пускали в ход[1085]. Однако достигался в лучшем случае временный успех, поскольку те же безликие и плохо понимаемые экономические силы вскоре вновь ввергали и правительство, и самураев в финансовую зависимость от презренных купцов и торговцев.
Другие способы разрешения финансовых затруднений самураев оказались более значительными для будущего. Отдельные феодалы вводили на своих землях методы интенсивного хозяйствования, а в некоторых случаях открывали шахты и новые промышленные предприятия. Так, заметно расширилось шелкоткачество, и в первой четверти XIX в. Япония перестала зависеть от ввоза шелка из Китая[1086]. Кроме того, сидевшие без гроша аристократические семьи иногда усыновляли купеческого сына, обеспечивая тем самым себе финансовые поступления, а купцу — преимущества и престиж положения самураев. Таким образом, различия между самураями и простым народом, на которых утвердилась государственная система Токугава, несколько смягчились. Значительное ускорение экономического роста и стирания различий между слоями общества оказалось центральным явлением социальных перемен, происходивших в Японии в период после Токугава. Перемены эти, однако, начались намного раньше.
Слабость, присущая режиму, опирающемуся на гордый, но обедневший класс воинов, угнетаемое и недовольное крестьянство, богатую, но политически ненадежную торгово-финансовую олигархию, усугублялась старыми политическими трещинами, которые были всего лишь «заклеены» при сегунате Токугава. Сильные феодальные князья по-прежнему владели обширными районами Японии, и память о соперничестве их предков с победившей династией Токугава никогда не исчезала. По мере того как падали авторитет и дух правителей Токугава, феодальные князья становились центром потенциально сильной военной оппозиции режиму. Проблемы внешних сношений также начали принимать угрожающие размеры в XIX в., когда русские, британские, французские и американские корабли стали огибать японские берега. Все чаще эти суда нарушали закон, заходя в японские гавани под предлогом действительного или мнимого бедствия, и время от времени добивались удовлетворения своих требований под угрозой применения силы.
Небольшие, но авторитетные группы японской интеллигенции ясно осознавали слабость своей страны и пытались различными, иногда противоречивыми способами вырабатывать пути решения выявляемых ими трудностей. Официальные идеологи режима неоконфуцианского толка стремились прививать законопослушание и покорность во всех слоях общества. Моральное порицание и законы об ограничении расходов были теми мерами, которые скорее всего приходили им в голову для исправления ошибок эпохи, но даже в их собственном официальном неоконфуцианстве таились предательские политические ловушки для режима Токугава. Если высшей добродетелью считалась лояльность по отношению к начальнику, то как можно было оправдать обращение сегунов с императором? Исторические исследования, начатые под эгидой официальных властей в конфуцианском духе, приводили к таким же и более затруднительным вопросам, так как никакие перетолкования документов не могли представить власть сегунов не чем иным, кроме узурпации. Таким образом, стали возникать группы добрых конфуцианцев, порицавших режим исходя из его же принципов.
Еще важнее со временем оказалось полное неприятие конфуцианства и официальной политики окитаивания. Но представители этого течения разделились на две группы: приверженцев коренных японских традиций, стремившихся их возродить и очистить, и тех, кто восхищался западной цивилизацией и отстаивал необходимость заимствовать западные знания и технологии. Несмотря на кажущиеся принципиальные расхождения во взглядах, оба эти лагеря часто находили возможности для совместных действий, так как и тем, и другим надо было одолеть одного и того же противника -официальную власть и вес китайской традиции. В конце концов, ведь западную медицину, географию, астрономию и математику можно было принимать не ради их самих, но также как подтверждение до тех пор незамеченных недостатков китайского учения.
В среде антиконфуцианских традиционалистов исторические и археологические исследования японского прошлого служили материалом для трансформации древнего синтоистского культа в религию, которая могла бы выдержать сравнение со всем, что исходило из Китая, а то и с Запада[1087]. Учитывая, что императорская фамилия, происходившая от богини солнца, занимает в синтоизме центральное место, этот культ неизбежно уводил умы людей от лояльности сегуну с его фаворитами к находящейся в строгой изоляции личности императора. Явных приверженцев синтоизма до 1850 г. насчитывалось сравнительно немного, хотя к этому времени само учение и обряды были обновлены и определены. Синтоизм, таким образом, был готов к взлету, и все было подготовлено к замене неоконфуцианства как привилегированной религии государства, едва только режим Токугава сойдет со сцены.
Энергичные старания горстки людей, желавших проникнуть в тайны европейского знания, были еще более впечатляющими и также оказались плодотворными для будущего. Задаче этой серьезно мешали языковые барьеры и ограниченные возможности общения с образованными европейцами. И все же за нее взялись с настойчивой решимостью и энтузиазмом. К концу XVIII в. некоторые японцы не только освоили голландский язык, благодаря которому они знакомились с европейскими науками, но и выпустили книги на японском языке, излагавшие западные идеи в таких областях, как медицина, анатомия, астрономия и география[1088]. Отдельные японцы отдавали себе отчет и в превосходстве западной военной технологии. Когда в 1842 г. британцы подвергли унижению китайскую гордыню, такие люди извлекли из этого ясный урок, но не с паническим удивлением, охватившем сегуна и его окружение, а с чувством удовлетворения. Они давно полагали, что Япония не может позволить себе пренебрегать знанием и мастерством «рыжеволосых» варваров, и события подтвердили их правоту.
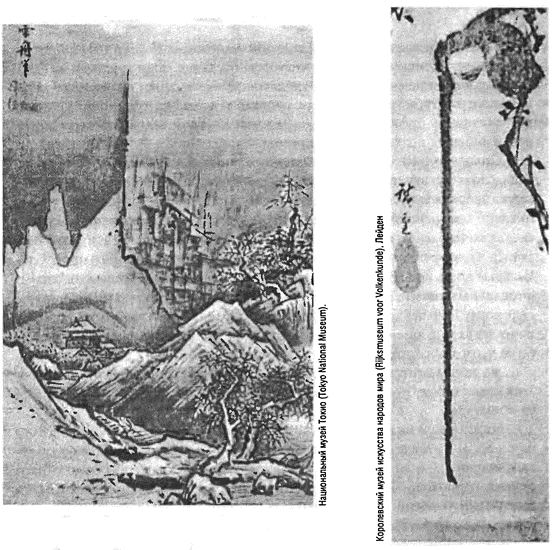
 ТРИ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ
ТРИ ЯПОНСКИЕ КАРТИНЫ
О стилистическом разнообразии японской живописи свидетельствует резкий контраст между этими тремя картинами. Зимний пейзаж (вверху слева) Сэссю (1420—1506) изображает китайский ландшафт в абсолютно китайском стиле, хотя эксперты могут выделить особенности кисти мастера, придающие картине самобытный характер. Сравнительно грубый портрет крестьянина (внизу) датирован XVIII в. и выполнен простым «народным» художником, но его экспрессивность подчеркивает энергичность японских крестьян. Остроумная шуточная картина Хиросигэ (1797—1858), на которой обезьяна ловит отражение луны в море, предстает веселой карикатурой на саму Японию с ее стремлением поживиться сначала у китайской, а затем у западной цивилизации.
Столь пагубные для установившегося порядка идеи, естественно, вызывали соответствующую реакцию. Так, например, в 1790 г. правительство сегуна запретило преподавать какую бы то ни было философию, кроме официально одобренной неоконфуцианской, бросив в тюрьму или казнив нескольких человек за нарушение этого и подобных указов. Но эти меры оказались не эффективнее предпринятых против экономических процессов. Частные лица, пользуясь иногда протекцией кого-либо из полунезависимых феодальных князей, продолжали запретные занятия с целью не подчиняться режиму и вырабатывать для Японии альтернативную политику, которая, на их взгляд, лучше отвечала бы реалиям времени. В итоге в 1853 г., когда сегун неохотно согласился открыть Японию для торговли с Западом, небольшая, но занимающая стратегические позиции группа японцев уже выработала ясные ориентиры, чтобы направлять назревшую перестройку японского общества.
Богатая и разнообразная художественная и литературная жизнь Японии в XVIII — начале XIX вв. отвечала сложности описанных интеллектуальных течений. Стили живописи, заимствованные у китайских художников разных периодов, соседствовали, а иногда и смешивались с местными и западными стилями. Цветная гравюра со строго натуралистическими элементами, когда ее выполняли в традиционном стиле, стала новейшим достижением японского искусства в это время. Расцвел также жанр остроумной, разговорной и порой непристойной поэзии наряду с драматургией и романистикой. Как и в XVII в., актеры и гейши продолжали вдохновлять поэтов и художников в их соперничестве с официально поддерживаемой, более строгой и традиционной модой, черпавшей свое вдохновение в Китае. Но подобно тому, как классовые барьеры в Японии Токугава в XIX в. стали утрачивать свою прочность, в искусстве различия в стилях, столь четко очерченные в начале XVIII в., постепенно стирались по мере того, как художники сочетали в своих произведениях элементы, взятые из народных и официальных вкусовых канонов, и даже экспериментировали с такой чужеземной западной техникой, как живопись маслом.
Искусство, как и интеллектуальная сфера, отражало социальное замешательство и напряженность, лежавшие под внешней недвижностью режима Токугава. Учитывая все эти обстоятельства, длительность существования этого режима представляется более удивительной, чем его распад. Если уж быть до конца точным, то крестьянство оставалось крупным, устойчивым элементом японского общества, существовавшим на грани выживания, почитавшим своих властителей и закрытым для диковинных новых идей. Однако шаткость внутреннего положения сегунов проявилась в быстроте и размахе перемен, происшедших в Японии, как только страна была официально открыта для иностранцев. Иностранное влияние стало лишь толчком к высвобождению внутренних сил, ускоривших революционное преобразование Японии после 1853 г.[1089]
Е. ОТСТУПЛЕНИЕ ВАРВАРСТВА В 1700-1850 ГГ.
Быстрое наступление цивилизации, особенно западной, увенчалось уменьшением географических размеров и политического значения более примитивных обществ. В Старом Свете в XVIII в. произошел окончательный распад политической силы степных народов. Россия и Китай поделили степи между собой, причем Китаю досталась восточная часть, а России -более богатая западная. Венгерская низменность отошла Австрии. Победа Китая над конфедерацией калмыков в 1757 г. прозвучала заключительным аккордом в этой эре мировой истории, став последним случаем, когда цивилизованные армии столкнулись с серьезным степным противником[1090].
Окончательная ликвидация варварского и дикого уклада в Америке и Океании произошла только к концу XIX в.; при этом, учитывая активное расширение западных границ в XVIII — начале XIX вв., конечный распад индейских и австралийских племенных обществ был лишь вопросом времени. Даже самые маленькие острова Тихого океана испытали социальные потрясения после захода китобоев, торговцев копрой и миссионеров. Тропические джунгли Южной Америки, Юго-Восточной Азии и крупнейшие острова на юго-западе Тихого океана служили географически более крупными районами, где могли найти себе приют первобытные общества. Но даже это убежище было ненадежным, так как охотники за золотом и рабами из цивилизованного мира свободно, если и не слишком часто, проникали в такие заповедные места.
К 1850 г. Африка к югу от Сахары представляла собой единственный крупный заповедник варварства, оставшийся в мире, но и здесь цивилизованные и полуцивилизованные общества тоже быстро закреплялись. Мусульманские скотоводы и завоеватели продолжали подчинять себе северные части Судана от Нигера до Нила и южные — ниже Африканского рога. В то же время полуцивилизованные негритянские царства, обосновавшиеся в джунглях Западной Африки, расширяли и укрепляли свою власть, широко прибегая к организованной поставке рабов и к различным другим формам торговли с европейскими дельцами с побережья. К 1850 г. политическая власть Европы начала продвигаться вдоль побережья и в глубь территории по рекам, но эти плацдармы были кр'шне невелики по сравнению с огромными пространствами Африканского континента[1091].
В Восточной Африке власть Португалии к северу от Мозамбика исчезла к 1699 г., уступив силе местных восстаний и вооруженного вторжения из Омана в Южной Аравии. В XVIII в. новая купеческая держава, опиравшаяся на Оман и его колонию Занзибар, взяла под свой контроль торговлю Восточной Африки. Рабы, захваченные в глубинных районах Африки, слоновая кость и гвоздика из самого Занзибара стали главными экспортными товарами этого торгового государства. После 1822 г., однако, британское превосходство в Индийском океане вынудило султана Занзибара пойти на различные и все более строгие ограничения работорговли, так что его власть перестала быть полностью независимой.[1092]
В южной части Африканского континента такие военные конфедерации народов банту, как зулусская (с 1818 г.) и матабеле (с 1835 г.), боролись за пастбища с поселенцами голландского происхождения (бурами). В поисках новых территорий для выпаса скота и в стремлении освободиться от британского правления на мысе Доброй Надежды голландцы в 1835 г. массово двинулись на север, в степную зону, где захватили все земли, подходящие для ранчо и ферм, а своей военной силой обеспечили обильный приток чернокожих невольников[1093].
Таким образом, простые земледельцы и скотоводы внутренних районов Африки оказались обложены со всех сторон. Отовсюду на них надвигались мусульманские, африканские и европейские силы, обладавшие превосходством в политической и военной организации или в технологии либо в том и другом вместе. У старого простого уклада не было шансов устоять перед такими противниками. Только географические препятствия, усиленные африканскими тропическими болезнями и политическим соперничеством самих европейских держав, способствовали тому, что во второй половине XIX в. еще сохранялась некоторая самостоятельность и культурная независимость африканских первобытных сообществ.
А. ВВЕДЕНИЕ
К 1700 г. богатство и мощь, сосредоточенные в руках Европы, намного превышали все, чем могли располагать другие цивилизованные сообщества на земле, а европейское общество достигло своего рода равновесия, основанного на усилении и расширении предпринимательства как на своей территории, так и за ее рубежами. Наибольшее пространство для европейской экспансии предлагал Новый Свет, хотя от внимания европейцев не ускользала полностью ни одна часть обитаемой земли. С 1700-го по 1850 г. такие обширные районы, как Северная Азия, Австралия, Южная Африка, Индия и Левант, превратились в той или иной степени в сателлиты европейской политико-экономической системы. Только на Дальнем Востоке крупные цивилизованные сообщества сохраняли полную самостоятельность, но даже там Китай и Япония начинали вступать в полосу внутренних кризисов, готовивших почву для окончательного распада традиционного общественного порядка, совершившегося на Дальнем Востоке в начале второй половины XIX в.
Тысячелетнее равновесие ойкумены между цивилизациями Среднего Востока, Индии, Китая и Европы окончательно нарушилось только к середине XIX в. К этому времени, когда возросшая в результате промышленной революции мощь Запада соединилась с прежней энергией европейской экспансии, правители других народов и цивилизаций на земле стали чувствовать, что в их собственном прошлом отсутствовали некие крайне важные факторы. До этого времени, однако, мусульмане и индуисты могли думать и за редким исключением верили, что ценные традиции их цивилизаций могут быть сохранены в неприкосновенности даже перед лицом очевидного военного и экономического превосходства Европы. На Дальнем же Востоке вопрос о том, как реагировать на присутствие Запада, еще не стоял достаточно остро. Политика удерживания европейцев на почтительном расстоянии казалась вполне эффективной, и Китай и Япония не считали необходимым менять унаследованный уклад и традиции с тем, чтобы справиться с Западом. Период 1700-1850 гг. служит, таким образом, промежуточным этапом в подъеме Запада, когда европейцы стали властвовать над материальным, но еще не добились большого влияния на умы подавляющей части населения земного шара.
Этот этап мировой истории частично совпал с промышленными и демократическими[1009] революциями в истории самой Европы. Два этих революционных движения резко разладили компромиссы Старого режима Европы, приведя к судорожному процессу самопреобразования западной цивилизации, напоминавшему происшедший ранее распад средневековых европейских институтов и идей в ходе Возрождения и Реформации. Несомненно, и промышленная, и демократическая революция начали выливаться в глубокие изменения в западном обществе еще до середины XIX в., а растущее богатство и сила, которыми они наделяли человека европейской культуры, уже начинали сказываться и на остальной части мира. И все же эти процессы пока еще относительно слабо очерчивали будущее, и вплоть до второй половины XIX в. европейское влияние на остальные народы планеты в значительной степени опиралось на достижения Старого режима. Железные дороги и прочие устройства новой техники на механической тяге стали выражаться в преобразованиях даже европейского общества только с середины XIX в., а новые идеи политической лояльности и ответственности, провозглашенные в 1776-м и 1789 г. в ходе Американской и Французской революций, проникали в незападный мир еще более медленно.
Учитывая сказанное, в настоящей главе, как и в предыдущей, Европа и лежащие за ее пределами части света будут рассматриваться в хронологическом промежутке, отличном от остального содержания главы. После описания распространения обществ европейского типа на новую почву и анализа европейского Старого режима (1650-1789 гг.) мы перейдем к исследованию влияния европейского Старого режима на мусульманскую, индуистскую и дальневосточную цивилизации (1700-1850 гг.).
Б. СТАРЫЙ РЕЖИМ В ЕВРОПЕ, 1650-1789 ГГ.
Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну (1648 г.), а также такие его следствия, как Пиренейский мир между Францией и Испанией (1659 г.) и реставрация монархии Стюартов в Англии (1660 г.), знаменовали собой новую эру в истории Европы. К концу XVII в. религия стала более личным делом, а искусство управления государством начало поворачиваться в сторону более неприкрытой, но также и более сдержанной борьбы за богатство и власть. С помощью серии молчаливых компромиссов смягчались или скрывались прежние принципиальные конфликты, а новые или вновь укрепленные институты уравновешивали, разрешали или подавляли столкновения интересов, сохранявшиеся еще в довольно сильной форме в европейских государствах.
Такая изменившаяся атмосфера стала победой здравого смысла и духовного кризиса перед лицом неподатливого разнообразия и противоречий европейского культурного пейзажа. В свою очередь, смягчить усилия, направляемые на открытие, а затем и на воцарение «совершенно правильного» учения, помогла — возможно, решающим образом — способность европейцев обратить свою неутомимую энергию на окружающий их мир. На востоке и на западе, на суше и на море границы были открыты. Отовсюду предприимчивых людей манили огромные богатства, которыми можно завладеть, территории, которые можно заселить, авантюры, в которые можно пускаться. Таким образом, у Европы в руках был готовый к действию «выпускной клапан». Мятежные души часто могли вырваться из плена стоячей жизни, уходя подальше от родных мест, а растущая кривая благосостояния означала, что сомнения, связанные с колебаниями рынка, были терпимы, если не удобны,, для тех, кто оставался дома.
В таких обстоятельствах поиски абсолютной истины, отмеченные размахом и страстями в XVI — начале XVII вв., перестали тревожить общественный покой и тоже стали заботой профессиональных интеллектуалов. Различия в подходах и акцентах между богословами и учеными надлежащим образом урегулировались не с помощью всеобъемлющей логической систематизации, а путем предоставления каждой специальности надежной институциональной ниши в обществе и обеспечения гражданам возможности более или менее свободно обсуждать разногласия между собой. Господствующая церковь, официально осуждающая ереси, существовала в каждом европейском государстве, а официальная цензура на публикации фактически сохранялась даже во Франции. При этом закон и реалии жизни все больше расходились, несмотря на вспышки религиозных преследований, как это было, например, при отмене Людовиком XIV Нантского эдикта (1685 г.).
Подобного же рода нелогичные, но действенные компромиссы между монархией, аристократией, купеческим сословием и простым людом превращались в достаточно стабильные политические институты во всех государствах Европы, тогда как в хозяйственной жизни новаторская, захватывающая, рационализующая деятельность капиталистов и компаний, созданных на основе государственных концессий, проникала в старые формы цеховой организации, не вызывая резкого противодействия. Таким образом, беспорядочная алогичность Старого режима, столь высмеиваемая новым поколением рационалистов и социальных теоретиков, оказывалась тем не менее востребованной, доказывая свою жизнеспособность и высокую эффективность как общественная система.
Наиболее очевидной мерой эффективности Старого режима были его успехи в отношении неевропейского мира. Учитывая, что европейские институты и идеи тяготели к балансу сил, правительства меньше отвлекались на внутренние дела, а те из них, которые располагались на краю Европы, получали соответственно более широкую свободу для приграничной и колониальной экспансии. Тем самым высвобождались силы для новых форм хозяйственного и военного устройства, развивавшихся европейцами в XVI -начале XVII вв., в частности акционерных компаний, регулярной армии и флота. С такими институтами европейцы все глубже проникали в ткани более слабых обществ почти во всех частях земного шара.
Экспансия благоприятствовала, а возможно, даже поддерживала относительную стабильность в Европе, и эта стабильность усиливала натиск Европы за ее пределами. В результате этого кругового процесса к концу XVIII в. Европа превратилась в гигантское общество, оседлавшее Атлантику, достигшее далеких пределов евразийских степей и добравшееся до противоположной стороны земного шара. Такая разросшаяся Европа стала центром обширной политико-экономической мощной системы, захватившей большую часть мусульманского и индуистского мира и окружившей края самой дальневосточной цитадели. Одним словом, Европа стала Западом.
Единственным подобным событием в истории мира был расцвет космополитической цивилизации на Среднем Востоке в 1500-500 гг. до н. э. Тогда тоже серия ударов из Месопотамии вовне бросила в огромный котел независимые ранее цивилизации и культуры. Египет, Анатолия, Иран вместе с окраинами греческого и индийского мира утратили свою самостоятельность и слились в пучине месопотамского космополитизма. Отметим все же, что приведенная аналогия не совсем справедлива. Европейская экспансия совершалась не действовавшими друг за другом имперскими завоевателями, а шла разными путями из политически разделенного центра. Тот факт, что Европа двинулась в районы с неустоявшимся укладом и слабой внутренней организацией, позволил приступить к массовой миграции и заселению с включением обширных и часто отдаленных зон в расширенное «западное» целое. Параллелью этого процесса в миниатюре может служить колонизация греками и финикийцами древнего Средиземноморья. Хотя и в данном случае, если не считать Сицилии, господство финикийцев и греков над коренным населением никогда не было настолько подавляющим, чтобы привести к уничтожению уже существовавшего общества. Европейская же колонизация, напротив, часто вела именно к такому результату, возможно, в большей степени из-за смертоносного действия незнакомых болезней на местное население, чем в силу сознательной политики.
Исходя из соображений ясности кажется предпочтительным последовательно рассмотреть: 1) европейскую экспансию на новые территории; 2) усиление европейского влияния в зоне Америки и России; 3) состояние Старого режима на его родине. Предложенное деление является, разумеется, искусственным. Не следует упускать из виду тесную взаимосвязь между экспансией за пределами того или иного государства и хрупким равновесием в центре.
1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Разнообразные аспекты европейской экспансии в XVII-XVIII вв. можно свести, не прибегая к излишне резкой схематизации, к трем видам использования земель и народов, с которыми европейцы вступали в контакт. В соответствии с первым и важнейшим из них европейцы продолжали проникать в районы, где уже имеющиеся местные продукты и изделия представляли ценность для европейских или других цивилизованных рынков. В 1650-1789 гг. важнейшими из таких товаров были меха из холодных северных районов Азии и Америки, а также золото и алмазы из бразильских джунглей. Во-вторых, в некоторых тропических и субтропических зонах, в частности в Вест-Индии и Ост-Индии, европейцы перестраивали местную экономику для производства товаров, пользовавшихся спросом на мировом рынке. Это предполагало грубое нарушение существующих общественных отношений, поскольку европейское предпринимательство основывалось на рабстве и других формах принудительного труда, а иногда приводило к массовому перемещению населения. В-третьих, в странах с умеренным климатом, прежде всего в Северной и Южной Америке и в западных районах евразийской степи, европейские поселения превращались из стихийных времянок в подлинные проводники европейского типа общества, даже если их и отделяли от Европы тысячи миль.
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ТОРГОВЛЯ И СОПЕРНИЧЕСТВО НАЦИЙ. В середине XVII в. океанские экспедиции почти прекратились, несмотря на то что оставались неисследованными просторы Тихого океана. К этому времени сначала испанцы и португальцы, а затем голландцы уже разведали самые богатые и с коммерческой точки зрения наиболее выгодные части земли. Экспедиции вдоль берегов Северной Америки или в направлении Австралии позволили открыть лишь бесперспективные и неразвитые районы, где нельзя было рассчитывать на прибыльную торговлю. Таким образом, корабли можно было использовать с большей отдачей на уже установившихся торговых путях, а не пускаться в рискованные, полные случайностей, невыгодные путешествия по не нанесенным на карту маршрутам. Отсутствие способов точного определения долготы означало, что даже когда судно сбивалось с курса и подходило к новым землям, как это, конечно же, случалось гораздо чаще, чем о том свидетельствуют дошедшие до нас записи, то надежной возможности повторить выход к такому берегу не существовало. Поскольку долгие плавания оканчивались для экипажа цингой в силу нехватки витаминов в корабельном рационе, экспедиции по большим морским просторам вроде Тихого океана были очень опасны, и оправдать их могла только уверенность в большой выгоде от торговли.
На суше тем временем охота за мехами быстро продвигала все дальше и дальше русские, французские, а после создания в 1670 г. компании Гудзонова залива и британские фактории. Со своих баз в Квебеке французы вышли в район Великих озер, а затем двинулись на запад от Верхнего озера внутрь Североамериканского континента (Радисон и Грозелье, 1658-1659 гг.) и на юг по Миссисипи (Ла Саль, 1679-1683 гг.). Британцы, еще не освоившие способы передвижения и выживания в суровых районах Северной Арктики, довольствовались поначалу тем, что держались поближе к Гудзонову заливу. Что касается России, то ее экспансия характеризовалась даже более поразительными темпами, чем французская. Выйдя в 1639 г. к Тихому океану в районе Охотска, последующие российские экспедиции спустились по Амуру до самого его устья (1649-1653 гг.) и по Колыме до Арктики, обогнув Сибирь через Камчатку (1648-1656 гг.)[1010]. Вслед за этим наступил явный перерыв в разведке новых земель, ибо горстке искателей приключений, сделавших такие шаги в неизведанное, требовалось время, чтобы организовать сбор пушнины и преодолеть невероятные трудности с перевозкой мехов к рынкам сбыта.
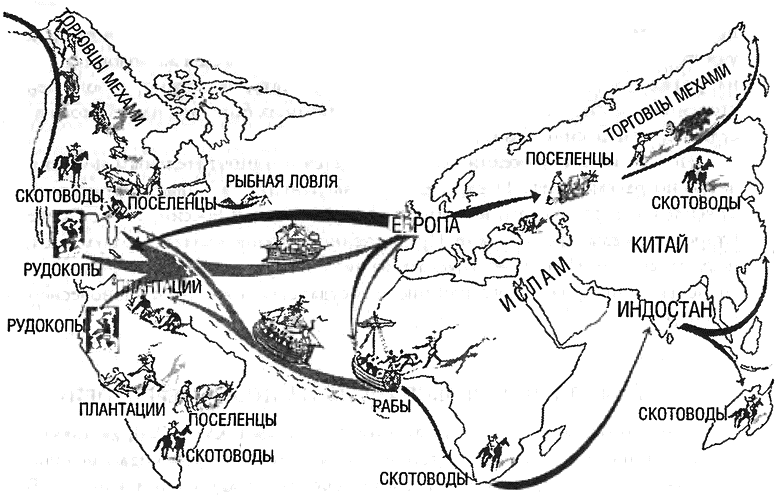
Относительно быстрому проникновению в глубь Бразилии в XVII-XVIII вв. способствовала погоня не за мехами, а за золотом. Первоначально отряды метисов шли в джунгли в поисках рабов, однако открытие месторождений золота и алмазов на континенте (1695 г.) привело к «золотой лихорадке» в джунглях Амазонки. В результате Бразилия в XVIII в. стала одной из первых стран в мире по добыче золота, и группы золотоискателей в стремлении найти новые жилы пересекали страну вплоть до Анд, устраивая небольшие поселения вдоль многочисленных притоков Амазонки, даже в тех местах, где золота не было[1011].
В конце XVIII в. успехи мореплавания в сочетании с соперничеством главных европейских держав дали толчок новой волне освоения территорий. Исследование новых земель стало частью государственной политики, а не делом отдельных флибустьеров или местной самодеятельностью, как это было ранее. Официальные агенты российского, британского и французского правительств, поддерживаемые силами своих флотов и движимые отчасти научным интересом, а отчасти стремлением взять под свой суверенитет новые территории, возобновили морские экспедиции. Первым из таких официальных исследователей стал капитан российского флота Витус Беринг (1728 г., 1741 г.), а самыми успешными и дальними оказались плавания капитана британского флота Джеймса Кука (1768-1779 гг.). Экспедиции Кука принесли два значительных технических достижения. Он победил цингу, введя в рацион матросов кислую капусту[1012], а во втором плавании он испытал первый образец морского хронометра, оказавшегося достаточно прочным и надежным, чтобы обеспечить точный расчет долготы. Таким образом, составленные Куком карты береговой линии и островов северной и южной частей Тихого океана были гораздо надежнее карт его предшественников, что позволило европейским мореплавателям отправляться даже на мельчайшие острова южных морей.
В подобной мере в конце XVIII в. соперничество между государствами стимулировало и освоение суши. Русские торговцы пушниной не замедлили воспользоваться открытиями Беринга на Аляске, основав фактории сначала на Алеутских островах, а затем и на континенте. Прослышав о продвижении русских, торговцы пушниной, базировавшиеся в Монреале, бросились в свою очередь на новые земли и заявили права на дальние районы Северо-Западной Канады (экспедиция Александера Макензи в Арктику в 1789 г.). По той же причине испанцы продвинули свою линию поселений к северу от Мексики вдоль Тихоокеанского побережья в Калифорнию (основание Сан-Франциско в 1775 г.) и в Британскую Колумбию (основание Нутки в 1789 г.). Таким образом, к концу XVIII в. русские торговцы пушниной и исследователи, двигавшиеся на восток, встретились с британскими торговцами (занявшими место французов в Канаде после 1763 г.) на линии канадских Скалистых гор. Они замкнули арктический пояс и ввели тундру и лесистые районы приполярных земель в русло цивилизованной торговли. В этот же период русские и испанцы сделали то же по всему Тихоокеанскому побережью Америки.
Итак, к началу XIX в., когда организованные экспедиции, снаряженные европейскими флотами, исследовали в основном Мировой океан за исключением покрытых льдами полярных зон, только внутренние районы Африки и Австралии оставались терра инкогнита для европейцев. А на всем громадном пространстве остального, уже изведанного, мира европейские купцы и мореходы повсюду несли гибель коренным обществам посредством болезней и благ цивилизации.
ПЛАНТАЦИИ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. Сколь бы резким ни было влияние европейцев на охотников Арктики, на рыболовов и земледельцев Океании, оно в определенном смысле было случайным. Пришельцев интересовала только пушнина, либо же им нужно было пополнить запасы и экипажи после тягот океанского плавания, и они не намеревались переделывать хозяйственный уклад и культуру местного населения.
Иначе обстояло дело в других частях света. В Ост-Индии (Индонезии) голландцы, очевидно, первыми использовали местную рабочую силу для ведения рационального сельского хозяйства, выращивая продукты специально для заокеанских рынков и периодически регулируя объемы производства для извлечения максимальных прибылей[1013]. Однако коммерческое разведение пряностей уже издавна практиковалось в Ост-Индии к тому времени, когда голландцы впервые появились на арене, и их действия по монополизации и рационализации торговли не влекли коренного разрыва с устоявшимся укладом. В Новом Свете, наоборот, колониальное сельское хозяйство не могло опираться на имеющуюся рабочую силу или знания. Португальские сахарозаводчики, перебравшиеся с островов Мадейры[1014] в Бразилию, завезли первый тростник в Америку около 1520 г., и эта культура прижилась настолько хорошо, что испанцы вскоре последовали этому примеру в некоторых прибрежных зонах Карибского бассейна. Однако первые успехи этой деятельности были оставлены далеко позади во второй половине XVIII в. быстрым развитием плантаций сахарного тростника на Карибских островах, где сначала англичане, а затем французы и наконец голландцы внедрили строго рациональную коммерческую систему сельского хозяйства на основе рабского труда.
Развитие производства сахара на островах Карибского моря способствовало чрезвычайно выгодной трансатлантической торговле, так как корабли могли везти из Европы дешевые ткани и другие промышленные товары к побережью Африки, где их обменивали на рабов, которых с немалой прибылью сбывали на Карибах или на континенте, а затем возвращались с грузом американского сахара и рома для продажи в Европе. В этом торговом треугольнике ост-индский длинноволокнистый хлопок и индиго оказались менее ценными, но все же важными товарами. Более того, треска с Ньюфаундленда, древесина и зерно из Новой Англии и колоний Средней Атлантики нашли крупные рынки сбыта на островах Карибского бассейна, где сельское хозяйство стало вскоре настолько специализированным, что основные сельскохозяйственные культуры были заброшены. Таким образом, оба конца Атлантики оказались связаны активной торговлей, сконцентрированной вокруг крошечных Подветренных и Наветренных островов в Карибском море[1015].
Менее прибыльные, но все же крупные плантации, на которых использовался рабский труд негров, устраивали в южных английских колониях на Американском континенте и вдоль Бразильского побережья. На другом конце света, в Ост-Индии, уже с самого начала XVIII в. голландцы придавали все большее значение сельскому хозяйству как дополнительному фактору их успехов в торговле. Основой сельского хозяйства становились новые продукты и прежде всего кофе. Хозяйство вели отдельные голландские плантаторы, в некоторых случаях приезжие китайские предприниматели, но в большинстве случаев — местные феодалы, от которых требовалось поставлять определенное количество кофе или других продуктов голландцам в качестве своеобразной дани. Труд в Ост-Индии, как правило, формально не был рабским, но местные «регенты» на Яве тем не менее часто прибегали к силе, чтобы заставить своих подданных выращивать кофейные деревья и другие, новые для них культуры[1016].
РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Оседая в различных частях света, европейцы становились причиной целого ряда изменений общественных структур в землях, где они устраивали свои поселения. Жесткое рабство на сахарных плантациях Вест-Индии и примитивное равноправие на границах Новой Англии представляют собой крайние проявления спектра, в котором можно различить многие другие промежуточные общественные формы. Безжалостное рабство на Барбадосе переходит в менее жесткие условия неволи на испанских и португальских плантациях в Центральной Америке и Бразилии. Крепостничество в Восточной Европе и эксплуатация индейцев в испанской Америке представляли собой более мягкую форму принуждения, по крайней мере официально, если не на деле, и в данном случае политика Испании вновь оказывалась мягче, коль скоро сила правительственных мер оставалась на стороне прав индейцев. Наем рабочих на несколько лет по договору (распространенная в старой Вирджинии практика) и высылка преступников в Австралию или Сибирь занимают место посередине в этом спектре. И наконец, свободный поселенец колонии, пожалованной кому-либо Британией, плативший откуп аристократу-землевладельцу, и мелкий фермер Новой Англии, владеющий землей согласно безусловному праву собственности, пользовались личной свободой, уступавшей только полной вольнице таких разных людей, как американские пионеры Запада, сибирские и канадские охотники за пушниной, бразильские бандьерос, гаучо в аргентинской пампе, украинские казаки или испанские морские пираты.
На любой расширяющейся территории главная проблема всегда — нехватка рабочей силы. Для ее разрешения применяют диаметрально противоположные методы: радикальное принуждение для поддержания социального расслоения или же не менее радикальная свобода, ведущая к откату в новое варварство с его равноправием. У каждой политики есть свои преимущества и свои недостатки. Жесткое насилие может применяться для того, чтобы поддерживать специалистов, необходимых обществу, если оно вообще хочет существовать. Так, без беспощадных хозяйственных предпринимателей не могли бы создаваться плантации, а без профессионального класса военных нельзя было бы защитить сельскохозяйственные поселения в западных частях евразийских степей. К тому же высшие классы, держащиеся на принудительном труде, могут быстро достичь сравнительно высокого уровня культуры и придать обществу в целом внешний лоск изысканности, которого нельзя добиться другим путем. Такие достижения легко преуменьшать в эпоху демократии, когда люди готовы больше сочувствовать рабам или крепостным, чем симпатизировать их хозяевам. Но подъем цивилизации происходит прежде всего через эксплуатацию труда одной группы населения другой, и за счет подобного процесса цивилизованные общества могли неоднократно переходить через сдерживающие географические барьеры, как это было в давние времена в хеттской Малой Азии и римской Галлии или в более позднее время в испанской Америке или в российской Украине. При этом всегда сохраняются отрицательные стороны такого насильственного распространения цивилизации, ибо культура, исключающая из сферы своего действия большинство населения, будет обязательно непрочной.
По-видимому, нам гораздо симпатичнее второй элемент названной альтернативы: глубокий эгалитаризм. Хотя следует иметь в виду, что грубое насилие таких сообществ, направленное против беспомощных коренных жителей и выливающееся в пьяные драки между самими пионерами, означало также опускание прежде цивилизованного населения до состояния варварства. Несмотря на то что европейские переселенцы были вооружены ружьями, изготовленными на цивилизованных заводах, они не обременяли себя законными и культурными ограничениями цивилизованного общества. Точнее говоря, цивилизованная жизнь постепенно приходила вслед за грубыми пионерами через социальную дифференциацию, образование и технический прогресс. Более того, этот процесс происходил, без сомнения, быстрее и равномернее, чем культурное просачивание просвещенной аристократии. В этом заключается фактическое превосходство анархической окраинной свободы над ее альтернативой в виде массового принуждения. Однако в XVII-XVIII вв. преимущества погружения в анархию оставались почти целиком потенциальными, тогда как текущие успехи принуждения были очевидны и неоспоримы. Несомненно, утонченная изысканность аристократической Вирджинии, Новой Испании, Венгрии и России, основанная на принудительном труде, намного перевешивала скромные зачатки цивилизации в районах, расположенных вдоль морского побережья Новой Англии.
При этом Новая Англия и колонии Среднеатлантического побережья Северной Америки компенсировали свою культурную отсталость сравнительно большим числом европейских (или скорее бывших европейских) поселенцев. Ни в каком другом конце света больше не возникало таких обширных и компактных сельскохозяйственных общин. Тем не менее в XVIII в. был отмечен существенный рост испанского населения в районе Ла-Платы в Аргентине, а в Южной Бразилии португальские переселенцы завладели громадными территориями. И в той, и в другой зоне над традиционным сельским хозяйством преобладали скотоводческие ранчо, так что поселения оставались сравнительно незначительными. В Канаде французские фермеры держались берегов залива Святого Лаврентия, а лежащие в лесной глуши районы начали осваивать лишь к концу XVIII в. по большей части силами тори, сторонников британской короны, бежавших от Американской революции. В Южной Африке голландские колонисты высадились у мыса Доброй Надежды в 1652 г. Когда британцы захватили эту колонию в 1795 г., голландские фермеры проникли уже далеко в глубь территории, а возле самого мыса обосновалась крупная сельскохозяйственная община (вскоре выросшая в город Кейптаун. — Прим. пер.). В 1789 г. первые английские поселенцы прибыли в Австралию. Таким образом, за исключением Новой Зеландии, впервые колонизированной в 1840 г., все основные заморские центры европейских поселений начали развиваться к концу XVIII в.
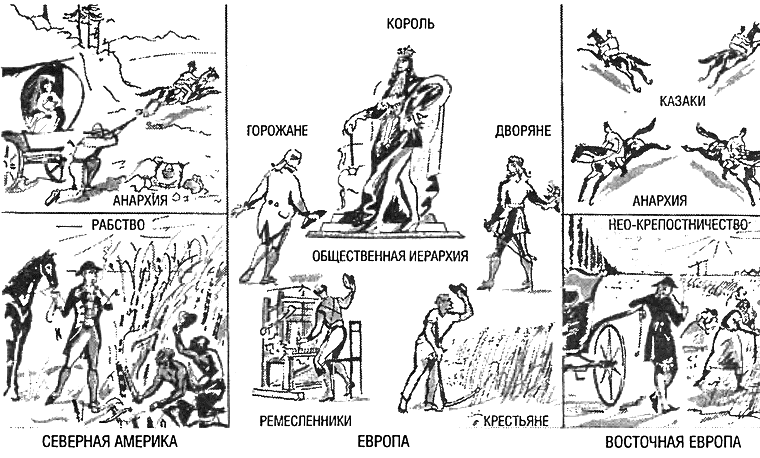
Перемещение европейских поселенцев за океаны носило впечатляющий характер и было важным для будущего. В то же время заселение западных евразийских степных просторов, очевидно, предполагало более крупную миграцию, но было менее значительным в изменении культурного баланса мира. В XVII-XVIII вв. миллионы первопроходцев распахивали плодородные земли, лежащие между Центральной Венгрией и Западной Сибирью. На дальних оконечностях этого движения на восток анархические условия жизни были сходны с Новым Светом. Русские поселенцы в Сибири подчинялись контролю только номинально и вели суровую жизнь охотников, рыболовов или земледельцев, во многом похожую на жизнь американских поселенцев на Дальнем Западе. Но все же такая жизнь была нетипичной. В западных степях крупные европейские поселения смогли возникнуть только после того, как Австрия и Россия вооруженной рукой вытеснили мусульманских скотоводов и воинов из этого района. В Венгрии это произошло после 1699 г., а из района Украины мусульманская государственная сила ушла только в результате аннексии татарского Крыма Россией в 1783 г.
Одержав верх над бывшими мусульманскими властителями западной степи, австрийское и российское правительства могли распоряжаться вновь завоеванными, но слабо населенными землями на свое усмотрение. Заселение западных степей шло тремя путями. На большей части Венгрии и Украины крупные наделы передавали знатным дворянам, имевшим влияние при дворе, и они заселяли новые районы, по крайней мере частично, крепостными из своих же более заселенных земель. Вдоль границ с Османской империей и Персией Австрия и Россия шли по пути образования военизированных, свободных крестьянских общин под особой имперской юрисдикцией. На такие поселения можно было положиться в плане защиты их собственных владений от набегов извне. Как бы то ни было, ни российских казаков, ни австрийских граничаров, привыкших носить оружие и время от времени вступать в схватки с татарами или турками на их границах, вряд ли можно было легко превратить в крепостных. Таким образом, сербы, хорваты, румыны и другие народы, жившие на австрийской Военной границе, а также реестровые казаки Южной России продолжали пользоваться личной свободой в обмен на обязательную воинскую службу в специальных полках[1017]. Третий путь заключался в том, чтобы привлекать поселенцев из-за границы, предлагая им земли на особо выгодных условиях. Такую политику проводила Австрия в Банате, а Россия в отдельных специфических районах Украины.
По мере того как занимались пустовавшие земли, и военные поселения, и свободные крестьянские общины, образованные под эгидой империи, начинали попадать под пяту феодалов. В некоторых случаях этому способствовала внутренняя дифференциация среди поселенцев, как это было казаками, но иногда официальным актом правительства до тех пор свободные общины отдавались на очень условную милость придворных фаворитов[1018].
И все же следует привести особый пример, когда освоение европейцами заморских земель не было увенчано такими большими успехами. Колонизация Ирландии Кромвелем и его предшественниками не привела к переходу английского общества через пролив Святого Георгия. Дикие ирландцы, вынужденные жить на одном картофеле, могли работать на новых землевладельцев за меньшую плату, чем английские или даже шотландские поселенцы. Тем самым они сохранили демографическое превосходство, хотя и ценой жалкой экономической зависимости от чужой в культурном смысле аристократии[1019]. Несмотря на различие официальных форм, общественные модели Ирландии XVIII в. были похожи на модели Восточной Европы и южных колоний Северной Америки в том, что касается резкой поляризации между привилегированным классом землевладельцев, относившимся к европейской цивилизации, и обездоленной в культурном плане, психологически отчужденной массой сельскохозяйственных работников.
2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ АМЕРИКИ И РОССИИ
Экспансия европейской цивилизации после 1648 г. продолжалась не только путем захвата новых земель, но и путем привития европейского стиля жизни в районах, лежавших за пределами Европы и находившихся в ее сфере влияния. К 1789 г. этот процесс распространился на обширные области России и Нового Света, сделав их полноправными членами того, что в результате следует называть уже западной, а не просто европейской цивилизацией. Включение Америки и России в политическое целое Запада с центром в Европе увеличило разнообразие и разбавило или, возможно, даже ухудшило качество западной цивилизации. При этом, несмотря на сохранявшиеся различия между старыми центрами европейской цивилизации и странами за ее пределами, принципиальная общность культуры все больше объединяла американцев, западных европейцев и народы России, ставя их особняком по отношению к цивилизованным сообществам остальной части мира.
Приобщение России и Америки к европейскому стилю цивилизации шло совершенно различными путями. Прежде чем Россия смогла воспринять Запад, ей нужно было отказаться от многих элементов собственного культурного наследия в ходе бурного и болезненного процесса. Напротив, американские потомки европейских иммигрантов просто восстанавливали то, от чего их предки в разной степени отказались в суровых условиях жизни пионеров, поэтому возврат к европейской цивилизации проходил у них без глубоких психологических потрясений.
И в России, и в Америке культурный прогресс был делом относительного небольших социальных групп. Однако в Америке проводники культуры опирались на добровольную поддержку или по крайней мере пассивное согласие остального населения, тогда как в России насаждение европейской техники, искусства и моды вызывало глухое возмущение большинства населения, плохо или совсем не понимавшего новый культурный мир, в который вступали его хозяева. К тому же культурный процесс в Америке шел без какого-либо осознанного плана, за счет стихийных действий отдельных лиц и групп, лично заинтересованных и видевших возможность обогащения от более полного приобщения к европейской цивилизации. В России же этот процесс принял форму насильственной кампании, сознательно проводимой правительством и первое время неприкрыто направленной на приобретение военной мощи.
Результаты этого культурного процесса отличались в такой же степени, как и методы его проведения. К концу XVIII в. Америка и Россия показали Европе новые крайности свободы и деспотизма. Каждая из этих крайностей противоречила алогичным компромиссам, лежавшим в сердце европейского Старого режима, и каждая из них по-своему способствовала его падению.
ИСПАНСКАЯ АМЕРИКА. Ослабление испанского господства в Европе было символически обозначено восстановлением национальной независимости Португалии после 1640 г. и неблагоприятными условиями Пиренейского мира, заключенного в 1659 г., хотя Испанская империя в Европе продержалась до 1713-1714 гг., а заморская империя сохранялась почти нетронутой вплоть до XIX в. Такой ситуации способствовали династические факторы и консервативное влияние политики равновесия сил в сочетании с внутренней прочностью и имперскими традициями Испании.
Двойная система иерархической церкви и централизованной бюрократии, управляемая доверенными лицами испанской короны, удерживала испанско-американское общество в строгих и традиционных рамках вплоть до третьей четверти XVIII в. Американские индейцы оставались покорными и не имели культурных или политических руководителей, которые могли бы эффективно противостоять испанскому господству[1020]. Но даже и в этом тщательно контролируемом и, на первый взгляд, застывшем обществе про. исходили далеко ведущие перемены. Первой и главнейшей из них было то, что парализующая деградация индейского населения примерно с 1650 г. перестала подрывать благосостояние Мексики и, возможно, также Перу. Можно предположить, что американские индейцы начали приобретать к тому времени более высокий иммунитет к европейским и африканским болезням. При этом росла численность стойких к болезням метисов, доля которых со временем стала преобладать в общем населении. Восстановление поначалу шло медленно, однако в последние десятилетия XVIII в. наметился очень быстрый рост населения, что в свою очередь привело к поразительному подъему экономической активности: рентабельность рудников поднялась до невиданного уровня, достигли процветания сельское хозяйство и торговля[1021].
Экономической экспансии способствовали широкомасштабные административные реформы, проводившиеся в XVIII в. по инициативе новой династии Бурбонов в Испании[1022], и особенно решительная либерализация регулирования торговли. В 1774 г. испанские колонии получили на первое время разрешение на свободную торговлю между собой. Четырьмя годами позже были изданы дополнительные декреты, разрешавшие двадцати четырем испано-американским портам свободную торговлю с любым портом Испании. Тем самым был положен конец исключительным правам Кадиса в Испании, Картахены, Портобелло и Веракруса в Америке на контроль за судами, перевозящими товары между колониями и метрополией.
Более свободная торговля и общий экономический подъем в испанских колониях обеспечили процветание значительного класса купцов, мелких торговцев и лиц свободной профессии. Такой рост среднего класса придал новый отпечаток интеллектуальной и культурной жизни колоний. Несмотря на то что в XV1I-XVIII вв. в испанской Америке существовали солидные учебные заведения и некоторые из них ввели современные программы, включающие изучение таких светил, как Декарт, Лейбниц и Ньютон[1023], обучение все же оставалось неэффективным, ограниченным узким кругом книжников. Тем не менее к концу XVIII в. широкие круги испано-американского общества начали интересоваться новыми идеями, рождавшимися в Европе, и, как везде в мире, купцы и люди свободных профессий прокладывали дорогу освоению новинок Просвещения. Такие люди все более критично относились к окружающему их обществу. Особенно остро они ощущали систематическую дискриминацию со стороны испанского правительства, ставившего на высокие посты в колониях исключительно испанцев из метрополии.
С появлением значительного среднего класса и началом интеллектуального подъема, распространившегося за пределы круга профессиональных ученых, испанская Америка стала гораздо более европеизированной, чем когда-либо. Неуклонное отступление исконно индийских культур перед натиском миссионеров вело к тому же результату. Разумеется, расовое смешение отделяло новое общество от его европейской модели. Большое количество обширных территорий, массовое применение принудительного труда (как в отработку за долги, так и бесправного рабства), а также необычайное экономическое[1024] и культурное влияние церкви по-прежнему отличали испанскую Америку от некоторых частей Европы, однако такие черты американского общества были похожи на существовавшие в самой Испании условия и имели тесное сходство с другим флангом западной цивилизации — Восточной Европой.
БРАЗИЛИЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. У португальской Бразилии и британских колоний в Северной Америке было нечто общее, что отличало их от испанской империи Нового Света. В политическом плане они характеризовались глубокой децентрализацией, и серьезные волнения в метрополии (Гражданская война в Англии 1642-1649 гг., восстание в Португалии против Испании 1640-1659 гг.) вынуждали колонистов в середине XVII в. рассчитывать в основном на собственные силы[1025]. В Бразилии, как и в южных английских колониях, преобладала плантационная экономика, основанная на рабском труде, но и там, и там приграничные территории, заселенные скорыми на решения первопроходцами, могли признавать, а могли и не признавать политическое руководство владельцев плантаций с побережья.
И все же в целом сходство между этими двумя обществами было скорее видимым, чем реальным. Бразильская аристократия, гордившаяся своими воинскими и сексуальными доблестями, презиравшая и тяжелую работу («удел рабов»), и интеллектуальную образованность («дело священников»), коренным образом отличалась от землевладельцев Вирджинии или Южной Каролины. Несмотря на правительственные реформы, начатые в конце XVIII в. деспотичным и «просвещенным» главой португальского кабинета маркизом де Помбалом, а также несмотря на существенный экономический рост, к концу века Бразилия значительно отличалась от других обществ. В частности, индейская и негритянская культуры, хоть они и вплелись в португальскую традицию, сохраняли свою самобытность и энергию в такой степени, что подобного явления не существовало больше нигде в Новом Свете[1026].
Даже в конце XVIII в. английские, бывшие английские и французские колонии далеко отставали от испанской Америки. Город Мехико с его 112 926 жителями в 1793 г.[1027] затмил все, что только было на севере, и, бесспорно, превышал по размерам любой город современной ему Франции и Англии, исключая Париж или Лондон. Население Мексики значительно превышало население всех тринадцати английских колоний, а роскошь, утонченность и образованность высших классов испанских колоний превосходили все, что было к тому времени достигнуто на Атлантическом побережье Северной Америки.
При этом культурно отсталые Новая Англия и колонии Среднего побережья Атлантики Северной Америки представляли собой образец самого радикального перехода общества европейского типа на новую почву. Эти английские колонии быстро превратились из маленьких и обособленных прибрежных плацдармов, какими они были в начале XVII в., в более или менее непрерывную полосу поселений, вытянувшихся от Нью-Хэмпшира до Джорджии и простиравшихся в глубь до Аппалачей. Население здесь увеличивалось очень быстро — частично за счет иммиграции, но в основном за счет естественного прироста. К 1790 г., когда была проведена первая перепись Соединенных Штатов, оно насчитывало 4 млн. человек, т.е. чуть меньше половины населения Великобритании.
Цифры указывают на приближение к политическим и культурным условиям жизни в Европе и, в частности, в Англии. Если быть точным, то в Новой Англии не было аристократии, а власть монарха находилась очень далеко и обычно почти не действовала. К тому же близость открытой границы делала землю доступной и способствовала основанию и сохранению только фермерских общин, отличавшихся необычным духом равноправия. Однако в более старых поселениях, особенно в морских портах, на английских линиях в XVIII в. начала складываться олигархия удачливых торговцев и собственников. Деловые навыки прочно укоренились в Новой Англии и в колониях Средней Атлантики, причем выросли они в значительной мере на той же пуританской почве, которая дала Англии большинство ее самых преуспевающих дельцов. Так, например, суда Новой Англии стали ходить в далекие моря. Обилие дешевого леса и экипажи, приученные к трудной жизни и тяжелой работе кальвинистским учением и каменистыми почвами, позволяли торговому флоту янки конкурировать с любыми соперниками. С другой стороны, промышленность оставалась в зачаточном состоянии вплоть до Американской революции.
Социальная мобильность и политическая свобода господствовали в английских колониях в необычайном масштабе. Способный и энергичный человек мог подняться быстро и высоко, как показала карьера Бенджамина Франклина (1706-1790). Даже на юге плантационная рабская экономика в какой-то мере уравновешивалась дальними фермерскими общинами, походившими на пограничные поселения Новой Англии во всем, кроме строгости кальвинистской дисциплины. Можно сказать, что английские колонии в некотором смысле взяли лучшее от обеих частей света, поскольку образованный вирджинский аристократ, знакомый с обычным (британским) правом и Джоном Локком, разбирающийся во французской литературе и акциях западных земель, активно участвующий в местном управлении и деятельно направляющий дела собственного хозяйства, обеспечивал умелое лидерство отдаленных районов, не господствуя на этой сцене до такой степени, чтобы ускорить приход олигархического правления над общинами. Подобным же образом купцы, судовладельцы и дельцы северных колоний могли удерживать свое политическое господство только до той степени, до которой за ними готова была идти сельская часть населения. Сравнительно широкое избирательное право давало возможность значительной части, а в некоторых колониях и абсолютному большинству взрослых мужчин выражать свою волю в политике. Таким образом создавалась атмосфера, разительно отличавшаяся от пассивной покорности рядовых масс власти бюрократии, олигархов и духовенства в Латинской Америке и французской Канаде.
Ригоризм духовенства и праведников смягчался религиозной неоднородностью. Разнообразие церквей в колониях считалось вполне закономерным, и никто не стремился навязать какую-то единую конфессию в британской Северной Америке. К тому же в XVIII в. все общины постепенно отдалялись от суровой религиозности своих отцов — даже в пуританском Массачусетсе — и проникались секуляризацией, под влиянием которой в то время преобразовывалась Европа. Это не удерживало поборников чистой веры из числа священнослужителей от раздувания крайних выражений религиозных чувств, при этом деисты и атеисты, англиканцы, конгрегационалисты, пресвитериане, квакеры, римские католики, методисты, баптисты (не говоря уже о группах, возникших за пределами английской традиции, таких как меннониты или голландские реформаты) должны были так или иначе уживаться друг с другом. В итоге колониальное общество освободилось от господства какой-либо одной церкви или доктрины.
Пока английские колонии были окружены французами и их индейскими союзниками на севере и западе и подвергались нападению французских военных кораблей или каперов, первостепенное значение имела защита, предоставляемая британским флотом, а при случае и регулярными британскими войсками. Однако после захвата Британией Канады в результате победы в Семилетней войне (1756-1763 гг.) французская угроза практически исчезла и соответственно изменились отношения колоний с метрополией. Попытки британского правительства собирать дополнительные подати, разместить войска в колониях, регулировать торговлю в Новой Англии и ограничить власть колониальных законодательных органов вызвали бурю протестов. Для обоснования сопротивления актам британского парламента приводили ссылки на свободы англичан. Организованное неповиновение британским законам и властям ускорило тем не менее народные выступления под флагом прав не просто англичан, а Человека, провозглашавшихся самыми радикальными теоретиками тех дней. И все же спонтанные вспышки насилия толпы против «тори» не увлекли революционное движение в сторону от в общем-то законных путей, учитывая, что патриотическая партия переписала законы разных колоний и приступила к эксперименту, вначале оказавшемуся скорее неудачным, с федеративным союзом. Когда же британские войска вознамерились восстановить порядок и повиновение, их действия постепенно вызывали все более резкое сопротивление, и к 1775 г. отношения между колонистами и британским правительством переросли в открытую войну. После многих тягот и лишений в 1783 г. дело революции победило — скорее по причине резко разошедшихся мнений в британском правительстве и вмешательства Франции (объявившей в 1778 г. войну Великобритании), чем благодаря победам, одержанным оборванными армиями Джорджа Вашингтона.
Таким образом, Американская революция оказалась успешной благодаря противоречиям европейской политики силы и оружия, а ее руководители черпали идеи из запасов радикальных политических учений, распространившихся в недавнем прошлом по Европе. Те же радикальные идеи, смягченные опытом, вдохновляли и людей, писавших Конституцию Соединенных Штатов. Теоретические принципы разделения власти между законодательной, исполнительной и судебной ветвями, а также распределение управленческих полномочий между местными и федеральными властями были оформлены в виде реально действующей конституции, а принципы индивидуальной свободы и правления с согласия народа были гордо провозглашены на весь мир.
В этом содержался мощный вызов Старому режиму в Европе. Американцы, казалось, принялись за генеральную уборку устаревших институтов с тем, чтобы создать разумную систему управления. И хотя кое-кто мог усомниться в стабильности или отрицать принципы нового режима, никто в западном мире не остался равнодушен к американскому эксперименту. Таким образом, бывшие английские колонии, сколь бы велико ни было их видимое отставание от испанской Америки и сколь бы примитивна ни была их жизнь по сравнению с жизнью европейских аристократов, с удвоенной силой влились в главный поток европейской мысли и практики. Несомненно, пример Американской революции стал сильнодействующим фактором, способствовавшим Французской революции, разрушившей Старый режим в Европе[1028].
РОССИЯ. Усиление более современного, самодержавного и опирающегося на военную силу правительства в России стало вызовом совсем другого рода для Старого режима в Европе. Вызов этот не был таким же решительным и непосредственным, как идеологический вызов Американской революции. Однако подъем новой военной империи, располагавшей обширной территорией и большим населением, а также (по крайней мере, в принципе) направлявшей все людские и материальные ресурсы на служение государству, явно контрастировал с политически раздробленной и социально разделенной старой Европой. Только за счет использования новых ресурсов и изыскания новой базы власти путем непрерывного самопреобразования могли такие относительно небольшие страны, как Франция и Британия, надеяться на равное положение с новым российским великаном. За тем фактом, что в течение XIX в. демократическая и промышленная революции создали новые основы для власти и богатства в Западной Европе, оставив Россию далеко позади более чем на столетие, в какой-то мере оказалась скрыта степень российской угрозы в последние десятилетия XVIII в. В сущности, эта опасность традиционному европейскому многообразию была именно так отодвинута вплоть до нашего времени.
До 1698 г., когда юный Петр Великий возвратился из своей знаменитой поездки по Западной Европе, чтобы начать революцию сверху, Россия двигалась не спеша, следуя политике и строю, принятому первыми Романовыми. Усилия направляли на то, чтобы сохранить в целости самобытное российское наследие путем сведения к минимуму контактов с иностранцами. Такая политика оправдывала себя в XVII в. Так, например, роль России как центра православия помогла царям получить права на Восточную Украину (1667 г.) после долгой войны с Польшей, так как казаки предпочитали иметь над собой православного господина, а не католического, если уж без него нельзя было обойтись.

Однако Петр вовсе не заботился о православии, а грубые и шумные нравы иностранных колоний в Москве были ему больше по вкусу, чем ритуальная жизнь русского двора. При этом его тесные связи с иностранцами оставались всего лишь личной привязанностью почти десять лет после того, как он стал полновластным правителем России. И только после того, как недовольство московских стрельцов (1698 г.) вылилось в мятеж, Петр до конца жизни не жалел усилий для превращения окружавших его веселых друзей и авантюристов в господ Российского государства.
Одна за другой исчезали старые приметы: запрещены бороды и кафтаны, введен юлианский календарь, упрощен алфавит, при дворе отменена изоляция женщин, на Финском заливе построена новая столица — Санкт-Петербург. Петр вытащил русских дворян из их вотчин и поместил в казармы, усадил за чиновничьи столы. Он взялся за административную неразбериху России, пытаясь сделать систему управления похожей на шведские модели, и даже осмелился подчинить святую православную церковь светскому прокурору. Повсеместно царь с его неутомимой и капризной энергией загонял свой упирающийся народ на новые пути. Подобно своему предшественнику Ивану Грозному и Сталину в более поздние времена, личность Петра на деле преобразовала русское общество за четверть века.
Устрашением и массовым насилием реформы Петра были прочно укреплены в Российском государстве, чему способствовали также превратности долгой и тяжелой войны со шведами (1700-1721 гг.). Следует отметить, что Петр и его соратники не смогли бы безнаказанно замахнуться на старые русские обычаи и установления, если бы приверженность к старой Руси к тому времени уже сильно не ослабла. Ограниченное, но длительное соприкосновение с ощутимыми преимуществами европейской цивилизации подорвало беззаветную приверженность старым традициям, а официальная церковь была сотрясена до основ старообрядческим расколом. Оставалось только самодержавие, и когда оно перешло в руки революционеров, отвергнувших российское прошлое и решивших перенять достижения европейской цивилизации, то прекратили существовать и объединяющие принципы действенного сопротивления.
В центре всей бурной деятельности Петра находилось поразительное по своей целенаправленности стремление к огромной военной мощи. Его правительственные реформы были подчинены цели набора, оснащения и содержания армии и флота, равных или превышающих силы западных держав. Это требовало не только людей и денег, но также заводов и верфей, математики и практических навыков, более широкой грамотности и принуждения на любой ступени общественной лестницы. Петр набирал крепостных в армию, на новые оружейные заводы на Урале, на строительство Санкт-Петербурга, ставил дворян почти с такой же непоколебимостью на службу туда, где необходимо, записывал их сыновей в полки императорской гвардии, предписал купцам перенести свои дела из Архангельска в новую столицу — Санкт-Петербург, назначал шведских пленных на административные должности в российских губерниях и выписал сотни голландцев и других иностранных мастеров для развития новых ремесел в России. Жизнь самого Петра, влекомого почти демонической неутомимостью, состояла из переменчивого внимания к мелочам, внезапных крутых решений, необузданных попоек и буйных беспричинных вспышек гнева.
Петровские административные реформы оставались хаотичными, и скрытое сопротивление его нововведениям во всех слоях общества серьезно мешало его планам. И все же Петр обновил Россию. Он выиграл войну со шведами, несмотря на искусство своего противника Карла XII, и присоединил к России значительную часть территории на Финском заливе — его знаменитое «окно в Европу». Войны с турками были менее успешными. Победа 1696 г. обеспечила выход к Азовскому морю, но этот успех был сведен на нет в 1711 г. катастрофическим окончанием второй кампании, что вынудило царя отдать все, что было добыто в ходе предыдущей. Отчасти утешало то, что к самому концу царствования Петра его войска победили Персию и передвинули российскую границу к южному побережью Каспия.
Дело Петра стало возможным благодаря его необычайным способностям и неуравновешенности как личности. Секрет его поразительных успехов кроется в том, что он создал неофициальную, но высоко эффективную систему обучения молодых людей, желавших послужить его революционным замыслам. Учебными заведениями Петра были полки императорской гвардии, сформированные на основе ядра из товарищей его детских забав и преобразованные в воинские части. Когда революция сверху начала спускаться вниз, Петр набирал из гвардейцев офицеров для армии, гражданского управления, дипломатии и других целей. Для заполнения освобождавшихся мест в полках дворянам предписывалось посылать в них своих детей рядовыми. В результате Петр быстро создал мощную правящую верхушку, неофициально, но прочно связанную общим опытом службы в гвардии. К тому же тот факт, что новые хозяева России, с пренебрежением отвергшие многое из русского прошлого, были поначалу не более чем крошечным гарнизоном на недружественной земле, служил им всем мощным стимулом к тому, чтобы удерживать приверженность народа к допетровской Руси от какого бы то ни было политического выражения, способного поставить под угрозу их власть. Поэтому жестокие интриги, столь характерные для правящей верхушки в XVIII в., всегда прекращались внезапным дворцовым переворотом. Любые длительные дворцовые распри могли открыть шлюзы для яростной реакции масс, направленной против всех тех, кто изменил старой Руси[1029].
После кончины Петра история России становится историей революционной верхушки, созданной им на основе императорской гвардии. Вражда и союзы в ее среде выражаются в серии знаменитых дворцовых переворотов, когда на смену одному самодержцу приходил другой, не имевший права наследования или каких-либо других законных прав. Самым выдающимся стал переворот 1762 г., в результате которого был свергнут Петр III, а на престол взошла его супруга — никому не известная немецкая принцесса. При этом узурпировавшая власть Екатерина II сохранила ее до самой смерти (1796 г.) и подняла российскую мощь на невиданную до тех пор высоту.
Екатерина удерживала трон благодаря дружбе с гвардией и широкому удовлетворению запросов дворянства. Еще до ее прихода к власти простые нравы, отличавшие окружение Петра, стали постепенно укрощать французские гувернантки и немецкие наставники, которых приглашали в дворянские семьи, чтобы учить их детей языкам и манерам европейской аристократии[1030]. Однако, по мере того как русские дворяне ближе знакомились с жизнью аристократов в Европе, они начинали требовать для себя таких же привилегий и статуса. В частности, они желали освободиться от обязательной государственной службы. Злополучный супруг Екатерины в 1762 г. предоставил им такую привилегию, после чего тысячи дворян покинули армию и государственные учреждения, чтобы осесть в своих вотчинах. Екатерина развила дальше эту уступку, обеспечив юридическую защиту от конфискации дворянского имущества и от других произвольных наказаний. Она также подтвердила и расширила законные права дворян на их крепостных и позволила провинциальному дворянству объединяться в свои организации для конкретных и ограниченных целей.
Екатерина могла себе позволить ослабить давление на дворянство, потому что Россия уже располагала к тому времени значительным числом хорошо образованных людей, желавших и даже жаждавших получить должности в армии и в государственных учреждениях. Экономическое развитие достигло такой степени, когда самодержавие получало достаточные поступления от налогов, чтобы платить своим чиновникам нечто вроде жалования, так что отпала необходимость в прежней форме оплаты в виде раздачи земель[1031]. Государственная служба оставалась лестницей для продвижения вверх, поскольку достижение установленного положения в армии или на гражданской службе обеспечивало автоматическое получение дворянства со всеми официальными привилегиями этого статуса.
Однако находившиеся на нижней ступени общественной лестницы крепостные не видели улучшения своей жизни и, несомненно, подвергались более сильному угнетению, чем раньше. После того как дворян освободили от обязательной государственной службы, крестьяне, естественно, также подумали, что их освободят от необходимости служить дворянам. Это убеждение вылилось в мощное крестьянское восстание с центром в Южной России (1773-1775 гг.), жестоко подавленное властями. С той поры недовольство крестьян перешло от прямых форм выражения к сектантству и массовому пьянству.
Таким образом, Россия разделилась на две все более чужие друг другу части общества, и разрыв между ними становился как никогда ранее резким. Привилегированное дворянство, богатые представители которого к концу XVIII в. усвоили образ мыслей и манеры французских салонов, жили в мире, полностью оторванном от вопиющего невежества и грубости крестьянской жизни. Чем образованнее и цивилизованнее становились русские аристократы, тем тоньше были нити, связывавшие их с собственными крестьянами.
В этом, без сомнения, и заключается главный источник грядущей слабости. Однако в XVIII в. социальные трещины между аристократией и народными массами в Западной Европе были почти такими же, и общественная структура России еще не отставала значительно от западных держав. Да и сами размеры государства играли на пользу России. Екатерина не только аннексировала около половины Польши путем трех последовавших друг за другом разделов этой несчастной страны (1772-1795 гг.), но и отодвинула границы России к Черному морю, и русские корабли получили возможность плавать по ранее считавшемуся турками своим внутренним морю и свободно проходить через проливы (1774 г., 1783 г.). Мечты о полном разрушении Османской империи и о замене ее реставрированной и зависимой греческой империей на Босфоре остались неосуществленными. Тем не менее военная мощь, которой обладало столь обширное государство, как Россия, была недвусмысленно продемонстрирована. При Петре Россия заявила о себе как о великой европейской державе, при Екатерине она стала такой.
3. КОМПРОМИССЫ СТАРОГО РЕЖИМА В ЕВРОПЕ
Главным победителем в Тридцатилетней войне стала Франция, которая быстро превратилась в центр притяжения Европы. Роскошь двора Людовика XIV (1643-1715 гг.) свидетельствовала о силе и богатстве, изысканности и утонченности. Аристократы, укрощенные постоянным присутствием при дворе, утратили старые привычки добиваться всего силой. Французские крестьяне получили, таким образом, возможность узнать, что такое мирная жизнь, а королевские армии совершали марши за пределами страны, давая дипломатам короля аргументы для расширения этих пределов в сторону Рейна. Немецкие князьки, насколько они могли это себе позволить, и Карл II Английский (1660-1685 гг.), насколько он отваживался, стремились повторить успехи французского монарха, и если завести такие же войска было слишком дорого, то завести любовниц не хуже было сравнительно легко. Правды ради, следует отметить, что военное превосходство Франции ослабело после 1715 г., когда Англия, с одной стороны, и Австрия — с другой, нарастили свою мощь. Однако французская философия и литература, достигшие впечатляющего размаха еще в XVII в., приобрели в XVIII в. такой авторитет, который перешагнул через политические и языковые границы и осветил всю Европу, а вместе с ней Америку и Россию.
Со времен упадка латинского христианства в средние века социальное и культурное единство Европы никогда не было таким прочным. Различия европейского наследия, столь сильно вступавшие в противоречие друг с другом в XVI в., удалось примирить в XVII в. с помощью ряда совершенно нелогичных, но от этого не менее действенных компромиссов, охватывавших политику, общество, сферу деятельности мыслителей и менее явно искусство. Возникшее в результате равновесие никогда не было постоянным, меняясь от одной эпохи к другой и от одной территории к другой. Более того, оно изначально содержало в себе семена происшедшего в XIX в. нарушения. Можно все же попытаться охарактеризовать некоторые основные направления и наиболее постоянные черты Старого режима в Европе.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПРОМИССЫ. Старый режим в Европе был основан на множестве территориальных государств, ревниво оберегавших свой суверенитет. Не признавая никакой внешней власти, правители таких государств точно так же не признавали и никаких пределов для собственной власти на своей территории. Хотя на практике даже самые абсолютные монархи были обязаны считаться с интересами городов, провинций, привилегированных компаний, гильдий, церкви и прочего у себя в стране, а баланс сил существенно ограничивал их действия за рубежом.
Суверенитет ограничивался также порядками в области собственности. Отрезвленные яростью религиозных войн, европейские правители отказались от прямого обращения к глубинной сущности дел человеческих и стали смотреть на начетническое исступление, внушенное определенным видением религиозной или другой формы истины, как на нечто смешное, наивное и откровенно опасное. Правители пришли к выводу, что благоразумнее будет расширять рамки профессионализма, на который можно положиться и который будет действовать хоть и не эффектно, но зато эффективно, старыми и хорошо знакомыми способами. Профессиональные юристы, врачи, торговцы, придворные, помещики, чиновники, офицеры, а к XVIII в. и писатели, знающие свое дело и не выходящие за круг его интересов, изменяли жизнь Европы шаг за шагом по мере того, как уходило одно десятилетие за другим, и при этом они лишь изредка обращались к глубинам человеческих страстей или к высотам человеческих устремлений. Даже такой теоретически абсолютный, энергичный и амбициозный правитель, как Людовик XIV, был, таким образом, ограничен в своих возможностях не только союзами иностранных держав, сдерживавшими его агрессивные намерения, но также и менее формальным, но гораздо более прочным союзом самостоятельных или полусамостоятельных профессиональных объединений и корпораций во Франции, каждое из которых упорно держалось за свои права, правила и устоявшиеся обычаи, тем самым выступая стабилизирующей силой в обществе. Устоявшиеся правила и внешние приличия, подкрепленные весом тяжелых установлений, удерживали даже самого абсолютного из королей не просто от крутой ломки в стране, но даже и от самой мысли об этом. Таким образом, теоретически абсолютный суверенитет оставался целиком и полностью теоретическим.
Международные войны и дипломатия хорошо иллюстрируют ограничения суверенитета, присущие Старому режиму. В течение короткого времени в начале царствования Людовика XIV Франция превосходила по силе своих соперников на континенте, однако баланс был восстановлен, когда в 1689 г. к антифранцузскому Великому альянсу присоединилась Англия. После этого даже такие значительные перемены, как распад Испанской империи в Европе (1700-1714 гг.), разгром Шведской империи на Балтике (1700-1721 гг.) и раздел Польши (1772-1795 гг.), происходили при тщательном учете баланса сил между основными европейскими государствами.
На протяжении большей части XVIII в. этот баланс поддерживался идущим параллельно процессом экспансии. На западе Франция и Британия богатели на торговле и заморских авантюрах. В Восточной Европе Австрия, Пруссия и Россия наращивали свою мощь за счет включения в свой состав слабо организованных и частично незаселенных районов на окраине европейского общества. В конечном счете преимущество оказалось на стороне держав, дальше других отстоявших от центра Европы. Так, островная Британия одержала решающую победу в Семилетней войне (1756-1763 гг.) и отобрала у Франции ее владения в Индии и Америке. На востоке Австрия получила такое же преимущество в XVII — начале XVIII вв., когда армии Габсбургов вторглись в Венгрию (1683-1699 гг.) и на Балканы (1714-1718 гг.), открыв самую западную часть евразийских степей для заселения подданными Габсбургской империи. Со второй половины XVIII в., однако, роль Австрии как главного фактора в непрерывном процессе экспансии на границах Европы перешла к России.
При этом у держав на периферии Европы также были свои слабые места. Покорение, заселение и приобщение к цивилизации отдаленных земель ложились бременем на дипломатию и ресурсы центра, и уже само по себе расширение Британской, Австрийской и Российской империй с их пестрым населением и разнообразными обычаями часто ставило перед центром невыполнимые задачи. Восстания в Шотландии (1715 г., 1745 г.), Американская революция (1775-1783 гг.), выступления в Венгрии (1703-1711 гг., 1789 г.), крестьянские войны под руководством Степана Разина (1670-1671 гг.) и Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.) в России указали на трудности и недостатки британского, австрийского и российского правительств на их собственной территории.
В каждом европейском государстве вес различных элементом в системе сдержек и противовесов время от времени менялся. В XVII в. рационалистическое, централизующее давление гражданской и военной бюрократии во Франции имело целью подчинить себе другие элементы французского общества. Так, например, независимость аристократии была подорвана как раздачей королевских пенсий и привилегий, так и прямой узурпацией дворянских прав. Позднее, в XVIII в., аристократия потребовала возвращения определенной части ее самостоятельности, взявшись для этого, однако, не за шпагу, а за перо, с помощью законных аргументов (в парламенте) и теоретических изысканий (Монтескье).
В отличие от галликанской Франции, в Австрии церковь сохранила более значительную независимость и существенную власть. Средние классы здесь были явно слабее, а отдельные земли оставались самостоятельными единицами, слабо связанными воедино лишь подобием вассалитета по отношению к монархии Габсбургов. Административная централизация, с таким успехом проведенная в XVII в. во Франции, стала главной задачей для австрийской бюрократии с середины XVIII в., причем ее выполнение было прервано незадолго до завершения Французской революции. Испания и Португалия в основном двигались вслед за Австрией, пытаясь перенимать опыт Франции в достижении политического и военного величия в середине XVIII в.
Швеция и Польша, игравшие роль великих держав в XVII в., утратили ее в XVIII в. как по причине того, что им не удалось добиться такой централизации в управлении и такого общественного равновесия, каких достигла Франция в XVII в., так и в силу ограниченности людских и природных ресурсов[1032]. Аналогичным образом теряла свое политическое значение в XVIII в. Голландия. Несмотря на территориальную близость к центру европейской цивилизации, ее скудные природные ресурсы и относительно низкая численность населения не позволяли ей сохранять положение великой державы. Позиции, завоеванные в свое время военным и дипломатическим путем Швецией, Польшей и Голландией, перешли в руки Британии и Пруссии, чья политика резко отличалась от норм Старого режима. По удивительному совпадению период 1640-1688 гг., ставший свидетелем революции сверху в Пруссии и снизу в Британии, сыграл решающую роль в установлении специфического для каждой из этих стран государственного и общественного баланса.
В 1640 г., когда к власти в Бранденбурге пришел Великий курфюрст Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн, Пруссия была бедной далекой провинцией, полученной им во владение от польской короны, а другие его земли были широко разбросаны по всей Германии. Ко времени же смерти курфюрста (1688 г.) Бранденбург-Пруссия превратился в государство — военный лагерь, где все имеющиеся ресурсы направляли на содержание многочисленной и боеспособной регулярной армии. Фридрих Вильгельм и его приближенные не допускали ни малейших препятствий на пути к достижению этой цели. Привилегии дворян, иммунитеты провинций и городов, обычаи гильдий и даже сел строго координировались, корректировались, а при необходимости и упразднялись в целях обеспечения максимальной военной мощи. В результате бедные, слабые и разбросанные территории были сплочены в единое административное образование, не только способное защищать себя, но и ставшее прочной базой, с которой власть Гогенцоллернов могла распространяться и на другие земли[1033].
Преемники Великого курфюрста были способными правителями и проявили замечательную целеустремленность в укреплении своей власти и расширении территории государства. Ко времени Фридриха II Великого (1740-1786 гг.) Пруссия сравнялась с Францией на полях сражений, стала соперником Австрии в Германии и союзником России и Австрии при разделе Польши. Одержанные успехи позволили смягчить почти спартанскую жесткость прусского государственного устройства, и скромное благосостояние, заботливо поддерживаемое правительством в его трудах по сборам налогов для усиления войска, стало выливаться в развитие городов и появление привилегированных профессиональных слоев в прусском обществе. Таким образом, к концу правления Фридриха Пруссия уже меньше, чем раньше, отличалась от других государств континентальной Европы.
Развитие Англии шло другим путем. Английская революция (1640-1688 гг.) установила власть парламента даже над королем и ускорила приход олигархической системы управления государством. Последующее развитие, например образование правительства в виде кабинета министров, только увеличило отличия между британскими и континентальными учреждениями. В XVII в. парламент напоминал архаический пережиток средневековья, вызывающий нарушения нормальной жизни в силу отсутствия единства и мешающий современному, действенному правительству своей мелочностью. К середине XVIII в. все же новомодный британский кабинет, подотчетный парламенту, стал производить впечатление даже на континентальных наблюдателей способностью вести успешные войны за границей, поддерживая при этом свободу и порядок у себя дома. Прежде всего британский парламент защищал принцип, согласно которому землевладельцы имеют право активно участвовать в создании законов, в выработке политики правительства и в управлении местными делами. Некоторые французские аристократы, низведенные до декоративной роли при дворе, и ведущие представители французского купечества и профессиональных кругов, время от времени выражавшие недовольство жесткостью королевского контроля, начинали чувствовать, что величие Франции было куплено дорогой ценой лишения их политических свобод. Так, после умелого ведения британским парламентом Семилетней войны (1756-1763 гг.) многие во Франции стали склоняться к тому, что определенная перестройка их собственных установлений в направлении британского парламентаризма была бы полезной.

Система управления Британии, как и во Франции, покоилась на плотном клубке юридических корпораций и временных объединений, чей консервативный вес ограничивал парламент почти с такой же силой, как подобные организации во Франции ограничивали абсолютную власть короля. При этом парламентская система обеспечивала более постоянное и более тонкое согласование интересов таких групп, чем это было бы возможно в более жестких рамках бюрократического королевского правления. С ростом богатства и числа указанных групп новые интересы, например, интересы владельцев плантаций сахарного тростника в Вест-Индии, бристольских работорговцев, ведущих прогрессивное сельское хозяйство помещиков Норфолка и даже выбившихся из простонародья владельцев хлопковых мануфактур Манчестера, могли быть представлены в парламенте. Такие группы могли присматривать за тем, чтобы политика правительства согласовывалась с их потребностями в пределах, устанавливаемых с учетом соперничающих интересов, также представленных в парламенте. С другой стороны, система контроля Франции, Австрии и даже Пруссии, вырабатываемая бюрократией, гораздо слабее реагировала на меняющиеся комплексы экономических интересов и стремилась сохранять свою силу даже после того, как изменялись условия. Результатом становилось отставание и даже блокирование экономических и технических новшеств, которым свободная британская система открывала широкую дорогу.
Очевидно, самым коренным различием между общественными моделями Британии и континента (не считая Голландии и некоторых швейцарских и немецких вольных городов) был более высокий авторитет и самостоятельность купцов и финансистов. Во Франции и на континенте вообще удачливый делец торопился оставить позади свою прошлую жизнь, то ли с помощью прямого приобретения королевского патента на дворянство, то ли отправляя сыновей на государственную службу, где они могли надеяться добиться дворянства или приобрести его благодаря высокому посту. Для этого требовалось выйти из принижающих достоинство объединений на товарном рынке. В Англии, однако, дворяне регулярно выходили на товарный рынок и участвовали в торговых сделках, а богатые купцы, приобретавшие поместья и получавшие дворянство, не обязательно оставляли свою торговую деятельность, хотя они становились скорее уже финансистами, чем практическими дельцами. В таких условиях расточительность праздных дворян во Франции и в других странах способствовала более основательному распылению торгового капитала, чем в Англии. И наоборот, доступность относительно больших масс капитала в результате взаимопроникновения классов аристократов-землевладельцев и купцов существенно способствовала поразительному экономическому росту Великобритании в XVII-XVIII вв.
Экономическому развитию Англии способствовала также терпимость к различиям в вероисповедании. После 1689 г. пуританам и последователям различных более радикальных религиозных сект были предоставлены определенные права, в том числе право на участие в делах, хотя право на участие в выборах в парламент, на поступление в университеты и обучение праву, богословию, медицине за ними не признавали. Не принадлежащая к государственной церкви община, самосознание которой определялось евангелической религией и правовым бессилием, стала колыбелью для многих самых активных английских предпринимателей, а ее представители часто прокладывали путь экономическим новшествам. Во Франции же, наоборот, решительное стремление Людовика XIV искоренить ересь в своем королевстве разрушило сообщество купцов и промышленников гугенотов, игравших в экономике сходную роль. Все это сказалось на французской промышленности и торговле, а бежавшие из страны гугеноты обогащали такие принимавшие их государства, как Англия или Пруссия.
Георг III (1760-1820 гг.) был последним английским королем, бросившим вызов парламенту и пытавшимся править по собственному усмотрению. «Король-патриот» воспользовался своей возможностью официального назначения на должности с тем, чтобы провести своих приверженцев в парламент, надеясь таким образом преодолеть бесконечные ссоры между представителями разных группировок, составлявшие саму суть жизни парламента и его методов согласования интересов всех слоев британского общества. Попытка эта провалилась, поскольку была дискредитирована успехом восстания в Америке (1775-1783 гг.) и наступавшим время от времени умопомешательством короля (после 1788 г.). Итак, накануне Французской революции в Британии твердо укрепились верховенство парламента, ответственное правительство в виде кабинета министров и олигархическое правление страной. Свободы англичан, состоявшие в постоянном кипении дискуссий в стенах парламента и за его пределами и подтверждавшиеся успехами экономики и имперской политики, резко контрастировали с почтительной покорностью, которой требовали монархи континента от своих послушных подданных.
В большинстве крупнейших территориальных государств Европы Старый режим обеспечивал центральную власть, будь то в лице парламента или монарха, гораздо более значительными средствами военной и экономической мощи, чем когда-либо. Общее богатство Европы выросло до такой степени, что поступления от налогов были достаточны для оплаты и оснащения сравнительно больших и сильных регулярных армий и профессионального флота. Такие новые или ставшие использоваться шире финансовые инструменты, как британские государственные долговые облигации и банк Англии (основанный в 1694 г.), позволяли мобилизовать экономические средства в новых масштабах, привлекая частные капиталы для государственных целей. Подобного рода инструменты наряду с созданием акционерных компаний, появившихся в начале XVII в., дали Европе возможности для непрерывной экономической экспансии и увеличили ее военную мощь во всех частях света.
Несмотря на то что бедные и неимущие играли слабую роль в расширении мощи и росте благосостояния Европы, энергичные и способные личности нередко поднимались на одну-две ступеньки выше по общественной лестнице, и даже самые нуждающиеся стали выживать чаще. Профессионализация начала сдерживать опустошительное действие войны. Выращивание новых культур (в частности, картофеля и кукурузы), применение новых способов обработки земли и совершенствование транспорта сгюсобствовали борьбе с голодом. Даже болезни переставали быть всеобщим бичом по мере того, как приобретаемый иммунитет и достижения в области медицинской диагностики и лечения приводили к увеличению числа излечиваемых. В результате население Европы совершило скачок вперед. Несмотря на ужасающие условия жизни в таких городах, как Лондон, где дешевый джин на время заменил собой эпидемии в качества главного фактора, уносящего человеческие жизни, низшие, средние и высшие классы в Европе процветали, как это редко бывало до того, благодаря политическим и социальным компромиссам Старого режима.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПРОМИССЫ. Антагонизм между светским образом мышления и религиозной верой, столь пылко выраженный в столкновении идеалов Возрождения и Реформации, нашел свое практическое, если не теоретическое, разрешение при Старом режиме. Так, были прекращены усилия достичь однородности общества. Все в большей и большей степени европейские государства допускали отход от старых законов, требовавших церковного конформизма, и позволяли гражданам следовать собственным религиозным убеждениям. Требовалось только достойное соблюдение условностей, при этом богохульство и крайние проявления сектантства во всех европейских странах по-прежнему были запрещены. Однако признаки отчаяния, столь сильно поднимавшиеся на поверхность в схватках XVI в. за богословскую и метафизическую истину, наряду с беспощадным требованием ортодоксальности в словах, мыслях и делах после окончания Тридцатилетней войны быстро пошли на убыль. К началу XVIII в. ведущие умы Европы сосредоточивали свое внимание на науках и рационалистической философии, а не на богословии и уже не старались приводить результаты своих поисков в соответствие с христианским учением.
Отчасти такую неоднородную интеллектуальную атмосферу объясняют феноменальные успехи рационализма и естествознания в XVII в. Рене Декарт (ум. 1650) поставил перед собой дерзкую задачу вывести полноценную науку из самоочевидных первых принципов, объяснявших метафизическую, физическую, биологическую и психологическую действительность со всей точностью геометрического доказательства. Его современники Ба-рух Спиноза (ум. 1677) и Томас Гоббс (ум. 1679) были также очарованы видимой прочностью и точностью математического рассуждения и, подобно Декарту, пытались применять методы математики к людским и божественным понятиям. Поколением позже аналогично мыслил Готтфрид Вильгельм Лейбниц (ум. 1716). Несмотря на широкое расхождение выводов, к которым приводили их математические способы рассуждения, эти и другие мыслители XVII в. последовательно распространяли царство закона и закономерности на многочисленные новые явления и сужали, а то и полностью отрицали действие каприза, случая, удачи и чуда. Так, например, и Декарт, и Гоббс утверждали, что животные представляют собой автоматы, управляемые определенными законами, а Декарт сделал набросок принципов мировой машины, чтобы объяснить все явления небесного и земного происхождения. Рассуждения Спинозы и Лейбница были глубже, однако над ними также довлело видение мира, подчиняющегося законам и закономерностям, которые могут быть усвоены и истолкованы человеческим разумом.
У Декарта оказалось больше последователей, чем у других философов, возможно, потому, что его теории были более полными и легкими для понимания. Во второй половине XVII в. картезианская (Декартова) философия стала модной во французских интеллектуальных кругах и завоевала многочисленных сторонников в других странах. Мода эта длилась, однако, не очень долго, поскольку картезианство в целом не могло надолго пережить крах Декартовой физики после ее столкновения с элегантными доказательствами Исаака Ньютона в его «Математических началах натуральной философии» (1687 г.). Главная сила учения Ньютона заключается в его эмпирическом подтверждении и в простоте, с которой он свел движение Луны и планет к математическим формулам, совершенно изумительным образом описывающим также поведение тел, движущихся на поверхности земли. Такое радикальное упрощение видимого разнообразия природных явлений подняло разум на новую высоту. То, что так долго стремились доказать философы, отныне казалось правильным вне всякого сомнения: Вселенной в действительности правит простой, ясный и прекрасный в своей математической точности закон — настолько неизбежный и универсальный, что управляет также будущим движением небесных тел и пушечных ядер. Поначалу некоторые критики пугались оккультного характера силы гравитации, действующей на расстоянии, но сомнения вскоре были развеяны в общем хоре голосов восхищения, по мере того как новые наблюдения подтверждали точность математически выраженных Ньютоном законов движения.
Математика успешно отстояла себя. Можно было легко предположить, что сам Бог как создатель Вселенной, чьи законы отныне открыты, был превосходным математиком, который мог показать свою мудрость и великолепие своего творения, всего лишь отстранившись от активного наблюдения за созданным им мировым механизмом. Считалось, что вмешательство в природный порядок вещей способно нарушить Божественные законы и тем самым показать их недостаточность. Верховное существо, создавшее такую сложную, хотя и чудесным образом простую, машину, не могло допустить, чтобы труды его были испорчены произвольным вторжением простых человеческих существ. Такие представления о природе, Боге и человеке в корне противоречили христианскому учению. Ведь, таким образом, не оставалось места для Божественной благодати, провидения или первородного греха, а во Вселенной Ньютона было также трудно найти подходящее место для небес и ада в их традиционном понимании.
Более того, логично было предположить, что Бог установил также законы поведения людей, которые, если их распознать, должны обеспечить человечеству столь же великолепную гармонию жизни, как и гармония физической природы. Какой-нибудь новый Ньютон, который распутает тугой клубок человеческого феномена и откроет природный закон общества, смог бы тем самым возвысить землю до небес, а небеса спустить на землю, как это практически уже сделала физика Ньютона с миром неодушевленных тел.
Такие ожидания были равнозначны коренной секуляризации христианского эсхатологического учения. Вместо того чтобы ждать второго пришествия Христа, разум бесстрашно брался за задачу спасти человечество ото всех бедствий, преступлений и безумия прошлого. Несмотря на стойкую неопределенность всех деталей высшего земного совершенства человечества, смелые шаги по пути прогресса отныне казались реальными, ведь разве человечество в конце концов не рассталось с детством и не прислушалось к голосу разума?
Несмотря на убедительность таких деистских взглядов, подавляющее большинство европейцев по-прежнему придерживались традиционной христианской веры. Причиной тому была отчасти инерция консерватизма; однако деистское мировоззрение имело и серьезные недостатки, способствовавшие существенному усилению ортодоксальной религии. Бог как великий часовщик или математик мало обращался к сердцу человека и не мог помочь ему в трудную минуту. Люди высокого и тонкого ума содрогались при мысли о смерти, механической вселенной с бесконечными просторами и законами, управляющими природой. Самым знаменитым из таких людей был Блез Паскаль (ум. 1662), подтвердивший со всей силой нового убеждения жизненную важность личного соприкосновения и общения с Богом.
Возможно, именно потому, что безмолвная пустота Ньютонова бесконечного пространства грозила поглощением и полным растворением столь малой планеты, как Земля, в XVII-XVIII вв. возникало особенно много новых религиозных движений и сект, подчеркивавших прямой, эмоционально наполненный опыт общения с Богом. В протестантской традиции большой притягательностью обладали квакеры и методисты (Англия) и пиетисты (Германия), а в католических странах янсенизм и квиетизм также могли бы достичь широкого размаха, если бы осуждение со стороны папы не привело к насильственному упразднению обоих течений.


Портрет достопочтенной Фрэнс Данкомб на фоне сельского пейзажа кисти Томаса Гейнсборо с его классическим стилем резко контрастирует с жанровой уличной сценкой в Лондоне, изображенной Уильямом Хогартом. До промышленной революции вся цивилизация строилась на похожем культурном контрасте между богатыми и бедными, образованными и необразованными, хозяевами и слугами. При этом признание такого разрыва и понимание его несправедливости, выраженное в картине Хогарта, редко встречалось когда-либо ранее. Возможно, неустойчивость Старого режима, рост некоторых по-настоящему крупных городов и соответствующий переход от сословных к рыночным отношениям подорвали привычные модели почтения и привели к тому, что на каждой ступени общественной лестницы люди стали активнее задумываться о ненадежности их общества по сравнению с более чистым аграрным строем.
Характерная особенность европейского общества XVIII в. заключалась в том, что таким широко расходящимся взглядам позволялось существовать бок о бок более или менее мирно, а люди делили свои симпатии между ними и часто дремлющим официальным религиозным истеблишментом. Борцы за религиозную ортодоксальность, например французский епископ Боссюэ (ум. 1704), публично высказывали свое глубокое неверие в новую науку. Другие же, подобно английскому епископу Спрату (ум. 1713), восторженно поддерживали дух науки. Как правило, теологи и ученые шли каждый своим путем, оставаясь верными стандартам и условностям их все больше расходящихся интеллектуальных традиций. Многие, включая и самого Ньютона, сочетали новую науку со старой верой, то устанавливая отдельные критерии истины для религии и науки, то пользуясь всяческими хитроумными схемами, предназначенными для того, чтобы выделить место библейской космологии в новом мире науки или новому миру науки в старой христианской космологии.
Не только естествоиспытатели, но и юристы, врачи, писатели, философы, музыканты, художники и другие ученые теперь свободно могли разрабатывать методику и традиции избранной ими профессии без оглядки на соответствие религиозной ортодоксальности. Это стало началом современной плюралистической эпохи интеллекта. Такие новые институты, как Французская академия (основана в 1635 г.) или Английское королевское общество (основано в 1660 г.), поощряли литературную и интеллектуальную деятельность и покровительствовали ей, а профессиональные научные журналы наряду с книгами и брошюрами популяризировали научные результаты, передавали новые идеи и данные всем, кого они интересовали. Менее формальные объединения, например завсегдатаи любимой лондонской кофейни доктора Джонсона или интеллектуальных салонов Парижа, также играли немалую роль в стимулировании и поддержке разнообразия и активности интеллектуальной и художественной жизни в Европе.
Никогда больше западный мир как единое целое не пытался всерьез выработать единую, всеобъемлющую истину и доктрину, хотя отдельные части этого мира — коммунистический Советский Союз, нацистская Германия и фашистская Италия — такие попытки совершали. Память о кровавой и тщетной борьбе прежних поколений в стремлении открыть, а затем навязать всеохватывающую истину помогла людям примириться с «нелогичностью многообразия». Более проникающей и постоянной оказалась самостоятельность различных профессий и объединений, поддерживавших широкое расхождение между мыслью и верой. В итоге — и возможно, именно это важнее всего — общее процветание и успехи европейского общества при политических и социальных компромиссах Старого режима позволили сравнительно легко прийти к терпимости при разногласиях даже по важным вопросам.
В таких условиях мысль в Европе достигла необычайной плодотворности и многообразия. Используя неисчерпаемый запас новых данных, получаемых от более точных наблюдений, с помощью более совершенных инструментов, более тщательного анализа или в результате проникновения в новые районы земли, ведущим представителям интеллектуальной Европы предстояло решать гигантскую задачу уже просто в силу необходимости подтвердить, упорядочить и систематизировать их расширяющийся объем знания. В этом, собственно, и заключались крупнейшие задачи естествознания в XVIII в. В физике астроном Пьер Симон Лаплас (ум. 1827) и французские артиллеристы продолжили дело Ньютона, применив его механику небесных и земных тел к новым явлениям. В ботанике и зоологии швед Карл Линней (ум. 1778) и француз Жорж Луи Леклер де Бюффон (ум. 1788) приступили к классификации и систематизации форм растительной и животной жизни всего мира. Крупнейший теоретический прорыв был совершен в XVIII в. в химии благодаря разработанной Джозефом Пристли (ум. 1804) и Антуаном Лавуазье (ум. 1794) новой теории горения и сформулированным Лавуазье принципам сохранения материи в химических реакциях.
Излишне говорить, что применение разума в гуманитарной сфере шло с меньшим успехом, хотя и тут делались смелые усилия, приносившие свои плоды. Так, например, в изучении истории блестяще сочетались эмпиризм и рационализм. В течение XVII в. ученые с немалым трудом восстановили точные хронологические рамки классического и средневекового прошлого Европы из путаницы старых хроник и календарных систем. В довершение всего монах-бенедиктинец Жан Мабильон (ум. 1681) разработал сложную методику проверки подлинности старых рукописей и их приблизительной датировки. В результате этих и подобных трудов XVIII в. стало возможным создание таких монументальных исторических сочинений, как «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона (ум. 1794), основанная на детальной исследовательской работе сотен ученых.
В то время как историческая наука поднималась на новый уровень точности и отваживалась на смелые обобщения в истолковании событий, существенно снижалось значение метафизики. Джон Локк в своем «Опыте человеческого разума» (1690 г.) выразил сомнение в возможности достижения универсально верного знания; епископ Джордж Беркли (ум. 1753) и Дэвид Юм (ум. 1776) исследовали вопросы, поднятые Локком, и указали на новые препятствия к достижению достоверного знания. Иммануил Кант (ум. 1804) все же вывел философию из тупика, в который ее завел критицизм Юма, согласившись с невозможностью познания вещей в себе, но утверждая при этом, что внимательное изучение структуры самого человеческого интеллекта ведет к универсально верной истине в отношении всех возможных объектов человеческого опыта. Кант, в свою очередь, открыл возможности для возрождения в Германии XIX в. грандиозных систематических философских школ, основанных на уверенности в необходимости анализа духа, активную роль которого в постижении реальности он столь активно подчеркивал.
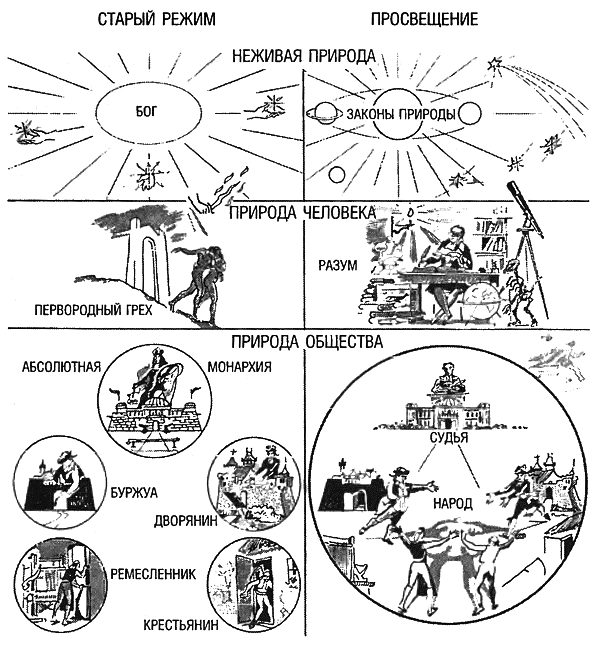
Трудности эпистемологического и метафизического характера, разумеется, не удерживали публицистов и самозванных философов XVIII в. от критики существующего общества во имя разума. Под их придирчивым взглядом совершенно иными представали многие установившиеся обычаи и устоявшиеся институты. Вольтер (ум. 1778) во Франции взялся высмеивать суеверия и фанатизм официальной религии, а в Шотландии Адам Смит утверждал в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776 г.), что экономическое производство и торговля автоматически придут к своим наиболее эффективным формам, если дать полную свободу человеческой природе, движимой разумным своекорыстием. С этой точки зрения, вмешательство государства в хозяйственный процесс, повсеместно практиковавшееся при Старом режиме, было просто помехой всеобщему благоденствию.
Основы любой политической власти явно требовали переосмысления, поскольку люди больше не верили, что Бог лично вмешивается в дела человеческие. В отсутствие же Божественного провидения ссылающаяся на Божественное право монархия становилась просто узурпацией. Альтернативная основа для легитимизации правления была найдена в понятии общественного договора, однако условия такого договора формулировались с огромными расхождениями. Томас Гоббс (ум. 1679) использовал понятие общественного договора для утверждения необходимости абсолютной монархии, в то время как Джон Локк (ум. 1704) и Жан-Жак Руссо (ум. 1778) оправдывали революцию, прибегая к соответствующему переопределению условий договора. «Общественный договор» Руссо был, несомненно, вполне революционной книгой, так как в ней выдвигалась демократическая теория суверенитета и утверждалось, что восстание является оправданным, если правительство не в состоянии удовлетворить народ, которым оно правит. Такие теории, требовавшие фактически упразднения устоявшихся институтов и их замены рациональным порядком человеческого общества, серьезно подрывали Старый режим и все его устаревшие компромиссы.
И все же критики, высказывавшие свои обоснованные принципы для отрицания существующих моделей жизни, были пока еще в меньшинстве. Несмотря на то что доверие разуму и прогрессу, вера в изначальные добродетели природы человека и более светское мировоззрение в XVIII в. проникали в сравнительно широкие слои населения Европы, основная его часть тем не менее оставалась верна прежним шаблонам веры и поведения. Сколь бы велико ни было несоответствие, которое они могли видеть между христианством и новыми понятиями, большинство людей воздерживалось от того, чтобы делать из этих несоответствий какие-либо логические выводы как на словах, так и на деле. Таким образом, иррациональность институтов, столь сильно возмущавшая просвещенных критиков, находила свой интеллектуальный аналог среди большинства самих критиков.
КОМПРОМИССЫ В ИСКУССТВЕ. Плюрализм европейского общества и мысли при Старом режиме проявлялся и в искусстве. К концу XVII в. в Англии сосуществовали высокий стиль эпической поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667 г.) и развязность комедии эпохи Реставрации, а столетием позже утонченный городской стиль прозы Сэмюэля Джонсона (ум. 1784) соперничал с мастерской безыскусностью Роберта Бернса (ум. 1796). Традиционно в европейской литературе различают классический период, за которым последовал период романтический. Искусствоведы же выделяют три стиля в архитектуре и живописи: барокко, рококо и классицизм. Такая классификация приемлема, если не слишком дотошно анализировать ее, но она едва ли подходит к таким писателям, как Даниель Дефо (ум. 1731), или к голландской живописной школе, и нам следует всегда помнить, что меняющиеся стандарты моды и вкуса никогда не могли вытеснить Шекспира с английской сцены или Библию Лютера из немецких домов.
Внешне в конце XVII — начале XVIII вв. искусство и литература отличались поразительным согласием, учитывая, что благодаря авторитету французской культуры классицизм распространялся по всей Европе. Великие драматурги Франции Пьер Корнель (ум. 1684), Мольер (ум. 1673) и Жан Расин (ум. 1699) всерьез воспринимали правила — как в произношении (в соответствии со «Словарем» Французской академии), так и в композиции (триединство). В последующие годы им старательно подражали и во Франции, и за ее рубежами, так что французский язык стал языком литературы чуть ли не по всей Европе. Лишь английская литература оставалась полностью независимой, придерживаясь при этом классических норм сдержанности, элегантности, точности, благодаря таким писателям, как Джозеф Аддисон (ум. 1719) и Александр Поп (ум. 1744). Наряду с этой высокой, космополитичной, деликатной литературной культурой существовало огромное разнообразие других ее проявлений: от лихорадочных видений основателя квакерства Джорджа Фокса (ум. 1691) до степенных трудов немецкого юриста Самуэля Пуфендорфа (ум. 1694).
Французский идеал классицизма стал отчетливо ослабевать во второй половине XVIII в. В частности, в Англии и в Германии писатели отошли от французских образцов и черпали вдохновение больше в античном наследии Греции или в собственной национальной и средневековой эпохе. Крупными вехами движения в этом направлении стали сборник народных баллад «Реликвии древней английской поэзии», выпущенный в 1765 г. епископом Перси (ум. 1811), и страстные выступления Иоганна Готтфрида Гердера (ум. 1803) за самобытную немецкую литературу, уходящие корнями в язык и мышление простого народа. Романтизм провозглашал спонтанное выражение чувств единственным источником большой литературы и подчеркивал значение национального, местного и личного духа. Такие взгляды подтолкнули (а может быть, это просто совпадение?) внезапный расцвет немецкой литературы. Фридрих фон Шиллер (ум. 1804) и Иоганн Вольфганг фон Гете (ум. 1832) стали центральными фигурами возрождения немецкой литературы, хотя применительно, например, к Гете, термин «романтизм» не может охватить все разнообразие его творчества.
Подобным образом и в архитектуре последовательно воцарявшаяся мода то на барокко, то на рококо, то на классицизм не смогла помешать проявлению широкого разнообразия в практических творениях. Ведь барокко и рококо тяготели к новым и неожиданным эффектам, так что каждый из этих стилей включает огромное разнообразие элементов. В XVIII в. часто намеренно одновременно применялись экзотические архитектурные стили. Так, например, обычный английский полубрусовый дом мог находиться в окружении «готических» руин (построенных по заказу владельца за неимением настоящего замка) и через зеленую лужайку от мрачного грота, скрывающего внутри изысканный интерьер-рококо. Подобный колорит могли дополнять китайский чайный домик или индийские пагоды, тогда как в соседней деревне крытые соломой или черным шифером дома свидетельствовали о неискоренимой верности древнейшим исключительно местным традициям строительства.
Живопись в меньшей степени отражала разнообразный и беспокойный характер европейской культуры. Сохранялась в основном техника эпохи позднего итальянского Возрождения, а привычные сюжеты — портреты аристократов, классические аллегории и религиозные темы — также не выходили за рамки старых традиций. И все же существенным дополнением к жанрам европейской живописи стали пейзажи, на которых люди были изображены очень мелко, а то и вовсе отсутствовали.
В области музыки в начале XVIII в. европейцы уже располагали широким спектром новых или усовершенствованных инструментов благодаря тому, что удалось лучше понять связь между звуковыми волнами и музыкальными тонами. Равномерно темперированный клавикорд Иоганна Себастьяна Баха (ум. 1750), позволивший композиторам использовать все тональности и обозначивший переход от клавесина к фортепиано, а также современная скрипка, усовершенствованная такими мастерами, как, например, Антонио Страдивари (ум. 1737), стали самым заметным из других многочисленных вкладов в музыкальные ресурсы Европы. В результате был открыт новый мир инструментальной музыки, в котором старые принципы гармонии действовали и расширялись с учетом различий в тоне и тембре между инструментами. Весь XVIII в. европейские музыканты занимались раскрытием возможностей, возросших с появлением новых инструментов, и соединением инструментальной музыки с вокалом. Бах, Кристоф Вилли-бальд Глюк (ум. 1787), Вольфганг Амадей Моцарт (ум. 1791) и Франц Иосиф Гайдн (ум. 1809) работали по твердо установленным правилам, как и современные им классические писатели. Однако правила гармонии при этом не были ограничены искусственно подобно тому, как это иногда случалось в литературе. Они скорее направляли композиторов и публику в энергичном исследовании возможностей, обеспечиваемых новыми инструментами и их разнообразными сочетаниями. Так сложился один из величайших периодов европейской музыки.
ЭЛЕМЕНТЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СТАРОГО РЕЖИМА. По мере того как ослабевала память о религиозных войнах и росло доверие к разуму и вера в прогресс, увеличивалась и нетерпимость к многочисленным проявлениям несправедливости в европейском обществе. Французские дворяне были настолько недовольны своей политической малозначимостью, что в годы, непосредственно предшествовавшие Французской революции, они возглавили выступления против абсолютной монархии. Их недовольство сразу нашло отклик среди представителей свободных профессий и деловых кругов, которым легко было убедить себя, что они заслуживают более значительной политической роли и большего веса в обществе. Идеи свободы, прав человека, достоинства личности и даже суверенитета народа вызывали несогласие с существующим порядком вещей. Однако взаимосвязь закрепленных законом интересов затрудняла и даже делала опасными перемены, и в этом смогли убедиться столь разные личности, как, например, деятельный сторонник реформ австрийский император Иосиф II (1780-1790 гг.) или гроза юристов в Англии Иеремия Бентам (ум. 1833).
И все же не только и, может быть, не столько идеи размывали Старый режим. Технический прогресс, набравший скорость в XVII-XVIII вв., сыграл более непосредственную и более существенную роль в переделке общества. Техника входила в жизнь людей постепенно, без всеохватывающих планов или сверхзадач по изменению порядков в обществе. Следует отметить, что некоторые мыслители заявляли о твердой вере в благотворное влияние именно постепенных изменений в технике. Особенно благоприятной для подобных взглядов оказалась английская эмпирическая традиция, поскольку такие личности, как Фрэнсис Бэкон (ум. 1626) и основатели Королевского общества (1660 г.), смотрели вперед с полным доверием к пользе, ожидаемой ими от технических достижений в результате тщательных наблюдений и опытов. На самом же деле научная теория очень медленно приближалась к той точке, когда она могла оказывать серьезное влияние на процессы экономического производства. Пока химия не достигла той точности, которую она смогла продемонстрировать в XVIII в., абстрактная наука мало влияла на промышленное производство. Потребность в теории по-настоящему не ощущалась. Грубый, но эффективный эмпиризм, выражавшийся во всеобщей готовности к пересмотру традиционных приемов, к ремесленничеству с помощью новых устройств, к опробованию новых операций, материалов и инструментов, был вполне достаточен для того, чтобы в европейской технике произошли огромные перемены, а темпы этого движения вперед значительно ускорялись новой культурой фиксирования, измерения, сравнения и публикации результатов в специальных изданиях.
Основным видом экономической деятельности было сельское хозяйство, и такие сравнительно простые направления, как систематическая селекция семян, старательное выведение специализированных пород животных и внедрение или распространение таких новых культур, как клевер, турнепс, картофель, кукуруза, хлопок и табак, способствовали громадному росту производительности фермерских хозяйств. Специальные испытания, проводившиеся с целью определить наилучшую форму плуга, и другие усовершенствования повышали эффективность земледелия. Фермеры регулярно и с энтузиазмом использовали преимущества повторной пахоты, прополки, дренажных устройств, "внесения в почву навоза и других удобрений. Ведущую роль в этих процессах захватила Англия, так как английские землевладельцы могли заставить своих работников применять новые методы ведения хозяйства, тогда как в других частях Европы ограниченное привычным порядком крестьянство продолжало работать по старинке и очень медленно перенимало усовершенствованные сельскохозяйственные приемы.
Строительство дорог и каналов налаживали зачастую таким же методом проб и ошибок, хотя в данном случае правительственная инициатива проявлялась гораздо сильнее, чем в развитии сельского хозяйства. Ведущее положение заняла Франция благодаря строительству пригодных для использования в любую погоду дорог и систем каналов, связавших главные реки страны в единую систему судоходных путей. Англия последовала этому примеру только к концу XVIII в., а остальная Европа (за исключением Голландии) оставалась далеко позади. Неуклонно совершенствовались судо-, вагоно- и пассажирское вагоностроение. Для перевозки громоздких и объемных грузов стали повсеместно использовать рельсовые вагонетки на людской или конской тяге.
В прежние времена основным фактором развития техники служила горнодобывающая промышленность. К началу XVIII в. техническое лидерство у Германии перехватили английские угольные шахты. По мере того как шахты становились глубже и увеличивалась добыча угля, потребность в тяжелом подъемном оборудовании и в насосах для предотвращения затопления шахт стимулировала инженерную мысль. Необходимость в мощных источниках энергии подстегнула опыты с паровыми машинами. Сконструированная Томасом Ньюкоменом машина (1712 г.) впервые позволила использовать уголь для приведения в действие шахтных насосных систем. В последующие десятилетия эффективность таких машин возросла благодаря усовершенствованиям их конструкции и быстрому росту их размеров и мощности. В 1760 г. Джеймс Уатт совершил революционный прорыв в конструкции паровых машин, применив «острый» пар для перемещения поршня[1034]. Он запатентовал свое изобретение в 1769 г., а в последующие годы модификация конструкции машины и ее применение для широкого круга задач, помимо откачки воды, намного увеличили ее ценность.
Практические успехи паровых машин определялись техникой точного формования металла, так, чтобы поршень и цилиндр могли достаточно плотно прилегать друг к другу для предотвращения серьезных потерь пара. Эта и другие технические задачи были решены скорее на практике, чем в теории, небольшой группой изобретательных мастеров и механиков с незначительной — а то и вовсе никакой — научной подготовкой. Постоянная работа в мастерских сама по себе была школой, а реальная координация работ, необходимых для широкомасштабного производства такой сложной механической системы, как паровая машина, была не менее важна, чем технологические детали. Сотням работников пришлось вскоре привыкать к технологической дисциплине при изготовлении массы разнообразных металлических деталей, которые, собранные в машину, должны безупречно одна к другой подойти. Это требовало точных измерений на каждом этапе изготовления и искусного владения напильником и кронциркулем для получения нужных размеров. Прежнее мастерство рук и глазомер ремесленника оказались фактически объединены для получения результата, которого невозможно достичь в одиночку без колоссальных затрат времени. Сама эта взаимосвязь была создана невиданно абстрактной и точной сетью типоразмеров отдельных частей — клапанов и их седел, поршней и цилиндров, колес и подшипников, которые после сборки превращались в работающую паровую машину.
Значительного развития достигла также металлургия, прежде всего опять-таки в Англии, где нехватка леса для получения древесного угля долго сдерживала производство стали. Во второй половине XVIII в. применение кокса в качестве нового топлива позволило разрешить эту проблему. Другие технические достижения обеспечили более однородное качество и увеличение масштабов производства, и по мере удешевления стали она находила новые виды применения в возведении мостов, в производстве строительных конструкций и в машиностроении. Таким образом, Англия и Шотландия уже устремились в век угля и стали, когда разразилась Французская революция.
Самые замечательные технические достижения принадлежали, однако, к текстильной промышленности, где ряд изобретений — от челнока Джона Кея (1733 г.) до прядильной машины Самуэла Кромптона (1774 г.) — позволили механизировать прядение и ткачество, тем самым невероятно увеличив производительность труда и удешевив готовое платье. Хлопковая промышленность, бывшая для Англии новой и не обремененной ремесленными традициями, быстрее других перенимала новые методы работы. В результате в последние десятилетия XVIII в. английскую одежду из хлопка стала продавать дешевле изделий индийских ткачей даже в самой Индии.
Таким образом, Англия и Шотландия стали опережать остальную Европу в важных областях техники. Началась промышленная революция, которой было суждено преобразить облик Европы и мира. И все же до 1789 г. фабрики с происходящими на них переменами и активно работающие угольные шахты только начинали показывать свою силу в преобразовании человеческого общества. Европа в целом оставалась аграрной, и даже в Великобритании превосходство сельского хозяйства еще не ставилось под вопрос.
Старый режим в Европе был низвергнут не промышленной революцией, не распространившимися радикальными политическими идеями, а Французской революцией, причины которой были столь же многогранны, сколь и сотрясенное ею общество. При этом революция и последовавшие за ней войны могли бы не принять такие жесткие формы без влияния радикальных идей, ставших популярными в последние десятилетия Старого режима. В свою очередь, воздействие революции не оказалось бы столь долговременным, если бы принесенные ею законы, войны и смена собственности не способствовали высвобождению силы машин. Политические события революции (включая предшествовавшие им события в Америке) послужили катализатором, активизировавшим элементы нестабильности Старого режима и умножившим их действие до такой степени, при которой начались процессы преобразования европейского общества. Не будь всех тех деталей меняющегося политического калейдоскопа во Франции — нерешительности Людовика XVI, негибкости французской налоговой системы, неповиновения аристократов, народного недовольства, ни радикальные идеи, ни новые способы производства не смогли бы преобразовать европейское общество столь быстро и столь основательно. Таким образом, даже в предсмертной агонии Старый режим демонстрировал свое сложное и тонкое многообразие.
В. СПЯЧКА МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА В 1700-1850-Х ГГ.
Карловицкий договор 1699 г., по которому Османская империя уступала большую часть Венгрии Австрии, знаменовал собой окончательный поворот в балансе сил между исламским миром и Европой. Всего шестнадцатью годами раньше, в 1683 г., турки поразили и напугали Запад осадой Вены, однако после Карловиц Османское государство было вынуждено постоянно защищаться и оказывалось хронически неспособным противостоять армиям соседних европейских империй. Военная слабость усугублялась нарастанием серьезного расстройства внутри страны, где местные правители игнорировали власть султана, а шайки бандитов грабили население. В этот же период две другие великие мусульманские империи также пережили полный драматизма упадок. Со смертью Аурангзеба в 1707 г. Индия осталась в состоянии хаоса, в котором индуисты, сикхи, мусульмане и британские силы дрались между собой у распростертого тела некогда гордого и могущественного государства Моголов. Двумя годами позже, в 1709 г., империи Сефевидов был нанесен удар восстанием в Афганистане, а следующие два десятилетия ее существования были отмечены полным замешательством по мере того, как турки, русские, афганцы и узбеки отхватывали себе куски территории бывшей империи Сефевидов.
Политический разлад в важнейших частях мусульманского мира, очевидно, сказался и на экономическом благосостоянии. К тому же изменение структуры международной торговли, в частности рост импорта европейского текстиля и других фабричных товаров, ослабляло традиционное ремесленное производство в мусульманских городах. Сокрушительное экономическое превосходство Европы, достигнутое благодаря более дешевым товарам машинного производства, наступило позже, окончательно установившись к 1830 г., и лишь после этого начал рушиться традиционный уклад мусульманских городов. Однако в течение XVIII в. экономика мусульманских стран (сохранившаяся в окраинных зонах Африки и на далеких островах Юго-Восточной Азии), как и мусульманские государственные структуры, повсюду слабели и уступали натиску европейцев.
Опыт прошлых веков не мог подготовить мусульманский мир к такому бедствию. До конца XVII в. извечное противостояние между исламом и христианством, как правило, оборачивалось в пользу мусульман. Иначе и быть не могло, по мнению последователей Аллаха, чей пророк объявил, что ясным проявлением божественной милости служит победа над неверными. Поэтому резкий поворот хода истории, столь очевидно и масштабно совершившийся с началом XVIII в., поставил мусульман перед безнадежной и неразрешимой головоломкой. Неужели Аллах оставил их? И если да, то почему? И даже вопреки всем возможным изъянам общности веры мыслимо ли, чтобы бог благоволил к христианским псам и неверным?
Политические катастрофы случались в истории мусульманского мира и до 1699 г., но они всегда оказывались временными. Даже нашествие монголов на Ирак и уничтожение халифата Аббасидов вскоре закончилось обращением ханов в истинную веру и возобновлением экспансии мусульман на всех фронтах. Таким образом, на несчастья XVIII в. мусульмане реагировали главным образом терпеливым ожиданием конца бури, оставаясь верными своему прошлому, насколько это позволяли обстоятельства.
Когда же стало ясно, что конец бури никак не наступает, в мусульманских обществах начали набирать силу два противоположных подхода. С одной стороны, реформаторы заявляли, что ислам претерпел серьезные искажения за прошедшие столетия. Так, например, чистый монотеизм был затемнен поклонением и почитанием праведников, привнесенных в веру суфизмом. Из этого следовало, что только энергичное и жесткое утверждение изначальных истин религии в том виде, в котором их проповедовал сам Мухаммед, могут вернуть благоволение Аллаха и тем самым вновь поставить мир на правильный путь. Самое крупное движение такого толка возникло в центральной части Аравии в результате проповедей Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703-1792). Влияние ваххабизма весьма медленно распространялось по Аравийской пустыне, но движение это и по сей день остается важной частью реакции мусульман на дилемму, поставленную перед правоверными историей двух последних столетий.
С другой стороны, предпринимались попытки заимствовать те аспекты европейской цивилизации, которые обеспечили успех европейцев. Наиболее очевидным из таких факторов было военное искусство, и начиная с 1716 г. османские правители спорадически пытались перестраивать турецкие вооруженные силы на европейский манер. Однако в течение более чем ста лет непоколебимый консерватизм янычар и улемов сводил на нет все подобные попытки в империи. Перемены, вводившиеся султаном или министром-реформатором, постоянно разбивались о народные бунты в столице, поддерживаемые мятежниками из числа янычар. Даже после 1826 г., когда султан применил обученную воевать поевропейски артиллерию для разгрома в Константинополе восставших янычар, сопротивление реформам оставалось всеобщим и опиралось на глубокие корни в Османской империи. Непрекращающиеся сложности во внешней политике в сочетании с бунтами внутри империи и постоянными неудачами в войнах с европейскими державами отвлекали султанов от задач, требовавших решения для укрепления военной силы. На троне империи не было сильной, подавляющей личности, способной провести революцию сверху, и потому реформы оставались мертворожденными. Как и в империи Моголов в Индии, турецкие правители пытались спастись, копируя европейские военные приемы, в то время как всевозможные узурпаторы, вытеснившие Сефевидов в Персии, использовали свое шаткое положение у власти для сохранения старой общественной и политической системы. Даже в Османской империи реформы нравились очень немногим. Большинство мусульман пребывали в каталепсии и не могли ни интеллектуально, ни практически приспосабливаться к новым условиям, возникшим в связи с военным и культурным превосходством Европы. Слепой консерватизм, цепляющийся за крошащиеся принципы разрушающегося общественного порядка, господствовал в мусульманском мире вплоть до второй половины XIX в.
1. РЕФОРМЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И ВОССТАНИЕ ХРИСТИАН
Многочисленные трещины в обществе Османской империи серьезно осложняли попытки реформ. В европейских провинциях империи большинство населения было христианским, и оно более или менее сознательно сопротивлялось турецким правителям. Арабы, составлявшие большинство населения азиатской части империи, были отделены от турок языком и в такой же степени своей культурой. Аналогично глубокая пропасть разделяла город и деревню, а кроме того, лежала между селами, принадлежавшими феодалам, и свободными селами в горах и других отдаленных районах. Наконец, скотоводы составляли значительную часть населения как в европейских, так и в азиатских провинциях империи. Они, отчасти ведшие племенной образ жизни, а отчасти жившие в более или менее устоявшихся поселениях, всегда вели себя вольнее по отношению к государственным органам правления, чем это могли себе позволить земледельцы с равнин.
Скотоводческие и полускотоводческие группы населения представляли собой источник людей, всегда готовых и желающих заняться разбоем. При наличии цели, оправдывающей грабежи, и руководителей, знающих, как совместить проповеди с разбоем, вольница могла быстро разрастаться в крупный вооруженный мятеж. Так в середине XVIII в. возникла первая «империя» аравийских ваххабитов, которая стала быстро расширяться, пока хорошо оснащенные экспедиционные силы из Египта не подавили ее в 1818 г.[1035] Подобные группы населения на Балканах — пастухи, погонщики мулов, горцы — также сыграли значительную роль в истории сербского (1803-1813 гг.) и греческого (1821-1830 гг.) восстаний, так как военачальники и лучшие бойцы в том и другом случае вышли из разбойничьих банд, поставленных на службу новой идее национализма. Проповедники и наставники этой идеи не были, подобно ваххабитам, реакционными радикалами, а выступали как революционеры, в той или иной степени зараженные знанием и восхищением перед Западом. В ближайшей перспективе эта иностранная «зараза» стала препятствием для сербов и греков, разделившим руководителей и их последователей. Однако, если рассматривать это обстоятельство под углом длительной перспективы, то прививка западных идеалов обеспечила более долгую политическую жизнеспособность национальному движению балканских христиан, чем любые реакционные призывы о возврате к православному наследию, сходные с теми, которыми пользовался ваххабизм в исламском мире.
Совершенно очевидно, что призыв к освященному разбою никоим образом не был единственной причиной выступлений христиан и арабов против своих османских господ. Ваххабизм начал завоевывать популярность среди интеллигенции и горожан именно после того, как распрощался с разбоем, и движение это стало мощной силой за пределами Аравийского полуострова только после своего военного поражения[1036]. Волнения христиан Османской империи имели более сложные причины. Уже в силу самой своей религии они были гораздо более восприимчивы к европейским идеям, чем арабы или турки, особенно после того, как православная Россия стала соперничать с Османами на Черном море. Успешное проведение реформ в самой России породило надежду на подобное возрождение в православных общинах на Балканах, и уже с начала XVIII в. российские агенты спорадически, но вполне успешно внушали мысли о восстановлении христианской империи на Балканах под эгидой России. Когда в 1770 г. в Средиземном море появился российский флот и день окончательной расплаты с турками казался столь близким, на Пелопоннесе вспыхнуло восстание, которое, впрочем, было вскоре подавлено.
Внутренние перемены в балканском христианском сообществе дополнялись действиями извне. В XVIII в. стали процветать купеческие общины в Греции и Сербии. Сначала погонщики мулов с балканских гор обогащались, доставляя мелкие товары в новые поселения на венгерских, румынских и украинских равнинах. Эта своеобразная караванная торговля расширялась по мере того, как более организованным становился вывоз зерна из этих потенциально очень плодородных районов. К концу XVIII в., однако, сухопутную торговлю намного обошла морская. По Кючук-Кайнарджийскому договору (1774 г.) Турция впервые разрешала российским торговым судам плавать по Черному морю и проходить через проливы. Полнейшее начальное отсутствие российских судов и моряков в этих водах было восполнено действиями российских консулов на Балканах, щедро предоставлявших грекам и другим христианам право ходить под российским флагом. В итоге перевозка товаров в восточной части Средиземного моря, в Эгейском и Черном морях быстро оказалась в руках греков[1037]. Эти купцы и связанные с ними ремесленники неизбежно сталкивались с западными идеями и становились тонким, но эффективным «приводным ремнем» между православными Балканами и Западной Европой. Они больше, чем кто-либо другой, приносили идеи и выражали лозунги сербского и греческого восстаний[1038].
Следует заметить, что христиане не выступали единым фронтом против мусульманского господства. Так, с конца XVII в. греки-фанариоты[1039] занимали важное место в османской администрации, работая переводчиками и посредниками турок в их отношениях с европейскими державами и с христианскими подданными империи. Власть фанариотов носила отчасти и финансовый характер, учитывая, что банкиры из их среды регулярно платили турецким пашам за должности и надежные значительные привилегии, например доходные места откупщиков. К тому же семейства фанариотов держали под своим контролем православный патриархат Константинополя и в середине XVIII в. стремились распространить сферу его влияния на прежде самостоятельные церкви Сербии и Болгарии[1040]. В итоге с 1711 г. турки поручили управлять румынскими провинциями фанариотам, а те устраивали свое правление в Бухаресте и Яссах по образцу полузабытого византийского порядка и втайне мечтали о восстановлении владычества Греции на Босфоре[1041]. Занимая столь значительное место в режиме Порты, фанариоты придерживались двух разных точек зрения на попытки его свержения. Некоторые из них поддерживали группы купцов в осторожных переговорах с Россией, лелеяли идеи французского Просвещения[1042] и помышляли о возрождении былой славы Византии. Большинство же вело себя сдержанно, но все равно после 1821 г. лишилось всей своей власти, когда в результате восстания в Греции турки усомнились в лояльности всех греков вообще[1043].
Низвержение фанариотов (1821-1830 гг.) открыло дорогу небольшой группе европейски настроенных турок к государственным постам, занятым ранее греками[1044]. Мусульманские реформаторы рассчитывали, что смогут проникнуть в самые отдаленные уголки Османского государства, чего никогда не смогли бы сделать неверные, и когда в 1839 г. Решид-паша провозгласил широкомасштабные политические и социальные реформы по европейскому образцу, «западники» уже фактически захватили бразды правления. Однако обещания Решида остались невыполненными, так как очень мало османских чиновников были готовы поверить в здравый смысл или необходимость столь решительных отступлений от османских и мусульманских традиций. До окончания Крымской войны (1853-1856 гг.) откровенная враждебность, с которой турки относились к любым переменам, практически сводила на нет любые реформы, которые начинал султан.
Непокорные местные властители иногда намного успешнее ломали закостеневшие традиции, столь жестко ограничивавшие османское общество. Они, прибегая к очень жестоким методам, направленным главным образом на максимизацию своей военной мощи, часто становились гораздо более эффективными агентами европеизации, чем султан и центральное правительство. Наиболее значительным и успешным среди этих военных авантюристов был Мухаммед Али, паша Египта (ум. 1848). Албанец, поднявшийся благодаря безжалостным интригам до поста османского губернатора Египта, Мухаммед Али в 1811 г. вырезал гарнизон мамелюков и стал полновластным хозяином страны, хотя и продолжал номинально подчиняться Константинополю. Он европеизировал армию, реформировал администрацию и построил коммерческую экономику Египта. Он взял на службу многочисленных европейцев (особенно французов) и безжалостно угнетал коренных египтян. Его амбиции не останавливались на границах Египта: он распространил свой контроль над Аравией (Ваххабитская война, 1811-1818 гг.), Суданом (1820-1822 гг.), Критом (1823 г.) и Грецией (1825-1828 гг.). Соединенные военно-морские силы Британии, Франции и России прервали это построение империи, разгромив флот Мухаммеда Али при Наварине (1827 г.). Западные дипломаты принудили его вывести свои войска из Греции и таким образом обеспечили успех войны греков за независимость. Когда в 1832-1833 гг. он захватил Сирию у Османского султана, европейские великие державы снова отняли у него плоды победы, заставив его ограничиться наследственным титулом правителя Египта и Судана[1045].

Интервенция против Мухаммеда Али подняла на новый уровень степень вмешательства европейцев в дела Османской империи, поскольку великие державы Европы стали рассматривать сохранение Османской империи как жизненную необходимость для европейского равновесия сил. В определенном смысле европейская поддержка османского режима подготовила путь для более широких и далеко идущих внутренних реформ второй половины XIX в. Однако сам факт, что султан оказался в зависимости от иностранной дипломатической и военной поддержки, мог привести к отчуждению мусульман от программы реформ, которые стали походить просто на орудие установления еще более прочного господства европейского могущества над сообществом правоверных[1046].
Ввиду тяжелого политического положения Османской империи неудивительно, что подданные султана не проявляли больших творческих достижений. В языке и литературе, однако, наблюдались важные изменения, поскольку по замечательному совпадению турки, греки и сербы выработали в 1750-1850 гг. новые литературные языки. В XVIII в. турецкая поэзия освободилась от персидских шаблонов, хотя при этом в результате стала беднее и упрощеннее, а турецкая проза в работах Акиф-паши (1787-1847 гг.)[1047] открыла для себя новый и более простой словарь и стиль. Литературный турецкий язык с этой поры в значительной степени основан на преобразованиях в языке, сделанных Акифом.
Сербский и греческий языки пережили еще более осознанную трансформацию. Доситей Обрадович (ум. 1811) и Вук Караджич (ум. 1864) использовали крестьянский диалект Герцеговины[1048] в качестве основы для литературного сербского языка; к середине XIX в. он заменил прежний литературный язык, основанный на церковнославянском. Аналогично Адамандиос Кораис (ум. 1833) создал новое греческое средство литературного общения, в котором подчеркивалась преемственность с классическим языком, а словарный запас был очищен от сильного засорения итальянскими и турецкими словами. Эти усилия принесли мало плодов до 1850 г. Новые литературные языки оформились не благодаря внутреннему развитию сербской или греческой культуры, а под влиянием философских и национальных идей, развитых в Западной Европе, особенно в Германии. Следовательно, появление новых языков в начале XIX в. было скорее манифестацией будущего, чем проявлением местных культурных достижений.
Тем не менее старая структура османского общества с тщательным разграничением между многочисленными религиозными, профессиональными и местными автономными группировками к 1850 г. была определенно и непоправимо сломана. Тот факт, что как турки, так и арабы и христиане были недовольны получившейся смесью, гарантировал будущие потрясения.
2. ИРАН И ТУРКЕСТАН
Когда в 1736 г. династия Сефевидов окончательно ослабела, наследников Исмаила оттеснил новый завоеватель — Надир-шах (1736-1747 гг.). Надир был фактическим правителем Персии за десять лет до того, как сам воссел на трон, и за это время его победами Персия была спасена от афганцев. После безрезультатных войн с турками Надир предпринял эффективное вторжение в Индию (1738-1739 гг.), разбил войско Моголов и занял Дели. Затем с наступлением жаркого сезона он неожиданно вернул трон императору Моголов и вернулся на север, предварительно потребовав уступить ему всю территорию на север и запад от Инда. Победоносные походы в Среднюю Азию в 1740 г. вознесли Надира на вершину славы, однако восстания и возобновившиеся войны с турками вскоре стали разваливать новую империю. Ко времени его убийства в 1747 г. она рассыпалась на куски[1049], многие из которых были подобраны новым афганским завоевателем — Ахмад-шахом Дуррани (1747-1773 гг.). Империя Ахмад-шаха простиралась от Аральского моря на севере до индийских земель на юге, но и она так же распалась вскоре после смерти своего основателя. Однако деятельность Ахмад-шаха оказала значительное влияние на политику Индии, поскольку выигранная им битва при Панипате в 1761 г. у Маратхской конфедерации навсегда ослабила индуистские войска, и Индия в результате оказалась гораздо более уязвимой, чем раньше, к захвату англичанами[1050].
Непрочные правительства и постоянные войны, замешанные на этническом соперничестве, между афганцами, персами и турками, продолжали нарушать мир в Иране и в Средней Азии после ухода двух великих завоевателей. Эти вечные раздоры благоприятствовали китайским походам в Восточный Туркестан в XVIII в., а продолжающийся политический беспорядок способствовал подобному укреплению позиций России в зоне Каспия и на Кавказе в XIX в. В 1835 г. шах сам вступил в тесные отношения с Россией, вызвав тем самым растерянность Британии, которая беспокоилась за свое положение в Индии. В стремлении опередить Россию, британские силы вторглись в Афганистан (1839 г.), но лишь за тем, чтобы с позором отступить, когда истощились припасы. Вторая карательная экспедиция сожгла афганскую столицу (1842 г.) и тоже удалилась восвояси.
В целом старая военная традиция Ирана и Туркестана оставалась почти неизменной вплоть до середины XIX в. Но неудержимые конники при всей их отваге и храбрости уже не могли сражаться на равных с армиями, организованными и оснащенными по европейскому или китайскому образцу. Как следствие, Китай с востока, Россия с севера, а Британия с юга неуклонно сужали прежнюю свободу действий мусульманской конницы. Пускались в ход деньги и снабжение порохом и боеприпасами, чтобы сажать своих и убирать неугодных местных князей, а учитывая, что европейские товары завоевывали все новые рынки, местные ремесленники и купцы теряли почву под ногами. Экономический упадок отбирал даже оставшиеся возможности построения стабильного политического строя на основе местных ресурсов. Таким образом, старое общество Ирана и Туркестана, несмотря на его удаленность от Европы, так же не могло противостоять европейской военной и экономической мощи, как и находившаяся в худшем географическом положении Османская империя. Политическая и экономическая слабость сопровождалась культурным застоем или откровенным откатом назад[1051].
3. РАСПАД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ В ИНДИИ
Еще во времена правления императора Аурангзеба (1658-1707 гг.) власть Моголов стали подтачивать хронические восстания. В гористой местности южнее Бомбея группа маратхов под предводительством Шиваджи (ум. 1680) стала промышлять разбоем и вооруженными нападениями, которые императорские войска были не в состоянии предотвратить. Объявив себя борцами за дело индуизма против ислама, маратхи привлекли в свои ряды немало индуистских авантюристов и в конце концов образовали свое собственное государство. К середине XVIII в. они установили номинальное господство над всей Центральной Индией и определенно выдвинулись в число ведущих претендентов в Индии на наследие слабеющей власти Моголов.
После смерти Аурангзеба (1707 г.) сикхи Пенджаба подобным же образом избавились от контроля Моголов и мусульман и создали свое государство. В довершение мятежные губернаторы провинций империи Моголов образовали целую мозаику из независимых княжеств в разных частях Индии. Наиболее прочным из таких княжеств был Хайдарабад в Декане, где постоянная необходимость обороняться от соседних маратхов помогла выработать настоящий порядок и дисциплину. В конечном счете набеги со стороны Ирана и Афганистана, вторжения гуркхов из Непала завели политику Индии в тупик. Империя Моголов номинально существовала до 1858 г., однако череда слабых и развращенных императоров чаще всего превращала имперскую власть не более чем в фикцию даже в непосредственной близости от столицы.
Такие политические условия все больше вынуждали европейские торговые компании в Индии опираться на собственные ресурсы. Подобно правителям провинций самой империи Моголов, местные агенты компаний постепенно приобретали фактический суверенитет и уходили из-под действенного контроля далеких от них Парижа и Лондона. В сферу деятельности чиновников компаний стали входить как коммерческие, так и военные дела, поскольку набеги и зверства индийских феодалов требовали сооружения фортов и усиления гарнизонов, охраняющих европейские поселения. Учитывая, что коренным жителям можно было платить меньше, чем европейцам, агенты компаний пополняли свое войско новобранцами из местных жителей, однако командирами над ними ставили европейцев. К XVIII в. даже небольшие подразделения таких сипаев, обученных и экипированных на европейский манер, способны были побеждать значительно превосходящие их числом индийские силы[1052]. Это обстоятельство не прошло мимо внимания местных правителей, начавших, в свою очередь, нанимать европейских авантюристов в надежде обзавестись собственными мощными армиями. С точки зрения европейцев это давало им неотразимые поводы для вмешательства во внутреннюю политику Индии, поскольку француз, командующий войском индийского князя, мог благоприятствовать французской компании, а англичанин — английской.
Штаб-квартиры ни французских, ни английских компаний не поощряли такие авантюры, так как излишне амбициозная военная политика сказалась бы на их прибылях. Очевидное решение заключалось в том, чтобы окупить военное предприятие путем захвата территорий, а военные расходы покрывать за счет местных налогов. Французские силы под командованием маркиза Жозефа Француа Дюплекса первыми применили такую тактику в 1749 г., когда в награду за участие в местной войне они получили солидный район вблизи Пондишери. Англичане вскоре последовали примеру французов, а вспыхнувшая между этими державами война в 1756 г. подстегнула их соперничество. У Англии было решающее преимущество перед французами, учитывая, что британский флот контролировал моря и мог усиливать и перевозить британские войска, не давая такой возможности французам. Такая стратегическая мобильность, в полной мере использованная Робертом Клайвом, позволила Британии вытеснить своих соперников из большей части Южной Индии и Бенгалии уже к 1757 г.[1053] Договор, которым была подведена черта под Семилетней войной (1763 г.), закрепил поражение французов в Индии, а также в Европе и Америке.
Эта победа Британии в Индии почти совпала по времени с битвой при Панипате (1761 г.), где, как уже отмечалось, маратхи потерпели сокрушительное поражение от афганцев. Быстро последовавший за этим их крах привел к возникновению военного и политического вакуума в Индии. Местные силы не могли противостоять войскам Ост-Индской компании, найти предлог для вмешательства в политику Индии было нетрудно. А когда компания взяла власть над территорией в свои руки, вопросы защиты границ и необходимость предотвращения усиления недружественных соседних княжеств очень быстро совпали с жаждой работников компании еще больше расширить в Индии земли, находящиеся под британским контролем.
Руководство Ост-Индской компании продолжало сопротивляться аннексии новых территорий в больших масштабах, да и общественная критика алчности и стяжательства ее работников в Индии порой могла задерживать продвижение компании. Однако ни возражения парламента, ни ряд административных реформ, ограничивавших возможности личного обогащения за счет выделенных на освоение Индии средств не могли предотвратить спорадическое вмешательство британских сил в дела того или иного индийского государства. За исключением северо-западной части Индии, где афганцы и другие воинственные племена оказывали упорное сопротивление, британские военные интервенции встречали слабый отпор, так что к 1818 г., когда маратхи потерпели окончательных крах, Ост-Индская компания достигла безоговорочного господства над всем субконтинентом. Но даже в это время чиновники компании непосредственно управляли лишь небольшой частью Индии. Остальная территория контролировалась посредством союзов с местными князьями, чья политика находилась под наблюдением британских резидентов, приписанных ко дворам.
Легкость британских завоеваний помогают понять следующие обстоятельства. Во-первых, мусульманские правители Индии так и не смогли объединиться против англичан. Ввиду нападений афганцев извне и индуистских восстаний внутри страны многие из них считали правильным стать под защиту англичан. Во-вторых, мусульманские правители не имели широкой поддержки среди своих подданных, большинство которых составляли индуисты. Даже низшие классы мусульман не проявляли особой лояльности к своим господам и мало участвовали в борьбе с европейцами.
Тем не менее индийские мусульмане тяжело переживали утрату власти и своего положения. Все это нашло скрытое выражение в реформированном и обновленном исламе, близком к модели ваххабизма[1054], а он, в свою очередь, подготовил дорогу для открытого недовольства мусульман, вылившегося в восстание сипаев 1857 г. Восстание на время поколебало позиции Британии в Индии, но завершилось оно разгромом восставших и одновременным концом существования как империи Моголов, так и ее наследницы — Ост-Индской компании[1055].
4. ИСЛАМ В АФРИКЕ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Разлад в старых центрах мусульманской цивилизации не остановил продвижение ислама в Африке. Напротив, темпы исламизации возрастали, особенно в XIX в. Обращением в ислам частично занимались торговцы и праведники, частично местные завоеватели, строившие свои государства на принципах ислама. Кроме того, разрушение племенного уклада в результате работорговли открывало двери для ислама в прежде языческих районах, так как люди, лишенные старых культурных традиций, часто находили в исламе привлекательный путь для перестройки своего умственного и духовного мира. Так, например, в Восточной Африке истовая борьба за религиозную чистоту, характерная для аравийских ваххабитов, вызвала живой отклик у скотоводческих и полускотоводческих групп населения. В других местах свободные формы веры, допускающие различные культы и компромиссы с языческими обычаями, были более очевидны[1056].
В Юго-Восточной Азии тоже ощущалось более энергичное в плане доктрины утверждение принципов мусульманства. И хотя столкновения с англичанами, голландцами и испанцами вынуждали мусульман кое-где к серьезному отступлению[1057], постепенный процесс обращения населения материковой части и отдаленных островов продолжал расширять географические рамки ислама в той части света.
Г. ИНДУИСТЫ И БУДДИСТЫ В АЗИИ В 1700-1850 ГГ.
Начиная с XI в. воинственность распространяющегося в Индии и Юго-Восточной Азии ислама в сочетании с ксенофобией неоконфуцианства в Китае и Японии вынуждали индуистскую и буддийскую культуру, как правило, занимать оборонительную позицию. В силу этого индуисты и буддисты обладали уже длительным опытом сопротивления чужеземному культурному и политическому давлению до того, как в Азии стала проявляться сила европейцев. Этот исторический опыт сохранил свою действенность и в XVIII — начале XIX вв. Индуисты поддерживали в себе гибкость мышления и эмоциональную силу, впервые проявленные ими в ответ на натиск мусульман в XVI в. Буддисты же, напротив, укрылись за стенами своей священной рутины, стремясь свести к минимуму всякие нарушающие их покой контакты с пришельцами извне.
Проводимая буддистами повсюду политика самоизоляции могла в лучшем случае оттянуть их упадок. Так, на Дальнем Востоке усиливавшийся уход за монастырские стены привел к постепенному снижению значения буддизма в Китае[1058] и стремительному его упадку в Японии. В Юго-Восточной Азии обстановка была сложнее. Буддизм здесь стал защитой бирманского и сиамского национального самосознания, так что судьба религии была неразрывно связана с судьбой этих двух народов. Бирманские имперские амбиции привели к долгой и ожесточенной войне с Сиамом, длившейся почти всю вторую половину XVIII в., однако за исключением эпизодических вторжений Китая в Северной Бирме (1765-1770 гг.) это противостояние не привлекло внимания извне. Проводившаяся с начала XVIII в. политика по ограничению контактов с иностранцами удерживала европейцев на безопасном расстоянии, что было нетрудно, учитывая, что вся энергия Европы и все ее ресурсы направлялись на покорение Индии.
А вот в XIX в., когда Ост-Индская компания достигла вершины влияния, отношения Британии с буддийскими соседями Индии обрели новый оттенок. На Цейлоне конфликты с британцами[1059] привели к уничтожению в 1815 г. буддийского царства Канди. В 1768-1824 гг. британцы также нарушали суверенитет Сиама, заполучив плацдарм в Малайе благодаря договоренностям с местными мусульманскими князьями[1060]. Даже Бирманская империя уступила большую часть своего побережья тем же британцам после войны 1824-1825 гг. И все же эти демонстрации британской силы не вынудили буддийских правителей и религиозную верхушку Южной Азии предпринять сколько-нибудь серьезные попытки, чтобы перестроить свой образ жизни. Контакты с европейцами были все еще слишком новы, а буддийские культурные традиции слишком прочны, чтобы можно было вызвать подобную реакцию. Как и мусульмане, буддисты были физически потрепаны европейской экспансией, однако их дух оставался незатронутым вплоть до середины XIX в.[1061]
Индуистские сообщества Индии, и в частности Бенгалии, отнюдь не легко поддавались давлению европейцев. Точнее говоря, основная масса населения почти безразлично относилась к смене мусульманского господства христианским даже в районах, находившихся под прямым британским правлением. Религиозное рвение, получившее такое пылкое выражение в XVI в., по-прежнему привлекало чуть ли не всех индуистов, а кастовая система позволяла даже самым набожным и щепетильным легко приспосабливаться к присутствию европейцев в Индии. Обряда очищения после контактов с европейцами, совершаемого, как то предписывали древнейшие обычаи, было достаточно, чтобы выделить место для еще одной чужеземной общины среди всех разнообразных индуистских каст.
До начала XIX в. эти испытанные временем методы общения с иностранцами довольно хорошо служили индуистам. По мере того как слабела власть турок, персов и афганцев, возрастала сила англичан и французов. С точки зрения индуистов на смену одному иностранцу просто приходил другой, как это часто случалось раньше. Вплоть до 1818 г. или даже позже казалось, что европейское влияние на Индию может быть ограничено сравнительно поверхностным уровнем, которого достигали и прежние завоеватели.[1062]
После решающего разгрома сил маратхов британцами в 1818 г. исчезла всякая перспектива появления мощного индуистского государства и стройной индуистской культуры на руинах империи Моголов. Вместо этого британским чиновникам пришлось столкнуться с задачей управления значительно расширенной и необыкновенно пестрой индуистской империей. Многие из них были убеждены, что даже горсть британцев способна контролировать обширный субконтинент просто путем соблюдения и поощрения индуистских и мусульманских обычаев и традиций. Другие утверждали, что британское правление может быть закреплено только либеральными реформами, которые должны завоевать симпатии простого народа, предложив ему более высокий уровень справедливости, чем тот, который был ранее. Консервативная политика сохранения в неприкосновенности обычаев страны отвечала желаниям подавляющего большинства индийцев, и пока британское господство над Индией оставалось непрочным, эта политика доминировала в британских кабинетах, и в ней признавали только те изменения, которые диктовались военной или финансовой необходимостью.
К концу XVIII в. небольшая группа англичан, самым выдающимся из которых был Уильям Джонс, (ум. 1794), занялась исследованием индийских языков и литературы. В начале следующего столетия британские власти стали выделять официальные средства на поддержку таких исследований и на учебу индийцев в мусульманских и индуистских учебных заведениях. Но даже при намерении сохранить местные культуру и мировоззрение, вмешательство иностранцев, воспитанных в традициях европейского образования, не могло не сместить многих привычных ориентиров. Так, например, европейские ученые вскоре сосредоточили свое внимание на древнейших памятниках индуистской литературы в значительной мере потому, что тогдашняя филология стремилась объяснить первоначальные формы европейской речи путем изучения санскрита. Однако такие исследования выявили бесчисленные расхождения между ведическими и современными религиозными обрядами и верованиями. Пытливые индуисты поняли, что почти невозможно уйти от вопроса о том, как примирить народную религиозность и суеверия с их декларируемой ведической основой[1063].
Таким образом, мысль о том, что индуистская религия нуждается в реформировании, получила веские аргументы в результате самих усилий сохранить и распространить знания о ее корнях. К тому же эта точка зрения легко совпадала с принципами европейских либералов, требовавших гуманистических изменений в индийских институтах и обычаях. Дальнейший толчок к реформам был обеспечен христианскими миссионерами, число которых стало возрастать в Индии после 1813 г., когда в закон о возобновлении привилегий Ост-Индской компании было включено требование о свободном допуске миссионеров в страну[1064]. Христианство приняли немногие индуисты, но миссионеры играли тем не менее немаловажную роль, подталкивая индуистов на поиски ответов в западной цивилизации. Миссионеры были первыми европейцами, обучавшими, проповедовавшими и писавшими на индийских наречиях. Они также основывали школы, в которых светские предметы дополняли религиозное образование, и тем самым они доносили не только принципы христианства, но и более общие европейские идеи и знания до образованных кругов Индии.
В первые десятилетия XIX в. группы британских либералов и миссионеров совместно выступили против некоторых индуистских обычаев и потребовали официального запрещения таких обрядов, как сати — самосожжение вдовы на погребальном костре мужа. Этот вопрос, впрочем, не остался делом одних англичан. Небольшая, но громко заявившая о себе группа индуистов, находившаяся главным образом в Калькутте, также начала требовать реформирования индуистских законов и обычаев, и только после того, как такие радикальные взгляды были высказаны самими индийцами, реформаторская политика получила явное превосходство в официальных британских кругах.
Наиболее заметным из индийских радикалов был бенгальский брахман Раммохан Рай (ум. 1833). Подростком он посещал индуистскую и мусульманскую школы[1065], а позднее основательно освоил английский язык и получил по крайней мере поверхностные знания греческого, латинского и еврейского языков[1066]. Такие лингвистические познания позволили ему преодолеть культурный разрыв между индийской и европейской цивилизациями, на что до него оказались способны лишь немногие европейские востоковеды. Отказавшись еще молодым от карьеры на английской службе, Раммохан Рай посвятил себя преимущественно вопросам религии. Его исследования христианства, индуизма и ислама привели его к выводу, что все эти три веры несут в основном одинаковую идею — этический монотеизм, напоминавший унитаризм Британии и Америки XIX в. С его всеобъемлющей точки зрения детали образов и расхождения в учении не имеют значения.

Радикально новое истолкование религии явно бросало вызов как христианской, так и индуистской традиции. Раммохан Рай вступил, таким образом, в спор и с христианскими миссионерами, и с индуистскими консерваторами. В конце концов он основал собственную религиозную общину -«Брахма Самадж», с помощью которой надеялся распространить свои убеждения. И хотя в свою веру он обратил немногих, влияние Рая способствовало ускорению реформы индуистских законов и институтов. Он вел кампанию в литературе против самосожжения вдов и требовал от британских властей запретить этот обычай еще за десять лет до того, как они пошли на это (1829 г.). Также он призывал британцев создавать школы для индийцев, где они могли бы изучать европейские науки. Не дожидаясь мер от властей, он тратил собственное время и деньги на организацию частных школ, где пропагандировались его реформаторские идеи.
В определенном смысле Раммохан Рай был одиноким предшественником тех англизированных представителей высших индийских классов, которым суждено было сыграть важную роль в истории Индии. Несмотря на то что прямое влияние созданных им организаций так и не получило распространения, отдельные его последователи занимали стратегические позиции в обществе, укрепляя веру британцев в то, что Англия морально обязана нести блага европейской цивилизаций и знаний индийским народам. Знаменательным событием в этих усилиях стало решение Британии (1835 г.) об организации государственных школ для индийцев с обучением по европейским программам на английском языке. Устройство таких школ, а после 1857 г. и университетов европейского образца обеспечило пополнение индийского общества людьми, которые, подобно Раммохану Раю, были носителями как индийских, так и европейских культурных традиций. Значение такого образования и интерес к нему чрезвычайно возросли после 1844 г., когда административным языком стал английский, так что молодые индийцы, надеявшиеся получить официальную должность, должны были его учить.
Результаты этой политики стали ощущаться в основном после 1850 г. До этого шел лишь процесс закладки фундамента для полномасштабного взаимодействия между европейской и индийской культурами. Подавляющее большинство индийцев оставались прочно связанными цепью древнейших обычаев, придерживались своих традиционных верований и не стремились заглянуть за пределы своих наследственных каст[1067].
Д. ПРИБЛИЖЕНИЕ КРИЗИСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1700-1850 гг.
1. КИТАЙ
Если мерить XVIII в. традиционными мерками, то для Китая он стал одним из самых великих. Политическая стабильность внутри страны и экспансия империи в направлении соседей сопровождались резким подъемом сельского хозяйства, торговли и ростом численности населения. Мир и процветание были опорой массового развития образования и искусств, что придавало вес поразительному культурному влиянию Китая на таких далеких от него варваров, как европейцы. С такими достижениями империи маньчжуров можно сравнить только великие эпохи империй Хань и Тан.
При этом тот успех, с которым политика маньчжуров повторяла достижения своих древних предшественников, нес в себе семена окончательного и полного распада общественного и политического строя, если учесть, что институты и отношения, вознесшие Китай высоко над окружавшими его варварами в прежние века, внезапно утратили свою действенность в отношении европейцев в XIX в. Тем не менее до середины XIX в. кризис китайского общества оставался главным образом внутренним и, подобно всем аспектам маньчжурского государственного устройства, в полной мере отвечал старым моделям. Только после того, как медленно идущие процессы, способствовавшие усилению продажности чиновников, крестьянским волнениям и ослаблению военной мощи, подготовили почву для вполне традиционного крушения, Китай на деле ощутил угрозу, исходящую от европейской цивилизации. До этого контакты с европейцами лишь незначительно сказывались на истории Китая.
Император Канси блестяще укрепил правление маньчжуров в Китае в период своего долгого царствования (1662-1722 гг.). Главной задачей его преемников было карать чужеземных варваров на внешних границах империи и управлять ими. В результате длинного ряда нелегких войн в 1688-1757 гг. китайское правление было распространено на Тибет, Монголию и Восточный Туркестан. После уничтожения в 1757 г. Джунгарского государства — последней крупной победы в Центральной Азии — маньчжурское правительство стало проводить политику закрытия северо-западной границы, даже прибегая к выселению жителей приграничных районов[1068]. Другие границы Китая имели гораздо меньшее военное значение. Дипломатию редко приходилось подкреплять военными действиями (как это было в Бирме в 1765-1770 гг.), чтобы предотвращать угрозу, идущую из Юго-Восточной Азии или Кореи, и большинство этих государств пребывали с Китаем в отношениях данников, т.е. церемониально признавали свою от него зависимость[1069].
На морских границах деятельность европейцев ограничивалась строгим контролем, сводившим к минимуму контакты китайцев с чужеземцами и возлагавшим ответственность за любые неблагоприятные последствия присутствия европейцев на лиц, находившихся в полной власти местных правителей. Действительно, при пекинском дворе на отношения с европейскими купцами смотрели как на нечто мелкое, недостойное оформления официальными договорами и соответственно перекладывали на местные власти заботу об отношениях с иностранцами. К тому же, поскольку прямое участие в вопросах торговли считалось унизительным для конфуцианского мандарина, то даже местные вельможи возвели барьер между собой и европейцами. Таким барьером стала китайская купеческая гильдия, которая с 1720 г. вела дела со всеми европейскими судами, прибывавшими в Гуанчжоу (Кантон). В 1757 г. император объявил Кантон единственным портом, где была разрешена такая торговля, официально подтвердив монополию, которой город практически владел определенное время[1070].
До 1834 г., когда британский парламент отменил исключительное право Ост-Индской компании на торговлю Англии с Китаем, такой порядок действовал вполне гладко, так как и компания, и купеческая гильдия в Кантоне пользовались своим монопольным положением. Говоря точнее, монополия китайцев была гораздо прочнее, чем у компании, поскольку за торговлю с Кантоном боролись и другие европейские державы, не говоря уже о британских контрабандистах. При каждом удобном случае европейцы стремились добиться более благоприятных условий торговли для себя путем расширения круга китайских купцов в Кантоне или путем нарушения их монополии, однако все эти усилия оказывались тщетными. Тогда европейские купцы стали прибегать к контрабанде, чтобы уравновесить легальные преимущества китайских монополистов. После 1800 г., когда китайское правительство запретило ввоз опиума, но оказалось не в состоянии обеспечить выполнение запрета, эта незаконная торговля приняла большой размах. В результате кантонская торговля в XIX в. утратила официальный и тщательно контролируемый характер, установленный китайскими властями в XVIII в., а взамен стали снова практиковаться нерегулярные и иногда сопровождавшиеся насилием виды торговли, типичные для первых торговых операций европейцев на Китайском побережье.
Значение иностранной торговли в Кантоне для китайской экономики невозможно оценить. Разумеется, объемы ее быстро возрастали. Чай стал основным экспортным товаром Китая, но шелк, лакированная посуда, фарфор и различные диковины также пользовались в Европе большим спросом. Главным предметом китайского импорта была хлопковая одежда из Индии, пока в XVIII в. в Китае не привилась привычка курить опиум[1071]. Производимый преимущественно в Индии опиум стал для европейцев тем первым товаром, который китайцы были готовы покупать в больших количествах. В результате отток денег из Европы для оплаты китайских товаров неуклонно сокращался, пока торговый баланс не склонился в пользу европейцев и не началось выкачивание китайского серебра. По мере того как европейская торговля сосредоточивалась на опиуме, любое стимулирующее действие, которое растущий экспорт китайских товаров мог оказывать на ремесленников и торговые общества, уравновешивалось социально разрушительным эффектом привычки к опиуму. К тому же, вполне вероятно, что с помощью различных форм принуждения большая часть доходов от внешней торговли перекачивалась в руки вельмож, которые всегда могли держать под жестким контролем кантонских купцов, а через них и ремесленников, производящих экспортные товары.
Еще одним оружием Европы в Китае были христианские миссии. Влияние миссионеров резко ослабло в XVIII в., причем в основном из-за споров самих миссионеров о правильном переводе христианских богословских положений на китайский язык и о том, до какой степени обращенные в христианство китайцы могут придерживаться своих древних обычаев. С самого начала своей деятельности в Китае иезуиты утверждали, что семейные обряды почитания предков и народные праздники, посвященные Конфуцию, представляют собой гражданские церемонии, которые не обязательно противоречат христианской вере. Другие миссионеры, в частности доминиканцы, считали, что такое приспособление к китайской жизни не совместимо с христианством. В результате государственных и личных трений разгорелся «спор об обрядах», усложнившийся еще больше, когда спорящие обратились и к папе, и к китайскому императору с просьбой о его разрешении. После некоторых колебаний папа высказался в 1715 г. против иезуитов, чем вызвал сильное негодование «Сына Неба», ставшего тем временем на сторону иезуитов[1072].
Спор имел значительные последствия и в Китае, и в Европе. В 1708 г. китайский император постановил, что все миссионеры должны принять точку зрения иезуитов либо покинуть страну, и когда верные католики больше не могли придерживаться этой позиции, христианские миссии в Китае вынуждены были действовать только вопреки закону страны. В действительности миссионеры продолжали проскальзывать в Китай, и их конгрегации никогда полностью не исчезали, но христианство было низведено до положения тайного общества[1073]. А в таком положении оно было обращено почти целиком к бедным и обездоленным, власти его в лучшем случае не замечали, а в худшем — преследовали изредка и не очень упорно.
И все же император разрешил иезуитам оставаться в Пекине, а император Цяньлун (1736-1795 гг.) регулярно обращался к ним для выполнения таких работ, как проектирование дворцов и строительство фонтанов, изготовление часов и других механических устройств. Иезуиты занимали также официальные должности астрономов и составителей календаря, пока папа не распустил орден в 1773 г., после чего их миссию взял на себя орден св. Лазаря. Однако какие-либо общие стремления или серьезный интерес к европейским знаниям и цивилизации, и без того еще небольшой в XVII в., стали все меньше проявляться в XVIII в. Китайские образованные круги были слишком уверены в надежности китайских институтов и слишком твердо убеждены в самодостаточности их собственного культурного мира, чтобы тратить время на погоню за варварской ерундой.
В Европе, напротив, «спор об обрядах» вызвал живой интерес к Китаю в широких кругах интеллектуальной элиты. Тот факт, что иезуиты во Франции были глубоко вовлечены в дискуссию с янсенистами и галликанцами, привел к обострению спора о законности методов работы иезуитов в Китае. Соответственно сведения о Китае пользовались значительным спросом и не только потому, что касались его самого, но и как пища для дискуссий с носителями других основ и целей. При этом знания о Китае, просачивавшиеся в Европу как второстепенный продукт распри, имели существенное побочное действие. Увлечение «китайскими штучками» окрасило целый стиль рококо, получивший широкое распространение в Европе примерно с 1715 г. Портреты благочестивых китайских мудрецов, чья духовность не зависела от религиозного откровения, привлекали к себе деистов, а такие черты китайского общества, как его воспитанность (вызвавшая презрение Риччи поколением раньше), отсутствие наследственной аристократии и принцип назначения на государственные должности на основе открытого конкурса -все это было созвучно радикальным направлениям мысли, пробивавшим себе дорогу, в особенности во Франции, в XVIII в. Для Вольтера и некоторых других философов Китай стал образцом, которому надлежало следовать в Европе. Разве не была Поднебесная великой, процветающей и мирной империей без какой-либо корысти для духовенства и родовой аристократии? При этом конфуцианство империи рассматривалось как действенная и лишь слегка поистертая модель рациональной религии.
Такое пылкое увлечение Китаем, пусть даже оно исходило от внутриевропейских интеллектуальных и художественных ожиданий, стало тем не менее заметным отходом от неприязни, страха и пренебрежения, которые свойственны людям разных цивилизаций. Горстка европейцев, доброжелательно исследовавших сложность и утонченность китайской цивилизации в XVIII в., были первопроходцами новых и более открытых связей между культурами. Их отношение резко контрастировало с царственным безразличием к иностранному, господствовавшим в аналогичных интеллектуальных сферах Китая[1074].
Само богатство и разнообразие китайского литературного и художественного наследия, требовавшее усилий целой жизни, чтобы освоить их, высокая награда в случае успеха на провинциальном или императорском экзамене достаточно хорошо объясняют безразличие китайцев к иностранной науке. Традиционные формы обучения при маньчжурах продолжали процветать по всей стране. Серьезный сбор, систематизация и обобщение прежних знаний осуществлялись под эгидой властей. Любовно издаваемые документы и авторитетные комментарии выкристаллизовывали давнюю китайскую традицию образования и обеспечили большую часть материалов для современных китаеведов.
Стихотворные и литературные сочинения оставались частью официальных экзаменов и здесь по-прежнему отдавали предпочтение безыскусному прилежанию. Образная проза переросла в самый яркий жанр китайской художественной литературы, и при маньчжурах роман достиг респектабельности, несмотря на свои народные истоки. «Сны красной комнаты», написанный в конце XVIII в., остается, по всеобщему мнению, величайшим китайским романом[1075], хотя он был лишь одним из многих[1076].
Китайская живопись по-прежнему оставалась плодовитой, искусной и разнообразной. Древнекитайские художники отличались преданностью старине и традициям старых мастеров, в то время как современные китайские и западные ученые ценят в первую очередь индивидуальную манеру и стилистические новшества. И тем, и другим было чем восхищаться в китайской живописи XVIII в., хотя и китайские, и западные искусствоведы XX в. высказывают довольно неблагодарное мнение, что подлинное величие китайского искусства относится к прошлому[1077].
Таким образом, судя по всему, китайская цивилизация и китайское государство в XVIII в. процветали. При этом те же механизмы, что приводили к падению прежних династий, уже были в действии и проявлялись в публичных событиях в последнюю четверть столетия. Главной проблемой было дальнейшее обнищание крестьян. Рост сельского населения привел к чрезмерному разделу земли, при котором в неурожайный год образовавшиеся крохотные хозяйства не могли прокормиться[1078]. Неизбежным результатом такого положения были безнадежная долговая кабала и невозможность выкупа просроченных закладных. Земли оказывались в руках ростовщиков из мелкопоместного дворянства, которым часто удавалось уклоняться от уплаты налогов на землю и переносить все увеличивающееся бремя платежей на оставшиеся крестьянские хозяйства. В то же время усиление чиновничьей коррупции и утрата воинской доблести маньчжурскими военачальниками, привыкшими к легкой гарнизонной жизни, со своей стороны способствовали ослаблению режима на фоне растущего недовольства и отчаяния крестьянских масс[1079].
Основным ответом на эти тягостные обстоятельства были курение опиума и крестьянские восстания. Широкомасштабное выступление 1774 г. положило начало длинному ряду подобных вспышек, кульминацией которых стало бурное Тайпинское восстание 1850-1864 гг. Восстания ухудшали экономическое положение страны в целом, вынуждая правительство вводить дополнительные поборы на карательные военные действия, что, в свою очередь, усиливало недовольство крестьян.
Порочный круг, в который, таким образом, попало правительство, не ускользал полностью от внимания верховной власти. Благонамеренные указы против курения опиума и призывы к чиновникам о честности не были эффективны, а вот параллельные усилия с целью поставить под контроль вольнодумство принесли несколько больший успех. Во всяком случае, в 1772-1788 гг. правительство провело большую чистку китайской литературы, предавая огню книги, содержавшие пренебрежительные замечания о маньчжурах или их предках. Некоторые книги, приговоренные в ходе этой инквизиции, очевидно, утрачены навсегда[1080].
Подобный страх перед независимой мыслью стоит, возможно, и за изменениями (1792 г.) в императорских экзаменах, которые включали проверку памяти, каллиграфию, легкость сочинения эссе и поэм на заданные темы по строгим правилам. Поскольку подготовка к этим испытаниям была главным делом в интеллектуальной жизни китайцев, то введенные изменения позволяли сузить круг суждений ведущих представителей китайского общества, ограничив их мысль политически безвредными направлениями[1081]. Усилия эти оказались в высшей степени успешными, и почти весь образованный класс Китая сохранял лояльность по отношению к маньчжурскому строю даже в XX в.

Знатная китаянка, общающаяся с природой под звуки флейты, представляет намного более давний, глубже укорененный и явно более надежный образ жизни, чем тот, который воплощали европейские аристократы того же времени. Когда писалась эта картина, китайские армии одерживали победы в Средней Азии, куда их нога не ступала со времени династии Тан, а энергичные усилия, предпринимавшиеся с тем, чтобы сохранить верность в словах и в мыслях, приносили, казалось, великолепные результаты. В этой картине можно видеть исключительно утонченные мотивы чувствительности, возможно, с опенком смутной тревоги перед подчинением размеренному декоруму китайского общества — злые на язык критики называют это упадочничеством. Был ли художник декадентом или нет, но он верно отразил консервативную аристократичность китайской культуры при маньчжурах.
До 1850 г., когда Тайпинское восстание потрясло империю до самого основания, правительственные контрмеры выглядели в целом адекватными для того, чтобы имперское здание могло выстоять в буре внутренних волнений. Казалось, что принципиальные перемены не требуются, а намеренный акцент на властном прошлом Китая должен был, как обоснованно ожидалось, отвести угрозу развала империи. Китайской самоуверенности был нанесен, однако, страшной силы удар в 1839-1842 гг., когда несколько британских военных кораблей и морской десант смогли пройти через оборону китайских войск почти беспрепятственно.
Поводом для этой демонстрации британской военной мощи стал спор об отправлении правосудия[1082], но за ним крылись принципиальные разногласия во взглядах, вызывавшие бесконечные трения на местном уровне. В 1834 г. британское правительство лишило Ост-Индскую компанию ее прав по контролю за торговлей с Китаем и управлению ею, сделав эту торговлю открытой для всех, попыталось ввести торговые отношения с Китаем в законные рамки, обычные для европейских наций. Это потребовало отмены сложных ограничительных правил, более века регулировавших торговые сделки между европейцами и Китаем. Указанное изменение британской политики произошло в момент, когда китайское правительство взялось за ограничение и контроль внешней торговли еще более жестко, чем раньше. В 1839 г. в Кантон прибыл специальный уполномоченный императора с целью ликвидировать незаконную торговлю опиумом. В результате его энергичных действий было конфисковано не менее 30 тыс. ящиков наркотика у британских и других европейских торговцев. Жалобы с обеих сторон приняли острый характер, и спор по поводу правильности законных мер стал лишь предлогом для войны.
Слабость Китая в военном отношении вскоре вынудила правительство императора принять мир на британских условиях. Согласно Нанкинскому договору 1842 г., были открыты четыре новых порта для британской торговли и в придачу победившей стороне перешел Гонконг. Другие европейские державы и Соединенные Штаты поторопились заключить аналогичные договоры и расширили при этом британские условия, обеспечив освобождение своих граждан от подсудности китайским органам правосудия и добившись официальных гарантий для деятельности христианских миссий в «договорных портах».
Такие уступки никак не совмещались с традиционным отношением китайцев к иностранцам и купцам. Нанесенное этим договором унижение и показанная им же военная беспомощность перед западными канонерками, несомненно, дискредитировали маньчжурский режим в глазах китайцев, хотя при этом в китайском обществе и не возникло сколько-нибудь значительных настроений, направленных на отказ от старых обычаев. Образованные китайцы считали едва ли возможным, чтобы Поднебесная могла поучиться хоть чему-нибудь стоящему у варваров. Действительно, впечатляющие успехи, совсем еще недавно достигнутые Китаем, в абсолютно консервативных рамках политики маньчжуров необычайно затрудняли приспособление к новым реалиям мира и дел в нем. Поэтому Китай только в XX в. серьезно взялся за перестройку общества, с тем чтобы суметь противостоять Западу[1083].
2. ЯПОНИЯ
История Японии в XVIII — начале XIX вв. поразительно отличается от истории Китая в этот же период. В то время как китайские войска вторгались в Центральную Азию, Япония постоянно вела мирную жизнь. Если население Китая больше чем удвоилось за это время, то население Японии оставалось стабильным и даже с 1730-х гг. начало уменьшаться. Главное же отличие состояло в том, что китайская культура была фактически монолитной, закрытой для влияния извне, тогда как культура Японии разрывалась между непримиримыми внутренними течениями и становилась все более восприимчивой к ветрам чужих учений, проносившимся через море из дальних и близких краев. Официальная политика окитаивания ставила целью -и не без успеха — превратить воинов в церемонную знать, однако ей не удалось победить своенравие народной культуры. В то же время небольшая, но занимавшая хорошие стратегические позиции группа японских интеллектуалов рассматривала такие альтернативы неоконфуцианской ортодоксальности, как местная синтоистская религии или западная наука, а люди искусства достоверно отражали напряженные взаимоотношения между местным, западным и китайским стилями.
Учитывая ускоренный и меняющийся ход японской истории как до, так и после периода Токугава, политика строгой изоляции и внутренней стабилизации, столь успешно выдерживавшаяся сегунами более двух столетий, выглядит незаурядным достижением. В Японии в XVIII — начале XIX вв. действовали мощные экономические, политические и интеллектуальные силы, подрывавшие непростое равновесие политической системы, с помощью которой первые сегуны Токугава стремились укрепить и защитить свою власть. Система все же сохранилась нетронутой до 1853 г., и даже после того, как весь механизм сегуната был сметен реставрацией императора в 1867 г., государством продолжала управлять и командовать военная аристократия, правившая Японией при сегунах.
Самые большие трудности сегуната возникли от растущих противоречий между политической и экономической силой. Занимавший высшее политическое положение класс самураев попал в экономическую зависимость от купцов и ростовщиков, официально находившихся в самом низу общественной лестницы. Такому положению способствовала и политика сегунов, требовавших от всех своих сподвижников и полунезависимых феодалов находиться часть времени в городских центрах, ведь когда они уезжали из своих поместий, то даже самые богатые из них должны были обращать урожай риса в деньги, продавая его купцам, и спускать все среди экстравагантной городской жизни. Более того, успех сегунов Токугава в прекращении внешних и внутренних войн оставлял самураям все меньше возможностей вернуться к ратному искусству, оторвавшись от роскошной праздности.
И феодалы, и крестьяне несли убытки от резких колебаний цен на сельскохозяйственные продукты, вызванных проникновением денежных отношений в сельскую жизнь, а недовольство росло вместе с долгами. Отчаяние крестьян находило выражение в спорадических бунтах, вспыхивавших все чаще с конца XVIII в. и служивших ярким признаком растущей социальной нестабильности[1084]. С помощью правительства Токугава самураи прибегали к более изощренным, но едва ли более успешным попыткам покончить со своими долгами. Порча денег, контроль над ценами, увещевания о бережливости, законы, регулирующие расходы, аннулирование долгов, а иногда и незаконная конфискация состояния торговцев — все эти способы пускали в ход[1085]. Однако достигался в лучшем случае временный успех, поскольку те же безликие и плохо понимаемые экономические силы вскоре вновь ввергали и правительство, и самураев в финансовую зависимость от презренных купцов и торговцев.
Другие способы разрешения финансовых затруднений самураев оказались более значительными для будущего. Отдельные феодалы вводили на своих землях методы интенсивного хозяйствования, а в некоторых случаях открывали шахты и новые промышленные предприятия. Так, заметно расширилось шелкоткачество, и в первой четверти XIX в. Япония перестала зависеть от ввоза шелка из Китая[1086]. Кроме того, сидевшие без гроша аристократические семьи иногда усыновляли купеческого сына, обеспечивая тем самым себе финансовые поступления, а купцу — преимущества и престиж положения самураев. Таким образом, различия между самураями и простым народом, на которых утвердилась государственная система Токугава, несколько смягчились. Значительное ускорение экономического роста и стирания различий между слоями общества оказалось центральным явлением социальных перемен, происходивших в Японии в период после Токугава. Перемены эти, однако, начались намного раньше.
Слабость, присущая режиму, опирающемуся на гордый, но обедневший класс воинов, угнетаемое и недовольное крестьянство, богатую, но политически ненадежную торгово-финансовую олигархию, усугублялась старыми политическими трещинами, которые были всего лишь «заклеены» при сегунате Токугава. Сильные феодальные князья по-прежнему владели обширными районами Японии, и память о соперничестве их предков с победившей династией Токугава никогда не исчезала. По мере того как падали авторитет и дух правителей Токугава, феодальные князья становились центром потенциально сильной военной оппозиции режиму. Проблемы внешних сношений также начали принимать угрожающие размеры в XIX в., когда русские, британские, французские и американские корабли стали огибать японские берега. Все чаще эти суда нарушали закон, заходя в японские гавани под предлогом действительного или мнимого бедствия, и время от времени добивались удовлетворения своих требований под угрозой применения силы.
Небольшие, но авторитетные группы японской интеллигенции ясно осознавали слабость своей страны и пытались различными, иногда противоречивыми способами вырабатывать пути решения выявляемых ими трудностей. Официальные идеологи режима неоконфуцианского толка стремились прививать законопослушание и покорность во всех слоях общества. Моральное порицание и законы об ограничении расходов были теми мерами, которые скорее всего приходили им в голову для исправления ошибок эпохи, но даже в их собственном официальном неоконфуцианстве таились предательские политические ловушки для режима Токугава. Если высшей добродетелью считалась лояльность по отношению к начальнику, то как можно было оправдать обращение сегунов с императором? Исторические исследования, начатые под эгидой официальных властей в конфуцианском духе, приводили к таким же и более затруднительным вопросам, так как никакие перетолкования документов не могли представить власть сегунов не чем иным, кроме узурпации. Таким образом, стали возникать группы добрых конфуцианцев, порицавших режим исходя из его же принципов.
Еще важнее со временем оказалось полное неприятие конфуцианства и официальной политики окитаивания. Но представители этого течения разделились на две группы: приверженцев коренных японских традиций, стремившихся их возродить и очистить, и тех, кто восхищался западной цивилизацией и отстаивал необходимость заимствовать западные знания и технологии. Несмотря на кажущиеся принципиальные расхождения во взглядах, оба эти лагеря часто находили возможности для совместных действий, так как и тем, и другим надо было одолеть одного и того же противника -официальную власть и вес китайской традиции. В конце концов, ведь западную медицину, географию, астрономию и математику можно было принимать не ради их самих, но также как подтверждение до тех пор незамеченных недостатков китайского учения.
В среде антиконфуцианских традиционалистов исторические и археологические исследования японского прошлого служили материалом для трансформации древнего синтоистского культа в религию, которая могла бы выдержать сравнение со всем, что исходило из Китая, а то и с Запада[1087]. Учитывая, что императорская фамилия, происходившая от богини солнца, занимает в синтоизме центральное место, этот культ неизбежно уводил умы людей от лояльности сегуну с его фаворитами к находящейся в строгой изоляции личности императора. Явных приверженцев синтоизма до 1850 г. насчитывалось сравнительно немного, хотя к этому времени само учение и обряды были обновлены и определены. Синтоизм, таким образом, был готов к взлету, и все было подготовлено к замене неоконфуцианства как привилегированной религии государства, едва только режим Токугава сойдет со сцены.
Энергичные старания горстки людей, желавших проникнуть в тайны европейского знания, были еще более впечатляющими и также оказались плодотворными для будущего. Задаче этой серьезно мешали языковые барьеры и ограниченные возможности общения с образованными европейцами. И все же за нее взялись с настойчивой решимостью и энтузиазмом. К концу XVIII в. некоторые японцы не только освоили голландский язык, благодаря которому они знакомились с европейскими науками, но и выпустили книги на японском языке, излагавшие западные идеи в таких областях, как медицина, анатомия, астрономия и география[1088]. Отдельные японцы отдавали себе отчет и в превосходстве западной военной технологии. Когда в 1842 г. британцы подвергли унижению китайскую гордыню, такие люди извлекли из этого ясный урок, но не с паническим удивлением, охватившем сегуна и его окружение, а с чувством удовлетворения. Они давно полагали, что Япония не может позволить себе пренебрегать знанием и мастерством «рыжеволосых» варваров, и события подтвердили их правоту.
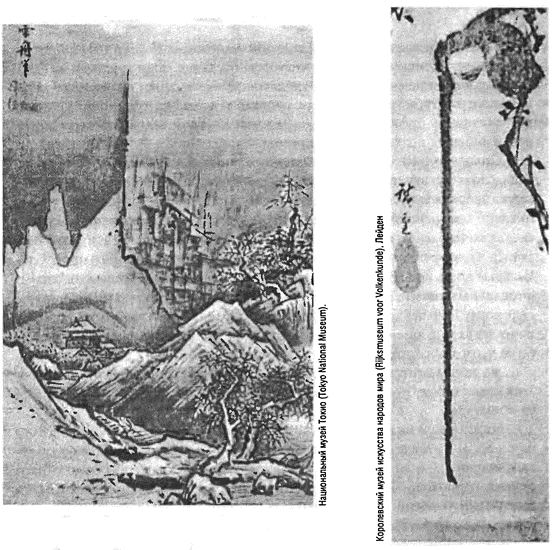

О стилистическом разнообразии японской живописи свидетельствует резкий контраст между этими тремя картинами. Зимний пейзаж (вверху слева) Сэссю (1420—1506) изображает китайский ландшафт в абсолютно китайском стиле, хотя эксперты могут выделить особенности кисти мастера, придающие картине самобытный характер. Сравнительно грубый портрет крестьянина (внизу) датирован XVIII в. и выполнен простым «народным» художником, но его экспрессивность подчеркивает энергичность японских крестьян. Остроумная шуточная картина Хиросигэ (1797—1858), на которой обезьяна ловит отражение луны в море, предстает веселой карикатурой на саму Японию с ее стремлением поживиться сначала у китайской, а затем у западной цивилизации.
Столь пагубные для установившегося порядка идеи, естественно, вызывали соответствующую реакцию. Так, например, в 1790 г. правительство сегуна запретило преподавать какую бы то ни было философию, кроме официально одобренной неоконфуцианской, бросив в тюрьму или казнив нескольких человек за нарушение этого и подобных указов. Но эти меры оказались не эффективнее предпринятых против экономических процессов. Частные лица, пользуясь иногда протекцией кого-либо из полунезависимых феодальных князей, продолжали запретные занятия с целью не подчиняться режиму и вырабатывать для Японии альтернативную политику, которая, на их взгляд, лучше отвечала бы реалиям времени. В итоге в 1853 г., когда сегун неохотно согласился открыть Японию для торговли с Западом, небольшая, но занимающая стратегические позиции группа японцев уже выработала ясные ориентиры, чтобы направлять назревшую перестройку японского общества.
Богатая и разнообразная художественная и литературная жизнь Японии в XVIII — начале XIX вв. отвечала сложности описанных интеллектуальных течений. Стили живописи, заимствованные у китайских художников разных периодов, соседствовали, а иногда и смешивались с местными и западными стилями. Цветная гравюра со строго натуралистическими элементами, когда ее выполняли в традиционном стиле, стала новейшим достижением японского искусства в это время. Расцвел также жанр остроумной, разговорной и порой непристойной поэзии наряду с драматургией и романистикой. Как и в XVII в., актеры и гейши продолжали вдохновлять поэтов и художников в их соперничестве с официально поддерживаемой, более строгой и традиционной модой, черпавшей свое вдохновение в Китае. Но подобно тому, как классовые барьеры в Японии Токугава в XIX в. стали утрачивать свою прочность, в искусстве различия в стилях, столь четко очерченные в начале XVIII в., постепенно стирались по мере того, как художники сочетали в своих произведениях элементы, взятые из народных и официальных вкусовых канонов, и даже экспериментировали с такой чужеземной западной техникой, как живопись маслом.
Искусство, как и интеллектуальная сфера, отражало социальное замешательство и напряженность, лежавшие под внешней недвижностью режима Токугава. Учитывая все эти обстоятельства, длительность существования этого режима представляется более удивительной, чем его распад. Если уж быть до конца точным, то крестьянство оставалось крупным, устойчивым элементом японского общества, существовавшим на грани выживания, почитавшим своих властителей и закрытым для диковинных новых идей. Однако шаткость внутреннего положения сегунов проявилась в быстроте и размахе перемен, происшедших в Японии, как только страна была официально открыта для иностранцев. Иностранное влияние стало лишь толчком к высвобождению внутренних сил, ускоривших революционное преобразование Японии после 1853 г.[1089]
Е. ОТСТУПЛЕНИЕ ВАРВАРСТВА В 1700-1850 ГГ.
Быстрое наступление цивилизации, особенно западной, увенчалось уменьшением географических размеров и политического значения более примитивных обществ. В Старом Свете в XVIII в. произошел окончательный распад политической силы степных народов. Россия и Китай поделили степи между собой, причем Китаю досталась восточная часть, а России -более богатая западная. Венгерская низменность отошла Австрии. Победа Китая над конфедерацией калмыков в 1757 г. прозвучала заключительным аккордом в этой эре мировой истории, став последним случаем, когда цивилизованные армии столкнулись с серьезным степным противником[1090].
Окончательная ликвидация варварского и дикого уклада в Америке и Океании произошла только к концу XIX в.; при этом, учитывая активное расширение западных границ в XVIII — начале XIX вв., конечный распад индейских и австралийских племенных обществ был лишь вопросом времени. Даже самые маленькие острова Тихого океана испытали социальные потрясения после захода китобоев, торговцев копрой и миссионеров. Тропические джунгли Южной Америки, Юго-Восточной Азии и крупнейшие острова на юго-западе Тихого океана служили географически более крупными районами, где могли найти себе приют первобытные общества. Но даже это убежище было ненадежным, так как охотники за золотом и рабами из цивилизованного мира свободно, если и не слишком часто, проникали в такие заповедные места.
К 1850 г. Африка к югу от Сахары представляла собой единственный крупный заповедник варварства, оставшийся в мире, но и здесь цивилизованные и полуцивилизованные общества тоже быстро закреплялись. Мусульманские скотоводы и завоеватели продолжали подчинять себе северные части Судана от Нигера до Нила и южные — ниже Африканского рога. В то же время полуцивилизованные негритянские царства, обосновавшиеся в джунглях Западной Африки, расширяли и укрепляли свою власть, широко прибегая к организованной поставке рабов и к различным другим формам торговли с европейскими дельцами с побережья. К 1850 г. политическая власть Европы начала продвигаться вдоль побережья и в глубь территории по рекам, но эти плацдармы были кр'шне невелики по сравнению с огромными пространствами Африканского континента[1091].
В Восточной Африке власть Португалии к северу от Мозамбика исчезла к 1699 г., уступив силе местных восстаний и вооруженного вторжения из Омана в Южной Аравии. В XVIII в. новая купеческая держава, опиравшаяся на Оман и его колонию Занзибар, взяла под свой контроль торговлю Восточной Африки. Рабы, захваченные в глубинных районах Африки, слоновая кость и гвоздика из самого Занзибара стали главными экспортными товарами этого торгового государства. После 1822 г., однако, британское превосходство в Индийском океане вынудило султана Занзибара пойти на различные и все более строгие ограничения работорговли, так что его власть перестала быть полностью независимой.[1092]
В южной части Африканского континента такие военные конфедерации народов банту, как зулусская (с 1818 г.) и матабеле (с 1835 г.), боролись за пастбища с поселенцами голландского происхождения (бурами). В поисках новых территорий для выпаса скота и в стремлении освободиться от британского правления на мысе Доброй Надежды голландцы в 1835 г. массово двинулись на север, в степную зону, где захватили все земли, подходящие для ранчо и ферм, а своей военной силой обеспечили обильный приток чернокожих невольников[1093].
Таким образом, простые земледельцы и скотоводы внутренних районов Африки оказались обложены со всех сторон. Отовсюду на них надвигались мусульманские, африканские и европейские силы, обладавшие превосходством в политической и военной организации или в технологии либо в том и другом вместе. У старого простого уклада не было шансов устоять перед такими противниками. Только географические препятствия, усиленные африканскими тропическими болезнями и политическим соперничеством самих европейских держав, способствовали тому, что во второй половине XIX в. еще сохранялась некоторая самостоятельность и культурная независимость африканских первобытных сообществ.
ГЛАВА XIII.
Восхождение Запада: космополитизм в мировом масштабе в 1850-1950 гг.
А. ВСТУПЛЕНИЕ
Четыре события в середине XIX в. символизируют непоправимое разрушение традиционного порядка четырех величайших цивилизаций Азии. В Китае Тайпинское восстание 1850 г. глубоко потрясло и в течение 14 лет разъедало социальное устройство государства, в результате чего возвращение к имперской политике преднамеренной изоляции от внешнего мира становилось все более неосуществимым. Одновременно в результате пусть и не такой яростной, но тем не менее драматической революции сверху, начавшейся в 1854 г., Япония ломает ограничения, придуманные сегунатом Токугава, и открывает свои границы для ограниченной иностранной торговли. В Индии сипаи в 1857-1858 гг. сыграли роль могильщиков старых общественных порядков. После того как восстание было подавлено, школы и железные дороги стали причиной того, что индийцы больше не могли относиться к европейцам как к особенной касте завоевателей. И подобно тому, как змея сбрасывает старую кожу, все большее число индийцев стало отбрасывать унаследованные традиции. Наконец, Крымская война (1853-1856 гг.), в которой турки с помощью англичан и французов одержали победу над Россией, разрушила намного больше общественных институтов Османской империи, чем какие-либо прежние поражения. Султанская империя никогда раньше не знала таких порожденных войной новшеств, как большие долги перед европейскими вкладчиками в железные дороги, построенные европейскими инженерами. Однако все это не гарантировало для всех подданных Османской империи формального равенства и свобод, провозглашенных правительством в 1856 г. по требованию британского, французского и австрийского послов.
Таким образом, во всех великих азиатских цивилизациях революции снизу или сверху внезапно дискредитировали или разрушили старые ценности и обычаи, и в каждом случае разрушительное влияние было стимулировано контактами и столкновением с индустриализирующимся Западом. За считанное десятилетие в середине XIX в. фундаментальное равновесие четырех культур ойкумены, которое выдержало все удары в продолжение двух тысячелетий, наконец разрушилось. Вместо четырех (или пяти, если считать Японию) автономных, хотя и взаимосвязанных, цивилизаций стал проявляться еще неоформленный, но уже подлинно глобальный космополитизм как доминирующая реальность человечества.
Одновременность столь огромных изменений в мировой истории не была случайной. Японцы, открывшие свою страну иностранцам, знали о трудностях, которые в это время испытывал Китай, и индийские сипаи знали об участии Британии в Крымской войне. Европейская политика по отношению к Дальнему Востоку и Китаю в 1858-1860 гг. характеризовалась англо-французским сотрудничеством, впервые прошедшим испытание в Крыму. При этом плотность, скорость и регулярность движения в сети мирового транспорта к середине XIX в. достигли такой степени, что никакая цивилизованная часть планеты не была отделена от другой более чем несколькими неделями; а мгновенная связь с помощью электрического телеграфа, хотя она стала межконтинентальной лишь после прокладки кабеля через Атлантический океан (1867 г.), была уже в 1850 г. реальностью во многих странах Европы и Северной Америки. Распространение железных дорог, которые требовали много большего труда при прокладке, несколько запаздывало по сравнению с распространением телеграфа, но только на десятилетие или около того. В 1870-1890 гг. на океанах пароходы повсюду заменили парусные суда для перевозки стандартных грузов.
Эти революционные усовершенствования в транспорте и связи были частью целого комплекса быстро развивающихся западных технологий, а технологии, в свою очередь, во второй половине XIX в. вошли в тесное и плодотворное взаимодействие с теоретической наукой, которая и сама развивалась невиданными темпами. Более того, такая революция в средствах связи, резко изменившая взаимоотношения мировых цивилизаций, опиралась на широкую базу технологии, та — на развитие науки, и все они зависели от состояния общества, европейских институтов и отношений, без которых связь, технология и наука не смогли бы достигнуть своей революционной силы. Однако технологические изменения преобразовали старые общественные отношения непредвиденным и непредсказуемым образом; в некотором смысле можно действительно сказать, что в первых десятилетиях XX в. побочным эффектом выдающихся успехов новой технологии (которая стала массовой всего лишь за сто лет до этого, даже в такой передовой стране, как Великобритания) стало разрушение старых традиций цивилизации Запада, точно так же, как традиции старых цивилизаций Азии были разрушены за 60 или 70 лет до этого.
 ВОСХОЖДЕНИЕ ЗАПАДА
ВОСХОЖДЕНИЕ ЗАПАДА
Можно сказать, что союз науки и техники, оформившийся два века назад, перевернул все цивилизации, которые образовывали социальный пейзаж предыдущих столетий, и возвел на развалинах культур старых ограниченных цивилизаций новую космополитическую, современную культуру. Огромные изменения в повседневной жизни свидетельствуют о продолжающемся процессе слияния ранее изолированного сельского населения с населением городов-мегаполисов. Кроме того, «разрушение» западной цивилизации, которое стало ощутимым в начале XX в., было не разрушением как таковым, а просто дальнейшей стадией ее собственной эволюции. На всем протяжении истории драматическая нестабильность отличала Дальний Запад от цивилизаций Евразии, и возможно, новая история мира — еще один пример этой давней склонности к переменам, которые на этот раз охватили не только Запад, но и все человечество.
Для тех, кто считает себя наследниками западной цивилизации, выбор между взаимоисключающими интерпретациями недавних исторических событий в огромной мере зависит от личного вкуса и темперамента, тогда как наследники других культурных традиций обычно предпочитают ту точку зрения, что цивилизация нового времени скорее существенно отличалась от всех предыдущих, чем имела с ними сходство. Нельзя ожидать согласия в этом споре, и люди XX в. по понятным причинам не могут оценить происходящие события с позиций, не окрашенных эмоциями. Тот факт, что все культурное разнообразие человечества сейчас находится, тесно взаимодействуя, в пределах целого, может иметь совершенно непредвиденные последствия. И даже самые зоркие наблюдатели XX в. при попытках проникнуть в суть окружающего мира могут оказаться столь же ограниченными, как утонченные греко-римляне I в. н. э. были полностью равнодушны к грядущему величию тончайшей прослойки первых христианских общин. Есть все же определенный предел, заложенный в самой сути человека, за него не выйти ни нашим предкам, ни нам самим, ни нашим потомкам.
Но и оставаясь в рамках, налагаемых временем, окружением, темпераментом, можно говорить о том, что в истории прошлого столетия две темы кажутся первостепенными: 1) возрастание контроля человека над видами природной энергии; 2) увеличение готовности манипулировать общественными институтами и обычаями в надежде достигнуть желаемых целей. В терминах более близких историкам, можно сказать, что это развитие свелось к индустриализации и политико-социальным революциям; тогда как на языке социального (возможно, старомодного) философа две основные темы можно соединить под одним заглавием — «прогресс человеческого разума в приложении к природе и человеку». Прогресс был наиболее выражен в науке и технологии, но не обошел и многих важных аспектов человеческих отношений. И высшая ирония нашего времени заключается в том, что философы открыли непознаваемость, психологи — иррациональность природы человека, антропологи, социологи, экономисты — несоизмеримость социальных явлений по сравнению с человеческим расчетом, не говоря уже о какофонии мыслителей, вопрошающих: куда, во имя каких целей, в соответствии с какими ценностями бестолково движется суетливое человечество? Но эта ирония не вызывает отчаяния. Как ни слаб тростник, мыслящий разум подобен острию рапиры, пусть споры о решении интеллектуальных дилемм нашего времени через столетия покажутся столь же интересными, сколь не имеющими значения, как нам сейчас кажутся богословские споры XVI в. в Европе.
Если рассматривать успех в целенаправленном использовании 1) природной; 2) общественной энергий как центральную тему новой истории, то Европа и Запад оказываются еще более в центре внимания, поскольку все важнейшие нововведения в технологии и общественной структуре, растревожившие человечество в течение XIX в. и в первой половине XX в., возникли в западном и во многих случаях именно в европейском контексте.
Здесь, как и в непосредственно предшествующих главах, кажется разумным сопоставить развитие Европы в более ранние времена с тем, что происходило на мировой сцене несколько десятилетий спустя. Новый режим, который потряс Европу после 1789 г., соединив французский политический и британский индустриальный опыт, придал новые формы и звучание быстро растущему Западу. Кроме того, экспансия Запада помогла решительно низвергнуть старые стили цивилизованной жизни в Азии около середины XIX в. Полных сто лет после этого незападный мир боролся за то, чтобы приспособить местное культурное наследие во всем его многообразии и богатстве к идеям и технике, пришедшим из Европы XIX в. Более новые типы интеллектуальных и нравственных дилемм, вырастающие из более новых типов социального и политического манипулирования и новой страны электронных, атомных и ракетостроительных чудес середины XX в., не стали действительно актуальными нигде за границами западного мира. Это не значит, что другие народы не подверглись воздействию таких изменений. Но это значит, что индусы, китайцы, мусульмане Среднего Востока — как и подавляющее большинство западного человечества — не стали той активной частью человечества, которая создавала новшества, обещавшие придать второй половине XX в. особый исторический характер.
Поэтому в данной главе будут проанализировано европейское и западное развитие с 1789 г. по 1917 г., при это изредка будем обращать внимание на события текущей истории Запада для убедительности выводов. Усилия будут направлены на то, чтобы распознать поворотные пункты в процессе культурного взаимодействия между западным и незападным миром до 1950 г. Однако 1950 г. не имеет какого-то особенного значения — он выбран просто арифметически. Будущие историки, возможно, предпочтут 1945 г. или более позднюю дату, когда попытаются разделить историю XX в. на ее наиболее значительные периоды.
Б. ЗАПАДНЫЙ ВЗРЫВ В 1789-1917 ГГ.
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ
Ко времени начала Великой французской революции в 1789 г. географические границы западной цивилизации можно было определить с приемлемой точностью. Но ко времени Русской революции 1917 г. ситуация изменилась. История Запада слилась с мировой историей, но одновременно та же судьба постигла и другие цивилизации, а также первобытные и протоцивилизованные сообщества — всех, кто составляет человечество.
В этом сплаве народы Запада имели большие преимущества над всеми другими. Твердая вера в ценность своих собственных унаследованных институтов, а также быстро растущая численность, наиболее мощное оружие в мире и наиболее развитая сеть транспорта и связи позволили представителям западной цивилизации легко преодолеть сопротивление других народов.
За несколько десятилетий европейцы заселили центр и запад Северной Америки, пампу и примыкающие регионы Южной Америки, большую часть Австралии, Новую Зеландию и Южную Африку. Одновременно в XIX в. происходило и расширение границ России в Сибири, Средней Азии и на Кавказе. Но политическое и экономическое проникновение Запада далеко превосходило географические рамки расселения европейцев. К 1914 г. почти вся Африка, Юго-Восточная Азия и Океания находились под политическим контролем европейцев. Новые плантации и шахты появились даже в местах, отдаленных от европейской или какой-либо иной цивилизации. Новые продукты, такие как чай и резина, никель и нефть, наряду со старыми, например золотом, лихорадочно добывали в джунглях, пустынях и арктической тундре, как и в более обжитых регионах. Даже для торговли пушниной XVIII в. нашлась аналогия в XIX в. в виде китобойного промысла — охотники на китов бороздили просторы всех океанов и тревожили первобытных обитателей далеких островов болезнями и безделушками так же, как торговцы пушниной раньше охотились в приполярных областях, тревожа зверей и местное население.
Эти движения людей и товаров вызвали огромные изменения в демографии и культурах мира. Ни природа, ни созданные человеком обстоятельства не могли больше противостоять распространению западной технологии и идеям нигде во всем обитаемом мире. Однако, несмотря на значение для мировой истории, географическое расширение западной цивилизации в XIX в., кажется, не имело критического значения для исторического развития самой Европы. Европейская история 1789-1917 гг. определялась промышленным капитализмом, основывавшимся на использовании природной энергии, и политической революцией, основанной на новом определении прав человека и его обязанностей. Оба фактора выросли из прошлого самой Европы, и ни их зарождение, ни развитие до 1917 г. не имело каких-либо внешних связей с другими цивилизациями, помимо косвенных.
Почти до наших дней — и возможно, даже сегодня — изменения в культурах, вызванные космополитическим смешением людей из различных регионов земного шара, развиваются в одном направлении: от Запада к незападному миру. В результате незападные традиции не внесли большого вклада в достижения современной высокой культуры и мысли. Конечно, убеждение в превосходстве собственной цивилизации наложило отпечаток на западные умы — убеждение, подкрепленное нарезными винтовками и канонерскими лодками — и сделало европейцев менее восприимчивыми к иноземным культурным влияниям и в том же смысле более ограниченными, чем их предки в XVIII в.[1094]
2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ
В XIX в. промышленный капитализм прошел две отдельные стадии, разделенные приблизительно 1870 г. Каждая имела определенную технологию и характерные организационные формы и идеалы. Первая стадия наиболее ярко проявилась в Великобритании, вторая была более географически размытой, поскольку и США, и Германия, но особенно Германия, служили первопроходцами и образцами для подражания.
ПЕРВАЯ, ИЛИ БРИТАНСКАЯ, СТАДИЯ. Технические аспекты первого этапа промышленной революции можно подсуммировать в двух словах — железо и уголь. Этот тип технологии достиг полного выражения к середине века, когда железные дороги, фабрики по переработке хлопка и сотни других новых или усовершенствованных машин и механизмов включились в работу. Большая выставка в Лондоне в 1851 г. не просто показала, но и стала символом технологических изменений, которые произошли в Великобритании к этому времени.
Использование угля и железа для промышленности, так же как и для потребностей домашнего хозяйства, вовсе не было новым для Англии XIX в. Томас Ньюкомен использовал уголь как топливо для двигателя в 1712 г., а железо уже в течение трех тысяч лет было обычным материалом для изготовления орудий. Новаторство состояло в масштабах, в которых стали использоваться эти материалы. Были найдены неисчислимые новые способы применения силы пара в железных механизмах. Деревянные ткацкие станки и вращающиеся колеса, приводящиеся в движение мускульной силой человека и разбросанные по сельским домикам, имели мало сходства со стальными шпульками и десятками приводимых в действие паром ткацких станков, сконцентрированных на хлопчатобумажных фабриках ранней викторианской Англии. Но в результате производились более дешевые и более качественные изделия, чем те, которые можно было получить, используя ручной труд. Почти такие же радикальные изменения в других традиционных отраслях — металлургии или печатании, возрастание числа новых профессий, например заводских или железнодорожных инженеров, глубоко внедрило новые технологии в ткань британского общества к 1850 г.
К этому времени несколько мыслителей (Анри Сен-Симон, ум. 1825; Огюст Конт, ум. 1857; Роберт Оуэн, ум. 1858) попытались представить возможности будущей экономики изобилия, в которой массовое применение неодушевленных сил в индустриальных процессах положило бы конец нищете. Однако большинство продолжало считать, что бедность неискоренима и что любое увеличение количества товаров будет быстро поглощено растущим числом членов общества. Конечно, население Великобритании в XIX в. росло стремительными темпами, и через двадцать лет после 1801 г. возросло почти на 34%. А за столетие в целом население Британии возросло с приблизительно 10 млн. в 1801 г. до 37 млн. в 1901 г.[1095]
С точки зрения 1960-х гг., все изменения в промышленности, которые начались в Англии приблизительно 200 лет назад и достигли огромных размеров немногим более чем за столетие, вызвали перемены в экономической и социальной жизни человечества, сравнимые по важности с временами неолита, когда человек перешел от охотничьего образа жизни к сельскому хозяйству и одомашниванию животных. Во времена неолита целенаправленная сельскохозяйственная деятельность изменила природную среду, в несколько раз увеличив количество добываемой пищи и доступных человечеству источников энергии, что вызвало радикальное увеличение населения и сделало возможным концентрацию сравнительно большого числа людей в городах, где профессиональная специализация дала ремесла, науку и блага цивилизованной жизни. В течение всей письменной истории (с глубокой древности и до наших дней) подавляющее большинство живших людей проводили свою жизнь в устоявшемся порядке ежедневного и ежегодного возделывания земли, страдая от капризов погоды и стихийных бедствий, войн и эпидемий и покоряясь прямой зависимости между урожаем и тяжелой работой на полях.
Современная промышленность еще может установить довольно устойчивую систему, в пределах которой большинство человечества будет существовать в обозримом будущем, но социальные, политические и культурные возможности, свойственные таким изменениям, в ритме и заведенном порядке человеческой жизни еще окончательно не установились и могут быть предметом изучения. Следовательно, трудно преувеличить исторические последствия передовых работ маленького круга инженеров, изобретателей и тех, кто способствовал их деятельности в нескольких провинциальных городах Великобритании в конце XVIII — начале XIX вв.
Тем не менее очень легко преувеличить важность институциональных и интеллектуальных достижений, которые составили атмосферу британской промышленной революции. Возможно, такие метафизические понятия, как «пуританская этика», «нонконформистское сознание» и «дух капитализма», были необходимыми составляющими элементами для начала промышленной революции. Но в Венгрии, например, ни кальвинизм, ни нонконформизм не вызвали индустриальных последствий. Великобритания была счастливой обладательницей залежей угля и железных руд, трудовых ресурсов, которые могли легко воспринять новый порядок труда, а также опиралась на изобретателей и предпринимателей, стремившихся развивать новые идеи и способных добывать деньги для того, чтобы вкладывать их в новые машины и виды производства.
Незарегулированность отношений в структуре британского общества, возможно, стимулировала возникновение новшеств и позволила Великобритании занять лидирующее положение среди других наций на первой стадии современного индустриализма. Эта ситуация была унаследована от того парламента, который возмущенно разрушил абсолютизм Стюартов в середине XVII в. Но в 1756-1815 гг. лишь трудности ведения войны с Францией могли обеспокоить архаичный парламент английского Старого режима[1096]. Резкие изменения в морской торговле, зависящие от легко меняющегося местонахождения военно-морских сил, резкие изменения в указаниях правительства о выделении денег для постоянно растущих потребностей все усложняющихся средств ведения войны[1097] и драматические изменения в количестве денег в экономике и уровне цен ослабляли традиционное противодействие экономическим новшествам. В таких условиях финансовый успех удачливого или искусного дельца мог быть настолько велик, что сотни других амбициозных или жадных соперников стремились превзойти его достижение[1098]. Вполне возможно, что в более регламентируемом обществе более энергичный официальный контроль частной инициативы и спекуляций на военных нуждах воспрепятствовал бы такой быстрой трансформации британской промышленности, которая происходила в конце XVIII — начале XIX вв.
Но никакой перечень общих условий не может учесть все изменения в делах человека. Разные люди, стремясь к разным целям, принимали решения и действовали по-разному, и все это в итоге изменило жизнь в Англии. Гордость своим мастерством и желание заслужить уважение коллег-механиков уже сами по себе могли быть достаточным стимулом для изобретательства так же, как в других случаях стремление заработать деньги. Человек, которые терпеливо обрабатывал металл напильником, стремясь усадить гайку легко и плотно, полагаясь при этом на свое мастерство и наметанный глаз, был так же необходим для успеха нового механического оборудования, как и капиталист, который заказывал новые машины и платил тем, кто работал на них. Изобретатель же, если он не был одновременно и капиталистом, как, например, Джеймс Ватт, зависел от сотрудничества с механиком и капиталистом, пока его идея не воплощалась в движущемся металле.
В любом обсуждении институционных нововведений раннего промышленного капитализма очень важно учитывать то, что старые порядки британского общества, хотя и изменились под напором технических нововведений, не желали уступать своих позиций[1099]. Тот факт, что ранний промышленный капитализм появился и расцвел в структуре учреждений, которая была одновременно торговой и сельскохозяйственной, аристократической и парламентской, островной и индивидуалистической, не доказывает, что учреждения такого типа породили революцию. Предположение о необходимой взаимосвязи между ростом промышленности и взаимоотношениями, специфическими для Британии (а также впоследствии для Западной Европы и Северной Америки), является общей ошибкой догматиков-марксистов, либералов XIX в. и консерваторов XX в.
Тем не менее это предположение считалось правдоподобным до приблизительно 1870 г., когда пальма индустриального мирового первенства стала переходить от Великобритании к Германии и Соединенным Штатам Америки. Адам Смит (ум. 1790) и схоже с ним мыслящие философы создали тщательно разработанную и выразительную теорию, показывающую, как рациональные действия свободно мыслящих личностей в процессе купли-продажи приводят к максимальному удовлетворению человеческих потребностей. И поскольку британские учреждения предоставляли наиболее широкий простор именно для такого личного стремления к удовлетворению частного интереса, можно сделать заключение о том, что бурный промышленный прогресс в Британии напрямую обязан рациональности британских законов в сочетании с рыночной свободой личности. Эта философия свободного рынка стала основополагающей идеей либеральной идеологии в середине XIX в. и во многих европейских странах была лозунгом, объединявшим всех, кто боролся против законодательств и любых причин, препятствующих развитию промышленности в их странах.
Однако даже в XIX в. факты не соответствовали такой теории. Технология быстро обогнала либеральные государственные структуры и нашла убежище в совершенно иных типах общества. Индустриализация Японии служит наиболее поразительным примером, но даже в западном мире рост промышленности в Германии после 1870 г. и в России двумя или тремя десятилетиями позже облачил в доспехи современной индустриальной технологии общества, где либеральные традиции были слабы или политически незначительны. Кроме того, промышленность расцветала под присмотром правительства и чиновников корпораций, чей интерес в успехах предприятия, если его измерять персональным обогащением через долю в доходах, был часто незначительным или вовсе отсутствовал.
Более того, в то время как промышленность Германии и России развивалась все быстрее, британские капитаны промышленности были не прочь почивать на лаврах. Сыновья преуспевающих промышленников хотели вести образ жизни, характерный для праздного класса помещиков. Хозяева, стремившиеся к светской жизни, часто не желали вкладывать большие деньги в новое оборудование — зачем вмешиваться в то, что и так хорошо работает? К тому же претензии на знатность требовали отказа от активного ежедневного управления фабрикой или заводом, требовали дома в Лондоне или хотя бы в Манчестере, а если возможно, и загородного дома, вдали от заводской грязи и грохота. Все это неизбежно и очень сильно расширяло пропасть между владельцами и рабочими. Плодотворное в технологическом отношении сотрудничество между предпринимателями и наемными рабочими в ранних более скромных мастерских постепенно исчезало. Все еще имелись гениальные механики, но мало кто из них стремился, чтобы его изобретения использовали для обогащения социально далеких капиталистов, особенно если из-за этого могут выгнать на улицу товарищей по работе.
Второй причиной утраты Британией лидерства в промышленности было отсутствие продуманной и систематической связи между теоретической наукой и технологическими изобретениями[1100]. Конечно, иногда, когда возникали специфические трудности, промышленники советовались с учеными-теоретиками. Так шахтовладельцы уполномочили сэра Гемфри Дэви в 1815 г. изобрести безопасную лампу для угольных шахт, а профессор естествознания Чарлз Уитстон стал партнером в первой достигшей успеха Британской телеграфной компании (1837 г.), потому что предприниматели нуждались в его знаниях об электромагнетизме[1101]. В следующем поколении лорд Кельвин, профессор университета в Глазго, решил проблему передачи трансокеанских телеграфных сообщений, а также изобрел компас, который мог работать на новых железных кораблях, строившихся на верфях Глазго[1102]. Но такое сотрудничество между научной теорией и технологической практикой оставалось случайным, и очень часто срочные дела внезапно прерывали обоюдное соглашение, как только специфическая проблема была решена.
Фундаментальное восприятие индустриального процесса отличалось статичностью. Как рабочие, так и владельцы считали, что как только новая технология опробована — построено оборудование, технологические навыки освоены, рынок для конечного продукта установлен, — значит, дальше процесс может протекать без значительных изменений. Но факты никогда не соответствовали такому идеалу. В самом начале, когда начальные капитальные вложения были еще малы, соперник, вооруженный новым патентом на улучшенное оборудование, мог легко разрушить сложившуюся на рынке ситуацию путем снижения затрат и цен, и грубая встряска экономических кризисов способствовала удалению с рынка технически устаревших предприятий.
Итак, вопреки всем существующим противоречиям британские промышленники и рабочие ожидали стабильности или надеялись на нее. По мере того как возрастающая сложность оборудования и развитие производственных процессов увеличивали стоимость начальных капитальных вложений, беспокойство, вызванное внутренней конкуренцией, шло на убыль, но конкуренция с зарубежными промышленниками в конце концов оказалась не менее тревожной[1103]. Идея о том, что технический прогресс является непрерывным, не нашла отклика среди людей, занимавшихся решением практических вопросов в Британии. Им было трудно поверить, что совершенные, прекрасно работающие машины могут устареть. Парадоксальная мысль, что компания должна увеличивать свои текущие затраты, финансируя исследования и разработки, направленные именно на улучшение производственного процесса на собственных заводах, утвердилась в Британии лишь с трудом и только в некоторых отраслях перед Первой мировой войной.
Британская мощь и национальное богатство, возможно, пострадали из-за таких социальных и морально-интеллектуальных помех технологическому прогрессу. С другой точки зрения, эта зарождавшаяся (и неудавшаяся) стабилизация промышленного капитализма подтвердила силу и приспособляемость старых моделей британского общества. Успешные капиталисты и ученые ассимилировали традиционные взгляды и манеры высших классов, в то время как рабочие на другом конце социального спектра показали гораздо большую оригинальность, создавая удовлетворяющую их требованиям моральную вселенную вокруг новых учреждений, таких как пабы, профессиональные союзы, методистская церковь.
Если бы Британия полностью оказалась предоставленной самой себе, чрезвычайный взрыв изобретательства и технологических изменений, который достиг пика в первой половине XIX в., сошел бы на нет, сменившись медленной технической эволюцией. Но Британия не была предоставлена самой себе, наоборот, промышленный капитализм, взаимодействуя с различными учреждениями в других странах, потребовал второго, даже более мощного чем первый, импульса для своего развития, и Британия была вынуждена приспосабливаться к сложившимся условиям.
ВТОРАЯ, ИЛИ ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКАЯ, СТАДИЯ (ДО 1917 г.). Технологии второй фазы промышленного капитализма нового времени использовали более разнообразные материалы и искали новые источники и формы энергии, хотя главенствующее положение угля и железа нерушимо сохранялось вплоть до начала Первой мировой войны. Особенности, вносимые электротехнической, химической, нефтеперерабатывающей промышленностями, цветной металлургией, а также столь различающимися их изделиями, как автомобили, радио, самолеты, синтетический текстиль, только начинали оформляться. Но роль железа и угля начала меняться. Оказалось, что уголь можно использовать не только как простое топливо — смолы, получаемые при его перегонке, можно было превратить в такие разные продукты, как аспирин, краски, взрывчатку. Фундаментальные изменения коснулись также использования железа — после изобретения Бессемером конвертера (1856 г.) стало возможным в массовых количествах получать сталь. Сама сталь, будучи химической смесью железа, углерода и других элементов, могла быть бесконечно разнообразной по своим качествам. Химики и металлурги открыли, что минимальное изменение составляющих и их соотношения меняет свойства стали, и перед ними встала необходимость стандартизировать и точно контролировать качество своей продукции — твердость, устойчивость к ржавчине, гибкость. Сам термин «сталь» стал собирательным для различных типов металлов для специфического использования. Итак, хотя железо и уголь все еще занимали главенствующее положение среди промышленных материалов в 1870-1917 гг., к концу этого периода химики и металлурги превратили их в комплекс совершенно новых веществ.
Получение специальных сталей и производных угольных смол может служить примером общего направления в технологии конца XIX в. Новое использование угля и железа облегчалось и тем, что свойства получаемых из них продуктов и их изменение можно было контролировать на молекулярном и субмолекулярном уровне. Химики вырвались в первые ряды технологического прогресса, превратив промышленных инженеров в своих подручных[1104], и диапазон старой технологии, сосредоточенной на макроматериальных манипуляциях, выполняемых железными машинами, был намного расширен поразительной миниатюризацией природных сил, используемых в промышленном производстве. Осознанные действия с молекулами, атомами и (в случае с электричеством) элементарными частицами вывели технологию на качественно новый уровень, где оказалось возможным контролировать как материю, так и энергию. Заменив использование пара в качестве движущей силы, электричество смогло приводить в движение множество разнообразных машин, к которым обычные передаточные шестерни даже не могли подступиться. Если стационарный паровой двигатель с громоздкими шатунами, клапанами, грохочущими движущимися частями и клубами пара и дыма был механическим архетипом первой стадии современного индустриализма, «машина», в которой причина действия не улавливалась чувствами человека — радио, трансформатор, электролитическая ванна, фотопластинка или электрическая печь, — стала символом второй стадии.
Конечно, новые технологии не заменили полностью более старые процессы, как когда-то паровой двигатель заменил мускульную силу животных и человека. Новые достижения в давно знакомых технологиях иногда имели большое значение. Увеличение размеров домен, локомотивов, пароходов, печатных прессов имело важные последствия для экономики, а изобретение автомобилей и аэропланов ознаменовало изменение человеческого общества, сравнимое с тем, которое принесли железные дороги. Но эти улучшения, хоть и такие явные и впечатляющие, скорее явились исполнением обещаний первой стадии промышленного капитализма, чем вехами второй стадии — стадии, которая продолжается и в 1960 г.
* * *
Социальная организация и основные идеалы промышленной организации в Соединенных Штатах перед Первой мировой войной во многом сходны с таковыми в Англии. США восприняли многие особенности британского общества, будучи при этом даже более замкнуты, вверяя чиновникам минимальные экономические и социальные функции и без явной, по крайне мере на севере, дифференциации социальных классов. Задолго до Американской революции финансовая изобретательность и рыночная смекалка были прочно усвоены в Новой Англии и штатах среднего Атлантического побережья, а механическая изобретательность янки не имела равных в мире. В таком обществе промышленный капитализм нового времени легко пустил корни, особенно когда железные дороги и речная навигация сделали доступными богатые залежи угля и железа в Пенсильвании и других внутренних регионах. Огромные природные ресурсы Соединенных Штатов и сравнительно малочисленное, но быстро растущее население обусловили сохранение до Первой мировой войны, и даже после, атмосферы бума, очень похожей на ту, которая существовала в Англии в 1790-1850 гг. Более того, индивидуалистические идеалы и практичность американских промышленников очень напоминали ранние этапы викторианской эпохи, покрывая легким налетом общественной благопристойности грубую реальность заводской жизни. Карьеры механиков и предпринимателей, таких как Томас Эдисон (ум. 1931) и Генри Форд (ум. 1947), повторяли судьбы Ричарда Аркрайта (ум. 1792) и Джеймса Уатта (ум. 1819) при больших финансовых возможностях и больших масштабах рынка как по числу участников, так и по географическому размаху.
Индустриализация Соединенных Штатов была значительно ускорена многочисленным и разнообразным потоком иммигрантов. К 1914 г. американский народ стал этнической лигой наций с преобладанием европейских элементов, включением негритянского меньшинства и, по крайней мере символическим, представительством всех других больших ветвей человечества. Культурное многообразие этой смеси добавило своеобразные черты к общественному и психологическому напряжению перехода от сельской жизни к городской в период индустриализации. Американское решение этого вопроса основывалось на подчеркивании английского культурного наследия и политических прецедентов, затушевав, по крайней мере на несколько десятилетий, разнообразие, которое принесли с собой иммигранты, и создав сравнительно гибкую основу, на которой могли взаимодействовать культурные различия разных слоев населения.
Индустриализация Соединенных Штатов отличалась от своего британского прототипа также тем, что здесь корпорации быстро стали обычной формой организации для бизнесменов. Для американских корпораций было характерно превращение в частные бюрократии, когда власть принадлежала скорее чиновникам-руководителям, чем собственникам, что ярко отличало такие корпорации от строгого индивидуализма, преобладавшего в Британии на первой стадии промышленного капитализма. Государственное регулирование частного бизнеса также показало, что мощные компании, такие как «Стандарт Ойл» Джона Рокфеллера, иногда перерастают размеры, допустимые для частной собственности даже в Соединенных Штатах. Но эти тенденции получили более полное развитие в Германии, где традиции прусского правительства заметно влияли на ход экономической жизни и где простые люди воспринимали государственных чиновников не как боровов, кормящихся за счет налогов, а как представителей трансцендентного явления, государства, в котором — по крайней мере в принципе, если не фактически, -частные интересы подчинены общему благу.
* * *
Индустриальное развитие Германии было очень похожим на процессы, происходившие в это время в Соединенных Штатах, частично потому, что обеим странам потребовались железные дороги, чтобы сделать доступными свои минеральные богатства, ранее отрезанные от переработки трудностями транспортировки из внутренних областей. Но относительно жесткая классовая система в Германии, мощное и популярное, почти мистическое, восприятие государства, превосходство германского образования, широкое распространение ремесленников, организованных в цеха, — все это гарантировало, что современная индустрия в Германии будет иметь моральный и социальный характер, отличный от такового в США и Англии.
Наиболее важным немецким новшеством было введение хорошо продуманного, сознательного управления процессом индустриализации. Это управление осуществлялось по трем различным направлениям, которые можно обозначить следующим образом: 1) техническое; 2) финансовое; 3) воспитание нового человека.
1. В сфере техники немцы ввели изобретательство в организационные рамки, сделав его структурированным, предсказуемым, повседневным. Крупная немецкая промышленность вышла на сцену, когда результаты химиков стали совпадать с теоретическим пониманием объекта их деятельности и помогли утверждению мнения о том, что технику можно бесконечно улучшать. Несомненно, немецкие химические и электрические компании были пионерами в создании промышленных исследовательских лабораторий, где работали получившие университетское образование специалисты, чьи исследования и эксперименты воспринимались не как результат деятельности вспомогательного подразделения, а как постоянная составляющая предприятия. Итак, несколько немецких корпораций институировали технические изобретения путем установления надежной связи между академической наукой и обычным фабричным производством. Вознаграждением стало мировое лидерство немецкой химической и электротехнической промышленности.
2. В финансовой области немецкое правительство установило зону продуманного управления, ограничений и контроля над рынком, который, как считалось, направлялся решениями британских промышленников. Итак, тарифы, и прежде всего точные тарифы на железных дорогах, использовали для поддержки отдельных предприятий и оборонной промышленности. До, но особенно после 1866 г., когда Пруссия впервые продемонстрировала, как достигнуть внезапного стратегического превосходства быстрой переброской войск, стали обращать внимание на потенциальное военное использование железных дорог. Необходимость быстрого развертывания войск вдоль границ стала важнее любой финансовой выгоды при определении направлений строительства новых железных дорог. Такое вмешательство в рыночные отношения позволило Германии не только добиться значительных военных преимуществ, но и после 1879 г., когда государство выкупило железные дороги у частных владельцев, развить необычайно эффективную транспортную сеть.
Правительственные агенты были не просто чиновниками, контролирующими развитие немецкой промышленности. При содействии государства возникло примерно полдюжины частных бюрократий, которые оказывали чрезвычайно большое влияние на рост немецкой экономики. Эти «частные» иерархии назывались банками. Их власть возрастала, поскольку они финансировали немецкую индустрию, предоставляя ей долговременные займы в размерах, которые британские банкиры, неохотно вкладывающие деньги в машиностроение и строительство, отказывались предоставлять. Возможность получения таких займов сильно ускорила подъем немецкой промышленности после 1870 г. Но существовала и другая сторона этой медали — банки настаивали на праве голоса в финансируемых предприятиях. Это право обеспечивалось главным образом введением представителя банка в состав правления предприятия. Когда банк установил такой начальный симбиоз с различными индустриями и с многочисленными предприятиями, независимость отдельных фирм превратилась в фикцию. Точка зрения банкира национального или даже международного масштаба определяла решения управляющих.
Картели стали характерным выражением немецкого способа управления промышленностью, в котором главенствующую роль играли крупные банки. Главной целью картеля был контроль над ресурсами и отпускными ценами определенных групп товаров с целью увеличить прибыль для индустрии в целом и минимизировать колебания в потоке товаров и обслуживания. Было обычным явлением, когда устанавливалось соглашение о разделе рынка между всеми членами картеля, определяющее долю торгового участия и цены, так что часто один и тот же товар предлагали разным категориям покупателей по разным ценам. Детали варьировались в зависимости от рода промышленности, и в случае невозможности стандартизации продукта принцип картеля обычно не использовался. Но в угольной, стальной промышленностях и других ведущих отраслях немецкие картели действовали со все возрастающим успехом.
Через картели немецкие финансовые и промышленные управляющие контролировали рынок (в определенных пределах), вместо того чтобы подчиняться ему. На первой стадии промышленного капитализма просто считалось, что колебания цен — естественное явление рынка, активность предприятий подстраивалась в зависимости от его роста или спада, подобно тому, как крестьяне испокон веков действуют в зависимости от погоды. Немецкие картели, конечно, также зависели от изменений на мировом рынке в годы, предшествующие Первой мировой войне[1105], но введением планирования выпуска продукции и некоторой жесткости цен они достигли прежде недоступного контроля над финансовым климатом.
 ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
3. Даже в Германии перед 1914 г. прогресс в воспитании нового человека был неровным. Тем не менее система немецких технических и профессиональных школ подготавливала людей более эффективно, чем любые другие в мире; да и законы социального страхования Бисмарка также ввели новый элемент целевого управления в миллионы человеческих жизней. Более того, теневые манипуляции Бисмарка средствами массовой информации также были вступительным шагом к контролированию мыслей, столь широко распространенному в наши дни.
Более важным, чем эти робкие первые шаги, в общенациональном масштабе было то, что владельцы-предприниматели быстро сдали позиции прослойке профессиональных управленцев, которые не только руководили заводами, фирмами, картелями и банками с уникальной эффективностью, но и определяли условия собственного существования, создав управленческую элиту со строгой внутренней дисциплиной и чувством локтя, совершенно отличными от индивидуалистического и ничем не прикрытого стремления к деньгам, характерного для британских бизнесменов начала XIX в. Члены немецкой промышленной и коммерческой элиты распределяли сами себя в аккуратную бюрократическую иерархию и вознаграждались за успехи и верность духу своей касты продвижением на высшие посты с расширением власти. Деньги сами по себе — награда и мера успеха на рынке — часто имели меньшее значение для таких людей, чем их ранг в обществе бизнеса.
Довольно узкая олигархия набирала своих членов из наиболее способных и дисциплинированных кандидатов путем продвижения их по службе под строгим контролем в течение всей жизни и этим очень напоминала пирамиду государственной бюрократии. Поэтому на деле промышленная и правительственная бюрократии частично перекрывали друг друга. В Германии государственные чиновники руководили железными дорогами, шахтами, телеграфом и телефоном, но в то же время доброжелательность государственных чиновников наиболее ярко проявлялась по отношению к частным корпорациям и достигала кульминации в активном и тесном сотрудничестве ключевых промышленных поставщиков с прусским генеральным штабом.
Воистину впечатляющие достижения технологий управления людьми в XIX в. сконцентрировались в военной сфере — и здесь бросалось в глаза немецкое лидерство. В посленаполеоновский период Пруссия была первым из европейских государств, которое сделало военное обучение (по крайней мере в принципе) обычным в мирное время, и успехи, которых добились прусские солдаты-резервисты, действующие во время войны по планам, предварительно разработанным офицерами, удивили всю Европу. После побед Пруссии над Австрией в 1866 г. и над Францией в 1870-1871 гг. все континентальные власти Европы поспешили последовать прусскому примеру. В результате первые недели Первой мировой войны представили удивительное зрелище огромных человеческих машин, состоящих из взаимозаменяемых частей, действующих совершенно нечеловеческим образом и двигающихся в соответствии с предрешенными и неотвратимыми планами. Миллионы людей, составлявших соперничающие машины, поступали так, как будто они потеряли разум и свободу воли. В результате в августе 1914 г. десятки тысячи человек встретили свою смерть, ликуя и уйдя от реальности в автоматизм сомнамбулического героизма.
Последующие годы войны принесли гигантское слияние различных элементов германского общества, так энергично расширявшего рамки сознательного контроля над социальным действием. К 1917 г. после трех лет войны различные группы и элементы бюрократической иерархии, которые в мирное время действовали независимо друг от друга, оказались подчинены одному (и возможно, наиболее эффективному) из них — генеральному шта6у. Офицеры контролировали гражданских чиновников, персонал банков, картелей, фирм и фабрик, инженеров и ученых, рабочих, фермеров — любой элемент немецкого общества. И все усилия, не только в теории, но и на практике, были направлены на достижение победы в войне.
К 1917 г. карточная система и военные нужды заменили рыночные цены в качестве регуляторов распределения всех товаров первой необходимости. Расчеты потребностей в рабочей силе, сырье, транспорте и энергии преобладали над финансовыми контролем и расчетами. Научный талант также был мобилизован: например, для решения такой срочной программы, как фиксация атмосферного азота, без которого Германия не могла производить ни взрывчатые вещества, ни удобрения. Военная организация имперской Германии также распространилась, хотя и не так совершенно, на территории союзников или стран, завоеванных немецкими войсками. Концентрация мощи государства во имя целей государства таким образом превратилась, в рамках, поставленных австрийской расхлябанностью, бельгийской замкнутостью и балканской отсталостью, в международный тоталитаризм. Во время Первой мировой войны немцы быстро превзошли все другие нации в достижении максимальной концентрации и нивелирования человеческих и механических ресурсов для военных целей. Поражение в 1918 г. повлекло демонтаж военно-административной машины, которая была сердцем комплекса власти. Однако открытие возможностей того, чего могут достигнуть решительные, беспощадные и умные люди, вдохновленные корпоративной солидарностью и организованные в жесткую иерархию власти, намеренные сконцентрировать энергию и ресурсы всей нации на достижении целей правящей клики, не давало покоя одним, вдохновляло честолюбие других и означало наступление новой эры в мировой истории[1106].
Каждая западная нация имела свои нюансы в типе индустриализации, как и во всем другом. Как британские прецеденты и модели по-разному принимали на континенте в первой половине XIX в., так и немецкая модель более позднего периода этого столетия видоизменялась в зависимости от местных традиций, навыков, ресурсов и соревновалась с различными моделями, прелагаемыми Британией и/или Францией в Восточной и Южной Европе в начальной фазе промышленного капитализма. Но в 1917 г. промышленный капитализм лишь начал пускать корни за пределами Западной Европы и северо-востока Соединенных Штатов. Несмотря на значительное влияние на народы земного шара, промышленный капитализм был все еще экзотическим местным ростком, когда Первая мировая война грубо вдребезги разбила Новый режим Европы.
3. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В 1789 г. французские Генеральные штаты, преобразовавшись в Национальное собрание, провозгласили права человека и ввели эти права в новую конституцию. В связи с этим демократическая революция, впервые нашедшая свое заметное выражение в британских колониях в Северной Америке, перенеслась через Атлантику и под звуки фанфар укоренилась в самом сердце Европы. За фанфарами первых дней последовали более чем 20 лет салютов и фейерверков, в результате которых идеи революции распространились почти по всей Европе, а также воспламенили Южную Америку. Вплоть до Первой мировой войны перед европейскими политиками стоял вопрос, как приспособить унаследованное политическое разнообразие к идеям, недавно открытым во Франции, т.е. как секуляризировать, рационализировать и реформировать существующие учреждения в свете демократических принципов.[1107]
Сама Французская революция была соткана из противоречий. Не говоря уже о неизбежных компромиссах на практике, революционная теория, подытоженная в лозунге «Свобода, равенство, братство», была пронизана неоднозначностью. Но неоднозначность была и есть сутью всех хороших политических лозунгов, позволяя людям с различными точками зрения сплотиться, вопреки различиям, для активных действий. В этом отношении революционное движение во Франции вобрало в себя такие же многообразные человеческие мотивы, как и любые более ранние потрясения европейской истории, в том числе Реформация.
«Свобода» прежде всего может означать право большинства преодолеть все преграды своим желаниям. Благодаря несложному парадоксу «свобода» может означать даже право клики просвещать народ, используя обычные инструменты призывов и угроз, а при необходимости открыто прибегать к насилию для убеждения сомневающихся и искоренения врагов, сеющих в народе яд обмана. Но «свобода» могла значить и прямо противоположное -право личности совершать все, что она желает в самых широких пределах практически выполнимого, даже если его поведение неприятно или оскорбительно для большинства. Короче говоря, «свобода» могла означать как радикальное распространение, так и жесткое ограничение правительственной власти, и это слово регулярно вовлекалось в полемику для оправдания как той, так и другой политики.
«Равенство» и «братство» также включали в себя заметные противоречия. Значит ли «равенство» — равенство всех перед законом, так что все должны платить одни и те же налоги, соблюдать одинаковые ограничения и пользоваться одинаковыми свободами? Если так, действительно ли богатый человек равен бедному и голодному, готовому продать свое право первородства за пищу? Или настоящее равенство также требует уравнивания экономического статуса и перераспределения собственности? И будут ли богачи после революции равны перед законом, или они будут врагами народа, которых необходимо подавлять специальным законодательством? Что касается «братства», то все ли люди братья или только французы? Или, может быть, только правильно мыслящие люди — братья в окружении невежественных или замышляющих зло врагов? Или братьями являются только добродетельные и правильно мыслящие французы, тогда как даже разделяющие их убеждения представители других народов не могут быть членами братства? Эти метания были присущи Французской революции изначально и проявились более-менее ясно в ходе революционной борьбы, когда в рядах революционеров то и дело происходило дробление на фракции.
Нет необходимости подробно описывать здесь перипетии партийной борьбы и меняющихся коалиций как в самой Франции, так и за ее пределами во время революции. Достаточно сказать, что после краха конституции, написанной Национальной ассамблеей, и вспышки непримиримой вражды между революционной Францией и консервативными Пруссией и Австрией (1792 г.) развитие событий стало быстро приближаться к точке кризиса. К 1794 г. успехи на полях сражений спасли Францию от иноземного завоевания. Но военный триумф на фоне растущего замешательства и идеологического смятения открыл дорогу честолюбивым устремлениям Наполеона Бонапарта, который захватил власть в 1799 г. и правил Францией самодержавно, пока коалиция европейских государств не победила и не свергла его в 1814-1815 гг.
Итак, революция привела не к народному и республиканскому правлению, а к военной диктатуре, за которой последовало восстановление монархии. Хотя поток событий обусловил печальное крушение всех радужных надежд революционных партий, все-таки многие из них сбылись. Массовая отмена феодальных прав, распределение земель бывших владельцев путем конфискации, распродажа собственности церкви и знати сделали Францию XIX в. нацией фермеров. Перераспределение земли оказалось фундаментальным в том смысле, что стабилизировало французское общество и сделало революцию необратимой. Но практичные крестьяне[1108], хозяева своей земли, жен и детей, погрузившиеся в такие практические важные дела, как цены на пшеницу и определение размеров приданого дочери, были только частью революционных изменений. Городская жизнь с подавлением цехов и других древних узаконенных корпораций и монополий также изменилась. Само изменение управления государством и взаимоотношений между государством и отдельной личностью охватило жизнь как города, так и деревни и может быть упомянуто как наиболее важные достижения Французской революции.
Изменения в сфере политики находились в самом сердце революционных надежд. Они состояли в попытке создать правительство, приличествующее великому и свободному народу, миллионы которого сражались за свою революцию, погибая сотнями тысяч — по крайней мере так утверждали вожди революции. Жонглирование конституционными нормами, которое отмечает всю историю Франции 1790-1815 гг., подтвердило на практике и без всякого сомнения то, что раньше было лишь радикальной теорией: правительства действительно созданы не Богом или природой, а просто людьми. Конечно, консерваторы и либералы резко разошлись во мнении относительно того, доказали ли революционные опыты с конституцией, что созданное людьми правительство может служить людям лучше, чем Старый режим. Но было неоспоримым, что французы добились успехов сначала во время Республики, а затем под руководством Наполеона в мобилизации немыслимой энергии, обратив ее на служение национальному государству. Этот аспект Французской революции сделал из нее могучего близнеца промышленной революции, так как очень сильно повысил уровень возможностей для народов и правительств Запада.
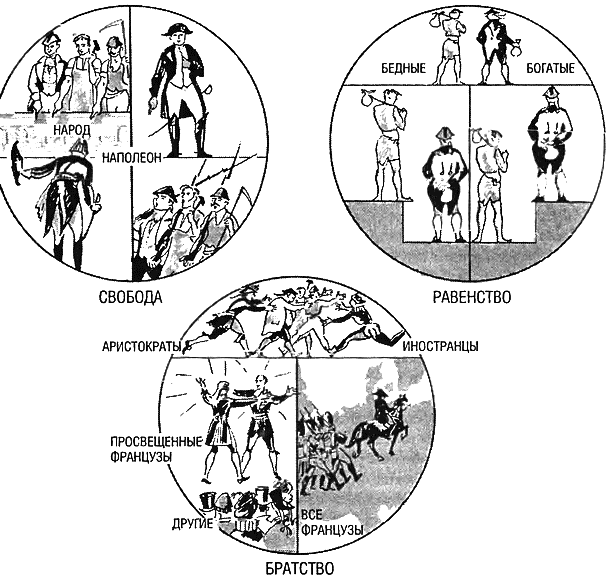 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Рассматриваемая в таком свете Французская революция выглядит удивительно похожей на восстановление движения к централизации и консолидации, характерного для французской монархии в средние века. Но революционеры действовали во имя нового и совершенно абсолютного монарха — народа. Теория, открыто провозгласившая верховенство прав и достоинства простого народа с улиц или полей — и в некоторой мере осуществившая это, -также дала суверенному народу возможность требовать через своих официальных представителей нового служения и величайших жертв от отдельных представителей этого самого народа. Люди — граждане и хозяева своих собственных прав, переставшие быть слугами короля и знати, — стали прямо ответственны за судьбу государства. Любому увальню, который не признавал своих обязанностей, можно было напомнить о них. Упрямцев можно было даже принудить к свободе силой.
Итак, революционное французское правительство, вооруженное демократической теорией и пришпоренное острой нуждой в деньгах, товарах, людях, не задумываясь, преодолевало привычные сдержки и противовесы, уравновешивающие абсолютную монархию во Франции во времена Старого режима. Ранее неоспоримые привилегии, права и иммунитеты были отброшены прочь головокружительной ночью 4 августа 1789 г. и никогда более не были восстановлены. Вскоре олигархические городские и аристократические провинциальные правительства вместе с запутанным клубком квазиправительственных столоначальников рассыпались, словно сами по себе, и были заменены сперва стихийными чрезвычайными комитетами, а в конце концов искусно подогнанной, рационализированной, унифицированной и прежде всего централизованной бюрократической администрацией.
Из всех корпоративных учреждений и привилегированных групп, которые выступали посредниками между центральной властью и личностью при Старом режиме, только церковь эффективно противостояла узурпаторству революционного правительства. Церковь потеряла свою земельную собственность (1790 г.), и взамен священники стали получать государственное жалование. Но это не сделало церковь ветвью правительственной бюрократии — власть священников и епископов не проистекала ни из верховной власти народа, ни из государства, а лишь из ее апостольского преемства. Радикальные попытки вытеснить христианство путем создания религии разума потерпели полную неудачу, и усилия правительства по демократизации церкви путем назначения на религиозные посты кандидатов в соответствии с желанием народа, выраженном через свободные выборы, не имели успеха. Гражданская конституция духовенства, которая стала законом в 1790 г., пробила во французском обществе трещину, существующую до сих пор. Те, кто отвергал, и те, кто поддерживал усилия сделать церковь более близкой демократическим принципам, оказались неспособными прийти к согласию. Каждая сторона вызывала сильные чувства, оправдываемые интеллектуально цельными, но совершенно несовместимыми теориями.
Конкордат 1801 г., которым Наполеон заключил мир с папством, не смог соединить края этой раны. Непосредственно в посленаполеоновский период римская церковь везде стала оплотом реакции, соперничая в последовательном консерватизме только с государственными протестантскими церквами. Тем не менее во время демократической революции была достигнута некая разновидность победы даже над клерикальными реакционерами. В большинстве стран католической Европы еще до конца XIX в. защиту целей и прерогатив церкви взяли на себя не только прелаты и монархи, полные страха перед революцией, но и политические партии и ассоциации мирян — например, католические профсоюзы, — которые стремились получить широкую народную поддержку и во многих случаях принимали прямое участие в парламентских процессах.
На заре революции такой проблеск в разрешении революционного конфликта между демократической и католической доктринами сильно отдавал дряблым иррационализмом Старого режима и поэтому был просто немыслим. Можно сказать, что, все отрицая, революция стремилась разрушить общественные институты, стоявшие между гражданином и «его» государством. Такие корпоративные посредники воплощали в себе то, что революционеры обычно называли «привилегиями». Однако, разрушая привилегии, революция в действительности поляризовала французское общество намного сильнее, чем прежде, между централизованной бюрократией, державшей в руках всю полноту власти, объявившей себя исполнительницей воли национального государства, и миллионами свободных, равных и, по определению, братских граждан Франции.
Обязательная служба в армии, которой потребовало революционное правительство от всех граждан Франции, ранее была бы расценена как нарушение «свобод» свободного гражданина. Всеобщая воинская обязанность была введена как чрезвычайная мера декретом, изданным в тревожном 1793 г., когда революции грозила опасность. Позднее она была организована префектами и полицией Наполеона, пока Франция не была обескровлена последними катастрофическими императорскими военными кампаниями. То, что было введено как отчаянный последний призыв к гражданским чувствам, таким образом, превратилось в молохоподобную машину, перемалывавшую тела граждан независимо от их воли и желания и питавшую ими французские армии в таком масштабе, что они почти на два десятилетия стали грозой Европы.
Однако миллионы французов добровольно служили под победоносными знаменами Наполеона и его маршалов, и почти все они испытывали захватывающую гордость от чувства принадлежности к могучей нации, которая, подобно колоссу, возвышалась над Европой от Кампоформио (1797 г.) до Ватерлоо (1815 г.). Поэтому, когда конституционные преобразования Наполеона ограничили законодательную ветвь власти до состояния послушной беспомощности — таким образом закрывая путь, которым, согласно демократической теории, должна была выражаться воля народа, — большинство французов едва ли жалели о том, что и так находило мало сторонников. Голос свободы, вверенный избранным законодателям, за время короткого периода, когда они были вольны выражать свои мысли, стал более походить на визг вспыливших школьников, чем на священные речи суверенного народа, так самонадеянно предвосхищенного последователями Руссо.
Ни полиция, ни префекты Наполеона и сменившего его короля из династии Бурбонов не могли установить связь между властью и народом на дореволюционной основе. Народ Франции уже произнес многомиллионными устами слова о том, что власть принадлежит ему, и слишком многие верили в это, чтобы этим мнением можно было пренебречь. Конечно, правители всегда исполняли что-то из воли и желаний своего народа. Но в большинстве случаев достаточно точное традиционное разграничение ролей правителя и подданных позволяло и правителю, и подданным игнорировать друг друга, пока сохранялись установившиеся общественные связи -традиционный сбор налогов, церемониальные знаки почтения, щедрые королевские дары и т.п.
Уже во времена Старого режима привычные определения политических ролей были довольно неточными. Короли и министры выказывали интерес к таким некоролевским, с точки зрения их коллег в иных краях и в иные времена, делам, как коммерция и промышленность, в то время как купцы и другие простые люди бесцеремонно интересовались делами власти и иногда даже влияли на их. Но даже во время размывания границ традиционных взаимоотношений при Старом режиме король все еще оставался королем по воле Божьей и его подданные оставались по воле Божьей подданными.
Доказав, что простые люди могут сознательно создавать и разрушать политический порядок, революция вдребезги разбила традиционную основу власти. Когда человек, а не Бог оказывался, пусть и в малой мере, ответственным за политические отношения, правители больше не могли беспечно полагаться на автоматическое принятие их привычного статуса. Наоборот, они должны были постоянно оправдывать свое существование перед обществом. Но эта политика была и ловушкой — неисполненные обещания и преданные принципы опасно застревали в памяти людей и оборачивались против тех, кто пришел к власти с помощью опрометчивых обещаний. С другой стороны, консервативные правители, отказывающиеся обращать внимание на новомодные идеи и шире привлекать подданных к делам власти, позволяли другим завоевывать симпатии своих подданных, тем самым увеличивая риск открытого восстания, как это показали события 1830-го и 1848 г. Успешными оказывались только те правители, которым удавалось вызвать симпатии, энтузиазм поддержки, чувство добровольного самопожертвования у значительного числа людей — с помощью парламента, плебисцитов или харизматической легенды. Стабильно управлять государством без взаимопонимания между правительством и народом стало сложно, а выполнив это условие, европейские правительства могли использовать гораздо большую часть общей энергии населения, чем прежде[1109].
Новые тесные отношения между народом и властью были настоящим секретом Французской революции. Только когда европейские монархи научились у той же революции привлекать на свою сторону массовые симпатии, они оказались способны собрать силы, достаточные, чтобы свергнуть власть Наполеона. И как бы ни старались короли и министры Европы дистанцироваться от слишком тесных объятий народа, они больше никогда не могли игнорировать этот новый фактор управления государством.
Таким образом, в XIX в. власть была или слишком усилена, или слишком ослаблена прививкой демократических принципов и претензий. С одной стороны, власти могли оказаться в тяжелом полупарализованном положении из-за неконтролируемых распрей среди населения страны, как это произошло в Австро-Венгрии. Но иногда монарх или министр мог так мастерски играть на чувствах публики, что это стимулировало чрезвычайные успехи, как это было в случае с Бисмарком. Главным образом усиление власти наблюдалось в Северо-Западной Европе. На юге и востоке континента демократические идеи сеяли сомнения и ослабили относительно, если не абсолютно, империи Австрии и России, созданные на сухопутных границах Европы в XVIII в.[1110]
Восточноевропейские империи в целом по сравнению с западными державами намного отставали в таком вопросе, как пробуждение энергии действий среди своих поданных. Причина заключалась в том, что государства Западной Европы добивались таких грандиозных успехов, поскольку общественное положение среднего класса в них было намного более активным, чем где-либо. Юристы и доктора, купцы и финансисты, владельцы фабрик и рантье действовали как главный приводной ремень, соединяющий правителей и широкую общественность, заботясь о том, чтобы первые услышали дискуссии вторых. Там, где такие группы были многочисленны, богаты и обладали групповым самосознанием, было возможно достигнуть эффективного партнерства между властью и народом. А там, где они были слабы и робели в присутствии высших классов общества, такого партнерства не возникало. Наоборот, чиновники и аристократы продолжали осуществлять власть даже тогда, когда, как в Австрии после 1867 г. и в Росси после 1906 г., парламентаризм ограничил бюрократическое государство. Таких полумер оказалось совершенно недостаточно, чтобы установить эффективное сотрудничество между правителями и управляемыми ни в Австрии и России, ни в Османской империи. Наоборот, во имя языкового национализма народные политические движения разорвали на клочки социальную и политическую ткань Восточной Европы[1111].
* * *
Приблизительно после 1870 г. Новый режим, провозглашенный Французской и промышленной революциями, постепенно все больше стал уподобляться вытесненному ими Старому режиму. В Западной Европе средние классы заняли центральное место в обществе и политике, разделяя власть с чиновничеством (формируемым в большей степени из представителей среднего класса) и составляя различные декоративные соглашения с остатками аристократии. Идеологический раскат грома Французской революции повсеместно был приглушен прагматическими компромиссами. Различные католические партии, образованные с санкции папы, стали входить в состав парламентов, и даже диктаторски настроенные аристократы, такие как Бисмарк, научились играть в парламентские игры. Социальные противоположности, которые недавно казались несовместимыми, нашли почву для согласия.
Одновременно стала все больше разрастаться новая группа привилегированных корпораций в форме акционерных компаний с ограниченной ответственностью. Власть и сила таких компаний часто была огромной, и некоторые из них стали настоящими государствами в государстве. Союзы рабочих также начали бороться за почти неограниченную власть над своими членами или по крайней мере стремиться к ней. И некоторые наиболее идеологически выраженные политические партии, самая известная из которых Немецкая социал-демократическая партия, превратили свою организацию в образ жизни. Такое размножение полу автономных групп в структуре национального государства явно препятствовало полноте политической власти. Ряд прагматических и нелогичных компромиссов между соперничающими интересами идеологий стал таким сложным, что любое изменение могло опрокинуть всю структуру, как это произошло из-за множества различных интересов и идей во время Старого режима. Более того, напряжение Первой мировой войны взорвало эти компромиссы так же, как ранее Французская революция разрушила равновесие европейского Старого режима, а еще ранее средневековое здание Европы было опрокинуто Реформацией[1112].
В ретроспективе легко определить критическую слабость в политическом равновесии, которое возникло в 1870-1914 гг., поскольку несмотря на установившийся баланс интересов и компромиссов между принципами, не были учтены интересы двух стратегически важных групп. Меньшую, но более четкую составляло образованное меньшинство Восточной Европы, которое, получив западное образование и проникшись европейскими теориями, оказалось отчужденным от социальных отношений своей родины. Крайние и весьма разнообразные социальные взгляды таких людей, вскормленные чувством изоляции и отчаяния, поддерживали вулканическое кипение революционных порывов под поверхностью жизни в Восточной Европе и особенно в России.
Вторая группа сложилась в более индустриализованных странах Западной Европы, где фабричные рабочие не всегда желали принимать политическое лидерство среднего класса. С середины XIX в. марксисты и другие предложили промышленным рабочим видение общества, основанное на их собственном опыте и интересах. Поэтому не удивительно, что с 1870-х гг. социалистические аргументы и воззвания начали привлекать все больше людей, особенно в Германии. Несмотря на весь словесный гром, с которым марксисты осуждали капитализм и буржуазное правление, в своей основе они еще придерживались ценностей и структур демократизированного и достигшего компромиссов национального государства, которое возникло из слияния французской революционности с более старыми политическими традициями. Единодушие, с которым все, кроме российских социалистов, поддержали войну 1914 г., подтверждает это суждение.
Роковое стечение обстоятельств в политической эволюции отличало Россию от западных стран. В 1890-х гг. идеологический экстремизм, задолго до этого существовавший в России, нашел свое конгениальное выражение в марксизме. Одновременно разрушение извечного сельского уклада и возникновение современной промышленности начали изменять крестьянскую косность, которая приводила в отчаяние мятущихся российских разночинцев в начале XIX в. Инициатива государства в деле отмены крепостного права и строительства железных дорог, предприимчивость помещиков, стремящихся ввести технические и другие улучшения в сельском хозяйстве, — все это в сочетании с ростом населения привело в движение сельские массы. Когда это произошло, интеллигенция, так долго страдавшая от «темноты и глухоты» крестьянства, оказалась лицом к лицу со слепым рассерженным гигантом, необоримо стремящимся к свету. Городские условия также стимулировали изменения, так что царский режим, который никогда не смирился даже с Французской революцией, обнаружил, что ему бросили вызов как либералы, так и социалисты, недовольство которых существующими порядками коренилось в жизни города и деревни. Проигранная война с Японией, а затем еще большие неудачи в войне с государствами Центральной Европы привели к выходу на поверхность противоречий русского общества, результатом чего стали революция 1905-1906 гг. и намного более масштабная революция 1917-1922 гг.
4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Активность художников и интеллектуалов на Западе в 1789-1917 гг. была очень интенсивной и выразительной как в качественном, так и в количественном разнообразии. Ставя под сомнение то, что до сих пор считалось бесспорным, и стремясь по мере обретения новых истин к еще более новым рабочим гипотезам, европейцы ослабили или разрушили многие старые связи, которые систематизировали их искусство и руководили им в течение столетия или даже тысячелетий. Так по крайней мере кажется, глядя из 1960-х гг.
С другой стороны, культурные связи с отдаленными эпохами могут быть частично иллюзорными. Многое из многообразия и потока просто утеряно и забыто, поскольку искусству и мысли, чтобы выжить, необходимо пройти через фильтр вкусов последующих поколений. Более того, чем дальше исторический взгляд, тем менее различимы страсти, сомнения, противоречия на фоне более крупных событий — почти так же, как взгляд с высоты птичьего полета, размывая детали, может превратить пейзаж в карту. Через несколько столетий главные линии художественного и интеллектуального развития XIX-XX вв. могут предстать такими же отчетливыми, как и для любой другой эпохи.
Забыв о такой перспективе, легче констатировать распад хорошо знакомых связей и ценностей, чем предчувствовать и постигнуть проявления нового — если оно действительно готово появиться. Конечно, разрушение прошлого Запада или освобождение от него достаточно очевидно. К 1917 г. ведущие художники отказались от соблюдения требований перспективы, в рамках которых европейское художественное видение существовало начиная с XV в. Физики модифицировали ньютоновские законы движения, придерживаясь которых, европейская научная мысль двигалась вперед начиная с XVII в. Даже «фирменное» интеллектуальное достижение XIX в. — эволюционное видение мира — взорвав все традиционные моральные и эстетические стандарты, низвело западную мысль на уровень раненой гиены, грызущей свои внутренности на виду у всех. Тем не менее взрывная энергия, которая проявилась таким разрушительным образом, была также освобождающей силой для новых художественных, научных и философских взглядов, которые возникли в начале XX в.
* * *
В живописи техники и приемы линейной и воздушной перспективы для создания иллюзии трехмерного пространства использовали задолго до 1789 г., и для современного вкуса лишь немногое, вышедшее из-под кисти тех, кто продолжал придерживаться этих принципов, кажется важным и полным жизни. Эксперименты со светом и цветом в середине XIX в. дали импрессионистам набор новых изобразительных средств, но только в следующем поколении Винсент Ван Гог (ум. 1890), Поль Гоген (ум. 1903), Поль Сезанн (ум. 1906) освободились от рамок строгих ограничений, налагаемых требованиями правил перспективы и реалистичной цветопередачи. Полный и окончательный отказ от техники Возрождения для создания иллюзии трехмерного пространства произошел уже в деятельности следующего поколения, непосредственно перед Первой мировой войной, когда несколько авангардистских художников в Париже отказались от устоявшихся общепринятых условностей ремесла во имя новой, личной точки зрения, с самого начала почти непостижимой умом и часто не признающей ничего более важного, чем мгновенная причуда или шутливый эксперимент.
Тем не менее, как и любое великое искусство, живопись десятилетия, предшествовавшего Первой мировой войне создала выдающееся зрительное воплощение тенденций, лежащих в самом сердце культурной вселенной западного человека. Лучшие образцы предложили художники, которые произвольно вырвали фрагменты зрительных ощущений из привычного контекста и затем произвольно скомпоновали их в новом порядке, не имеющем никакой связи с внешней реальностью. Но такое дробление привычного, часто сочетая несочетаемые с общепринятой точки зрения части в точности отразило то, что случилось с жизнями миллионов людей во время и после Первой мировой войны. Поэтому кажется, будто несколько необычайно чувствительных душ предощутили неминуемый грядущий развал режима западной цивилизации, более не являвшегося Новым, и таким образом символически стремились поведать о грядущем с помощью искусства.

 ЕВРОПЕЙСКИЙ НОВЫЙ РЕЖИМ
ЕВРОПЕЙСКИЙ НОВЫЙ РЕЖИМ
Городская идиллия, изображенная на картине Жоржа Сера, созданной между 1884-м и 1886 г., как зеркало отражает стиль жизни новой европейской системы, когда средний класс Франции и других европейских государств мог позволить себе отдохнуть в воскресенье в середине лета, гордый и довольный высотами цивилизации, окружающими его. Техника Сера, состоящая в создании изображения с помощью множества разноцветных точек, была задумана как научный эксперимент, основывающийся на новых теориях света и цвета. Но отказываясь от оптической точности более старых европейских традиций, Сера также дал выход растущему недовольству унаследованными формами искусства.
Бюст Жоржа Клемансо, созданный Роденом до начала Первой мировой войны (1911 г.), предлагает более высокий уровень неопределенности и беспокойства. Грубо вытесанные, неотполированные скульптурные формы здесь служат средством для изображения бесконечной усталости духа, возникшей, когда революционные истины «Свободы, Равенства, Братства» потеряли свою ясность и силу.
Сейчас ретроспективно кажется очевидным, что все сооружение западного общества, неидеально подогнанное в течение XIX в. к реалиям промышленного капитализма и идеям демократии, стало крениться и рушиться даже перед 1914 г. Война 1914-1918 гг. привела в движение огромные глыбы традиций и общепринятых норм поведения, подобно тому, как Ледовитый океан взламывает лед весной — каждая плавучая льдина тверда и распознаваема, как винные бутылки и гитары на картинах Пикассо, и каждая способна к движению и к сочетанию — как те же бутылки и гитары -вместе с другими движущимися фрагментами разрушенного прошлого. Лед еще не застыл, и нескоро еще начнутся новые морозы; и усилия тоталитарных диктатур реорганизовать культурную вселенную с помощью произвола и специальных декретов пока принесли мало успеха. Ни интуитивные, ни рассудочные усилия художников XX в. реорганизовать видимую реальность, к чему они так стремились, кажется, не привели к достижению длительных стилистических успехов, что также, возможно, стало мистическим зеркалом, в котором правдиво отразилось общество.
Среди искусств музыка находилась на противоположном полюсе по отношению к живописи, но ее развитие в 1789-1917 гг. было схоже с развитием живописи. В начале этого периода музыка, еще не исчерпавшая возможностей восьмитонового гармонического ряда, позволявшего множеству разных инструментов играть вместе в любых комбинациях и по отдельности, начала быстрое развитие. Людвиг ван Бетховен (ум. 1827), Иоганн Брамс (ум. 1897) и Рихард Вагнер (ум. 1883), как и множество менее известных композиторов, превосходно использовали эти возможности. Однако перед началом Первой мировой войны несколько безвестных европейских композиторов начали экспериментировать с размерами и гармонией, выходя за пределы унаследованных традиций. В то же время в затерянных американских притонах другие местные экспериментаторы слили африканские ритмы с западным звучанием, явив столь же резкое, хотя и не столь сознательное, отступление от классической традиции. Атональность и джаз, хотя они и произошли от противоположных крайностей — интеллектуальной и чувственной, — тем не менее (подобно прямым линиям в неевклидовом пространстве) встретиться в точке, полярно противоположной правилам гармонии и ритма, как их определяла европейская музыкальная традиция начала XVIII в.
Различные направления литературы и таких базовых искусств, как скульптура и архитектура, находились где-то между крайностями: преждевременным энтузиазмом, с которым художники отвергли старые правила их ремесла, и высокомерным равнодушием, с которым почти все европейские музыканты встретили эксперименты с джазом и атональностью. Нетрудно найти предшественников радикального отхода. Достаточно назвать таких столпов литературы, как романиста Марселя Пруста (ум. 1922), драматурга Артура Шнитцлера (ум. 1932) или поэта Александра Блока (ум. 1921), вспомнить грубо высеченные скульптуры Огюста Родена (ум. 1917) и драматически упрощенные формы ранних скульптур Константина Бранкузи (ум. 1957). Одновременно в архитектуре фантазии из кривых линий и цемента Антонио Гауди (ум. 1926) и парящие надменные небоскребы Луиса Салливена (ум. 1924), созданные с использованием стального каркаса здания, отрицали традиционные ограничения, навязанные частично вкусами и частично техническими возможностями старых строительных материалов и методов. Но до Первой мировой войны такие люди были исключением. В Западной Европе главный поток литературы, скульптуры и архитектуры оставались в привычном русле, проложенном большей частью в XV-XVI вв., когда впервые были установлены национальные литературные языки и набор ренессансных скульптурных и архитектурных тем.
 МУЧИТЕЛЬНЫЕ СОМНЕНИЯ XX ВЕКА
МУЧИТЕЛЬНЫЕ СОМНЕНИЯ XX ВЕКА
Фрагментарная карикатура зрительного восприятия у Пикассо и абстрактные пятна краски Джексона Поллока сходятся в нескрываемом отрицании техники и условностей европейского искусства и разделяют беспокойство и неистовство духа, которое можно найти в истории европейского искусства разве что в живописи Иеронима Босха (см. главу XI). Опыт XVI в., когда на европейском Дальнем Западе в муках рождалась новая история, представлял наиболее острый шок, испытанный европейским культурным порядком до того, как идеи и события XX в. превратили столько старых несомненных истин в спутанный клубок сомнений и страхов, зрительно ярко выраженных в этих двух картинах.
Однако в России очень мощная литература, в которой первым светилом был Александр Пушкин (ум. 1837), в течение XIX в. подошла к вершине своего совершенства. Почти все великие русские писатели демонстрировали противоречивое отношение к культурным традициям Западной Европы[1113]. Тот факт, что многие западноевропейцы после 1917 г. начали чувствовать подобную же неопределенность в своих отношениях к культурному наследию, значит, что в творчестве русских писателей XIX в. (подобно Фукидиду в Афинах в V в. до н. э.) начали звучать поразительно современные ноты. Федор Достоевский (ум. 1881), например, предвосхитил многое из того, что кажется характерным для XX в. Это не так удивительно, как кажется на первый взгляд, поскольку разрушение русской культурной самобытности в результате революционных реформ Петра Великого поставило россиян психологически впереди западноевропейских наций, чья культура сохранялась дольше. Поэтому, в то время как западноевропейцы еще не сомневались в прирожденном превосходстве своего культурного наследия, поколение русских интеллектуалов времен Достоевского нашло невозможным легко и автоматически принять какую-то одну культурную вселенную. Достоевский и многие другие стремились и отвергнуть, и принять достижения западной цивилизации, одновременно и высоко оценивая, и презирая особенности, которые отличали Россию от Запада. Такое напряжение могло быть преодолено только воссозданием, пусть субъективным, культурной вселенной. Но такой путь после мучительного выбора — даже если это неудовлетворительный психологический суррогат безоговорочной веры в неразрывность культурного преемства — может тем не менее явиться крайне плодотворным для высокого искусства и глубокой мысли. Русская литература XIX в. отразила превосходство и недостатки этой ситуации, как и нашей собственной, предвосхитила многие характерные особенности западной литературы XX в.
* * *
Западная наука переживала такой же период беспокойства, как и западное искусство. В период между Французской и Русской революциями физики и их научное окружение разработали мировоззрение исключительной силы и строгой красоты — мировоззрение, которое соединило огромность видения с мельчайшей точностью деталей и которое, более того, было подтверждено экспериментами и новыми технологиями. Главные направления этой научной структуры были установлены в XVII в., когда физики сконцентрировали внимание на изучении материи в движении, сперва в классической форме. Но в течение XIX в. размах и сложность их теоретических систем были так громадно расширены, что люди стали мечтать о возможности представить так же широко все знание.
Научные знания развивались в двух направлениях: 1) открытия новых законов, которые объединяли в одно большое целое ранее представлявшиеся несвязанными явления; 2) применения уже известных законов физики к новым классам явлений. Первое направление дало такие достижения, как закон Джеймса Джоуля (ум. 1889), установившего взаимоотношения между работой и теплом, и математическое обобщение Джеймса Кларка Максвелла (ум. 1879), который объединил различные формы уже известной лучистой энергии (свет, лучистое тепло и т.д.) в континуум электромагнитного излучения. Второй путь привел к применению методов и теорий экспериментальной физики к таким наукам, как химия, астрономия, биология, генетика и геология, — в каждом случае к сознательно ожидаемому успешному результату.
Эти достижения стремились свести явления к некоему количеству проявлений в пределах математически сконструированной вселенной, определяемой четырьмя основными условиями — материей, энергией, пространством и временем. До публикации в 1905 г. первой работы о теории относительности Альбертом Эйнштейном (ум. 1955) время и пространство оставались математически однородными и абсолютными сущностями, предложенными Галилеем и сформулированными Ньютоном. Концепция материи, с другой стороны, хоть и с различными затруднениями, к концу XIX в. подверглась значительному совершенствованию и потеряла свою незыблемость. В начале XIX в. ученые отделили понятие молекулы от понятия атома и к середине века разработали методы анализа атомной структуры молекул со все возрастающей точностью. К концу столетия химики и физики объединили усилия, чтобы проникнуть в атом, который все еще определялся как конечное, неделимое состояние материи. В первом десятилетии XX в. электроны (открытые Джоном Джозефом Томпсоном; ум. 1940) заменили атомы в роли конечных строительных блоков материи, и при этом «неделимый» атом превратился в миниатюрную Солнечную систему с электронами, двигающимися по планетным орбитам вокруг твердого (или сравнительно плотного) ядра.
Метод, благодаря которому ученые XIX в. превратили обычную твердую материю в облако все более мелких и всегда широко рассеянных частиц, соответствовал методу, с помощью которого они сделали саму энергию более осязаемой. Сам термин «энергия» потребовал совершенно нового определения. Точные вычисления[1114] установили энергетическую равнозначность между такими явно отличающимися явлениями, как химические реакции, движение видимых частиц, движение молекул и электронов, тепло, звук, свет, магнетизм и вновь открытыми видами излучения, такими как радиоволны и рентгеновские лучи. Принцип сохранения энергии при любых изменениях физического состояния был умозрительно предсказан Германом Людвигом Фердинандом фон Гельмгольцем (ум. 1894) в 1847 г. Каждое открытие, совершаемое в следующей половине XIX в., явно подтверждало этот принцип и предоставляло его новые примеры.
Метаморфозы неразрушимой материи, которые так успешно происходили под контролем химиков, кажется, имело явные параллели с преображением некогда считавшейся неразрушимой энергии, которая стала специальным объектом исследования физики. Разделение материи и энергии в пространстве и времени определяло мир физики в XIX в. Это был комфортабельный интеллектуальный мир, немного закрытый для эмоций. Осторожно определяемые термины и осторожно проводимые вычисления и экспериментальное подтверждение математически оформленных гипотез — все это было элегантно выражено в закрытых и логически самосогласованных системах, которые искусно и точно объясняли все физические явления — с некоторыми приводящими в замешательство общеизвестными исключениями.
К концу XIX в. эти приводящие в замешательство исключения начали множиться, и многие концепции классической физики стали совершенно неясны. В некоторых обстоятельствах энергия представала как излучение частиц, проявляясь только в постоянных «квантах» — термин, предложенный Максом Планком (ум. 1947) в 1900 г. Материя оказалась способна в некоторых случаях распадаться и в некоторых процессах излучать мощную радиацию — явление, впервые наблюдавшееся Антуаном Анри Беккерелем (ум. 1908) в 1896 г. И еще труднее было разобраться кому-либо, за исключением нескольких физиков, как связаны время и пространство. Впервые решение этой задачи предложил Эйнштейн в своей теории относительности (1905 г.), попытавшейся объяснить (помимо всего прочего) постоянство скорости распространения света в любом направлении, даже когда она рассчитывается наблюдателем, стоящим на быстро движущейся платформе, например на движущейся по своей орбите Земле. Такое постоянство скорости в 1887 г. наблюдал Альберт Михельсон (ум. 1931) и его коллега Эдуард Уильяме Морли (ум. 1923). Это казалось фундаментально несовместимым с концепцией Ньютона об абсолютности пространства и времени, ведь в соответствии с обычной логикой лучи света, распространяющиеся в том же направлении, в котором движется Земля, должны двигаться быстрее, чем лучи, распространяющиеся в противоположном направлении, поскольку скорость Земли должна быть прибавлена к абсолютной скорости лучей в одном случае и вычтена в другом.
Неожиданная развязка этих противоречий растворила элегантную ясность физики XIX в. Материя, энергия, время и пространство — четыре основные составляющие, на которых основывалась вся структура, — стали необъяснимы с точки зрения классической физики. В результате к моменту, когда Первая мировая война разорвала Европу, недостаточно хорошо понимаемая система материя-энергия, казалось, мистически превратилась в любую из различных пространственно-временных координат — евклидову, гиперболическую или сферическую, а может быть, и в несколько одновременно.
Более того, онтологический статус материи-энергии был далек от ясности. Электрон, открытый в 1897 г., быстро породил стаю других субатомных частиц. Квант энергии Планка оказался таким же плодовитым, и два переходящих друг в друга понятия — «волна-частица» и «частица-волна» слились так, что их невозможно было описать в привычных терминах трехмерного мира. Еще более сомнительной была применимость к действительно существующей Вселенной сети координат, разработанной для априорного вычисления пространства-времени.
Для человека, не принадлежащего к кругу физиков, все это выглядело так, будто метафизика и мистика перенеслись от алтарей в лаборатории, ловко подтвердив свое древнее превосходство над математикой. Для обычного здравомыслящего человека все это выглядело каббалистической бессмыслицей, противоречащей его интуитивному знанию о материальном мире и тем не менее продолжающей производить технологические чудеса. Здесь магия соединяла свои силы с математикой, и какая магия могла превзойти эту — Вселенная должна была покориться законам человеческой мысли и вести себя в соответствии со строгой математической логикой[1115].
Едва ли можно вообразить более экстраординарную революцию мысли, прошедшей от торжества конца XIX в. к растерянности XX в., даже при том, что новые перспективы, открытые физиками в первом десятилетии XX в., в действительности не опровергали классическую теорию, а только делали ее частным случаем более высокого уровня.
Физика, конечно, была не единственной областью интеллектуальных исканий в 1789-1917 гг. В определенном смысле можно сказать, что стиль мышления математической физики был просто грубым анахронизмом в попытках предсказания результатов при научных исследованиях универсальных и вечных законов, сильно отдавая математическим детерминизмом XVII в. Более того, такие предсказания были едва ли совместимы с единым видением реальности, которое в XIX в. впервые резко заняло центральное место и увидело все явления — будь то законы физики или человеческого общества — в процессе бесконечного развития. Идея развития стимулировала взлет философии и ранее униженной истории, попытавшихся выстроить события в интеллектуально привлекательные последовательности, менее стройные, чем простая симметрия физиков, и оказавшиеся очень привлекательными для некоторых умов своими неожиданными нерегулярностями, несвязностями и путанными незавершенностями.
Со времен Геродота история считалась, и сомнений тут не возникало, ветвью литературы. Но история традиционно описывала действия людей, ограничиваясь политическими и военными событиями. До XIX в. едва ли кто-то отнесся бы серьезно к утверждению, что все во Вселенной, как и сама Вселенная, имеет свою историю. Но в начале XIX в. это традиционное ограничение, наложенное на царство истории, было отброшено. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (ум. 1831) и другие философы подняли до уровня всеобщего принципа идею о том, что развитие во времени является уникальным, отчего некоторые вещи возможны только в какой-то данный момент и невозможны до него или после. Это дало историкам новую программу — не просто записывать необычные события, произошедшие главным образом в неизменном человечестве и природе, как Эдуард Гиббон (ум. 1794), но попытаться постигнуть внутреннюю эволюцию человеческой мысли и общества, постоянно стараясь определить новые потенциальные возможности, возникающие в потоке времени.
Карл Маркс (ум. 1883) — наиболее известный социальный теоретик, который развил философию Гегеля до простой, но правдоподобной схематизации судьбы человечества и его истории. Предложенное Марксом понимание стадий развития человечества в прошлом и будущем — от рабства, через крепостничество, финансовую эксплуатацию свободного рынка до идеальной свободы социалистического и коммунистического общества -было обращено как к собственно промышленным рабочим, так и к идеализму интеллектуалов, растерявшихся перед необходимость осмыслить происходящее. Марксизм быстро стал религией, очень привлекательной для людей, недавно резко сменивших неизменность сельской жизни на неуверенность городского и промышленного бытия.
Историческое понимание событий также привело к пересмотру традиционных религиозных представлений. Христианство, рассматриваемое в контексте мистериальных религий Римской империи, потеряло свою уникальность, и Библия, став объектом тех же критических канонов, которые историки применяли для исследования других текстов, перестала быть словом Бога, подиктованным ряду верных секретарей, а наоборот, превратилась в творение человека, переполненное текстуальными ошибками. Точность и полнота христианской доктрины на протяжение европейской истории постоянно изменялись, и в этом не было ничего нового. Но отказывая Библии в высоком философском содержании и концентрируя внимание на текстуальных деталях, новый «высокий критицизм» оказался самым ужасным противником христианства, с которыми ему приходилось сталкиваться. Религиозный «модернизм», который увидел человеческое восприятие божества и самораскрытие Бога человеку как дополняющие и поступательные процессы, текущие во времени, представлял одну крайнюю реакцию на дух нового времени. Категорическое отрицание результатов, полученных «высоким критицизмом», и утверждение полной власти традиционной догмы — другую.
Плодотворность понимания исторических событий в их развитии не ограничивалась историческими и социальными науками. В биологии произошла настоящая революция, когда Чарльз Дарвин (ум. 1882) собрал рассеянные факты биологической эволюции, даже известные до него другим натуралистам, но не осмысленные ими, в единую систему и вместе со своими выводами изложил в известной книге «Происхождение видов» (1859). Теория Дарвина объединила все живущие организмы в рамках единого эволюционного процесса. Эволюция органического мира потребовала невообразимо длительного времени, но геологи уже предложили масштаб времени для существования Земли, проистекающий из исследований горных отложений, и палеонтологи до и после публикации книги Дарвина заполнили огромную пропасть во времени, которая разверзлась перед человеком. Человеческая жизнь и история выглядели карликами перед грандиозностью геологического и биологического времени. Но это было не просто чувство неудобства, испытываемое человеческим сознанием перед длительностью эволюции. Дарвиновская картина эволюции биологических видов не делала исключений и для человека[1116]. Низводя его до уровня других животных, объектов, подлежащих тем же законам естественного отбора и борьбы за выживание, Дарвин подрывал основы не только религии и социального порядка, но и всю изысканность человеческой культуры. Также не было недостатка в последователях теории, делающих выводы, от которых воздерживался сам Дарвин, и переносящих концепции естественного отбора и борьбы за выживание на общество в целом, оправдывая жестокий экономический индивидуализм у себя на родине и беспощадный империализм вне ее пределов.
Историческое видение, сначала использовавшееся для объяснения человека и его деятельности, распространившись на все живые субъекты и на саму планету, превратилось в основную тему, привлекающую общественное внимание, а попытки применить историзм при изучении космоса — первая из них пришлась как раз на 1917 г. — стали вершиной этого метода и произвели эффект, сравнимый с революцией Коперника. Для астрономов, ищущих понимания процессов развития Вселенной, холодное доказательство возникновения и угасания бесчисленных звезд, одновременно означало и допущение существования неисчислимых солнечных систем, находящихся в разных стадиях развития, и несомненное существование других галактик, объединенных в группы, которые, в свою очередь, объединяются в еще большие и большие группы. Такой эволюционный взгляд низводил Солнце, Землю, жизнь и человека — не говоря уже об отдельных личностях — до несоизмеримо малой значимости, потрясающей даже умы, уже настроенные на масштаб бытия, присущий системе мироздания Коперника и Ньютона[1117].
Такое изменение масштаба восприятия истории, навязанное общими работами историков и археологов, вызвавших к жизни древние цивилизации Среднего Востока, биологов, геологов и палеонтологов, показавших человеку панораму биологической эволюции, и астрономов и математиков, взявшихся изучать бесконечность, внесли новую актуальность в старый вопрос о величии и значении дел человека под невообразимо далекими звездами на незапамятно древней земле, среди людей, оказавшихся не такими уж и далекими от своих животных предков и первобытных прародителей.
Макрокосмическая громадность была только одним из аспектов эволюционного взгляда на мир, утвердившегося к концу XIX в. Вслед за классической физикой эволюционная точка зрения, с таким торжеством преподнесенная в начале столетия, превратилась в объект острой микрокосмической критики философов и психологов. Философы обнаружили, что им все труднее убеждать себя в том, что Кант удовлетворительно разрешил проблему знания, но усилия по усовершенствованию его анатомии власти и ограничению разума привели к растущей одержимости эпистемологией и к стремлению отразить возможности знания как такового. Однако ученые и историки продолжали заниматься своим делом, не обращая на них внимания, так что философские дилеммы века оставались более или менее частным вопросом самой философии. Не так обстояло дело с проблемами, поднимаемыми психологами, которые имели дело как с непоколебимостью суждений разума, так и с экстравагантной поэтичностью воображения, изменяющего нормы разума в отношении человеческих действии. Зигмунд Фрейд (ум. 1939) был наиболее важным первопроходцем. Исходя из наблюдений за поведением человека в ненормальных ситуациях Фрейд сделал вывод, что причины, управляющие действием человека, лежат в области подсознательного. Сознание соответственно становится внешним, искаженным и деформированным зеркалом реальности, часто скрывающим от нас истину.
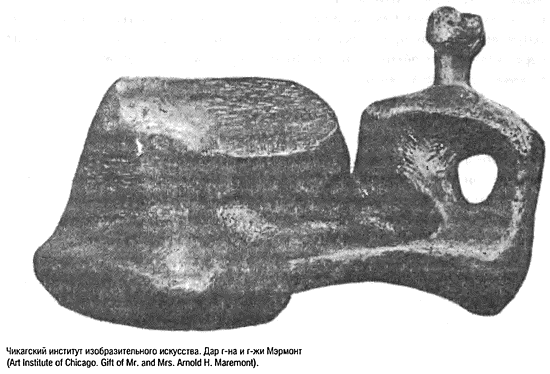 ПРЕДВЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА
ПРЕДВЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА
Эта возлежащая фигура, изваянная Генри Муром (1898—1986) в 1957 г., дает визуальный пример первобытной примитивности, положившей начало нашему пониманию женственности. Вероятно, художник намеревался выйти за границы зрительного восприятия, пытаясь создать образ, резонирующий с подсознательным. Художественная универсальность может также быть объяснена тем, что все мужчины унаследовали общее ядро подсознательных склонностей. Такое понимание очевидным образом освобождало художника от западной или любой другой традиции искусства. Это привело — или могло привести — высокую интеллектуальную искушенность в прямой контакт с темными порывами, спрятанными глубоко под видимым культурным разнообразием человечества. В такой статуе находит зримое воплощение научно обоснованный отказ от культурных ограничений, свойственный XX в.
Такие точки зрения, безусловно, связывали человека с животными и низшими формами жизни, как это сделал Дарвин. Это приходило в противоречие с оптимистическим определением человеческой природы и разума, которое дала демократическая революция. Кроме того, вставал простой вопрос, волновавший философов, — как человек вообще может точно знать? Если разум питается и руководствуется инстинктивными побуждениями, проявляющимися спорадически в виде неконтролируемых импульсов и переплетаясь с ними, что остается от способности охватить всю окружающую реальность и понять ее?
Фрейд был отнюдь не одинок в стремлении свергнуть с престола разум. Социальные теоретики, такие как Фридрих Ницше (ум. 1900), Жорж Сорель (ум. 1922) или Вильфредо Парето (ум. 1923), независимо друг от друга пришли к развенчанию разума; а профессионалы командования над людьми — прежде всего офицеры лучших европейских армий — и так знали, что рамки законов разума всегда оказываются слишком узкими, когда дело касается поведения больших масс. Художники, в свою очередь, отрицая традиции своего искусства, отрицали и его рациональность, переходя от трехмерного изображения пространства к двухмерному, и все их новые методы сильно отдавали бессознательным, глубины которого пытался измерить Фрейд, которое долгое время уже использовали политики и солдаты, а социальные теоретики начали признавать как нечто большее, чем просто языческие пережитки или особенные примитивные черты, которые должны исчезнуть с развитием цивилизации.
* * *
Любой обзор всегда недооценивает консерватизм и преемственность социальной среды, излишне подчеркивая новшества и дискретность. Но даже при таком простом объяснении и принимая во внимание миллионы людей, чьи жизни оказались совершенно не задеты тонкостями науки, а умы совершенно не взволнованы новыми мыслями, не забыв также о тех людях из респектабельного большинства, которые никогда не интересовались, что делают беспутные художники, живущие по соседству с ними в Париже и других городах, помня о способности общественных институтов и обычаев переживать отрыв от своих социальных основ и даже преуспевать во враждебном окружении, все-таки можно сказать, что западная цивилизация в первом десятилетии XX в. перешла на необычайно критический этап, даже раньше, чем рухнула в бездну войны и революции. Когда искусство и гуманитарные науки, экономисты и политики одновременно так твердо выступают против одних и тех же шаблонов — шансы новшеств и дискретности возрастают как никогда. Инерция миллионов, желающих прожить свою жизнь без потрясений, в обычных условия сдерживает политико-экономических мечтателей и честолюбцев, но когда культурные лидеры цивилизации единодушно берутся жечь мосты, то лишь вопрос времени: когда массовая инертность превратится в энергию масс и хлынет по новым руслам? Первая мировая война и Русская революция, возможно, ускорили этот процесс, но, безусловно, не создали сам кризис. Новый режим, провозглашенный Французской революцией, стал старым. Было совершенно очевидно, что западное (а более вероятно, мировое) общество и культура могут измениться — или смятение и неопределенность овладеют миром.
В. НЕЗАПАДНЫЙ МИР В 1850-1950 ГГ.
В середине XIX в. в мусульманском, китайском, индуистском и японском мирах произошло крушение традиционных стилей жизни. В этом отношении народы стран Африки к югу от Сахары и собственно Запад отставали от азиатских народов приблизительно на полстолетия — поскольку как стиль жизни племен Африки, так и стиль жизни западного среднего класса уклонился от столкновения с общим кризисом вплоть до самого конца XIX -начала XX вв. По крайней мере в определенном смысле, крушение каждого незападного мира было результатом воздействия западной технологии. Только когда непроницаемая раковина привычных традиций и убеждений дала трещину, когда умы африканцев и азиатов стали чувствительны к веяниям чужеземной доктрины, идеи Запада вступили вслед за технологиями в дело преобразования местной культурной сцены.
Общественные и государственные институты, олицетворяющие обычаи и традиции, были твердынями консерватизма и возвышались столпами стабильности на фоне растревоженной социальной панорамы мира. Но эти институты всегда были исключительно местными, так что их взаимодействие с космополитическими новшествами необходимо изучать для каждого конкретного региона. Перед тем как взяться за решение этой задачи, кажется правомерным подробно остановиться на факторах, затрагивавших весь, или почти весь, мир и сплетших сеть глобального космополитизма, в которую попались примитивные культуры и древние цивилизации в 1850-1950 гг.
1. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И СТИЛЯ ОЙКУМЕНЫ
В течение столетия, в 1850-1950 гг., изменения в самой сути транспорта вызвали и изменения общей картины ойкумены. Расстояния уменьшились, коммуникации улучшились, центры реальной и потенциальной политической власти сместились. Конечно, это был всего лишь один из аспектов общей технологической революции, но он был специфически важен. Хотя, определяя, что важнее чего, не следует забывать, что транспорт и связь всегда очерчивали основные рамки, в которых существовало человеческое общество, — только масштабы были иными. А ведь масштаб может быть решающе важным, и огромный охват современной сети механического транспорта и мгновенность средств связи создали глобальный космополитизм.
Каждое изменение в механическом транспорте резко уменьшало время пути между различными областями земного шара. Так, появление механических судов, сначала построенных из железа, а затем из стали, усилило важность трансокеанских линий, поскольку морской транспорт стал дешевле и надежнее, чем прежде. Великие трансокеанские каналы через перешейки Суэца (1869 г.) и Панамы (1914 г.) оказывали влияние в том же направлении; но каналы обновили важность старых путей[1118]. Суэцкий канал возвращал Среднему Востоку его былую важность как центра пересечения дорог Восточного полушария, круто изменив при этом геополитику Старого Света. Панамский канал также воздействовал на мировое равновесие, хотя и менее выраженно, путем усиления военного влияния Соединенных Штатов.
Механический морской транспорт стал глобальной реальностью после 1870-х гг., но и раньше возможности механизированного транспорта при перевозках на длинные расстояния были очевидны. Заводы, изготавливающие материал для железных судов, также предложили материал для постройки дышащих паром коней, которые начиная с 1869 г. с лязгом помчались через континенты. Но железные дороги были не единственным изобретением — в большинстве регионов планеты телеграф на десятилетие или два опередил железнодорожный транспорт, и после первого большого железнодорожного бума в 1850-х гг. дальнейшее улучшение транспорта и связи пошло стремительно: появились легковые и грузовые автомобили, трубопроводы, телефон, радио и впоследствии телевидение.
За короткое время улучшения в наземном транспорте усилили главенство Западной Европы в масштабах ойкумены. Больше всего новых изобретений было создано в Европе, где также сконцентрировались технические и финансовые возможности их использования. Первые пользователи транспорта и связи, даже в неевропейских региона мира, поэтому тоже часто были европейцами. Запад, таким образом, получил новый и очень мощный инструмент для проникновения внутрь континентов от прибрежных портов, где ранее обычно концентрировались контакты с другими народами.

 СЖАТИЕ МИРА
СЖАТИЕ МИРА
Но если смотреть на этот процесс с позиции будущего, то открытие внутренних районов для быстрого, дешевого и независимого транспорта таило в себе опасность свержения Западной Европы с трона мирового господства. Подъем американской и русской мощи до их современного состояния был бы невозможен без объединения их огромных континентальных просторов сетью дорог, по которым двигается механический транспорт. Южноамериканцы, африканцы и азиаты еще не построили действительно континентальную транспортную сеть. Политические, финансовые и географические обстоятельства препятствовали этому, но техническая достижимость сейчас очевидна. Если это осуществится, старое верховенство Европы во всех землях и океанах покажется таким же невероятным, каким показалось бы оно человеку средневековья.
Воздушные пассажирские и грузоперевозки, которые благодаря достижениям в самолетостроении, достигнутым во время Второй мировой войны, могут в будущем предложить небесную альтернативу человечеству, концентрировавшемуся в прошлом на континентах и океанских островах. Препятствия, расположенные на земле, не имеют значения для самолетов, и это придает трансконтинентальным воздушным трассам глобальное, а не только трансокеанское значение. Более того, поскольку большинство населения проживает в Северном полушарии, все наиболее важные центры народонаселения и власти на земле связаны между собой трансарктическими воздушными путями. И как результат, все стратегически важные зоны планеты передвинулись на север. Арктика может стать тем, чем был Средний Восток на протяжении большей части письменной истории — центром пересечения мировых маршрутов.
Изменения в расположении транспортных путей и соответственный сдвиг стратегически важных точек, возможно, даже менее значимы, чем общее «сжатие» земного шара, сделавшего всех людей соседями. Да, конечно, есть еще большие территории, не охваченные даже самым новым транспортом. Но ведь ни в джунглях Новой Гвинеи, ни в пустынях Южной Африки, ни в экваториальных лесах Амазонки, ни в тундре и на побережье Северного Ледовитого океана нет условий для проживания значительных людских сообществ. И если эти регионы по какой-то причине станут в будущем важны для внешнего мира, щупальца современных транспорта и связи автоматически притянут их и космополитизм нашего века неумолимо придет к народам, живущим там.
Второе проникающее повсюду влияние технологии заключалось в ускорении роста населения во всех уголках планеты. Значительное уменьшение численности первобытных и полупервобытных народов, столкнувшихся с оружием, микробами и психологическо-социальным распадом, принесенными цивилизованными людьми, было временным. Такие народы или сравнительно быстро исчезли, или начали восстанавливать свою численность через какое-то время, потребовавшееся для биологической и культурной реорганизации. Более того, выжившие народы подстроили структуру семьи к необходимости возместить потери от воздействия цивилизации. И когда они научились извлекать пусть даже малую выгоду от общественных санитарных мер и первой медицинской помощи, население начинало быстро расти.
В результате новые члены цивилизованного сообщества: африканцы, американские индейцы и маори будут увеличивать свою численность со скоростью, на порядок большей прироста более древних цивилизованных народов. Однако в абсолютном значении прирост народонаселения пока преобладает в Азии, Европе и неевропейском Западе, потому что народы этих регионов начали свой рост от большей основы и никогда не приостанавливали увеличения своей численности начиная как минимум с XVII в., а то и раньше.
Причины взрывного роста народонаселения мира еще не полностью объяснимы и различаются в деталях от сообщества к сообществу. Требуется определить общие факторы, чтобы объяснить универсальность феномена. Возможно, применение современной медицинской технологии было одним из таких факторов, который как способствует росту народонаселения, так и позволяет контролировать его. Увеличение количества получаемой пищи, ставшее результатом применения современной технологии и смягчения эффекта местных неурожаев путем доставки помощи современным транспортом и увеличения эффективности правительственных мер по облегчению положения в зонах бедствий одновременно со сравнительно высоким уровнем мира и стабильности, а также относительно малой кровопролитностью последних войн[1119] — все это способствовало смене прежних демографических балансов.
Поскольку население, если ничто не мешает его росту, увеличивается в геометрической прогрессии, человечество стоит перед угрозой перенаселения. Такая перспектива — объект пристального внимания и обсуждения. Простое планирование темпов роста населения делает очевидным, что нарушение экологического равновесия, которое наблюдается в настоящее время, не может продолжаться бесконечно долго и требует жестких ограничений, не говоря уже о необходимости твердых социальных и экономических ограничений[1120]. И чтобы ни принесло будущее, демографический рост усиливает «сжатие» планеты, наполняя людьми малонаселенные местности, которые когда-то отделяли и отчасти изолировали друг от друга общества и цивилизации.
Эти аспекты современной технологии и человеческой экологии вместе с очевидным, но неизменно важным товарооборотом стандартных промышленных изделий по всему миру окончательно переплетают все сегменты человечества друг с другом.
* * *
С улучшением качества связи увеличивается и скорость распространения идей. Конечно, потоку идей иногда препятствуют языковые и политические барьеры, религиозные и сектантские сообщества ограничивают проникновение новых идей в свои общины, а различия в местных и классовых обычаях, древних традициях или личных пристрастиях — все оказывает влияние на их распространение в мире и иногда приводит к непониманию или ужасному преувеличению[1121]. Однако в некоторых областях знания, особенно в естественных и прикладных науках (главным образом в инженерном деле), иногда успешно сотрудничают люди, принадлежащие к разным культурным традициям и с разными личными пристрастиями.
Есть и другая сложность, заключающаяся в том, что многие наиболее образованные и тонко мыслящие люди чувствуют себя неуютно после того, как обнаружили вокруг себя более чем одну вселенную значений и ценностей, и не уверены в том, какая именно из них окажется более важной в трудную минуту. Также типично и то, что дети, воспитанные в традиции своих стран — мусульманской, индуистской, китайской, христианской и т.д., — в дальнейшей жизни сталкиваются с рационалистическими, светскими, критическими и релятивистскими элементами современного мышления. И они оказываются неспособны воспринять обе части как равноценные, не могут ни полностью отречься, ни до конца воспринять две фазы собственного опыта.
Это не обязательно должно причинять страдания и психологический дискомфорт. Человек может принадлежать одновременно двум различным культурным мирам, если можно легко разграничить ситуации, когда приемлемо использование норм поведения одной традиции, от ситуаций, когда более приемлема другая традиция. Однако такое разграничение не всегда возможно. Более того, в критических обстоятельствах требования одной системы могут вступать в противоречие с требованиями другой, приводя к внезапным скачкам в поведении человека с не всегда предвиденными последствиями для всех вовлеченных в ситуацию[1122]. В массах же, например в возбужденной толпе, такой фактор нестабильного личного поведения может вызвать вспышку насилия.
Но дела в мире обстоят не так мрачно, как это может показаться. Светские надежды и теории Запада, который привлек к себе умы большей части населения планеты, более оптимистичны. Подобно идеалам ранних религий, они демонстрируют свою стабильную силу даже перед лицом повторяющихся неудач и разочарований. И ясно, что люди всех национальностей, хоть раз оказавшиеся под влиянием понятий равенства, братства и свободы в любой из их версий и в любой интерпретации, ни при каких обстоятельствах не смогут их забыть. Перспектива существования человека свободного, сытого, хорошо одетого и обеспеченного жильем, члена свободного и миролюбивого общества, имеющего голос в определении политики «его» правительства и вносящего вклад во всеобщее благоденствие, притягивает практически каждого. Она имеет то преимущество, что ее можно упростить либо уточнить практически любым образом и подстроить к настроениям любой аудитории.
Те, кто принимают видение такого будущего человечества, сами обнаруживают, что борются с устрашающим отрывом идеала от реальности. Этот разрыв так огромен, что практические действия в несовершенном мире могут показаться просто безнадежными или даже потребовать настолько активных действий против нынешних устоявшихся, структурно зафиксированных интересов, что превратят доброе дело в злодеяние. И поскольку идеала достичь нелегко, мечта о рае на земле не утрачивает своей актуальности. Наоборот, легко реализуемые идеалы быстро утрачивают свою вдохновляющую силу, тогда как нереализованное вдохновение некоторым людям должно и будет давать силы посреди жестокой битвы. В пылу такой борьбы несоответствие результата идеалу обеспокоит только критически настроенные умы, да и они никогда не будут полностью уверены в том, что конечная цель не оправдывает средства.
Даже беглый анализ войн и революций, политических и социальных реформ, множества благотворительных, социальных и миссионерских деяний на протяжении столетия после 1850 г. показывает, как много людей искренне желали и были готовы самоотверженно трудиться, страдать и даже при необходимости умереть в борьбе за построение рая на земле. Либералы, националисты, социалисты, коммунисты — все они на политической сцене неотступно следовали своему пониманию идеала, и неисчислимое множество других людей направляли свои усилия на переделку того или иного уголка социальной сферы в надежде, что добровольные действия многочисленных личностей приблизят свободу, равенство и братство для всех членов общества и их мечта со временем может исполниться.
 ДЕМОКРАТИЯ И КОММУНИЗМ
ДЕМОКРАТИЯ И КОММУНИЗМ
Конец этому еще не наступил и не может быть предсказан. В конце концов человек, безусловно, придет к другому видению мира, однако, несмотря на несовершенство мирского идеала социального счастья, даже если он и воплотиться в человеческих обществах, истинным останется то, что универсальность и сила такого видения мира среди людей конца XIX — начала XX вв. была характерной особенностью начала всемирного космополитизма. Распространение промышленного капитализма и последствия развития механического транспорта и связи для ойкумены были более ощутимы; однако изменение человеческих идей о том, как можно и должно поступить с увеличившимся богатством и могуществом промышленного капитализма, было не менее важным. Итак, силы-близнецы — промышленная и демократическая революция — которые определяли развитие западной истории 1789-1917 гг., а также борьба за обладание мировым господством в 1850-1950 гг., возможно, продолжатся и в будущем.
Начиная с 1917 г. западный мир занят тем, что пытается разрешить проблемы и противоречия, порожденные Французской революцией и Октябрьской революцией в России, чего нельзя сказать, по крайней мере пока, об остальном мире, в котором слова «свобода», «равенство», «братство» не воплощены в более или менее эффективные общественные институты, а скорее остаются идеалом, к которому следует стремиться, лозунг Октябрьской революции «Мир, земля, хлеб» рассматривается лишь как вариант лозунга Французской революции, а не как призыв, находящийся с ним в противоречии. Дилеммы свободы, которые так много значат для человека Запада, являющегося наследником Французской революции и скептически относящегося к Октябрьской, по-видимому, далеко не так важны для людей, которым еще только предстоит пройти долгий путь к реальным социальным преобразованиям, порожденным двумя великими политическими потрясениями современной Европы.
По крайней мере до середины XX в. революционные течения в странах, не принадлежащих к западному миру, были основаны на одной философской платформе, хотя и с некоторыми местными различиями. Во всех этих странах программы революционной деятельности питались идеями Французской и Октябрьской революций, сталкиваясь со старыми принципами социальной иерархии и старыми представлениями о человеческой природе и предназначении человека. Люди увлекались далеко расходящимися взглядами, нередко успевая за свою жизнь побывать приверженцами всех точек зрения, умещающимися между крайними. В итоге отдельные сообщества утратили присущую им ранее культурную и институциональную идентичность. Во всем мире, включая и Европу, можно было наблюдать следующую реакцию на революционные изменения: 1) подчеркнутое, иногда на грани истерии, повторное утверждение старых норм поведения и моральных ценностей; 2) настойчивые попытки реформировать настоящее путем возврата к более или менее условной первичной чистоте идей, действий и институтов; 3) пассивность перед лицом болезненного замешательства воли, которое, пожалуй, лишь подчеркивалось отдельными вспышками неистовой активности; 4) активная заговорщическая деятельность в виде тайных обществ, существующих в тесном симбиозе с тайной полицией; 5) откровенно жестокое стремление к личной власти и богатству, лиц, освободившихся от каких-либо моральных принципов; 6) преданность идее на грани аскетизма. Святые и негодяи, трусы и герои, а также обычные люди, короче говоря, человечество во всем разнообразии темпераментов его представителей находилось под влиянием невиданного ранее многообразия стимулов, не в силах выработать устойчивую и последовательную реакцию на их воздействие. Отсюда следует, что исторические обобщения для крупных регионов стали еще ненадежнее, чем раньше, и поэтому дальнейшее изложение лучше сделать обзорным.
2. МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
Течение истории, столь сурово испытывавшее на излом мусульманство в XVIII — начале XIX вв., и после 1850 г. продолжало разочаровывать религиозные ожидания. Неверные-христиане, не почитающие даже свою собственную религию, продолжали удивлять мир растущим богатством и силой. И наоборот, престиж мусульманства продолжал падать по мере того, как мусульманские государства все более и более заимствовали политические и экономические технологии у западных неверных.
До окончания Первой мировой войны непрерывно сокращалась территория, находящаяся под властью ислама. Большая восточная часть мусульманского мира оказалась между мощным давлением Британии, распространявшей свое влияние на север от Индии, и России, стремившейся утвердиться к югу от степей Центральной Азии[1123]. К 1907 г., когда эти две державы заключили договор Антанты, вся мусульманская территория к востоку от границ Османской империи либо находилась под иностранным господством, либо была поделена на сферы влияния, почти не оставлявшие никакой реальной власти в руках удержавшихся на престолах шахов Персии и Афганистана. Западные окраины исламских земель разделили схожую судьбу в конце XIX — начале XX вв., когда европейские державы завершили раздел мусульманского мира и языческой Африки на колонии и протектораты. Задолго до этой даты сама Османская империя — традиционный страж мусульманского мира и борец против мира христианского — попала под опеку великих европейских держав. Первая мировая война нанесла империи смертельный удар. Поощряемые англичанами арабы подняли восстание против турок, и после 1918 г. сами турки, внезапно почувствовав отвращение к империи и самой имперской идее, отреклись от них в пользу турецкого национализма.
Скромное политическое возрождение наступило вскоре после Первой мировой войны. Успешно бросив вызов британской имперской политике, националисты Турции и Саудовской Аравии достигли реальной независимости. Персия и Афганистан также расширили свою независимость, освободившись от влияния как Британии, так и России. В 1930-х гг. продолжался процесс утраты европейскими державами влияния на арабские страны; но лишь после Второй мировой войны такие страны, как Марокко, Тунис, Египет, Пакистан и Индонезия стали действительно независимыми[1124].
Восстановление политической независимости мусульманского мира отразило возросшую эффективность мусульманской политической организации. Современное чиновничество, современные армии и современные теории о праве народов решать свою судьбу прививались мусульманским государствам. Политическая воля арабов, турок и других мусульманских народов стала фактором, с которым приходилось считаться в международной, а еще более во внутренней политике. Однако атрибуты современной государственности были скорее похожи на взятые напрокат украшения, мало идущие древним исламским политическим структурам, и в большинстве государств лояльность к ним омрачалась чувством глубокой ностальгии по невозвратному прошлому.
В сущности, мусульманские народы в течение прошлого столетия одновременно испытывали силу воздействия демократической и промышленной революции, а также не менее драматической революции, которая в европейской истории проявилась в процессах Реформации и Возрождения. И это было не случайно. В начале европейского нового времени мусульманские народы отшатнулись от ересей и нововведений и предпочли уют автократической доктрины и стабильной иерархии. Но когда в XIX в. институты, стоящие на страже правоверия утратили свою эффективность — т.е. когда Османское и Персидское государства, а также суннитские и шиитские улемы потеряли возможность командовать людьми и властвовать над их умами, — мусульмане были вынуждены заплатить высокую цену за свое прежнее интеллектуальное и моральное отчуждение, погрузившись всего за век в сложный комплекс идей и технологий, который европейцы развивали на протяжении четырех столетий. Нет ничего удивительного в том, что смятение воцарилось как в общественных, так и личных делах.
Ислам требует от своих последователей прежде всего покорности предписаниям Корана, который регулирует человеческие взаимоотношения в соответствии с желаниями бога. Но оказалось невозможным привести этот незыблемый свод законов поведения в соответствие с новым, быстро меняющимся под влиянием западных технологий миром и противостоять секуляризации мышления в XIX в. и XX в. Кроме того, энергичность и упорство мусульманских докторов богословия, твердо придерживавшихся требований Корана о невозможности хоть на йоту изменить его канон, поставили современных мусульман в отчаянное положение, оставляя их один на один со всеми неясностями, проистекающими из несоответствия требований Корана текущему дню[1125]. И поскольку отказ от старой религии означал потерю своего культурного самосознания, даже многим образованным людям оказывалось нелегко преодолеть строгие границы традиционного ислама[1126].
На уровне личности обычная реакция на несовместимость исламской ортодоксии и современной мысли приводила к тягостной фрагментации сознания[1127]. Неискреннее прославление ислама и таких западных идеалов, как демократическое правление, плюс постоянная неспособность следовать заповедям хотя бы одной из этих религий — все это было общественным эквивалентом личного раздвоения сознания наиболее образованных мусульман. Необходимо было предпринять усилия, чтобы вырваться из внутренне неустойчивого положения. Радикальная секуляризация государства в Турции и в Российской Средней Азии произошла во время кемалистской (1919— 1923 гг.) и большевистской (1917-1922 гг.) революций. В 1925 г. Персия тоже вступила на путь менее радикальной, но вполне явной политики секуляризации после вступления на престол Реза-шаха. На другом конце спектра ваххабиты-пуритане, стремившиеся к исламизации абсолютно всех сторон жизни человека путем возврата к моделям примитивного мусульманского общества, пришли к власти в Аравии с победой Абд аль-Азиза Ибн Сауда (1919— 1925 гг.).
Только будущее даст нам возможность увидеть результаты этих экспериментов. В Турции реакция против безбожия Мустафы Кемаля стала очевидной в 1950-х гг. Но информация о мусульманских сообществах Советского Союза и Китая слишком неполна, чтобы можно было сделать какие-либо выводы. Равным образом религиозный пыл ваххабитского движения в Саудовской Аравии, попав под золотой дождь открытых нефтяных месторождений, несколько поутих. Возможно, самый большой интерес представляет Пакистан. Эта страна была образована в 1947 г. как мусульманское государство, самим смыслом существования которого является мусульманская вера большинства его граждан. Более того, благодаря школам и армии Британской Индии, состоятельные граждане Пакистана оказались намного больше осведомлены о западной культуре, чем кто-либо в мусульманском мире. Если бы возможно было где-нибудь достичь слияния между западными и исламскими идеями и обычаями, то, похоже, именно здесь. Однако успех отнюдь не был ослепительным. Пакистан, подобно другим мусульманским государствам мира, похоже, оказался в положении страны, для которой Священный закон классического ислама настолько же неудобоварим, насколько и неизбежен — по крайней мере пока[1128].
Промышленный капитализм оказал на мусульманский мир меньшее влияние, чем демократическая революция. Западные товары, произведенные машинами, уже повсеместно разрушили ручное производство, и западные предприниматели внедрили в местную экономику некоторые важные отрасли перерабатывающей промышленности — прежде всего нефтяной. Но из-за отсутствия последовательности и проницательности у мусульманских политических вождей исламские предприниматели лишь в малой степени внедрили современную промышленность в своих странах до 1950 г. Даже когда государство предпринимало усилия по резкой индустриализации, как это было в кемалистской Турции, успехи были незначительными, поскольку в соответствии с давними традициями население государства считало торговлю и экономическое регулирование уделом презираемых религиозных меньшинств — евреев, армян и греков[1129].
3. ИНДУИСТСКАЯ ИНДИЯ
Восприятие западных идей индусами в целом проходило много легче, чем мусульманами. Многовековая враждебность не отделяла Индостан от Запада; более того, индуистское большинство населения не было так уж недовольно британской победой над мусульманским владычеством в Индии. Отсутствие строгой религиозной доктрины в индуизме позволило индусам легче рассматривать западную культуру с позиций ее собственных ценностей или по крайней мере избегать таких парализующих столкновений, какие происходили между западными идеями и предписаниями мусульманского Священного закона[1130]. Кроме того, западное присутствие в Индии было гораздо более интенсивным и широким, чем в какой-либо другой части Азии, и Индия приобрела многие западные атрибуты, такие как система образования по британскому образцу, знаменитая Индийская гражданская администрация, современный свод законов, армия, полиция, экономическое предпринимательство и связь. Эти институты в огромной мере увеличили возможности как для европейцев, так и для индусов изучить достижения культуры друг друга.
Британское присутствие в Индии уже само по себе позволяло преобразовать индийское общество путем одновременного предоставления возможности принять западный стиль и поощрения тому, кто так и сделал. Британцы постепенно низвели коренных индийских правителей и всю правящую клику до статуса марионеток или просто сместили их. Административная власть под британским присмотром перешла в руки индусов, получивших образование на Западе. Одновременно были востребованы и представителей других профессий для осуществления британского владычества. Такие люди, чья работа часто требовала находиться в тесном контакте с англичанами и чья карьера зависела от того, насколько они оправдают надежды своих английских патронов, имели сильные мотивы персонально воспринять западный образ жизни. И поскольку обязанности по реальному административному управлению были возложены именно на таких индусов, ассимилировавших западные манеры наиболее эффективно, это сделало влияние англизированного слоя непропорционально большим по сравнению с его долей в населении Индии и по сравнению с тем, чего он мог бы достичь без британской поддержки.
По этой, а возможно, и по другим причинам индуизм, который из четырех главных древних цивилизаций мира к началу современной эры наиболее пострадал, реагировал на изменения в своем наследии, вызываемые западной цивилизацией, более гибко, чем мусульмане или (по крайней мере до 1950 г.) Китай. Промышленная и демократическая революции имели свои аналоги в Индии, и путем смешения характерных особенностей британской и индийской культур обе они получили дополнительный толчок к развитию.
* * *
Промышленное и экономическое развитие Индии в 1850-1950 гг. определялось противоречием между политической практикой и политическим принципом. Практика, утверждая власть и верховенство британской административной машины, создала Индийскую гражданскую администрацию и со временем ряд подчиненных ей провинциальных служб. Но британский политический принцип требовал ограничить управленческую активность, сосредоточившись в основном на внутреннем порядке и защите границ и не вмешиваться в частное предпринимательство. Очевидно, что соединение британского либерализма XIX в. с действенной, централизованной, наделенной властью бюрократией, очень похожей на ту, которая существовала в восточных империя Европы в XVIII в., должно было привести к серьезным аномалиям. Индия их получила сполна.
Говоря коротко, сверхсовременность постоянно совмещалась с незапамятной древностью, в которую правительство предпочитало не вмешиваться. Экономические и технологические достижения, которые, как было решено, попадали под юрисдикцию правительства, вводились быстро и систематически, причем в таких масштабах и с такой степенью рациональности, что это превосходило что-либо виданное в Англии. Превосходным примером может служить сеть железных дорог в Индии. Широкомасштабное строительство шло в соответствии с планом, утвержденным генерал-губернатором в 1853 г. Несмотря на колебания: передать дороги в государственную или в частную собственность, и неудачное применение двух стандартов колеи, официальный контроль над индийскими железными дорогами был пристальным и сделал железнодорожную сеть очень развитой. К концу XIX в. почти 50 тыс. миль путей пролегли по субконтиненту[1131]. Ирригационные работы, особенно в Пенджабе, составляли другой аспект деятельности британской администрации в сфере экономики, в то время как дороги, оборудование портов и городское строительство оказались вне сферы ее внимания.
С другой стороны, частный сектор оставался все еще не развит. Деревенские обычаи ограждали подавляющее большинство индийцев от всех преимуществ и новых возможностей, которые открывали перед ними новый транспорт и технология. Большинство индийцев были очень далеки от предприимчивости, необходимой для либеральных планов британской администрации. Даже богатые и купеческие классы обычно предпочитали старое традиционное ростовщичество или прямое вкладывание денег в земельную собственность промышленным или другим непривычным формам экономической активности. Как результат, современные предприятия и компании, которые возникали в это время, в большинстве своем контролировали европейцы, парсы или другие иностранцы. Либеральные экономические принципы, которые успешно функционировали в Британии, где прочно укоренился класс предпринимателей, далеко не так успешно работали в Индии, где стремительный рост сельского населения равнялся (а возможно, и превосходил) существенным темпам роста сельскохозяйственной и промышленной продукции. Тем не менее с 1880-х гг. фабричная промышленность становится в Индии реальностью. Текстильная, как хлопчатобумажная, так и джутовая, промышленность стала первой важйой отраслью современной индустрии, а за ней последовали металлургия (сталелитейная промышленность с 1913 г., алюминиевая с 1944 г.) и другие отрасли[1132].
Голод и война изменили отношение между квалифицированной бюрократией, которая принципиально оставляла экономические вопросы на усмотрение частных лиц, и апатичным обществом, которое за редкими исключениями даже не представляло себе, как начать действовать на ниве новых, неиспытанных экономических возможностей. Принцип человеколюбия подвиг британских чиновников предпринять все возможное для предотвращения опасности голода, который всегда грозил, если ослабление муссонов приводило к падению количества осадков ниже определенного уровня. Специальный свод законов о голоде, составленный в 1883 г., предписывал меры, принятие которых предотвращало значительные жертвы в сезоны неурожая. В соответствии с этими законами чиновники обязаны были предпринимать шаги, направленные на импорт и распространение продовольствия в регионах, страдающих от голода, и организовывать выполнение работ, оплата за которые позволила бы поддержать население, пострадавшее от голода. В результате принятых мер оказалось возможным избавиться от некоторых традиционных для Индии тягот, вызываемых голодом, вопреки все возрастающему недостатку площадей, годных для земледелия, что становилось все более явным начиная с 1870-х гг.
Первая и Вторая мировая война повлекли значительно большее отступление от привычных методов управления. Оба эти события убедительно показали уязвимость Индии — даже временное нарушение каналов снабжения различными продуктами из Англии вызвало неожиданно сильные неприятные последствия для индийской армии и правительства. Поэтому чиновники энергично взялись за срочные программы развития или увеличения местных запасов тысяч наименований — недолго и без большого успеха во время Первой мировой, а затем более систематически и весьма успешно во время Второй мировой войны. Это потребовало специального вмешательства, чтобы уговорами, лестью и обещаниями побудить частных лиц действовать в духе новых экономических отношений, если казалось, что это проще, чем организовать государственные предприятия.
К концу Второй мировой войны, когда Индия стала политически независимой, она отказалась от старой сдержанности правительства в сфере экономики в пользу смешанного типа экономики, в которой и частные, и общественные предприятия функционировали в пределах системы правительственного регулирования, стремящегося помочь или даже принудить экономику к развитию промышленности. После некоторых крайностей в распределении новое индийское правительство оживило и увеличило систему официальной стимуляции и направления экономического роста, которая возникла во время войны. И мы еще увидим, опередит ли рост народонаселения Индии результаты усилий по увеличению производства промышленной продукции.
Парсы и англичане, а также небольшое число греков и левантийцев были пионерами современной промышленности в Индии. Но бенгальцы и вскоре последовавшие за ними гуджаратцы, маратхи и другие стали лидерами в проведении идей демократической революции. Как мы видели, Раммохан Рай (ум. 1833) в начале XIX в. указал путь. Постепенная консолидация школьной системы на основе английской модели в последовавшие за 1835-м годы подготовили нужные кадры, а неудача восстания 1857-1858 гг. дискредитировала старые социально-политические идеалы. Затем целое поколение прошло обучение в новых школах, воспринимая европейское понимание политических прав, и в итоге веяние новых доктрин нашло свое организационное воплощение в партии Индийский национальный конгресс (основан в 1885 г.). Однако потребовалась жизнь еще одного поколения, чтобы политические выражения протеста и петиции дополнились массовыми демонстрациями, воодушевлением демагогов-ораторов и тайным терроризмом.
Впрочем, тайные ячейки, пароли и активность революционных студенческих обществ в Калькутте в 1905-1907 гг., как и парламентский образ действий самого Индийского национального конгресса, основывались на зарубежных моделях и довольно мало восприняли от своего индийского окружения. Первое современное и в то же время исконно индийское политическое движение возникло после Первой мировой войны под руководством Мохандаса Карамчанда Ганди (ум. 1948). В нем харизматически сочетались индийская и западная святость, что принесло ему титул «Махатма», т.е. Великая душа, и волнения, которыми он руководил, сочетая решительное гражданское неповиновение с эмоциональным отказом от насилия, в 1947 г. принесло Индии независимость.
Мысль Ганди и его действия эффективно слили индуистский аскетизм с христианским пацифизмом и демократическим секуляризмом. Сравнительно разные точки зрения, иногда соединявшиеся в сознании одного человека, а иногда воплощенные в отдельных личностях или группах, сплавлялись в форму индийского национального движения и партии Конгресса. Такое первоначальное смешение коренных индийских и экзотических западных идей и методов было новым явлением. Более того, ранее не существовало такого массового движения, которое бы руководило огромным большинством индийского городского населения, охватывая все его классы, воздействуя даже на сельское население и поддерживая себя достаточно долго на высоком, но хорошо контролируемом эмоциональном уровне.
Эти достижения сделали реальностью демократическую теорию, в соответствии с которой каждый обычный человек должен иметь право голоса в политических делах. Однако последователи Ганди были более прочно объединены своей оппозиционностью правлению Британии, чем поддержкой каких-либо позитивных программ. Усилия по воскрешению ремесленного производства не входили в экономические планы нового индийского правительства, и, конечно, в холодном свете точных расчетов ручная прялка Ганди не могла решить проблему бедности в Индии. Кроме того, выступления Ганди за предоставление прав касте неприкасаемых возбудили глубокое недовольство среди религиозных консерваторов. В добавок ко всему массовый характер движения Ганди пугал индийских мусульман и провоцировал их на кажущееся вначале безнадежным, но тем не менее оказавшееся успешным требование о создании отдельного, особого государства — Пакистана.
Будущее покажет, как гуманные и благородные идеалы переживут время и как они будут вписываться в демократические, парламентские рамки индийского правительства, согласовываться с просвещенным деспотизмом бюрократического планирования, со всеми страстями, возникающими вследствие религиозных и языковых отличий, и экономическими трудностями, коренящимися в диспропорциях между ростом населения и экономического развития. Однако подводные камни будущего едва ли опаснее, чем препятствия недавнего прошлого, которые сумели преодолеть индийцы. В масштабах, сравнимых только с китайскими, правительство и общество Индии предложили пример интерпретации западных и местных идей, технологии и общественных институтов. глядя из 1960-x, можно с уверенностью сказать, что западные элементы укоренились в Индии. Начиная с 1947 г. западная социальная революция XX в., кажется, слилась с индийской «национальной» революцией, сделав Индию одним из участников и партнеров 80 всемирном, космополитическом, европоориентированном социальном процессе.
 УЧЕНИЕ ГАНДИ
УЧЕНИЕ ГАНДИ
На становление Индии в этом качестве можно своеобразно взглянуть через призму искусства. Рабиндранат Taгop, чья поэзия сплавила воедино европейские, санскритские и бенгальские литературные формы и идеи, был одним из тех, кто добился мирового признания, и невозможно сказать, окажется ли интерес к его творчеству только модой или это литературное Hаследие будет востребовано еще очень долго[1133].
4. КИТАЙ
Развитие Китая начиная с Тайпинского восстания в 1850 г. и до установления коммунистического контроля над страной в 1949 г. во многом напоминает более ранние смены одной императорской династии другой. Многие отдаленные районы Маньчжурской империи откололись от Китая, в то время как долгая череда внутренних восстаний и успешных иностранных вторжений потрясли самую сердцевину китайских владений. Международная политика правительства китайских коммунистов с 1949 г., стремясь к восстановлению китайского влияния на соседние страны, такие как Тибет, Корея и Вьетнам, тоже соответствовала принципам, выработанным в императорский период.
Более того, коммунистическая иерархия партии и правительства была очень похожа на предыдущую конфуцианскую иерархию ученых и чиновников даже в том, как они взаимодополнялись, решая текущие задачи власти. В самом деле, тоталитарный государственный социализм, проявившийся с 1917 г. в европейских странах под знаменами марксизма и нацизма, демонстрировал значительное сходство с традиционными китайскими бюрократическими методами, принципами и предписаниями. Практика предоставления широких полномочий образованной и специально отобранной элите, принцип использования государственной власти в интересах народа в целом и оправдание этим даже жесточайшего подавления инакомыслия, а также предрассудки против такого воплощения зла, как спекулянты и барышники, иностранцы и религиозные суеверия, были общими как для добродетельных конфуцианцев, так и для истинных коммунистов и нордических партайгеноссе.
Другой главный институт китайского общества — семья пережила столетие 1850-1950 гг. так же, как она пережила экономические трудности и политические потрясения других периодов. Нескрываемое отречение от конфуцианского семейного благочестия, которое стало заметным явлением после 1917 г., привело к оспариванию сыновнего долга среди образованных молодых китайцев, старающихся не замечать своей связи с предыдущими поколениями. А в некоторых регионах Китая зарождающийся промышленный капитализм еще более, хотя и не так очевидно, теснил старые семейные отношения[1134]. Однако традиционные отношения и обязательства, которые даже после 1917 г. продолжали оставаться в крови подавляющего большинства молодых китайцев, оказались необычно прочными и гибкими. Семейные связи часто восстанавливали даже те, кто в юности недвусмысленно заявлял о своем отрицании конфуцианской формулы сыновнего долга.
Тем не менее эта впечатляющая непрерывность традиции не дает основания считать, что в XIX-XX вв. Китай просто проходил привычный этап исторического цикла. Начиная с 1917 г. китайское высокообразованное меньшинство со все возраставшим единодушием и энергией отвергло весь комплекс конфуцианского кодекса жизни, с его древними понятиями о приличиях, манерах и политике. В конечном счете характер китайской жизни определился радикальным воздействием резкого переключения лояльностей, тем более что интеллектуальная элита смогла легко использовать древние китайские политические институты для новых целей.
Все идеалы, исповедуемые образованными китайцами, пришли непосредственно из космополитической культуры Запада. Даже в XIX в. Тайпинское восстание (1850-1864 гг.), которое ударило в самое сердце Маньчжурской империи, провозглашало идеалы христианского братства, хотя даосские и буддийские элементы, с самого начала сплавленные с христианскими мотивами, по мере успеха восстания становились все более явными[1135]. После унизительного военного поражения от японцев в 1895 г. поколение революционных лидеров, из которых наиболее известным был Сунь Ятсен, почти панически бросилось искать новые талисманы государственного и национального спасения. Мировые великие державы предлагали очевидные модели, и стало совершенно очевидным, что западные народы, а к тому времени и Япония организовали свои общества много успешнее, чем смог это сделать Китай. Соответственно Сунь Ятсен и другие революционеры начали искать западные политические и экономические идеи (часто профильтрованные через Японию). Они действовали очень наивно, глубоко не разбираясь ни в классической китайской, ни в западной культурной традиции. После 1917 г. Октябрьская революция в России предложила другой, очень заманчивый[1136] источник чужеземного вдохновения, и с 1949 г. коммунистическая идеология успешно захватила интеллектуальную и политическую монополию в континентальном Китае.
Все это идеологическое непостоянство расцветало на фоне довольно скромных институциональных изменений. До рубежа веков политика правительства и конфуцианского дворянства, сохранявших социальное лидерство в глубинке, была направлена на минимизацию любого влияния Запада и его присутствия в Китае. После 1842 г., когда британские военные суда впервые принудили китайскую власть приспосабливаться к иностранным коммерческим и дипломатическим методам, и еще более выразительно после 1858-1860 гг., когда возобновившееся проникновение Британии и России в Китай заставило последний увеличить привилегии иностранцам, правители Китая уже не могли делать вид, что заморские варвары — это их данники. Тем не менее большинство мандаринов предпочитали не замечать величайшие нарушения этикета: наивный этноцентрический универсализм конфуцианства запрещал признание равенства — тем более превосходства — любых альтернативных систем общества и цивилизации.
Необходимость справиться с Тайпинским восстанием привела энергичных и дальновидных реформаторов на ключевые посты в китайском правительстве. Они стремились перевооружить армию и флот, улучшить арсеналы, считая эту реформу основной для развития своей страны по западному образцу. Однако по окончании Тайпинского восстания официальные реформы пошли на спад: отчасти из-за непринятия их консервативными умами, но главным образом потому, что они сами носили половинчатый характер. Их главной целью было сохранение старого порядка, и когда нововведения начинали этому порядку угрожать, правительство просто отказывалось от них. Для того чтобы дать Китаю армию, вооружение, промышленность и средства связи, с которыми он чувствовал бы себя достаточно независимым, требовалась гораздо более глубокая модификация китайского общества, чем того хотели реформаторы 1860-х гг.[1137]
В последние годы XIX в. события ускорили крушение конфуцианского режима. Победа Японии в 1895 г. и неудача Боксерского восстания в 1900-1901 гг. еще раз унизили Китай как державу и убедили в необходимости коренных перемен даже тех, кто, яростно сопротивляясь, придерживался освященных веками догм. Реформы проводились во многих направлениях. Те изменения, которым подвергался аппарат управления в течение довольно длительного времени как до, так и после отречения от престола последнего императора маньчжурской династии в 1912 г., обычно носили поверхностный характер и оказались неэффективными для усиления мощи Китая. Однако в системе образования изменения были глубже и существеннее и достигли своей цели преобразования интеллектуального климата в стране. Отмена императорских экзаменов, основанных на знании претендентом конфуцианской классики, резко положила конец методу, по которому правящая клика отбирала претендентов на включение в свой состав на протяжении более чем двух тысячелетий. В результате честолюбивые молодые люди, которые раньше были обречены всю свою жизнь изучать классику Древнего Китая, хлынули в образовательные учреждения Запада. Идеологическая многоголосица, сопровождавшая отрыв от традиционной опоры, обрушилась на миллионы китайцев, чье детство и ранние годы обучения проходили в традиционных рамках, а потом они оказались подхвачены вихрем чужеземных и часто лишь наполовину понимаемых идей[1138]. Но для каждого, кто пережил такие потрясения в юности, любой моральный, политический или интеллектуальный выбор в дальнейшей жизни был связан с внутренней неустроенностью и уязвимостью. Как результат, даже самые эмоционально выраженные убеждения могли резко уступить новомодной доктрине, которая обещала еще более быстрое спасение от мучительных колебаний в мыслях и неэффективности в действиях. Массовое вступление в ряды гоминьдана в 1920-х гг. и более поздняя коммунистическая консолидация в Китае стали возможны только благодаря такой интеллектуальной изменчивости.
Но несмотря на пылкость, с которой китайские интеллектуалы и политики обсуждали западные идеи, их влияние на Китай до 1950 г. было поверхностным. Огромная масса китайского крестьянства, составляющая 80% населения, была подобна великому океану, уровень которого не могли заметно повысить ручейки западных товаров и потоки миссионерских проповедей. Временный успех Тайпинского восстания, постоянная слабость маньчжурского режима, взлет и падение гоминьдана и успех коммунистов в 1930-х и 1940-х гг. — все это обернуло классовое крестьянское недовольство против арендодателей, сборщиков налогов и ростовщиков, большинство из которых по соображениям деловых связей и безопасности жили в городах[1139]. Но подобное часто случалось в истории Китая и раньше — по мере приближения каждой династии к своему концу. Насилие, голод и болезни, которые преобладали в китайских обширных сельских регионах в первой половине XX в., были не более чем традиционным, хоть и грубым, средством улаживания увеличившихся диспропорций между землей, рентой, налогами и населением. Наличие западных фабричных товаров, например хлопчатобумажной одежды и керосина, могло обострить бедствия крестьянства в некоторых частях Китая, приводя в упадок сельские ремесла. Городские ремесленники также пострадали из-за того, что вкусы богатой части населения переменились в пользу экзотических западных изделий. С другой стороны, новые или расширившиеся промыслы, такие как производство тунгового масла, вольфрамовой руды, чая и шелка для западных и мировых рынков, увеличивали возможности заработка для этих же классов.
Современная машинная индустрия сделала первые скромные шаги в Китае в 1840-х гг. и получила значительное ускорение только после 1895 г., когда договор об окончании японско-китайской войны дал иностранцам право возводить заводы и фабрики на китайской земле, одновременно предоставляя привилегии в торговле товарам, импортируемым из-за границы. Первая мировая война прервала поставки из Европы и тем самым временно подтолкнула развитие китайской промышленности, особенно в производстве хлопчатобумажной одежды, но конкуренция с Японией, финансовая и общая нестабильность межвоенного периода помешали ускоренному развитию современной промышленности в Китае. Такие большие современные города, как Шанхай и Тяньцзинь, не превратились в крупные индустриальные комплексы, но остались ведущими торговыми и финансовыми центрами в основном под контролем иностранцев.
Железные дороги в Китае не играли такой важной роли, как, например, в Индии. Широкомасштабное строительство началось только в первой декаде XX в., и создание дорог, связывающих важные пункты страны в единую сеть, сопровождалось яростной борьбой и интригами между европейскими финансовыми группами, делавшими вложения в строительство железных дорог в Китае. Более того, даже там, где железные дороги были построены, они функционировали нерегулярно из-за финансовых и административных беспорядков и постоянных военных действий[1140].
Действительно широкомасштабные и успешные усилия по созданию в Китае современных промышленности и транспорта были отложены до появления по-настоящему эффективного правительства, способного установить в стране мир. Это произошло в 1929 г., когда гоминьдан взял власть в Китае, но вскоре возобновились атаки японцев (1931 г.) и волнения в провинциях. Мир наступил снова только в 1949 г. Таким образом, до этого времени промышленная революция только затронула Китай. Основа старых экономических отношений в городе и деревне оставалась все той же. Западное присутствие спровоцировало необычайно бурный подъем китайской экономики, подобный тому, который вызвали монголы в XIII в., но это все еще была не фундаментальная трансформация.
Только после того, как Китай завершил традиционный цикл эволюции от одного сильного политического режима к другому, западный космополитизм получил возможность встать лицом к лицу с традиционными китайскими общественными институтами в широком масштабе. И до тех пор, пока традиционные социальные диспропорции в китайском обществе вызывали традиционную ответную реакцию в виде насилия и беспорядков, острие западного экономического проникновения было притуплено. И все горячие дебаты среди образованного меньшинства — о приверженности к западным формам и их глубокой важности для отдаленного будущего Китая — оказывали действительно мало практического влияния на немедленное внедрение западного промышленного капитализма. Действительно глубокое и имеющее решающее значение противоречие между китайской и западной цивилизациями — дело будущего. Именно оно обещает наиболее важное культурное взаимодействие XX в. и, возможно, XXI в.
В век таких острых перемен, когда моральные, равно как и экономические и политические, стандарты постоянно менялись, трудно ожидать расцвета высокого и безмятежного культурного творчества. Однако среди важных реформ, особенно в письменности, был проект Ху Ши (1919 г.) о принятии народной речи как стандарта литературного языка и более позднее предложение коммунистов создать алфавит для китайского языка. Сильные интеллектуальные и ученые традиции страны содействовали введению западной науки и образованности в Китае, частично благодаря усилиям миссионеров, частично благодаря студентам, которые обучались за границей в западных университетах. Особенно в области китаистики соединение китайских и западных методик, подкрепленное предложением стипендии, часто оказывалось очень плодотворным. Однако по сравнению с великим прошлым столетие 1850-1950 гг. оказалось низшей точкой в культурных достижениях Китая[1141].
5. ЯПОНИЯ
Во время сегуната Токугава японская цивилизация проявляла удивительную двойственность, балансируя между противоположными крайностями. Так моральный идеал воина со всеми его спартанскими требованиями вступал в противоречие с потворством жизнелюбию укие-э, и между этими двумя моральными кодексами не существовало среднего пути. Япония была официально закрыта для внешнего мира; однако любопытство к «голландской учености» могло преодолеть громадные препятствия. Опять же личные наследственные узы японского феодализма лишь маскировали, но не могли скрыть нити бюрократической администрации в каждом из шестидесяти или около того отдельных феодальных ленов, или территорий кланов, на которые была разделена Япония. Но более мучительным было разделение между экономической и политической властями, позволяющее процветать презренным купцам, в то время как крестьяне и воины, превосходившие их по традиционной общественной шкале, страдали от постоянной нищеты. Итак, натянутые, но стабильные отношения между императором и сегуном просто символизировали дуализм, пронизывающий всю японскую жизнь. Святой и безвластный монарх, почитаемый как источник власти и окруженный паутиной ритуала, почему-то терпел наследников удачливых головорезов начала XVII в. и был терпим ими. И сегуны рода Токугава, которые правили Японией тяжелой рукой при помощи целой армии чиновников, шпионов и солдат, искусно балансировали на острие противоречивых интересов различных людей, классов и кланов.
Письменного повеления из дворца сегуна было достаточно, чтобы сохранять равновесие между такими кажущимися несовместимыми интересами. Но когда такое повеление было проигнорировано, как в 1850-х гг. из-за конфликта между кланами, решавшими, кто сменит бездетного правителя, даже такая незначительная непредвиденная случайность, как появление «черных кораблей» коммодора Пири (1853-1854 гг.), вызвала далеко идущие глубокие изменения в японском обществе и цивилизации.
Реорганизация японской политики и экономики, проходившая до Второй мировой войны, явила миру не имеющий себе равного пример успешного реагирования на европейские стимулы — успешного в смысле способности нации сперва противостоять, а затем и отразить наступление западных наций, чьи корабли и торговля ускорили падение режима Токугава. Однако политика быстрого и массированного освоения западной техники и технологий не снимала внутренних противоречий, присущих Японии периода Токугава. Наоборот, успех, с которым японцы заимствовали различные аспекты западной цивилизации — особенно в области производства военной техники, — зависел от мастерства балансирования между старыми и новыми элементами. Таким образом, почти незатронутая, продолжавшая существовать в старых образцах, безошибочно японская социальная иерархия с определенными моделями поведения для представителей различных социальных слоев позволила маленькой группе вождей в течение одного поколения довести до конца изменения военных и экономических институтов и перестроить политическую систему Японии по западному образцу[1142].
* * *
Психологическое напряжение, порой приводящее к внезапным изменениям в поведении, непостижимым для посторонних, возникло в Японии задолго до окончания ее изоляции в 1854 г. Рвение, с которым японцы сначала приняли, а затем изгнали португальцев, много более ранний энтузиазм, с которым японский императорский двор воспринял китайскую цивилизацию в VI в. и последующих веках нашей эры, а также резкие перемены в отношениях с США и другими странами в этом столетии — все это производит впечатление закономерности и позволяет предположить, что крутая переменчивость — скрытая черта психологии японцев[1143].
Совершенно не говоря об особенности японского общества, сам тот факт, что Япония заимствовала большую часть своей высокой культуры и технического искусства у Китая в течение более чем тысячи лет, содействовал восприятию западных идей и технологий в XIX-XX вв. Их предшественники уже как бы признали превосходство иноземцев в некоторых вещах, т.е. открытие того, что европейцы превосходят их в знаниях и мастерстве, не было ударом для японского самосознания. И как их предки полюбили все китайское, так японцы стали энтузиастами в принятии Запада.
Наконец, определенное сходство японской и западной цивилизаций облегчало принятие западных моделей в Японии. К XIX в. варварская воинственность на Западе и в Япония была организована (а в Японии почти подавлена) бюрократическим правлением. Но японский «путь воина» с его понятиями чести и социального превосходства имел почти точные аналогии в европейской жизни, и — что, возможно, даже было решающим – в обоих обществах ценности и отношения профессиональных военных в значительной степени разделяли и поддерживали другие классы. Крестьяне и горожане в Японии, так же как и их современники в Европе, были склонны скорее браться за оружие, чем склоняться перед в жестокостью и принуждением аристократических специалистов.
Японцы предложили интересный парадокс — государство, в котором идеологический (и эмоциональный) консерватизм послужил принципиальным инструментом радикальной трансформации институтов власти. Как результат, промышленная и демократическая революции оказались успешными в разной степени: хотя японская технология и совершила скачок вперед начиная с 1885 г., демократическая революция, несмотря на внешние конституциональные формы, почти не затронула традиционную японскую иерархию до 1945 г.
* * *
После неуверенного старта в 1880-х гг. основанные на механической силе промышленность и транспорт позволили японским товарам к началу Первой мировой войны вступить в соревнование с европейскими и американскими товарами на всем Дальнем Востоке. В период между войнами японцы продолжали расширять сферу своих коммерческих операций и к 1930-м гг. подошли к соперничеству со своими конкурентами в мировом масштабе. И даже более того, индустриальная база, необходимая для современной армии, военно-морских и военно-воздушных сил, быстрыми темпами развивалась не только собственно в Японии, но и в недавно завоеванных ею землях — в Корее (1910 г.) и Маньчжурии (1931-1932 гг.).
Японская индустриализация не следовала европейских образцам. Государство играло более центральную и властную роль, чем в какой-либо европейской стране. В результате решения промышленников всегда согласовывались с требованиями национальной военной мощи. В этом отношении японская индустриализация как бы предваряла российский коммунизм. Но в отличие от позднейших коммунистических правительств, японцы предоставляли свободу множеству малых предпринимателей, которые действовали в традиционных рамках ремесленничества и семейных отношений. Два усовершенствования помогли приспособить эти древние модели промышленности к современным условиям. Во-первых, легкие инструменты, приводимые в движение электрическими моторами, заменили ручные и значительно увеличили выпуск продукции. Во-вторых, распространение товаров, производимых маленькими ремесленными фабриками и мастерскими, поручали большим фирмам, или, если смотреть на это с другой стороны, крупные торговые фирмы заказывали товары у маленьких мастерских. И поскольку им требовались значительные ссуды в период между покупкой и продажей, такая схема оказалась включенной в крупномасштабную сеть основных предприятий — банков, металлургической и другой тяжелой промышленности, кораблестроительных компаний, в строительство и эксплуатацию шахт и т.д.
Самые современные средства производства контролировал узкий круг олигархов — зеркальное отражение политических олигархов, контролировавших правительство. Отношения между теми, в чьих руках была экономическая и политическая власть, всегда оставались очень тесными, и часто эти две элиты сливались благодаря бракам между их представителями. Крупные семейства предпринимателей, такие как Мицуи и Мицубиси, приобрели заметный вес в последние десятилетия ХIX в., взяв в свои руки управление предприятиями, поставленными в строй в рамках бюджетных программ. Малые, почти символические суммы запрашивало государство за готовые дорогостоящие заводы, но новые частные владельцы, испытывавшие чувство ответственности перед политическими вождями государства и будучи зависимыми от них, считали своим долгом предпринимать шаги, необходимые или полезные государству[1144]. В результате консолидация могущественной и богатой экономической олигархии уменьшила необходимость прямого вмешательства государства в экономические действия, хотя государственные арсеналы продолжали производить некоторые типы вооружения, особенно новые или экспериментальные модели.
Итак, хотя техника и машинное производство были западными, общественно-экономическая организация, которая приводила в действие новую машинную технологию, была почти полностью японской. Это означало, в частности, строгое соблюдение правил честности и почтительности между выше- и нижестоящими как в экономике, так и в других социальных отношениях. Таким образом, промышленная революция в Японии носила особый социальный характер, лишив современный индустриализм его «обычного», по мнению исследователей европейской истории, спутника — демократической революции[1145].
Сохранившаяся строгая иерархическая социальная структура в Японии сделала аккумуляцию капитала, необходимого для инвестирования в промышленность, сравнительно легкой. Правительство финансировало первые шаги индустриальной модернизации налоговыми поступлениями, таким образом предоставив крестьянам оплачивать капитальные вложения; другого внутреннего ресурса и не нашлось бы. Позднее, когда при направляющей роли правительства сформировалась финансово-индустриальная олигархия, монополистические цены на товары и услуги как в пределах страны, так и за рубежом позволили сконцентрировать достаточные финансовые ресурсы в нескольких руках. Однако эти монополисты были энергичными предпринимателями, жившими довольно скромно, призывая других воздерживаться от показной роскоши и стимулируя образование капитала как на верхних, так и на нижних ступеньках социальной лестницы[1146].
* * *
В Японии никогда не происходило революции в западном понимании этого слова. Феодалы и воины, которые свергли режим Токугава в 1867 г. и восстановили на троне императора Мейдзи, определенно не были сторонниками народного правления. Даже когда в 1889 г. японцы ввели написанную по западному образцу конституцию с полным демократическим набором: избираемый парламент, кабинет министров и независимая судебная ветвь -политический вес обыкновенных людей был урезан введением ограничений на полномочия законодательного органа. Конечно, реалии политики, вращающейся вокруг феодальных родов и давно существующей системы местной и семейной круговой поруки, находились еще дальше от демократической практики в том виде, в каком она была записана в конституции Мейдзи.
С течением времени клановая преданность ослабевала и традиционная социальная иерархия японского общества стала терять свою прочность. Итак, хотя конституция Мейдзи просуществовала до 1945 г., внутренние реальности японской политики становились все более сложными. Всеобщее избирательное право для мужчин (1925 г.) расширило электорат и позволило честолюбивым выходцам из низов соперничать со старинными семействами за политическое лидерство внутри страны. В 1930-е гг. военная клика стала независимо влиять на правительственную политику, но вопреки таким изменениям в традиционной табели о рангах узкий круг олигархов продолжал закулисно определять японскую политику до 1945 г.
После поражения во Второй мировой войне Япония оказалась на некоторое время под контролем американских оккупационных сил. Новая японская конституция, провозглашенная при содействии американцев в 1947 г., была вполне демократической — в стиле Соединенных Штатов. Однако вызывает сомнение, что сохранившиеся японские понятия о личности, обществе и иерархии вместе со всеми общепризнанными правилами поведения между неравными по положению в действительности позволят не только провозглашать равенство, индивидуализм и совершенно чуждые идеалы, так тщательно прописанные в конституции[1147].
Хотя не произошло ничего убедительно напоминающего демократическую революцию у других народов, японская система власти пережила два полуреволюционных изменения. Первое из них — восстановление императора — было, на первый взгляд, реакционным государственным переворотом, совершенным группой молодых самураев, многие из которых начинали свою жизнь в скромных условиях и некоторые из которых уже имели чиновничий опыт местного администрирования перед тем, как перенести свою энергию на общенациональную сцену. Это были люди, которые хотели реставрировать императорскую власть и изгнать иноземцев, начавших индустриальную модернизацию Японии. Они также разработали важные административные изменения, объединяющие все феодальные лены Японии периода Токугава под эгидой центрального правительства и исключающие правовую основу феодализма путем выкупа прав землевладельцев и самураев за государственные ценные бумаги. В действительности это было логическим завершением неполной бюрократической централизации, на которой первые сегуны рода Токугава построили свою власть и которую их наследники сохраняли почти неизменной в течение двух столетий.
Реорганизация японского класса военных составляла очень важный аспект реставрации Мейдзи. Надменные самураи, необразованные крестьяне, смиренные торговцы и даже отбросы японского общества — все были записаны в новую японскую армию, создававшуюся по европейскому образцу, где все они были обязаны подчиняться офицеру императорской армии так же безукоризненно, как раньше семейному, сельскому, цеховому или чиновному вышестоящему. Перенесение традиционного почитания и покорности на офицерский корпус прошло очень успешно. При этом человек любого происхождения, ставший офицером императорской армии, получал нимб командира, сиявший в веках благодаря дисциплинированной жестокости господ и воинов, направленной против остальной части японского общества.
Таким образом, армия стала социальным эскалатором, в особенности для крестьянских детей, которые получили возможность благодаря своим деловым качествам достичь статуса, когда-то доступного лишь наследственным самураям[1148].
В результате молодые армейские офицеры оказались наиболее радикальными горячими головами, недовольными властью. Выражая чувства огромного сегмента сельского населения Японии, армейские экстремисты составили одну из важных групп, способных заменить олигархов, контролировавших партийную политику. В этом смысле они представляли демократический элемент в японской политике. Более того, они были готовы действовать за рамками старой социальной иерархии для достижения своих целей. Оппозиция в лице этой военной группировки, поддержанная опасностью народного недовольства и прибегавшая к насилию вплоть до устранения неугодных, ограничивала свободу маневра японских политиков в 1930-е гг. и сыграла большую роль в продвижении Японии к войне с Китаем и, наконец, к ее вступлению во Вторую мировую войну. Этот процесс был, возможно, самым близким к демократической революции из того, что испытала Япония до Второй мировой войны.
Еще невозможно предвидеть результаты второй японской полуреволюции в верхах, совершенной между 1945-м и 1952 г. генералом Дугласом Мак-Артуром и его как американскими, так и японскими ставленниками. Кажется невероятным, что иерархическая система японского общества просто исчезнет, хотя она и может несколько поколебаться под воздействием военных неудач, оказавшись дискредитированной военным поражением режима и разрушительным воздействием открывшегося после войны американского примера и экономического оживления. И также пока точно не ясно, сможет ли соединение западной технологии с почти неизменной японской социальной структурой сломить устойчивое равновесие либо в конечном счете промышленная революция потребует общей и драматической реорганизации японского общества. Вопрос заключается в том, действительно ли демократическая и промышленная революции в Европе в XIX-XX вв. были связаны некоторыми совершенно неизбежными взаимоотношениями или их можно эффективно разделить на неопределенное время, как японцы разделили их на 60 лет до 1945 г.
* * *
Социальные и психологические конфликты, которые подорвали традиционные культурные формы Китая и других незападных народов, действовали менее сильно в Японии, потому что японцы смогли сохранить свою политическую и духовную независимость от Запада. Объем японского художественного и литературного творчества, следовательно, оставался огромным. Однако традиционные искусства Японии стали превращаться в дань традиции или даже приходить в упадок, импортируемые новшества — архитектурные, научные или литературные — не достигли по-настоящему масштабного развития. Поэтому японцы, подобно большей части остального мира, прошли через сравнительно вялый период культурного существования в 1850-1950 гг. Конечно, достижения японцев значительно отличаются от культурного состояния менее счастливых цивилизованных народов Азии, главным образом в демократизации литературной культуры благодаря действительно всеобщей грамотности[1149].
6. ДРУГИЕ ЧАСТИ МИРА
Из существовавших в середине XIX в. нескольких тысяч различных культурных сообществ очень многие растворились с тех пор в численно и эволюционно превосходивших их группах человечества. Общее число различающихся обществ в середине XIX в. оставалось достаточно большим, и даже в середине XX в. существует огромное разнообразие институтов и отношений. Каждое общество, большое или малое, как и раньше, продолжало реагировать по-своему на новые стимулы, возможности и опасности. Но западный космополитизм, возникший из демократической и промышленной революций, не оставил незатронутым ни один уголок планеты.
Громадное разнообразие, радующее любого антрополога, продолжало присутствовать в жизни человечества. Потеря европейцами (и американцами) своих колоний после Второй мировой войны сделала разнообразие социальных условий человечества даже более впечатляющим, чем когда колониальные администрации пытались втиснуть в рамки единообразия разные области земного шара. Революционные движения XX в. в некоторых латиноамериканских странах также акцентировали внимание на продолжающемся существовании американских индейцев как значительной социальной общности. Например, мексиканские художники, вдохновленные революцией 1911 г., включали старые индейские мотивы в очень сложные художественные и архитектурные стили и таким образом успешно вливали примитивизм Нового Света в репертуар современного космополитического искусства[1150]. Но другие области духа, в которых происходило слияние западного и местного искусства и мышления, еще не привлекли пристального внимания или оказались неспособными предложить что-либо обогащающее для и так уже перегруженного космополитизма XX в.
А. ВСТУПЛЕНИЕ
Четыре события в середине XIX в. символизируют непоправимое разрушение традиционного порядка четырех величайших цивилизаций Азии. В Китае Тайпинское восстание 1850 г. глубоко потрясло и в течение 14 лет разъедало социальное устройство государства, в результате чего возвращение к имперской политике преднамеренной изоляции от внешнего мира становилось все более неосуществимым. Одновременно в результате пусть и не такой яростной, но тем не менее драматической революции сверху, начавшейся в 1854 г., Япония ломает ограничения, придуманные сегунатом Токугава, и открывает свои границы для ограниченной иностранной торговли. В Индии сипаи в 1857-1858 гг. сыграли роль могильщиков старых общественных порядков. После того как восстание было подавлено, школы и железные дороги стали причиной того, что индийцы больше не могли относиться к европейцам как к особенной касте завоевателей. И подобно тому, как змея сбрасывает старую кожу, все большее число индийцев стало отбрасывать унаследованные традиции. Наконец, Крымская война (1853-1856 гг.), в которой турки с помощью англичан и французов одержали победу над Россией, разрушила намного больше общественных институтов Османской империи, чем какие-либо прежние поражения. Султанская империя никогда раньше не знала таких порожденных войной новшеств, как большие долги перед европейскими вкладчиками в железные дороги, построенные европейскими инженерами. Однако все это не гарантировало для всех подданных Османской империи формального равенства и свобод, провозглашенных правительством в 1856 г. по требованию британского, французского и австрийского послов.
Таким образом, во всех великих азиатских цивилизациях революции снизу или сверху внезапно дискредитировали или разрушили старые ценности и обычаи, и в каждом случае разрушительное влияние было стимулировано контактами и столкновением с индустриализирующимся Западом. За считанное десятилетие в середине XIX в. фундаментальное равновесие четырех культур ойкумены, которое выдержало все удары в продолжение двух тысячелетий, наконец разрушилось. Вместо четырех (или пяти, если считать Японию) автономных, хотя и взаимосвязанных, цивилизаций стал проявляться еще неоформленный, но уже подлинно глобальный космополитизм как доминирующая реальность человечества.
Одновременность столь огромных изменений в мировой истории не была случайной. Японцы, открывшие свою страну иностранцам, знали о трудностях, которые в это время испытывал Китай, и индийские сипаи знали об участии Британии в Крымской войне. Европейская политика по отношению к Дальнему Востоку и Китаю в 1858-1860 гг. характеризовалась англо-французским сотрудничеством, впервые прошедшим испытание в Крыму. При этом плотность, скорость и регулярность движения в сети мирового транспорта к середине XIX в. достигли такой степени, что никакая цивилизованная часть планеты не была отделена от другой более чем несколькими неделями; а мгновенная связь с помощью электрического телеграфа, хотя она стала межконтинентальной лишь после прокладки кабеля через Атлантический океан (1867 г.), была уже в 1850 г. реальностью во многих странах Европы и Северной Америки. Распространение железных дорог, которые требовали много большего труда при прокладке, несколько запаздывало по сравнению с распространением телеграфа, но только на десятилетие или около того. В 1870-1890 гг. на океанах пароходы повсюду заменили парусные суда для перевозки стандартных грузов.
Эти революционные усовершенствования в транспорте и связи были частью целого комплекса быстро развивающихся западных технологий, а технологии, в свою очередь, во второй половине XIX в. вошли в тесное и плодотворное взаимодействие с теоретической наукой, которая и сама развивалась невиданными темпами. Более того, такая революция в средствах связи, резко изменившая взаимоотношения мировых цивилизаций, опиралась на широкую базу технологии, та — на развитие науки, и все они зависели от состояния общества, европейских институтов и отношений, без которых связь, технология и наука не смогли бы достигнуть своей революционной силы. Однако технологические изменения преобразовали старые общественные отношения непредвиденным и непредсказуемым образом; в некотором смысле можно действительно сказать, что в первых десятилетиях XX в. побочным эффектом выдающихся успехов новой технологии (которая стала массовой всего лишь за сто лет до этого, даже в такой передовой стране, как Великобритания) стало разрушение старых традиций цивилизации Запада, точно так же, как традиции старых цивилизаций Азии были разрушены за 60 или 70 лет до этого.

Можно сказать, что союз науки и техники, оформившийся два века назад, перевернул все цивилизации, которые образовывали социальный пейзаж предыдущих столетий, и возвел на развалинах культур старых ограниченных цивилизаций новую космополитическую, современную культуру. Огромные изменения в повседневной жизни свидетельствуют о продолжающемся процессе слияния ранее изолированного сельского населения с населением городов-мегаполисов. Кроме того, «разрушение» западной цивилизации, которое стало ощутимым в начале XX в., было не разрушением как таковым, а просто дальнейшей стадией ее собственной эволюции. На всем протяжении истории драматическая нестабильность отличала Дальний Запад от цивилизаций Евразии, и возможно, новая история мира — еще один пример этой давней склонности к переменам, которые на этот раз охватили не только Запад, но и все человечество.
Для тех, кто считает себя наследниками западной цивилизации, выбор между взаимоисключающими интерпретациями недавних исторических событий в огромной мере зависит от личного вкуса и темперамента, тогда как наследники других культурных традиций обычно предпочитают ту точку зрения, что цивилизация нового времени скорее существенно отличалась от всех предыдущих, чем имела с ними сходство. Нельзя ожидать согласия в этом споре, и люди XX в. по понятным причинам не могут оценить происходящие события с позиций, не окрашенных эмоциями. Тот факт, что все культурное разнообразие человечества сейчас находится, тесно взаимодействуя, в пределах целого, может иметь совершенно непредвиденные последствия. И даже самые зоркие наблюдатели XX в. при попытках проникнуть в суть окружающего мира могут оказаться столь же ограниченными, как утонченные греко-римляне I в. н. э. были полностью равнодушны к грядущему величию тончайшей прослойки первых христианских общин. Есть все же определенный предел, заложенный в самой сути человека, за него не выйти ни нашим предкам, ни нам самим, ни нашим потомкам.
Но и оставаясь в рамках, налагаемых временем, окружением, темпераментом, можно говорить о том, что в истории прошлого столетия две темы кажутся первостепенными: 1) возрастание контроля человека над видами природной энергии; 2) увеличение готовности манипулировать общественными институтами и обычаями в надежде достигнуть желаемых целей. В терминах более близких историкам, можно сказать, что это развитие свелось к индустриализации и политико-социальным революциям; тогда как на языке социального (возможно, старомодного) философа две основные темы можно соединить под одним заглавием — «прогресс человеческого разума в приложении к природе и человеку». Прогресс был наиболее выражен в науке и технологии, но не обошел и многих важных аспектов человеческих отношений. И высшая ирония нашего времени заключается в том, что философы открыли непознаваемость, психологи — иррациональность природы человека, антропологи, социологи, экономисты — несоизмеримость социальных явлений по сравнению с человеческим расчетом, не говоря уже о какофонии мыслителей, вопрошающих: куда, во имя каких целей, в соответствии с какими ценностями бестолково движется суетливое человечество? Но эта ирония не вызывает отчаяния. Как ни слаб тростник, мыслящий разум подобен острию рапиры, пусть споры о решении интеллектуальных дилемм нашего времени через столетия покажутся столь же интересными, сколь не имеющими значения, как нам сейчас кажутся богословские споры XVI в. в Европе.
Если рассматривать успех в целенаправленном использовании 1) природной; 2) общественной энергий как центральную тему новой истории, то Европа и Запад оказываются еще более в центре внимания, поскольку все важнейшие нововведения в технологии и общественной структуре, растревожившие человечество в течение XIX в. и в первой половине XX в., возникли в западном и во многих случаях именно в европейском контексте.
Здесь, как и в непосредственно предшествующих главах, кажется разумным сопоставить развитие Европы в более ранние времена с тем, что происходило на мировой сцене несколько десятилетий спустя. Новый режим, который потряс Европу после 1789 г., соединив французский политический и британский индустриальный опыт, придал новые формы и звучание быстро растущему Западу. Кроме того, экспансия Запада помогла решительно низвергнуть старые стили цивилизованной жизни в Азии около середины XIX в. Полных сто лет после этого незападный мир боролся за то, чтобы приспособить местное культурное наследие во всем его многообразии и богатстве к идеям и технике, пришедшим из Европы XIX в. Более новые типы интеллектуальных и нравственных дилемм, вырастающие из более новых типов социального и политического манипулирования и новой страны электронных, атомных и ракетостроительных чудес середины XX в., не стали действительно актуальными нигде за границами западного мира. Это не значит, что другие народы не подверглись воздействию таких изменений. Но это значит, что индусы, китайцы, мусульмане Среднего Востока — как и подавляющее большинство западного человечества — не стали той активной частью человечества, которая создавала новшества, обещавшие придать второй половине XX в. особый исторический характер.
Поэтому в данной главе будут проанализировано европейское и западное развитие с 1789 г. по 1917 г., при это изредка будем обращать внимание на события текущей истории Запада для убедительности выводов. Усилия будут направлены на то, чтобы распознать поворотные пункты в процессе культурного взаимодействия между западным и незападным миром до 1950 г. Однако 1950 г. не имеет какого-то особенного значения — он выбран просто арифметически. Будущие историки, возможно, предпочтут 1945 г. или более позднюю дату, когда попытаются разделить историю XX в. на ее наиболее значительные периоды.
Б. ЗАПАДНЫЙ ВЗРЫВ В 1789-1917 ГГ.
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ
Ко времени начала Великой французской революции в 1789 г. географические границы западной цивилизации можно было определить с приемлемой точностью. Но ко времени Русской революции 1917 г. ситуация изменилась. История Запада слилась с мировой историей, но одновременно та же судьба постигла и другие цивилизации, а также первобытные и протоцивилизованные сообщества — всех, кто составляет человечество.
В этом сплаве народы Запада имели большие преимущества над всеми другими. Твердая вера в ценность своих собственных унаследованных институтов, а также быстро растущая численность, наиболее мощное оружие в мире и наиболее развитая сеть транспорта и связи позволили представителям западной цивилизации легко преодолеть сопротивление других народов.
За несколько десятилетий европейцы заселили центр и запад Северной Америки, пампу и примыкающие регионы Южной Америки, большую часть Австралии, Новую Зеландию и Южную Африку. Одновременно в XIX в. происходило и расширение границ России в Сибири, Средней Азии и на Кавказе. Но политическое и экономическое проникновение Запада далеко превосходило географические рамки расселения европейцев. К 1914 г. почти вся Африка, Юго-Восточная Азия и Океания находились под политическим контролем европейцев. Новые плантации и шахты появились даже в местах, отдаленных от европейской или какой-либо иной цивилизации. Новые продукты, такие как чай и резина, никель и нефть, наряду со старыми, например золотом, лихорадочно добывали в джунглях, пустынях и арктической тундре, как и в более обжитых регионах. Даже для торговли пушниной XVIII в. нашлась аналогия в XIX в. в виде китобойного промысла — охотники на китов бороздили просторы всех океанов и тревожили первобытных обитателей далеких островов болезнями и безделушками так же, как торговцы пушниной раньше охотились в приполярных областях, тревожа зверей и местное население.
Эти движения людей и товаров вызвали огромные изменения в демографии и культурах мира. Ни природа, ни созданные человеком обстоятельства не могли больше противостоять распространению западной технологии и идеям нигде во всем обитаемом мире. Однако, несмотря на значение для мировой истории, географическое расширение западной цивилизации в XIX в., кажется, не имело критического значения для исторического развития самой Европы. Европейская история 1789-1917 гг. определялась промышленным капитализмом, основывавшимся на использовании природной энергии, и политической революцией, основанной на новом определении прав человека и его обязанностей. Оба фактора выросли из прошлого самой Европы, и ни их зарождение, ни развитие до 1917 г. не имело каких-либо внешних связей с другими цивилизациями, помимо косвенных.
Почти до наших дней — и возможно, даже сегодня — изменения в культурах, вызванные космополитическим смешением людей из различных регионов земного шара, развиваются в одном направлении: от Запада к незападному миру. В результате незападные традиции не внесли большого вклада в достижения современной высокой культуры и мысли. Конечно, убеждение в превосходстве собственной цивилизации наложило отпечаток на западные умы — убеждение, подкрепленное нарезными винтовками и канонерскими лодками — и сделало европейцев менее восприимчивыми к иноземным культурным влияниям и в том же смысле более ограниченными, чем их предки в XVIII в.[1094]
2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ
В XIX в. промышленный капитализм прошел две отдельные стадии, разделенные приблизительно 1870 г. Каждая имела определенную технологию и характерные организационные формы и идеалы. Первая стадия наиболее ярко проявилась в Великобритании, вторая была более географически размытой, поскольку и США, и Германия, но особенно Германия, служили первопроходцами и образцами для подражания.
ПЕРВАЯ, ИЛИ БРИТАНСКАЯ, СТАДИЯ. Технические аспекты первого этапа промышленной революции можно подсуммировать в двух словах — железо и уголь. Этот тип технологии достиг полного выражения к середине века, когда железные дороги, фабрики по переработке хлопка и сотни других новых или усовершенствованных машин и механизмов включились в работу. Большая выставка в Лондоне в 1851 г. не просто показала, но и стала символом технологических изменений, которые произошли в Великобритании к этому времени.
Использование угля и железа для промышленности, так же как и для потребностей домашнего хозяйства, вовсе не было новым для Англии XIX в. Томас Ньюкомен использовал уголь как топливо для двигателя в 1712 г., а железо уже в течение трех тысяч лет было обычным материалом для изготовления орудий. Новаторство состояло в масштабах, в которых стали использоваться эти материалы. Были найдены неисчислимые новые способы применения силы пара в железных механизмах. Деревянные ткацкие станки и вращающиеся колеса, приводящиеся в движение мускульной силой человека и разбросанные по сельским домикам, имели мало сходства со стальными шпульками и десятками приводимых в действие паром ткацких станков, сконцентрированных на хлопчатобумажных фабриках ранней викторианской Англии. Но в результате производились более дешевые и более качественные изделия, чем те, которые можно было получить, используя ручной труд. Почти такие же радикальные изменения в других традиционных отраслях — металлургии или печатании, возрастание числа новых профессий, например заводских или железнодорожных инженеров, глубоко внедрило новые технологии в ткань британского общества к 1850 г.
К этому времени несколько мыслителей (Анри Сен-Симон, ум. 1825; Огюст Конт, ум. 1857; Роберт Оуэн, ум. 1858) попытались представить возможности будущей экономики изобилия, в которой массовое применение неодушевленных сил в индустриальных процессах положило бы конец нищете. Однако большинство продолжало считать, что бедность неискоренима и что любое увеличение количества товаров будет быстро поглощено растущим числом членов общества. Конечно, население Великобритании в XIX в. росло стремительными темпами, и через двадцать лет после 1801 г. возросло почти на 34%. А за столетие в целом население Британии возросло с приблизительно 10 млн. в 1801 г. до 37 млн. в 1901 г.[1095]
С точки зрения 1960-х гг., все изменения в промышленности, которые начались в Англии приблизительно 200 лет назад и достигли огромных размеров немногим более чем за столетие, вызвали перемены в экономической и социальной жизни человечества, сравнимые по важности с временами неолита, когда человек перешел от охотничьего образа жизни к сельскому хозяйству и одомашниванию животных. Во времена неолита целенаправленная сельскохозяйственная деятельность изменила природную среду, в несколько раз увеличив количество добываемой пищи и доступных человечеству источников энергии, что вызвало радикальное увеличение населения и сделало возможным концентрацию сравнительно большого числа людей в городах, где профессиональная специализация дала ремесла, науку и блага цивилизованной жизни. В течение всей письменной истории (с глубокой древности и до наших дней) подавляющее большинство живших людей проводили свою жизнь в устоявшемся порядке ежедневного и ежегодного возделывания земли, страдая от капризов погоды и стихийных бедствий, войн и эпидемий и покоряясь прямой зависимости между урожаем и тяжелой работой на полях.
Современная промышленность еще может установить довольно устойчивую систему, в пределах которой большинство человечества будет существовать в обозримом будущем, но социальные, политические и культурные возможности, свойственные таким изменениям, в ритме и заведенном порядке человеческой жизни еще окончательно не установились и могут быть предметом изучения. Следовательно, трудно преувеличить исторические последствия передовых работ маленького круга инженеров, изобретателей и тех, кто способствовал их деятельности в нескольких провинциальных городах Великобритании в конце XVIII — начале XIX вв.
Тем не менее очень легко преувеличить важность институциональных и интеллектуальных достижений, которые составили атмосферу британской промышленной революции. Возможно, такие метафизические понятия, как «пуританская этика», «нонконформистское сознание» и «дух капитализма», были необходимыми составляющими элементами для начала промышленной революции. Но в Венгрии, например, ни кальвинизм, ни нонконформизм не вызвали индустриальных последствий. Великобритания была счастливой обладательницей залежей угля и железных руд, трудовых ресурсов, которые могли легко воспринять новый порядок труда, а также опиралась на изобретателей и предпринимателей, стремившихся развивать новые идеи и способных добывать деньги для того, чтобы вкладывать их в новые машины и виды производства.
Незарегулированность отношений в структуре британского общества, возможно, стимулировала возникновение новшеств и позволила Великобритании занять лидирующее положение среди других наций на первой стадии современного индустриализма. Эта ситуация была унаследована от того парламента, который возмущенно разрушил абсолютизм Стюартов в середине XVII в. Но в 1756-1815 гг. лишь трудности ведения войны с Францией могли обеспокоить архаичный парламент английского Старого режима[1096]. Резкие изменения в морской торговле, зависящие от легко меняющегося местонахождения военно-морских сил, резкие изменения в указаниях правительства о выделении денег для постоянно растущих потребностей все усложняющихся средств ведения войны[1097] и драматические изменения в количестве денег в экономике и уровне цен ослабляли традиционное противодействие экономическим новшествам. В таких условиях финансовый успех удачливого или искусного дельца мог быть настолько велик, что сотни других амбициозных или жадных соперников стремились превзойти его достижение[1098]. Вполне возможно, что в более регламентируемом обществе более энергичный официальный контроль частной инициативы и спекуляций на военных нуждах воспрепятствовал бы такой быстрой трансформации британской промышленности, которая происходила в конце XVIII — начале XIX вв.
Но никакой перечень общих условий не может учесть все изменения в делах человека. Разные люди, стремясь к разным целям, принимали решения и действовали по-разному, и все это в итоге изменило жизнь в Англии. Гордость своим мастерством и желание заслужить уважение коллег-механиков уже сами по себе могли быть достаточным стимулом для изобретательства так же, как в других случаях стремление заработать деньги. Человек, которые терпеливо обрабатывал металл напильником, стремясь усадить гайку легко и плотно, полагаясь при этом на свое мастерство и наметанный глаз, был так же необходим для успеха нового механического оборудования, как и капиталист, который заказывал новые машины и платил тем, кто работал на них. Изобретатель же, если он не был одновременно и капиталистом, как, например, Джеймс Ватт, зависел от сотрудничества с механиком и капиталистом, пока его идея не воплощалась в движущемся металле.
В любом обсуждении институционных нововведений раннего промышленного капитализма очень важно учитывать то, что старые порядки британского общества, хотя и изменились под напором технических нововведений, не желали уступать своих позиций[1099]. Тот факт, что ранний промышленный капитализм появился и расцвел в структуре учреждений, которая была одновременно торговой и сельскохозяйственной, аристократической и парламентской, островной и индивидуалистической, не доказывает, что учреждения такого типа породили революцию. Предположение о необходимой взаимосвязи между ростом промышленности и взаимоотношениями, специфическими для Британии (а также впоследствии для Западной Европы и Северной Америки), является общей ошибкой догматиков-марксистов, либералов XIX в. и консерваторов XX в.
Тем не менее это предположение считалось правдоподобным до приблизительно 1870 г., когда пальма индустриального мирового первенства стала переходить от Великобритании к Германии и Соединенным Штатам Америки. Адам Смит (ум. 1790) и схоже с ним мыслящие философы создали тщательно разработанную и выразительную теорию, показывающую, как рациональные действия свободно мыслящих личностей в процессе купли-продажи приводят к максимальному удовлетворению человеческих потребностей. И поскольку британские учреждения предоставляли наиболее широкий простор именно для такого личного стремления к удовлетворению частного интереса, можно сделать заключение о том, что бурный промышленный прогресс в Британии напрямую обязан рациональности британских законов в сочетании с рыночной свободой личности. Эта философия свободного рынка стала основополагающей идеей либеральной идеологии в середине XIX в. и во многих европейских странах была лозунгом, объединявшим всех, кто боролся против законодательств и любых причин, препятствующих развитию промышленности в их странах.
Однако даже в XIX в. факты не соответствовали такой теории. Технология быстро обогнала либеральные государственные структуры и нашла убежище в совершенно иных типах общества. Индустриализация Японии служит наиболее поразительным примером, но даже в западном мире рост промышленности в Германии после 1870 г. и в России двумя или тремя десятилетиями позже облачил в доспехи современной индустриальной технологии общества, где либеральные традиции были слабы или политически незначительны. Кроме того, промышленность расцветала под присмотром правительства и чиновников корпораций, чей интерес в успехах предприятия, если его измерять персональным обогащением через долю в доходах, был часто незначительным или вовсе отсутствовал.
Более того, в то время как промышленность Германии и России развивалась все быстрее, британские капитаны промышленности были не прочь почивать на лаврах. Сыновья преуспевающих промышленников хотели вести образ жизни, характерный для праздного класса помещиков. Хозяева, стремившиеся к светской жизни, часто не желали вкладывать большие деньги в новое оборудование — зачем вмешиваться в то, что и так хорошо работает? К тому же претензии на знатность требовали отказа от активного ежедневного управления фабрикой или заводом, требовали дома в Лондоне или хотя бы в Манчестере, а если возможно, и загородного дома, вдали от заводской грязи и грохота. Все это неизбежно и очень сильно расширяло пропасть между владельцами и рабочими. Плодотворное в технологическом отношении сотрудничество между предпринимателями и наемными рабочими в ранних более скромных мастерских постепенно исчезало. Все еще имелись гениальные механики, но мало кто из них стремился, чтобы его изобретения использовали для обогащения социально далеких капиталистов, особенно если из-за этого могут выгнать на улицу товарищей по работе.
Второй причиной утраты Британией лидерства в промышленности было отсутствие продуманной и систематической связи между теоретической наукой и технологическими изобретениями[1100]. Конечно, иногда, когда возникали специфические трудности, промышленники советовались с учеными-теоретиками. Так шахтовладельцы уполномочили сэра Гемфри Дэви в 1815 г. изобрести безопасную лампу для угольных шахт, а профессор естествознания Чарлз Уитстон стал партнером в первой достигшей успеха Британской телеграфной компании (1837 г.), потому что предприниматели нуждались в его знаниях об электромагнетизме[1101]. В следующем поколении лорд Кельвин, профессор университета в Глазго, решил проблему передачи трансокеанских телеграфных сообщений, а также изобрел компас, который мог работать на новых железных кораблях, строившихся на верфях Глазго[1102]. Но такое сотрудничество между научной теорией и технологической практикой оставалось случайным, и очень часто срочные дела внезапно прерывали обоюдное соглашение, как только специфическая проблема была решена.
Фундаментальное восприятие индустриального процесса отличалось статичностью. Как рабочие, так и владельцы считали, что как только новая технология опробована — построено оборудование, технологические навыки освоены, рынок для конечного продукта установлен, — значит, дальше процесс может протекать без значительных изменений. Но факты никогда не соответствовали такому идеалу. В самом начале, когда начальные капитальные вложения были еще малы, соперник, вооруженный новым патентом на улучшенное оборудование, мог легко разрушить сложившуюся на рынке ситуацию путем снижения затрат и цен, и грубая встряска экономических кризисов способствовала удалению с рынка технически устаревших предприятий.
Итак, вопреки всем существующим противоречиям британские промышленники и рабочие ожидали стабильности или надеялись на нее. По мере того как возрастающая сложность оборудования и развитие производственных процессов увеличивали стоимость начальных капитальных вложений, беспокойство, вызванное внутренней конкуренцией, шло на убыль, но конкуренция с зарубежными промышленниками в конце концов оказалась не менее тревожной[1103]. Идея о том, что технический прогресс является непрерывным, не нашла отклика среди людей, занимавшихся решением практических вопросов в Британии. Им было трудно поверить, что совершенные, прекрасно работающие машины могут устареть. Парадоксальная мысль, что компания должна увеличивать свои текущие затраты, финансируя исследования и разработки, направленные именно на улучшение производственного процесса на собственных заводах, утвердилась в Британии лишь с трудом и только в некоторых отраслях перед Первой мировой войной.
Британская мощь и национальное богатство, возможно, пострадали из-за таких социальных и морально-интеллектуальных помех технологическому прогрессу. С другой точки зрения, эта зарождавшаяся (и неудавшаяся) стабилизация промышленного капитализма подтвердила силу и приспособляемость старых моделей британского общества. Успешные капиталисты и ученые ассимилировали традиционные взгляды и манеры высших классов, в то время как рабочие на другом конце социального спектра показали гораздо большую оригинальность, создавая удовлетворяющую их требованиям моральную вселенную вокруг новых учреждений, таких как пабы, профессиональные союзы, методистская церковь.
Если бы Британия полностью оказалась предоставленной самой себе, чрезвычайный взрыв изобретательства и технологических изменений, который достиг пика в первой половине XIX в., сошел бы на нет, сменившись медленной технической эволюцией. Но Британия не была предоставлена самой себе, наоборот, промышленный капитализм, взаимодействуя с различными учреждениями в других странах, потребовал второго, даже более мощного чем первый, импульса для своего развития, и Британия была вынуждена приспосабливаться к сложившимся условиям.
ВТОРАЯ, ИЛИ ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКАЯ, СТАДИЯ (ДО 1917 г.). Технологии второй фазы промышленного капитализма нового времени использовали более разнообразные материалы и искали новые источники и формы энергии, хотя главенствующее положение угля и железа нерушимо сохранялось вплоть до начала Первой мировой войны. Особенности, вносимые электротехнической, химической, нефтеперерабатывающей промышленностями, цветной металлургией, а также столь различающимися их изделиями, как автомобили, радио, самолеты, синтетический текстиль, только начинали оформляться. Но роль железа и угля начала меняться. Оказалось, что уголь можно использовать не только как простое топливо — смолы, получаемые при его перегонке, можно было превратить в такие разные продукты, как аспирин, краски, взрывчатку. Фундаментальные изменения коснулись также использования железа — после изобретения Бессемером конвертера (1856 г.) стало возможным в массовых количествах получать сталь. Сама сталь, будучи химической смесью железа, углерода и других элементов, могла быть бесконечно разнообразной по своим качествам. Химики и металлурги открыли, что минимальное изменение составляющих и их соотношения меняет свойства стали, и перед ними встала необходимость стандартизировать и точно контролировать качество своей продукции — твердость, устойчивость к ржавчине, гибкость. Сам термин «сталь» стал собирательным для различных типов металлов для специфического использования. Итак, хотя железо и уголь все еще занимали главенствующее положение среди промышленных материалов в 1870-1917 гг., к концу этого периода химики и металлурги превратили их в комплекс совершенно новых веществ.
Получение специальных сталей и производных угольных смол может служить примером общего направления в технологии конца XIX в. Новое использование угля и железа облегчалось и тем, что свойства получаемых из них продуктов и их изменение можно было контролировать на молекулярном и субмолекулярном уровне. Химики вырвались в первые ряды технологического прогресса, превратив промышленных инженеров в своих подручных[1104], и диапазон старой технологии, сосредоточенной на макроматериальных манипуляциях, выполняемых железными машинами, был намного расширен поразительной миниатюризацией природных сил, используемых в промышленном производстве. Осознанные действия с молекулами, атомами и (в случае с электричеством) элементарными частицами вывели технологию на качественно новый уровень, где оказалось возможным контролировать как материю, так и энергию. Заменив использование пара в качестве движущей силы, электричество смогло приводить в движение множество разнообразных машин, к которым обычные передаточные шестерни даже не могли подступиться. Если стационарный паровой двигатель с громоздкими шатунами, клапанами, грохочущими движущимися частями и клубами пара и дыма был механическим архетипом первой стадии современного индустриализма, «машина», в которой причина действия не улавливалась чувствами человека — радио, трансформатор, электролитическая ванна, фотопластинка или электрическая печь, — стала символом второй стадии.
Конечно, новые технологии не заменили полностью более старые процессы, как когда-то паровой двигатель заменил мускульную силу животных и человека. Новые достижения в давно знакомых технологиях иногда имели большое значение. Увеличение размеров домен, локомотивов, пароходов, печатных прессов имело важные последствия для экономики, а изобретение автомобилей и аэропланов ознаменовало изменение человеческого общества, сравнимое с тем, которое принесли железные дороги. Но эти улучшения, хоть и такие явные и впечатляющие, скорее явились исполнением обещаний первой стадии промышленного капитализма, чем вехами второй стадии — стадии, которая продолжается и в 1960 г.
Социальная организация и основные идеалы промышленной организации в Соединенных Штатах перед Первой мировой войной во многом сходны с таковыми в Англии. США восприняли многие особенности британского общества, будучи при этом даже более замкнуты, вверяя чиновникам минимальные экономические и социальные функции и без явной, по крайне мере на севере, дифференциации социальных классов. Задолго до Американской революции финансовая изобретательность и рыночная смекалка были прочно усвоены в Новой Англии и штатах среднего Атлантического побережья, а механическая изобретательность янки не имела равных в мире. В таком обществе промышленный капитализм нового времени легко пустил корни, особенно когда железные дороги и речная навигация сделали доступными богатые залежи угля и железа в Пенсильвании и других внутренних регионах. Огромные природные ресурсы Соединенных Штатов и сравнительно малочисленное, но быстро растущее население обусловили сохранение до Первой мировой войны, и даже после, атмосферы бума, очень похожей на ту, которая существовала в Англии в 1790-1850 гг. Более того, индивидуалистические идеалы и практичность американских промышленников очень напоминали ранние этапы викторианской эпохи, покрывая легким налетом общественной благопристойности грубую реальность заводской жизни. Карьеры механиков и предпринимателей, таких как Томас Эдисон (ум. 1931) и Генри Форд (ум. 1947), повторяли судьбы Ричарда Аркрайта (ум. 1792) и Джеймса Уатта (ум. 1819) при больших финансовых возможностях и больших масштабах рынка как по числу участников, так и по географическому размаху.
Индустриализация Соединенных Штатов была значительно ускорена многочисленным и разнообразным потоком иммигрантов. К 1914 г. американский народ стал этнической лигой наций с преобладанием европейских элементов, включением негритянского меньшинства и, по крайней мере символическим, представительством всех других больших ветвей человечества. Культурное многообразие этой смеси добавило своеобразные черты к общественному и психологическому напряжению перехода от сельской жизни к городской в период индустриализации. Американское решение этого вопроса основывалось на подчеркивании английского культурного наследия и политических прецедентов, затушевав, по крайней мере на несколько десятилетий, разнообразие, которое принесли с собой иммигранты, и создав сравнительно гибкую основу, на которой могли взаимодействовать культурные различия разных слоев населения.
Индустриализация Соединенных Штатов отличалась от своего британского прототипа также тем, что здесь корпорации быстро стали обычной формой организации для бизнесменов. Для американских корпораций было характерно превращение в частные бюрократии, когда власть принадлежала скорее чиновникам-руководителям, чем собственникам, что ярко отличало такие корпорации от строгого индивидуализма, преобладавшего в Британии на первой стадии промышленного капитализма. Государственное регулирование частного бизнеса также показало, что мощные компании, такие как «Стандарт Ойл» Джона Рокфеллера, иногда перерастают размеры, допустимые для частной собственности даже в Соединенных Штатах. Но эти тенденции получили более полное развитие в Германии, где традиции прусского правительства заметно влияли на ход экономической жизни и где простые люди воспринимали государственных чиновников не как боровов, кормящихся за счет налогов, а как представителей трансцендентного явления, государства, в котором — по крайней мере в принципе, если не фактически, -частные интересы подчинены общему благу.
Индустриальное развитие Германии было очень похожим на процессы, происходившие в это время в Соединенных Штатах, частично потому, что обеим странам потребовались железные дороги, чтобы сделать доступными свои минеральные богатства, ранее отрезанные от переработки трудностями транспортировки из внутренних областей. Но относительно жесткая классовая система в Германии, мощное и популярное, почти мистическое, восприятие государства, превосходство германского образования, широкое распространение ремесленников, организованных в цеха, — все это гарантировало, что современная индустрия в Германии будет иметь моральный и социальный характер, отличный от такового в США и Англии.
Наиболее важным немецким новшеством было введение хорошо продуманного, сознательного управления процессом индустриализации. Это управление осуществлялось по трем различным направлениям, которые можно обозначить следующим образом: 1) техническое; 2) финансовое; 3) воспитание нового человека.
1. В сфере техники немцы ввели изобретательство в организационные рамки, сделав его структурированным, предсказуемым, повседневным. Крупная немецкая промышленность вышла на сцену, когда результаты химиков стали совпадать с теоретическим пониманием объекта их деятельности и помогли утверждению мнения о том, что технику можно бесконечно улучшать. Несомненно, немецкие химические и электрические компании были пионерами в создании промышленных исследовательских лабораторий, где работали получившие университетское образование специалисты, чьи исследования и эксперименты воспринимались не как результат деятельности вспомогательного подразделения, а как постоянная составляющая предприятия. Итак, несколько немецких корпораций институировали технические изобретения путем установления надежной связи между академической наукой и обычным фабричным производством. Вознаграждением стало мировое лидерство немецкой химической и электротехнической промышленности.
2. В финансовой области немецкое правительство установило зону продуманного управления, ограничений и контроля над рынком, который, как считалось, направлялся решениями британских промышленников. Итак, тарифы, и прежде всего точные тарифы на железных дорогах, использовали для поддержки отдельных предприятий и оборонной промышленности. До, но особенно после 1866 г., когда Пруссия впервые продемонстрировала, как достигнуть внезапного стратегического превосходства быстрой переброской войск, стали обращать внимание на потенциальное военное использование железных дорог. Необходимость быстрого развертывания войск вдоль границ стала важнее любой финансовой выгоды при определении направлений строительства новых железных дорог. Такое вмешательство в рыночные отношения позволило Германии не только добиться значительных военных преимуществ, но и после 1879 г., когда государство выкупило железные дороги у частных владельцев, развить необычайно эффективную транспортную сеть.
Правительственные агенты были не просто чиновниками, контролирующими развитие немецкой промышленности. При содействии государства возникло примерно полдюжины частных бюрократий, которые оказывали чрезвычайно большое влияние на рост немецкой экономики. Эти «частные» иерархии назывались банками. Их власть возрастала, поскольку они финансировали немецкую индустрию, предоставляя ей долговременные займы в размерах, которые британские банкиры, неохотно вкладывающие деньги в машиностроение и строительство, отказывались предоставлять. Возможность получения таких займов сильно ускорила подъем немецкой промышленности после 1870 г. Но существовала и другая сторона этой медали — банки настаивали на праве голоса в финансируемых предприятиях. Это право обеспечивалось главным образом введением представителя банка в состав правления предприятия. Когда банк установил такой начальный симбиоз с различными индустриями и с многочисленными предприятиями, независимость отдельных фирм превратилась в фикцию. Точка зрения банкира национального или даже международного масштаба определяла решения управляющих.
Картели стали характерным выражением немецкого способа управления промышленностью, в котором главенствующую роль играли крупные банки. Главной целью картеля был контроль над ресурсами и отпускными ценами определенных групп товаров с целью увеличить прибыль для индустрии в целом и минимизировать колебания в потоке товаров и обслуживания. Было обычным явлением, когда устанавливалось соглашение о разделе рынка между всеми членами картеля, определяющее долю торгового участия и цены, так что часто один и тот же товар предлагали разным категориям покупателей по разным ценам. Детали варьировались в зависимости от рода промышленности, и в случае невозможности стандартизации продукта принцип картеля обычно не использовался. Но в угольной, стальной промышленностях и других ведущих отраслях немецкие картели действовали со все возрастающим успехом.
Через картели немецкие финансовые и промышленные управляющие контролировали рынок (в определенных пределах), вместо того чтобы подчиняться ему. На первой стадии промышленного капитализма просто считалось, что колебания цен — естественное явление рынка, активность предприятий подстраивалась в зависимости от его роста или спада, подобно тому, как крестьяне испокон веков действуют в зависимости от погоды. Немецкие картели, конечно, также зависели от изменений на мировом рынке в годы, предшествующие Первой мировой войне[1105], но введением планирования выпуска продукции и некоторой жесткости цен они достигли прежде недоступного контроля над финансовым климатом.

3. Даже в Германии перед 1914 г. прогресс в воспитании нового человека был неровным. Тем не менее система немецких технических и профессиональных школ подготавливала людей более эффективно, чем любые другие в мире; да и законы социального страхования Бисмарка также ввели новый элемент целевого управления в миллионы человеческих жизней. Более того, теневые манипуляции Бисмарка средствами массовой информации также были вступительным шагом к контролированию мыслей, столь широко распространенному в наши дни.
Более важным, чем эти робкие первые шаги, в общенациональном масштабе было то, что владельцы-предприниматели быстро сдали позиции прослойке профессиональных управленцев, которые не только руководили заводами, фирмами, картелями и банками с уникальной эффективностью, но и определяли условия собственного существования, создав управленческую элиту со строгой внутренней дисциплиной и чувством локтя, совершенно отличными от индивидуалистического и ничем не прикрытого стремления к деньгам, характерного для британских бизнесменов начала XIX в. Члены немецкой промышленной и коммерческой элиты распределяли сами себя в аккуратную бюрократическую иерархию и вознаграждались за успехи и верность духу своей касты продвижением на высшие посты с расширением власти. Деньги сами по себе — награда и мера успеха на рынке — часто имели меньшее значение для таких людей, чем их ранг в обществе бизнеса.
Довольно узкая олигархия набирала своих членов из наиболее способных и дисциплинированных кандидатов путем продвижения их по службе под строгим контролем в течение всей жизни и этим очень напоминала пирамиду государственной бюрократии. Поэтому на деле промышленная и правительственная бюрократии частично перекрывали друг друга. В Германии государственные чиновники руководили железными дорогами, шахтами, телеграфом и телефоном, но в то же время доброжелательность государственных чиновников наиболее ярко проявлялась по отношению к частным корпорациям и достигала кульминации в активном и тесном сотрудничестве ключевых промышленных поставщиков с прусским генеральным штабом.
Воистину впечатляющие достижения технологий управления людьми в XIX в. сконцентрировались в военной сфере — и здесь бросалось в глаза немецкое лидерство. В посленаполеоновский период Пруссия была первым из европейских государств, которое сделало военное обучение (по крайней мере в принципе) обычным в мирное время, и успехи, которых добились прусские солдаты-резервисты, действующие во время войны по планам, предварительно разработанным офицерами, удивили всю Европу. После побед Пруссии над Австрией в 1866 г. и над Францией в 1870-1871 гг. все континентальные власти Европы поспешили последовать прусскому примеру. В результате первые недели Первой мировой войны представили удивительное зрелище огромных человеческих машин, состоящих из взаимозаменяемых частей, действующих совершенно нечеловеческим образом и двигающихся в соответствии с предрешенными и неотвратимыми планами. Миллионы людей, составлявших соперничающие машины, поступали так, как будто они потеряли разум и свободу воли. В результате в августе 1914 г. десятки тысячи человек встретили свою смерть, ликуя и уйдя от реальности в автоматизм сомнамбулического героизма.
Последующие годы войны принесли гигантское слияние различных элементов германского общества, так энергично расширявшего рамки сознательного контроля над социальным действием. К 1917 г. после трех лет войны различные группы и элементы бюрократической иерархии, которые в мирное время действовали независимо друг от друга, оказались подчинены одному (и возможно, наиболее эффективному) из них — генеральному шта6у. Офицеры контролировали гражданских чиновников, персонал банков, картелей, фирм и фабрик, инженеров и ученых, рабочих, фермеров — любой элемент немецкого общества. И все усилия, не только в теории, но и на практике, были направлены на достижение победы в войне.
К 1917 г. карточная система и военные нужды заменили рыночные цены в качестве регуляторов распределения всех товаров первой необходимости. Расчеты потребностей в рабочей силе, сырье, транспорте и энергии преобладали над финансовыми контролем и расчетами. Научный талант также был мобилизован: например, для решения такой срочной программы, как фиксация атмосферного азота, без которого Германия не могла производить ни взрывчатые вещества, ни удобрения. Военная организация имперской Германии также распространилась, хотя и не так совершенно, на территории союзников или стран, завоеванных немецкими войсками. Концентрация мощи государства во имя целей государства таким образом превратилась, в рамках, поставленных австрийской расхлябанностью, бельгийской замкнутостью и балканской отсталостью, в международный тоталитаризм. Во время Первой мировой войны немцы быстро превзошли все другие нации в достижении максимальной концентрации и нивелирования человеческих и механических ресурсов для военных целей. Поражение в 1918 г. повлекло демонтаж военно-административной машины, которая была сердцем комплекса власти. Однако открытие возможностей того, чего могут достигнуть решительные, беспощадные и умные люди, вдохновленные корпоративной солидарностью и организованные в жесткую иерархию власти, намеренные сконцентрировать энергию и ресурсы всей нации на достижении целей правящей клики, не давало покоя одним, вдохновляло честолюбие других и означало наступление новой эры в мировой истории[1106].
Каждая западная нация имела свои нюансы в типе индустриализации, как и во всем другом. Как британские прецеденты и модели по-разному принимали на континенте в первой половине XIX в., так и немецкая модель более позднего периода этого столетия видоизменялась в зависимости от местных традиций, навыков, ресурсов и соревновалась с различными моделями, прелагаемыми Британией и/или Францией в Восточной и Южной Европе в начальной фазе промышленного капитализма. Но в 1917 г. промышленный капитализм лишь начал пускать корни за пределами Западной Европы и северо-востока Соединенных Штатов. Несмотря на значительное влияние на народы земного шара, промышленный капитализм был все еще экзотическим местным ростком, когда Первая мировая война грубо вдребезги разбила Новый режим Европы.
3. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В 1789 г. французские Генеральные штаты, преобразовавшись в Национальное собрание, провозгласили права человека и ввели эти права в новую конституцию. В связи с этим демократическая революция, впервые нашедшая свое заметное выражение в британских колониях в Северной Америке, перенеслась через Атлантику и под звуки фанфар укоренилась в самом сердце Европы. За фанфарами первых дней последовали более чем 20 лет салютов и фейерверков, в результате которых идеи революции распространились почти по всей Европе, а также воспламенили Южную Америку. Вплоть до Первой мировой войны перед европейскими политиками стоял вопрос, как приспособить унаследованное политическое разнообразие к идеям, недавно открытым во Франции, т.е. как секуляризировать, рационализировать и реформировать существующие учреждения в свете демократических принципов.[1107]
Сама Французская революция была соткана из противоречий. Не говоря уже о неизбежных компромиссах на практике, революционная теория, подытоженная в лозунге «Свобода, равенство, братство», была пронизана неоднозначностью. Но неоднозначность была и есть сутью всех хороших политических лозунгов, позволяя людям с различными точками зрения сплотиться, вопреки различиям, для активных действий. В этом отношении революционное движение во Франции вобрало в себя такие же многообразные человеческие мотивы, как и любые более ранние потрясения европейской истории, в том числе Реформация.
«Свобода» прежде всего может означать право большинства преодолеть все преграды своим желаниям. Благодаря несложному парадоксу «свобода» может означать даже право клики просвещать народ, используя обычные инструменты призывов и угроз, а при необходимости открыто прибегать к насилию для убеждения сомневающихся и искоренения врагов, сеющих в народе яд обмана. Но «свобода» могла значить и прямо противоположное -право личности совершать все, что она желает в самых широких пределах практически выполнимого, даже если его поведение неприятно или оскорбительно для большинства. Короче говоря, «свобода» могла означать как радикальное распространение, так и жесткое ограничение правительственной власти, и это слово регулярно вовлекалось в полемику для оправдания как той, так и другой политики.
«Равенство» и «братство» также включали в себя заметные противоречия. Значит ли «равенство» — равенство всех перед законом, так что все должны платить одни и те же налоги, соблюдать одинаковые ограничения и пользоваться одинаковыми свободами? Если так, действительно ли богатый человек равен бедному и голодному, готовому продать свое право первородства за пищу? Или настоящее равенство также требует уравнивания экономического статуса и перераспределения собственности? И будут ли богачи после революции равны перед законом, или они будут врагами народа, которых необходимо подавлять специальным законодательством? Что касается «братства», то все ли люди братья или только французы? Или, может быть, только правильно мыслящие люди — братья в окружении невежественных или замышляющих зло врагов? Или братьями являются только добродетельные и правильно мыслящие французы, тогда как даже разделяющие их убеждения представители других народов не могут быть членами братства? Эти метания были присущи Французской революции изначально и проявились более-менее ясно в ходе революционной борьбы, когда в рядах революционеров то и дело происходило дробление на фракции.
Нет необходимости подробно описывать здесь перипетии партийной борьбы и меняющихся коалиций как в самой Франции, так и за ее пределами во время революции. Достаточно сказать, что после краха конституции, написанной Национальной ассамблеей, и вспышки непримиримой вражды между революционной Францией и консервативными Пруссией и Австрией (1792 г.) развитие событий стало быстро приближаться к точке кризиса. К 1794 г. успехи на полях сражений спасли Францию от иноземного завоевания. Но военный триумф на фоне растущего замешательства и идеологического смятения открыл дорогу честолюбивым устремлениям Наполеона Бонапарта, который захватил власть в 1799 г. и правил Францией самодержавно, пока коалиция европейских государств не победила и не свергла его в 1814-1815 гг.
Итак, революция привела не к народному и республиканскому правлению, а к военной диктатуре, за которой последовало восстановление монархии. Хотя поток событий обусловил печальное крушение всех радужных надежд революционных партий, все-таки многие из них сбылись. Массовая отмена феодальных прав, распределение земель бывших владельцев путем конфискации, распродажа собственности церкви и знати сделали Францию XIX в. нацией фермеров. Перераспределение земли оказалось фундаментальным в том смысле, что стабилизировало французское общество и сделало революцию необратимой. Но практичные крестьяне[1108], хозяева своей земли, жен и детей, погрузившиеся в такие практические важные дела, как цены на пшеницу и определение размеров приданого дочери, были только частью революционных изменений. Городская жизнь с подавлением цехов и других древних узаконенных корпораций и монополий также изменилась. Само изменение управления государством и взаимоотношений между государством и отдельной личностью охватило жизнь как города, так и деревни и может быть упомянуто как наиболее важные достижения Французской революции.
Изменения в сфере политики находились в самом сердце революционных надежд. Они состояли в попытке создать правительство, приличествующее великому и свободному народу, миллионы которого сражались за свою революцию, погибая сотнями тысяч — по крайней мере так утверждали вожди революции. Жонглирование конституционными нормами, которое отмечает всю историю Франции 1790-1815 гг., подтвердило на практике и без всякого сомнения то, что раньше было лишь радикальной теорией: правительства действительно созданы не Богом или природой, а просто людьми. Конечно, консерваторы и либералы резко разошлись во мнении относительно того, доказали ли революционные опыты с конституцией, что созданное людьми правительство может служить людям лучше, чем Старый режим. Но было неоспоримым, что французы добились успехов сначала во время Республики, а затем под руководством Наполеона в мобилизации немыслимой энергии, обратив ее на служение национальному государству. Этот аспект Французской революции сделал из нее могучего близнеца промышленной революции, так как очень сильно повысил уровень возможностей для народов и правительств Запада.
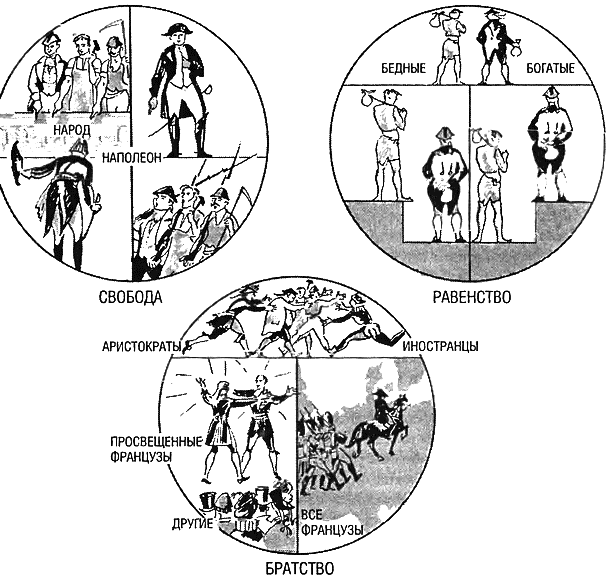
Рассматриваемая в таком свете Французская революция выглядит удивительно похожей на восстановление движения к централизации и консолидации, характерного для французской монархии в средние века. Но революционеры действовали во имя нового и совершенно абсолютного монарха — народа. Теория, открыто провозгласившая верховенство прав и достоинства простого народа с улиц или полей — и в некоторой мере осуществившая это, -также дала суверенному народу возможность требовать через своих официальных представителей нового служения и величайших жертв от отдельных представителей этого самого народа. Люди — граждане и хозяева своих собственных прав, переставшие быть слугами короля и знати, — стали прямо ответственны за судьбу государства. Любому увальню, который не признавал своих обязанностей, можно было напомнить о них. Упрямцев можно было даже принудить к свободе силой.
Итак, революционное французское правительство, вооруженное демократической теорией и пришпоренное острой нуждой в деньгах, товарах, людях, не задумываясь, преодолевало привычные сдержки и противовесы, уравновешивающие абсолютную монархию во Франции во времена Старого режима. Ранее неоспоримые привилегии, права и иммунитеты были отброшены прочь головокружительной ночью 4 августа 1789 г. и никогда более не были восстановлены. Вскоре олигархические городские и аристократические провинциальные правительства вместе с запутанным клубком квазиправительственных столоначальников рассыпались, словно сами по себе, и были заменены сперва стихийными чрезвычайными комитетами, а в конце концов искусно подогнанной, рационализированной, унифицированной и прежде всего централизованной бюрократической администрацией.
Из всех корпоративных учреждений и привилегированных групп, которые выступали посредниками между центральной властью и личностью при Старом режиме, только церковь эффективно противостояла узурпаторству революционного правительства. Церковь потеряла свою земельную собственность (1790 г.), и взамен священники стали получать государственное жалование. Но это не сделало церковь ветвью правительственной бюрократии — власть священников и епископов не проистекала ни из верховной власти народа, ни из государства, а лишь из ее апостольского преемства. Радикальные попытки вытеснить христианство путем создания религии разума потерпели полную неудачу, и усилия правительства по демократизации церкви путем назначения на религиозные посты кандидатов в соответствии с желанием народа, выраженном через свободные выборы, не имели успеха. Гражданская конституция духовенства, которая стала законом в 1790 г., пробила во французском обществе трещину, существующую до сих пор. Те, кто отвергал, и те, кто поддерживал усилия сделать церковь более близкой демократическим принципам, оказались неспособными прийти к согласию. Каждая сторона вызывала сильные чувства, оправдываемые интеллектуально цельными, но совершенно несовместимыми теориями.
Конкордат 1801 г., которым Наполеон заключил мир с папством, не смог соединить края этой раны. Непосредственно в посленаполеоновский период римская церковь везде стала оплотом реакции, соперничая в последовательном консерватизме только с государственными протестантскими церквами. Тем не менее во время демократической революции была достигнута некая разновидность победы даже над клерикальными реакционерами. В большинстве стран католической Европы еще до конца XIX в. защиту целей и прерогатив церкви взяли на себя не только прелаты и монархи, полные страха перед революцией, но и политические партии и ассоциации мирян — например, католические профсоюзы, — которые стремились получить широкую народную поддержку и во многих случаях принимали прямое участие в парламентских процессах.
На заре революции такой проблеск в разрешении революционного конфликта между демократической и католической доктринами сильно отдавал дряблым иррационализмом Старого режима и поэтому был просто немыслим. Можно сказать, что, все отрицая, революция стремилась разрушить общественные институты, стоявшие между гражданином и «его» государством. Такие корпоративные посредники воплощали в себе то, что революционеры обычно называли «привилегиями». Однако, разрушая привилегии, революция в действительности поляризовала французское общество намного сильнее, чем прежде, между централизованной бюрократией, державшей в руках всю полноту власти, объявившей себя исполнительницей воли национального государства, и миллионами свободных, равных и, по определению, братских граждан Франции.
Обязательная служба в армии, которой потребовало революционное правительство от всех граждан Франции, ранее была бы расценена как нарушение «свобод» свободного гражданина. Всеобщая воинская обязанность была введена как чрезвычайная мера декретом, изданным в тревожном 1793 г., когда революции грозила опасность. Позднее она была организована префектами и полицией Наполеона, пока Франция не была обескровлена последними катастрофическими императорскими военными кампаниями. То, что было введено как отчаянный последний призыв к гражданским чувствам, таким образом, превратилось в молохоподобную машину, перемалывавшую тела граждан независимо от их воли и желания и питавшую ими французские армии в таком масштабе, что они почти на два десятилетия стали грозой Европы.
Однако миллионы французов добровольно служили под победоносными знаменами Наполеона и его маршалов, и почти все они испытывали захватывающую гордость от чувства принадлежности к могучей нации, которая, подобно колоссу, возвышалась над Европой от Кампоформио (1797 г.) до Ватерлоо (1815 г.). Поэтому, когда конституционные преобразования Наполеона ограничили законодательную ветвь власти до состояния послушной беспомощности — таким образом закрывая путь, которым, согласно демократической теории, должна была выражаться воля народа, — большинство французов едва ли жалели о том, что и так находило мало сторонников. Голос свободы, вверенный избранным законодателям, за время короткого периода, когда они были вольны выражать свои мысли, стал более походить на визг вспыливших школьников, чем на священные речи суверенного народа, так самонадеянно предвосхищенного последователями Руссо.
Ни полиция, ни префекты Наполеона и сменившего его короля из династии Бурбонов не могли установить связь между властью и народом на дореволюционной основе. Народ Франции уже произнес многомиллионными устами слова о том, что власть принадлежит ему, и слишком многие верили в это, чтобы этим мнением можно было пренебречь. Конечно, правители всегда исполняли что-то из воли и желаний своего народа. Но в большинстве случаев достаточно точное традиционное разграничение ролей правителя и подданных позволяло и правителю, и подданным игнорировать друг друга, пока сохранялись установившиеся общественные связи -традиционный сбор налогов, церемониальные знаки почтения, щедрые королевские дары и т.п.
Уже во времена Старого режима привычные определения политических ролей были довольно неточными. Короли и министры выказывали интерес к таким некоролевским, с точки зрения их коллег в иных краях и в иные времена, делам, как коммерция и промышленность, в то время как купцы и другие простые люди бесцеремонно интересовались делами власти и иногда даже влияли на их. Но даже во время размывания границ традиционных взаимоотношений при Старом режиме король все еще оставался королем по воле Божьей и его подданные оставались по воле Божьей подданными.
Доказав, что простые люди могут сознательно создавать и разрушать политический порядок, революция вдребезги разбила традиционную основу власти. Когда человек, а не Бог оказывался, пусть и в малой мере, ответственным за политические отношения, правители больше не могли беспечно полагаться на автоматическое принятие их привычного статуса. Наоборот, они должны были постоянно оправдывать свое существование перед обществом. Но эта политика была и ловушкой — неисполненные обещания и преданные принципы опасно застревали в памяти людей и оборачивались против тех, кто пришел к власти с помощью опрометчивых обещаний. С другой стороны, консервативные правители, отказывающиеся обращать внимание на новомодные идеи и шире привлекать подданных к делам власти, позволяли другим завоевывать симпатии своих подданных, тем самым увеличивая риск открытого восстания, как это показали события 1830-го и 1848 г. Успешными оказывались только те правители, которым удавалось вызвать симпатии, энтузиазм поддержки, чувство добровольного самопожертвования у значительного числа людей — с помощью парламента, плебисцитов или харизматической легенды. Стабильно управлять государством без взаимопонимания между правительством и народом стало сложно, а выполнив это условие, европейские правительства могли использовать гораздо большую часть общей энергии населения, чем прежде[1109].
Новые тесные отношения между народом и властью были настоящим секретом Французской революции. Только когда европейские монархи научились у той же революции привлекать на свою сторону массовые симпатии, они оказались способны собрать силы, достаточные, чтобы свергнуть власть Наполеона. И как бы ни старались короли и министры Европы дистанцироваться от слишком тесных объятий народа, они больше никогда не могли игнорировать этот новый фактор управления государством.
Таким образом, в XIX в. власть была или слишком усилена, или слишком ослаблена прививкой демократических принципов и претензий. С одной стороны, власти могли оказаться в тяжелом полупарализованном положении из-за неконтролируемых распрей среди населения страны, как это произошло в Австро-Венгрии. Но иногда монарх или министр мог так мастерски играть на чувствах публики, что это стимулировало чрезвычайные успехи, как это было в случае с Бисмарком. Главным образом усиление власти наблюдалось в Северо-Западной Европе. На юге и востоке континента демократические идеи сеяли сомнения и ослабили относительно, если не абсолютно, империи Австрии и России, созданные на сухопутных границах Европы в XVIII в.[1110]
Восточноевропейские империи в целом по сравнению с западными державами намного отставали в таком вопросе, как пробуждение энергии действий среди своих поданных. Причина заключалась в том, что государства Западной Европы добивались таких грандиозных успехов, поскольку общественное положение среднего класса в них было намного более активным, чем где-либо. Юристы и доктора, купцы и финансисты, владельцы фабрик и рантье действовали как главный приводной ремень, соединяющий правителей и широкую общественность, заботясь о том, чтобы первые услышали дискуссии вторых. Там, где такие группы были многочисленны, богаты и обладали групповым самосознанием, было возможно достигнуть эффективного партнерства между властью и народом. А там, где они были слабы и робели в присутствии высших классов общества, такого партнерства не возникало. Наоборот, чиновники и аристократы продолжали осуществлять власть даже тогда, когда, как в Австрии после 1867 г. и в Росси после 1906 г., парламентаризм ограничил бюрократическое государство. Таких полумер оказалось совершенно недостаточно, чтобы установить эффективное сотрудничество между правителями и управляемыми ни в Австрии и России, ни в Османской империи. Наоборот, во имя языкового национализма народные политические движения разорвали на клочки социальную и политическую ткань Восточной Европы[1111].
Приблизительно после 1870 г. Новый режим, провозглашенный Французской и промышленной революциями, постепенно все больше стал уподобляться вытесненному ими Старому режиму. В Западной Европе средние классы заняли центральное место в обществе и политике, разделяя власть с чиновничеством (формируемым в большей степени из представителей среднего класса) и составляя различные декоративные соглашения с остатками аристократии. Идеологический раскат грома Французской революции повсеместно был приглушен прагматическими компромиссами. Различные католические партии, образованные с санкции папы, стали входить в состав парламентов, и даже диктаторски настроенные аристократы, такие как Бисмарк, научились играть в парламентские игры. Социальные противоположности, которые недавно казались несовместимыми, нашли почву для согласия.
Одновременно стала все больше разрастаться новая группа привилегированных корпораций в форме акционерных компаний с ограниченной ответственностью. Власть и сила таких компаний часто была огромной, и некоторые из них стали настоящими государствами в государстве. Союзы рабочих также начали бороться за почти неограниченную власть над своими членами или по крайней мере стремиться к ней. И некоторые наиболее идеологически выраженные политические партии, самая известная из которых Немецкая социал-демократическая партия, превратили свою организацию в образ жизни. Такое размножение полу автономных групп в структуре национального государства явно препятствовало полноте политической власти. Ряд прагматических и нелогичных компромиссов между соперничающими интересами идеологий стал таким сложным, что любое изменение могло опрокинуть всю структуру, как это произошло из-за множества различных интересов и идей во время Старого режима. Более того, напряжение Первой мировой войны взорвало эти компромиссы так же, как ранее Французская революция разрушила равновесие европейского Старого режима, а еще ранее средневековое здание Европы было опрокинуто Реформацией[1112].
В ретроспективе легко определить критическую слабость в политическом равновесии, которое возникло в 1870-1914 гг., поскольку несмотря на установившийся баланс интересов и компромиссов между принципами, не были учтены интересы двух стратегически важных групп. Меньшую, но более четкую составляло образованное меньшинство Восточной Европы, которое, получив западное образование и проникшись европейскими теориями, оказалось отчужденным от социальных отношений своей родины. Крайние и весьма разнообразные социальные взгляды таких людей, вскормленные чувством изоляции и отчаяния, поддерживали вулканическое кипение революционных порывов под поверхностью жизни в Восточной Европе и особенно в России.
Вторая группа сложилась в более индустриализованных странах Западной Европы, где фабричные рабочие не всегда желали принимать политическое лидерство среднего класса. С середины XIX в. марксисты и другие предложили промышленным рабочим видение общества, основанное на их собственном опыте и интересах. Поэтому не удивительно, что с 1870-х гг. социалистические аргументы и воззвания начали привлекать все больше людей, особенно в Германии. Несмотря на весь словесный гром, с которым марксисты осуждали капитализм и буржуазное правление, в своей основе они еще придерживались ценностей и структур демократизированного и достигшего компромиссов национального государства, которое возникло из слияния французской революционности с более старыми политическими традициями. Единодушие, с которым все, кроме российских социалистов, поддержали войну 1914 г., подтверждает это суждение.
Роковое стечение обстоятельств в политической эволюции отличало Россию от западных стран. В 1890-х гг. идеологический экстремизм, задолго до этого существовавший в России, нашел свое конгениальное выражение в марксизме. Одновременно разрушение извечного сельского уклада и возникновение современной промышленности начали изменять крестьянскую косность, которая приводила в отчаяние мятущихся российских разночинцев в начале XIX в. Инициатива государства в деле отмены крепостного права и строительства железных дорог, предприимчивость помещиков, стремящихся ввести технические и другие улучшения в сельском хозяйстве, — все это в сочетании с ростом населения привело в движение сельские массы. Когда это произошло, интеллигенция, так долго страдавшая от «темноты и глухоты» крестьянства, оказалась лицом к лицу со слепым рассерженным гигантом, необоримо стремящимся к свету. Городские условия также стимулировали изменения, так что царский режим, который никогда не смирился даже с Французской революцией, обнаружил, что ему бросили вызов как либералы, так и социалисты, недовольство которых существующими порядками коренилось в жизни города и деревни. Проигранная война с Японией, а затем еще большие неудачи в войне с государствами Центральной Европы привели к выходу на поверхность противоречий русского общества, результатом чего стали революция 1905-1906 гг. и намного более масштабная революция 1917-1922 гг.
4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Активность художников и интеллектуалов на Западе в 1789-1917 гг. была очень интенсивной и выразительной как в качественном, так и в количественном разнообразии. Ставя под сомнение то, что до сих пор считалось бесспорным, и стремясь по мере обретения новых истин к еще более новым рабочим гипотезам, европейцы ослабили или разрушили многие старые связи, которые систематизировали их искусство и руководили им в течение столетия или даже тысячелетий. Так по крайней мере кажется, глядя из 1960-х гг.
С другой стороны, культурные связи с отдаленными эпохами могут быть частично иллюзорными. Многое из многообразия и потока просто утеряно и забыто, поскольку искусству и мысли, чтобы выжить, необходимо пройти через фильтр вкусов последующих поколений. Более того, чем дальше исторический взгляд, тем менее различимы страсти, сомнения, противоречия на фоне более крупных событий — почти так же, как взгляд с высоты птичьего полета, размывая детали, может превратить пейзаж в карту. Через несколько столетий главные линии художественного и интеллектуального развития XIX-XX вв. могут предстать такими же отчетливыми, как и для любой другой эпохи.
Забыв о такой перспективе, легче констатировать распад хорошо знакомых связей и ценностей, чем предчувствовать и постигнуть проявления нового — если оно действительно готово появиться. Конечно, разрушение прошлого Запада или освобождение от него достаточно очевидно. К 1917 г. ведущие художники отказались от соблюдения требований перспективы, в рамках которых европейское художественное видение существовало начиная с XV в. Физики модифицировали ньютоновские законы движения, придерживаясь которых, европейская научная мысль двигалась вперед начиная с XVII в. Даже «фирменное» интеллектуальное достижение XIX в. — эволюционное видение мира — взорвав все традиционные моральные и эстетические стандарты, низвело западную мысль на уровень раненой гиены, грызущей свои внутренности на виду у всех. Тем не менее взрывная энергия, которая проявилась таким разрушительным образом, была также освобождающей силой для новых художественных, научных и философских взглядов, которые возникли в начале XX в.
В живописи техники и приемы линейной и воздушной перспективы для создания иллюзии трехмерного пространства использовали задолго до 1789 г., и для современного вкуса лишь немногое, вышедшее из-под кисти тех, кто продолжал придерживаться этих принципов, кажется важным и полным жизни. Эксперименты со светом и цветом в середине XIX в. дали импрессионистам набор новых изобразительных средств, но только в следующем поколении Винсент Ван Гог (ум. 1890), Поль Гоген (ум. 1903), Поль Сезанн (ум. 1906) освободились от рамок строгих ограничений, налагаемых требованиями правил перспективы и реалистичной цветопередачи. Полный и окончательный отказ от техники Возрождения для создания иллюзии трехмерного пространства произошел уже в деятельности следующего поколения, непосредственно перед Первой мировой войной, когда несколько авангардистских художников в Париже отказались от устоявшихся общепринятых условностей ремесла во имя новой, личной точки зрения, с самого начала почти непостижимой умом и часто не признающей ничего более важного, чем мгновенная причуда или шутливый эксперимент.
Тем не менее, как и любое великое искусство, живопись десятилетия, предшествовавшего Первой мировой войне создала выдающееся зрительное воплощение тенденций, лежащих в самом сердце культурной вселенной западного человека. Лучшие образцы предложили художники, которые произвольно вырвали фрагменты зрительных ощущений из привычного контекста и затем произвольно скомпоновали их в новом порядке, не имеющем никакой связи с внешней реальностью. Но такое дробление привычного, часто сочетая несочетаемые с общепринятой точки зрения части в точности отразило то, что случилось с жизнями миллионов людей во время и после Первой мировой войны. Поэтому кажется, будто несколько необычайно чувствительных душ предощутили неминуемый грядущий развал режима западной цивилизации, более не являвшегося Новым, и таким образом символически стремились поведать о грядущем с помощью искусства.


Городская идиллия, изображенная на картине Жоржа Сера, созданной между 1884-м и 1886 г., как зеркало отражает стиль жизни новой европейской системы, когда средний класс Франции и других европейских государств мог позволить себе отдохнуть в воскресенье в середине лета, гордый и довольный высотами цивилизации, окружающими его. Техника Сера, состоящая в создании изображения с помощью множества разноцветных точек, была задумана как научный эксперимент, основывающийся на новых теориях света и цвета. Но отказываясь от оптической точности более старых европейских традиций, Сера также дал выход растущему недовольству унаследованными формами искусства.
Бюст Жоржа Клемансо, созданный Роденом до начала Первой мировой войны (1911 г.), предлагает более высокий уровень неопределенности и беспокойства. Грубо вытесанные, неотполированные скульптурные формы здесь служат средством для изображения бесконечной усталости духа, возникшей, когда революционные истины «Свободы, Равенства, Братства» потеряли свою ясность и силу.
Сейчас ретроспективно кажется очевидным, что все сооружение западного общества, неидеально подогнанное в течение XIX в. к реалиям промышленного капитализма и идеям демократии, стало крениться и рушиться даже перед 1914 г. Война 1914-1918 гг. привела в движение огромные глыбы традиций и общепринятых норм поведения, подобно тому, как Ледовитый океан взламывает лед весной — каждая плавучая льдина тверда и распознаваема, как винные бутылки и гитары на картинах Пикассо, и каждая способна к движению и к сочетанию — как те же бутылки и гитары -вместе с другими движущимися фрагментами разрушенного прошлого. Лед еще не застыл, и нескоро еще начнутся новые морозы; и усилия тоталитарных диктатур реорганизовать культурную вселенную с помощью произвола и специальных декретов пока принесли мало успеха. Ни интуитивные, ни рассудочные усилия художников XX в. реорганизовать видимую реальность, к чему они так стремились, кажется, не привели к достижению длительных стилистических успехов, что также, возможно, стало мистическим зеркалом, в котором правдиво отразилось общество.
Среди искусств музыка находилась на противоположном полюсе по отношению к живописи, но ее развитие в 1789-1917 гг. было схоже с развитием живописи. В начале этого периода музыка, еще не исчерпавшая возможностей восьмитонового гармонического ряда, позволявшего множеству разных инструментов играть вместе в любых комбинациях и по отдельности, начала быстрое развитие. Людвиг ван Бетховен (ум. 1827), Иоганн Брамс (ум. 1897) и Рихард Вагнер (ум. 1883), как и множество менее известных композиторов, превосходно использовали эти возможности. Однако перед началом Первой мировой войны несколько безвестных европейских композиторов начали экспериментировать с размерами и гармонией, выходя за пределы унаследованных традиций. В то же время в затерянных американских притонах другие местные экспериментаторы слили африканские ритмы с западным звучанием, явив столь же резкое, хотя и не столь сознательное, отступление от классической традиции. Атональность и джаз, хотя они и произошли от противоположных крайностей — интеллектуальной и чувственной, — тем не менее (подобно прямым линиям в неевклидовом пространстве) встретиться в точке, полярно противоположной правилам гармонии и ритма, как их определяла европейская музыкальная традиция начала XVIII в.
Различные направления литературы и таких базовых искусств, как скульптура и архитектура, находились где-то между крайностями: преждевременным энтузиазмом, с которым художники отвергли старые правила их ремесла, и высокомерным равнодушием, с которым почти все европейские музыканты встретили эксперименты с джазом и атональностью. Нетрудно найти предшественников радикального отхода. Достаточно назвать таких столпов литературы, как романиста Марселя Пруста (ум. 1922), драматурга Артура Шнитцлера (ум. 1932) или поэта Александра Блока (ум. 1921), вспомнить грубо высеченные скульптуры Огюста Родена (ум. 1917) и драматически упрощенные формы ранних скульптур Константина Бранкузи (ум. 1957). Одновременно в архитектуре фантазии из кривых линий и цемента Антонио Гауди (ум. 1926) и парящие надменные небоскребы Луиса Салливена (ум. 1924), созданные с использованием стального каркаса здания, отрицали традиционные ограничения, навязанные частично вкусами и частично техническими возможностями старых строительных материалов и методов. Но до Первой мировой войны такие люди были исключением. В Западной Европе главный поток литературы, скульптуры и архитектуры оставались в привычном русле, проложенном большей частью в XV-XVI вв., когда впервые были установлены национальные литературные языки и набор ренессансных скульптурных и архитектурных тем.

Фрагментарная карикатура зрительного восприятия у Пикассо и абстрактные пятна краски Джексона Поллока сходятся в нескрываемом отрицании техники и условностей европейского искусства и разделяют беспокойство и неистовство духа, которое можно найти в истории европейского искусства разве что в живописи Иеронима Босха (см. главу XI). Опыт XVI в., когда на европейском Дальнем Западе в муках рождалась новая история, представлял наиболее острый шок, испытанный европейским культурным порядком до того, как идеи и события XX в. превратили столько старых несомненных истин в спутанный клубок сомнений и страхов, зрительно ярко выраженных в этих двух картинах.
Однако в России очень мощная литература, в которой первым светилом был Александр Пушкин (ум. 1837), в течение XIX в. подошла к вершине своего совершенства. Почти все великие русские писатели демонстрировали противоречивое отношение к культурным традициям Западной Европы[1113]. Тот факт, что многие западноевропейцы после 1917 г. начали чувствовать подобную же неопределенность в своих отношениях к культурному наследию, значит, что в творчестве русских писателей XIX в. (подобно Фукидиду в Афинах в V в. до н. э.) начали звучать поразительно современные ноты. Федор Достоевский (ум. 1881), например, предвосхитил многое из того, что кажется характерным для XX в. Это не так удивительно, как кажется на первый взгляд, поскольку разрушение русской культурной самобытности в результате революционных реформ Петра Великого поставило россиян психологически впереди западноевропейских наций, чья культура сохранялась дольше. Поэтому, в то время как западноевропейцы еще не сомневались в прирожденном превосходстве своего культурного наследия, поколение русских интеллектуалов времен Достоевского нашло невозможным легко и автоматически принять какую-то одну культурную вселенную. Достоевский и многие другие стремились и отвергнуть, и принять достижения западной цивилизации, одновременно и высоко оценивая, и презирая особенности, которые отличали Россию от Запада. Такое напряжение могло быть преодолено только воссозданием, пусть субъективным, культурной вселенной. Но такой путь после мучительного выбора — даже если это неудовлетворительный психологический суррогат безоговорочной веры в неразрывность культурного преемства — может тем не менее явиться крайне плодотворным для высокого искусства и глубокой мысли. Русская литература XIX в. отразила превосходство и недостатки этой ситуации, как и нашей собственной, предвосхитила многие характерные особенности западной литературы XX в.
Западная наука переживала такой же период беспокойства, как и западное искусство. В период между Французской и Русской революциями физики и их научное окружение разработали мировоззрение исключительной силы и строгой красоты — мировоззрение, которое соединило огромность видения с мельчайшей точностью деталей и которое, более того, было подтверждено экспериментами и новыми технологиями. Главные направления этой научной структуры были установлены в XVII в., когда физики сконцентрировали внимание на изучении материи в движении, сперва в классической форме. Но в течение XIX в. размах и сложность их теоретических систем были так громадно расширены, что люди стали мечтать о возможности представить так же широко все знание.
Научные знания развивались в двух направлениях: 1) открытия новых законов, которые объединяли в одно большое целое ранее представлявшиеся несвязанными явления; 2) применения уже известных законов физики к новым классам явлений. Первое направление дало такие достижения, как закон Джеймса Джоуля (ум. 1889), установившего взаимоотношения между работой и теплом, и математическое обобщение Джеймса Кларка Максвелла (ум. 1879), который объединил различные формы уже известной лучистой энергии (свет, лучистое тепло и т.д.) в континуум электромагнитного излучения. Второй путь привел к применению методов и теорий экспериментальной физики к таким наукам, как химия, астрономия, биология, генетика и геология, — в каждом случае к сознательно ожидаемому успешному результату.
Эти достижения стремились свести явления к некоему количеству проявлений в пределах математически сконструированной вселенной, определяемой четырьмя основными условиями — материей, энергией, пространством и временем. До публикации в 1905 г. первой работы о теории относительности Альбертом Эйнштейном (ум. 1955) время и пространство оставались математически однородными и абсолютными сущностями, предложенными Галилеем и сформулированными Ньютоном. Концепция материи, с другой стороны, хоть и с различными затруднениями, к концу XIX в. подверглась значительному совершенствованию и потеряла свою незыблемость. В начале XIX в. ученые отделили понятие молекулы от понятия атома и к середине века разработали методы анализа атомной структуры молекул со все возрастающей точностью. К концу столетия химики и физики объединили усилия, чтобы проникнуть в атом, который все еще определялся как конечное, неделимое состояние материи. В первом десятилетии XX в. электроны (открытые Джоном Джозефом Томпсоном; ум. 1940) заменили атомы в роли конечных строительных блоков материи, и при этом «неделимый» атом превратился в миниатюрную Солнечную систему с электронами, двигающимися по планетным орбитам вокруг твердого (или сравнительно плотного) ядра.
Метод, благодаря которому ученые XIX в. превратили обычную твердую материю в облако все более мелких и всегда широко рассеянных частиц, соответствовал методу, с помощью которого они сделали саму энергию более осязаемой. Сам термин «энергия» потребовал совершенно нового определения. Точные вычисления[1114] установили энергетическую равнозначность между такими явно отличающимися явлениями, как химические реакции, движение видимых частиц, движение молекул и электронов, тепло, звук, свет, магнетизм и вновь открытыми видами излучения, такими как радиоволны и рентгеновские лучи. Принцип сохранения энергии при любых изменениях физического состояния был умозрительно предсказан Германом Людвигом Фердинандом фон Гельмгольцем (ум. 1894) в 1847 г. Каждое открытие, совершаемое в следующей половине XIX в., явно подтверждало этот принцип и предоставляло его новые примеры.
Метаморфозы неразрушимой материи, которые так успешно происходили под контролем химиков, кажется, имело явные параллели с преображением некогда считавшейся неразрушимой энергии, которая стала специальным объектом исследования физики. Разделение материи и энергии в пространстве и времени определяло мир физики в XIX в. Это был комфортабельный интеллектуальный мир, немного закрытый для эмоций. Осторожно определяемые термины и осторожно проводимые вычисления и экспериментальное подтверждение математически оформленных гипотез — все это было элегантно выражено в закрытых и логически самосогласованных системах, которые искусно и точно объясняли все физические явления — с некоторыми приводящими в замешательство общеизвестными исключениями.
К концу XIX в. эти приводящие в замешательство исключения начали множиться, и многие концепции классической физики стали совершенно неясны. В некоторых обстоятельствах энергия представала как излучение частиц, проявляясь только в постоянных «квантах» — термин, предложенный Максом Планком (ум. 1947) в 1900 г. Материя оказалась способна в некоторых случаях распадаться и в некоторых процессах излучать мощную радиацию — явление, впервые наблюдавшееся Антуаном Анри Беккерелем (ум. 1908) в 1896 г. И еще труднее было разобраться кому-либо, за исключением нескольких физиков, как связаны время и пространство. Впервые решение этой задачи предложил Эйнштейн в своей теории относительности (1905 г.), попытавшейся объяснить (помимо всего прочего) постоянство скорости распространения света в любом направлении, даже когда она рассчитывается наблюдателем, стоящим на быстро движущейся платформе, например на движущейся по своей орбите Земле. Такое постоянство скорости в 1887 г. наблюдал Альберт Михельсон (ум. 1931) и его коллега Эдуард Уильяме Морли (ум. 1923). Это казалось фундаментально несовместимым с концепцией Ньютона об абсолютности пространства и времени, ведь в соответствии с обычной логикой лучи света, распространяющиеся в том же направлении, в котором движется Земля, должны двигаться быстрее, чем лучи, распространяющиеся в противоположном направлении, поскольку скорость Земли должна быть прибавлена к абсолютной скорости лучей в одном случае и вычтена в другом.
Неожиданная развязка этих противоречий растворила элегантную ясность физики XIX в. Материя, энергия, время и пространство — четыре основные составляющие, на которых основывалась вся структура, — стали необъяснимы с точки зрения классической физики. В результате к моменту, когда Первая мировая война разорвала Европу, недостаточно хорошо понимаемая система материя-энергия, казалось, мистически превратилась в любую из различных пространственно-временных координат — евклидову, гиперболическую или сферическую, а может быть, и в несколько одновременно.
Более того, онтологический статус материи-энергии был далек от ясности. Электрон, открытый в 1897 г., быстро породил стаю других субатомных частиц. Квант энергии Планка оказался таким же плодовитым, и два переходящих друг в друга понятия — «волна-частица» и «частица-волна» слились так, что их невозможно было описать в привычных терминах трехмерного мира. Еще более сомнительной была применимость к действительно существующей Вселенной сети координат, разработанной для априорного вычисления пространства-времени.
Для человека, не принадлежащего к кругу физиков, все это выглядело так, будто метафизика и мистика перенеслись от алтарей в лаборатории, ловко подтвердив свое древнее превосходство над математикой. Для обычного здравомыслящего человека все это выглядело каббалистической бессмыслицей, противоречащей его интуитивному знанию о материальном мире и тем не менее продолжающей производить технологические чудеса. Здесь магия соединяла свои силы с математикой, и какая магия могла превзойти эту — Вселенная должна была покориться законам человеческой мысли и вести себя в соответствии со строгой математической логикой[1115].
Едва ли можно вообразить более экстраординарную революцию мысли, прошедшей от торжества конца XIX в. к растерянности XX в., даже при том, что новые перспективы, открытые физиками в первом десятилетии XX в., в действительности не опровергали классическую теорию, а только делали ее частным случаем более высокого уровня.
Физика, конечно, была не единственной областью интеллектуальных исканий в 1789-1917 гг. В определенном смысле можно сказать, что стиль мышления математической физики был просто грубым анахронизмом в попытках предсказания результатов при научных исследованиях универсальных и вечных законов, сильно отдавая математическим детерминизмом XVII в. Более того, такие предсказания были едва ли совместимы с единым видением реальности, которое в XIX в. впервые резко заняло центральное место и увидело все явления — будь то законы физики или человеческого общества — в процессе бесконечного развития. Идея развития стимулировала взлет философии и ранее униженной истории, попытавшихся выстроить события в интеллектуально привлекательные последовательности, менее стройные, чем простая симметрия физиков, и оказавшиеся очень привлекательными для некоторых умов своими неожиданными нерегулярностями, несвязностями и путанными незавершенностями.
Со времен Геродота история считалась, и сомнений тут не возникало, ветвью литературы. Но история традиционно описывала действия людей, ограничиваясь политическими и военными событиями. До XIX в. едва ли кто-то отнесся бы серьезно к утверждению, что все во Вселенной, как и сама Вселенная, имеет свою историю. Но в начале XIX в. это традиционное ограничение, наложенное на царство истории, было отброшено. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (ум. 1831) и другие философы подняли до уровня всеобщего принципа идею о том, что развитие во времени является уникальным, отчего некоторые вещи возможны только в какой-то данный момент и невозможны до него или после. Это дало историкам новую программу — не просто записывать необычные события, произошедшие главным образом в неизменном человечестве и природе, как Эдуард Гиббон (ум. 1794), но попытаться постигнуть внутреннюю эволюцию человеческой мысли и общества, постоянно стараясь определить новые потенциальные возможности, возникающие в потоке времени.
Карл Маркс (ум. 1883) — наиболее известный социальный теоретик, который развил философию Гегеля до простой, но правдоподобной схематизации судьбы человечества и его истории. Предложенное Марксом понимание стадий развития человечества в прошлом и будущем — от рабства, через крепостничество, финансовую эксплуатацию свободного рынка до идеальной свободы социалистического и коммунистического общества -было обращено как к собственно промышленным рабочим, так и к идеализму интеллектуалов, растерявшихся перед необходимость осмыслить происходящее. Марксизм быстро стал религией, очень привлекательной для людей, недавно резко сменивших неизменность сельской жизни на неуверенность городского и промышленного бытия.
Историческое понимание событий также привело к пересмотру традиционных религиозных представлений. Христианство, рассматриваемое в контексте мистериальных религий Римской империи, потеряло свою уникальность, и Библия, став объектом тех же критических канонов, которые историки применяли для исследования других текстов, перестала быть словом Бога, подиктованным ряду верных секретарей, а наоборот, превратилась в творение человека, переполненное текстуальными ошибками. Точность и полнота христианской доктрины на протяжение европейской истории постоянно изменялись, и в этом не было ничего нового. Но отказывая Библии в высоком философском содержании и концентрируя внимание на текстуальных деталях, новый «высокий критицизм» оказался самым ужасным противником христианства, с которыми ему приходилось сталкиваться. Религиозный «модернизм», который увидел человеческое восприятие божества и самораскрытие Бога человеку как дополняющие и поступательные процессы, текущие во времени, представлял одну крайнюю реакцию на дух нового времени. Категорическое отрицание результатов, полученных «высоким критицизмом», и утверждение полной власти традиционной догмы — другую.
Плодотворность понимания исторических событий в их развитии не ограничивалась историческими и социальными науками. В биологии произошла настоящая революция, когда Чарльз Дарвин (ум. 1882) собрал рассеянные факты биологической эволюции, даже известные до него другим натуралистам, но не осмысленные ими, в единую систему и вместе со своими выводами изложил в известной книге «Происхождение видов» (1859). Теория Дарвина объединила все живущие организмы в рамках единого эволюционного процесса. Эволюция органического мира потребовала невообразимо длительного времени, но геологи уже предложили масштаб времени для существования Земли, проистекающий из исследований горных отложений, и палеонтологи до и после публикации книги Дарвина заполнили огромную пропасть во времени, которая разверзлась перед человеком. Человеческая жизнь и история выглядели карликами перед грандиозностью геологического и биологического времени. Но это было не просто чувство неудобства, испытываемое человеческим сознанием перед длительностью эволюции. Дарвиновская картина эволюции биологических видов не делала исключений и для человека[1116]. Низводя его до уровня других животных, объектов, подлежащих тем же законам естественного отбора и борьбы за выживание, Дарвин подрывал основы не только религии и социального порядка, но и всю изысканность человеческой культуры. Также не было недостатка в последователях теории, делающих выводы, от которых воздерживался сам Дарвин, и переносящих концепции естественного отбора и борьбы за выживание на общество в целом, оправдывая жестокий экономический индивидуализм у себя на родине и беспощадный империализм вне ее пределов.
Историческое видение, сначала использовавшееся для объяснения человека и его деятельности, распространившись на все живые субъекты и на саму планету, превратилось в основную тему, привлекающую общественное внимание, а попытки применить историзм при изучении космоса — первая из них пришлась как раз на 1917 г. — стали вершиной этого метода и произвели эффект, сравнимый с революцией Коперника. Для астрономов, ищущих понимания процессов развития Вселенной, холодное доказательство возникновения и угасания бесчисленных звезд, одновременно означало и допущение существования неисчислимых солнечных систем, находящихся в разных стадиях развития, и несомненное существование других галактик, объединенных в группы, которые, в свою очередь, объединяются в еще большие и большие группы. Такой эволюционный взгляд низводил Солнце, Землю, жизнь и человека — не говоря уже об отдельных личностях — до несоизмеримо малой значимости, потрясающей даже умы, уже настроенные на масштаб бытия, присущий системе мироздания Коперника и Ньютона[1117].
Такое изменение масштаба восприятия истории, навязанное общими работами историков и археологов, вызвавших к жизни древние цивилизации Среднего Востока, биологов, геологов и палеонтологов, показавших человеку панораму биологической эволюции, и астрономов и математиков, взявшихся изучать бесконечность, внесли новую актуальность в старый вопрос о величии и значении дел человека под невообразимо далекими звездами на незапамятно древней земле, среди людей, оказавшихся не такими уж и далекими от своих животных предков и первобытных прародителей.
Макрокосмическая громадность была только одним из аспектов эволюционного взгляда на мир, утвердившегося к концу XIX в. Вслед за классической физикой эволюционная точка зрения, с таким торжеством преподнесенная в начале столетия, превратилась в объект острой микрокосмической критики философов и психологов. Философы обнаружили, что им все труднее убеждать себя в том, что Кант удовлетворительно разрешил проблему знания, но усилия по усовершенствованию его анатомии власти и ограничению разума привели к растущей одержимости эпистемологией и к стремлению отразить возможности знания как такового. Однако ученые и историки продолжали заниматься своим делом, не обращая на них внимания, так что философские дилеммы века оставались более или менее частным вопросом самой философии. Не так обстояло дело с проблемами, поднимаемыми психологами, которые имели дело как с непоколебимостью суждений разума, так и с экстравагантной поэтичностью воображения, изменяющего нормы разума в отношении человеческих действии. Зигмунд Фрейд (ум. 1939) был наиболее важным первопроходцем. Исходя из наблюдений за поведением человека в ненормальных ситуациях Фрейд сделал вывод, что причины, управляющие действием человека, лежат в области подсознательного. Сознание соответственно становится внешним, искаженным и деформированным зеркалом реальности, часто скрывающим от нас истину.
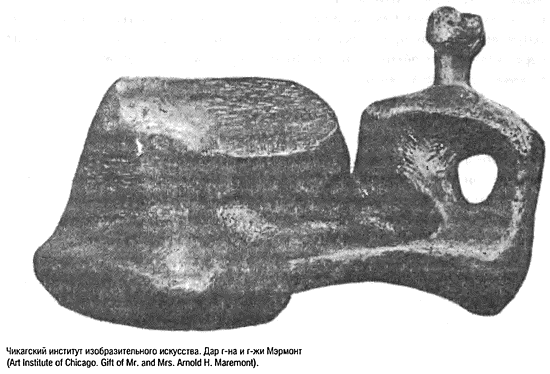
Эта возлежащая фигура, изваянная Генри Муром (1898—1986) в 1957 г., дает визуальный пример первобытной примитивности, положившей начало нашему пониманию женственности. Вероятно, художник намеревался выйти за границы зрительного восприятия, пытаясь создать образ, резонирующий с подсознательным. Художественная универсальность может также быть объяснена тем, что все мужчины унаследовали общее ядро подсознательных склонностей. Такое понимание очевидным образом освобождало художника от западной или любой другой традиции искусства. Это привело — или могло привести — высокую интеллектуальную искушенность в прямой контакт с темными порывами, спрятанными глубоко под видимым культурным разнообразием человечества. В такой статуе находит зримое воплощение научно обоснованный отказ от культурных ограничений, свойственный XX в.
Такие точки зрения, безусловно, связывали человека с животными и низшими формами жизни, как это сделал Дарвин. Это приходило в противоречие с оптимистическим определением человеческой природы и разума, которое дала демократическая революция. Кроме того, вставал простой вопрос, волновавший философов, — как человек вообще может точно знать? Если разум питается и руководствуется инстинктивными побуждениями, проявляющимися спорадически в виде неконтролируемых импульсов и переплетаясь с ними, что остается от способности охватить всю окружающую реальность и понять ее?
Фрейд был отнюдь не одинок в стремлении свергнуть с престола разум. Социальные теоретики, такие как Фридрих Ницше (ум. 1900), Жорж Сорель (ум. 1922) или Вильфредо Парето (ум. 1923), независимо друг от друга пришли к развенчанию разума; а профессионалы командования над людьми — прежде всего офицеры лучших европейских армий — и так знали, что рамки законов разума всегда оказываются слишком узкими, когда дело касается поведения больших масс. Художники, в свою очередь, отрицая традиции своего искусства, отрицали и его рациональность, переходя от трехмерного изображения пространства к двухмерному, и все их новые методы сильно отдавали бессознательным, глубины которого пытался измерить Фрейд, которое долгое время уже использовали политики и солдаты, а социальные теоретики начали признавать как нечто большее, чем просто языческие пережитки или особенные примитивные черты, которые должны исчезнуть с развитием цивилизации.
Любой обзор всегда недооценивает консерватизм и преемственность социальной среды, излишне подчеркивая новшества и дискретность. Но даже при таком простом объяснении и принимая во внимание миллионы людей, чьи жизни оказались совершенно не задеты тонкостями науки, а умы совершенно не взволнованы новыми мыслями, не забыв также о тех людях из респектабельного большинства, которые никогда не интересовались, что делают беспутные художники, живущие по соседству с ними в Париже и других городах, помня о способности общественных институтов и обычаев переживать отрыв от своих социальных основ и даже преуспевать во враждебном окружении, все-таки можно сказать, что западная цивилизация в первом десятилетии XX в. перешла на необычайно критический этап, даже раньше, чем рухнула в бездну войны и революции. Когда искусство и гуманитарные науки, экономисты и политики одновременно так твердо выступают против одних и тех же шаблонов — шансы новшеств и дискретности возрастают как никогда. Инерция миллионов, желающих прожить свою жизнь без потрясений, в обычных условия сдерживает политико-экономических мечтателей и честолюбцев, но когда культурные лидеры цивилизации единодушно берутся жечь мосты, то лишь вопрос времени: когда массовая инертность превратится в энергию масс и хлынет по новым руслам? Первая мировая война и Русская революция, возможно, ускорили этот процесс, но, безусловно, не создали сам кризис. Новый режим, провозглашенный Французской революцией, стал старым. Было совершенно очевидно, что западное (а более вероятно, мировое) общество и культура могут измениться — или смятение и неопределенность овладеют миром.
В. НЕЗАПАДНЫЙ МИР В 1850-1950 ГГ.
В середине XIX в. в мусульманском, китайском, индуистском и японском мирах произошло крушение традиционных стилей жизни. В этом отношении народы стран Африки к югу от Сахары и собственно Запад отставали от азиатских народов приблизительно на полстолетия — поскольку как стиль жизни племен Африки, так и стиль жизни западного среднего класса уклонился от столкновения с общим кризисом вплоть до самого конца XIX -начала XX вв. По крайней мере в определенном смысле, крушение каждого незападного мира было результатом воздействия западной технологии. Только когда непроницаемая раковина привычных традиций и убеждений дала трещину, когда умы африканцев и азиатов стали чувствительны к веяниям чужеземной доктрины, идеи Запада вступили вслед за технологиями в дело преобразования местной культурной сцены.
Общественные и государственные институты, олицетворяющие обычаи и традиции, были твердынями консерватизма и возвышались столпами стабильности на фоне растревоженной социальной панорамы мира. Но эти институты всегда были исключительно местными, так что их взаимодействие с космополитическими новшествами необходимо изучать для каждого конкретного региона. Перед тем как взяться за решение этой задачи, кажется правомерным подробно остановиться на факторах, затрагивавших весь, или почти весь, мир и сплетших сеть глобального космополитизма, в которую попались примитивные культуры и древние цивилизации в 1850-1950 гг.
1. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И СТИЛЯ ОЙКУМЕНЫ
В течение столетия, в 1850-1950 гг., изменения в самой сути транспорта вызвали и изменения общей картины ойкумены. Расстояния уменьшились, коммуникации улучшились, центры реальной и потенциальной политической власти сместились. Конечно, это был всего лишь один из аспектов общей технологической революции, но он был специфически важен. Хотя, определяя, что важнее чего, не следует забывать, что транспорт и связь всегда очерчивали основные рамки, в которых существовало человеческое общество, — только масштабы были иными. А ведь масштаб может быть решающе важным, и огромный охват современной сети механического транспорта и мгновенность средств связи создали глобальный космополитизм.
Каждое изменение в механическом транспорте резко уменьшало время пути между различными областями земного шара. Так, появление механических судов, сначала построенных из железа, а затем из стали, усилило важность трансокеанских линий, поскольку морской транспорт стал дешевле и надежнее, чем прежде. Великие трансокеанские каналы через перешейки Суэца (1869 г.) и Панамы (1914 г.) оказывали влияние в том же направлении; но каналы обновили важность старых путей[1118]. Суэцкий канал возвращал Среднему Востоку его былую важность как центра пересечения дорог Восточного полушария, круто изменив при этом геополитику Старого Света. Панамский канал также воздействовал на мировое равновесие, хотя и менее выраженно, путем усиления военного влияния Соединенных Штатов.
Механический морской транспорт стал глобальной реальностью после 1870-х гг., но и раньше возможности механизированного транспорта при перевозках на длинные расстояния были очевидны. Заводы, изготавливающие материал для железных судов, также предложили материал для постройки дышащих паром коней, которые начиная с 1869 г. с лязгом помчались через континенты. Но железные дороги были не единственным изобретением — в большинстве регионов планеты телеграф на десятилетие или два опередил железнодорожный транспорт, и после первого большого железнодорожного бума в 1850-х гг. дальнейшее улучшение транспорта и связи пошло стремительно: появились легковые и грузовые автомобили, трубопроводы, телефон, радио и впоследствии телевидение.
За короткое время улучшения в наземном транспорте усилили главенство Западной Европы в масштабах ойкумены. Больше всего новых изобретений было создано в Европе, где также сконцентрировались технические и финансовые возможности их использования. Первые пользователи транспорта и связи, даже в неевропейских региона мира, поэтому тоже часто были европейцами. Запад, таким образом, получил новый и очень мощный инструмент для проникновения внутрь континентов от прибрежных портов, где ранее обычно концентрировались контакты с другими народами.


Но если смотреть на этот процесс с позиции будущего, то открытие внутренних районов для быстрого, дешевого и независимого транспорта таило в себе опасность свержения Западной Европы с трона мирового господства. Подъем американской и русской мощи до их современного состояния был бы невозможен без объединения их огромных континентальных просторов сетью дорог, по которым двигается механический транспорт. Южноамериканцы, африканцы и азиаты еще не построили действительно континентальную транспортную сеть. Политические, финансовые и географические обстоятельства препятствовали этому, но техническая достижимость сейчас очевидна. Если это осуществится, старое верховенство Европы во всех землях и океанах покажется таким же невероятным, каким показалось бы оно человеку средневековья.
Воздушные пассажирские и грузоперевозки, которые благодаря достижениям в самолетостроении, достигнутым во время Второй мировой войны, могут в будущем предложить небесную альтернативу человечеству, концентрировавшемуся в прошлом на континентах и океанских островах. Препятствия, расположенные на земле, не имеют значения для самолетов, и это придает трансконтинентальным воздушным трассам глобальное, а не только трансокеанское значение. Более того, поскольку большинство населения проживает в Северном полушарии, все наиболее важные центры народонаселения и власти на земле связаны между собой трансарктическими воздушными путями. И как результат, все стратегически важные зоны планеты передвинулись на север. Арктика может стать тем, чем был Средний Восток на протяжении большей части письменной истории — центром пересечения мировых маршрутов.
Изменения в расположении транспортных путей и соответственный сдвиг стратегически важных точек, возможно, даже менее значимы, чем общее «сжатие» земного шара, сделавшего всех людей соседями. Да, конечно, есть еще большие территории, не охваченные даже самым новым транспортом. Но ведь ни в джунглях Новой Гвинеи, ни в пустынях Южной Африки, ни в экваториальных лесах Амазонки, ни в тундре и на побережье Северного Ледовитого океана нет условий для проживания значительных людских сообществ. И если эти регионы по какой-то причине станут в будущем важны для внешнего мира, щупальца современных транспорта и связи автоматически притянут их и космополитизм нашего века неумолимо придет к народам, живущим там.
Второе проникающее повсюду влияние технологии заключалось в ускорении роста населения во всех уголках планеты. Значительное уменьшение численности первобытных и полупервобытных народов, столкнувшихся с оружием, микробами и психологическо-социальным распадом, принесенными цивилизованными людьми, было временным. Такие народы или сравнительно быстро исчезли, или начали восстанавливать свою численность через какое-то время, потребовавшееся для биологической и культурной реорганизации. Более того, выжившие народы подстроили структуру семьи к необходимости возместить потери от воздействия цивилизации. И когда они научились извлекать пусть даже малую выгоду от общественных санитарных мер и первой медицинской помощи, население начинало быстро расти.
В результате новые члены цивилизованного сообщества: африканцы, американские индейцы и маори будут увеличивать свою численность со скоростью, на порядок большей прироста более древних цивилизованных народов. Однако в абсолютном значении прирост народонаселения пока преобладает в Азии, Европе и неевропейском Западе, потому что народы этих регионов начали свой рост от большей основы и никогда не приостанавливали увеличения своей численности начиная как минимум с XVII в., а то и раньше.
Причины взрывного роста народонаселения мира еще не полностью объяснимы и различаются в деталях от сообщества к сообществу. Требуется определить общие факторы, чтобы объяснить универсальность феномена. Возможно, применение современной медицинской технологии было одним из таких факторов, который как способствует росту народонаселения, так и позволяет контролировать его. Увеличение количества получаемой пищи, ставшее результатом применения современной технологии и смягчения эффекта местных неурожаев путем доставки помощи современным транспортом и увеличения эффективности правительственных мер по облегчению положения в зонах бедствий одновременно со сравнительно высоким уровнем мира и стабильности, а также относительно малой кровопролитностью последних войн[1119] — все это способствовало смене прежних демографических балансов.
Поскольку население, если ничто не мешает его росту, увеличивается в геометрической прогрессии, человечество стоит перед угрозой перенаселения. Такая перспектива — объект пристального внимания и обсуждения. Простое планирование темпов роста населения делает очевидным, что нарушение экологического равновесия, которое наблюдается в настоящее время, не может продолжаться бесконечно долго и требует жестких ограничений, не говоря уже о необходимости твердых социальных и экономических ограничений[1120]. И чтобы ни принесло будущее, демографический рост усиливает «сжатие» планеты, наполняя людьми малонаселенные местности, которые когда-то отделяли и отчасти изолировали друг от друга общества и цивилизации.
Эти аспекты современной технологии и человеческой экологии вместе с очевидным, но неизменно важным товарооборотом стандартных промышленных изделий по всему миру окончательно переплетают все сегменты человечества друг с другом.
С улучшением качества связи увеличивается и скорость распространения идей. Конечно, потоку идей иногда препятствуют языковые и политические барьеры, религиозные и сектантские сообщества ограничивают проникновение новых идей в свои общины, а различия в местных и классовых обычаях, древних традициях или личных пристрастиях — все оказывает влияние на их распространение в мире и иногда приводит к непониманию или ужасному преувеличению[1121]. Однако в некоторых областях знания, особенно в естественных и прикладных науках (главным образом в инженерном деле), иногда успешно сотрудничают люди, принадлежащие к разным культурным традициям и с разными личными пристрастиями.
Есть и другая сложность, заключающаяся в том, что многие наиболее образованные и тонко мыслящие люди чувствуют себя неуютно после того, как обнаружили вокруг себя более чем одну вселенную значений и ценностей, и не уверены в том, какая именно из них окажется более важной в трудную минуту. Также типично и то, что дети, воспитанные в традиции своих стран — мусульманской, индуистской, китайской, христианской и т.д., — в дальнейшей жизни сталкиваются с рационалистическими, светскими, критическими и релятивистскими элементами современного мышления. И они оказываются неспособны воспринять обе части как равноценные, не могут ни полностью отречься, ни до конца воспринять две фазы собственного опыта.
Это не обязательно должно причинять страдания и психологический дискомфорт. Человек может принадлежать одновременно двум различным культурным мирам, если можно легко разграничить ситуации, когда приемлемо использование норм поведения одной традиции, от ситуаций, когда более приемлема другая традиция. Однако такое разграничение не всегда возможно. Более того, в критических обстоятельствах требования одной системы могут вступать в противоречие с требованиями другой, приводя к внезапным скачкам в поведении человека с не всегда предвиденными последствиями для всех вовлеченных в ситуацию[1122]. В массах же, например в возбужденной толпе, такой фактор нестабильного личного поведения может вызвать вспышку насилия.
Но дела в мире обстоят не так мрачно, как это может показаться. Светские надежды и теории Запада, который привлек к себе умы большей части населения планеты, более оптимистичны. Подобно идеалам ранних религий, они демонстрируют свою стабильную силу даже перед лицом повторяющихся неудач и разочарований. И ясно, что люди всех национальностей, хоть раз оказавшиеся под влиянием понятий равенства, братства и свободы в любой из их версий и в любой интерпретации, ни при каких обстоятельствах не смогут их забыть. Перспектива существования человека свободного, сытого, хорошо одетого и обеспеченного жильем, члена свободного и миролюбивого общества, имеющего голос в определении политики «его» правительства и вносящего вклад во всеобщее благоденствие, притягивает практически каждого. Она имеет то преимущество, что ее можно упростить либо уточнить практически любым образом и подстроить к настроениям любой аудитории.
Те, кто принимают видение такого будущего человечества, сами обнаруживают, что борются с устрашающим отрывом идеала от реальности. Этот разрыв так огромен, что практические действия в несовершенном мире могут показаться просто безнадежными или даже потребовать настолько активных действий против нынешних устоявшихся, структурно зафиксированных интересов, что превратят доброе дело в злодеяние. И поскольку идеала достичь нелегко, мечта о рае на земле не утрачивает своей актуальности. Наоборот, легко реализуемые идеалы быстро утрачивают свою вдохновляющую силу, тогда как нереализованное вдохновение некоторым людям должно и будет давать силы посреди жестокой битвы. В пылу такой борьбы несоответствие результата идеалу обеспокоит только критически настроенные умы, да и они никогда не будут полностью уверены в том, что конечная цель не оправдывает средства.
Даже беглый анализ войн и революций, политических и социальных реформ, множества благотворительных, социальных и миссионерских деяний на протяжении столетия после 1850 г. показывает, как много людей искренне желали и были готовы самоотверженно трудиться, страдать и даже при необходимости умереть в борьбе за построение рая на земле. Либералы, националисты, социалисты, коммунисты — все они на политической сцене неотступно следовали своему пониманию идеала, и неисчислимое множество других людей направляли свои усилия на переделку того или иного уголка социальной сферы в надежде, что добровольные действия многочисленных личностей приблизят свободу, равенство и братство для всех членов общества и их мечта со временем может исполниться.

Конец этому еще не наступил и не может быть предсказан. В конце концов человек, безусловно, придет к другому видению мира, однако, несмотря на несовершенство мирского идеала социального счастья, даже если он и воплотиться в человеческих обществах, истинным останется то, что универсальность и сила такого видения мира среди людей конца XIX — начала XX вв. была характерной особенностью начала всемирного космополитизма. Распространение промышленного капитализма и последствия развития механического транспорта и связи для ойкумены были более ощутимы; однако изменение человеческих идей о том, как можно и должно поступить с увеличившимся богатством и могуществом промышленного капитализма, было не менее важным. Итак, силы-близнецы — промышленная и демократическая революция — которые определяли развитие западной истории 1789-1917 гг., а также борьба за обладание мировым господством в 1850-1950 гг., возможно, продолжатся и в будущем.
Начиная с 1917 г. западный мир занят тем, что пытается разрешить проблемы и противоречия, порожденные Французской революцией и Октябрьской революцией в России, чего нельзя сказать, по крайней мере пока, об остальном мире, в котором слова «свобода», «равенство», «братство» не воплощены в более или менее эффективные общественные институты, а скорее остаются идеалом, к которому следует стремиться, лозунг Октябрьской революции «Мир, земля, хлеб» рассматривается лишь как вариант лозунга Французской революции, а не как призыв, находящийся с ним в противоречии. Дилеммы свободы, которые так много значат для человека Запада, являющегося наследником Французской революции и скептически относящегося к Октябрьской, по-видимому, далеко не так важны для людей, которым еще только предстоит пройти долгий путь к реальным социальным преобразованиям, порожденным двумя великими политическими потрясениями современной Европы.
По крайней мере до середины XX в. революционные течения в странах, не принадлежащих к западному миру, были основаны на одной философской платформе, хотя и с некоторыми местными различиями. Во всех этих странах программы революционной деятельности питались идеями Французской и Октябрьской революций, сталкиваясь со старыми принципами социальной иерархии и старыми представлениями о человеческой природе и предназначении человека. Люди увлекались далеко расходящимися взглядами, нередко успевая за свою жизнь побывать приверженцами всех точек зрения, умещающимися между крайними. В итоге отдельные сообщества утратили присущую им ранее культурную и институциональную идентичность. Во всем мире, включая и Европу, можно было наблюдать следующую реакцию на революционные изменения: 1) подчеркнутое, иногда на грани истерии, повторное утверждение старых норм поведения и моральных ценностей; 2) настойчивые попытки реформировать настоящее путем возврата к более или менее условной первичной чистоте идей, действий и институтов; 3) пассивность перед лицом болезненного замешательства воли, которое, пожалуй, лишь подчеркивалось отдельными вспышками неистовой активности; 4) активная заговорщическая деятельность в виде тайных обществ, существующих в тесном симбиозе с тайной полицией; 5) откровенно жестокое стремление к личной власти и богатству, лиц, освободившихся от каких-либо моральных принципов; 6) преданность идее на грани аскетизма. Святые и негодяи, трусы и герои, а также обычные люди, короче говоря, человечество во всем разнообразии темпераментов его представителей находилось под влиянием невиданного ранее многообразия стимулов, не в силах выработать устойчивую и последовательную реакцию на их воздействие. Отсюда следует, что исторические обобщения для крупных регионов стали еще ненадежнее, чем раньше, и поэтому дальнейшее изложение лучше сделать обзорным.
2. МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР
Течение истории, столь сурово испытывавшее на излом мусульманство в XVIII — начале XIX вв., и после 1850 г. продолжало разочаровывать религиозные ожидания. Неверные-христиане, не почитающие даже свою собственную религию, продолжали удивлять мир растущим богатством и силой. И наоборот, престиж мусульманства продолжал падать по мере того, как мусульманские государства все более и более заимствовали политические и экономические технологии у западных неверных.
До окончания Первой мировой войны непрерывно сокращалась территория, находящаяся под властью ислама. Большая восточная часть мусульманского мира оказалась между мощным давлением Британии, распространявшей свое влияние на север от Индии, и России, стремившейся утвердиться к югу от степей Центральной Азии[1123]. К 1907 г., когда эти две державы заключили договор Антанты, вся мусульманская территория к востоку от границ Османской империи либо находилась под иностранным господством, либо была поделена на сферы влияния, почти не оставлявшие никакой реальной власти в руках удержавшихся на престолах шахов Персии и Афганистана. Западные окраины исламских земель разделили схожую судьбу в конце XIX — начале XX вв., когда европейские державы завершили раздел мусульманского мира и языческой Африки на колонии и протектораты. Задолго до этой даты сама Османская империя — традиционный страж мусульманского мира и борец против мира христианского — попала под опеку великих европейских держав. Первая мировая война нанесла империи смертельный удар. Поощряемые англичанами арабы подняли восстание против турок, и после 1918 г. сами турки, внезапно почувствовав отвращение к империи и самой имперской идее, отреклись от них в пользу турецкого национализма.
Скромное политическое возрождение наступило вскоре после Первой мировой войны. Успешно бросив вызов британской имперской политике, националисты Турции и Саудовской Аравии достигли реальной независимости. Персия и Афганистан также расширили свою независимость, освободившись от влияния как Британии, так и России. В 1930-х гг. продолжался процесс утраты европейскими державами влияния на арабские страны; но лишь после Второй мировой войны такие страны, как Марокко, Тунис, Египет, Пакистан и Индонезия стали действительно независимыми[1124].
Восстановление политической независимости мусульманского мира отразило возросшую эффективность мусульманской политической организации. Современное чиновничество, современные армии и современные теории о праве народов решать свою судьбу прививались мусульманским государствам. Политическая воля арабов, турок и других мусульманских народов стала фактором, с которым приходилось считаться в международной, а еще более во внутренней политике. Однако атрибуты современной государственности были скорее похожи на взятые напрокат украшения, мало идущие древним исламским политическим структурам, и в большинстве государств лояльность к ним омрачалась чувством глубокой ностальгии по невозвратному прошлому.
В сущности, мусульманские народы в течение прошлого столетия одновременно испытывали силу воздействия демократической и промышленной революции, а также не менее драматической революции, которая в европейской истории проявилась в процессах Реформации и Возрождения. И это было не случайно. В начале европейского нового времени мусульманские народы отшатнулись от ересей и нововведений и предпочли уют автократической доктрины и стабильной иерархии. Но когда в XIX в. институты, стоящие на страже правоверия утратили свою эффективность — т.е. когда Османское и Персидское государства, а также суннитские и шиитские улемы потеряли возможность командовать людьми и властвовать над их умами, — мусульмане были вынуждены заплатить высокую цену за свое прежнее интеллектуальное и моральное отчуждение, погрузившись всего за век в сложный комплекс идей и технологий, который европейцы развивали на протяжении четырех столетий. Нет ничего удивительного в том, что смятение воцарилось как в общественных, так и личных делах.
Ислам требует от своих последователей прежде всего покорности предписаниям Корана, который регулирует человеческие взаимоотношения в соответствии с желаниями бога. Но оказалось невозможным привести этот незыблемый свод законов поведения в соответствие с новым, быстро меняющимся под влиянием западных технологий миром и противостоять секуляризации мышления в XIX в. и XX в. Кроме того, энергичность и упорство мусульманских докторов богословия, твердо придерживавшихся требований Корана о невозможности хоть на йоту изменить его канон, поставили современных мусульман в отчаянное положение, оставляя их один на один со всеми неясностями, проистекающими из несоответствия требований Корана текущему дню[1125]. И поскольку отказ от старой религии означал потерю своего культурного самосознания, даже многим образованным людям оказывалось нелегко преодолеть строгие границы традиционного ислама[1126].
На уровне личности обычная реакция на несовместимость исламской ортодоксии и современной мысли приводила к тягостной фрагментации сознания[1127]. Неискреннее прославление ислама и таких западных идеалов, как демократическое правление, плюс постоянная неспособность следовать заповедям хотя бы одной из этих религий — все это было общественным эквивалентом личного раздвоения сознания наиболее образованных мусульман. Необходимо было предпринять усилия, чтобы вырваться из внутренне неустойчивого положения. Радикальная секуляризация государства в Турции и в Российской Средней Азии произошла во время кемалистской (1919— 1923 гг.) и большевистской (1917-1922 гг.) революций. В 1925 г. Персия тоже вступила на путь менее радикальной, но вполне явной политики секуляризации после вступления на престол Реза-шаха. На другом конце спектра ваххабиты-пуритане, стремившиеся к исламизации абсолютно всех сторон жизни человека путем возврата к моделям примитивного мусульманского общества, пришли к власти в Аравии с победой Абд аль-Азиза Ибн Сауда (1919— 1925 гг.).
Только будущее даст нам возможность увидеть результаты этих экспериментов. В Турции реакция против безбожия Мустафы Кемаля стала очевидной в 1950-х гг. Но информация о мусульманских сообществах Советского Союза и Китая слишком неполна, чтобы можно было сделать какие-либо выводы. Равным образом религиозный пыл ваххабитского движения в Саудовской Аравии, попав под золотой дождь открытых нефтяных месторождений, несколько поутих. Возможно, самый большой интерес представляет Пакистан. Эта страна была образована в 1947 г. как мусульманское государство, самим смыслом существования которого является мусульманская вера большинства его граждан. Более того, благодаря школам и армии Британской Индии, состоятельные граждане Пакистана оказались намного больше осведомлены о западной культуре, чем кто-либо в мусульманском мире. Если бы возможно было где-нибудь достичь слияния между западными и исламскими идеями и обычаями, то, похоже, именно здесь. Однако успех отнюдь не был ослепительным. Пакистан, подобно другим мусульманским государствам мира, похоже, оказался в положении страны, для которой Священный закон классического ислама настолько же неудобоварим, насколько и неизбежен — по крайней мере пока[1128].
Промышленный капитализм оказал на мусульманский мир меньшее влияние, чем демократическая революция. Западные товары, произведенные машинами, уже повсеместно разрушили ручное производство, и западные предприниматели внедрили в местную экономику некоторые важные отрасли перерабатывающей промышленности — прежде всего нефтяной. Но из-за отсутствия последовательности и проницательности у мусульманских политических вождей исламские предприниматели лишь в малой степени внедрили современную промышленность в своих странах до 1950 г. Даже когда государство предпринимало усилия по резкой индустриализации, как это было в кемалистской Турции, успехи были незначительными, поскольку в соответствии с давними традициями население государства считало торговлю и экономическое регулирование уделом презираемых религиозных меньшинств — евреев, армян и греков[1129].
3. ИНДУИСТСКАЯ ИНДИЯ
Восприятие западных идей индусами в целом проходило много легче, чем мусульманами. Многовековая враждебность не отделяла Индостан от Запада; более того, индуистское большинство населения не было так уж недовольно британской победой над мусульманским владычеством в Индии. Отсутствие строгой религиозной доктрины в индуизме позволило индусам легче рассматривать западную культуру с позиций ее собственных ценностей или по крайней мере избегать таких парализующих столкновений, какие происходили между западными идеями и предписаниями мусульманского Священного закона[1130]. Кроме того, западное присутствие в Индии было гораздо более интенсивным и широким, чем в какой-либо другой части Азии, и Индия приобрела многие западные атрибуты, такие как система образования по британскому образцу, знаменитая Индийская гражданская администрация, современный свод законов, армия, полиция, экономическое предпринимательство и связь. Эти институты в огромной мере увеличили возможности как для европейцев, так и для индусов изучить достижения культуры друг друга.
Британское присутствие в Индии уже само по себе позволяло преобразовать индийское общество путем одновременного предоставления возможности принять западный стиль и поощрения тому, кто так и сделал. Британцы постепенно низвели коренных индийских правителей и всю правящую клику до статуса марионеток или просто сместили их. Административная власть под британским присмотром перешла в руки индусов, получивших образование на Западе. Одновременно были востребованы и представителей других профессий для осуществления британского владычества. Такие люди, чья работа часто требовала находиться в тесном контакте с англичанами и чья карьера зависела от того, насколько они оправдают надежды своих английских патронов, имели сильные мотивы персонально воспринять западный образ жизни. И поскольку обязанности по реальному административному управлению были возложены именно на таких индусов, ассимилировавших западные манеры наиболее эффективно, это сделало влияние англизированного слоя непропорционально большим по сравнению с его долей в населении Индии и по сравнению с тем, чего он мог бы достичь без британской поддержки.
По этой, а возможно, и по другим причинам индуизм, который из четырех главных древних цивилизаций мира к началу современной эры наиболее пострадал, реагировал на изменения в своем наследии, вызываемые западной цивилизацией, более гибко, чем мусульмане или (по крайней мере до 1950 г.) Китай. Промышленная и демократическая революции имели свои аналоги в Индии, и путем смешения характерных особенностей британской и индийской культур обе они получили дополнительный толчок к развитию.
Промышленное и экономическое развитие Индии в 1850-1950 гг. определялось противоречием между политической практикой и политическим принципом. Практика, утверждая власть и верховенство британской административной машины, создала Индийскую гражданскую администрацию и со временем ряд подчиненных ей провинциальных служб. Но британский политический принцип требовал ограничить управленческую активность, сосредоточившись в основном на внутреннем порядке и защите границ и не вмешиваться в частное предпринимательство. Очевидно, что соединение британского либерализма XIX в. с действенной, централизованной, наделенной властью бюрократией, очень похожей на ту, которая существовала в восточных империя Европы в XVIII в., должно было привести к серьезным аномалиям. Индия их получила сполна.
Говоря коротко, сверхсовременность постоянно совмещалась с незапамятной древностью, в которую правительство предпочитало не вмешиваться. Экономические и технологические достижения, которые, как было решено, попадали под юрисдикцию правительства, вводились быстро и систематически, причем в таких масштабах и с такой степенью рациональности, что это превосходило что-либо виданное в Англии. Превосходным примером может служить сеть железных дорог в Индии. Широкомасштабное строительство шло в соответствии с планом, утвержденным генерал-губернатором в 1853 г. Несмотря на колебания: передать дороги в государственную или в частную собственность, и неудачное применение двух стандартов колеи, официальный контроль над индийскими железными дорогами был пристальным и сделал железнодорожную сеть очень развитой. К концу XIX в. почти 50 тыс. миль путей пролегли по субконтиненту[1131]. Ирригационные работы, особенно в Пенджабе, составляли другой аспект деятельности британской администрации в сфере экономики, в то время как дороги, оборудование портов и городское строительство оказались вне сферы ее внимания.
С другой стороны, частный сектор оставался все еще не развит. Деревенские обычаи ограждали подавляющее большинство индийцев от всех преимуществ и новых возможностей, которые открывали перед ними новый транспорт и технология. Большинство индийцев были очень далеки от предприимчивости, необходимой для либеральных планов британской администрации. Даже богатые и купеческие классы обычно предпочитали старое традиционное ростовщичество или прямое вкладывание денег в земельную собственность промышленным или другим непривычным формам экономической активности. Как результат, современные предприятия и компании, которые возникали в это время, в большинстве своем контролировали европейцы, парсы или другие иностранцы. Либеральные экономические принципы, которые успешно функционировали в Британии, где прочно укоренился класс предпринимателей, далеко не так успешно работали в Индии, где стремительный рост сельского населения равнялся (а возможно, и превосходил) существенным темпам роста сельскохозяйственной и промышленной продукции. Тем не менее с 1880-х гг. фабричная промышленность становится в Индии реальностью. Текстильная, как хлопчатобумажная, так и джутовая, промышленность стала первой важйой отраслью современной индустрии, а за ней последовали металлургия (сталелитейная промышленность с 1913 г., алюминиевая с 1944 г.) и другие отрасли[1132].
Голод и война изменили отношение между квалифицированной бюрократией, которая принципиально оставляла экономические вопросы на усмотрение частных лиц, и апатичным обществом, которое за редкими исключениями даже не представляло себе, как начать действовать на ниве новых, неиспытанных экономических возможностей. Принцип человеколюбия подвиг британских чиновников предпринять все возможное для предотвращения опасности голода, который всегда грозил, если ослабление муссонов приводило к падению количества осадков ниже определенного уровня. Специальный свод законов о голоде, составленный в 1883 г., предписывал меры, принятие которых предотвращало значительные жертвы в сезоны неурожая. В соответствии с этими законами чиновники обязаны были предпринимать шаги, направленные на импорт и распространение продовольствия в регионах, страдающих от голода, и организовывать выполнение работ, оплата за которые позволила бы поддержать население, пострадавшее от голода. В результате принятых мер оказалось возможным избавиться от некоторых традиционных для Индии тягот, вызываемых голодом, вопреки все возрастающему недостатку площадей, годных для земледелия, что становилось все более явным начиная с 1870-х гг.
Первая и Вторая мировая война повлекли значительно большее отступление от привычных методов управления. Оба эти события убедительно показали уязвимость Индии — даже временное нарушение каналов снабжения различными продуктами из Англии вызвало неожиданно сильные неприятные последствия для индийской армии и правительства. Поэтому чиновники энергично взялись за срочные программы развития или увеличения местных запасов тысяч наименований — недолго и без большого успеха во время Первой мировой, а затем более систематически и весьма успешно во время Второй мировой войны. Это потребовало специального вмешательства, чтобы уговорами, лестью и обещаниями побудить частных лиц действовать в духе новых экономических отношений, если казалось, что это проще, чем организовать государственные предприятия.
К концу Второй мировой войны, когда Индия стала политически независимой, она отказалась от старой сдержанности правительства в сфере экономики в пользу смешанного типа экономики, в которой и частные, и общественные предприятия функционировали в пределах системы правительственного регулирования, стремящегося помочь или даже принудить экономику к развитию промышленности. После некоторых крайностей в распределении новое индийское правительство оживило и увеличило систему официальной стимуляции и направления экономического роста, которая возникла во время войны. И мы еще увидим, опередит ли рост народонаселения Индии результаты усилий по увеличению производства промышленной продукции.
Парсы и англичане, а также небольшое число греков и левантийцев были пионерами современной промышленности в Индии. Но бенгальцы и вскоре последовавшие за ними гуджаратцы, маратхи и другие стали лидерами в проведении идей демократической революции. Как мы видели, Раммохан Рай (ум. 1833) в начале XIX в. указал путь. Постепенная консолидация школьной системы на основе английской модели в последовавшие за 1835-м годы подготовили нужные кадры, а неудача восстания 1857-1858 гг. дискредитировала старые социально-политические идеалы. Затем целое поколение прошло обучение в новых школах, воспринимая европейское понимание политических прав, и в итоге веяние новых доктрин нашло свое организационное воплощение в партии Индийский национальный конгресс (основан в 1885 г.). Однако потребовалась жизнь еще одного поколения, чтобы политические выражения протеста и петиции дополнились массовыми демонстрациями, воодушевлением демагогов-ораторов и тайным терроризмом.
Впрочем, тайные ячейки, пароли и активность революционных студенческих обществ в Калькутте в 1905-1907 гг., как и парламентский образ действий самого Индийского национального конгресса, основывались на зарубежных моделях и довольно мало восприняли от своего индийского окружения. Первое современное и в то же время исконно индийское политическое движение возникло после Первой мировой войны под руководством Мохандаса Карамчанда Ганди (ум. 1948). В нем харизматически сочетались индийская и западная святость, что принесло ему титул «Махатма», т.е. Великая душа, и волнения, которыми он руководил, сочетая решительное гражданское неповиновение с эмоциональным отказом от насилия, в 1947 г. принесло Индии независимость.
Мысль Ганди и его действия эффективно слили индуистский аскетизм с христианским пацифизмом и демократическим секуляризмом. Сравнительно разные точки зрения, иногда соединявшиеся в сознании одного человека, а иногда воплощенные в отдельных личностях или группах, сплавлялись в форму индийского национального движения и партии Конгресса. Такое первоначальное смешение коренных индийских и экзотических западных идей и методов было новым явлением. Более того, ранее не существовало такого массового движения, которое бы руководило огромным большинством индийского городского населения, охватывая все его классы, воздействуя даже на сельское население и поддерживая себя достаточно долго на высоком, но хорошо контролируемом эмоциональном уровне.
Эти достижения сделали реальностью демократическую теорию, в соответствии с которой каждый обычный человек должен иметь право голоса в политических делах. Однако последователи Ганди были более прочно объединены своей оппозиционностью правлению Британии, чем поддержкой каких-либо позитивных программ. Усилия по воскрешению ремесленного производства не входили в экономические планы нового индийского правительства, и, конечно, в холодном свете точных расчетов ручная прялка Ганди не могла решить проблему бедности в Индии. Кроме того, выступления Ганди за предоставление прав касте неприкасаемых возбудили глубокое недовольство среди религиозных консерваторов. В добавок ко всему массовый характер движения Ганди пугал индийских мусульман и провоцировал их на кажущееся вначале безнадежным, но тем не менее оказавшееся успешным требование о создании отдельного, особого государства — Пакистана.
Будущее покажет, как гуманные и благородные идеалы переживут время и как они будут вписываться в демократические, парламентские рамки индийского правительства, согласовываться с просвещенным деспотизмом бюрократического планирования, со всеми страстями, возникающими вследствие религиозных и языковых отличий, и экономическими трудностями, коренящимися в диспропорциях между ростом населения и экономического развития. Однако подводные камни будущего едва ли опаснее, чем препятствия недавнего прошлого, которые сумели преодолеть индийцы. В масштабах, сравнимых только с китайскими, правительство и общество Индии предложили пример интерпретации западных и местных идей, технологии и общественных институтов. глядя из 1960-x, можно с уверенностью сказать, что западные элементы укоренились в Индии. Начиная с 1947 г. западная социальная революция XX в., кажется, слилась с индийской «национальной» революцией, сделав Индию одним из участников и партнеров 80 всемирном, космополитическом, европоориентированном социальном процессе.

На становление Индии в этом качестве можно своеобразно взглянуть через призму искусства. Рабиндранат Taгop, чья поэзия сплавила воедино европейские, санскритские и бенгальские литературные формы и идеи, был одним из тех, кто добился мирового признания, и невозможно сказать, окажется ли интерес к его творчеству только модой или это литературное Hаследие будет востребовано еще очень долго[1133].
4. КИТАЙ
Развитие Китая начиная с Тайпинского восстания в 1850 г. и до установления коммунистического контроля над страной в 1949 г. во многом напоминает более ранние смены одной императорской династии другой. Многие отдаленные районы Маньчжурской империи откололись от Китая, в то время как долгая череда внутренних восстаний и успешных иностранных вторжений потрясли самую сердцевину китайских владений. Международная политика правительства китайских коммунистов с 1949 г., стремясь к восстановлению китайского влияния на соседние страны, такие как Тибет, Корея и Вьетнам, тоже соответствовала принципам, выработанным в императорский период.
Более того, коммунистическая иерархия партии и правительства была очень похожа на предыдущую конфуцианскую иерархию ученых и чиновников даже в том, как они взаимодополнялись, решая текущие задачи власти. В самом деле, тоталитарный государственный социализм, проявившийся с 1917 г. в европейских странах под знаменами марксизма и нацизма, демонстрировал значительное сходство с традиционными китайскими бюрократическими методами, принципами и предписаниями. Практика предоставления широких полномочий образованной и специально отобранной элите, принцип использования государственной власти в интересах народа в целом и оправдание этим даже жесточайшего подавления инакомыслия, а также предрассудки против такого воплощения зла, как спекулянты и барышники, иностранцы и религиозные суеверия, были общими как для добродетельных конфуцианцев, так и для истинных коммунистов и нордических партайгеноссе.
Другой главный институт китайского общества — семья пережила столетие 1850-1950 гг. так же, как она пережила экономические трудности и политические потрясения других периодов. Нескрываемое отречение от конфуцианского семейного благочестия, которое стало заметным явлением после 1917 г., привело к оспариванию сыновнего долга среди образованных молодых китайцев, старающихся не замечать своей связи с предыдущими поколениями. А в некоторых регионах Китая зарождающийся промышленный капитализм еще более, хотя и не так очевидно, теснил старые семейные отношения[1134]. Однако традиционные отношения и обязательства, которые даже после 1917 г. продолжали оставаться в крови подавляющего большинства молодых китайцев, оказались необычно прочными и гибкими. Семейные связи часто восстанавливали даже те, кто в юности недвусмысленно заявлял о своем отрицании конфуцианской формулы сыновнего долга.
Тем не менее эта впечатляющая непрерывность традиции не дает основания считать, что в XIX-XX вв. Китай просто проходил привычный этап исторического цикла. Начиная с 1917 г. китайское высокообразованное меньшинство со все возраставшим единодушием и энергией отвергло весь комплекс конфуцианского кодекса жизни, с его древними понятиями о приличиях, манерах и политике. В конечном счете характер китайской жизни определился радикальным воздействием резкого переключения лояльностей, тем более что интеллектуальная элита смогла легко использовать древние китайские политические институты для новых целей.
Все идеалы, исповедуемые образованными китайцами, пришли непосредственно из космополитической культуры Запада. Даже в XIX в. Тайпинское восстание (1850-1864 гг.), которое ударило в самое сердце Маньчжурской империи, провозглашало идеалы христианского братства, хотя даосские и буддийские элементы, с самого начала сплавленные с христианскими мотивами, по мере успеха восстания становились все более явными[1135]. После унизительного военного поражения от японцев в 1895 г. поколение революционных лидеров, из которых наиболее известным был Сунь Ятсен, почти панически бросилось искать новые талисманы государственного и национального спасения. Мировые великие державы предлагали очевидные модели, и стало совершенно очевидным, что западные народы, а к тому времени и Япония организовали свои общества много успешнее, чем смог это сделать Китай. Соответственно Сунь Ятсен и другие революционеры начали искать западные политические и экономические идеи (часто профильтрованные через Японию). Они действовали очень наивно, глубоко не разбираясь ни в классической китайской, ни в западной культурной традиции. После 1917 г. Октябрьская революция в России предложила другой, очень заманчивый[1136] источник чужеземного вдохновения, и с 1949 г. коммунистическая идеология успешно захватила интеллектуальную и политическую монополию в континентальном Китае.
Все это идеологическое непостоянство расцветало на фоне довольно скромных институциональных изменений. До рубежа веков политика правительства и конфуцианского дворянства, сохранявших социальное лидерство в глубинке, была направлена на минимизацию любого влияния Запада и его присутствия в Китае. После 1842 г., когда британские военные суда впервые принудили китайскую власть приспосабливаться к иностранным коммерческим и дипломатическим методам, и еще более выразительно после 1858-1860 гг., когда возобновившееся проникновение Британии и России в Китай заставило последний увеличить привилегии иностранцам, правители Китая уже не могли делать вид, что заморские варвары — это их данники. Тем не менее большинство мандаринов предпочитали не замечать величайшие нарушения этикета: наивный этноцентрический универсализм конфуцианства запрещал признание равенства — тем более превосходства — любых альтернативных систем общества и цивилизации.
Необходимость справиться с Тайпинским восстанием привела энергичных и дальновидных реформаторов на ключевые посты в китайском правительстве. Они стремились перевооружить армию и флот, улучшить арсеналы, считая эту реформу основной для развития своей страны по западному образцу. Однако по окончании Тайпинского восстания официальные реформы пошли на спад: отчасти из-за непринятия их консервативными умами, но главным образом потому, что они сами носили половинчатый характер. Их главной целью было сохранение старого порядка, и когда нововведения начинали этому порядку угрожать, правительство просто отказывалось от них. Для того чтобы дать Китаю армию, вооружение, промышленность и средства связи, с которыми он чувствовал бы себя достаточно независимым, требовалась гораздо более глубокая модификация китайского общества, чем того хотели реформаторы 1860-х гг.[1137]
В последние годы XIX в. события ускорили крушение конфуцианского режима. Победа Японии в 1895 г. и неудача Боксерского восстания в 1900-1901 гг. еще раз унизили Китай как державу и убедили в необходимости коренных перемен даже тех, кто, яростно сопротивляясь, придерживался освященных веками догм. Реформы проводились во многих направлениях. Те изменения, которым подвергался аппарат управления в течение довольно длительного времени как до, так и после отречения от престола последнего императора маньчжурской династии в 1912 г., обычно носили поверхностный характер и оказались неэффективными для усиления мощи Китая. Однако в системе образования изменения были глубже и существеннее и достигли своей цели преобразования интеллектуального климата в стране. Отмена императорских экзаменов, основанных на знании претендентом конфуцианской классики, резко положила конец методу, по которому правящая клика отбирала претендентов на включение в свой состав на протяжении более чем двух тысячелетий. В результате честолюбивые молодые люди, которые раньше были обречены всю свою жизнь изучать классику Древнего Китая, хлынули в образовательные учреждения Запада. Идеологическая многоголосица, сопровождавшая отрыв от традиционной опоры, обрушилась на миллионы китайцев, чье детство и ранние годы обучения проходили в традиционных рамках, а потом они оказались подхвачены вихрем чужеземных и часто лишь наполовину понимаемых идей[1138]. Но для каждого, кто пережил такие потрясения в юности, любой моральный, политический или интеллектуальный выбор в дальнейшей жизни был связан с внутренней неустроенностью и уязвимостью. Как результат, даже самые эмоционально выраженные убеждения могли резко уступить новомодной доктрине, которая обещала еще более быстрое спасение от мучительных колебаний в мыслях и неэффективности в действиях. Массовое вступление в ряды гоминьдана в 1920-х гг. и более поздняя коммунистическая консолидация в Китае стали возможны только благодаря такой интеллектуальной изменчивости.
Но несмотря на пылкость, с которой китайские интеллектуалы и политики обсуждали западные идеи, их влияние на Китай до 1950 г. было поверхностным. Огромная масса китайского крестьянства, составляющая 80% населения, была подобна великому океану, уровень которого не могли заметно повысить ручейки западных товаров и потоки миссионерских проповедей. Временный успех Тайпинского восстания, постоянная слабость маньчжурского режима, взлет и падение гоминьдана и успех коммунистов в 1930-х и 1940-х гг. — все это обернуло классовое крестьянское недовольство против арендодателей, сборщиков налогов и ростовщиков, большинство из которых по соображениям деловых связей и безопасности жили в городах[1139]. Но подобное часто случалось в истории Китая и раньше — по мере приближения каждой династии к своему концу. Насилие, голод и болезни, которые преобладали в китайских обширных сельских регионах в первой половине XX в., были не более чем традиционным, хоть и грубым, средством улаживания увеличившихся диспропорций между землей, рентой, налогами и населением. Наличие западных фабричных товаров, например хлопчатобумажной одежды и керосина, могло обострить бедствия крестьянства в некоторых частях Китая, приводя в упадок сельские ремесла. Городские ремесленники также пострадали из-за того, что вкусы богатой части населения переменились в пользу экзотических западных изделий. С другой стороны, новые или расширившиеся промыслы, такие как производство тунгового масла, вольфрамовой руды, чая и шелка для западных и мировых рынков, увеличивали возможности заработка для этих же классов.
Современная машинная индустрия сделала первые скромные шаги в Китае в 1840-х гг. и получила значительное ускорение только после 1895 г., когда договор об окончании японско-китайской войны дал иностранцам право возводить заводы и фабрики на китайской земле, одновременно предоставляя привилегии в торговле товарам, импортируемым из-за границы. Первая мировая война прервала поставки из Европы и тем самым временно подтолкнула развитие китайской промышленности, особенно в производстве хлопчатобумажной одежды, но конкуренция с Японией, финансовая и общая нестабильность межвоенного периода помешали ускоренному развитию современной промышленности в Китае. Такие большие современные города, как Шанхай и Тяньцзинь, не превратились в крупные индустриальные комплексы, но остались ведущими торговыми и финансовыми центрами в основном под контролем иностранцев.
Железные дороги в Китае не играли такой важной роли, как, например, в Индии. Широкомасштабное строительство началось только в первой декаде XX в., и создание дорог, связывающих важные пункты страны в единую сеть, сопровождалось яростной борьбой и интригами между европейскими финансовыми группами, делавшими вложения в строительство железных дорог в Китае. Более того, даже там, где железные дороги были построены, они функционировали нерегулярно из-за финансовых и административных беспорядков и постоянных военных действий[1140].
Действительно широкомасштабные и успешные усилия по созданию в Китае современных промышленности и транспорта были отложены до появления по-настоящему эффективного правительства, способного установить в стране мир. Это произошло в 1929 г., когда гоминьдан взял власть в Китае, но вскоре возобновились атаки японцев (1931 г.) и волнения в провинциях. Мир наступил снова только в 1949 г. Таким образом, до этого времени промышленная революция только затронула Китай. Основа старых экономических отношений в городе и деревне оставалась все той же. Западное присутствие спровоцировало необычайно бурный подъем китайской экономики, подобный тому, который вызвали монголы в XIII в., но это все еще была не фундаментальная трансформация.
Только после того, как Китай завершил традиционный цикл эволюции от одного сильного политического режима к другому, западный космополитизм получил возможность встать лицом к лицу с традиционными китайскими общественными институтами в широком масштабе. И до тех пор, пока традиционные социальные диспропорции в китайском обществе вызывали традиционную ответную реакцию в виде насилия и беспорядков, острие западного экономического проникновения было притуплено. И все горячие дебаты среди образованного меньшинства — о приверженности к западным формам и их глубокой важности для отдаленного будущего Китая — оказывали действительно мало практического влияния на немедленное внедрение западного промышленного капитализма. Действительно глубокое и имеющее решающее значение противоречие между китайской и западной цивилизациями — дело будущего. Именно оно обещает наиболее важное культурное взаимодействие XX в. и, возможно, XXI в.
В век таких острых перемен, когда моральные, равно как и экономические и политические, стандарты постоянно менялись, трудно ожидать расцвета высокого и безмятежного культурного творчества. Однако среди важных реформ, особенно в письменности, был проект Ху Ши (1919 г.) о принятии народной речи как стандарта литературного языка и более позднее предложение коммунистов создать алфавит для китайского языка. Сильные интеллектуальные и ученые традиции страны содействовали введению западной науки и образованности в Китае, частично благодаря усилиям миссионеров, частично благодаря студентам, которые обучались за границей в западных университетах. Особенно в области китаистики соединение китайских и западных методик, подкрепленное предложением стипендии, часто оказывалось очень плодотворным. Однако по сравнению с великим прошлым столетие 1850-1950 гг. оказалось низшей точкой в культурных достижениях Китая[1141].
5. ЯПОНИЯ
Во время сегуната Токугава японская цивилизация проявляла удивительную двойственность, балансируя между противоположными крайностями. Так моральный идеал воина со всеми его спартанскими требованиями вступал в противоречие с потворством жизнелюбию укие-э, и между этими двумя моральными кодексами не существовало среднего пути. Япония была официально закрыта для внешнего мира; однако любопытство к «голландской учености» могло преодолеть громадные препятствия. Опять же личные наследственные узы японского феодализма лишь маскировали, но не могли скрыть нити бюрократической администрации в каждом из шестидесяти или около того отдельных феодальных ленов, или территорий кланов, на которые была разделена Япония. Но более мучительным было разделение между экономической и политической властями, позволяющее процветать презренным купцам, в то время как крестьяне и воины, превосходившие их по традиционной общественной шкале, страдали от постоянной нищеты. Итак, натянутые, но стабильные отношения между императором и сегуном просто символизировали дуализм, пронизывающий всю японскую жизнь. Святой и безвластный монарх, почитаемый как источник власти и окруженный паутиной ритуала, почему-то терпел наследников удачливых головорезов начала XVII в. и был терпим ими. И сегуны рода Токугава, которые правили Японией тяжелой рукой при помощи целой армии чиновников, шпионов и солдат, искусно балансировали на острие противоречивых интересов различных людей, классов и кланов.
Письменного повеления из дворца сегуна было достаточно, чтобы сохранять равновесие между такими кажущимися несовместимыми интересами. Но когда такое повеление было проигнорировано, как в 1850-х гг. из-за конфликта между кланами, решавшими, кто сменит бездетного правителя, даже такая незначительная непредвиденная случайность, как появление «черных кораблей» коммодора Пири (1853-1854 гг.), вызвала далеко идущие глубокие изменения в японском обществе и цивилизации.
Реорганизация японской политики и экономики, проходившая до Второй мировой войны, явила миру не имеющий себе равного пример успешного реагирования на европейские стимулы — успешного в смысле способности нации сперва противостоять, а затем и отразить наступление западных наций, чьи корабли и торговля ускорили падение режима Токугава. Однако политика быстрого и массированного освоения западной техники и технологий не снимала внутренних противоречий, присущих Японии периода Токугава. Наоборот, успех, с которым японцы заимствовали различные аспекты западной цивилизации — особенно в области производства военной техники, — зависел от мастерства балансирования между старыми и новыми элементами. Таким образом, почти незатронутая, продолжавшая существовать в старых образцах, безошибочно японская социальная иерархия с определенными моделями поведения для представителей различных социальных слоев позволила маленькой группе вождей в течение одного поколения довести до конца изменения военных и экономических институтов и перестроить политическую систему Японии по западному образцу[1142].
Психологическое напряжение, порой приводящее к внезапным изменениям в поведении, непостижимым для посторонних, возникло в Японии задолго до окончания ее изоляции в 1854 г. Рвение, с которым японцы сначала приняли, а затем изгнали португальцев, много более ранний энтузиазм, с которым японский императорский двор воспринял китайскую цивилизацию в VI в. и последующих веках нашей эры, а также резкие перемены в отношениях с США и другими странами в этом столетии — все это производит впечатление закономерности и позволяет предположить, что крутая переменчивость — скрытая черта психологии японцев[1143].
Совершенно не говоря об особенности японского общества, сам тот факт, что Япония заимствовала большую часть своей высокой культуры и технического искусства у Китая в течение более чем тысячи лет, содействовал восприятию западных идей и технологий в XIX-XX вв. Их предшественники уже как бы признали превосходство иноземцев в некоторых вещах, т.е. открытие того, что европейцы превосходят их в знаниях и мастерстве, не было ударом для японского самосознания. И как их предки полюбили все китайское, так японцы стали энтузиастами в принятии Запада.
Наконец, определенное сходство японской и западной цивилизаций облегчало принятие западных моделей в Японии. К XIX в. варварская воинственность на Западе и в Япония была организована (а в Японии почти подавлена) бюрократическим правлением. Но японский «путь воина» с его понятиями чести и социального превосходства имел почти точные аналогии в европейской жизни, и — что, возможно, даже было решающим – в обоих обществах ценности и отношения профессиональных военных в значительной степени разделяли и поддерживали другие классы. Крестьяне и горожане в Японии, так же как и их современники в Европе, были склонны скорее браться за оружие, чем склоняться перед в жестокостью и принуждением аристократических специалистов.
Японцы предложили интересный парадокс — государство, в котором идеологический (и эмоциональный) консерватизм послужил принципиальным инструментом радикальной трансформации институтов власти. Как результат, промышленная и демократическая революции оказались успешными в разной степени: хотя японская технология и совершила скачок вперед начиная с 1885 г., демократическая революция, несмотря на внешние конституциональные формы, почти не затронула традиционную японскую иерархию до 1945 г.
После неуверенного старта в 1880-х гг. основанные на механической силе промышленность и транспорт позволили японским товарам к началу Первой мировой войны вступить в соревнование с европейскими и американскими товарами на всем Дальнем Востоке. В период между войнами японцы продолжали расширять сферу своих коммерческих операций и к 1930-м гг. подошли к соперничеству со своими конкурентами в мировом масштабе. И даже более того, индустриальная база, необходимая для современной армии, военно-морских и военно-воздушных сил, быстрыми темпами развивалась не только собственно в Японии, но и в недавно завоеванных ею землях — в Корее (1910 г.) и Маньчжурии (1931-1932 гг.).
Японская индустриализация не следовала европейских образцам. Государство играло более центральную и властную роль, чем в какой-либо европейской стране. В результате решения промышленников всегда согласовывались с требованиями национальной военной мощи. В этом отношении японская индустриализация как бы предваряла российский коммунизм. Но в отличие от позднейших коммунистических правительств, японцы предоставляли свободу множеству малых предпринимателей, которые действовали в традиционных рамках ремесленничества и семейных отношений. Два усовершенствования помогли приспособить эти древние модели промышленности к современным условиям. Во-первых, легкие инструменты, приводимые в движение электрическими моторами, заменили ручные и значительно увеличили выпуск продукции. Во-вторых, распространение товаров, производимых маленькими ремесленными фабриками и мастерскими, поручали большим фирмам, или, если смотреть на это с другой стороны, крупные торговые фирмы заказывали товары у маленьких мастерских. И поскольку им требовались значительные ссуды в период между покупкой и продажей, такая схема оказалась включенной в крупномасштабную сеть основных предприятий — банков, металлургической и другой тяжелой промышленности, кораблестроительных компаний, в строительство и эксплуатацию шахт и т.д.
Самые современные средства производства контролировал узкий круг олигархов — зеркальное отражение политических олигархов, контролировавших правительство. Отношения между теми, в чьих руках была экономическая и политическая власть, всегда оставались очень тесными, и часто эти две элиты сливались благодаря бракам между их представителями. Крупные семейства предпринимателей, такие как Мицуи и Мицубиси, приобрели заметный вес в последние десятилетия ХIX в., взяв в свои руки управление предприятиями, поставленными в строй в рамках бюджетных программ. Малые, почти символические суммы запрашивало государство за готовые дорогостоящие заводы, но новые частные владельцы, испытывавшие чувство ответственности перед политическими вождями государства и будучи зависимыми от них, считали своим долгом предпринимать шаги, необходимые или полезные государству[1144]. В результате консолидация могущественной и богатой экономической олигархии уменьшила необходимость прямого вмешательства государства в экономические действия, хотя государственные арсеналы продолжали производить некоторые типы вооружения, особенно новые или экспериментальные модели.
Итак, хотя техника и машинное производство были западными, общественно-экономическая организация, которая приводила в действие новую машинную технологию, была почти полностью японской. Это означало, в частности, строгое соблюдение правил честности и почтительности между выше- и нижестоящими как в экономике, так и в других социальных отношениях. Таким образом, промышленная революция в Японии носила особый социальный характер, лишив современный индустриализм его «обычного», по мнению исследователей европейской истории, спутника — демократической революции[1145].
Сохранившаяся строгая иерархическая социальная структура в Японии сделала аккумуляцию капитала, необходимого для инвестирования в промышленность, сравнительно легкой. Правительство финансировало первые шаги индустриальной модернизации налоговыми поступлениями, таким образом предоставив крестьянам оплачивать капитальные вложения; другого внутреннего ресурса и не нашлось бы. Позднее, когда при направляющей роли правительства сформировалась финансово-индустриальная олигархия, монополистические цены на товары и услуги как в пределах страны, так и за рубежом позволили сконцентрировать достаточные финансовые ресурсы в нескольких руках. Однако эти монополисты были энергичными предпринимателями, жившими довольно скромно, призывая других воздерживаться от показной роскоши и стимулируя образование капитала как на верхних, так и на нижних ступеньках социальной лестницы[1146].
В Японии никогда не происходило революции в западном понимании этого слова. Феодалы и воины, которые свергли режим Токугава в 1867 г. и восстановили на троне императора Мейдзи, определенно не были сторонниками народного правления. Даже когда в 1889 г. японцы ввели написанную по западному образцу конституцию с полным демократическим набором: избираемый парламент, кабинет министров и независимая судебная ветвь -политический вес обыкновенных людей был урезан введением ограничений на полномочия законодательного органа. Конечно, реалии политики, вращающейся вокруг феодальных родов и давно существующей системы местной и семейной круговой поруки, находились еще дальше от демократической практики в том виде, в каком она была записана в конституции Мейдзи.
С течением времени клановая преданность ослабевала и традиционная социальная иерархия японского общества стала терять свою прочность. Итак, хотя конституция Мейдзи просуществовала до 1945 г., внутренние реальности японской политики становились все более сложными. Всеобщее избирательное право для мужчин (1925 г.) расширило электорат и позволило честолюбивым выходцам из низов соперничать со старинными семействами за политическое лидерство внутри страны. В 1930-е гг. военная клика стала независимо влиять на правительственную политику, но вопреки таким изменениям в традиционной табели о рангах узкий круг олигархов продолжал закулисно определять японскую политику до 1945 г.
После поражения во Второй мировой войне Япония оказалась на некоторое время под контролем американских оккупационных сил. Новая японская конституция, провозглашенная при содействии американцев в 1947 г., была вполне демократической — в стиле Соединенных Штатов. Однако вызывает сомнение, что сохранившиеся японские понятия о личности, обществе и иерархии вместе со всеми общепризнанными правилами поведения между неравными по положению в действительности позволят не только провозглашать равенство, индивидуализм и совершенно чуждые идеалы, так тщательно прописанные в конституции[1147].
Хотя не произошло ничего убедительно напоминающего демократическую революцию у других народов, японская система власти пережила два полуреволюционных изменения. Первое из них — восстановление императора — было, на первый взгляд, реакционным государственным переворотом, совершенным группой молодых самураев, многие из которых начинали свою жизнь в скромных условиях и некоторые из которых уже имели чиновничий опыт местного администрирования перед тем, как перенести свою энергию на общенациональную сцену. Это были люди, которые хотели реставрировать императорскую власть и изгнать иноземцев, начавших индустриальную модернизацию Японии. Они также разработали важные административные изменения, объединяющие все феодальные лены Японии периода Токугава под эгидой центрального правительства и исключающие правовую основу феодализма путем выкупа прав землевладельцев и самураев за государственные ценные бумаги. В действительности это было логическим завершением неполной бюрократической централизации, на которой первые сегуны рода Токугава построили свою власть и которую их наследники сохраняли почти неизменной в течение двух столетий.
Реорганизация японского класса военных составляла очень важный аспект реставрации Мейдзи. Надменные самураи, необразованные крестьяне, смиренные торговцы и даже отбросы японского общества — все были записаны в новую японскую армию, создававшуюся по европейскому образцу, где все они были обязаны подчиняться офицеру императорской армии так же безукоризненно, как раньше семейному, сельскому, цеховому или чиновному вышестоящему. Перенесение традиционного почитания и покорности на офицерский корпус прошло очень успешно. При этом человек любого происхождения, ставший офицером императорской армии, получал нимб командира, сиявший в веках благодаря дисциплинированной жестокости господ и воинов, направленной против остальной части японского общества.
Таким образом, армия стала социальным эскалатором, в особенности для крестьянских детей, которые получили возможность благодаря своим деловым качествам достичь статуса, когда-то доступного лишь наследственным самураям[1148].
В результате молодые армейские офицеры оказались наиболее радикальными горячими головами, недовольными властью. Выражая чувства огромного сегмента сельского населения Японии, армейские экстремисты составили одну из важных групп, способных заменить олигархов, контролировавших партийную политику. В этом смысле они представляли демократический элемент в японской политике. Более того, они были готовы действовать за рамками старой социальной иерархии для достижения своих целей. Оппозиция в лице этой военной группировки, поддержанная опасностью народного недовольства и прибегавшая к насилию вплоть до устранения неугодных, ограничивала свободу маневра японских политиков в 1930-е гг. и сыграла большую роль в продвижении Японии к войне с Китаем и, наконец, к ее вступлению во Вторую мировую войну. Этот процесс был, возможно, самым близким к демократической революции из того, что испытала Япония до Второй мировой войны.
Еще невозможно предвидеть результаты второй японской полуреволюции в верхах, совершенной между 1945-м и 1952 г. генералом Дугласом Мак-Артуром и его как американскими, так и японскими ставленниками. Кажется невероятным, что иерархическая система японского общества просто исчезнет, хотя она и может несколько поколебаться под воздействием военных неудач, оказавшись дискредитированной военным поражением режима и разрушительным воздействием открывшегося после войны американского примера и экономического оживления. И также пока точно не ясно, сможет ли соединение западной технологии с почти неизменной японской социальной структурой сломить устойчивое равновесие либо в конечном счете промышленная революция потребует общей и драматической реорганизации японского общества. Вопрос заключается в том, действительно ли демократическая и промышленная революции в Европе в XIX-XX вв. были связаны некоторыми совершенно неизбежными взаимоотношениями или их можно эффективно разделить на неопределенное время, как японцы разделили их на 60 лет до 1945 г.
Социальные и психологические конфликты, которые подорвали традиционные культурные формы Китая и других незападных народов, действовали менее сильно в Японии, потому что японцы смогли сохранить свою политическую и духовную независимость от Запада. Объем японского художественного и литературного творчества, следовательно, оставался огромным. Однако традиционные искусства Японии стали превращаться в дань традиции или даже приходить в упадок, импортируемые новшества — архитектурные, научные или литературные — не достигли по-настоящему масштабного развития. Поэтому японцы, подобно большей части остального мира, прошли через сравнительно вялый период культурного существования в 1850-1950 гг. Конечно, достижения японцев значительно отличаются от культурного состояния менее счастливых цивилизованных народов Азии, главным образом в демократизации литературной культуры благодаря действительно всеобщей грамотности[1149].
6. ДРУГИЕ ЧАСТИ МИРА
Из существовавших в середине XIX в. нескольких тысяч различных культурных сообществ очень многие растворились с тех пор в численно и эволюционно превосходивших их группах человечества. Общее число различающихся обществ в середине XIX в. оставалось достаточно большим, и даже в середине XX в. существует огромное разнообразие институтов и отношений. Каждое общество, большое или малое, как и раньше, продолжало реагировать по-своему на новые стимулы, возможности и опасности. Но западный космополитизм, возникший из демократической и промышленной революций, не оставил незатронутым ни один уголок планеты.
Громадное разнообразие, радующее любого антрополога, продолжало присутствовать в жизни человечества. Потеря европейцами (и американцами) своих колоний после Второй мировой войны сделала разнообразие социальных условий человечества даже более впечатляющим, чем когда колониальные администрации пытались втиснуть в рамки единообразия разные области земного шара. Революционные движения XX в. в некоторых латиноамериканских странах также акцентировали внимание на продолжающемся существовании американских индейцев как значительной социальной общности. Например, мексиканские художники, вдохновленные революцией 1911 г., включали старые индейские мотивы в очень сложные художественные и архитектурные стили и таким образом успешно вливали примитивизм Нового Света в репертуар современного космополитического искусства[1150]. Но другие области духа, в которых происходило слияние западного и местного искусства и мышления, еще не привлекли пристального внимания или оказались неспособными предложить что-либо обогащающее для и так уже перегруженного космополитизма XX в.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ