Глава I ФЛАМЕНКО С НАВАХОЙ
Дуэли на ножах в Испании


Что первым приходит нам в голову при слове «Испания»? Корриды в Мадриде? Конкистадоры и гружённые золотом майя каравеллы? Бег с быками в Памплоне, причудливые здания Гауди в Барселоне, или картины Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Пикассо и Дали? А может, смуглянки с кастаньетами, отбивающие каблучками такт фламенко, и заунывные мотивы андалузского канте хондо? Гордячка Кармен, и дерущиеся за её любовь бессмертные герои Мериме, Хосе и Кривой, сжимающие в руках легендарные испанские навахи?
Испанцы и ножи. Невозможно представить Испанию без романтических персонажей бесчисленных авантюрных романов — вечно закутанных в плащи мрачных типов, в расшитых андалузских камзолах, надвинутых на глаза шляпах и с огромными неразлучными навахами за широким цветастым поясом. Сердце какого мальчишки не замирало, когда за юным Джимми Хоккинсом из романа Стивенсона с навахой в зубах неотвратимо поднимался по мачте «Эспаньолы» старый пират Израэль Хэнде[1], или когда герою Эмилио Сальгари — благородному Чёрному Корсару на узкой мощёной улочке ночного города дорогу внезапно загораживали пятеро молчаливых и беспощадных басков со смертоносными навахами наготове[2]. Испания представала перед восхищёнными читателями как вечный праздник — бесконечная череда танцев и коррид, дуэлей и фиест. Феерия, наполненная перестуком кастаньет гитан, кокетливыми махами с неизменными веерами в руках, ночными серенадами кабальерос под ажурными балконами чернооких дочерей Андалусии и чопорными испанками в строгих чёрных мантильях, преклонившими колени на мессах. Образ, порождённый симбиозом трёх основных факторов: «плутовского» романа, костумбризма и литературного жанра середины — конца XIX столетия, известного как «поездка в Испанию».
Первый камень в фундамент опереточного образа страны, очевидно, заложил столь популярный в Испании XVI веке жанр плутовского, или, как его ещё называют, пикарескного романа, прославленного героями Кеведо, Сервантеса, Кальдерона и Гонгоры. Окончательно же имидж Испании как костюмированного бала — ожившего романа, населённого лукавыми персонажами «novella picaresca», сформировался ближе к середине XIX века стараниями испанских писателей и художников, работавших в жанре костумбризма.
Направление, известное как костумбризм, возникло в литературе и искусстве Испании в первой четверти XIX века на волне романтизма и подъёма национального самосознания, сопровождавшегося повышенным интересом к народной культуре, обычаям, традициям и даже моде. Костумбристы занимались живописанием народного быта, зачастую приукрашивая и идеализируя действительность. В 1843 году группа писателей-костумбристов опубликовала книгу «Los españoles: Pintados рог si mismos» («Испанцы, изобразившие сами себя»), которая стала своеобразной квинтэссенцией и декларацией костумбризма и вызвала целый шквал подобных изданий. Эта лубочная эстетика впоследствии дала жизнь жанру, который можно определить как «Voyage еп Espagne», или просто — «Поездка в Испанию». К середине XIX столетия мода на посещение Испании с последующим изданием своих путевых заметок превратилась в повальную тенденцию, напоминающую эпидемию. Такого внимания не удостаивались ни далёкие экзотические страны, ни даже изобилующая дорогими сердцу каждого путешественника античными развалинами и красочными открыточными видами соседняя «белла Италия».
В Испанию бросились все — профессиональные путешественники и политики, юноши из богатых семейств и бедные студенты, офицеры и суфражистки. Это модное поветрие не обошло стороной и художника Гюстава Доре, отметившего своё пребывание на испанской земле серией чудесных гравюр, и известного русского очеркиста и литературного критика XIX века Василия Петровича Боткина, оставившего свои знаменитые «Письма об Испании». А также издателя Фаддея Булгарина, политика Дэвида Уркварта и сотни других прославленных и неизвестных пилигримов. Эти неутомимые и любознательные путешественники прилежно изучали испанские традиции, быт и обычаи, тщательно записывали и зарисовывали каждую мелочь — детали одежды, жаргон, уличные и бытовые сценки. Оставленные ими путевые заметки — это бесценный источник информации, позволяющий нам восстановить аутеничную и достаточно объективную картину жизни Испании XIX столетия.
Свидетельства этих странников и лаконичные заметки из пожелтевших газет, дополненные не менее скупыми фразами из судебных архивов, помогают нам узнать о существовании другого лица Испании. В этой её сумрачной ипостаси не было места эстетике плутовского романа: песням, гитарам, романтике и любви. Испания представала мрачным ангелом смерти из андалузских баллад Федерико Гарсиа Лорки с «чёрной косой цвета смоли и крыльями из альбасетских ножей»[3].
За буйством красок апельсиновых рощ, блеском расшитых камзолов, звоном гитар и перестуком кастаньет скрывалась оборотная сторона открытки под названием «Испания» — её мрачная и кровавая культура ножа и чести, патетическая и пафосная, как высокопарные девизы, выгравированные на испанских навахах. Гордость и скорбь страны, воспетая в стихах Эрнандеса, Гумилёва, Борхеса и Лорки, обожаемая и осуждаемая, преследуемая законом и церковью. Такая же плоть от плоти Испании, как кувшин хереса на столе и висящий под потолком каждого крестьянского дома окорок «хамон». Как обжигающие ветры Тарифы, горы Сьерра-Маэстра или палящее солнце Андалусии. Десафио, навахада — эта традиция известна под многими именами в разных ипостасях, и уже пять столетий за ней тянется широкий кровавый след и длинные ряды могильных камней с именами тысяч отважных кабальерос, принесённых в жертву этому кровожадному божеству — чести.
К XV столетию в бывшей имперской провинции Испании мало что изменилось со времён римского владычества. Ни минувшие века, ни вестготы, ни арабское вторжение, ни Реконкиста не внесли существенных изменений в размеренный и неторопливый уклад жизни Пиренейского полуострова. Да и сами испанцы, известные своим консерватизмом, не особо изменились за прошедшие столетия. И в начале XX века они всё так же, как и две тысячи лет назад, заполняли трибуны амфитеатров, чтобы увидеть, как матадоры, потомки зверобоев-бестиариев римских Колизеев, закалывают быков на залитых кровью аренах. Они носили всё те же архаичные римские сандалии, римские плащи и, как и древние иберы, культивировали в своих детях храбрость, презрение к смерти и воинственность. Этертон Кастл писал, что после падения Римской империи гладиаторские бои пустили в Испании более крепкие корни, чем в любой другой римской провинции, и сохранились там в виде национального увлечения корридой. Также он отмечал что боевые школы Древнего Рима под техничным управлением ланист оставались в Испании при менявшихся условиях и во время варварских нашествий, и в период господства мавров, так как эти заведения оказались вполне созвучны их обычаям[4].

Рис. 1. Кодекс Валлерштейна, около 1470 г.
Испанская аристократия XV столетия, как и их собратья в сопредельных странах, крайне кичилась своим происхождением, ревниво охраняя древние наследственные привилегии, полученные их закованными в железо предками в многочисленных войнах с маврами. Как и ронин из «Семи самураев» Куросавы, они надёжно прятали в окованных железом семейных сундуках, которые частенько служили им и постелью, полуистлевшие свитки со своим родословным древом. Но всё же между дворянством Испании и других государств Европы была одна, но существенная разница: на Пиренейском полуострове не существовало той сословной пропасти, которая разделяла английских йоменов и джентри или бояр и крестьян Руси.
В Испании все без исключения считали себя рыцарями — «кабальерос», ходили с высоко задранным носом и все, от гранда и до водоноса, носили длинные шпаги, ревниво соблюдали кодекс чести и требовали к себе одинакового уважения. Каждый мужчина на Иберийском полуострове, вне зависимости от сословия, был кабальеро, и даже испанский повседневный мужской костюм напоминал рыцарское снаряжение и был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но хотя средневекового рыцаря сменил кавалер, а средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, даже самый торжественный костюм украшался декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой, с погонами и с подчеркнуто стройной талией, по большей части с короткими полами — дублет, с половины XVI века по форме вплоть до мельчайших подробностей напоминает латы. Эти куртки, хотя и были созданы для придворной службы, отвечали элементарным боевым требованиям. Жесткие кружевные воротники, дополнявшие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также были созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны с позднеготическим прикрытием — бракет, также по форме копировали латы[5].
Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»[6].
Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.
26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь». Эту точку зрения разделял и Василий Петрович Боткин, о чём он писал в своих путевых заметках «Письма об Испании», публиковавшихся с 1847 по 1851 год в журнале «Современник». Будучи профессиональным журналистом и литературным критиком, Боткин очень точно уловил суть испанского характера и определил факторы, повлиявшие на формирование сословных отношений на Пиренеях: «Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно. Недаром существует у него пословица: «Король может делать дворянами, один Бог делает кавалерами». Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами; все энергичные люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, добывая себе и средства для жизни, и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому, естественно, должны были не пользоваться особенным уважением».
Согласно легенде, Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей предстал пред Богом, который за святость его земной жизни обещал угоднику исполнить все, чего бы он ни попросил. Сан-Яго попросил, чтобы Бог даровал Испании плодотворное солнце и изобилие во всем. «Будет», — был ответ.
«Храбрость и мужество народу, — продолжил Сан-Яго, — и славу его оружию». «Будет», — был ответ. «Хорошее и мудрое правительство». — «Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию», — ответил Господь.
Разделение народа на враждебные касты часто бывает одним из основных препятствий к улучшению его будущего. В Испании же не было этого пагубного разделения и не было непримиримой вражды между сословиями. Здесь вся нация чувствовала себя одним целым. И хотя войны прекратились, традиционное презрение к мирным занятиям уже укоренилось в умах испанцев. В Испании дворяне не были горды и спесивы, а простолюдины завистливы. Единственным, что их разделяло, было только богатство, и ничто другое. Между сословиями Испании царило полное равенство в обращении. И крестьяне, и чернорабочие, и водоносы общались с дворянами на равных. Они могли свободно зайти в дом испанского гранда, усесться поудобней и беседовать с своим благородным хозяином как с равным по положению. Причина подобных удивительных и не типичных для Европы классовых отношений кроется в самой истории Испании. Дело в том, что в Испании никогда не было плебейства, простонародья. И кроме этого, испанские низшие классы не принадлежали к завоёванному народу, а дворяне не были завоевателями, как это, например, произошло в Англии, где конфликтовали нормандская знать и местные англосаксы, или на Руси, где большинство дворянских родов также вели отсчёт от норманнов, или их основатели являлись выходцами из Орды.
Новая Испания началась с изгнания мавров — именно с этого момента здесь появилось право на владение землёй. Но само это изгнание уже являлось свидетельством того, что в Испании остались только победители. Для испанца низкое происхождение означало наличие примеси арабской крови — крови народа, презираемого вдвойне — и как неверных, и как побежденных. По этой же причине «дворянство», с точки зрения испанцев, прежде всего заключалось в том, чтобы быть потомственным христианином. И даже если испанец был последним носильщиком, уже одно это равняло его с самыми родовитыми персонами в государстве. Так, например, между «aguadores» — водоносами, которые почти все являлись выходцами из Астурии, было много дворян. Они знали об этом и кичились своим происхождением. «Yo soy mejor que mi amo» («Я больший дворянин и благороднее, чем мой хозяин»), — говорили водоносы с гордым видом, держа ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные семейства Испании старались найти родовые корни преимущественно в Астурии. Причина всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были освободителями Испании от арабского ига. В то время как простой народ Испании занимался земледелием, её дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. В этом и коренилось уважение испанского народа к своей аристократии[7].
Основные постулаты, определяющие фундаментальные понятия личной чести, вероятно, были сформулированы в завершающей стадии Реконкисты, в XII–XIII веках. Во всяком случае именно в этот период — в правление короля Альфонса X, появляются семь частей свода законов Королевства Кастилии и Леона, известные как «Las Siete Partidas» («Семь партид мудрого короля дона Альфонса» или просто «Партиды»). Кроме того что «Партиды» регулировали различные аспекты повседневной жизни испанцев XIII века, не обошли они вниманием и концепцию личной чести. «Честь, — говорится в этом кастильском кодексе, — это репутация, которую человек приобретает согласно занимаемому им месту в обществе благодаря своим подвигам или тем достоинствам, которые он проявляет… Убить человека или запятнать его репутацию — это одно и то же, ибо человек, утративший свою честь, хотя он со своей стороны и не совершал никаких ошибок, мертв с точки зрения достоинств и уважения в этом мире; и для него лучше умереть, чем продолжать жить»[8].
В своей замечательной работе о Испании золотого века Марселей Дефурно писал, что первый аспект чести был тесно связан с личными качествами, и особенно с героизмом, ведь именно в атмосфере героизма жили испанцы в течение многих веков. Вслед за великой Реконкистой невиданные подвиги конкистадоров обеспечили Испании огромную империю за морями, в то время как испанские солдаты маршировали по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, от Португалии до Германии, а испанский флот разгромил турок в сражении при Лепанто. Как же честь принадлежать к такой нации — нации завоевателей — могла не породить гордость?[9]. Как сказал в апреле 1503 года герой битвы при Чериньоле капитан Диего Гарсиа де Паредес: «Я Гарсиа де Паредес, а также… А хотя… достаточно сказать, что я испанец»[10].
Поскольку честь ценилась дороже жизни, был только один способ смыть с себя позор — убить виновника. «Никогда испанец не станет спокойно дожидаться смерти того, кто его оскорбил», — заявлял Тирсо де Молина. Месть за поруганную честь стала темой самых прекрасных драматических творений Лопе де Веги и Кальдерона. Смешение слов «honra» — честь и «fama» — репутация, то есть индивидуального и социального аспектов понятия чести, отчетливо проявляется в драмах, где в качестве причины бесчестья возникает либо неверность женщины, либо посягательство на ее добродетель. В этом случае обесчещенной являлась вся семья, и все ее члены — не только муж, но и отец, брат, дядя — имели равные права мстить. Более того, честь, будучи абсолютной ценностью, брала свое начало в мнении других людей, поэтому подозрение, пусть даже не подкрепленное фактами, могло повлечь за собой беспощадную кару, ибо «честь — это кристально чистое стекло, которое может помутнеть даже от легкого дыхания»[11] Это гипертрофированное чувство собственного достоинства и болезненная реакция на любые, в том числе гипотетические оскорбления чести приводили к многочисленным дуэлям по любому, самому пустяковому поводу.
Первой попыткой остановить эту всенародную дуэльную эпидемию явилось ограничение ношения шпаг исключительно аристократией. Как писал об этом Эгертон Кастл: «Королевские ордонансы, а равно и мода ограничили ношение оружия, которое каждый испанец считал своей привилегией со времени Карла V, исключительно дворянами»[12]. Но, как известно, голь на выдумки хитра, и лишённые привычной шпаги бретёры из «неблагородных» начали искать доступное альтернативное оружие для решения дел чести. Некоторые авторы полагают, что этот период, датируемый концом XVII и началом XVIII столетия, можно считать датой рождения народных дуэлей в Испании. Также и Кастл не исключал, что именно королевские указы, объявившие шпагу исключительной монополией армии и дворянства, вызвали к жизни традицию дуэлей на ножах и «искусство обращения с навахой»[13]. Эту версию косвенно подтверждает и тот факт, что продлившаяся до начала XX столетия лавина монарших ордонансов, направленных против всевозможных видов ножей, берёт своё начало именно в первой четверти XVIII века.
XVIII век породил и другой феномен, ставший на несколько столетий символом испанской культуры ножа, хранителем, блюстителем и ревнителем её традиций норм и кодексов, героем народных песен, легенд и баллад, — баратеро. В 1849 году в Мадриде вышло небольшое пособие по самообороне, носящее название «Manual del baratero, о, Arte de manejar la navaja, el cuchillo у la tijera de los jitanos», что можно перевести как «Пособие для баратеро по искусству владения навахой, ножом и цыганскими ножницами». Кем же был загадочный баратеро, давший имя работе, считающейся кодификацией испанской школы ножевого боя? Впервые этот термин встречается в 1575 году в книге «Cancionero general»[14], а происхождение своё он ведёт от староиспанского «баратар» — непорядочность. Корни же «баратар» приводят нас к арабскому «бара» — «пожертвование», «добровольный взнос», — вероятно доставшемуся испанцам в качестве мавританского наследия[15]. Ещё в 1604 году Сервантес в бессмертном «Дон Кихоте» называл «баратерией» бутафорское правительство Санча Пансы, подразумевая, что всё это одна сплошная афера и мошенничество[16]. По утверждению Форда, от испанского «баратар» произошло и современное английское «бэррэтри», означающее взяточничество и сутяжничество[17]. Ещё ближе к интересующему нас предмету одна из современных испанских интерпретаций архаичного «барато» — процент со сделки. Но наши баратеро не брали взяток и не заключали сделок. Баратеро родились под шелест тасуемых карт, сопровождаемый звоном монет.
Кроме любви к дуэлям и боям быков испанцами владела ещё одна роковая страсть — азартные игры. С этим пороком своих подданных ещё в XIII веке пытался бороться король Кастилии Альфонс X. Этот монарх, вошедший в историю под именем Альфонса Мудрого, или Альфонса Астронома, прославился не только изданием законодательного сборника, известного как «Партиды», но также и как автор закона, направленного против игорных заведений «tafujerias» и их завсегдатаев — «tahures», или «grecs», — профессиональных игроков[18]. Согласно свидетельству барона Давилье, в свою очередь усылавшегося на севильского автора Фахардо, к концу XVII столетия игорные дома, или «гаритос», были почти в каждом андалузском городишке, а к началу XIX века игроков с колодой карт в руке и лихорадочным взором уже можно было встретить практически повсюду. В своих путевых заметках Давилье отмечал: «Сегодняшний испанский игрок больше полагается на ловкость рук, а не на удачу. Garitos не единственные места сборищ игроков — они собираются повсюду: в тени судов на пляжах, под тенистыми деревьями или у древних стен в каком-либо укромном местечке. Взгляните на вытащенную на берег фелюгу, чьи паруса сохнут на солнце. Часть её команды расселась на берегу, остальные разбрелись по пляжу и поглощены игрой в карты. Они играют в ресао или в сапе, на их лицах читается волнение и беспокойство, вызванное то ли игорными страстями, то ли страхом появления полицейского»[19].

Рис. 2. Игра в карты. Гюстав Доре, 1865 г.
Марселей Дефурно писал, что любовь к азартным играм, имевшая губительные последствия для представителей всех классов общества, была гарантированным заработком для тех, кто умел ею пользоваться. Существовали официальные игорные дома, обычно управляемые бывшими солдатами-инвалидами, которым этот доход заменял пенсию, но гораздо больше было притонов — garitos, где собирались игроки-профессионалы, или tahures, обыгрывавшие слишком доверчивых посетителей. Иногда они объединялись в команды, в которых каждый имел свою специализацию. По словам известного испанского писателя и поэта XVII века Франсиско де Кеведо, были среди них подделыватели — fullero, которые должны были подготовить несколько колод крапленых карт на случай, если одна из них будет обнаружена, жулики, отвечавшие за исчезновение этих колод в конце партии, чтобы профаны не обнаружили трюк, и, наконец, зазывалы, в обязанности которых входило привлечение в притон слишком доверчивых или слишком уверенных в себе игроков[20]. Но где бы ни проходила игра — в табачном дыму игорного дома, в парке или на пляже, — за игроками внимательно следил немигающий взгляд из-под надвинутой на глаза шляпы. И как только счастливчик, которому улыбнулась удача, не веря своему счастью, сгребал выигрыш со стола, мужчина, доселе бывший пассивным наблюдателем, уверенно направлялся из угла к игорному столу за своим законным заработком — барато, или долей. Эти суровые резиденты игорных заведений, обкладывавшие данью игроков, были миронес, или, как их чаще называли, баратеро.
Как лаконичо сообщает словарь Баретти-Ноймена 1823 года, «баратеро — это тот, кто уловками или силой получает деньги от удачливых игроков»[21] Иногда эта полученная «уловками», а чаще «силой» доля составляла символическую сумму в пару медяков, а иногда вынырнувший из мрака баратеро мог потребовать и пять процентов от выигрыша[22]. Вот как описали сцену взымания барато путешествовавшие по Испании в середине XIX века Шарль Давилье и Гюстав Доре: «Внезапно словно из-под земли появляется бледный мужчина со зловещим выражением лица и с вызывающим видом проходит в центр компании. Он крепко сложен, на его широких плечах куртка, а поверх коротких штанов широкий шёлковый пояс. Этот человек, так бесцеремонно появившийся среди игроков и спокойно заявивший, что явился «cabrar elbarato» — за своей долей выигрыша, баратеро. Сумма поборов обычно невелика, около десяти сентимо с игры.
«Ahi va eso!» («Держите!») — восклицал баратеро, бросая в центр компании что-то обёрнутое грязным клочком бумаги, который, вероятно, использовали, чтобы заворачивать жареную рыбу. Это была колода карт — бараха. «Aqui no se juega sino con mis Barajas» («Здесь играют только моими картами!») Если игроки выполняли его требование, то баратеро сгребал четвертаки в карман и спокойно уходил. Но иногда случалось, что в компании попадался «valiente» — крепкий орешек, смельчак или, как его называли, «mozo сгио» (труднопереводимое андалузское выражение, обозначающее мужественного, смелого и гордого парня), который, вернув карты баратеро, бесстрашно отвечал: «Camara, nojotros no necesitamos jeso!» («Приятель, нам они не нужны!»).

Рис. 3. Баратеро. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
«Chiquiyo, venga aqui el barato у sonsoniche!» («Парень, быстро гони мои деньги и не рассуждай!») — следовал ответ баратеро. После этого «mozo сгио» доставал из жилета длинный нож, открывал его, щелкнув пружиной, втыкал рядом с горсткой монет, служивших ставкой в игре, и, вызывающе глядя на соперника, восклицал: «Aquí no se cobra el barato sino con la punta de una navaja» («Здесь тебя не ждёт ничего, кроме острия навахи!») Вызов обычно принимался, и противники произносили ритуальную фразу: «Vámonos!» или «Vamos alli!» («Выйдем!») или «Vamos a echar un viaje!» («Ты отведаешь моего ножа!») Это было их сакральной формулой, их «jacta es alea» — «жребий брошен». Затем они удалялись в уединённое место, где доставали навахи или кинжалы, на мгновение блеснувшие на солнце, и один из дуэлянтов погибал»[23].
Также и Форд описывал сборище игроков, сидящих на полу с картами, засаленными так, что они стали земляного цвета, и играющих настолько азартно, как будто само их существование было поставлено на карту. Согласно его наблюдениям, среди картёжников обычно находился хорошо известный местный заправила, задира, он же «guapo» — «забияка», который подходил, клал руку на карты и заявлял, что никто не будет играть другими картами, кроме тех, что принёс он: «Aqui no se juega sino con mis Barajas». Если игроки соглашались с этим требованием, то каждый давал ему полпенни. А в случае, если один из них не терял присутствия духа, он отвечал: «Aqui no se cobra el barato» («Тут тебе ничего не светит!»). Если вызов принимался, то в ответ звучало: «Vamos alia!» («Вперёд, за дело!») На этом все бросали карты, так как предстояло кое-что поинтересней карточной игры.

Рис. 4. Схватка баратеро. Los Españoles pintados per sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Бывали случаи, когда ловкач встречал такого же ловкача. Их выставленные вперёд ноги связывали вместе, и четверть часа они фехтовали на ножах, защищаясь плащами, пока чей-то удар не достигал цели[24]. Сцена получения баратеро своей доли в игре изображена, например, на датированной 1865 годом гравюре Гюстава Доре «Le baratero exigeant le barato», где суровый мужчина в плаще и шляпе, воткнув свой нож в стол с картами, вызывающе смотрит на игроков[25]. Как отмечал Форд, иногда при дележе выигрыша пересекались интересы двух баратеро, и тогда спорные вопросы решались в поединке на ножах, после которого, как правило, в живых оставался только один.
Но встретить баратеро можно было не только в игорных домах. Так называемые баратеро-солдадо, или де тропо, служили в армии, где они получали всевозможные поблажки, отлынивали от службы, и перед ними заискивали даже грозные сержанты, не желая приобретать в их лице опасного врага. Как правило, у большинства баратеро за плечами были тюремные сроки за различные преступления. И одним из самых одиозных и опасных типажей считался баратеро де ла карсел, или тюремный баратеро, который большую часть своей жизни провёл в «el estarivel» — каталажке, или как её ещё называли на образном воровском жаргоне, «casa de росо trigo», что можно буквально перевести как «дом смирения»[26]
Каждый раз, когда новоприбывший арестант проходил через ворота «el estarivel», тюремный баратеро вымогал у него «diesmo» — вступительный взнос. Это приветственное требование сопровождалось демонстрацией навахи в руке, и стоило только новичку отказаться пожертвовать немного деньжат — «las moneas», или «los metales», как всё решалось «navajazos» — ударами ножа. Когда за расследование убийства бралось правосудие, навахи практически никогда не находили, поскольку в тюрьмах существовало множество способов спрятать оружие, один хитроумней другого[27]. Прекрасным образчиком баратеро де ла карсел был, например, Игнасио Аргуманьо, убивший в 1836 году на проходившей в тюрьме дуэли на ножах другого баратеро, Грегорио Кане[28].

Рис. 5. Баратеро требует свою долю выигрыша. Гюстав Доре, 1865 г.
Рис. 6. Тюремный баратеро. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Изображение тюремного баратеро мы также можем увидеть на одной из иллюстраций к пособию по владению навахой. Это были суровые и безжалостные люди, без раздумий пускавшие в ход нож. Самые опасными в Андалусии считались баратеро Севильи и Малаги. Шарль Давилье писал, что так как наваха, кинжал и нож использовались в Испании повсеместно, то в некоторых городах заботливо сохраняются «полезные традиции». Хотя и Кордова, и Севилья могли похвастаться широко известными мастерами фехтования, но нигде искусство владения навахой не было развито так, как в Малаге. Немногие испанские города демонстрировали такую тягу к убийствам. «Delitos del sangre» — кровавые преступления случались там регулярно. Почему происходили эти уже ставшие привычными убийства? Было ли это от безделья, от любви к игре или же из-за халатности полиции? Как пелось в популярной малагской песне тех лет, «Еп Malaga los serenos Dicen que no beben vino; Y con el vino que beben Puede moler un molino!» («Малагские полицейские говорят, что они не пьют вина. Но и того, что они выпивают, достаточно, чтобы завертелись мельничные жернова»).
А может быть, это было влияние знойного солано — обжигающего африканского ветра, пронизывающего, как неаполитанский сирокко, приносящий жар песков Сахары[29]. Подобную картину увидел в Малаге и Василий Боткин: «Жители Малаги вообще веселый, удалой народ, мало имеют потребностей и в неделю работают только несколько дней, чтоб на выработанные деньги погулять в воскресенье. Огненное вино, дешевизна жизненных припасов, мягкость климата и в особенности удивительная красота и грация здешних женщин сильно развивают страсти, и здесь беспрестанно слышишь о punaladas (ударах ножа) и убийствах, но причиною их не воровство, а ссора, мщение или ревность»[30].
Где бы картёжник ни находился — в Севилье, Малаге или Толедо, — и за какой высокой стеной ни прятался, он нигде не мог чувствовать себя в безопасности и постоянно ощущал всевидящий взгляд. Баратеро были вездесущи — они собирали дань в квартале Макарена в самом центре Севильи, и занимались своим мрачным ремеслом в отдалённых пригородах. Как писал в стихотворении «Баратеро» известный испанский поэт XIX века Мануэль Бретон де лос Эррерос:

Рис. 7. Баратеро. Мадрид 1843 г.
«Al que me grunaa le mato,
Que yo compre la baraja. Esta oste?
Ya desnude mi navaja:
Largue el coscon y el novate
Su parne, Porque yo cobro el barato.
En las chapas y en el cane.
Eico trujan y buen trago -
Tengo una vida de obispo! Esta oste?
Mi voluntad satisfago
Y a costa ajena machispo,
Y porque?
Porque yo cobro y no pago
En las chapas y en el cane».
«Тот, кто ропщет, гибнет от удара, ведь я купил колоду карт —
вы не знали этого?
Я уже раскрыл наваху — смывайтесь, хитрецы и новички!
Я именно тот, кто забирает выигрыш — и купюры, и монеты!
Крепкий табак и старое вино — я живу как епископ! Вы этого не знали?
Все выполняют мои прихоти, и мне это ничего не стоит. А всё почему?!
Да потому, что я всегда всё записываю на счёт и никогда не плачу —
ни купюрами, ни монетами!»[31], (перевод авт.).
Иногда за настоящих баратеро принимали типов, известных как «та-ton» — задира, «matachín» — забияка, «valentón» — хулиган или «perdonavidas» — бахвал, смелых только с робкими, иногда пытавшихся ввести компанию игроков в заблуждение искусно созданным образом баратеро. Но встретив даже минимальный отпор, они теряли уверенность и бросались наутёк. Нередко баратеро путали и с так называемыми «чарранес», городскими маргиналами, которых сейчас назвали бы шпаной. Как сказал о них Давилье в «Путешествии по Испании»: «Это не парижский жамен, не «пале вою», не неаполитанский лаццароне и не даже смесь из всех трёх. Они, можно сказать, трудятся, торгуя на улицах сардинами или анчоусами или предлагая услуги носильщиков домохозяйкам, нуждающимся в помощи при доставке купленных продуктов домой» [32].
Ещё одной категорией городских маргиналов, не расстававшихся с верной навахой, были легендарные махо — щеголеватые жители мадридских трущоб, увековеченные Гойей и столь любимые за их красочный антураж костумбристами. Так как они оставили наиболее заметный след в испанской истории, и в том числе в культуре ножевых дуэлей, остановимся на них подробней. Движение, известное как махизм, зародилось в 1770-х годах как стихийный протест испанских рабочих и ремесленников в ответ на непопулярные профранцузские реформы правительства, а сторонники этого движения стали именоваться махо, и махами. Махо образовали костяк оппозиции традиционалистов, выступавших против приверженцев и поклонников французской культуры, так называемых «afrancesados».

Рис. 8. Драка за игрой в шары в Валенсии. Гюстав Доре, 1865 г.
Как ортодоксальные традиционалисты, махо ревниво соблюдали архаичный испанский дресс-код, упорно не желая отказываться от старинных вышитых камзолов, длинных плащей и, конечно же, ножей, которыми они резали табак, а иногда и лица наглецов. Вместо французских треуголок они демонстративно носили старинные шляпы, а вместо французских напудренных париков предпочитали отращивать длинные волосы, которые носили под специальной сеточкой[33]. Именно такими мы можем видеть их на работах Гойи 1776–1778 годов.
Но подобная декларация патриотизма раздражала некоторых профранцузски настроенных государственных деятелей, таких как Педро Родригес де Кампоманес, министр финансов в царствование Карлоса III, или друг Марата, премьер-министр Испании, Хосе Маньино-и-Редондо, граф Флоридабланка. В 1766 году госсекретарь по военным и финансовым делам неаполитанец Эскилаче, опираясь на прецеденты с беспорядками в правление Карлоса III, предпринял попытку запретить в Мадриде ношение длинных плащей и широкополых шляп под тем предлогом, что подобная одежда помогает скрываться преступникам. Но время для издания этого декрета было выбрано крайне неудачно, так как именно в эти дни повышение цен на зерно и рост налогов, обусловленный необходимостью ремонта мадридских дорог и уличных фонарей, вызвали раздражение и недовольство рабочих. 23 марта 1776 года разъярённая толпа разграбила дом госсекретаря и уничтожила уличные фонари. На следующий день король Карлос был вынужден принять требования жителей Мадрида, сместив с должности госсекретаря-неаполитанца, снизив цены на продукты и оставив нетронутым внешний вид мадридских махо[34].
Следующую атаку на привилегии махо предпринял в 1775 году уже упомянутый Кампоманес. В своих публикациях он обвинял махо в неряшливости и том, что они выглядят как нищие или бродяги. Особым его нападкам подверглись традиционные сеточки для волос — «redecilla», которые он заклеймил как антисанитарные и способствующие праздности. Он заявил, что из-за подобных сеточек махо и махи не расчёсывают волосы и не ухаживают за ними, вследствие чего те превратились в рассадники вшей. Также он требовал, чтобы ремесленники проводили меньше времени в тавернах и на корридах, а больше внимания уделяли игре в мяч, в кегли или занятиям фехтованием.
Но несмотря на официальную позицию властей, патриотические идеи субкультуры махо — с боями быков, пением фламенко и танцами болеро и сеги-дийя — разделяла и поддерживала значительная часть аристократии, недовольная политикой и реформами Карлоса[35]. Так, например, дерзостью махо восхищалась будущая королева Мария Луиза, а многие аристократы из её окружения копировали их стиль одежды. Со временем махо превратились в особый класс, который, как считалось, единственный в Испании являлся блюстителем и хранителем духа старой Кастилии и ревнителем испанских традиций. Как сказал о них Василий Петрович Боткин: «Настоящий majo здесь особенный народный тип. Это удальцы и сорвиголовы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас. Эти-то majos задают тон севильским щеголям, даже высшего общества, которые стараются подражать в модах и манерах их андалузскому шику»[36].
Теофиль Готье писал, что ни один хоть немного уважающий себя махо никогда не осмелится появиться в общественном месте без «вара» — трости. Два платка, свешивающихся из карманов куртки, длинная наваха, заткнутая за широкий пояс, но не спереди, а сзади посередине, считались у них вершиной элегантности[37]. Любимыми местами свиданий этих типов со своим махами, музами Гойи, стали севильский район Макарена и малагский квартал Эль Перчель, где рыбаки развешивали сети для просушки. Давилье вспоминал, что почти на каждом углу можно было увидеть закутанного в плащ махо, нарезающего навахой табак для самокрутки, или маху в короткой юбочке, танцующую поло или халео[38].
Возвращаясь к баратеро, хочу предложить вниманию читателей версию, рассматривающую их не как вымогателей-одиночек, занимающихся преступным ремеслом на свой страх и риск, а как членов организованного преступного сообщества, известного в Испании XV века как «Ла Гардунья». Итальянские авторы Граттери и Никасо в своём исследовании истории калабрийской мафии, ндрангеты, «Fratelli di sangue», утверждают, что эта преступная организация появилась в Толедо около 1417 года. Название её — «гардунья», что на испанском обозначает куницу, было метафорично, так как это животное славится своей хитростью и дерзостью. Однако, в 2006 году вышла работа испанцев Леона Арсенала и Иполита Санчиса «Una Historia de las Sociedades Secretas Españolas», авторы которой в свою очередь убеждены, что история о существовании «Ла Гардуньи», это не более чем миф. Тем не менее, существует слишком много свидетельств, опровергающих их точку зрения, которые невозможно проигнорировать.
В вышедшем в 1605 году романе Мигеля Сервантеса де Сааведра «El Ingenioso Hidalgo Don Quiote de la Mancha», описывающем знакомые нам с детства похождения взбалмошного ламанчского идальго и его верного слуги, есть крайне любопытный эпизод. Как известно, в этих странствиях с ними происходят всевозможные метаморфозы, среди которых назначение Санчо Пансы губернатором некоего острова под названием Баратария, то есть, афёра. Впрочем, нас интересует не этимология этого слова, а небольшой эпизод, произошедший с новоявленным губернатором, инспектировавшим свои владения вскоре после вступления в должность. Совершая обход в сопровождении свиты, он услышал звон клинков и, поспешив на шум, обнаружил двух сражавшихся мужчин. На вопрос Санчо Пансы, что послужило причиной этого поединка, один из дуэлянтов рассказал, что его соперник, только что выигравший в гаррито больше тысячи реалов, отказался раскошелиться и выплатить причитавшуюся ему законную долю выигрыша. Также он заявил, что является в игорном доме важной особой, в чьи обязанности входит присматривать за игроками, пресекать творящиеся беззакония и предотвращать ссоры. И за это, как заведено в игорных домах, он обычно и берёт с игроков процент с игры. Так как выигравший отказался заплатить, то он решил «вырвать свою долю из его горла». Выслушав его, Санчо пообещал закрыть игорные дома — как «приносящие несомненный вред»[39].
Как мы видим, Санчо Панса стал очевидцем поединка баратеро с одним из игроков, отказавшимся добровольно заплатить причитавшуюся ему долю. Таким образом, совершенно очевидно, что более чем за три столетия до баратеро XIX века, описанных Давилье и Фордом, их коллеги и предшественники занимались всё тем же нелёгким ремеслом в гарритос Испании XVI-XVII веков. И в ту далёкую эпоху, как и несколько столетий спустя, они всё так же присваивали себе право забирать часть выигрыша у удачливых игроков, защищая это право клинком.
Через несколько лет, в 1615 году, Сервантес издаёт вторую часть похождений своего хитроумного идальго, а в 1613-м, за два года до появления второго тома одной из самых популярных книг всех времён и народов, выходит сегодня почти забытая и знакомая лишь знатокам творчества Сервантеса повесть «Ринконете и Кортадильо». В ней Сервантес описывает существовавшую в Севилье XVI века преступную организацию, оказывающую услуги определённого характера властям и духовенству и пользующуюся их покровительством. Братство это занималось всеми мыслимыми видами преступного ремесла — от заурядных краж до выполнения довольно необычных заказов. Вот как выглядел их перечень:
«Запись ран, подлежащих выполнению на этой неделе.
Во-первых, купцу, живущему на перекрестке. Цена — пятьдесят эскудо.
Тридцать получены сполна. Исполнитель — Чикизнаке».
— Мне кажется, сыне, что ран больше нет, — сказал Мониподьо. — Читай дальше и ищи место, где написано: «Запись палочных ударов».
Ринконете перелистал книгу и увидел, что на следующей странице значилось: «Запись палочных ударов». А несколько ниже стояло: «Трактирщику с площади Альфальфы двенадцать основательных ударов, по эскудо за каждый. Восемь оплачены сполна. Срок исполнения — шесть дней. Исполнитель — Маниферро».
— Этот пункт можно свободно вычеркнуть, — сказал Маниферро, — потому что сегодня ночью я с ним покончу.
— Есть еще что-нибудь, сыне? — спросил Мониподьо.
— Да, — ответил Ринконете, — есть еще запись, гласящая: «Горбатому портному по имени Сильгеро шесть основательных ударов согласно просьбе дамы, оставившей в залог ожерелье. Исполнитель — Десмочадо»[40].
Как известно из биографии автора Дон Кихота, перед тем как обратиться к писательскому труду, Сервантес долгое время был солдатом. В 1571 году он принимал участие в битве с турками при Лепанто, когда объединённые силы Священной лиги наголову разгромили флот Османской империи, был ранен и несколько лет провёл в плену. Но был в его биографии ещё один, менее известный и не столь героический период. В своей работе об истории организованной преступности в Средиземноморье профессор и вице-ректор Женевского университета Марк Монье писал, что Сервантес, проживший в Севилье 15 лет, с 1588 по 1603 год, прекрасно знал все реалии теневой стороны севильской жизни и рассуждал о предмете со знанием дела[41]. Этому способствовал тот факт, что автор похождений Дон Кихота три раза попадал в тюрьму, где неоднократно имел прекрасную возможность близко познакомиться с лучшими представителями преступного ремесла.
В 1597 году обвинённый в растрате Сервантес был приговорён к заключению в мадридской тюрьме. Но так как дорога в Мадрид должна была быть оплачена из его собственного кармана, а таких денег у писателя не водилось, то он был заключён в тюрьму Севильи. Это мрачное учреждение, возведённое в 1569 году, было переполнено и управлялось коррумпированной администрацией. Считается, что Сервантес начал писать первую часть «Дон Кихота» именно в стенах этого заведения. Во всяком случае, он и сам упоминает севильскую тюрьму в прологе к первому изданию своей книги[42]. Таким образом, богатый тюремный опыт Сервантеса придаёт особый вес его описанию преступного мира Севильи начала XVI столетия. Получение доли с игры — барато мы также встречаем в 1638 году в комедии Хуана Переса де Монтальвана «La Monja Alférez», когда один из героев пьесы произносит фразу: «Senor soldado: diga рог su vida Рог аса los que ganan son ingratos Suelen vender muy caros los baratos»[43] Более подробно мы рассмотрим эту версию в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Италии и наследнице традиций Ла Гардуньи, Каморре — прославленной преступной организации Неаполя.
В Испании, как и в любой другой стране с развитой ножевой культурой, эти поединки были ритуализованы не менее формальных дуэлей, а иногда по сложности своих норм и кодексов даже превосходили их. Так, например, Пераль Фортон отмечал, что в провинции Альмерия среди рудокопов существовала специфическая традиция. Когда сыну исполнялось восемнадцать лет, его отец на торжественной церемонии, проходившей с большой помпой и напоминавшей средневековое посвящение в рыцари, вручал ему факу — большой складной нож[44]. Кстати, говоря о рудокопах, хочу заметить, что испанские горняки славились своим крутым нравом и склонностью к поединкам. Так, шахтёров испанского происхождения, трудившихся в середине XIX столетия в серебряных копях калифорнийского Нью-Альмадена, что в округе Санта-Клара, называли баратерос. Возможно, это было обусловлено их любовью к дуэлям на ножах и строгим соблюдением старинных испанских кодексов чести[45]

Рис. 9. Цыганская драка. Леонардо Аленса Ньето, 1825 г.
В испанском десафио был кодифицирован каждый элемент. Как и в формальных дуэлях, сатисфакция в народном поединке могла быть достигнута «первой кровью», то есть символической царапиной, но иногда кровожадный кодекс чести требовал смерти оскорбителя. Так, например, социальные и этнические табу вынуждали вести поединки на ножах лишь до первой крови андалузских цыган — хитанос. Профессор Вальтер Отто Вайраух, исследовавший цыганскую культуру, писал, что испанские цыгане часто решали дела чести семьи в ритуальных поединках на ножах, и обычно первого пореза, нанесённого противнику, было достаточно, чтобы считать дело улаженным[46]. Первой кровью, как правило, заканчивались и поединки уже упомянутой городской шпаны — чарранес, или матонов. Вот как выглядела типичная встреча двух подобных смельчаков, описанная Давилье: «Еа! Никак тут встретились храбрецы?! — выкрикивал один из них, открывая свою наваху. «Tiro oste! Доставай нож, дружище Хуан!» — восклицал другой, двигаясь вокруг соперника. «Vente a mi, Curriyo! Не прячься, Франсиско!» — «Это ты, zeno Хуан, скачешь тут, как щенок?» — «Еа, Dios mio! Крепись, уже скоро твоя душа предстанет перед богом!» — «Не ранил ли я тебя?» — «Что ты, это пустяк!» — «Я собираюсь убить тебя одним ударом. Тебе нужно последнее помазание!» — «Escape, рог Dios, Curriyo! Ради бога, спасайся Франсиско! Ты же видишь, ты полностью в моей власти, и я собираюсь проделать в тебе дыру, больше чем арка вон того моста!».
Согласно Давилье, подобные диалоги могли тянуться более часа, пока поединщиков не растаскивали друзья. После этого успокоившиеся соперники складывали ножи и перемещались в какую-нибудь таверну, где и топили свой гнев в хересе[47].
Хочу заметить, что подобный ритуал примирения, имевший целью «утопить» конфликт в вине, встречается во многих культурах. Так, например, среди народных дуэлянтов Нидерландов XVII–XVIII веков существовал обычай, известный как «афдринкен», когда стороны пытались забыть о своих разногласиях, сидя за одним столом в таверне за бутылочкой винца.
Очевидцем дуэли до первой крови как-то раз довелось стать и Василию Петровичу Боткину, путешествовавшему по Испании в августе-октябре 1845 года. Вот как он описывал этот бой: «На днях случилось мне видеть поединок двух majos на ножах. Нож — народное орудие испанцев: он очень широк и складной; сталь его имеет форму рыбы, вершка четыре длиною; его обыкновенно всякий носит в кармане. Им не колют, а режут, и самым ловким ударом считается разрезать живот до внутренностей. В такого рода поединке каждый обёртывает левую руку плащом, а за неимением его — курткой и отражает ею удары противника. Противники стали шагах в восьми друг от друга, круто нагнувшись вперед; ножи держали они не за ручку, а за сталь в ладони: как только один бросался, другой уклонялся в сторону, они быстро кружились, каждый норовил нанести удар разрезом противнику сбоку, но все дело кончилось легкими ранами, их разняли»[48].

Рис. 10. Дуэль воров. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Нередко целью подобных дуэлей «до первой крови» было порезать лицо противника и нанести ему позорящее ранение, известное как «хабек», или «чирло», которое, по замечанию Давилье, являлось важным техническим элементом народной дуэли[49]. Так как это тип ранения детально рассматривается в главе о ритуальном шрамировании в дуэльных культурах, подробно останавливаться на нём мы не будем.
В испанских навахадах, как и в формальном поединке, свято соблюдались все дуэльные нормы и ритуалы, включая такие канонические правила, как наличие равного оружия и исключение вмешательства третьих лиц. Эти кодексы рыцарства соблюдались беспрекословно вне зависимости от сословной принадлежности. Так, например, прекрасной иллюстрацией к подобному рыцарскому поведению может служить одно любопытное свидетельство. Мэри Никсон-Руле, побывавшая в Испании в начале XX века, описывает поединок двух горняков, поссорившихся в шахте и решивших покончить с разногласиями в поединке на ножах. Один из них пожаловался своему сопернику, что слишком ослабел, и попросил поднять его наверх в корзине, что тот и выполнил с величайшей заботой и осторожностью. Как только горняк выбрался из корзины, то вежливо сообщил противнику, что теперь он в его распоряжении и готов сражаться. Они достали ножи и ринулись в бой. Один из соперников был вооружён большим толедским ножом с гравировкой «Не доставай меня без причины, не прячь без чести», а у другого был короткий, широкий и острый как бритва нож с девизом «Чем больше нож, тем трусливей его хозяин». Зеваки образовали круг, и начался бой до смерти. Как заметила Никсон-Руле, «испанцы презирают современный дуэльный код, где первой же капли крови достаточно для сатисфакции». Шахтёр, только что поднявший своего противника, так ловко ударил его ножом между рёбер, что тот, смертельно раненный, рухнул на месте[50].

Рис. 11. Перед атакой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Популярным ритуалом, известным и в других дуэльных культурах и служащим для демонстрации мужества, а иногда и как доказательство готовности идти до конца, являлось связывание вместе щиколоток или запястий дуэлянтов. Так, подобный ритуал, свидетелем которому он стал в детстве, описал один из очевидцев в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 1899 году: «Количество кровавых ножевых дуэлей в городах Южной Испании ужасает иностранцев. Каждый мужчина, принадлежащий к низшему классу, носит смертоносный нож, лезвие которого часто достигает тридцати или сорока сантиметров в длину и остро как бритва. Он называется фака. Местные мужчины и парни носят свистки — пито де каретийа. Это свистки используются для подачи сигнала о начале уличного поединка на ножах. Каждый, услышав этот свисток, бросает все свои дела, чтобы увидеть, как калечат или убивают дуэлянта. Статистика говорит, что в день в результате ножевых дуэлей происходит одно убийство на каждые сто тысяч жителей. Мне было около девяти лет, когда я впервые увидел пелеа, или поединок на фака. Я был в лавке отца, когда до меня донеслись звуки пито де каретийа — потом ещё и ещё. Я увидел мужчин и мальчишек, спешащих по направлению к перекрёстку между двумя улицами. Меня разбирало любопытство, и я присоединился к толпе. До этого я никогда не видел уличных дуэлей, но прекрасно понимал значение этого свистка и также знал, что двое сойдутся в смертельном поединке. Я был среди первых, прибывших на место. И вот что я увидел: два мужчины примерно одного возраста и роста связывали свои левые ноги шейными платками в области лодыжек. Оба были с непокрытыми головами. Я помню даже сейчас, с какой ненавистью они смотрели друг на друга. Каждый взял куртку и тщательно обернул ей левую руку. Потом наступила пауза — это был величайший момент, а затем оба мужчины вытащили свои смертоносные ножи из ножен и начали колоть, резать и кромсать друг друга, и при этом каждый из них отражал удары, насколько это было возможно, левой рукой, защищённой курткой. Так как бойцы были связаны вместе, поединок не мог продолжаться долго, и уже через несколько мгновений дуэлянты рухнули на землю. На одном насчитали семнадцать ран, а на другом четырнадцать, но оба были живы. Соперников на носилках доставили в госпиталь «Нобль», находившийся неподалёку, где им была оказана помощь. Последующие события этой «пелеа» особенно необычны тем, что в больнице их койки стояли рядом, и как только они набрались сил, то продолжили дуэль и на этот раз убили друг друга»[51]
Многие авторы XIX столетия, побывавшие в Испании, отмечали, что умению владеть ножом испанцы начинали обучаться с раннего детства. Так, например, в 1847 году Уильям Эдвардс писал, что «испанские простолюдины с детства совершенствуются во владении смертоносной навахой, являющейся их неразлучным спутником, и которой они пользуются с невероятной сноровкой». Эдвардс вспоминал, что ему часто приходилось видеть в андалузских городах и деревнях малышей, изображавших ножевой поединок на коротких деревяшках и демонстрировавших невероятное мастерство во владении этим импровизированным оружием[52].
Говоря о тренировках, нельзя не вспомнить популярное среди современных поклонников навахи упражнение, известное под множеством названий, одно экзотичнее другого. Одним из самых известных среди них является так называемая «баскская роза». Рождением своим эта «роза» обязана вышедшему в 1991 году фильму «Exposure» с Питером Койотом в главной роли. Герой Койота брал уроки ножевого боя у таинственного учителя, которого сыграл Чеки Карийо, и одно из упражнений заключалось в том, что на зеркало наклеивались полоски бумаги в форме восьмиконечной звезды, и по этим траекториям герой фильма отрабатывал удары ножом. На самом деле эта мифическая «роза» является не чем иным, как мулине — самым заурядным фехтовальным упражнением для укрепления и развития гибкости запястий, известным как минимум с 1570 года. На стене закреплялась круглая или овальная мишень диаметром около 14 дюймов, на которой рисовали траектории ударов. Мулине состоял из шести ударов: первый — нисходящий диагональный удар справа налево, второй — диагональный нисходящий удар слева направо, третий — диагональный восходящий удар справа налево, четвёртый — диагональный восходящий удар слева направо, пятый — горизонтальный справа налево и, наконец, шестой — горизонтальный удар слева направо[53].
Надо заметить, что далеко не всегда в руках у детишек были лишь безобидные деревянные макеты. Так, Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о посещении Испании отметил, что наваха неразлучна с испанцем, как носовой платок или шапка, не только у взрослых, но и у мальчуганов. Он с ужасом вспоминал, как дети двенадцати-тринадцати лет вопросы чести решали не потасовкой, а ударами навахи. «…Самое гнуснейшее зрелище, какое когда-либо приходилось кому наблюдать, как тринадцатилетние дети бросаются с ножами друг на друга», — писал Немирович-Данченко[54].
А Эдмондо де Амичис описал популярную в Испании детскую игру в корриду. В этой игре часть детей изображала быков, другие коней и третьи — матадоров с пиками в руках, сидевших на спинах этих «коней». Иногда для реалистичности к пике матадора привязывали настоящую наваху, а две такие же навахи поменьше изображали рога быка. Амичис как-то раз стал невольным очевидцем подобного развлечения, когда в Валенсии компания детишек решила использовать в игре «бой быков» навахи. Он с ужасом вспоминал, как в ход пошли ножи, лилось море крови, несколько человек было убито, некоторые тяжело ранены, а игра превратилась в бой, лишённый всяких правил, в который никто не вмешался, чтобы прекратить эту бойню[55].

Рис. 12. Мулине, 1798 г.

Рис. 13. Дети в школе играют в корриду. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Судя по свидетельствам из многочисленных источников, совершенствоваться в мастерстве владения ножом испанцы не прекращали и в зрелом возрасте. Дэвид Уркварт, описывая эти тренировки, вспоминал, что предплечья бойцов были покрыты шрамами, полученными в дружеских поединках. При этом лезвия ножей притупляли, или сверху на них надевали чехол, как на пики для корридь[56]. Самого же Уркварта обучали этому искусству, используя деревянный кинжал, а Шарля Давилье и Гюстава Доре, бравших уроки навахи во время их пребывания в Малаге, старый навахеро обучал наносить удары с помощью тростинок.
Испанцы, выраставшие с ножами в руках, не мыслили без них жизни. Как писал один из русских офицеров, воевавших рядом с испанцами против Наполеона: «Каждый испанец с малолетства привыкает действовать ножом как орудием, для него необходимым, какой бы образ жизни они ни избрали, в какой бы угол Испании судьба ни забросила его. Ножом он защищает свою жизнь от враждебной ему политической партии, ножом он доставляет себе правосудие, в котором отказали ему законы или судьи. Застигнутый ночью на дороге, вынимает свой нож, когда при лунном свете ему привидится мавр, вышедший из могилы отдохнуть на развалинах своего замка»[57]
Как следует из многочисленных описаний техник владения навахой, оставленных Урквартом, Давилье и сотнями других очевидцев и участников этих поединков, можно заключить, что левая рука при этом всегда обматывалась плащом или курткой для защиты от ударов. Иногда бойцы держали в руке шляпу или какой-либо другой предмет, использовавшийся в качестве импровизированного щита и служивший для отражения атак противника. Но чаще всего основным средством защиты служил традиционный плащ. Этот плащ — капа, занимал в испанской культуре особое место, поэтому мы остановимся на нём подробней. Плащ для испанцев был не только элементом верхней одежды, но и декларацией независимости, а также символом свободы и древних привилегий. Неоднократные попытки отнять у них плащи всегда вызывали бурю негодования и даже приводили к бунтам. Боткин отмечал, что плащ в Испании и зимой, и летом являлся необходимой частью одежды — только высшее гражданство и чиновники носили обыкновенный европейский костюм. Как говорили кастильцы: «La сара, abriga en invierno у preserva en verano del ardor del sol» («Плащ укрывает зимой и предохраняет летом от жара солнца»). Поэтому они закутывались в него и в июле, и в декабре. Так как плащ скрывал под собой всю остальную одежду, то кастильцы не слишком заботились о ней. Без плаща в Кастилье считалось неприличным войти в Ayuntamiento — здание магистрата, участвовать в процессии, присутствовать на свадьбе или наносить визиты важному лицу. Плащ был своего рода народным мундиром[58].
А вот как использовался этот «народный мундир» в поединке между испанцем и английским офицером, описанном в 1837 году подполковником британской гренадёрской гвардии Кроуфордом: «Кристобаль в сердцах бросил свою шляпу на землю, скинул плащ, который обмотал вокруг левой руки, и через мгновение уже стоял, изготовившись к бою с ножом в руке. Вскоре необычная схватка началась. Офицер был знаком с ужасным оружием своего противника и спокойно стоял, отведя саблю в сторону и приготовившись нанести удар. Он знал, что если ему не удастся уложить противника с первого удара, он пропал и надежды на спасение нет, поэтому напряжённо следил за каждым его движением. Тем временем Кристобаль наклонился вперёд, спрятавшись за плащом, намотанным на выставленную левую руку. В правой руке он держал длинный нож с клинком шириной в два пальца, плавно сужающимся к острию, с выемкой на обухе для лучшего проникновения. Так он скользил вокруг своего противника, постепенно сужая круги, горящим взглядом следя за каждым его движением»[59].
В 1874 году, технику использования верхней одежды для защиты от ножа, описал в воспоминаниях некий путешественник. Беседуя со знакомым испанцем, искушённым в тонкостях боя на ножах, он спросил его, есть ли у безоружного шанс защититься от человека с ножом. «О да, — сказал испанец. — Я покажу вам как». Мгновенно сбросив с себя куртку, он крепко сжал один рукав левой рукой, остальное обмотал вокруг предплечья, зажав в левой руке и другой рукав, что в результате стянуло всю конструкцию, образовав достаточную защиту от ударов ножа. Автор также отметил, что характерной меткой жителей мадридского района Пуэрта дель Соль, пользующемуся дурной репутацией подобно нью-йоркскому Боуэри, был изрезанный плащ[60].
Манера использования плаща в комбинации со шпагой породила целый фехтовальный стиль, известный как «эспада и капа», или, в случае замены шпаги кинжалом, «капа и дага». Описание подобной манеры боя мы находим во многих европейских трактатах по фехтованию XV–XVII веков. Так, например, главы посвящённые шпаге и плащу присутствуют в работах таких мастеров прошлого, как Капо Ферро, Альфьери, Мароццо, Карранса и многих других.

Рис. 14. Дуэль. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Плащ в качестве импровизированного щита использовался ещё в античности, в том числе римлянами. Известный русский историк Мария Ефимовна Сергеенко описывала сагум, плащ римского солдата, как четырехугольный кусок толстой грубой шерстяной ткани, который накидывали на спину и застегивали фибулой на правом плече или спереди под горлом. В него можно было завернуться целиком, и можно было забросить обе полы за спину — движений он не стеснял. В солдатском быту такой плащ был незаменим при длительных переходах и при стоянии на часах. Не мешал он и во время сражения: как и в XIX веке, его закидывали на левую руку или отбрасывали назад за спину — в таком виде изображены сражающиеся солдаты на колонне Траяна[61]. Ещё одной иллюстрацией использования плаща в бою служит небольшой отрывок из Тита Ливия с описанием сражения Гракха. Так как римляне не взяли с собой щиты, он сражался, обмотав левую руку плащом[62].
Манера использования плаща в комбинации во шпагой и кинжалом несколько отличалась. При фехтовании шпагой плащ наматывали на руку, оставляя свисать довольно длинные концы. Плащ старались накинуть на оружие противника, чтобы запутать в его складках клинок, или взмахнуть свободным концом материи перед лицом врага, чтобы заставить его моргнуть и этим на мгновение отвлечь его внимание. При этом maître d’armes рекомендовали занимать стойку с правой ногой впереди, чтобы подальше убрать сердце из зоны досягаемости противника. Этим советом не стоило пренебрегать, так как длина шпажного клинка в среднем достигала 85–95 см, а шпаги испанцев часто превышали метр в длину. Многие мастера ренессансного фехтования советовали своим ученикам занимать правостороннюю стойку так же и в комбинации плаща с кинжалом. Но, судя по дошедшим до нас изображениям поединков и, исходя из многочисленных свидетельств очевидцев, навахерос всё-таки предпочитали левостороннюю стойку, защищая грудь и живот обмотанной плащём левой рукой, и выдвинув вперёд левую ногу.
Существовало два основных способа использования верхней одежды в качестве защиты. В первом варианте куртку, камзол или плащ, накидывали на левое плечо, позволив им свободно ниспадать вдоль тела, а во втором плотно, в несколько слоёв, наматывали на левое предплечье. Как показывает практика поединков, такая импровизированная защита надёжно предохраняла руку не только от ножа, но иногда и от сабельных ударов. Автор «Пособия для баратеро», рекомендовал сбрасывать плащ перед поединком, чтобы одежда не сковывала движение бойца. Для этого он предлагал просто стряхнуть его с плеч за спину, отметив, что благодаря этому дуэлянт избегает риска запутаться в плаще ногами или потерять противника из вида[63].

Рис. 15. Плащ и шпага. La Scherma, Франческо Алфиери, 1640 г.
Пособие для баратеро, название которого полностью звучит как «Пособие для баратеро по искусству владения навахой, ножом и цыганскими ножницами», — это небольшая иллюстрированная 54-страничная брошюрка, состоящая из четырёх частей, разделённых на тридцать глав. Пособие детально описывает все нюансы нелёгкого дуэльного ремесла, включая технические элементы, шаги, уловки и финты, а завершает книгу небольшая заметка о героях этой работы, баратеро. На этой крайне любопытной и неоднозначной работе, содержащей уникальные данные о фундаментальных основах, технике, тактике и стратегии «золотой эры» испанской навахи, пришедшейся на более чем столетний период с середины XVIII столетия, и до начала двадцатого, я хотел бы остановиться подробней.

Рис. 16. Атака навахеро. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.
Для начала мы попытаемся пролить свет на происхождение, и, разумеется, на авторство этой работы. Несколько лет назад эта книга вызвала ожесточённые дебаты, и в полемике было сломано немало копий. Резюмируя, приходится констатировать, что большая часть всего что писалось и говорилось об этой работе, не более чем спекуляции, предположения и домыслы. Основная интрига заключалась в анонимном авторстве этого пособия. Книга была издана в 1849 году, в Мадриде издателем, неким доктором Альберто Гойя, и вышла под аббревиатурой «M.d.R.» Более ста пятидесяти лет это пособие считалось анонимным. Таковым его считали многие именитые и авторитетные историки-оружиеведы. Среди них можно назвать всемирно известного испанского историка и одного из крупнейших коллекционеров испанских навах, Рафаэля Мартинеса дель Пераль Фортона, цитировавшего пассажи из «Пособия для бара-теро» в своей работе «Las Navajas. Un Estudio у una Colección»[64], и Гарольда Петерсона, упомянувшего «Пособие» в книге «Daggers and Fighting Knives of the Western World»[65]. Также и современные «Пособию для баратеро» работы XIX века, такие, например, как вышедший в Мадриде в том же 1849 году, библиографический справочник упоминают «Пособие» как анонимный труд[66]. Крайне сомнительно, что специалисты по истории холодного оружия такого уровня как Петерсон или Пераль Фортон, не указали бы имя автора, будь хоть малейший довод, позволяющий с достоверностью утверждать, кто же на самом деле скрывался за этой аббревиатурой.

Рис. 17. Обложка первого издания. Manual del Baratero, 1849 г.
Усилиями энтузиастов эта книга неоднократно переиздавалась небольшими тиражами у себя на родине в Испании, а также в соседней Италии и долгие годы оставалась известна лишь узкому кругу специалистов и букинистов. Всё изменилось в 2005 году, когда «Пособие для баратеро» было впервые полностью переведено на английский язык, и вышло в известном издательстве «Паладин Пресс», обеспечившем этой работе обширный резонанс и паблисити. Именно 2005 год — год выхода этой книги на английском языке породил волну спекуляций о её авторстве. Под давлением нескольких доморощенных историков главным претендентом на пост автора было решено «назначить» известного журналиста первой половины XIX столетия, некоего Мариано де Рементериа и Фика. Выбор этот был обусловлен лишь тем, что его инициалы частично подходили для аббревиатуры M.d.R., да и жил Фика приблизительно в ту же эпоху. Что с точки зрения недобросовестных исследователей было более чем достаточно, чтобы считать его тем самым таинственным автором. Первоначально это предлагалось исключительно на правах гипотезы, а затем, как это частенько бывает, незаметно было принято за аксиому. Многие из уверовавших в эту версию, упрекали Рементериа и Фика в некомпетентности, а, следовательно, подвергли острой критике И «Пособие для баратеро». Так, например, среди прочих нелецеприятных эпитетов, «Пособие» называли сборником нелепых фантазий книжного червя, который никогда не вылезал из-за письменного стола, и, разумеется, не мог ничего знать ни о ножах, ни о технике владения ими. Вряд ли кому-либо из его критиков было известно, что достопочтимый сеньор Мариано принимал участие в боевых действиях против французов в Бильбао[67], и прекрасно знал с какой стороны браться за нож. Но дело тут даже не в боевом опыте и компетентности Фики, как знатока боевых искусств, а в установлении истинного авторства этой работы.

Рис. 18. Укол в пах. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Надо признать, что Мариано де Рементериа и Фика, известный как неплохой поэт и редактор популярной Мадридской газеты «Литературный и Торговый вестник», чтобы прокормить семью, был вынужден браться за различные подработки, нередко достаточно сомнительные. Так, например, из-под пера Фики выходили как рекомендации по хорошим манерам, так и справочники по хранению сыров, каковые прегрешения и вменялись ему в вину негодующими читателями нового издания «Пособия баратеро». И действительно, далеко не лучший претендент на лавры автора столь специфической работы. Однако, ближе ознакомившись с биографией журналиста, опубликованной его приятелем, испанским писателем, историком и фольклористом, Хуаном Антонио де Иса Самакола в журнале «Revista de Teatros», я утвердился во мнении, что авторство Мариано де Рементериа более чем сомнительно, и тому был целый ряд причин.
Во-первых, как я уже отмечал, ни один серьёзный академический источник за более чем полтора столетия, никогда и нигде не упоминал Фику в качестве автора этой книги. Более того, его биограф, Хосе Эскобар Арронис писал, что подобные инциденты с приписыванием ему чужих работ, встречались и при жизни Мариано де Рементериа. Так, например, упоминался случай, имевший место в 1828 году, когда Фике приписывали авторство работ, к которым в действительности он не имел ни малейшего отношения[68]. Ещё одним доводом, хоть и косвенно, но свидетельствующим против авторства Фики, служит тот факт, что все свои работы он всегда гордо подписывал исключительно полным именем: дон Мариано де Рементериа и Фика. Но даже и эти три аргумента не главное. Для нашего небольшого расследования важно другое свидетельство. А именно то, что 5 декабря 1841 года, у предполагаемого автора этой работы, дона Мариано, преподававшего к тому времени в Escuela Normal, на углу улиц де Ла Круз и Эспоз и Мина, случилось кровоизлияние в мозг, или, как это тогда называли, апоплексический удар, от чего он на месте и скончался. А приписываемое его перу произведение появилось лишь в 1849 году, через долгих восемь лет после смерти журналиста[69]. Хотя и после гибели Рементериа и Фика многие его работы неоднократно переиздавались, однако все первые издания вышли не позже 1841 года, то есть, ещё при жизни автора. Ну, а вероятность того, что рукопись «Пособия» все эти годы пылилась в ящике стола, чтобы явиться свету почти через десятилетие, крайне мала — не хочется умалять значения этой работы для поклонников боевых искусств, но всё-таки, это не «Война и мир».
И в завершение этого краткого лирического отступления я позволю себе небольшую ремарку. Многолетнее изучение свидетельств очевидцев и участников дуэлей на ножах в Испании, даёт мне основание утверждать, что все технические элементы, тактические уловки и ритуалы, встречающиеся в этой работе, абсолютно аутентичны, описаны со знанием всех реалий поединков на ножах на Пиренеях и демонстрируют глубокое знание предмета.
Кем бы ни был автор этой уникальной работы, скрывавшийся за таинственными инициалами — действительно ли «книжным червём», с благообразной бородкой «эспаньолкой», или одним из многочисленных учителей навахи, с лицом обезображенным шрамами, но, в отличие от бесчисленной армии современных интерпретаторов и толкователей его работы, предмет свой он знал досконально.
Но одними лишь спекуляциями об авторстве «Пособия» всё не ограничилось. В 2004 году в статье о навахах, опубликованной в одном из уважаемых оружейных журналов, утверждалось, что основная целевая аудитория этого пособия — «молодые люди из богатых семей». Подобное утверждение основывалось, как это нередко бывает, на неверной трактовке автором статьи испанских идиоматических оборотов.
В его интерпретации обращение автора «Пособия» к читателям, звучало следующим образом: «Прочтя мое руководство, и немного попрактиковавшись, любой избалованный молодой человек будет способен защитить себя от атаки баратеро»[70]. Но чтобы не множить заблуждения, позволю себе внести некоторые коррективы. Использованная в оригинальном испанском тексте идиома «almibarado señorito»[71], переводится не как «избалованный молодой человек», а как «маменькин сынок». То есть речь в приведённой цитате шла вовсе не о целевой группе покупателей этого пособия, а лишь о том, что овладеть описанными в нём техниками настолько просто, что это даже под силу любому маменькину сынку. Что, переложив эту витиеватую метафору на более понятный язык, можно сформулировать, как: «проще, чем пареная репа». Автор статьи также утверждал, что «Пособие» было адресовано дворянству, аргументируя это тем, что все низшие классы Испании вплоть до двадцатого столетия, были безграмотны, а, следовательно, прочесть эту книгу не могли. Но и этот тезис ещё в 1853 году был опровергнут Теофилем Готье, который отметил, что «почти все испанские крестьяне грамотны»[72] Кстати, надо сказать, что именно недобросовестный перевод породил один из самых живучих и популярных среди поклонников ножевого боя мифов — наваху с двумя клинками. На самом деле, это жуткое порождение тьмы являлось ничем иным, как вольной интерпретацией испанского термина «doble filo» — обоюдоострый клинок.
Но вернёмся к дуэлям. В 1885 году основную концепцию поединков на ножах в Испании лаконично охарактеризовал известный фехтовальщик викторианской эпохи Эгертон Кастл. Он считал, что если дрались навахой в паре с плащом, то техника основывалась на принципах старинного фехтования с мечом и плащом, а если только навахой — то на принципах фехтования на рапирах в трактовке Каррансы. В первом случае для защиты использовали дважды обёрнутую плащом левую руку, стойку занимали, выставив вперёд левую ногу, а наваху держали в правой руке плашмя, уперев большой палец в пяту клинка. Во втором случае, где вариантов защиты было мало, кроме возможности схватить противника за запястье, истинное мастерство состояло в том, чтобы заставить противника сделать какое-то движение, которое дало бы шанс нанести останавливающий удар в оппозиции. В обоих случаях удары наносили на шагах[73]. Конечно же, Кастл имел в виду великого испанского мастера XVI столетия Херонимо Каррансу. «Отца боевой науки», как его называли современники. Карранса, по мнению Кастла, «собрал самые проверенные приёмы фехтования, популярные у разных учителей его времени — либо у членов фехтовальных корпораций, либо среди простых фехтовальщиков и видавших виды искателей приключений — и свёл их в одну систему»[74]. Именно Каррансе, его последователю Нарваэсу, а также маэстро Жерару Тибо, автору фундаментального труда по фехтованию, испанские задиры должны были быть благодарны за основные принципы владения навахой.
Мы уже рассмотрели варианты защиты с использованием плаща или камзола. Ещё одним, не менее популярным импровизированным щитом были традиционные испанские шляпы. Головные уборы использовались в поединках во многих ножевых культурах — шляпы всегда были под рукой, а материал, из которого они были изготовлены, — как правило, толстый войлок — предоставлял достаточную защиту и позволял безопасно парировать удары, надёжно предохраняя кисть от порезов. Так, например, с помощью шляпы защищался Кривой в поединке с Хосе, описанном Проспером Мериме в бессмертной «Кармен»[75]. Шляпы, используемые в качестве щитов, можно увидеть и на иллюстрациях к первому изданию «Пособия для баратеро» 1849 года[76].
Хью Роуз, описывая в 1875 году испанские обычаи и традиции, не забыл также упомянуть и использовавшиеся в поединках шляпы. Он отметил, что когда испанцы дерутся в поединках на ножах, то дуэлянты парируют уколы и порезы противника своими сомбреро, или войлочными шляпами. Также Роуз писал, что некоторые мужчины преуспели в этом искусстве и известны тем, что на их счету два-три убитых на дуэлях противника[77]. Не исключено, что манеру прятать в поединках нож за головным убором навахеро позаимствовали у тореадоров. Перед тем как добить раненого быка ударом эстока или пунтии, матадор традиционно прикрывал животному глаза шляпой.
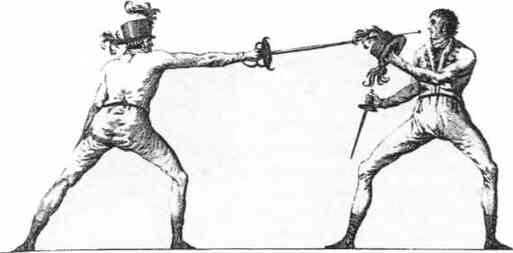

Рис. 19. Защита с помощью шляпы. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin, Мануэль Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.

Рис. 20. Бойцы прячут ножи за шляпами. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Рис. 21. Стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.

Рис. 22. Известный матадор XVIII века Хосе Кандидо Экспозито перед тем как нанести смертельный удар прикрывает глаза быку.
Покончив с описанием основных защит, мы можем перейти к техническим элементам поединка на навахах, лаконично описанным в тридцати лекциях этого руководства для головорезов. Итак, согласно канонам испанской школы, наваха плашмя удерживалась в районе замка, режущей кромкой внутрь. Большой палец при этом упирался в пяту клинка в первой его трети. При наличии защиты в виде плаща или камзола согнутая в локте левая рука выставлялась вперёд на уровне живота или груди, согнутая в колене левая нога также выдвигалась вперёд, и на неё переносилась большая часть веса фехтовальщика. Рука с навахой держалась у бедра, или была опущена вдоль тела и отведена назад, а клинок при этом смотрел вперёд или вниз.
Таким образом, положение тела навахеро напоминало классическую стойку с мечом и кулачным щитом[78]. При отсутствии защиты для левой руки корпус бойца был развёрнут фронтально к противнику, левая рука защищала левую сторону груди, живот и пах. Стопы находились на одной линии, колени были немного согнуты, живот втянут, а тело наклонено вперёд, чтобы максимально убрать живот и пах из зоны поражения. Но наклоняться вперёд слишком сильно не рекомендовалось, чтобы не подставлять под нож лицо. Эти варианты стоек и способы удержания навахи, потверждаются многочисленными иконографическими источниками, и свидетельствам очевидцев.
В 1847 году стойку навахеро описал путешествовавший по Латинской Америке Уильям Эдвардс, который стал свидетелем подобного поединка: «Пепе и Маноло кидали друг на друга злобные взгляды, оба были напряжены, как пружина, и собраны, как леопард перед броском. Они крепко сжимали ножи в правой руке, на уровне колена, большой палец упирался в клинок.[79].
А вот свидетельство Джозефа Таунсенда, датированное 1786 годом: «Получив нож, он несколько раз взмахнул им. Потом сделал вид, что подвергся внезапному нападению гипотетического врага, вооружённого оружием, подобным его собственному. Он наклонился вперёд, согнул колени, шляпу в левой руке выставил перед собой как щит, а его правая опущенная вниз рука крепко сжимала нож, острие которого смотрело вверх на противника. Изготовившись таким образом и бросая на предполагаемого противника яростные взгляды, он бросился вперёд, сделал вид, что отбил шляпой удар соперника, и нанёс тому смертоносный удар, направленный в нижнюю часть живота, чтобы мгновенно, одним движением, вспороть брюхо жалкому мерзавцу»[80].
Однако, следует заметить, что честь изобретения подобной манеры боя не принадлежит испанцам Нового времени. Эту технику мы встречаем в сотнях описаний поединков в различных странах и в разные эпохи. Так одно из самых ранних изображений хрестоматийной стойки навахеро, мне удалось найти в датированном IV веком до нашей эры фракийском могильнике, расположенном на территории Болгарии в местечке Александрово. На внутренней части купола могильника прекрасно сохранилась большая фреска. Среди сцен охоты, мчащихся быков, кабанов и преследующих их всадников отчётливо видно изображение пешего воина, одетого в некое подобие хитона. Вес его тела перенесён на выставленную вперёд и согнутую в колене левую ногу, опирающуюся на всю стопу, правая же нога выпрямлена, отставлена назад и опирается на носок. На левом предплечье, которым воин прикрывает грудь, намотан плащ, а в опущенной ниже бедра и немного отведённой назад правой руке, он, уперев большой палец в клинок, держит фракийскую сику длиной около тридцати сантиметров.

Рис. 23. Вердадера дестреза. Academie de l'Espee, Жирар Тибо, 1628 г.
Но вернёмся к «Пособию». Заняв боевую стойку, соперники не спешили атаковать друг друга. Каждый из них ждал, когда у его противника не выдержат нервы и он нанесёт удар первым, чтобы определить, насколько искусный боец ему противостоит. Как уже говорилось, концепция поединка строилась на старинной испанской манере боя Тибо и Каррансы, так называемой «ла вердадера дестреза», что можно перевести как «истинное искусство». Навахеро несколько упростили крайне мудрёную и излишне отягощённую сложными геометрическими выкладками испанскую школу шпаги XVI века. В их трактовке в основе лежали два круга, служащие для определения дистанции, — так называемые терренос, или «территории», которые представляли собой сферы, образуемые вытянутой рукой тирадора с зажатой в ней навахой. Круг бойца назывался «террено пропио», а сфера его противника — «террено контрарио». Границами террено, как уже было сказано, являлась максимальная дистанция нанесения удара вытянутой рукой с зажатым в ней ножом[81].
Тело навахеро делилось на две зоны поражения: «парте альта» — то есть верхнюю часть, от макушки до пояса, и «парте баха» — от пояса и до пят. Когда кинжалом, или как его называли цыгане, «моха» — пыряльник, наносили удар в живот, на жаргоне это называлось «накормить». Популярным ударом в «парте баха» — в живот или пах, был так называемый, «виахе». Термин «виахе» вышел из корриды, и обозначал восходящий распарывающий удар рога быка. Часто «виахе» служил синонимом «пуньялады» — удара ножом, поэтому, когда баратеро перед схваткой произносили: «vamos á echar un viaje», это значило «Ты отведаешь моего ножа!»[82].

Рис. 24. Флоретазо. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Против противника, который бросался в неподготовленные прямолинейные атаки, часто применялись «флоретазо» — удары, наносимые преимущественно в «парте альта», когда навстречу атакующему просто вытягивалась рука с навахой[83]. Для унижения противника и демонстрации технического превосходства над ним служили порезы лица, известные как хабек или чирло, о которых мы поговорим в главе о ритуальном шрамировании. Наводящим ужас ударом был легендарный десхарретазо, или подрезатель. Удар этот наносился на шагах или в клинче за линию плеч, в спину. Часто этот удар оставлял зияющую рану, через которую был виден эспиназо — хребет. Известны прецеденты когда при этом ударе перерубался позвоночник. Но при всей своей смертоносности десхарретазо требовал от навахеро высокого мастерства, так как при нанесении этого удара боец раскрывал защиту, и поэтому был высок риск получения ранения[84]. Удар или порез, наносимый по параболе справа налево, назывался плумада. Этот же удар, но уже нанесённый слева направо, носил название ревес. Надо сказать, что большей частью поединки на навахах состояли именно из размашистых секущих плумад и ревесов, в основном направленных в лицо противника.
Иногда в бою опытные соперники использовали технику «мулине» (не путать с тренировочным упражнением], в основе которой лежал резкий разворот вокруг оси[85]. Шарль Давилье, бравший уроки владения навахой, описывал «мулине» следующим образом. Один из дуэлянтов, приблизившись к противнику, внезапно поворачивался на правой ноге и при этом вытягивал правую руку, чтобы нанести ему ранение в плечо. Такой удар мог быть отражён только левой рукой, так как правая была поднята для удара. Давилье также отметил, что эта техника использовалась преимущественно в ближнем бою и обычно заканчивалась смертельным исходом[86].
Но технический арсенал навахерос не ограничивался лишь перечисленными видами ударов. В поединках всегда присутствовала немалая доля экспромта и импровизации. Кроме этого, как и в фехтовании на шпагах, у многих навахеро были свои фирменные «придумки». Теофиль Готье писал, что у каждого навахеро существовали свои секретные удары и техники и что адепты этого искусства по характеру ранения способны были определить нанесшего его мастера, как мы узнаём руку художник[87]. Возможно, это не было лишь красочной метафорой, так как о подобных «подписях мастера» упоминали и другие авторы. Так, например, Роуз в своей работе «Неисхоженная Испания» вспоминал, как однажды в больницу привезли мужчину с тяжёлым ранением от удара ножом. Один из городских стражников взглянул на рану, глубокомысленно кивнул головой и заметил, что ему прекрасно известно, чья рука нанесла этот удар. Когда его спросили, как он это определил, стражник ответил, что узнал владельца ножа по характеру и расположению ранения[88]. По ранениям узнавали не только навахеро, но и мастеров-оружейников, а также их изделия, которыми эти ранения наносились. Так, например, в «Дон Кихоте» Сервантеса в оружии, которым Монтесинос вырезал сердце своего приятеля Дюрандарте, Санча Панса узнал кинжал работы известного севильского мастера дона Рамона де Хосеса[89]. Также и Форд писал о том, что «любой, как правило, знает всех лучших оружейных мастеров».

Рис. 25. Десхарретазо. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 26. Мулине. Гюстав Доре, 1865 г.
Передвижения в бою совершались шагами, прыжками и отскоками. Опытный боец, прекрасно чувствующий дистанцию, всегда видел, когда ножу противника не хватает дюйма или даже полдюйма, чтобы достать его. Поэтому, когда оружие соперника ненамного проникало в его террено, достаточно было просто убрать находившуюся в опасности часть тела. Но если действия противника были непредсказуемы, то автор «Пособия» рекомендовал отскочить в сторону или назад, при необходимости совершив несколько прыжков. При этом, чтобы не споткнуться, передвигаться следовало на носках. Популярным способом атаки являлись так называемые хирос, или развороты. Так, при атаке с разворотом левая нога из фронтальной стойки зашагивала вперёд за правую, а правая сразу вслед за этим совершала аналогичное движение, но уже зашагивая вперёд за левую. В результате корпус атакующего разворачивался к противнику правым боком. Если во время выполнения «хирос» отсутствовала защита для левой руки, то, чтобы избежать ранения, использовались различные технические элементы, такие например, как «контрахирос». В этом случае защищающийся резко разворачивался на носке правой ноги, отшагивая левой ногой назад, и при этом резко выпрямляя перед собой правую руку с ножом[90].

Рис. 27. Защиты. Manual del Baratero, Мадрид, 1849 г.
Подобная техника контрахиро, или, как её называли итальянцы, «инквартата», прекрасно описана Проспером Мериме в «Кармен»: «Гарсия уже согнулся пополам, как кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял шляпу, чтобы отражать удары, нож выставил вперед. Это их андалузский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинулся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед ним оказалось пустое место; а я попал ему в горло, и нож вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подбородок. Я с такой силой повернул клинок, что он сломался. Все было кончено. Клинок вышиб из раны струю крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком на бревно»[91]
Позволю себе небольшую ремарку: прототипом для Хосе послужил реальный исторический персонаж — легендарный андалузский бандолеро Хосе Мария Хиньохоса и Кобачо, известный как «Эль Темпранийо», или «Король Сьерра-Морена». Эль Темпранийо, уроженец Малаги, бесчинстовал в горах Сьерра-Морена в первой четверти XIX века и был убит в 1833 году в возрасте 28 лет[92] Надо отметить, что Мериме, прекрасно знакомый с испанскими традициями и культурой Андалусии, очень точно описал стойки участников этого поединка, полностью соответствующие их отображению в «Пособии для баратеро» — и Кривого со шляпой в руке, и фронтальную стойку Хосе. Кстати, ещё задолго до выхода «Пособия для баратеро» стойка с высоко поднятой рукой для защиты от кинжала и использование в поединке шляпы для парирования ударов рекомендовались в изданном в 1805 году пособии Мануэля Антонио де Бреа «Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadín»[93].
Ещё одной фундаментальной основой искусства владения навахой были так называемые корриды, или пробежки, представлявшие собой атаку, проводимую по полукругу или своеобразной параболе с нанесением удара в высшей точке. При этом боец соблюдал дистанцию и сохранял фронтальное положение тела по отношение к противнику. Войдя с помощью корриды в террено соперника, он наносил любой из известных ему ударов. Защищались от коррид разворотом вокруг своей оси, прыжком в сторону или отскоком назад[94]. Такая же техника существует во многих сохранившихся традиционных школах фехтования на ножах в Италии. Там подобная манера атаки носит название «меццалуна» — полумесяц.

Рис. 29. Фронтальная стойка. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Рис. 30. Отбив ножа левой рукой. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Кроме уже описанных вариантов защиты использовалось сбивание вооружённой руки с последующим нанесением флоретазо, захваты за запястье, опять же с контратакой, и удары шляпой по руке с оружием. Ещё одним особо рискованным трюком был пинок по пальцам вооружённой руки. Автор «Пособия» предостерегал читателей, что промах тут крайне опасен и единственный вариант, позволяющий избежать в этой ситуации ранения, это броситься на землю, сопровождая падение ударом в пах противника. Среди излюбленных хитростей навахерос было, например, спрятать за спиной обе руки, чтобы противник не знал, в какой из них нож и откуда будет нанесён удар. При этом локтями боец совершал обманные движения, имитирующие начало атаки. Кстати, надо отметить, что среди дуэлянтов высоко ценилось умение свободно владеть навахой в любой руке. Эта манера прятать в поединке нож за спиной была стара как мир и использовалась бретёрами ещё в XV-XVI веках. Альфред Хаттон в своей книге «Меч сквозь столетия» писал, что когда использовался одиночный кинжал, то есть без какого-либо вспомогательного оружия и защитного снаряжения типа плаща или щита, то было принято перекладывать оружие из руки в руку. Нередко поединок часто начинался в стойке с оружием, спрятанным за спиной, чтобы противник не знал, какой рукой будет нанесён удар[95].


Рис. 31. Principios universales у reglas generales de la verdadera destreza del espadin. Мануель Антонио де Бреа, Мадрид, 1805 г.

Рис. 32. Уловка с падением. Manual del baratero, Мадрид, 1849 г.
Другой популярной уловкой было преднамеренное падение на колени, но выглядевшее так естественно, как будто боец случайно поскользнулся. Он тут же вскакивал и при этом молниеносно наносил удар ножом в пах, «что, — как заметил автор «Пособия», — «разумеется, требовало большой ловкости». Важным техническим элементом было заставить противника моргнуть, чтобы он на мгновение потерял соперника из вида. Автор «Пособия» для этого рекомендовал произвести отвлекающий манёвр, махнув перед лицом противника левой рукой или шляпой, и мгновенно нанести удар в парте баха. Один из путешественников, беседуя в 1874 году с неким молодым испанцем, спросил его, каковы местные особенности владения ножом. «Ну, — ответил тот с улыбкой, — главное — чтобы я мог вас убить, а вы бы меня не сумели». — «Хорошо, и в чём же разница между нами? С чего бы ты начал?» — «Ну, я бы заставил вас моргнуть и в этот момент нанёс бы вам удар» — «И как же ты заставил бы меня моргнуть?» «А вот так», — произнёс он, махнув левой рукой перед глазами автора. «Да, но ведь я мог бы сделать то же самое». «А вы попробуйте», — ответил испанец. Автор попытался заставить его моргнуть, но убедился, что это невозможно, хотя он несколько раз махнул рукой вверх и вниз, почти касаясь ресниц парня. Его чёрные глаза неотрывно следили за каждым движением. «Было ясно, что его глаза в отличии от моих были к этому привычны», — с досадой заключил автор[96]. Хочу отметить сходство этого тактического приёма с аналогичной уловкой в боксе. В этом спорте, чтобы ни на мгновение не терять противника из вида, также крайне важно умение не мигать и не реагировать на отвлекающие движения левой руки противника перед глазами.
Все удары у тирадоров делились на истинные — вердадеро и финты, или финихидо. Если вердадеро наносили для того, чтобы ранить противника, то финихидо лишь для отвлечения внимания. На практике это значило, что, показав удар в парте альте, на самом деле его наносили в парте баха и, соответственно, наоборот. Использовались и такие хитрости, как развязанный широкий пояс фаха, конец которого бросали под ноги противнику с тем, чтобы, когда тот наступит на него, дёрнуть пояс на себя и вывести его из равновесия. Этот совет из «Пособия» неоднократно подвергался резкой критике «знатоков» и высмеивался как абсурдная фантазия автора, и поэтому для его реабилитации позволю себе небольшой комментарий. Возникшее недоразумение связано с недостаточным знанием реалий и ритуальной доставляющей этих народных поединков. Разумеется, просто бросить конец пояса на землю и ждать, когда противник поспешит наступить на него, и в самом деле было бы абсурдом. Соперник должен быть слепым, патологически доверчивым или клиническим идиотом, чтобы попасться на такой примитивный трюк. Всё это верно. Однако, подобный элемент мы встречаем и в других ножевых культурах, например, в Аргентине, где потомки испанских переселенцев — гаучо в поединках спускали на землю край накидки-пончо.
Неужели и там у всех был атрофирован инстинкт самосохранения, иначе как аргентинским пастухам удавалось заманивать соперников на эту скользкую дорожку? На самом деле всё значительно проще — речь идёт об одном из многочисленных дуэльных ритуалов. В испанской традиции народных дуэлей намеренно опустить на землю конец пояса или пончо означало бросить вызов на поединок, а наступить на пояс — принять вызов. Ну а когда противник одной или двумя ногами уже стоял на поясе или пончо, дальше уже всё было делом техники. Мы ещё вернёмся к этому ритуалу в главе, посвящённой культуре народных дуэлей Аргентины.
Другим популярным трюком было утяжелить один конец пояса за счёт вшитых монет или камней и, улучив момент, попытаться захлестнуть и спутать им ноги противника на манер аргентинского болас, используемого гаучо. Кроме этого, можно было бросить в лицо противника шляпу, щепоть табака или горсть земли, наступить ему на ногу, пнуть в живот или сделать подножку, с помощью которой легендарный боец на ножах Монтес убил в поединках одиннадцать человек[97]. Можно было испуганно заглянуть противнику за спину, сделав вид, что там кто-то стоит, и тут же атаковать. Или просто отвлечь внимание, ткнув ему пальцем под ноги с криком: «Осторожно, не споткнись!»
Полковник Кроуфорд, ставший очевидцем поединка испанца с английским офицером, вооружённым саблей, описал одну из подобных уловок навахерос. Он вспоминал, что англичанин начал терять терпение и его отчаянная храбрость побуждала его положить конец схватке. Один из зрителей, старый тореадор, стоявший в толпе и внимательно следивший за поединком, заметил его нетерпение и сообщил другим зрителям, что офицер уже обречён. В этот момент всем показалось, что плащ соскользнул с руки испанца, и пока он неуклюже пытался его поднять, то на какой-то миг отвернулся от противника. Англичанин решил, что настал нужный момент, и бросился в атаку, намереваясь нанести сабельный удар в голову соперника, но вдруг вскрикнул и рухнул на землю. Оказалось, что падение плаща всего лишь служило уловкой, которая должна была ввести соперника в заблуждение, спровоцировать неосторожное движение и заставить его открыться. Приняв удар на плащ, навахеро одновременно с быстротой молнии рванулся вперёд на противника и нанёс ему распарывающий удар ножом снизу под рёбра с левой стороны. Сила удара, дополненная энергией прыжка, была такова, что наваха почти перерубила тело офицера поперёк живота так, что верхнюю и нижнюю половину туловища соединял только позвоночник, в то время как самого навахеро надёжно защитил сложенный в несколько слоёв шерстяной плащ[98].

Рис. 33. Дуэль на навахах. Франсиско Гойя, 1812–1820 гг.

Рис. 34. Метание навахона. Гюстав Доре, 1865 г.
Не обошло «Пособие для баратеро» вниманием и метание навахи, хотя автор уточнил, что этот обычай более распространён среди моряков. «Наваха, — писал он, — привязана к поясу длинным шнуром. Бойцы кидают ножи с поразительной точностью, безошибочно попадая в выбранную точку на груди или животе». Однако сам автор «Пособия» не рекомендует метать нож, мотивируя это тем, что «эти люди упражняются в метании ножей с детства, а у новичка высока вероятность промаха, что несёт для него высокий риск»[99]. Также и сэр Ричард Бёртон отмечал, что искусству метания ножа испанцы начинали учиться с детства[100]. Лучшими метателями ножей считались баратеро. Ричард Форд утверждал, что истинный баратеро может метнуть наваху в дверь через всё помещение так же быстро и точно, как выпущенную из ружья пулю[101] Ему вторит Давилье, восхищавшийся точностью, с которой испанцы бросали ножи и «пронзали ими тела неудачливых бойцов». Также барон был поражён и удивительной ловкостью, позволявшей андалусцам уворачиваться от летящих клинков[102]. Не оставил незамеченным метание навах и Василий Петрович Боткин. В «Письмах об Испании» он отмечал, что гранадские цыгане были известны ловким метанием ножей, которыми попадали в цель с дистанции, превышающей двадцать шагов[103]. Известный испанский теолог, Хосе Мария Бланко Креспо, более известный как, Джозеф Бланко Уайт, вспоминал, как однажды матадор Пепе Ийя, мгновенно убил быка, метнув ему в шею специальный обоюдоострый нож «пунтийа», или как его ещё называют «cuchillo de remate», обычно используемый в корриде или на охоте при добивании раненого животного[104]. Пунтийю зрители могли увидеть в экранизации цикла романов Артуро Переса-Реверте «Капитан Алатристе», где этим ножом орудовал сумрачный персонаж Вигго Мортенсена.
Одна глава «Пособия для баратеро» посвящена и такому экзотическому виду оружия, как ножницы — тихерас, или, как их называли цыгане, качас. Ножницы являлись преимущественно цыганским оружием, так как в Андалусии, как и повсюду в Европе, именно цыгане занимались торговлей лошадьми и работали стригалями, поэтому вполне естественно, что при необходимости они пускали в ход свой рабочий инструмент, всегда находившийся под рукой. Ну и, кроме этого, ножницы представляли собой прекрасный образчик легитимного оружия, что, учитывая суровые испанские законы, было немаловажным фактором. Закрытыми их использовали в поединках так же как и нож, или же удары наносились открытыми ножницами, оставлявшими две раны[105]. Также и Шарль Давилье упоминал о «tijeras» — огромных ножницах, около 60 сантиметров в длину, которыми стригали — «esquiladores» стригли своих коней и мулов и использовали в качестве оружия самозащиты. Барон также отметил, что оружие это в ходу преимущественно у цыган, хотя добавил ремарку, что «используют они его достаточно редко, так как цыгане в основном миролюбивы»[106].
Упоминание об использовании ножниц в поединке мы встречаем и в вышедшем в 1881 году сборнике текстов фламенко: «В одной руке у меня ножницы, в другой руке шляпа. Если ты Хуан Урбанеха, то я Мартин Фаранданго»[107]. Из этого отрывка мы видим, что и здесь ножницы использовались в комбинации со шляпой, как нож. Длинные и массивные ножницы XVI–XVIII веков, хранящиеся в музеях холодного орудия в Альбасете и Золингене, в сложенном виде напоминают скорее боевые кинжалы, чем безобидный хозяйственный инструмент, и, возможно, в своё время являлись грозным оружием в умелых руках. Прекрасные образцы этих испанских ножниц-кинжалов можно увидеть и на иллюстрациях к фундаментальному труду об истории ножевого производства, принадлежащего перу Камилла Пажа[108]

Рис. 35. Матадор добивает быка (фрагмент) («Тавромахия», офорт 9). Франсиско Гойя, около 1815–1816 гг.

Рис. 36. Цыган-эскиладор (стригаль). На поясе видны ножницы. Хуан Каррафа, 1825 г.
Немаловажным элементом испанских народных дуэлей являлось ношение дуэлянтами широкого пояса, или фаха. Без этого длинного красного шёлкового пояса, невозможно представить традиционный каталонский костюм. В «фаха» кроме ножа, испанские мужчины носили различные необходимые мелочи, такие как кошелёк, и трубочный табак. Но у каталонского пояса была и другая, более важная функция — предохранять бойца-диестро от ударов ножа. Одна из лекций «Пособия для баратеро» гласила, что «архиважное значение для диестро имеет ношение пояса вокруг талии, для того чтобы частично прикрыть живот и бока, и хоть в какой-то степени защититься от атак противника, особенно от таких опасных ударов, как десхарретазо и виахе»[109].
Навахерос прекрасно разбирались в человеческой анатомии и отлично знали, какие удары убивали, а какие только ранили, какие были более болезненны, а какие менее. Ричард Форд писал, что если в ту эпоху даже хирурги могли быть неопытными, не знать анатомии и не уметь пользоваться скальпелем, то простые люди в основной массе своей точно знали, как использовать нож и куда наносить удары. В том случае, если рана была не слишком глубокой и не широкой, «как церковная дверь», обычно говорилось: «Этот ещё послужит»[110].

Рис. 37. Ножницы в качестве оружия. Дуэль скорняка и портного, Йост Амман, 1588 г.

Рис. 38. Навахеро. El Siglo pintoresco, 1845 г.
А вот как испанскую манеру боя на ножах описал известный шотландский политик и дипломат Дэвид Уркварт, посетивший Испанию в 1848 году:
«Житель Севильи, которому я задал вопрос о частых убийствах, поразил меня, отрицая, что они случаются. «То, что вы слышали», сказал он, «это не убийства, а дуэли». «А как же ножи», возразил я: — он ответил, «Да, нож — это наше оружие; но мы не закалываем, мы фехтуем. У дуэли свои законы, и оружие, это наука». Я подумал, что возможно это фигуральное выражение для грубоватого определения кодекса чести, и попросил его продемонстрировать мне, в чём там заключается наука. «Я не специалист», ответил он, «но если вам интересно, я возьму вас к своему приятелю, которого вы могли бы нанять, так как он лучший боец в Севилье, а со смерти Монтеса, и во всей Андалусии». Я умолял немедленно отвести меня к yuecador, и был проведён во внутреннее помещение, наполненное тюками с контрабандным табаком. Чем мастер и зарабатывал себе на жизнь. Он отказался взять меня в ученики, хотя был не против дать мне пару уроков. При наличии у меня природных данных и при благоприятных условиях, обучению «фехтованию» заняло бы три месяца. Я предложил начать не откладывая, и на следующее утро на рассвете он пришёл ко мне в гостиницу, так как нам была нужна большая комната. В качестве «рапиры» использовался деревянный кинжал, длиной примерно в двадцать сантиметров, напоминавший древний нож для жертвоприношений. Нож удерживался плотно сжатыми пальцами, большой палец располагался вдоль клинка, а лезвие было повёрнуто внутрь.
Вокруг левой руки наматывалась куртка, используемая в качества щита. Мой учитель, принявший стойку, сразу напомнил мне сражающегося гладиатора. Начал он так: «Нож ты должен держать у бедра в правой руке, и никогда не поднимать, пока не будешь готов нанести удар. Финты должны начинаться глазами — глаза, рука и нога должны двигаться одновременно. Смотришь в одну точку, а удар наносишь в другую, и двигайся молниеносно, чтобы нанести порез: corta у huya — ударить и отскочить. Левая рука должна находиться высоко, правая, внизу, колени согнуты, ноги расставлены, ступни направлены вперёд, надо быть готовым отскочить назад или вперёд. Существует три пореза, три защиты и один укол — в нижний уровень, в живот, называемый «St. George au bas ventre». Порез должен идти поперёк плечевой или грудной мышцы, или достаточно низко, на уровне паха, так, чтобы выпустить кишки». Он ничего не знал о нашем фехтовании, был очень удивлён, когда я использовал его, и отметил, какие выгоды приносит обучение этому искусству. В результате, весь курс я прошёл за неделю. В последний день моего пребывания в Севилье он привёл двух мастеров, и мы устроили настоящее сражение, на котором в качестве зрителей присутствовали постояльцы гостиницы. Он похвалил меня, сказав, что опасался меня больше, чем своих двух товарищей, потому что я был подвижней одного, и наносил удары лучше другого.
Стойки, это предмет достойный изучения художника. Это совсем не застывшие позы и острые углы нашего фехтования, но собранные мышцы, сбалансированный корпус, — вместо того, чтобы следить за клинком, тут следят за глазами. Оружие спрятано за рукой и направлено вниз, так, что ни один луч света не упадёт на него. Тут нет боксёрских кулаков и кастетов, нет шлемов и кольчуг крестоносцев, нет римских мечей и щитов. Это выглядит так, как если бы руки человека приравняли к тигриным когтям или кабаньим клыкам. Скорее, это напоминало звериную схватку, чем бой людей. Там были танцующие шаги и сутулая поступь пантеры или льва, хотя, скорее, это была помесь змеи и лягушки, скользящая как первая, и прыгающая как другая.
После промаха правой, ловкий боец может перекинуть нож в левую руку, но когда этот трюк не удаётся, всё неминуемо заканчивается смертью. Метание ножа в противника запрещено правилами. После промаха соперника, можно внезапно бросившись вперёд, пригвоздить его стопу. Самой смертоносной из уловок считается сделать противнику подножку, и бросить его на землю. Плащ или куртка оборачиваются вокруг левой руки, и используются не столько для парирования ударов, как для сбивания предплечья вооружённой руки противника, чтобы его атаки не достигали цели. Защищающая рука оберегается от ранений, так как её повреждение оставило бы левую сторону открытой, а безопасность заключается в контроле вашего противника»[111].
Испанцы не зря придавали такое важное значение поясу фаха. Давилье предостерегал, что если бы пояс вдруг сполз или ослабел, то «тирадор мог оказаться в большой опасности, так как противник не преминул бы воспользоваться его тяжёлым положением»[112]. Популярность ударов в живот — виахес отмечали многие авторы. Например, Василий Боткин писал, что в народных дуэлях самым ловким ударом считалось разрезать живот до внутренностей[113]. Лицо и живот в качестве приоритетных целей указывали в своих фехтовальных трактатах и мастера XV-XVI столетий. Так, Эгертон Кастл, вспоминая известного фехтовального мастера XVI столетия Винченцо Савиоло, отмечал, что в своей работе Савиоло редко говорил об ударах в грудь и гораздо чаще — об ударах в живот и лицо. Лицо было желанной целью, так как оно наименее защищено, а также потому, что боль, залитые кровью глаза и кровавый привкус во рту вызывают страх[114]. Живот и пах всегда считались среди дуэлянтов «лакомым кусочком», и это тоже легко объяснимо. В брюшине, также как и в грудной полости, расположены внутренние органы, и её пронизывает множество крупных кровеносных сосудов. Но в отличие от грудной клетки, живот не защищён корсетом из рёбер, часто останавливавших и отклонявших клинок или менявших траекторию удара. Кроме этого, в истории дуэлей нередки были случаи, когда клинок застревал между рёбрами, оставляя дуэлянта безоружным.
Практически любое колотое ранение живота повреждало крупную артерию или паренхиматозный внутренний орган, что в обоих случаях вызывало массивное кровотечение в брюшную полость. Кроме этого, клинок вносил в брюшину инфекцию, что в условиях развития медицины той эпохи, учитывая отсутствие антисептиков и царившую антисанитарию, в большинстве случаев приводило к перитониту и практически не оставляло жертве шансов на выздоровление. Ведь не зря в 1799 году при составлении инструкции по штыковому бою для австрийских войск Александр Васильевич Суворов настойчиво рекомендовал колоть неприятеля «прямо в живот»[115]. А уж легендарный генералиссимус знал в этом толк. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский писал, что при обороне Севастополя русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а ударив, опускать приклад, так чтобы штык поднимался вверх, выворачивая внутренности. По свидетельству автора, таких раненых было бесполезно относить в госпиталь[116]. Поэтому не случайно после принятия первой Женевской конвенции 1864 года и создания в 1867 году Российского общества Красного Креста мировая общественность потребовала запретить применявшиеся преимущественно русскими штыковые удары в живот, порекомендовав заменить их ударами в грудь. Как прекрасно известно, брюшина эластична, и вследствие этого удар, нанесённый в живот даже ножом с небольшим клинком, мог оставить раневой канал, превышающий длину оружия в полтора, а то и в# два раза. Также стенка брюшины пронизана множеством нервных окончаний, благодаря чему любое ранение в живот очень болезненно.
Всё это было прекрасно известно ещё в античности. Не зря именно удары в живот предпочитали вооружённые короткими колющими мечами греки, спартанцы и римляне. Как правило, удар наносился снизу вверх, под нижний край щита. Подобная техника описана ещё в «Финикиянках» Еврипида, в поединке между Этеоклом и Полиником:
«Осев на ногу левую, свой щит приподнял он и правой сделал выпас..
А так как враг при этом не успел, подвинув щит, закрыться от удара,
Ему в живот уходит лезвие…Тот падает на землю, кровь ручьями
Из раны хлынула, а победитель-царь, считая бой оконченным, бросает
Кровавый меч и голою рукой доспех снимать с поверженного брата
Нагнулся, щит оставив на земле…»[117].
Аналогичную манеру нанесения ударов упоминает и Тит Ливий в описании легендарного единоборства между потомком древнего патрицианского рода Титом Манлием и галлом. Манлия, который был среднего роста, совершенно не смутил гигант-галл. Согласно Ливию, он взял большой пехотный щит и вооружился испанским мечом. Возможно, речь шла о принятом на вооружение римлянами коротком испанском, вернее, иберийском прямом мече «гладиус хиспаниенсис», более известном просто как «гладиус». Хотя, учитывая, сколько образцов вооружения Рим перенял у испанцев, не исключено, что под мечом Тит Ливий имел в виду другой, не менее популярный образчик иберийского оружия — использовавшийся в римской армии широкий кинжал, пугио[118] Но вернёмся к Титу Ливию. Далее произошло вот что:
«Когда бойцы стали друг против друга между рядами противников и столько народу взирало на них со страхом и надеждою, галл, возвышаясь, как гора, над соперником, выставил против его нападения левую руку со щитом и обрушил свой меч с оглушительным звоном, но безуспешно; тогда римлянин, держа клинок острием вверх, с силою поддел снизу вражий щит своим щитом и, обезопасив так всего себя от удара, протиснулся между телом врага и его щитом; двумя ударами подряд он поразил его в живот и пах и поверг врага, рухнувшего во весь свой огромный рост»[119].
Тит Манлий не стал глумиться над поверженным врагом, и только сорвал с его шеи трофей — ожерелье-гривну, торквес, за что и получил прозвище Торкват — Ожерельный. Под щит, в живот предпочитали бить своими кривыми сиками и фракийские гладиаторы. Благодаря дошедшим до нас многочисленным иконографическим источникам мы и сегодня можем увидеть большую часть технического арсенала гладиаторов. Так как искривлённая форма сики значительно ограничивала возможности нанесения ударов, то альфой и омегой техники траексов были нисходящие уколы через верхний край щита в шею или за ключицу, в подключичную артерию, и восходящие удары под нижний край щита, снизу вверх, в пах и живот. В первом варианте «клюв» клинка сики смотрел вниз, во втором — вверх.
Прекрасно видна подобная техника на датированном І-ІІ веками нашей эры терракотовом римском барельефе из Британского музея. На нём изображён поединок двух гладиаторов, фракийца и гопломаха, и фракиец запечатлён в момент нанесения гопломаху нисходящего удара сикой через верхний край щита. Фракиец, также готовящийся нанести подобный удар, изображён и на другом барельефе, найденном в Помпее, на месте, где находилась известная гладиаторская школа. Однако абсолютно те же технические элементы мы видим и на скульптурах и барельефах, изображающих солдат Рима. Так, на одном из подобных барельефов, украшающих колонну Траяна, мы видим римского солдата, который через верхний край щита по рукоятку вонзил кинжал за ключицу фракийскому воину. На другом изображении с этой колонны мы снова видим римского солдата, на этот раз бьющего фракийского воина, вооружённого боевым серпом-фальксом, под щит в живот, снизу вверх. Трудно сказать, привнесли ли эту манеру боя коротким клинком в Рим фракийцы или же сами переняли её у искушённых в воинском ремесле римлян. Хотя, скорее всего, подобная техника и тактика универсальны и всего лишь были продиктованы типом выбранного оружия и размером или формой щита.
На этом мы можем закончить исторические изыскания и вернуться с арен Рима в Испанию золотого века навахи и задаться вопросом, какое оружие держали в руках дуэлянты во двориках Севильи, Мадрида или Малаги. Итак, наваха. Легендарное оружие народных дуэлей. Этот нож многолик. Как следует из второго урока «Пособия для баратеро», называющегося «Имена навахи», среди людей, использующих этот нож, она была известна под разными прозвищами. Я перечислю только часть из них, так как в каждой испанской провинции существовали свои региональные названия. Так, в Андалусии её называли мохоса, чайра и теа, в Севилье те, что подлиннее, — лас дел Сантолио, а в гарнизонах, тюрьмах и среди мадридских баратеро она была известна как корте, херрамиенто, пинчо, хиерро, абанико, алфилер и под многими другими именами[120].

Рис. 39. Испанские ножи XVIII-XIX в. La Coutellerie depuis l’origine jusqu'a nos jours, Камилл Паж, 1896–1904 гг.
Ричард Форд в своём «Путеводителе по Испании» также упоминал и цыганские названия навахи — гланди, чуло, чурри, ла сердани, качас[121]. Словарь сленга андалузских цыган, «кало», приводит такие прозвища, как атакаор, балдео, серда, филосо, бачури, де тахамар[122]. у каталонцев она была известна как эль ганивет или каниф. Пераль Фортон приводит такие названия, как кабритера, чарраска, мачетона, перика. Существовали и игривые метафоры, такие как «корта плума» — «пёрышко» или «мондадиентес» — «зубочистка»[123]. В стихах испанских поэтов наваха являлась в различных метафорах то как «блесна»[124], то как «зарница смерти», или «смертоносная птица», которая, «вьёт гнёзда под левой грудью»[125].
Но, несмотря на обилие названий навахи, некоторые из них появились совсем недавно и являют собой продукт современной коммерческой мысли. Так, например, в работе «Севильская сталь» Джеймс Лорьега приводит такие названия навах, как каррака и севильяна[126]. Но в действительности о том, что термин «каррака» для обозначения навах существовал в XVIII-XІX веках, нет ни малейшего упоминания. Не существовало и какого-то особого эндемичного типа навахи, специфического именно для Севильи. В испанских музеях можно увидеть огромное разнообразие севильских навах различных форм, типов и размеров, которые невозможно систематизировать по каким-либо особым, характерным именно для Севильи признакам. Каррака же в переводе с испанского всего лишь означает трещотку. Видимо, Лорьега имел в виду, что навахи, замок которых имел особый храповый механизм, при открывании издавали специфический трещащий звук. И действительно, иногда эти ножи упоминались как «наваха с трещоткой». Французы, выпускавшие складные ножи с храповым механизмом, также называли их трещоткой, или «кра-кра». Но ни в одной специализированной работе по навахам это выражение в качестве общеупотребительного, специального или сленгового названия не встречается.
Все подобные навахи классифицировались в Испании как «navaja de muelle», или пружинная наваха, что обычно трактовалось как «складной нож с фиксатором». В испанских источниках каррака, кроме как в значении «трещотки», встречается только в трактовке небольших грузовых и торговых судов исламского происхождения, также известных как харрака[127]. В современном латиноамериканском сленге, особенно в мексиканской Тихуане, карракой, очевидно, за её скрипучесть, ещё называют тюремную кровать, так называемую шконку[128]. И тем не менее после выхода книги Лорьеги эти названия прижились и ныне широко используются негоциантами для придания своему товару романтического флёра и экзотического колорита, а бесконечные «карраки», «севильяны» и «малагеньи», бандитским «форсом» своих имён помогают поднимать продажи. Как и другой не менее популярный торговый артикль «бандолера». Хотя, любой посетитель Музея истории бандитизма в андалузском городе Ронда может удостовериться, что испанские бандолерос использовали огромное количество навах всевозможных типов и размеров, которые невозможно объединить в группу по какому-то конкретному характерному признаку.
Существует любопытная легенда, хотя и не связанная с ножами, которая гласит, что трещотки-карраки играли важную ррль в религиозных обрядах средневековой Испании, находившейся в тот период под мавританским владычеством. Согласно этой легенде, деревянные трещотки в виде ящичков на ручке с зубчатым колесом внутри выполняли функцию церковных колоколов, разбитых маврами. Но не исключено, что эта легенда имеет под собой реальную основу. Ахмед ибн Мохаммед аль-Маккари в своей работе об истории мавританских династий в Испании упоминает, что по приказу Мусы и на самом деле разрушали церкви и разбивали колокола[129] и, более того, в одной известной мечети бронзовые лампы были изготовлены из переплавленных колоколов[130].
Известный коллекционер и специалист по навахам, автор нескольких фундаментальных работ по испанским ножам маркиз Пераль Фортон утверждает, что первые упоминания о навахах встречаются в работах XIII–XIV веков. Так, например, среди основных источников он отмечает вышедшую в 1330 году книгу «Libro de buen amor», и изданную в этот же период «Conde Lucanor» Хуана Мануэля. Также он ссылается на цитату из датированной 1537 годом работы «Venesis Tribunal», которая звучит как «жестокой навахой вскрыл нежную грудь», якобы доказывающую бытование навах как боевых ножей[131] Но я считаю, что всё это лишь свидетельствует о существовании термина, но не о бытовании навахи в привычном для нас виде и трактовке. Хотя Фортон и утверждал, что слово «наваха» в значении «нож» использовалось уже в XII–XIII веках, однако я полагаю, что, вероятней всего, речь шла о бритве или скальпеле, так как вплоть до середины XVII столетия термин «наваха» применялся исключительно в этой интерпретации. В пользу моего предположения косвенно свидетельствует и приведённая фраза из «Venesis Tribunal» — возможно речь шла именно о хирургической операции.

Рис. 40. Каррака
Конкистадор Берналь Диас дель Кастильо в 1632 году писал, что индейцы в бою использовали двуручные мечи со вставленными остриями, которые он называл «эспадас де навахас» — бритвенные мечи. И в самом деле, самое популярное оружие Месоамерики, легендарная индейская палица — макуауитль, по обеим сторонам была усажена острыми как бритва прямоугольными осколками обсидиана[132]. А вышедшее в 1644 году пособие по псовой охоте и охоте с луком трактовало «навахас» как «кабаньи клыки[133] Но вскоре интерпретация этого термина начала меняться, и через шестнадцать лет испано-французский словарь, изданный в 1660 году, уже переводит «наваху» как «бритву»[134]. Хотя этот словарь всё ещё упоминает термин «навахас де хавали» в значении кабаньих клыков, но «навахаду» уже трактует в двух вариантах: и как ранение кабаньими клыками, и как удар бритвой. Впервые появляется слово «навахон», которое в этом словаре толкуется как «острый как бритва кинжал», или «штык»[135]. Как правило, в XVII–XIX вв. под этим термином понимали нескладную наваху. Или, точнее, большой кинжал или нож в форме традиционной для навахи.
Многие уважаемые и авторитетные исследователи, включая Пераль Фортона, ведут родословную народного ножа Испании именно от опасной бритвы. Так, Фортон считает, что трансформация латинского «новакула» («бритва») в «наваху» началась в XIII веке, перейдя в форму «навакула», затем «навалия» и только после этого окончательно приняв свой современный вид[136] Мне эта версия представляется достаточно стройной и неплохо аргументированной. В Средние века подобные бритвы являлись главным инструментом городских цирюльников, в чьи обязанности входили не только стрижка и бритьё клиентов, но и пускание крови, услуги дантиста, а также небольшие хирургические операции. Изображения этих архаичных навах можно встретить во многих европейских манускриптах XIII–XIV столетий. Так, например, лежащая на столе бритва-наваха изображена на иллюстрации к датированному 1382 годом труду по хирургии Роландуса Парменсиса. Такой же инструмент используется в качестве скальпеля на гравюрах к вышедшей в 1363 году работе знаменитого Авиньонского хирурга, Ги де Шолиака, «La Grande Chirurgie». Проведение хирургического вмешательства с помощью складной бритвы мы встречам и в более поздних источниках — например, на картине Яна Сандерса ван Хемессена 1555 года. В руках хирурга отчётливо видна предтеча и прототип грозного дуэльного ножа — складная бритва, описанная в медицинских трудах той эпохи, как «navaja de barba», или в просторечье «бритва цирюльника».
Рукоять бритвы на картине Хемессена идентична тем, что ставились на навахи в последующие три столетия — изогнутая, утончающаяся к хвостовику. И клинок, и рукоять типичны для опасных бритв и хирургических инструментов позднего Средневековья, которые можно увидеть в музеях Европы и справочниках-определителях — формой они напоминают нож с клинком «овечье копытце», известный ныне как нож моряка. Подобные складные бритвы-скальпели, датированные началом XIV столетия, также можно увидеть и в монографии Саймона Мура об истории производства складных ножей[137]. Складные бритвы, идентичные хирургическому инструменту изображённому на картине Хемессена, были подняты археологами и с затонувших в 1622 году испанских галеонов «Nuestra Señora de Atocha» и «Santa Margarita». Возможно, они использовались судовыми цирюльниками в качестве врачебных инструментов для оказания помощи морякам во время тяжёлых многомесячных переходов[138].
На иллюстрации к вышедшей в Париже в 1542 году работе известного итальянского юриста XVI столетия Джованни Андреа Алчиато «Emblematum И-bellus» — «Книга эмблем» аллегорическая фигура девушки, символизирующая «In Occasionem» — «Возможность», держит в руке наваху, именуемую в подписи к гравюре «novacula» — бритва. Художник изобразил инструмент цирюльника в знакомой нам канонической ипостаси — с так называемым «скимитарным» клинком, или выемкой на обухе в виде «щучки»[139]. Многие авторы, пишущие о навахах, крайне любят ссылаться на эту иллюстрацию в качестве иконографического источника, якобы свидетельствующего о бытовании подобных ножей в XVI веке. Такая же скимитарная наваха появляется и в издании 1634 года. Но, например, на иллюстрации к этому же изданию, вышедшему несколько ранее, в 1531 году, бритва в руке девушки имеет клинок трапециевидной формы[140]. В изданиях 1548 и 1614 годов «In Occasionem» уже сжимает в руке нечто напоминающее складной серповидный нож, известный как «садовый», а на изображении из «Emblematum libellus» 1618 года, мы снова видим бритву трапециевидной формы. Поэтому могу предположить, что форма ножа на иллюстрациях совершенно не связана с какими-либо реальными образцами и менялась произвольно, в зависимости от фантазии иллюстратора. Полагаю, что знакомый нам хрестоматийный облик традиционной навахи начал формироваться лишь в конце XVII столетия. Складные ножи той эпохи уже несли на себе большую часть элементов декора, который мы видим на испанских навахах и по сей день. Эти ранние навахи не редкость в коллекциях и часто появляются на торгах известных оружейных аукционов, таких, например, как Hermann Historica.

Рис. 41. Бритва цирюльника. Голландия, XV в.
Рис. 42. Наваха поднятая с испанского галеона Nuestra Senora de Atochа, затонувшего в 1622 г.

Рис. 43. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1542 г.

Рис. 44. Emblematum libellus (Книга эмблем), 1618 г.
Говоря о родословной навахи, я не могу согласиться с версией Пераль Форто-на о её эндемичном испанском происхождении. Думаю, в большей степени миф об испанской исключительности этого типа ножей обязан своим появлением испанским морякам эпохи Siglo de Ого — Золотого века Испании, устраивавших поножовщины во всех портовых тавернах Старого и Нового Света, а также стараниям художников и писателей костумбристов XIX столетия. Существенный вклад в формирование образа навахи как традиционно испанского ножа внесли и такие романисты, как Сальгари со своим «Чёрным корсаром» и Проспер Мериме, а затем и Бизе с бессмертными героями «Кармен». Хотя на самом деле складные ножи подобной формы и конструкции встречались уже и в имперском Риме I–II веков нашей эры и на драккарах викингов в VIII–IX веках. Как мы видим из манускриптов XIII–XV веков, не редкостью были эти «навахи» также и в Германии, Голландии, Италии и других странах Западной Европы.
Надо заметить, что считающийся каноническим клинок с выемкой на обухе, встречался на «боевых» дуэльных навахах значительно реже, чем это принято считать. Я думаю, что фиксация этого типа клинка в массовом сознании скорее обусловлена его популярностью не у дуэлянтов, а у иллюстраторов, театральных реквизиторов, а в последние десятилетия и у кинорежиссёров. Могу предположить, что далеко не последнюю роль в этом сыграли его хищный профиль и зловещий антураж. Подобные метаморфозы в своё время произошли и с легендарным ножом боуи, когда производители решили, что в маркетинговых целях следует изменить форму клинка незамысловатого прототипа, выглядевшего как заурядный кухонный нож, и придать ему более «опасный» вид.
Но порой, мирные «скимитарные» навахи резали не только хлеб или табак для самокруток. Некоторые из этих ножей выглядывали из-за пояса известных испанских бандитов, и благодаря своим прославленным владельцам даже вошли в историю. Так, например, в альбасетском «Museo de Lietor» хранится образец классической альбасетской навахи со «щучкой», принадлежавшей известному бандиту Рамону Гарсиа Монтесу, более известному как Рамон Рош, промышлявшему в этих местах в конце XIX столетия. Рош, родившийся в Монтеалегре-дель-Кастильо в 1833 году, славился среди местных жителей как романтический и щедрый герой. Как и большинство персонажей народного эпоса, он пользовался всеобщей любовью и уважением. Погиб Монтес в 1891 году от пуль гражданской гвардии и был похоронен в Лиеторе[141].
Когда в результате принятия в Испании безжалостных антиоружейных законов, пальму первенства перехватили фабрики Тьера и Шательро, то перед выходом на испанский рынок французские негоцианты, похоже, прекрасно знакомые с испанскими менталитетом и вкусом, сделали акцент на производство навах с клинком более зловещей и хищной «скимитарной» формы. Стараниями тьерских дизайнеров, почти половина клинка превратилась в жуткий шип с углом на обухе, выполнявшим функцию ограничителя. В результате этих метаморфоз, конструкция клинка стала напоминать «чуру» — нож афганцев из племён Хайберского перевала. Французская наваха марки «Валеро Хун» с подобным плотоядным профилем была верной спутницей ещё одного, не менее прославленного бандолеро Франсиско Лопеса Хименеса, известного как Кантильянский лодочник, он же, Андрес-лодочник или просто, Курро Хименес. Он родился в Кантильяне в 1819 году и слыл таким же романтическим героем и народным любимцем, как и Рош. В 1849 году Курро разделил судьбу своего соратника по нелёгкому ремеслу и был застрелен солдатами гражданской гвардии[142]. Почти через 150 лет после смерти он стал героем невероятно популярного телевизионного сериала, который шёл в Испании в 1976–1979 годах. Все испанские мальчишки играли в благородного и весёлого Курро, а магазины детских игрушек были забиты пластмассовыми копиями неразлучной навахи Андреса-лодочника. И испанское поколение 60-70-х, вспоминая детство, в первую очередь ностальгирует о пластмассовых навахах Курро.
Но предприимчивые и дальновидные оружейники из Тьера и Шательро решили не ограничиваться хищным профилем клинка и продолжили драматизацию антуража своих изделий, экспортировавшихся на рынок Испании и Латинской Америки. Следующим маркетинговым ходом стало придание навахе сходства со змеёй. Для этого достаточно было обыграть популярный девиз, традиционно гравировавшийся испанцами на клинках своих ножей, который гласил: «От укуса этой змеи нет противоядия». И сама вытянутая, изогнутая и сужающаяся к «хвосту» форма навахи просто взывала к подобной трактовке. Некоторые авторы считают, что для придания навахе большего сходства со змеёй её рукоятку французы стилизовали под форму, характерную для одной из самых опасных представительниц вида — гремучей. Так, верхняя часть больстера якобы изображала плоскую голову «гремучки», а хвостовик рукоятки, украшенный шариками, должен был символизировать печально известную трещотку на конце хвоста.
Кроме этого, для довершения образа на храповый замок навах стали добавлять зубья, что не имело рационального объяснения и не несло никакой практической нагрузки. Но зато благодаря этому новшеству теперь при отрывании наваха издавала грозный звук, сходный с тем, что издаёт с помощью трещотки на хвосте рассерженная змея. Этот тип рукояток навах так и называется во французской оружейной традиции — «queue de crotale» — «хвост гремучей змеи». Как писал в 1902 году аделаидский «Advertiser»: «Если наваха снабжена трещоткой, то при открывании она издаёт звук, напоминающий предостережение гремучей змеи. Это добавляет драматизма и демонстрирует любовь к хвастовству и позёрству, что так типично для испанцев»[143].

Рис. 46. Мавританская лампа. The Industrial Arts in Spain, Хуан Рианьо, 1879 г.
Иногда даже встречаются французские навахи, полностью стилизованные под гремучую змею. Хотя, согласно версии автора «Индустриального искусства Испании» Хуана Рианьо, ряд шариков на конце рукоятки навахи мог быть скопирован с традиционных мавританских масляных ламп, распространённых на Иберийском полуострове в период арабского владычества[144]. И действительно, судя по изображениям этих бронзовых ламп, не исключено, что именно они и послужили прототипом при декорировании навах, а французы просто воспользовались этим сходством, разыграв беспроигрышную карту столь любимого испанцами «смертоносного» антуража.
Но всё это не более чем предположения и, возможно, на самом деле этот элемент декора рукоятки имел совершенно другое происхождение. В пользу этих сомнений свидетельствуют и находки складных ножей раннего Средневековья в других странах Европы. Так, например, складной железный нож с бронзовой рукояткой, хвостовик которой стилизован в виде шарика, был найден в Оксфордшире (Англия). Возможно, что такая форма хвостовика была обусловлена простым копированием металлического наконечника ножен.
Формированию наводящего ужас смертоносного образа навахи способствовали и торговцы из бесчисленных оружейных лавок Испании. Так, подобную жутковатую презентацию товара описал в своих воспоминаниях российский офицер Николай Не-ведомский: «Альбацете, городок в Мурсии, славится по всей Испании ножами лучшего закала. Притом Альбасет с такими закоулками, что испанцу, купившему нож, не надо далеко идти, чтоб без опасения испытать на прохожем доброту своей покупки. Зайдите к продавцу ножей. Он разложит их перед вами целыми грудами различной длины и ширины и, если хотите, скажет вам, как употреблять нож сообразно его величине. Когда кабальеро дорого ценит свою кровь и не хочет больше видеть глаз своего неприятеля — какого-нибудь еретика, «нового христианина», то лучше не надо этого маленького ножа. Правда, он немножко больше перочинного ножика, но стоит только крепче схватить рукоятку и наровить концом в спину между плеч, он не повернёт головы, чтобы показать свои глаза тому, кто не хочет видеть его глаз. Этот маленький нож точно такой длины, какая нужна для того, чтобы при ударе в спину между плеч конец дошёл до сердца. О, я вижу, что кабальеро — старый христианин, не любит смотреть в спину своему неприятелю. Вот нож для удара спереди: только стоит его концом коснуться груди, повести руку вниз, и желудок у ног кабальеро! Притом эту наваху можно спрятать за пазуху, как сигару, но когда у кабальеро есть красавица со слабыми нервами, которой не нравится пазуха с ножом, тогда кабальеро может опустить его в сапог правой ноги, разумеется, рукояткой вверх, чтобы в случае надобности стоило только протянуть руку по шву и немножко наклониться… Может быть, кабальеро хочет прославиться в глазах католического короля и всех мадридских красавиц: вот наваха, которую можно смело скрестить с рогами андалузского быка… Может быть, кабальеро не любит, чтобы к нему на улице, на дороге, подходили слишком близко добрые и недобрые люди: вот наваха такой величины, что и старый христианин, увидя её рукоятку, торчащую из-за пазухи кабальеро, скорее возьмёт в сторону, нежели решится посмотреть, каков клинок у такой рукоятки»[145].
Очевидно, схожая практика продаж была достаточно широко распространена в Испании, так как и Ричард Форд писал в 1855 году, что, согласно местной поговорке, основное предназначение испанского ножа — это «резать хлебушек и людей». Когда испанские ножовщики расхваливали свой товар, то говорили: «Es bueno para matar» («Хорош для убийства»)[146].
Путешествовавший по Испании Эдмондо Де Амичис описал встреченных им как-то раз на вокзале продавцов ножей и кинжалов, которые предлагали туристам свой товар, так же как в Италии мальчишки предлагали газеты и прохладительные напитки. И сам Амичис и другие путешественники не удержались и приобрели себе ножи, и жандармы даже похвалили одного из них за хороший выбор при покупке. Он вспоминал, как мальчики толклись перед продавцами ножей и кричали: «Купи и мне такой!», а мамы им отвечали: «Я куплю тебе самый большой, но потом». «О, счастливая Испания!» — воскликнул я и с сожалением подумал о наших варварских законах, запрещающих невинное развлечение с небольшим холодным оружием», — с горечью писал Амичис[147].
Нередко наваха ассоциировалась у испанцев с пистолетом, и её не открывали, а «взводили». Так, по замечанию Форда, щелчок, производимый механизмом фиксатора при открывании ножа, был также приятен уху испанца, как для англичанина звук взводимого пистолетного курка[148]

Рис. 47. Продавцы ножей. Луис Эскобар, Альбасете, 1927 г.
Учитывая, что в первую очередь наваха была обычным бытовым ножом, использовавшимся для всевозможных хозяйственных нужд, соответственно и размеры её сильно варьировались. Так, например, Василий Петрович Боткин описал типичную наваху как складной нож с лезвием в форме рыбки и клинком длиной четыре вершка, то есть около 18 сантиметров[149]. Давилье писал, что длинное, остроконечное, как игла, лезвие навахи расширяется в средней части, напоминая по форме рыбу[150]. Также и согласно Пераль Фортону клинки большинства навах колебались в пределах тех же 18–24 сантиметров[151]. Что являлось стандартным размером для «navaja de defense», или «navaja de combat» — навах предназначенных для использования в дуэлях. Хотя, дуэльные образцы, которые мне довелось видеть у известного коллекционера холодного оружия месье Жан-Франсуа Лальяра, в закрытом виде достигали и 40–50 сантиметров в длину. Навахи же с клинками, превышавшими в длину 60 см, так называемые «navaja de muestra», или выставочные, несмотря на свой грозный вид практического значения не имели и украшали витрины оружейных лавок[152]. Для удобства манипуляции такими ножами их вес обычно снижался за счёт сужения клинков и утяжеления рукояток. Таким образом, выставочная наваха скорее выглядела как длинный стилет или как складная шпага. Большие «боевые» навахи получили остроумное прозвище «сантолио», или, вернее, «Санто Олео»[153]. Антонио Флорес писал в 1848 году, что существует некий вид навах, которые андалусцы называют del Santo Oleo, так как удар её клинка несёт мгновенную смерть и избавляет священника от необходимости совершать соборование умирающего[154].
Кстати, немало копий было сломано в ожесточённых дебатах по поводу реалистичности длины навах на изображениях из различных иконографических источников. Так, наибольший резонанс в своё время вызвало обсуждение известной гравюры Гюстава Доре, на которой изображён приготовившийся к поединку баратеро. Доре обвиняли в драматизации сценки с помощью навахи гипертрофированных размеров. Праведный гнев критиков был вызван якобы непомерной длиной ножа, который держал в руке навахеро[155]. Однако, если учесть, что средний рост андалузских мужчин середины XIX века был около 160 сантиметров[156], и соотнести его с размером ножа на гравюре, то выходит что длина клинка навахи у Доре составляла около 50 см. Хотя это несколько превышало типичные для боевых навах габариты, но и не являлось чрезмерной гиперболизацией.

Рис. 48. Дуэль на навахах «del santolio» (santo oleo). Гюстав Доре, 1865 г.
В 1853 году Теофиль Готье в своих путевых заметках об Испании писал, что длина навах колебалась от десяти сантиметров до метра и что некоторые махо таскали ножи, в открытом виде не уступающие по размерам сабле[157]. И Давилье, описывая размеры этих ножей, заметил, что некоторые навахи достигали более ярда в длину[158]. И речь шла явно не о выставочных декоративных образцах. Джозеф Таунсенд, посетивший Испанию в 1786–1787 годах, вспоминал, как его проводник приобрёл в одной из оружейных лавок Гуадикса наваху с сорокасантиметровым клинком, удерживаемым мощной пружиной. «И хотя я первый раз держал в руках подобное оружие, моё воображение тотчас же подсказало мне, в каких целях оно использовалось», — писал Таунсенд[159].
При обсуждении этой гравюры звучали и обвинения Доре в плагиате. В качестве доказательства приводилась картина испанского художника-костумбриста Антонио Медина Серрано, на которой изображена андалузская бытовая сценка, одним из персонажей которой является тот же самый баратеро, что и на гравюре Доре, но с одной разницей — его наваха значительно меньше. Обвинители художника утверждали, что именно у Серрано Доре и украл этот сюжет, для драматичности увеличив наваху. И действительно, оба баратеро похожи до мельчайших деталей, как однояйцевые близнецы. Но у этой теории есть одно серьёзное «но»: испанский художник Антонио Медина Серрано, известный под псевдонимом Антонио Медина, родился… в 1944 году, через 71 год после смерти Гюстава Доре.

Рис. 49. Бретёр с навахой. Гюстав Доре, 1865 г.

Рис. 50. Жители Кордовы. Гюстав Доре, 1865 г.
Если бы обвинители Доре удосужились взглянуть на биографию автора «первоисточника», то выяснили бы, что наш современник Серрано учился в Школе керамики, а затем в Школе изящных искусств Сан-Фернандо. Увлекался реставрацией живописи костумбристов XIX века, что нашло отражение в его собственных работах. В том числе в качестве образцов для подражания он использовал полюбившиеся хрестоматийные образы, как это и произошло с баратеро Доре. В 1983 году он открыл свою первую индивидуальную выставку, — серию полотен с жанровыми сценками из жизни Мадрида. Серрано работал преимущественно в фольклорном жанре, любовь к которому приобрёл в период реставрации картин Фортуна, Мадрасо, Хименеса Аранда и других мастеров XIX века. Таким образом, приходится констатировать, что не Доре увеличил, а Серрано уменьшил оружие баратеро. Тем не менее, это заблуждение продолжает жить и кочевать по различным изданиям. Так, например, мы можем найти эти два изображения вместе даже в работе Пераля Фортона «La navaja española antigua»[160].
Зная склонность испанцев к драматическим эффектам и их патетичность, можно было бы предположить, что одним приданием навахе сходства со змеёй всё не ограничится. Следующим на очереди элементом декора, предназначенным для привлечения экзальтированных покупателей, стали продольные бороздки на клинках, заполняемые красной краской, призванной имитировать стекающие по лезвию ручьи крови[161] Не один путешественник, побывавший в Испании, приобрёл наваху с клинком, украшенным «кровавой» гравировкой, подразумевающей запёкшуюся кровь, и с угрожающим мотто[162].
Мотто. Конечно же, этим ножам не хватало завершающего аккорда, вишенки на торте. Ими стали выгравированные и вытравленные на клинках высокопарные девизы, доставшиеся навахам в наследство от их грозных предшественниц — боевых шпаг. Некоторые авторы считают подобные гравировки исключительной привилегией «благородного» оружия нобилей, но это не более чем расхожее заблуждение. Даже столь популярный на клинках старинных толедских шпаг высокопарный девиз «No me saques sin razón ni me envaines sin honor», что значит «Не доставай меня без причины, не прячь без чести», перекочевал на навахи. Кстати, саблей с толедским клинком, украшенным подобной гравировкой, был вооружён печально известный генерал Кастер, погибший в сражении с объединёнными силами индейцев в битве при Литл-Бигхорн в июне 1876 года[163]. Вот лишь небольшая часть подобных девизов на навахах, которые приводит Пераль Фортон:
«Viva mi dueno!» — «Да здравствует мой господин!» («Слава моему господину!»);
«Viva el honor de mi dueno!» — «Да здравствует (славься) честь моего господина!»;
«Viva el valor de mi dueno i senor!» — «Славься доблесть моего господина и хозяина!»;
«Vivan mis duenos valerosos, que quien solo a mirarlos se atreviere sen, mis colmillos venenosos!» — «Да здравствуют мои отважные хозяева! Кто осмелится взглянуть на них, почувствует мои ядовитые клыки!»;
«Viva la libertad!» — «Да здравствует свобода!»;
«Viva Figueras!» — «Да здравствует Фигерас (город в Каталонии)!»;
«Viva el amor!» — «Славься, любовь!»;
«Soy de ипо solo» — «Я принадлежу лишь одному»;
«Soy de mi dueno у senor» — «Я принадлежу моему владельцу и господину»;
«Defensa de mi dueno» — «Защищаю своего господина»;
«Soy defensa de mi dueno» — «Я защищаю своего господина»;
«Soy defensa del honor de mi dueno» — «Я защищаю честь своего господина»;
«Soy defensa de mi dueno i senor» — «Я защищаю своего владельца и господина»;
«Soy de mi dueno, a quien sirvo» — «Я принадлежу моему владельцу и служу ему»;
«Soy defensora de mi dueno solo у viva» — «Я защитница своего хозяина»;
«De mi dueno sola» — «Принадлежу только владельцу»;
«Si esta vibora te pica no vayas por unguento» — «Если эта змея ужалит, припарки не помогут»;
«Si esta vibora te pica no acudas a la botica» — «Если эта змея ужалит, аптека уже не понадобится»;
«Si esta vibora te pica no vayas por unguento a la botica» — «Если эта змея ужалит, аптечные припарки не помогут»;
«Al que esta sierpe, рог azar, le pica, que no busque remedio en la botica» — «Если вдруг эта змея ужалит, не найдёшь противоядие в аптеке»;
«Sinо а ипа dama» — «Я служу даме»;
«Prendida еп la liga defiendo a mi senora» — «Затаилась за подвязкой и защищаю свою госпожу»;
«No те abras sin razon ni mi cierres sin honor» — «Не раскрывай меня без повода, не складывай без чести»;
«El que desnuda у еп accion те viere, prevenga testamento у sepultura, que mi hoja siempre mala cuando hiere» — «Когда меня достанут и пустят в ход, готовь завещание и могилу — мой клинок не знает пощады»;
«El hombre propone у Dios dispone» — «Человек предполагает, а Бог располагает»;
«Soy sola para cortar» — «Я только для пореза»[164].
Ричард Форд пишет, что, когда в 1820 году распалась испанская империя, роялисты гравировали на своих ножах девизы: «Peleo a gusto matando negros», а на обороте — «Миего рог mi Rey» («Убийство мерзавцев — это удовольствие!», «Я умру за моего короля!»). Выражения «negros» и «carboneros» использовались в Испании для обозначения бесчестных политиков[165].
Но навахи славились не только экзотическим видом и патетическими гравировками — нельзя не упомянуть и высокое качество испанских клинков. Пераль Фортон отмечал, что важнее всего был материал, используемый для изготовления клинка, его обработка, качество — например, великолепная сталь из Мондрагона[166]. Проверка качества клинка навахи, как правило, была очень тщательной, но, конечно же, это зависело от способностей кузнеца. Например, высококвалифицированные кузнецы с хорошей репутацией из Альбасете, чтобы продать нож, должны были пробить монету, не повредив остриё ножа[167]. Также и Петерсон в своих «Кинжалах и боевых ножах Западного мира» писал, что, несмотря на низкое происхождение и предназначение этих ножей, сталь их была прекрасной и отличалась хорошей закалкой[168]. Качество стали навах отмечали многие авторы, побывавшие на Пиренеях в XIX веке. Посетивший Испанию русский офицер писал: «Вообще эти ножи худой работы, но драгоценны по своему закалу — трудно притупить конец такого ножа, который прорезывает с одного раза немелкую серебряную монету»[169].
Несмотря на прекрасную закалку своих ножей, испанцы обращались с ними бережно, старались лишний раз не использовать «всуе» и предпочитали не давать в чужие руки. Воевавший несколько лет против Наполеона бок о бок с испанцами корнет второго волонтёрского казачьего полка барона Боде Николай Неведомский вспоминал: «Испанец не отрежет своим ножом куска мяса, ломтя хлеба — он бережёт свой нож против человека. И в голоде, бывало, испанец сперва несколько раз подумает, а потом уже решится своим ножом отрезать себе хлеба или мяса. Угрюмое non, caballero! Или ругательное carajo! были ответом русскому, попросившему ножа со всей бивачной учтивостью»[170].
Как я уже упоминал, Пераль Фортон утверждает, что наваха — специфическое и характерное только для Испании оружие, имеющее эндемичное испанское происхождение, и что навахообразные ножи начало шествие по миру именно из Испании. Насчёт эндемичности и уникальности не соглашусь, однако приходится констатировать, что и действительно, до XIX века это оружие не было особо распространено в других уголках Европы или в Азии. Хотя уже в XVIII веке типично испанские навахи производились в Англии, Германии, Франции, Португалии, Италии, Югославии и Греции. Правда, в Северной Африке её не знали. В Латинской Америке, и особенно в Мексике, наваха была широко известна, так как многие испанские оружейники, особенно выходцы из Толедо, когда в Испании кузнечное искусство пришло в упадок, решили попытать счастья в Новом Свете. Производились навахи и на Апеннинах. Хотя навахи выпускались и в некоторых других регионах, но особой славой пользовались ножи, изготовленные в испанских провинциях Альбасете, Альмерия, Куэнка, Мурсиа, Толедо, Барселона и Сарагоса. В Новом Свете наваха появилась в конце XVI века. В Пуэбло-де-Лос-Ангелос в Мексике в этот период процветало производство холодного оружия, основанное оружейниками с Пиренейского полуострова, работавшими согласно традициям и обычаям толедских мастеров прошлого[171]. Куда только не закидывало испанские навахи, и какие только причудливые формы они не принимали вдали от родины! Так, Камил Паж в своей работе описывает навахи боснийского и турецкого производства[172]. В Узбекистане местные версии каталонской навахи известны под именем чол гюзар. И большинство дуэльных ножей соседней Италии несёт на себе явные следы испанского влияния.
И в заключение пара слов о нескладных ножах, использовавшихся в поединках, — кучийо, пуньялах и навахонах. Давилье писал, что испанский кинжал крайне напоминал корсиканский стилет, клинок его иногда имел множество отверстий, а лезвие было зазубрено с таким расчётом, чтобы оставить более опасную рваную рану. Кинжал был излюбленным оружием моряков и преступников, и от навахи он в первую очередь отличался тем, что использовался преимущественно для уколов. У испанского кинжала была короткая и толстая рукоять, формой напоминающая яйцо, и обоюдоострый или четырёхгранный клинок[173]. Согласно «Пособию для баратеро», техника владения кинжалом была практически идентична той, что использовалась при работе навахой, и не имела каких-то особых специфических нюансов, поэтому подробней останавливаться на ней мы не будем[174].
По мнению некоторых авторов, таких как Пераль Фортон, декор испанских ножей XVIII-XIX веков несёт на себе следы вестготского и мавританского влияния, что особо заметно в украшении рукояток[175]. О мавританских мотивах в испанском оружии упоминает и Хуан Факундо Рианьо в своей книге «Индустриальное искусство Испании», изданной в 1890 году. Так, например, он писал, что в Альбасете находилось несколько производителей оружия, славящихся своей закалкой ножниц, кинжалов и ножей, форма клинков которых не может скрыть мавританское происхождение. Изгнав морисков, испанцы сохранили их производства, и нередко можно встретить ножи и кинжалы, изготовленные в католической Испании в конце XVIII века, но которые, тем не менее, покрыты арабскими надписями и стихами из Корана. Так, Рианьо как-то попал в руки подобный кинжал, на одной стороне которого была гравировка на арабском: «Я непременно убью своих врагов с помощью Аллаха», а на другой: «Фабрика навах Антонио Гонзалеса, Альбасете, 1705»[176].
Нельзя сказать, что правителей Испании не беспокоил задиристый и строптивый характер подданных, их страсть к независимости и привычка решать все проблемы ударом ножа. Пока королевские эдикты не лишили простых испанцев права на ношение оружия, у законодательной власти не было и нужды издавать какие-либо особые указы, направленные на борьбу с ножами, а следовательно, и с дуэлями на них. Но вскоре всё изменилось. Можно смело сказать, что вся истории Испании Нового времени — это бесконечная череда попыток испанских монархов обуздать буйный нрав своих несговорчивых и темпераментных подданных, которые в свою очередь старательно избегали монаршей опеки и заботы, ревниво оберегая свои древние привилегии.

Рис. 51. Испанский охотничий нож. Armi bianche dal Medioevo all'eta moderna, Флоренция, 1983 г.
Первым шагом, призванным регулировать производство и оборот холодного оружия, а также работу ремесленных гильдий, изготавливающих это оружие, очевидно, можно считать 38-й, 39-й, 40-й и 41-й законы Устава Саламанки, принятые в правление первого испанского монарха из Бургундской династии, короля Кастилии Альфонсо VII, правившего с 1127 по 1157 год. Среди запрещённых к ношению предметов, таких как мечи и копья, законы уже упоминают и «cochiello con pico», или, в переводе со старокастильского, «остроконечные ножи»[177].
В последующие годы указы и эдикты, регулирующие оборот различных образчиков холодного оружия, издавались достаточно редко, порой их разделяли десятки лет и даже столетия. Так, подобные монаршие указы появлялись в 1420,1512,1527 и 1591 годах. Но эти ордонансы не столько уделяли внимание дуэльным забавам кабальерос, сколько регулировали и регламентировали работу производств и гильдий оружейников, как, например, изданный Карлосом II указ о Толедской гильдии оружейников от 1689 года[178].
Началом вяло тянувшейся с переменным успехом, то затухавшей, то разгоравшейся, то либеральной, то предельно жестокой, многовековой кампании по разоружению испанцев, вероятно, можно считать закон, изданный на одном из Канарских островов, Тенерифе, входившем в испанскую юрисдикцию. Этот принятый в 1707 году закон гласил, что «запрещено носить холодное оружие в здании муниципалитета, в мясной и рыбной лавке, в доме терпимости или играя в шары». Маврам же, неграм и рабам позволялось иметь только затупленные ножи не длиннее пяди, то есть восемнадцати сантиметров[179].
После этого испанских законодателей прорвало. Возможно, причиной стало то, что с 1700 по 1715 год Испания находилась под сильным французским влиянием, а французская исполнительная власть, в отличие от испанской, как мы увидим в следующих главах, прекрасно умела наводить порядок и жёстко контролировать соблюдение законов. Следующий эдикт увидел свет всего через 14 лет. Монарший указ основателя испанской линии Бурбонов, Филиппа V, изданный в Лерме 21 декабря 1721 года, гласил, что на всей территории Испании запрещено использование ножей и кинжалов, а при поимке виновные в нарушении сего указа будут приговорены к 30 дням тюрьмы, 4 годам ссылки и 12 дукатам штрафа[180]. А меньше чем через год, в 1722 году, Совет Кастилии дополнил этот указ следующей фразой: «Мастерам-оружейникам предписывается не изготавливать ножи и ломать уже готовые»[181]!
Этот указ ударил по кинжалам, а также нанёс серьёзный урон производству столовых приборов. Джозеф Баретти отметил, что Филипп V под страхом жестоких наказаний запретил каталонцам носить ножи и использовать любые другие виды оружия. Даже на обеденном столе им разрешалось иметь не более одного столового ножа, да и тот должен был быть прикован к столу железной цепочкой[182]. Также и Джон Адамс писал в своих путевых заметках о каталонцах, что среди прочих ограничений им было запрещено носить традиционные шляпы, белую обувь и большие коричневые накидки. Кроме этого при свете дня они не осмеливались носить какое-либо оружие — в каждой таверне был один-единственный нож, прикованный цепью к столу, так чтобы все могли его использовать[183]. Могу предположить, что эта драконовская мера являлась следствием подавленного в 1714 году восстания каталонцев, о которых Боткин сказал, что они «tienen mucho valor у gran gusto рог las batallas» («очень храбры и большие охотники до сражений»). Также после этого восстания их лишили всех привилегий[184].
Не успели оружейники Толедо и Альбасете схватиться за голову, подсчитывая убытки, как законодатели нанесли очередной удар, на этот раз по покупателям их продукции. Королевский указ от 19 марта 1748 года запрещал на всей территории Испании такое оружие, как кинжал, трёхгранный стилет, наваха, дага, ножи с большим и маленьким фиксированным клинком и карманные ножи. Если преступник был благородного происхождения, то его приговаривали к 6 годам тюрьмы, а если низкого — то на тот же срок к каторжным работам в рудниках. Такие же наказания распространялись и на мастеров-оружейников, хозяев магазинов, торговцев и даже старьёвщиков, а уже изготовленные ножи должны были быть затуплены или вывезены из Испании. Эти кары также распространялись и на поваров, слуг, экономов и кучеров в случае их появления с оружием вне службы[185].
По формулировкам этих законов можно проследить всю эволюцию оружия, использовавшегося в народных дуэлях. Закон от 13 марта 1753 года запрещал как маленькие, так и большие остроконечные навахи, в которых применялась пружина или поворачивающееся кольцо, секретный или другой механизм, обеспечивавший удержание клинка в раскрытом виде. А также остроконечные ножи любого типа и размера, охотничьи ножи и любые другие виды ножей, превышающие в длину четыре пяди, включая рукоятку[186].
Вышеупомянутый королевский указ также дополняет, что «они бесполезны для защиты, но зато прекрасно подходят для нанесения вероломных ранений»[187]. Но как показывают дальнейшие события, сей указ особого влияния на падение показателей «вероломных ранений» не оказал, так как следующего долго ждать не пришлось. Уже в 1757 году появляется очередной, ещё более драматичный королевский ордонанс, очевидно, призванный вразумить тех, на кого пассаж о «вероломстве» не произвёл должного впечатления. В дополнение к своему предтече он сообщал, что «запрещённое холодное оружие служит только для предательских убийств и нанесения тяжелейшего вреда общественному спокойствию»[188].

Рис. 52. Наваха, нож и ножницы — оружие вора. Los Españoles pintados рог sí mismos, Мадрид, 1843 г.
Согласно мнению Рафаэля Мартинеса дель Пераль Фортона, самым полным и важным указом о холодном оружии является королевский ордонанс Карлоса III, продиктованный им в Аранхуэсе 26 апреля 1761 года. По этому указу можно оценить крайнюю заинтересованность королевской власти радикально покончить с кровавыми преступлениями, совершаемыми холодным оружием. Указ гласил, что независимо от того, имеется ли у кого-либо позволение от королевского министерства финансов, позволяющее исключительное использование оружия, на холодное оружие это разрешение не распространяется[189]. Несколько последующих указов о жёсткой регуляции оборота холодного оружия издаются в период с 1771 по 1780 год[190].
Как то раз, Франсиско Антонио де Элисондо, прокурор канцелярии Гранады, будучи на аудиенции у короля Карлоса III, выразил удивление «множеством вероломно причинённых смертей и ранений», ежедневно случавшихся в Испании. Тщательно изучив причины этого непотребства, он пришёл к заключению, что это было не чем иным, как «массовым злоупотреблением ножами, кинжалами, навахонами и другим клинковым оружием». Далее Элисондо сетует, что ему «больно видеть это оружие в руках невинных юношей, которые должны являться гордостью нашей религии»[191]. Очевидно, «гордость религии» не прислушалась к упрёкам обуянного праведным гневом чиновника, так как через пару лет после изысканий сеньора Элисондо выходит очередной королевский эдикт Карлоса III от 2 апреля 1783 года, который скорее напоминает обличительную проповедь пастыря, чем суконный язык и казённые формулировки закона: «Нарушающие общественное спокойствие преступники объединены в многочисленные банды… Они живут кражами и контрабандой, предавая всех насилию и смерти, не жалея даже самого святого, и при сопротивлении, оказанном войскам с использованием холодного оружия, бандиты, контрабандисты и грабители будут приговариваться к пожизненному заключению»[192].
А через два года монарх неожиданно вспомнил ещё об одном не учтённом эдиктами ноже, которому судьбой было предначертано стать не меньшей легендой, чем наваха — фламенко.
1 июня 1785 года выходит указ, согласно которому на территории Кастильского королевства запрещался ввоз и использование ножей фламенко, давался год на вывоз уже находящихся в обращении и ещё три месяца, чтобы затупить их на испанских фабриках[193].
А вскоре законодательную власть Испанию начинает лихорадить и бросать из крайности в крайность. 7 мая 1808 года исполняющий обязанности председателя Совета Кастилии Антонио Ариас Мон и Веларде издаёт крайне либеральный указ, определяющий виды оружия, разрешённые к обращению в Испании. Из этого указа следовало, что граждане, принадлежавшие к любому из классов, могли использовать плащи, монтеры, шляпы, любую традиционную одежду, маленькие шпаги, складные ножи для резки табака и хлеба, нескладные ножи, ножницы, бритвы, а также другие инструменты[194]. Интересно, что наряду с ножами этот указ упоминает и традиционные плащи и шляпы, которые несли определённую символическую нагрузку поскольку являлись частью дуэльной культуры, а следовательно, с точки зрения законодателей представляли не меньшую опасность. Всего через два года в недатированном постановлении правительства (его относят к 1810 году) по всей Испании под страхом четырёхлетнего тюремного наказания запрещалось изготавливать ножи, а также режущие и колющие кинжалы, вместе с лезвием и рукояткой превышающие в длину 21 см[195].
Очевидно, под давлением лобби производителей происходит постепенная либерализация законодательства, регламентирующего оружейную промышленность. В первой статье подзаконного акта полицейского управления от 12 июля 1812 года, регулирующего производство и продажу ножей, говорилось: «Запрещено производство холодного оружия и торговля им, если на то не имеется специальной лицензии, и только профессиональные мастера-оружейники имеют право разрабатывать, изготавливать холодное оружие и продавать его тем, кому позволяет закон. Разрешено продавать холодное оружие только лицам, имеющим надлежащую лицензию, а также прапорщикам, сержантам и офицерам испанской армии»[196].
А вскоре опять начинается новый виток репрессивных мер в отношении ножей, и явно прослеживается тенденция ограничить право ношения подобного оружия исключительно служащими силовых ведомств. В акте от 1 декабря 1833 года королевский губернатор настаивает, чтобы ножи находились исключительно во владении служащих полиции, армии и официальных военизированных формирований. Также он требует, чтобы «посредством королевского указа всё оружие было собрано, увезено и хранилось в безопасном месте»[197].
Но даже применение холодного оружия государственными чиновниками было жёстко регламентировано. Так как сотрудники полиции носили холодное оружие, министр юстиции Изабеллы Второй в указе от 25 января 1845 года разрешил им применять его только в случаях выполнения обязанностей по поддержанию общественного порядка, при преследовании преступников, их конвоировании, а также для охраны государственного имущества[198].

Рис. 53. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
Далее наступает фаза очередной оттепели, и королевский указ от 1868 года снова разрешает использование любых ножей владельцам ферм, а также управляющим, кучерам, слугам и пастухам, заслуживающим доверия[199]. Трудно сказать, какими были критерии для определения категории лиц заслуживающих доверия. Мне видится длинная очередь за навахами в оружейном магазине, состоящая исключительно из андалузских бандитов, одетых в костюмы слуг, кучеров и пастухов, с аккуратно подстриженными баками и добрыми улыбками на открытых, заслуживающих доверия лицах. Но власть снова штормит, происходит очередной оверштаг, и статья 11 королевского указа от 10 августа 1876 года уже гласит, что холодное оружие могут использовать только государственные служащие Испании, муниципальная полиция и пограничники[200]. И даже внутри подразделений, которым ношение холодного оружия было разрешено законом, существовали дополнительные внутренние нормативы и правила. Так, в пособии для Национальной гвардии запрещалось всё холодное оружие, и особенно навахи, трости-шпаги, стилеты, кинжалы и другие подобные ножи[201]
Эта бесконечная разрешительно-запретительная свистопляска порядком всем надоела и в министерство внутренних дел поступали многочисленные запросы о том, какие же виды оружия всё-таки запрещены в Испании. Чтобы впредь избегать разночтений, был издан королевский указ от 9 ноября 1907 года, уточняющий, что запрещены шпаги и пики, замаскированные в трости, или другое скрытое холодное оружие. А кинжалы любого типа, навахи длиннее 15 см в раскрытом виде и охотничьи ножи могли продавать только лицам, предоставившим лицензию[202]. Также этот королевский указ оставлял на усмотрение властей принятие решения, действительно ли человек, носящий нож, нуждается в нём и использует его в своей профессии, работе или ремесле, существует ли необходимость носить его постоянно или только от случая к случаю, в зависимости от обстоятельств. Особо это относилось к тавернам, общественным заведениям, и местам для отдыха и развлечений. Также это касалось лиц, которые уже были осуждены за незаконное использование оружия[203].
Тяжёлым ударом, практически катастрофой, стал для оружейной промышленности Испании указ, изданный министром внутренних дел Хуаном де ла Сиерва и Пеньяфиель в 1908 году.
Вот как 30 декабря 1908 года описала это событие «Нью-Йорк Таймс»: «Классическая наваха, без которой немыслима романтика испанской жизни и которую традиционно носят все сёстры и братья прекрасной Кармен, обречена на исчезновение. Министр внутренних дел сеньор Ла Сиерва только что издал указ, запрещающий продажу или использование любых остроконечных ножей, кинжалов или стилетов, обладающих клинком длиннее шести дюймов».

Рис. 54. Ирис № 142, Барселона, 25 января 1902 г.
В результате после выхода этого указа сохранились только такие неромантичные предметы, как столовые ножи, ножи для резки бумаги и перочинные ножики. По приказу министра полиция провела конфискацию запрещённого к обороту оружия одновременно во всех городах Испании, и не только на улицах, но и в магазинах, занимавшихся его продажей. В результате этой акции только в течение одного дня полицейские захватили более четырёх тысяч единиц холодного оружия в Мадриде и три тысячи в Барселоне. Количество холодного оружия, конфискованного по всей стране, было огромным. Разумеется, проведение этой операции сопровождалось протестами — как со стороны производителей, так и со стороны торговцев, чей бизнес понёс невозместимые убытки. Прямо на глазах одного из мадридских торговцев было конфисковано всё содержимое его склада на сумму 40 000 песет, что являлось огромной суммой.
Несмотря на риск дипломатического скандала, потери понесли даже иностранные торговцы. Наиболее пострадавшим регионом стал Альбасете, где на тот момент круглогодично работали 52 больших магазина. Что касается Толедо, то фабрика в основном выполняла военные заказы, а производство легендарных клинков было перенесено в Альбасете. Ходили слухи, что для спасения этого старинного производства на министра оказывали огромное давление, но он устоял. Также пострадала и Барселона, так как основной статьёй их дохода был экспорт шпаг, замаскированных в тростях. Несмотря ни на что, сеньор Ла Сиерва не испытывал недостатка в поддержке своего решения. Хотя некоторые критики проводимой министром реформы и считали, что единственным результатом его последнего указа будет замена навах револьверами[204].
Почтовая служба Испании, занимавшаяся не только почтовыми отправлениями, но и перевозкой ценностей, часто становилась объектом нападений и ограблений по всей стране и являлась излюбленной мишенью бандолерос всех мастей. Поэтому циркуляр от 27 января 1909 года гласил, что «почтовые чиновники должны использовать холодное оружие в рамках возложенных на них служебных обязанностей по обеспечению безопасности почтовых перевозок[205].

Рис. 55. Кинжал в распятии. Criminal man. Чезаре Ломброзо, 1911 г.
Не обошли вниманием законы и слуг божьих, и в статье 138 канонического кодекса 1917 года говорилось, что «священнослужители должны воздерживаться от использования холодного оружия, если нет серьёзной опасности или если это не происходит на охоте»[206]. Очевидно, у законодателей были веские основания полагать, что не у одного священника под сутаной была спрятана альбасетская наваха. На подобные греховные мысли наводит и встречающееся в европейских музеях замаскированное оружие в виде кинжалов испанской работы, спрятанных в распятиях[207].
Отголоски королевских ордонансов трёхсотлетней давности встречаются и после Первой мировой войны. В соответствии с королевским указом от 20 марта 1923 года, холодным оружием, запрещённым на территории Испании, стали национальные испанские кинжалы, шпаги, большие навахи с фиксаторами и охотничьи ножи[208] Но традиционный театр абсурда на этом не заканчивается, и свету является свод законов, утверждённый королевским указом от 4 ноября 1929 года и регулирующий производство, продажу, использование и хранение холодного оружия на территории Испании. Согласно этому закону, из списка оружия, запрещённого к обороту, были исключены ножи, изготовленные более ста лет назад и чей возраст доказан, или ножи более современные и изготовленные позже, но при условии, что они были использованы или принимали участие в исторических событиях национального масштаба. При этом оговаривалось, что и те и другие хранятся в музеях и частных домах, их не используют и перевозят с места на место не беспричинно, а только при смене адреса. Кроме этого, закон допускал ножи для личного пользования в качестве столовых ножей, для приготовления еды и при выпечке хлеба, а также в качестве ремесленных и профессиональных инструментов. Также разрешались остроконечные навахи и перочинные ножи, лезвие которых не превышает 11 см, будучи измеренным от рукоятки до острия, и ножи, необходимые пастухам и работникам для полевых работ и для пропитания[209]. Этот закон запрещал производство, продажу, ввоз, использование и владение ножами, функции которых были не определены.
В 1936 году, в канун гражданской войны в Испании, учитывая рост нарушений в университетской жизни, вызванный накалом политических страстей, министерство образования издало указ, согласно которому студенты, незаконно носившие холодное оружие за пределами университета, отчислялись и им запрещался вход на территорию альма-матер. Они могли снова поступить в высшие учебные заведения Испании только по истечении двух лет и лишь при благоприятной рекомендации своего университета[210]. Очевидно, испанским студиозам из университетов Саламанки, Гранады и Барселоны навахи заменяли мензурные шлегеры задиристых немецких буршей из Гейдельберга или Тюбингена.
Судя по предусмотренным эдиктами жесточайшим карам, грозящим каждому несчастному, посмевшему в недобрый для себя час взять в руку богопротивную наваху, можно предположить, что все эти столетия Испания жила в атмосфере любви и согласия, «волк и ягнёнок паслись вместе», а после удара по левой щеке испанцы смиренно подставляли правую. А между тем всё было далеко не так радужно и безмятежно. И обусловлено это было банальной и старой как мир причиной. Как хорошо известно любому юристу, жёсткость законов и суровость предусмотренных ими наказаний обратно пропорциональна слабости исполнительной власти и невозможности, или же её нежеланию следить за исполнением этих законов. И прекрасной иллюстрацией к этому хрестоматийному правилу являлась Испания.
Эгертон Кастл, характеризуя эту законодательную чехарду, как-то заметил, что в Испании, где всякий независимый гражданин называл себя идальго, частое повторение ордонансов не имело такого подавляющего эффекта, как в других странах[211]. Боткин с горечью писал, что в Испании постоянно делают и переделывают конституции, в которые никто не верит; составляют законы, которым никто не повинуется, издают прокламации, которые никто не слушает. Как он полагал, это было обусловлено тем, что законы делались, переделывались и уничтожались с такою быстротой, что испанцы потеряли к ним всякое уважение и всякое понятие о законности[212].
А вот что писал о навахах и соблюдении законов в Испании Джозеф Таунсенд: «Эти ножи строжайше запрещены, но, к сожалению, древние традиции сильней законов, особенно в стране, где страсти так легко вспыхивают, а законы невероятно слабы. Поскольку полицейские в массе своей бедны и часто лишены принципов, они без труда и с удовольствием могут интерпретировать любое происшествие по собственному усмотрению и превращать белое в чёрное. В результате безнаказанности часто совершаются убийства, а так как законы не гарантируют и не обеспечивают личную безопасность, то эта обязанность ложится на плечи самих людей, и они вынуждены вооружаться. Исключительно из-за этого они и приобретают это жуткое оружие. Но когда в них пробуждается гнев, ситуация меняется. Оружие, служащее для личной защиты, превращается в инструмент вероломства, преступных намерений и мести»[213]
Эти строки Таунсенд писал в 1786 году, когда уже вошёл в силу закон, предусматривающий за участие в поединке пожизненное заключение. Но как мы видим, благодаря неисполнению законов, обусловленному попустительством тех, на ком лежала обязанность это исполнение контролировать, перспектива провести остаток жизни за решёткой была для испанских дуэлянтов угрозой достаточно условной и гипотетической. Согласно точке зрения «Русского вестника» за 1858 год, чувство безнаказанности, распространённое среди испанцев, в больше степени было обусловлено позицией местных жандармов. Все прекрасно знали, что испанская гражданская гвардия — Guardia civil, призванная обеспечивать закон и порядок, на самом деле исповедовала политику невмешательства и не нарушала личной свободы испанцев. Даже на навахадах, когда с обеих сторон сверкали ножи и лилась кровь, эти хранители общественного спокойствия редко выходили из роли пассивных зрителей. А мадридская полиция и совильские сереньос вообще старались держаться от навахад подальше, и сострадательным гражданам стоило большого труда привести их на место поединка. Каждый испанский жандарм был снабжён книгой для записи особых происшествий и ежедневно вносил туда более или менее чётко написанную фразу: «Всё обстоит благополучно»[214].

Рис. 56. Guardia Civil из Хуэскара. Испания, 1912 г.
Также и Форд, прекрасно знакомый с методами испанской Фемиды, отмечал, что, хотя испанские законы были суровы на бумаге, те, кто отвечает за их выполнение, в 99 случаях из ста старались уклониться от выполнения своих обязанностей всякий раз, когда это отвечало их личным интересам. Возмущённый творившимся беззаконием он писал о производстве навах, что, хотя пружины и фиксаторы на ножах были всегда запрещены законом, они абсолютно открыто производились, продавались и использовались[215]!
Были не только заведения, улицы или районы, куда полиция предпочитала не соваться, но и целые города с мрачной репутацией. Среди таких «вольниц» барон Давилье указывал, например, Малагу. Безнаказанность местных убийц даже вошла в поговорку: «Mata al геу, у vete a Malaga» («Убей короля и беги в Малагу»[216]!
Но иногда происходило чудо: одного-двух навахерос всё-таки арестовывали и отправляли в тюрьму, а иногда и на плаху. Поножовщики, естественно, себя виноватыми не признавали, объясняя всё требованиями кодекса чести. В Севилье была популярная песня — стенания арестанта, осуждённого за то, что он в поединке зарезал соперника. Махо восстаёт против несправедливости, оправдываясь необходимостью защитить свою «маху»[217] Иногда арестовывали не только участников, но даже зрителей, присутствовавших на подобных дуэлях. Александр Маккензи упоминал инцидент, когда некий молодой человек был заключён в тюрьму по одному лишь подозрению в том, что он мог являться свидетелем поединка[218]. В случае, если ножи были вытащены, но кровь при этом не пролилась и никто не пострадал, а жандарм или скриванос пребывали в благостном расположении духа, то виновный мог отделаться лёгким испугом.
А иногда арестованные избегали наказания благодаря прекрасному знанию всех хитросплетений испанских законов.
Так, мы находим упоминание о планировавшейся дуэли двух девушек, прерванной появлением полицейского патруля. Поскольку намерения их не вызывали сомнений, они были доставлены в жандармерию. «Сеньор, — обратилась одна из несостоявшихся дуэлянток к дежурному офицеру, — эти господа, нарушив все возможные законы, ограничили нашу личную свободу». «Разберёмся, — ответил эмплеадо с важностью представителя власти. — Жандарм, в каком проступке вы обвиняете этих дам?» «Сеньор, — ответил полицейский, — у меня были все основания предполагать, что арестованные имели умысел драться до смерти на дуэли. По этой причине мы и привели их к вашей чести, чтобы их наказали по всей строгости закона». «Если вы позволите, сеньор, — сказала одна из задержанных, — мы не сделали и не собирались делать ничего, за что могли бы понести предусмотренное законом наказание». Вслед за тем девушка указала изумлённому представителю власти, что закон о запрещении дуэлей касается только мужчин, и никого более. Правовая информированность девушки застала эмплеадо врасплох и невероятно удивила. После тщательного изучения уголовного кодекса чиновник пришёл к выводу, что в законе не упоминается рассматриваемый случай, и он, хоть и неохотно, был вынужден освободить задержанных, но только после того, как те пообещали ему отказаться от своих смертоносных замыслов[219]. Но если облечённый властью представитель закона чувствовал возможность наживы, то несчастному «дуэлянту», перед которым маячила перспектива пожизненного заключения или казни гарротой, приходилось раскошеливаться.
«Отечественные записки» за 1842 год писали: «Правосудие в Испании давно уже сделалось источником всевозможной несправедливости, наживы судей и взяток. Оно большей частью находится в руках особого сословия, которое в Испании называется skrivanos (присяжный писарь). Эти скриваносы исполняют должность протоколистов, нотариусов и могущественно располагают жизнию и смертию, свободой или заключением того, кто имел несчастие попасть в когти испанской юстиции и не знал, как с ней сторговаться. Ни революция, ни восстановление, ни народная война со времени смерти Фердинанда VII не могли истребить на испанской земле этого крапивного семени».
Дипломат Генрих фон Арним, путешествовавший по Испании в 1841 году, описал очень показательный случай. Испанцам было запрещено носить при себе кинжалы и ножи, кроме тех, которые предназначались для нарезания хлеба. Кто-то зарезал своего соперника ножом. Преступника схватили и привели для допроса к присяжному скриваносу, который был обязан внести данное происшествие в протокол. Главный пункт обвинения зависел от того, каким именно ножом было совершено преступление — ножом для хлеба или каким-то другим. В первом случае преступника ожидало недолгое тюремное заключение, а во втором — смертная казнь. Скриванос молча писал протокол, пока не дошёл до слова «cultielle» — «нож». Тут он остановился. Подсудимый понял смысл этой паузы и сунул ему руку несколько пиастров. Вскоре опять раздалось: «Cultielle», и сумма взятки была удвоена. Но, очевидно, скриваноса не удовлетворила и эта сумма. Он опять сделал длинную паузу, пока третья взятка не заставила его написать в протоколе: «cultielle per contra pan» — «хлебный нож»[220].
В этом случае задержанному улыбнулась удача, ему повезло, и он вырвался из когтей смерти. Но многие его товарищи по несчастью стали жертвами показательных судов и жёстких приговоров, призванных продемонстрировать испанцам всю мощь карающего меча испанского правосудия и служить предостережением остальным.
Так, например, удача отвернулась от 27-летнего баратеро Игнасио Аргу-маньеса, 7 марта 1836 года убившего в проходившем в тюремном дворе поединке на ножах, другого баратеро, Грегорио Кане. Казнь его вызвала широкий резонанс и многочисленные публикации в либеральных изданиях. Известный испанский писатель и журналист первой половины XIX века Мариано Хосе де Ларра, прославившийся своими критическими очерками, посвятил этому событию статью под названием: «Los barateros о el desafío у la репа de muerte» («Баратеро, или Вызов на дуэль и смертная казнь»)[221]. В этой статье, написанной в форме диалога двух аллегорических образов — испанского общества и баратеро, Ларра поднял различные морально-этические вопросы и в том числе тему права общества принимать решения о жизни и смерти своих граждан. Но Аргуманьес не смог порадоваться окружившему его имя ажиотажу, так как к моменту выхода статьи был казнён традиционным удушением гарротой.

Рис. 57. Дуэль баратеро Игнасио Аргуманьеса и Грегорио Кане, 1836 г.

Рис. 58. «За нож» («Ужасы воины», офорт 34). Франсиско Гойя, 1810 -1815 гг.
Особенно жёстко обходилась с нарушителями законов французская администрация. Изображение подобных несчастных, казнённых за найденный у них нож, можно увидеть на известных офортах Франсиско Гойи из серии «Los Desastres de la Guerra» — «Бедствия войны». На офорте «Рог una navaja» — «За нож» изображен казнённый удушением гарротой, на шее которого висит виновница его смерти — маленькая наваха. А на другом офорте, называющемся «No se puede saber рог que» — «Неизвестно за что», изображена массовая казнь восьми человек, у каждого из которых на шее висит виновник его смерти. Но надо заметить, что с названием последнего офорта Гойя несколько слукавил. Сказать, что и в самом деле совсем уж «не за что», было бы погрешить против истины.
Итак, мы вплотную подошли к событию, сыгравшему немаловажную роль в популяризации образа навахи в Европе и в формировании её зловещей репутации. Речь пойдёт о войне за независимость Испании, или, как за партизанскую тактику испанцев её называли французы, «войне плетней и оврагов»[222]. Преамбула такова: с 1795 по 1808 год Испания входила в военный альянс с Францией. В 1807 году, прикрываясь предлогом войны с Португалией, Наполеон Бонапарт ввёл в Испанию около 65 000 французских солдат. Когда испанский король Карл IV понял, что ему грозит участь марионетки, то попытался сбежать из страны, но в марте 1808 года многотысячная толпа штурмом взяла королевскую резиденцию. Карл отрёкся от престола, и новым королём был провозглашён сын Карла Фердинанд VII.
Под предлогом решения неких неотложных вопросов французский император пригласил отца и сына в Байонну, где в качестве почётных пленников они и подписали отречение от престола. На пустующий трон Испании Наполеон тут же посадил своего старшего брата Жозефа. Новость о том, что французы увозят законного короля и подсовывают вместо него какого-то «лягушатника», радостного ажиотажа у ортодоксальных традиционалистов-испанцев не вызвала, и 2 мая 1808 года вооружённые преимущественно ножами жители Мадрида под предводительством двух офицеров испанской армии, капитана Педро Веларде и лейтенанта Луиса Даоиса, напали на французский гарнизон.

Рис. 59. «Ни за что» («Ужасы войны», офорт 35). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Примерно 400–500 французских солдат, в одиночку или небольшими группами прогуливавшиеся по городским улицам и пребывавшие в полном неведении о надвигающейся буре, пали мёртвыми и изувеченными под испанскими ножами. Даже французы, находящиеся на излечении в госпитале, были атакованы и вырезаны — испанская ярость не знала милосердия. Мюрат ввёл в город войска и артиллерию, и вскоре несколько кавалерийских атак и пара залпов картечи очистили улицы. Испанцев, павших на улицах, было несравненно меньше, чем французов, погибших от их ножей[223]. Некоторые исследователи считают, что одной из причин восстания стали репрессии Мюрата, направленные против махо. Так как махо обычно носили с собой ножи, Мюрат воспользовался этой традицией как предлогом для арестов. Также в качестве повода для преследований и арестов французская администрация использовала и привычку махо носить длинные плащи. Ну, а поскольку махо оставались верны старинным испанским обычаям, и, как известно, болезненно переносили нападки на свои привилегии, эти пассионарии и возглавили восстание против французских оккупантов[224].
На батальной сцене, изображённой на известном полотне Гойи «Dos de Mayo 1808» — «Второе мая 1808», мы видим эпизод Мадридского восстания. Вооружённые одними лишь ножами испанцы бесстрашно бросаются на французских кавалеристов — драгун и мамелюков, втыкая ножи в бока лошадей и всадников. Два дня шли ожесточённые бои у Пуэрто дель Сол и Пуэрто Толедо, а также в районе Артиллерийского парка.
«Каждого встречавшегося француза умерщвляли на месте. Французское войско выступило из казарм и заняло важнейшие посты. В толпы народа стреляли беглым огнём из ружей и картечами вдоль улиц, но ожесточённые испанцы бросались с ножами в ряды французов и лезли, как слепые, на пушки!» — писал об этих событиях участвовавший в боевых действиях против французов Фаддей Булгарин[225]. Бонапартисты, невзирая на пол и возраст, безжалостно казнили каждого задержанного, имевшего при себе хоть что-то, отдалённо напоминающее оружие. Так одной из первых жертв этой антиножевой истерии стала пятнадцатилетняя мадридская швея Мануэла Малазанья Оньоро, оказавшая сопротивление пытавшимся её изнасиловать французским солдатам. Формальным поводом для ареста и казни стал обнаруженный при досмотре её рабочий инструмент — ножницы.
Как заметил в «Письмах об Испании» Боткин: «Едва ли есть в истории восстание более благородное, более героическое, как восстание всей Испании против Наполеона в 1808 году. Оно показало Европе, что Испания не умерла еще»[226].
В этот день, 2 мая 1808 года, испанцы и фигурально, и буквально выкопали наваху войны. Символом и хоругвью этой «священной войны» стал светлый образ их законного монарха, Ferdinando Séptimo, он же Фердинанд VII, коварно отнятого у Испании подлыми «gavachos» (от искажённого французского «gavache», или «негодяй»), как называли наполеоновских солдат испанские повстанцы-герильясы. А вскоре кроме символа герилья обрела и идеологию. Произошло это событие в декабре 1808 года, когда французские войска осадили Сарагоссу, гарнизон которой возлавлял ставший вскоре национальным героем Испании герцог Хосе Реболледо де Палафокс и Мельци. Гарнизон отбил все атаки французов и вынес шестидесятидневную осаду. На неоднократные предложения сдаться Палафокс отвечал сакральной фразой, которая и легла в основу концепции сопротивления. Фраза эта звучала как «Guerra a cuchillo!» — «Война на ножах!»[227].
Герилья — партизанская война в Испании была бесконечно далека от привычного для французов регламента боевых действий регулярной армии. Бонапартистов резали все и при любой возможности — дети, женщины, старики. Мопассановские старухи Соваж с ножами в руках сотнями поджидали наполеоновских гвардейцев за каждым углом. Мы видим, как отчаявшиеся люди на картинах Гойи бросаются на врага с ножами и самодельным оружием. На офорте Desastre 9 — «Они не хотят» мы видим французского солдата, нападающего на девушку, и бросающуюся на него сзади старуху с поднятым ножом. А на Desastre 5 — «Они просто звери!» перед нами предстаёт героический поступок женщины: мать, сжимающая своё дитя под мышкой, свободной рукой втыкает пику в атакующего солдата, а её раненая подруга лежит на земле с ножом наготове[228].
Как заметил Николай Неведомский: «Два оружия в руках герильясов были наиболее гибельны для французов: карабин и нож наваха[229] Француз, отнявши такой нож у герильяса, с трудом находил средство заставить эту полосу уйти в рукоятку. Полоса казалась языком тигра, который, высунувшись из пасти, хочет не прежде спрятаться в пасть, как отведавши крови»[230].

Рис. 60. Женщины Сарагосы сражаются с французскими драгунами. Хуан Гальвес, Фернандо Брамбийя, 1812–1813 гг.

Рис. 61. «Они не хотят» («Ужасы войны», офорт 9). Франсиско Гойя, 1810–1815 гг.
Пераль Фортон отмечал, что наваха, как гражданское и крестьянское оружие, сыграла немаловажную роль на Пиренеях во время наполеоновских войн[231]. Известный коллекционер и знаток навах Жан-Франсуа Лальяр в частной беседе как-то рассказал мне, что испанские партизаны нередко привязывали раскрытую наваху к длинному древку, получая таким образом копьё или пику. Мне это напомнило вооружение польских косинеров Костюшко, когда обычная коса вертикально монтировалась на древко, и в результате получалась длинная и острая как бритва пика — традиционное импровизированное крестьянское оружие, известное ещё с гуситских войн[232].
В некоторых заявлениях военного правительства Испании, опубликованных в 1810–1811 годах, ножи особо рекомендовались в качестве оружия для уничтожения французов наряду с другими видами холодного оружия, такими как шпаги или штыки. Нередко успех испанцев во время восстания жителей Мадрида против французских войск в 1808 году ставится в заслугу именно их умению ловко обращаться с ножом[233]. Но мстительным и злопамятным испанцам не требовались специальные правительственные рекомендации, они и без этого прекрасно знали, что французов-гавачос ждёт одна участь — «guerra a cuchillo». Судя по воспоминаниям английских офицеров, испанцы обращались с захваченными в плен французами с ужасающей жестокостью — если кто-то по дороге отставал, их на месте закалывали штыками. Когда французские пленники переходили под юрисдикцию португальцев, как это, например, произошло при отступлении из Саламанки, радость их не знала предела[234]. И, естественно, преисполненные негодованием британцы не могли удержаться от заявления, что «война ножей», объявленная испанцами, из того же разряда, что томагавки и ножи для скальпирования у дикарей[235].

Рис. 62. Мужчина с кинжалом. Франсиско Гойя, около 1820 г.
Рис. 63. Испанец добивает французского солдата. Начало XIX в.
В 1808 году, в Валенсии, каноник мадридской церкви Святого Исидора, Бальтасар Кальво, не только призывал с амвона вырезать французов, но и благословлял ножи своей паствы, предназначенные для этой миссии. Так на литографии известного французского иллюстратора девятнадцатого века, Дени Огюста Мари Раффе, мы видим коленопреклонённых испанских герильясов, протягивающих падре Кальво для благословения свои навахи[236]. Некоторые исследователи, включая Рене Шартрана, автора «Spanish Guerrillas in the Peninsular War, 1808-14», приводят фамилию легендарного священника как «Cabo» — Кабо, в то время как в большинстве источников — например, в работах известного испанского историка XIX столетия, Висенте Бойкса, она звучит исключительно как «Calvo» — Кальво[237]. Также и в материалах уголовного дела оа 1808 года, уважаемый каноник фигурирует как «дон Бальтасар Кальво[238].
Методы «войны ножей» испанской герильи, безжалостность и жестокость по отношению к французским захватчикам напоминают другую «народную» войну, развязанную против Наполеона за тысячи километров от апельсиновых рощ Андалусии — в далёкой и заснеженной России. И тут мы подходим к событию Отечественной войны 1812 года, не вошедшему в школьные учебники, — созданию испанского подразделения, сражавшегося и умиравшего бок о бок с русскими в борьбе против Наполеона. Мы обратимся к истории легендарного Мстительного легиона и его лихого командира, российского полковника Александра Фигнера.

рис. 64. Валтасар Кальво в 1808 году благословляет навахи.
Через четыре года после Мадридского восстания армия Бонапарта вторглась в Россию, что положило начало эпохальному событию, известному нам как Отечественная война 1812 года, или, как её называли сами французы, «Campagne de Russia pendant Гаппее 1812». События этой войны прекрасно известны, описаны в сотнях исторических трудов, мемуаров участников и очевидцев боевых действий и рассмотрены с точки зрения всех сторон, находившихся как с одной, так и с другой стороны «баррикады». Партизанские отряды беспокоили французов налётами и нападениями на обозы с фуражом. Все из школьных учебников помнят героев-партизан Герасима Курина, Василису Кожину и, конечно же, легендарного партизанского командира Дениса Давыдова, особенно в его экранных ипостасях — с неизменно лихо закрученными усами, в небрежно накинутом ментике и с неразлучной гитарой. Но история капризна и субъективна. И прекрасной иллюстрацией к этому является судьба другого прославленного партизанского командира, наводившего ужас на французов, ставшего в своё время легендой, но незаслуженно забытого и обойдённого вниманием драматургов и сценаристов соратника и конкурента Давыдова, любимца генерала Ермолова, баловня судьбы Александра Самойловича Фигнера.
Потомок остзейского рода, Фигнер был человеком уникального сплава ума, отваги, авантюризма и организаторских способностей, которые при этом сочетались в нём с крайней жестокостью, патетичностью, любовью к внешним эффектам и высокопарным фразам. Недолгая, но яркая и насыщенная жизнь Фигнера перекликается с судьбами целой плеяды воинов, дипломатов и авантюристов, таких как Калиостро, Ричард Бёртон, Лоуренс Аравийский или Отто Скорцени. Он появился на исторической сцене в правильный момент и в нужном месте и, кратко вспыхнув, вписал своё имя в скрижали Отечественной войны 1812 года. Романтичный, отважный, бесстрашный, презирающий опасность и смерть, склонный к аффектации, патетичный и слезливый и в то же время жестокий и беспощадный к врагам — ну чем не испанец, — Фигнер идеально подходил для роли, вскоре уготованной ему судьбой и его собственными амбициями.
Среди множества событий, которыми была насыщена Отечественная война 1812 года, нас интересует всего один малоизвестный и забытый эпизод этой кампании, начало которому было положено 24 июня 1813 года. В этот день начальник главного штаба соединенных армий генерал-лейтенант И. В. Сабанеев сообщил генерал-майору Ф. Ф. Довре, что «по высочайшему повелению лейб-гвардии полковнику Фигнеру позволено формировать из пленных итальянцев и гишпанцев войско под названием Мстительный легион, для чего и нужно, чтобы в том не только не было делано ему никакого препятствия, но и оказываемо все нужное содействие со стороны воинских начальников»[239].
В этот же день документ такого же содержания Сабанеев направил и великому князю Константину Павловичу. Последний наложил резолюцию: «Дать знать начальникам корпусов». А. В. Фигнер добавляет к этому, что легион был сформирован А. С. Фигнером «на счет добыч от неприятеля»[240]. О дальнейшей судьбе этого легендарного и окружённого мифами подразделения нам становится известно благодаря воспоминаниям очевидца указанных событий — Николая Васильевича Неведомского, корнета второго волонтёрского казачьего полка барона Боде в войне 1812 года, а также участника заграничных походов русской армии 1813–1814 годов. Неведомского, находившегося в период описываемых событий в отряде Фигнера, историки считают крайне компетентным автором, и без ссылок на его мемуары не обходится ни одна серьёзная научная работа посвящённая этому подразделению.
Около пяти тысяч испанцев, не успевших в 1808 году уйти из Дании с маркизом Романо, остались на французской службе. Три тысячи из них в 1812 году перебежали на русскую сторону и на английских кораблях были из Кронштадта отправлены домой в Испанию. Также около двухсот пятидесяти испанцев, в основном артиллеристов, в том числе тридцать португальцев, перебежали к русским в 1813 году во время перемирия. Из них Фигнер в силезском Олау и сформировал две роты, составлявшие пехоту его отряда[241] Кроме испанцев и итальянцев в отряде Фигнера были гусары, а также украинские и донские казаки. В рукописи, опубликованной Н. Окулич-Казариным, со ссылкой на воспоминания находившегося в отряде Фигнера Лариона Бибикова сообщается, что в состав Мстительного легиона также входили эскадроны «вновь формированного бессмертного казачьего полка»[242].
Фигнер настаивал на особой форме для своего Мстительного легиона, воспринимавшегося современниками как «чудной». Так, на них были мундиры из зеленого сукна, с черным воротником и обшлагами, обшитыми серебром, а на касках крупными буквами было написано: «Легион мести»[243]. Как вспоминал Денис Давыдов, Фигнер являлся «иногда в мундире сформированных им двух баталионов, из пленных испанцев и италианцев, кои он наименовал «мстительными легионами», почему на эполетах их были литеры М. Л.»[244].
Кровожадность и безжалостность сражавшихся в составе Мстительного легиона испанцев поражала их русских товарищей по оружию. Вот что об этом писал Николай Неведомский: «Испанцы в сражении редко просили пощады и никогда её не давали. После сражения прикалывали раненых, чаще прирезывали ножами, крича при каждом ударе: «Muerto gavacho! Muerto perros! Смерть французам! Смерть псам!» Испанскому «muerto» наши солдаты дали русское окончание и говорили: «Мусьи шпанцы муэртуют». Редко удавалось отогнать испанцев от раненого, отнять у него пленного — штыком, ножом готовы были защищать свою добычу, обречённую ими смерти. Часто случалось, что казак, гусар переставал обирать пленного, когда прибегали испанцы со своим вечным muerto. Совершив убийство, оставляли деньги и вещи убитого тому, кому они принадлежали по правам войны»[245].
Вот как описывал бой с участием испанцев один из офицеров, очевидец этих событий: «В деревне раздавались ружейные выстрелы и крики сражающихся и вдруг сменились радостными восклицаниями испанцев, воплями о пощаде и криками зарезанные это, по выражению наших рядовых, муэртовали мусьи Шпаны»[246].
Вместе с трепетным отношением к королю-символу Фердинанду VII, гитарами и андалузским табаком испанцы привезли с собой и более мрачные традиции своей далёкой родины: «Испанцы почитали нож почти таким же необходимым в сражениях, как пику или ружьё с примкнутым штыком. В двух испанских ротах только у пяти-шести человек были ножи, принесённые ими из Испании, длинные, острые как бритвы; прочие довольствовались ножами, по большей части отнятыми или украденными у немецких кухарок; многие имели по два: один за пазухой, другой в сапоге. Почти на каждом ночлеге можно было видеть нескольких испанцев, до крупного пота оттачивающих свои ножи; не доставший поварского не жалел ни рук ни времени, ухитряясь с помощью оселка сделать из столового ножа что-то похожее на кинжал»[247].
Сослуживцы, зная суровый нрав испанцев и их умение владеть ножом, старались с ними не связываться. Как писал Неведомский: «В частых ссорах за съестные припасы, за дрова, за кошельки французов, казак, гусар тотчас уступал испанцу, опускавшему руку за пазуху или за сапог»[248].
Солдатская фортуна изменчива, капризна и эфемерна, и Вестфальская операция, оказавшаяся последней в жизни Фигнера, наглядно демонстрирует, насколько честолюбивые замыслы заставили его забыть о реальности развивающейся военной кампании. Заманчивая цель — стать освободителем Касселя и вместе с ним всего королевства и победителем Бонапарта толкнула его на авантюрный маневр. Из-за тактического просчёта Фигнера 1 сентября 1813 года его отряд очутился на пути движения основных сил французской армии, был прижат к Эльбе, отказался сдаться и был разбит, а сам Фигнер погиб при попытке переправится через реку[249].
Участник последнего сражения отряда Фигнера ротмистр Н. Депрейс в письме к матери, уже после освобождения из плена, описывает случившееся с ним. Он, в частности, указывает и состав, и численность отряда Фигнера — 56 гусар, 180 украинских казаков, 90 донских казаков и 270 человек пехоты, состоящей из испанцев и итальянцев[250]. Любопытно, что ни один из авторов не упоминает об итальянцах, бывших в составе Мстительного легиона. Также и Неведомский, рассказывая о составе отряда и о последнем сражении на Эльбе, упоминает только испанцев, но ни слова не говорит об итальянцах. Поведение итальянской части легиона Фигнера в момент решающего сражения источники либо скрывают во мраке умолчания, либо дают ему нелицеприятную оценку, что позволяет подозревать об отсутствии у итальянцев особого героизма. Описание же отваги испанцев из Мстительного легиона напоминает события Мадридского восстания, запечатлённые на полотнах Гойи и Кастелланоса: «Особую свирепость сражению придавали человек сорок испанцев, добровольно прибежавших из леса. Только не имевшие хороших ружей действовали штыками, прочие, бросивши ружья, ножами распарывали брюха у лошадей, резали ноги всадникам, втыкали ножи в горла и бока упавших»[251]
И в последние мгновения боя, когда отряд уже был прижат к реке, испанцы продемонстрировали, что они настоящие «того сгио» и в их жилах течёт не вода, а кровь Эль Сида и других матаморос — воинов, закалённых в восьми веках сражений за независимость. Вот как описал последние минуты легиона Николай Неведомский: «Да где его Высокоблагородие? Хоть бы он посмотрел, что мы не отдаёмся живыми. Воля ваша, Ваше Благородие, силы не хватает: позвольте повернуть в реку…» — говорили казаки и гусары; сперва поодиночке, а потом грудой повёртывали в реку; немногие ускользнули в лес; но испанцы ещё отмахивались окровавленными ножами, падали, вставали с восклицанием: «Viva el rey Fernando septimo!»[252].
Двести лет минуло с того сентябрьского дня, когда ножи испанцев Мстительного Легиона окрашивали воды Эльбы кровью французов. Мир с тех пор изменился. Изменились морально-этические нормы и система ценностей. Этому сопутствовало много факторов, но главное — в средиземноморском обществе изменилась трактовка личной чести, интерпретация социальной роли мужчины и мужской самоидентификации.
Однако отголоски старинного искусства владения навахой мы встречаем и в наши дни. Весной 1954 года во вьетнамском местечке Дьен Бьен Фу — «Долина кувшинов», произошло одно из самых кровопролитных сражений между французской армией и силами Вьетминя. Это битва известная как «Вьетнамский Сталинград» считается решающим сражением Первой Индокитайской войны. Штурмовые группы вьетнамцев шли на прорыв, или доводили свои траншеи до французских, и тогда десятки и сотни бойцов с невероятным ожесточением пускали в ход ножи, штыки, приклады, саперные лопатки, топорики. Тайцы предпочитали какие-то свои особые кинжалы, у нескольких немцев сохранились кинжалы СС. Ветеран 3-й полубригады Иностранного легиона сержант Клод-Ив Соланж, принимавший участие в этих боях вспоминал, что в его отделении служил баск, «который жуть что вытворял складной навахой с лезвием длиной сантиметров в 30»[253]
В сегодняшней Испании, как во многих других странах, где на протяжении столетий существовала развитая культура народных дуэлей, не любят вспоминать эти страницы своей истории. Хотя, по данным полиции Испании, в 2007 году в стране и было конфисковано 488 000 ножей — количество, вызывающее уважение, но убийств с использованием этого оружия в этом же году было зарегистрировано всего 135. Сегодня за большинство преступлений, совершённых в Испании с применением ножей, как правило, ответственны эмигранты из Марокко, Латинской Америки или из стран Восточной Европы. Но преследуемая законом и осуждаемая общественным мнением культура ножа не исчезла без следа, просто она, как и в соседней Италии, уйдя в подполье, стала невидимым для чужих глаз параллельным миром, уделом закрытых сообществ.[254]
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ