Книга первая
Времена, когда все это было, прошли. Проводила свою жизнь некая особа, у которой мирские привязанности были так непостоянны, а все вокруг было исполнено такой неуверенности!
Внешностью она была совсем непохожа на других людей, да и нельзя сказать, чтобы отличалась рассудительностью и благоразумием — все это, может быть, и так, но когда эта особа с рассветом или при наступлении сумерек начинала читать те старинные повествования, которых так много распространяется в этом мире, то обнаруживала в них всего-навсего многочисленные небылицы.
Иногда хочется знать, какова жизнь у той, что связана с человеком самого высокого положения[1]. Но подчас и далекие годы, и дела недавнего времени не вспоминаются отчетливо, и тогда многое приходится описывать так, как оно должно было происходить…
Лето восьмого года Тэнряку (954 г.).
Так вот, получала я и прежде мимолетные признания в любви, — все это так, только на сей раз решили узнать, что стану я отвечать тому, кто возвышается над рядовыми людьми, как высокий дуб над прочими деревьями.
Обыкновенный человек предложение о браке делает либо через подходящего посредника, либо через служанку; этот же господин то в шутку, то всерьез сам стал туманно намекать моему родителю, а потом, словно не ведая о моих словах о том, что брак между нами никак невозможен, прислал верхового, и тот принялся истово стучать в наши ворота. Послали узнать, кто это там, но в ответ раздался такой шум, который не оставлял сомнений в его происхождении. Тогда мои служанки взяли у верхового послание и ужасно переполошились. Взглянув на него, я больше всего удивилась, что бумага там не такая, какая принята в подобных случаях, а почерк, о котором я издавна была наслышана как о безупречном, оказался настолько плох, что вызывал сомнение, сам ли Канэиэ написал это письмо. А слова в нем были такие:
Лишь речи о тебе
Заслышу я, моя кукушка,
Так грустно делается мне…
О, как мечтаю я сердечный
С тобою разговор вести!
— Надо как-то отвечать, — стала советовать моя старомодная матушка. Я послушно согласилась: «Ладно!» — и написала так:
В селеньи одиноком,
Где не с кем перемолвиться,
Ты не старайся куковать —
Лишь попусту
Сорвешь свой голос.
Осень того же года.
С этого началось. Снова и снова присылал мне Канэиэ свои письма, но от меня ему ответов не было, и он прислал мне такое:
Ты — словно водопад Беззвучный,
Отонаки.
Не ведая,
Куда стремятся струи,
Я все ищу в них брод…
На все это я говорила только одно:
— Немного погодя отвечу, — так что Канэиэ, кажется, совсем потерял выдержку и написал мне:
Не зная срока,
Жду и жду ответа —
Сейчас… а может быть, чуть позже?
Но нет, его все не приносят,
И мне так одиноко!
Тогда моя матушка, человек старинных обыкновений, заявила:
— Его письма — большая для тебя честь. Следовало бы отвечать сразу.
Я велела одной из своих служанок написать подобающее письмо и отослала его. Однако и оно вызвало у него искреннюю радость, и послания от Канэиэ стали приносить одно за другим.
Одно из посланий сопровождалось стихотворением:
Следы куликов
На морском берегу
Я не вижу за кромкой прибоя.
Может быть, оттого,
Что волны вздымаются выше меня?[2]
Я и на этот раз сплутовала, велев написать ответ той же служанке, которая сочиняла серьезные ответы на послания Канэиэ. И вот опять он пишет: «Весьма тебе благодарен за такое серьезное письмо, но если ты и на этот раз писала его не сама, это было бы так для меня огорчительно!» — и на краешке этого послания прибавляет:
Хоть сердцу радостно
От твоего письма,
Кто б ни писал его на самом деле,
На этот раз пиши его сама —
Твой почерк я не знаю ведь доселе…
Но я, как всегда, отослала ему подставное письмо. И в такой ничего не значащей переписке проходили дни и месяцы.
Наступила осенняя пора. В присланном мне письме Канэиэ написал: «Мне грустно оттого, что ты представляешься такой рассудительной; и хоть меня это заботит, я не знаю, как быть дальше.
Живя в селенье,
Где не слышен даже зов оленя,
Глаз не сомкну.
Как странно — неужели невозможно
Увидеться с тобой?»
В ответ я написала только одно:
Не доводилось слышать мне,
Чтоб часто просыпался
Тот, кто живет
Возле горы Такасаго,
Что славится оленями.
Воистину, странно! Немного погодя, опять его стихи:
Застава Склона встреч,
Афусака,
Как будто приближается ко мне,
Но все ее не перейти[3].
Живу, скорбя об этом.
А утром третьего числа:
Роса —
Она легла перед рассветом,
Но тает вся нежданно,
Едва приходит утро.
Так таю я, домой вернувшись.
Мой ответ:
Вы говорите,
Что подобны
Росе, всегда готовой испариться.
Куда ж деваться мне? —
Я полагала, в Вас найду опору!
Между тем, однажды получилось так, что я ненадолго отлучилась из дому, он же без меня пожаловал и ушел наутро, оставив записку: «Я надеялся хоть сегодня побыть с тобою наедине, но нет о тебе вестей. Что же случилось?! Не укрылась ли ты от меня в горах?». Я отвечала кратко:
Когда цветок поломан
У ограды
В нежданном месте, —
С него росинки слез
Стекают беспрестанно.
Пришла девятая луна. На исходе ее, когда Канэиэ не показывался ко мне две ночи кряду, он прислал лишь письмо. На него я отвечала:
Роса, что тает так нежданно,
Еще чуть держится.
На рукаве
Она с дождем соединилась,
Что утром оросил рукав.
С тем же посыльным Канэиэ прислал ответ:
Моя душа,
Тоскуя о тебе,
Взлетела и пронзила небо.
Не оттого ль
Сегодня так дождливо?
Когда я заканчивала свой ответ на это, появился сам Канэиэ.
Еще немного погодя, после перерыва в наших в ним встречах, в дождливый день, Канэиэ прислал сказать что-то вроде: «Как стемнеет — приду». Я написала ему:
Трава, что стелется
Под рощею дубовой,
Вас непрестанно ждет.
Я буду вглядываться в сумерки, едва придут, —
Не Вы ль надумали пожаловать…
Ответ он принес сам лично.

Наступила десятая луна. Я находилась в очистительном затворничестве[4], и Канэиэ сообщал, что оно тянется медленно:
Тоскуя по тебе,
Одежду перед сном надену наизнанку[5].
И вот на ней роса.
А небо дождик
Замочил слезами.
Ответ мой был весьма старомодным:
Когда б ее сушил
Огонь любви,
Она давно бы сделалась сухою.
Так отчего не высохли одежды,
Что оба мы надели наизнанку?!
Как раз в эту пору родной мой отец отправлялся служить в провинцию Митинокуни[6].
То время года было преисполнено печали. К мужу я еще не привыкла и всякий раз, когда встречалась с ним, только обливалась слезами, а грусть, которая охватывала меня, была ни на что не похожей. Видя это, весьма растроганный Канэиэ твердил мне, что никогда не оставит меня, но мысль о том, могут ли чувства человека следовать его словам, заставляла мое сердце лишь печалиться и сжиматься еще больше.
Наступил день, когда отец должен был отправиться в путь, и тут он, уже собравшись, залился слезами, и я, которой предстояло остаться, впала в неизбывную печаль. Отец не мог выйти, пока не произнесли: «Пришла пора отправляться!». Тогда он свернул трубочкой послание и положил его в тушечницу, стоявшую под рукой, а потом снова залился слезами, переполненный чувствами, и вышел. Некоторое время я не открывала коробку и не могла заставить себя посмотреть, что там написано. Когда же проводила отца окончательно, то подошла к коробке и посмотрела, что отец написал. Это были стихи для Канэиэ:
Вас одного прошу,
В путь пускаясь далекий, —
Оставайтесь опорой
Ей на долгие-долгие годы.
Там, вдали, лишь о вас буду думать!
«Пусть это увидит тот, кто и должен увидеть», — подумала я и, охваченная безмерной печалью, положила письмо на прежнее место, а вскоре ко мне пришел и Канэиэ. Я не подняла глаз, погруженная в свои думы, и он произнес в изумлении:
— Что такое? Это ведь дело обычное. А все, что с тобой происходит, лишь доказывает, что ты мне не доверяешь.
Потом увидел письмо в тушечнице и воскликнул: «Ах!» — после чего отослал отцу на его внешнюю стоянку стихи:
Коль одного меня вы попросили,
По возвращении уверитесь тотчас,
Насколько я надежен в обещаньях.
Я — словно та сосна,
Что не меняется в веках.
Так проходили дни, и мне было грустно, когда я думала об отце, который находился теперь под небом странствий. Да и Канэиэ не выказывал в своем сердце возлагавшихся на него надежд.
Пришла двенадцатая луна. Канэиэ уехал по делам в Ёкава[7] и оттуда написал мне:
«Насыпало много снега; думаю о тебе с большой грустью и с любовью».
Я ответила стихами:
Ведь даже снег
На затвердевших водах
Реки Ёкава
Не скоро тает —
Его опора крепче, чем моя.
С тем и закончился этот полный непостоянства год.
В первую луну[8], не видя его у себя дня два или три, я передала слугам стихотворение, сказав им:
— Если придет посыльный от Канэиэ, вручите ему.
Там было написано:
Знать меня не хотите, и вот
В полный голос
Отправилась петь,
Словно птица-камышевка, я
В диком поле иль в дальних горах.
В его ответе значилось:
Едва услышу я
Поющий голос твой
Там, где камышевка поет,
Сейчас же отыщу тебя
Хотя бы и в горах далеких.
Между тем, обнаружилось, что я забеременела. Весну и лето я провела в страданиях, а к исходу восьмой луны, наконец, разрешилась от бремени. В ту пору Канэиэ был полон внимания ко мне — казалось, его мысли полны одною мной.
Да. А однажды, в девятую луну, после того, как он ушел из дома, я взяла в руки шкатулку для бумаг, открыла ее, и заглянув внутрь, обнаружила письмо, намеченное к отправке другой женщине. Охваченная презрением, я решила дать ему знать, что видела это письмо, и написала:
Узнать хотела,
Увидав письмо,
Которое отправить ты собрался, —
Не значит ли оно,
Что ты порвешь со мной?!
Пока меня занимали эти мысли, в конце десятой луны случилось так, что Канэиэ не показывался на глаза три дня кряду. А когда пришел, то сделал вид, будто «некоторое время испытывал» меня.

Когда однажды после этого с наступлением вечера Канэиэ сказал:
— Мне обязательно нужно быть ко двору, — и вышел от меня, мне это показалось подозрительным, и я послала следом за ним человека, который проследил за Канэиэ, вернулся и доложил:
— Велел остановиться в таком-то месте на городской улочке.
«Все так и есть», — подумала я и, совершенно растерянная, не знала, как быть. Так прошло дня два или три, и вот как-то перед рассветом раздался стук в мои ворота. Я поняла, кто это стучит, но была в дурном расположении духа и не велела открывать. Тогда он ушел, как я думаю, в привычный уже для себя дом. На следующее утро, чтобы не оставлять этот случай без последствий, я тщательнее обыкновенного написала стихотворение:
Известно ль Вам,
Как долго не приходит
Рассвет
В печально одинокую
Постель?!
Потом прикрепила его к увядшей хризантеме и отослала Канэиэ. В ответ он написал: «Я собирался прождать до самого рассвета, но ко мне пришел посыльный и вызвал меня по делу. Как верно то, что пишешь ты!
Ведь правду говорят —
Как горько ждать
У запертых ворот
Зимою, ночью бесконечной,
Когда откроют их тебе».
Итак, поведение его было весьма подозрительным, обидным для меня, хотя разве не мог он делать свои дела втайне, чтобы я искренне верила ему, когда он говорил, что должен быть при дворе или где-нибудь еще?
Сменился год, наступила третья луна.
Я украсила помещение цветами персика и ожидала, что он придет посмотреть, но не дождалась. И еще одну особу, которая обычно не пропускала случая, чтобы прийти к нам, сегодня мы так и не увидели. И вот на следующий день, четвертого числа, показались оба. Наши служанки, которые ждали их всю ночь, еще с вечера, теперь заявили, что там-де еще осталось, и вынесли все украшения из наших комнат — и от меня, и от сестры. Когда я увидела, что оборваны цветы персика, которые еще с вечера намеревались использовать по-иному, и что выносят цветы из внутренних помещений, то потеряла покой, и, чтобы чем-то заняться, написала стихотворение:
Мы ждали вас вчера,
Чтоб пить вино с цветочным ароматом.
Вы здесь теперь,
Но нет ветвей с цветами —
Сломали их…
Написала и подумала, что прямо так его отдать было бы неприятно, сделала вид, что прячу стихотворение — он заметил это, забрал, и вот его ответ:
Моя к тебе любовь
На три тысячелетья.
Так знай — такой любви
Не высохнут цветы
Из-за того, что не был я вчера.
Услышал это и тот, другой человек[9], и написал:
Мы не пришли вчера
Вино пить с персиковым ароматом.
Вчерашний день
Мы провели не с вами —
Не за цветы вас любим мы.
Однако теперь Канэиэ уже открыто уходил к той женщине с городской улочки. Мне иногда казалось, что его поведение даже вызывало тревогу у главной его супруги[10]. Мне было так горько, что и не сказать, — но поделать с этим я ничего не могла.
Сначала я видела, как мою сестру то и дело навещал ее супруг, но потом он перевез ее в другое место, сказав, что там им будет удобнее встречаться. Я осталась одна, и мне сделалось еще печальнее. Я уже стала думать, что и тени ее не увижу, и печалилась ото всей души. А когда экипаж, прибывший за нею, приблизился к дому, прочла стихи:
Отчего так обильно
Возле этого дома
Разрастается роща печали?
Отчего же мужчины
He приживаются в нем?!
Ответное стихотворение сложил ее супруг:
Слова того,
Кто думает о Вас,
Не помещайте
Там, где обильно
Дает тоска побеги…
Так прочел он, оставил мне стихи, и все уехали.
Как и ожидалось, я стала после этого жить совсем одна. По большей части между мной и Канэиэ еще не было расхождений в житейском плане, но не только с моими желаниями не совпадали сердечные устремления Канэиэ, — я слышала, что он прекратил также посещения старшей госпожи. Бывало, что мы с нею прежде обменивались посланиями, поэтому в третий или четвертый день пятой луны я написала ей:
Широколистый рис,
Как сказывают, сжали
Даже там, у Вас.
Так на каком болоте
Пускает корни он?
Ее ответ:
Да, сжали
Рис широколистый,
И на болоте где-то корни он пустил.
Но я считала
То болото Вашим!
Наступила шестая луна. С первого числа зарядили долгие дожди. Глядя в окно наружу, я произнесла вслух:
У моего жилища
На деревьях
От долгого дождя
На нижних листьях
Даже цвет переменился.
Пока я произносила что-то в этом духе, наступила и седьмая луна. В то время как я уже довольно долго размышляла о том, что мне лучше бы совсем перестать видеть Канэиэ, чем он бы вот так наведывался сюда ненадолго, он как раз навестил меня. Я не сказала ему ничего, всем своим видом выражая недовольство, но служанка, которая находилась тогда со мной, среди прочего прочла и мои стихи о нижних листьях на деревьях сада. Выслушав ее, Канэиэ сказал:
Те листья,
Что поблекли не к сезону,
Становятся
Красивее других,
Когда их время наступает.
Тогда я придвинула к себе тушечницу и написала:
Поблекший лист,
Когда настанет осень,
Еще печальней станет!
А на деревьях нижний лист
Одну печаль приносит.
Он не переставал заходить ко мне по дороге к другой, однако мы уже не поверяли друг другу то, что лежит на сердце, а случалось, что Канэиэ приходил ко мне, а расположение духа у меня было дурное, и он, постояв молча, как гора Татияма[11], скоро возвращался восвояси. Близкий мой сосед, которому было известно истинное положение вещей, встретив однажды Канэиэ, когда тот уходил от меня, сложил:
Я вижу — дым от огня
У солевара
Опять встает столбом,
И думаю — не ревность ли
Пылает в том огне.
Так я обнаружила, что наши отношения стали достоянием соседей. В ту пору я особенно долго не видела Канэиэ.
У меня появилась такая привычка, которой прежде не было. Я стала так глубоко задумываться, что, бывало, оставлю где-нибудь любимую вещь, а потом смотрю прямо на нее — и не замечаю. «Может быть, между нами уже все прервалось; есть ли что-либо, что напоминает мне о Канэиэ?» — так я думала, и это продолжалось дней десять, когда вдруг пришло письмо. В нем говорилось о том о сем, и в числе прочего: «Возьми стрелу для спортивного лука, что привязана к стойке спального балдахина», — и тогда я подумала, что эта стрела и есть напоминание о нем, и развязала тесьму.
Казалось мне,
Настанет вряд ли время,
Чтобы внезапно вспомнить о былом.
Но вот — стрела…
Как память поразила!
Это послание я прикрепила к стреле и отправила Канэиэ.
А в ту пору, когда встречи между нами прервались, мой дом как раз выходил на дорогу, по которой он ездил ко двору, поэтому то среди ночи, то на рассвете Канэиэ проезжал мимо него, отрывисто покашливая. Он думал, что я не слышу этого, но до моих ушей доносилось все это, и сон не шел ко мне. Как сказано: «Ночь длинна, но мне не спится»[12]. На что было похоже чувство от таких видений и звуков? Теперь я подчас думала о том, как хотелось бы мне жить там, где его не видно и не слышно. До меня доносилось, как мои люди говорили между собою: «Неужто тот, кто прежде бывал здесь, теперь оставил ее?». Я не придавала этому значения, только с наступлением темноты мне делалось очень одиноко…
Было слышно, что в доме главной госпожи, где, как говорили, было много детей, он совсем перестал бывать. «Ах! Ей еще тяжелее, чем мне», — думала я, проникнувшись состраданием к главной госпоже. Дело было около девятой луны. Вложив в стихи все свои чувства, я написала:
Меняет направленье
С дуновеньем ветра
Нить паутины.
Дорога паука,
Как видно, оборвется в пустоте.
Ответные слова были краткими:
Когда изменчивое,
Легкомысленное сердце
Вижу я,
О ветре
Разве думаю всерьез?!
Насовсем Канэиэ меня не оставлял, время от времени мы с ним виделись, — с тем и наступила зима. Ложилась ли, пробуждалась ли ото сна, я только и делала, что забавлялась со своим ребенком и незаметно для себя напевала: «Я как-нибудь задам вопрос малькам форели из садка»[13].
Год опять сменился, и наступила осень. В это время Канэиэ забыл у меня рукописный свиток, который читал тогда и с которым ко мне пришел. Он прислал за ним. На бумаге, в которую я завернула рукопись, я написала:
А ежели сердца
Внезапно охладели,
Они — как те следы,
Что тысячами птиц
Оставлены на берегу песчаном.
В ответ он прислал объяснение:
Пока посыльный ждал, я написала:
Вы думаете,
Надо мне искать
Лишь куликов следы.
Но жаль, что неизвестно,
Куда ведут они…
Так мы и общались. А между тем наступило лето, и в это время у женщины с городской улочки родился от Канэиэ ребенок. Определив благоприятное направление[15], он сел с нею в один экипаж и, подняв на всю столицу шум, с непереносимым для слуха галдежом проехал также и мимо моих ворот. Я была сама не своя — не проронила ни слова, но те, кто видел все это, начиная с моих служанок, громко возмущались:
— Какое беспокойство все это доставляет! Сколько на свете других дорог, чтобы ездить по ним!

Когда я слышала их, то думала даже, что лучше бы мне умереть. Однако обстоятельства никогда не складываются так, как думаешь. Поэтому в голову ко мне стали приходить горестные размышления о том, что уж лучше мне отныне и впредь никогда не видеть Канэиэ, раз я не могу составить соперничество другой. Дня через три-четыре пришло письмо. Когда я, неприятно пораженная бессердечием Канэиэ, просмотрела это письмо, то обнаружила в нем: «Это время было неблагоприятным для наших встреч, поэтому я не мог приходить. Но вчера благополучно совершились роды. Однако я думаю, что ты станешь избегать меня, пока продолжает действовать осквернение[16]». Моему чувству стыда и возмущения не было предела. Я вымолвила только: «Все в порядке». А после того, как мои люди расспросили посыльного, и я услышала, что родился мальчик, у меня стеснилось дыхание. Прошло дня три или четыре, и Канэиэ решился на совсем бессердечный поступок — пришел показаться сам. Я даже не вышла взглянуть, с чем он пожаловал, и он очень скоро удалился. Потом это повторялось часто.
С приходом седьмой луны, когда стали близиться состязания по борьбе, Канэиэ прислал ко мне завернутые в узел две вещи — старую и новую, передав на словах что-то вроде: «Пусть это сошьют!».
Старомодная моя матушка заметила по этому поводу:
— Ах, какая жалость! Видимо, там для него этого не могут сделать.
— Там же собрались одни неумехи, — говорили другие, — ничего вообще не надо делать, лучше услышать, как они там бранятся!
На том и порешили: все отослали назад, а после узнали, что шитье разделили и выполнили в разных местах. Там, видимо, сочли меня бесчувственной: больше двадцати дней Канэиэ не давал о себе знать.
Потом по какому-то случаю пришло письмо: «Я хотел бы навестить тебя, но испытываю неловкость. Если ты скажешь: „Хорошо, приходи“, — преодолею нерешительность». Я думала было оставить письмо без ответа, но мне отовсюду стали говорить: «Это очень безжалостно, это слишком», — и я написала:
Тому, кто клонится
Свободно,
Как трава под ветром,
Теперь уж вряд ли я скажу,
Что я слабей травы.
И он прислал ответ:
Едва лишь
Призывно склонятся
Метелки травы
От восточного ветра, —
Я повинуюсь тотчас.
С тем же посыльным я отправила ему стихи:
Согнулись от бури
Метелки травы
У моего жилища.
Не говорю я тебе —
Не приходи!
Такими словами я выразила свое согласие, и Канэиэ снова появился у меня в доме.
Однажды, наблюдая из постели, как перемешаны разнообразные цветы, что распустились перед моим домом, я произнесла (должно быть, мы испытывали недовольство друг другом):
Гляжу на это разнотравье.
Но срок придет,
И белая роса
Красу цветов
Укроет без разбора.
Он ответил:
Своею осенью
Еще я не пресыщен.
Словами о цветах
Не выразить
Того, что на душе.
Так мы переговаривались, между нами сохранялись неприязненные отношения, мы таились друг от друга.
Когда луна, которая в эту пору восходит поздно, вышла из-за гребней гор, Канэиэ дал понять, что собирается уходить. Должно быть, чем-то мой вид показывал, будто я считаю, что нынешней ночью этого не произойдет. Чтобы он так не думал, несмотря на его слова: «Ну, если мне надо здесь остаться ночевать…» — я сочинила:
На гребнях гор
Не остается
Полночная луна,
Что поднимается
В небесные просторы.
Его ответ:
Мы говорим,
Что поднимается луна
На твердь небесную.
Но простираются лучи
До самого речного дна.
После этих своих слов Канэиэ остался у меня ночевать.
Вскоре разбушевалась сильная осенняя буря, так что прошло всего два дня, и Канэиэ пришел опять[17]. Я высказала ему замечание:
— Большинство людей уже присылали узнать, как я чувствую себя после той бури, которая была накануне.
Подумал ли он, что я права, но только с совершенно невозмутимым лицом произнес:
Чтоб не рассыпало слова,
Как листья от деревьев,
Плодов я разве не дождался
И сам к тебе
Сегодня не пришел?!
Я тотчас же сказала:
Пусть листья те
Рассыпало бы бурей,
Их все равно
Ко мне бы принесло —
Так сильно дул восточный ветер.
Так сказала я, и он ответил:
Ты говоришь: «Восточный ветер».
А ветер носится везде.
Откуда знать,
Что он не разнесет
О нас дурную славу!
Чувствуя, что проигрываю, я заговорила снова:
Конечно, было б жаль,
Когда бы ветром разбросало
Твои слова. Но ты их не сказал
Сегодня утром даже,
Придя ко мне.
Так это и было, и, похоже, Канэиэ сам сожалел об этом.
Примерно в десятую луну он собрался однажды выходить от меня и уже сказал:
— Есть одно неотложное дело, — как пошел беспрерывный нудный осенний дождь. Несмотря на то, что дождь был довольно сильный, Канэиэ все-таки был настроен идти. Тогда, стыдясь сама себя, я сказала:
Ты думаешь,
Достаточна причина,
Но ночь так глубока,
И дождь идет осенний.
Не стоит уходить!
Но он тогда, кажется, все-таки ушел.

Пока это все происходило, Канэиэ, похоже, совсем оставил свои посещения того места, которое прежде казалось таким прекрасным — после того, как там родился ребенок. В ту пору характер у меня стал неуживчивый, и я думала, что жизнь моя испорчена и что хорошо бы вернуть той женщине мои мучения. А теперь мне стало казаться, что в конце концов так и получилось: не оттого ли даже ребенок, который тогда родился, и тот умер? Сама эта женщина была императорского рода — побочная дочь одного из младших принцев. Слов нет, положение ее было очень незавидное. В последнее время лишь только человек, который не ведал искренних чувств, судачил о ней. Что же должна испытывать эта дама теперь, когда у нее внезапно все переменилось! По-моему, сейчас она переживала страдания даже несколько большие, чем я. От этой мысли у меня отлегло от сердца.
Канэиэ, как я слышала, теперь возвратился в главный свой дом. Однако оттого, что ко мне он, как обычно, наведывался редко, сама я часто испытывала чувство неудовлетворенности. А ребенок мой начинал все больше лепетать. Канэиэ, когда уходил от нас, всегда говорил: «Скоро приду!». Ребенок слышал эти слова и теперь вовсю подражал им. И снова, не зная устали, сердце мое стало окутываться печалью. Знакомая дама, привыкшая бесцеремонно встревать в чужие дела, говорила мне:
— А чувствуете вы себя еще такой молодой! Несмотря на все это, Канэиэ совершенно невозмутимо замечал:
— Я ведь не делаю дурного.
Он появлялся с таким безгрешным видом, что я всегда была занята раздумьями о том, как же мне быть дальше. Так или иначе, мысли мои иногда обращались к тому, чтобы обязательно поговорить с ним и выяснить для себя все, — но чуть только настроюсь на решительное объяснение, как опять не могу вымолвить и слова.
И тогда я решила попытаться записать свои раздумья:
Все думаю —
И прежде, и теперь
Моя душа
Наполнена страданьем.
Неужто так и будет до конца?
С той осени, когда мы повстречались,
Поблекли
Краски светлые
У листьев слов твоих.
Я под печальными деревьями
Охвачена печалью.
Я по отцу грущу,
Который той зимой сокрылся в облаках[18],
Со мною разлучившись.
Печальные осенние дожди!
Они, как слезы, — начинают литься,
Не ждут, пока сгустятся облака.
Возможно, он был полон
Безрадостных предчувствий:
«Ты не забудь
Про иней, дочь мою», —
Так, кажется, сказал он на прощанье.
Его слова услышав,
Я думала, все так и будет
Почти тотчас же
Отец расстался с нами
И отбыл далеко,
Где около него
Лишь облака белели.
Сквозь небеса
Проследовал, —
Туман молвы за ним тянулся
И, наконец, прервался.
Я думала —
На родину опять
Стремится
Дикий гусь.
Напрасно я ждала,
И жду теперь напрасно.
Сама я стала
Пустой, как скорлупа цикады.
И не сейчас же
Стали твои чувства иссякать —
Река из слез
Уже давно течет.
Постыдная река
Течет из-за того,
Что, видно, такова судьба.
Течет река и не кончается никак.
Но каковы грехи мои в прошедших жизнях?
Иль тяжелы?
Порвать не в силах с тем, что суждено,
Отдалась я течению
Потока быстрого — того же, что и ты.
Меня гнетут
Безрадостные мысли —
Исчезну я, как исчезают
В потоке пузыри.
Печально только то,
Что не дождусь,
Когда отец приедет
От холма азалий
В провинции Митиноку,
С Абукума[19],
С которой не расстаться.
Все думаю,
Увидеться бы с ним, —
И рукава
Слезами сожаленья
Намочив, постричься
И продолжить жизнь
Совсем иначе.
И думаю — как получается,
Что люди, которые должны быть связаны,
На самом деле меж собой разделены.
С тобою встретимся мы вдруг,
И ты меня полюбишь непременно.
Ко мне привыкнув,
Как к своим китайским платьям[20],
Ты не таил
Привычных мыслей от меня.
Когда я думаю об этом, —
Хочу уйти от мира.
Я плачу от воспоминаний.
Я ли это?
Все думаю и думаю…
А пыль за это время
На подушке,
Взгроможденной как гора,
Пыль на постели,
Где в одиночестве
Считала ночи, — накопилась.
Когда подумаю, — там было мне
Неизмеримо хуже,
Так, будто были
Мы разлучены,
Ты в странствии далеком.
Я помню,
Дул осенний ветер,
Тогда мы виделись с тобою целый день.
О, облако небесное,
Когда ты уходил,
То на прощанье
Сказал слова:
«Сейчас приду», — так произнес.
Ребенок наш
Подумал — так и будет,
Без устали их повторяет.
Я каждый раз, когда их слышу,
Слезами заливаюсь.
Я ими до краев наполнена,
Как море.
Здесь водорослей нет,
На этом берегу залива Мицу[21],
Нет ракушек на нем —
Ты это знаешь.
Когда-то ты сказал:
«Покуда жив, ее не брошу!»
Не знаю, правда ль это.
Спрошу тебя,
Когда приедешь.
Так я написала и положила письмо на нижнюю полку столика для бумаг.
Канэиэ пришел ко мне после обычного перерыва, но, поскольку я не вышла к нему, он забеспокоился и вернулся к себе, взяв с собой только это послание. И вот я получила от него такое стихотворение:
Окрашенные по сезону
Клена багряные листья
Такими были не всегда.
Их блекнущие краски
Становятся еще бледней,
Когда приходит осень, —
Всегда бывает так.
А твоему отцу
(Он озабочен был
Судьбою своего ребенка),
Я правду говорил.
Как краски глубоки
У свежевыпавшего снега!
Мне не прервать
Своей любви…
Я ждал,
Когда ребенка своего
Увижу.
Но встала на пути
Волна в заливе Таго,
В провинции Суруга[22].
Столб дыма
От вершины Фудзи
Сплошной стеной стоит,
Не может перерваться.
Когда же облака на небе
Грядою тянутся,
Не прерываясь, —
Мы тоже неразрывны.
Когда я прихожу в твои покои,
Всякий раз домашние
Открыто ропщут на меня.
Когда случается такое,
Мне ничего не остается,
Как из привычного пристанища уйти
И в старое гнездо вернуться
С печалью на душе.
Когда за ширмой одиноко
Лежишь в своей постели,
Луна, проснувшись ото сна,
Сквозь деревянную калитку
Льет на меня лучи,
И тени от нее не видно.
А после этого
Охватывает сердце
Отчуждение.
С какой ночной женою
Я встречал рассвет?
Каким был тяжкий грех
Твой в прежней жизни? —
Говорить о том
И есть твой грех.
Сейчас в Абукума
У нас с тобой нет встречи[23].
Другому человеку
Не стану я помехой.
Я ведь не дерево и не скала,
И что касается меня,
То любящее сердце
Удерживать не стану.
Хлопчатая одежда
Во множество слоев надета
И хлопает — волной о берег.
Мои китайские одежды
Вспоминая,
Былое погружаешь в реки слез.
А дикую кобылу
На выпасе Хэми
В провинции Каи[24]
Как думает
Остановить на месте
Человек?!
Люблю я жеребенка,
Который узнает
Своих родителей.
Мне кажется,
Он станет ржать в тоске.
Такая жалость!
Что-то в этом духе. А поскольку Канэиэ прислал свои стихи с посыльным, с ним же я послала стихи:
Если вдруг ее бросает
Тот, к кому привязана она,
Кобыла из Митиноку
Полагает —
Вот он, конец.
Не знаю, что он подумал, но на это пришел ответ:
И снова я ответила ему:
Я предпочла бы,
Чтобы ты и вправду
Был жеребенком тем.
Тебя я приручила б
И попросила приходить.
Опять его ответ:
С тех пор, как задержали
Жеребенка
У заставы
Сиракава,
Прошло уж много дней.
«Послезавтра у нас будет Афусака, Застава Склона встреч», — известил меня Канэиэ. Это происходило в пятый день седьмой луны. Канэиэ как раз был в затворничестве по случаю длительного воздержания[26], и, получив от него весточку, я отправила ему ответное послание:
Ужели хочешь ты договориться,
Чтобы теперь встречаться нам
Лишь раз в году, седьмого,
Подле Реки Небесной,
Как те звезды?![27]
Наверное, он подумал: есть в этом правда, и мои слова, как будто бы, запали ему в душу. Так прошло сколько-то месяцев. Я была спокойна, когда услышала, что женщина, которая пресытила взор Канэиэ, теперь стала куда более активной. Что же с тем делом, которое продолжалось издавна? Как ни трудно все это было вынести, но то, что я жила, постоянно сокрушаясь, было, видимо, предопределено в моих прежних жизнях.
Канэиэ, начав с младшего секретаря, сделался особой четвертого ранга[28], прекратил службу во дворце Чистой прохлады, а на церемонии возглашения чиновников был назван старшим служащим в каком-то ведомстве, вызывавшем у него большое раздражение. Ему это ведомство представлялось настолько неприятным, что он, вместо службы, стал гулять там и сям, и мы подчас весьма безмятежно проводили с ним дня по два-три.

И вот от принца, главы того ведомства, к которому Канэиэ проявил такое равнодушие, доставили послание:
В один моток
Попали
Спутанные нитки.
Так отчего они
Встречаться перестали?
Канэиэ ответил ему:
Когда Вы говорите: «Перестали», —
Мне делается очень грустно.
Как видно, это потому,
Что я вхожу напрасно
В моток, что Вами скручен.
С обратной почтой опять принесли письмо:
Ах, эти нитки летние!
Не правда ли,
Пока заходим
Мы к женам двум иль даже трем,
Ан, время и уходит.
Ответ Канэиэ:
Пусть семь их у меня,
Тех летних нитей, —
Минуты нет свободной
Ни для одной жены,
И ни для двух.
И опять от принца принесли стихи:
Белая нить
Между мною и Вами —
Что с нею будет?
Пока неприятности ею не связаны,
Надо бы нить порвать.
Там было еще сказано: «Насчет двух-трех дней я действительно написал немного лишнего. Сейчас писать перестаю, потому что у меня наступает период затворничества».
Получив это письмо, Канэиэ сейчас же ответил и дал мне этот ответ услышать:
Хоть годы идут,
Но вот думаю я,
Что в тех отношениях,
Которые связаны клятвой,
Главнейшая нитка той связки заключена.

В это самое время, в двадцатых числах пятой луны, мы также начали затворничество продолжительностью в сорок пять дней, и для этого переехали в дом моего отца — скитальца по уездам, который был отделен от дома, где жил тогда принц, одним только забором. Когда наступила шестая луна, пошли сильные дожди[29], и все должны были из-за дождей затвориться у себя. Дом у нас был неухоженным, мы тревожились оттого, что он протекал, и тут принц прислал нам весточку, которая показалась тогда очень странной:
В этих долгих дождях,
Ничем не дающих заняться,
Среди струй водяных,
Торопливых
Тоже кроется смысл.
Ответ был такой:
Такое время, что повсюду
Все хлещут долгие дожди.
Но вряд ли путнику
В пустынном мире
Среди дождя уютно…
И снова принц пожаловал нас посланием: «Разве я сказал, что люди не чувствуют себя свободно?
Из тех, кто в тревоге
Время проводит под этим дождем,
Кого ни возьми, —
Разве он не намокнет,
Когда разольется вода?»
Ответ был такой:
В любую эпоху
Тот, кто любимую ожидает,
Знает, что никогда
Высушить слезы любви
Времени не хватает.
И опять от принца принесли стихи:
Но это лишь у Вас
Настолько намокают рукава,
А у живущих в постоянном месте
Даже тропы любовной
Не бывает.
— Однако, какой-то он все-таки странный, наш господин, — такими словами сопровождали мы совместное чтение этих стихов.
Наступил перерыв в дождях, и в надлежащий день Канэиэ отправился в свою обычную поездку, как вдруг принесли очередное послание от принца. И хотя я сказала: «Он изволит отсутствовать», — мне вручили это послание, заявив: «Велено отдать в любом случае». Я взглянула в бумагу, там было:
«От вчерашней любви
Ища утешенья,
С гвоздикой в руке
Стоял я у вашей стены.
Вы так и не знали?
Но поскольку это было бесполезно, я ушел прочь».
Канэиэ вернулся через два дня. Когда я показала ему это письмо со словами:
— Вот, еще это было, — он посмотрел его и сказал:
— Время уже прошло, сейчас не годится посылать ответ, — и только отправил человека справиться, отчего в эти дни нам не было известий от его светлости. Получили ответ:
«Когда прибывает вода
На прибрежном песке
У залива,
Быть может, смывает она
Отпечатки птичьих следов?
Посмотрите внимательно, Ваша обида не имеет под собою оснований. Не правда ли, что сами Вы пожалуете ко мне?» — было там написано женским почерком[30].
Ответ написали трудным мужским почерком:
Сокрытые водой следы
Чтобы увидеть,
Придется ждать
Отлив на берегу.
Не правда ли, найти их нелегко.
И снова от принца было послание:
«Следы того письма,
В котором не было
Второго смысла,
Найдите непременно, подождав,
Когда отлив от берега уйдет.
Так я полагаю, и тем не менее меж нами нет понимания».
Тем временем миновала уже пора очистительных обрядов, а назавтра, как будто бы, подходило время праздника Пастуха и Ткачихи. Миновало лишь сорок дней нашего затворничества. Самочувствие у меня в ту пору было неважное, меня мучил сильный кашель, появилось что-то вроде одержимости злым духом, против которой надо было бы попробовать заклинания, и с приходом невыносимой жары в то тесное жилище, где мы укрывались, я и Канэиэ уехали в горный буддийский храм, в котором я уже бывала. Когда же наступило пятнадцатое и шестнадцатое число, пришел День поминовения усопших[31]. Мы вместе с Канэиэ стали разглядывать удивительные картины того, как, собравшись разнообразными группами, люди несли подношения — это было то печально, то смешно. Мое самочувствие к тому времени уже не внушало тревоги, затворничество завершилось, и мы спокойно выехали в столицу. Осень и зима прошли без заметных происшествий.
Сменился год и ничего особенного не произошло. Сердце у Канэиэ, в отличие от обычного времени, во всем было полно благорасположения ко мне. С началом этого года он опять был допущен ко двору.
В день очищения перед празднеством Камо[32] тот же принц известил Канэиэ: «После того, как посмотрим на церемонию, поедем в одной карете». На краешке его письма было написано стихотворение «Мои лета».
Принца тогда не оказалось в обычной его усадьбе. Подумав, не пошел ли он на боковую улочку, Канэиэ сам направился туда и стал спрашивать о нем, и ему сказали, что принц «изволит находиться здесь». Попросив тушечницу, Канэиэ написал ему:
На южной стороне,
Где Вы остановились,
Уж появилась запоздалая весна.
Ее сюда
Сейчас мы попросили.
И Канэиэ с принцем выехали оттуда вместе.
Когда прошли те сезонные праздники, принц снова переехал в свой постоянный дворец, и Канэиэ навестил его там. Он увидел те же самые, что видел в прошлом году, красивые цветы и густые заросли травы сусуки[33], теперь очень коротко постриженной, и сказал его высочеству:
— Когда ее выкопают, чтобы рассадить, не пожалуете ли Вы немного и для меня?
Некоторое время спустя, когда мы вместе с Канэиэ ехали к речной долине, он сказал одному из сопровождающих:
— Да это же поместье нашего принца! Мы проехали мимо, но Канэиэ произнес:
— Я хотел бы нанести ему визит, да не позволяют обстоятельства. При случае заеду. Прошу передать принцу, чтобы не забыли о недавней моей просьбе относительно травы сусуки. Скажите человеку из обслуживающих.
Церемония очищения оказалась непродолжительной, и мы без промедления возвратились домой. Здесь нам говорят: «Сусуки от принца». Смотрим — в длинном ящике лежит аккуратно выкопанная трава, завернутая в голубую бумагу. Посмотрели еще — к подарку приложено очень милое стихотворение:
Лишь только выглянут метелки,
Сейчас же путников с дороги
Они заманивать начнут.
Траву сусуки дома у себя
Выкапывать мне сделалось обидно.
Как мы на него ответили, я позабыла, но если хорошо подумать, видимо, ответ того заслуживал. Однако более ранние вещи я почему-то помню.

Прошла весна, а когда наступило лето, у меня возникло чувство, что у Канэиэ слишком часто бывают ночные дежурства. Он приходил ко мне рано утром, проводил у меня целый день, а когда начинало смеркаться, выражал сожаление, что должен идти. Однажды, когда я думала об этом, в наступающих сумерках послышался первый в том году стрекот цикад. Невыразимо очарованная, я сочинила:
Удивительно это:
Только ночь настает,
Я слушаю голос цикад.
Но не знаю,
Куда же они улетают?
Когда я произнесла это, Канэиэ затруднился уйти и остался. Так, ничего, как будто, не произошло, а я все больше начинала понимать намерения этого человека.
Однажды в лунную ночь мы разговаривали с Канэиэ (несмотря на дурную примету о том, что нельзя беседовать под лучами луны): то говорили о вещах, которые трогали наши сердца, то вспоминали былое, и, занятая всем этим, я сказала:
Что же яснее —
Неясный свет луны
Сквозь облака ночные
Иль будущего моего
Неясность?!
Своим ответом он все перевел в шутку:
Луна даже за тучами
Плывет на запад.
Твое же будущее
Не хуже этого
Всегда я знаю.
И хотя от этого все казалось таким надежным, место, которое Канэиэ считал своим домом, находилось не здесь, поэтому отношения между нами были далеко не те, о которых мне так мечталось. Меня мучили мысли о том, что для него, человека счастливого, я, хоть и провела с ним долгие годы и месяцы, не народила довольно детей, так что и здесь у меня все было очень зыбко.
Тем временем матушка моя исчерпала пределы своей жизни и в начале осени после долгих мучений скончалась. Чувство горести у меня превосходило всякие переживания обыкновенных людей, так что я совсем ничего не могла делать. Среди множества близких, которые были возле нее, я одна сделалась как безумная и твердила про себя: «Теперь я тоже не отстану, не отстану от нее». Так и произошло — отчего, не знаю сама, только ноги-руки мои бесчувственно оцепенели, и дыхание готово было уже замереть.
Я была в горном храме, когда все это случилось, а Канэиэ, с которым я могла бы поговорить, находился в это время в столице. Я посмотрела вокруг себя и подозвала своего малолетнего сына. Сказала ему только одно:
— Я очень занедужила и, похоже, могу умереть. Послушай меня, сынок, и передай отцу: обо мне пусть не беспокоится совсем. Пусть только совершит заупокойные обряды по моей матери — сверх тех похоронных служб, которые отправляют ее люди. Потом добавила:
— Ничего не могу сделать. — И не смогла больше вымолвить ни слова.
От недуга я страдала долгие годы и месяцы, умершей же матушке уже ничем нельзя было помочь. Возле меня все стали говорить об одном:
— А если еще и она умрет, что мы будем делать? Почему так нехорошо получается?! — и проливали слезы, а кроме того, было много людей, которые даже плакать боялись. Я ничего не могла сказать, но находилась в сознании.
Я едва различила фигуру отца, когда он, очень обеспокоенный, приблизился ко мне и сказал:
— Я у тебя остался единственным из родителей. Что это такое получается? — Потом налил мне горячей микстуры и заставил выпить. После этого я стала понемногу поправляться. Так вот, как подумаю еще раз, возникает такое ощущение, что мысль — больше не жить — возникла у меня в те самые дни, когда ушедшая от нас так страдала, видя, как все мимолетно. Она днем и ночью с глубоким вздохом произносила только одно: «О-ой, а как у тебя-то дела?». Я вспоминала, как часто, глубоко и трудно она дышала, и мне до такого не хотелось доживать.
Канэиэ услышал обо всем и приехал. Так как я ни о чем не помнила, он от меня ничего не добился и тогда встретился с моими людьми.
— С нею дело обстоит так-то и так-то, — рассказали ему, и Канэиэ расплакался. Нужно было остерегаться осквернения, но он сказал:
— Ах, какая ерунда! — и остался со мной[34]. Всем своим видом в эту пору он показывал полное и трогательное сострадание.
И вот, завершив все погребальные дела, множество людей, занятое ими, разъехалось. Теперь мы собрались в очаровательном горном храме, скучали. Ночами я не смыкала глаз, в скорби встречала рассвет, а когда смотрела на гору, то подножие ее было закрыто туманом. Если мне уехать в столицу, у кого я там найду пристанище? Иногда я думала, что лучше, может быть, мне умереть здесь, но тогда… как же горько будет моему ребенку, который останется жить!

Так прошло десятое число. Однажды я услышала, как священнослужители разговаривали в перерыве между возглашениями имени Будды[35]:
— Это, видимо, место, где наверняка можно увидеть людей, когда-то усопших. А когда к ним близко подойдешь, облик их рассеивается и исчезает совсем. На них надо смотреть издалека.
— А какая же это страна?
— Она называется Островом Мимираку[36].
Когда я услышала, как они переговариваются между собой, то с большой грустью подумала, что мне хотелось бы знать об этой земле, и я сочинила такие стихи:
Ее хотя б издалека
Хочу увидеть.
Названье острова
Доносится ко мне —
Мимираку, Радующий ухо.
Мой старший брат услышал эти слова и тут же залился слезами.
Где он находится?
Мы слышим лишь названье.
Хотели мы найти
Ту, что упрятал
Мимираку.
Тем временем Канэиэ каждый день присылал справиться о моем здоровье, и посыльный оставался стоять, чтобы не подвергаться осквернению. У меня же не осталось никаких чувств. Канэиэ продолжал до утомительного много писать, какое нетерпение испытывает оттого, что не может видеться со мной из-за опасности оскверниться. Но я была погружена в свои думы, и память моя не сохраняла происходящего.
Хотя я и не спешила домой, но, поскольку поступала не по своей воле, на сегодня был назначен день, когда все должны были отправляться.
Сердце мое тешили воспоминания о том, как мы ехали сюда, как я поддерживала матушку, чтобы ей удобнее было лежать, и как сама покрывалась испариной от напряжения. Хотя на этот раз было намного спокойнее и я ехала, разместившись до стыдного непринужденно, — по дороге мне было удивительно печально. Когда же я, доехав до места, вышла из экипажа, мне опять сделалось невообразимо тоскливо. Травы в садике, за которыми до последнего момента мы ухаживали вместе с матушкой, начиная с того времени, когда она занедужила, были совсем заброшены — разрослись и цвели буйно, как попало. Все, каждый по-своему, хлопотали о похоронных делах, и только я, ничем не занятая, сидела, уставившись в одну точку, лишь вновь и вновь повторяла старинную песню: «Звон роя насекомых в траве, что ты сажала…»
Хоть лишены они ухода,
Цветы так буйно
Разрослись.
Благодаря твоим заботам
Они напоены росой, —
такие мысли были в моей душе.
Никто из моих родственников не был принят при дворе, поэтому на время церемонии очищения от скверны они поселились вместе; каждый принялся огораживать для себя при помощи ширм отдельную комнату, и среди всего этого только я ничего не делала, а ночью, когда я слышала Взывание к имени Будды, то снова начинала плакать и плакала до рассвета. Церемонию сорок девятого дня[37] должны выполнять все без исключения, собравшись в доме.
Поскольку Канэиэ осуществлял большинство обрядов, людей собралось много. По моему желанию, было нарисовано изображение Будды. Когда этот день закончился, все разошлись кто куда, и я почувствовала себя совершенно одинокой; с этим — чем дальше, тем больше — ничего нельзя было поделать. Канэиэ, зная о моем состоянии, посещал меня чаще обычного.
От нечего делать я разбирала вещи, которые мы с матушкой брали с собой, когда отправлялись в храм. Это были обычные предметы, которыми мы пользовались ежедневно, что называется, от рассвета до сумерек, но когда я снова увидела ее письма, — мне показалось, что теряю сознание.
Когда матушка начала слабеть, то «приняла запреты», то есть, буддийский постриг, и в этот день некий добродетельный служитель преподнес ей рясу кэса. Ряса потом была осквернена смертью владелицы, и вот теперь я увидела ее среди других ее вещей.
Думая вернуть рясу, я встала на другой день затемно, но после того, как начала писать, то после слов «эта ряса» глаза мне закрыли слезы, и я написала:
Моя матушка стала
Росинкой на лотосе.
Не та ли роса
Намочила рукав у меня
Сегодняшним утром?
Старший брат обладателя этой рясы тоже был буддийским монахом, поэтому я просила его возносить за меня молитвы, но вдруг услышала, что он скоропостижно скончался. Я очень жалела младшего брата усопшего, когда представляла себе его чувства. Мысли у меня путались: «Отчего это с людьми, от которых я завишу, так выходит?». Я часто посылала ему сочувственные письма. Тот, с которым случилась такая беда, при жизни служил в храме Унрин-ин, Павильон Облачного леса. Когда завершились по нему церемонии сорок девятого дня, я написала:
Кто б мог подумать?
Оставив
Облачный сей лес,
Он, обернувшись дымом,
В небо поднялся.
Так у меня выходило, а в той печали, в какой пребывали тогда мои собственные чувства, они блуждали, как говорится, и над степью, и в горах.
В мелкой суете прошли и осень, и зима. В одном со мною доме жили только старший брат и моя тетя. Несмотря на то, что она была для меня все равно, что родительница, думая о том времени, когда матушка была еще жива, я целые дни проводила в слезах. Тем временем, год сменился, наступила весна, а потом и лето. Пришло время проводить обряды, связанные с годовщиной смерти.
На этот раз их проводили в том горном храме, где матушка скончалась. Я слышала, как закононаставник сказал нам:
— Вы собрались сюда совсем не для того, чтобы любоваться осенними горными склонами. В том месте, где она когда-то закрыла свои глаза, постарайтесь проникнуть в толкование смысла сутр.
После этого память мне отказала, и потом я уже ничего не помню. Закончив то, что должны были совершить, мы возвратились по домам. Я снова сняла траурные одежды, темно-серого цвета вещи, и все, вплоть до веера, подвергла очищению.
Одежды траурные
Очищаю в речке,
Которая из берегов выходит
Из-за потока
Горьких слез моих, —
так я думала и неудержимо плакала, ничего никому не говоря вслух.
Закончилась годовщина смерти, наступила обычная повседневность, когда я, не для того, чтобы сыграть, а чтобы очистить инструмент от пыли, взяла в руки арфу-кото и извлекла из нее несколько звуков. Услышав их, я подумала, что вот были траурные запреты на игру, но, к сожалению, все они оказались такими мимолетными, — и тут принесли стихотворение от тети:
Я только что услышала
Звук арфы,
Молчавшей до сих пор,
И стало снова
На душе печально.
Хотя в этом стихотворении ничего особенного не было, но когда я снова все представила, то заплакала пуще прежнего.
Та, кого не стало,
Нас уже не навестит,
Хоть и вернулись дни,
Когда звенеть нам могут
Струны арфы.
Между тем, моя младшая сестра — одна среди многих доставлявшая мне приятные мгновения, — нынешним летом должна была отправиться в далекую провинцию. Теперь, когда период траура завершился, она стала готовиться к отъезду. Подумав об этом, я решила, что печалиться о разлуке с сестрой было бы глупо. Я приехала увидеться с нею в день ее отъезда. В качестве прощальных подарков я принесла с собой пару нарядов и шкатулку с приборами для письма. Перед отъездом в доме сестры поднялась огромная суматоха, но мы с отъезжающей не могли даже как следует видеть друг друга, только заливались слезами, сидя одна напротив другой. В это время в доме все твердили:
— Ну зачем это?
— Имейте выдержку!
— Это очень дурная примета.
И тут мы с сестрой увидели подъезжающую карету. Не успела я удивиться, как узнала, что она из дома, за мной.
— Скорее возвращайтесь. Сюда, пожалуйста, — услышала я, подошла к экипажу и села в него. Сестра моя тогда была одета в двойной утики цвета индиго, а на мне было тонкое одеяние цвета алых опавших листьев. Мы с нею поменялись нарядами[38] и расстались. Были уже десятые числа девятой луны. Вернувшись домой, я опять горько заплакала, до того безудержно, что мне сказали:
— Ну зачем так-то, это не к добру. Теперь я была занята думами о том, что в это время она, видимо, проезжает через горную заставу… Луна светила очень ясно, и я сидела, пристально всматриваясь в нее, до тех пор, пока тетя не встала, не заиграла на кото и не произнесла:
Чтобы не задержали ее
У заставы Афусака,
Я без остановки
Играю на лютне,
И звуки, как слезы, текут.
Выходит, еще один человек, как и я, все это время думал о ней же.
Я тоже думаю
О той заставе
В горах Афусака.
Когда названье это слышу,
От слез не просыхают рукава.
Пока я была озабочена такими думами, пришел к завершению год.
В третью луну, как раз, когда Канэиэ приехал ко мне, он внезапно заболел, и я, уязвленная его жестокими страданиями, принялась очень заботливо за ним ухаживать.
— Мне очень хочется остаться здесь, — говорил Канэиэ, — но, что бы я ни делал, я обязательно буду доставлять тебе большие неудобства, поэтому я лучше уеду отсюда. Ты не думай, что я такой черствый. Все это случилось так неожиданно, и у меня сейчас такое чувство, что больше мне не жить. Это очень горько. Ах, как это печально, что вот я умру, а ты совсем не будешь меня вспоминать.
Видя, как он при этих словах плачет, я совсем перестала что-либо понимать и тоже залилась слезами.
— He плачь, — говорил он, — это только увеличивает мои страдания. Что меня действительно удручает, так это то, что мы разлучимся так неожиданно. Как ты собираешься жить дальше? В одиночестве ведь не останешься. А если так, не выходи за другого до тех пор, пока длится по мне траур. Если я даже не умру и буду жить, думаю, что теперь навестил тебя в последний раз. Даже если останусь жить, сюда больше не приеду. Пока я находился в расцвете сил, то думал во что бы то ни стало все наладить, а если теперь умру, — это, видимо, и будет концом наших с тобою встреч, — так он говорил, лежа в постели, и горько плакал.
Потом Канэиэ подозвал тех из моих людей, которые были в доме, и сказал:
— Видите ли вы, какие чувства я испытываю к вашей госпоже? Если теперь я уеду, то думаю, что умру, и мы с нею не предстанем друг перед другом лицом к лицу — думать об этом невыносимо.
Все плакали. Сама я и вовсе не могла ничего сказать, только заливалась слезами.
Пока все это происходило, самочувствие больного становилось все тяжелее. Потом объявили, что за ним подан экипаж, помогли сесть в него, и, опираясь на спутников, Канэиэ отправился в путь. Обернувшись, он пристально смотрел на меня и выглядел очень печальным. Обо мне, оставшейся на месте, нечего и говорить.
Мой старший брат обратился ко мне, утешая: — Отчего ты такая несчастная? Что особенного происходит? Я ведь буду помогать ему. — Сел в экипаж и обнял Канэиэ руками.

Мое беспокойство не выразишь словами. По два-три раза в день я писала больному письма. Правда, я думала о том, что некоторым это могло быть неприятно, но что тут поделаешь? Ответы для меня там велено было писать одной из пожилых служанок: «Он приказал лишь написать, что не дает о себе вестей сам из-за плохого самочувствия». Я только слышала, что Канэиэ чувствует себя гораздо слабее, чем раньше, но сама не могла за ним присматривать и все сокрушалась, думая, что же мне делать. Так прошло более десяти дней.
Благодаря чтению сутр и проведению буддийских обрядов здоровье Канэиэ стало понемногу улучшаться и, наконец, как я и надеялась, он ответил мне собственноручно. «Болезнь была необыкновенно долгая, проходили дни, когда я не вставал с постели, но более всего меня беспокоит, что я доставил тебе очень много волнений», — писал он мелким почерком, видимо, когда никого не было рядом. «Поскольку теперь я нахожусь в твердой памяти, — говорилось дальше в письме, — когда наступит вечер, навести меня — на глазах у людей это делать неудобно. Ведь со дня нашей последней встречи прошло столько времени!»
Я было стала раздумывать, что про меня подумают люди, но сомнения посещали меня до тех пор, пока о том же самом он не написал повторно. Тогда я подумала, что ничего не поделаешь, и распорядилась:
— Экипаж, пожалуйста!
Очень заботливо мне была приготовлена комната, отделенная от спальни коридором, а сам Канэиэ ожидал меня, лежа на веранде… Я погасила светильник, горевший на экипаже, сошла на землю и в полной темноте, не зная даже, где вход, бормотала только: «Ой, кажется, здесь..» — и тут меня взяли за руку и проводили.
— Почему тебя так долго не было? — спросил Канэиэ, и мы с ним стали тихонько разговаривать обо всем, что происходило за эти дни, пока он не произнес громко:
— Зажгите светильники! Уже темно. — А мне сказал: — Ты ни о чем не беспокойся. — И велел поставить светильники за ширмой, так что они стали слабо освещать комнату.
— Я еще не ем рыбы и другого скоромного, но я подумал о том, что если мы с тобой сегодня встретимся, то поедим вместе. Ага, вот оно! — с этими словами он пододвинул к нам тележку с кушаньями. Когда мы немного поели, пришел буддийский наставник — тьма к этому времени сгустилась — и они стали заниматься целительными заклинаниями и выполнять магические телодвижения.
— Теперь отдохните. Сегодня мне легче, чем обычно, — заявил Канэиэ, и наставник в добродетели, сказав:
— На этом позвольте откланяться, — ушел. И вот уже стало светать, когда я сказала:
— Позови служанку.
— Что? — остановил он меня. — Да ведь совсем темно! Побудь еще…
А когда рассвело, позвал мужскую прислугу, велел открыть ставни и посмотрел в окно.
— Взгляни, — обратился ко мне Канэиэ, — как хорошо здесь растет трава.
Когда я выглянула наружу, то сразу заторопилась:
— Время уже настало очень неподходящее!
— Что такое? Сейчас прибудет завтрак! — откликнулся Канэиэ, так как наступало уже полуденное время. — Пожалуй, я обратно поеду с тобой. Еще раз тебе, наверное, нельзя приезжать.
— Что подумают люди даже о том, что я приехала сюда теперь? А если увидят, что ты провожаешь меня, будет, я думаю, еще хуже.
— Тогда вызывай людей и экипаж, — согласился Канэиэ, и когда экипаж был подан, он, шагая явно с трудом, проводил меня до того места, где мне нужно было садиться. Смотреть на него было очень трогательно.
— Когда ты сможешь выезжать? — спросила я, заливаясь слезами.
— Я очень тревожусь о тебе, так что приеду завтра или послезавтра, — ответил он, и вид у него был обеспокоенный. Экипаж немного подали назад, и проследив, как запрягали вола, я продолжала смотреть на Канэиэ. Он вернулся в комнату и смотрел на меня оттуда, и пока упряжку выводили из ворот, я тоже, помимо воли, все время оборачивалась и внимательно вглядывалась в него.
И вот около полудня пришло письмо. Там было написано обо всякой всячине:
После того, как ты была здесь,
Все думаю —
Ужели это все?
О, как горька
Повторная разлука!
Ответ был таков: «Я все еще обеспокоена тем, что тебе было так трудно.
Мне тоже было горько.
Обратная моя дорога
В бухте слез
Была такой печальною
Дорогой».
Дня через два или три, хотя ему еще было трудно, Канэиэ, как и обещал, приехал увидеться со мной. Постепенно он становился таким, как обычно, и его посещения стали такими, как прежде.
Пришла пора отправляться смотреть праздники четвертой луны, и главная госпожа выехала тоже. Обнаружив это, я распорядилась остановиться напротив. Пока мы ожидали процессию, от нечего делать я написала и послала ей половину стихотворения, прикрепив его к побегу мальвы, связанному с плодом апельсина:
Хоть слышу я, что это мальва,
С другой же стороны
Я вижу апельсин.
(Хоть слышу я о нашей встрече,
С другой же стороны,
Все ж лучше подождать)[39].
Прошло довольно много времени, покуда от нее не принесли заключительную часть к этому стихотворению:
«Как Вы горюете,
Я вижу лишь теперь.
(Я горечь желтого плода
Теперь лишь только вижу)».
Одна из моих служанок заметила:
— Она должна была питать неприязнь к Вам годами, так почему же она говорит только про сегодня?
Когда мы возвратились домой, я обо всем рассказала Канэиэ: «Было то-то и то-то», — и он отметил:
— Ей, наверное, хотелось сказать: «У меня возникло желание разжевать Вас вместо апельсина!»
Нам это очень понравилось.
В нынешнем году, когда дошли до нас слухи, что праздник ирисов состоится, все пришли в необыкновенное возбуждение. Я думала, как бы посмотреть его, но заранее не заказала себе место. Как-то, в присутствии Канэиэ, я сказала:
— Думала я посмотреть…
А когда он однажды пригласил меня:
— Сыграем в шашки сугуроку! Я ответила:
— Хорошо. Но только на спор — на зрелищное место! — И выиграла. На радостях я стала готовиться к празднеству, и среди ночи, когда все успокоилось, придвинула к себе тушечницу и для разминки написала:
Я не считаю ирисов
Вытянувшихся стебли,
Чтоб выдернуть их с корнем.
Но ожидаю праздника цветов,
Что в пятую луну бывает.
А написав, протянула Канэиэ. Он рассмеялся:
Кто знает их число,
Пока они растут в болоте?
Иль ждешь ты
Праздника,
Тех ирисов не зная?
Правда, у Канэиэ и до этого было намерение посмотреть церемонию, и рядом с помостом для принца у него было приготовлено место для ее обозрения, ограниченное двумя столбиками и великолепно украшенное.
Так, на посторонний взгляд безобидно, мы прожили в браке больше одиннадцати или двенадцати лет. Однако все это время я денно и нощно продолжала сожалеть о том, что мы живем не как все люди. Для этого были все основания. Если говорить обо мне, — в то время, когда Канэиэ рядом не видно было, меня одолевала тоска от малолюдья, а отец — единственный человек, который служил мне надежной опорой, — уже больше десяти лет был скитальцем по уездам; в редкие же свои посещения столицы он находился в особняке на Четвертой-Пятой линии, в то время как я жила у ближнего скакового поля на Первой линии, далеко оттуда. Мое обиталище, за неимением человека, который бы приводил его в порядок, пришло в очень плохое состояние. Мысли у меня запутались в тысяче трав, о том, что Канэиэ, который равнодушно приезжает сюда и уезжает отсюда, — даже не задумывается о том, что для меня это может быть обидно. И то сказать — он был весь в делах, даже заметил как-то, что окружен ими плотнее, чем запущенное жилище полынью, и все время думает о них. Так наступила восьмая луна.
Однажды, когда мы уже провели день вполне безмятежно, мы вдруг заговорили о каких-то пустяках, а в конце концов и я, и Канэиэ стали говорить друг другу всякие неприятности, и он, высказав мне множество упреков, вышел вон. Дойдя до угла, Канэиэ позвал нашего малютку-сына и заявил ему:
— Больше я сюда не собираюсь приходить! — И уехал. Ребенок пришел в дом потрясенный, горько рыдая.
— Ну, что такое, что случилось? — спрашивала я, и, хотя он ничего не отвечал, я поняла, что тут за причина, и не стала больше спрашивать, чтобы окружающие не услышали и чтобы об этом не пошли толки, постаралась успокоить ребенка разными разговорами.
Прошло дней пять или шесть, но от Канэиэ не было ни звука. Положение сделалось совершенно необычным, и я думала только о том, что Канэиэ вывела из равновесия и привела к таким ненормальным поступкам всего лишь одна моя шутка. «Неужели, — думала я, — наши такие неустойчивые отношения на этом и закончатся?» От подобных мыслей мне становилось очень печально. И тут я обнаружила, что вода в туалетном сосуде, налитая им в тот день, когда он ушел, так и стоит. Сосуд уже покрылся пылью. «Вот до чего уже дошло», — подумала я со стыдом и вспомнила тот день.
Было б видно твое отраженье,
Его бы спросила:
«Ужели меж нами закончено все?»
Но нет отраженья — растет уж трава
Водяная на этой прощальной воде.
И как раз в этот день появился Канэиэ. Как обычно, грустное настроение у меня прошло. Я только нервничала, и было очень печально, что спокойствие так и не наступило.
С приходом девятой луны природа стала очаровательной, и я решила, что хорошо бы мне пойти на поклонение в храм, где я могла бы поведать богам о моей полной превратностей жизни, — и втайне ото всех отправилась в одно такое место. К полотну, приготовленному в качестве жертвоприношения, я прикрепила различные надписи. Сначала для нижнего святилища:
О, чудодейственные боги
Подножия горы.
Я вас прошу —
Вы здесь мне покажите
Священное обличие свое.
У среднего:
А в самом конце:
К богам я ходила молиться,
То вверх, то вниз по склонам.
Но все-таки чувствую я, —
Пожеланья мои
Эти склоны не преодолели.
В ту же девятую луну я отправилась на поклонение в другое место. В каждом из двух его святилищ оставила по два жертвоприношения. Для нижнего написала:
В теченьи верхнем
Или в нижнем
Запружен оказался
Ручей Омовения рук?
А может, из-за невезенья моего…
И еще:
На зеленые ветви сакаки
Хлопчатобумажную ткань повязав,
Прошу у богов —
Всех трудностей сей жизни
Мне не показывайте, боги!
И еще для верхнего храма:
Когда же он будет,
Когда же он будет, —
Все ожидала, проходя
Сквозь рощу, в просветах деревьев,
И видела сверкание богов.
И для него же:
Если хлопчатобумажные
Тесемки связав на рукавах,
Я перестану
О жизни своей сокрушаться, —
Подумаю, это сигнал от богов.
Однако заставляла я богов слушать там, где они не слышали…
Осень закончилась, уже первое число зимней луны сменилось последним ее числом, и все люди — и низкого, и высокого положения — суетились, и так проходило время, а я все ложилась спать в одиночестве.
Около конца третьей луны на глаза мне попались яйца диких гусей, и я подумала, как бы ухитриться связать их по десять штук. И от нечего делать вытянула длинную нитку шелка-сырца и ею перевязала одну штуку, и так, постепенно, всю партию. Получилось очень искусно. «Зачем держать ее у себя?» — подумала я и отправила связку придворной даме из дворца на Девятой линии. К подарку я прикрепила ветку цветущего кустарника дейция. Ничего особенного в голову мне не пришло и обычное по содержанию письмо я закончила словами: «Я решила, что этот десяток можно связать и таким способом». В ответ на это я получила стихотворение:
Могу ли я принять всерьез
Десяток этот,
Когда сравню его
С бесчисленными
Думами о Вас?
Получив эти стихи, я ответила:
Нет проку, когда я не знаю,
Сколь часто
Меня вспоминаете Вы.
Не лучше ли снова и снова
Увидеть число!
Впоследствии я слышала, что она изволила передать мой подарок пятому сыну государя.
Наступила и пятая луна. После десятого числа разнесся слух, что государь занедужил, а вскоре, в двадцатых числах, он изволил сокрыться от нас. На смену ему изволил взойти на престол наследный принц — владелец Восточного павильона. Канэиэ, который до тех пор именовался помощником владельца Восточного павильона, был провозглашен куродо-но то, главою административного ведомства, поэтому мы, вместо того, чтобы быть погруженными в печаль по случаю траура по покойному императору, только и слышали от людей, как они рады повышению Канэиэ по службе. Хотя я, отвечая на поздравления при встречах, испытывала чувства, будто и сама немного похожа на других людей, — душа у меня оставалась все той же, зато окружение мое при этом сделалось очень шумным.
Узнавая о том, как обстояли дела с императорской усыпальницей, и о прочем, что было связано с погребением, я представляла себе, как скорбят люди высокопоставленные, и печаль охватывала меня. Проходили дни за днями, и вот я отправила несколько писем с выражением соболезнования госпоже из дворца Дзёган. В их числе было такое:
Как этот мир
Непостоянен! —
И вот горюем над курганом,
Где усыпальница
Погребена.
Ее ответное послание было преисполнено горести:
Объята горем я
По государю,
И думаю, что где-то рядом он.
А он уже, наверное, не здесь,
Он входит в гору мертвых.
Когда закончились обряды сорок девятого дня и наступила седьмая луна, я услышала, что человек, который служил в дворцовой охране в чине хеэноскэ, еще молодой по возрасту, безо всякой видимой причины внезапно бросил и родителей, и жену, поднялся на гору Хиэйдзан и стал монахом[41]. Вскричав, что это невыносимо, глубоко задетая в своих чувствах, его жена тоже стала монахиней. В прежние времена я состояла с нею в переписке, и тут, очень тронутая, я решила выразить этой даме свое расположение:
Мне грустно было
Представлять
Супруга Вашего в горах.
Но вот уже и Вы
В небесных облаках!
Нисколько не изменившимся почерком она написала ответ:
Вошел мой муж
Глубоко в горы.
И я его хотела отыскать.
Увы — легли меж нами
Небесные те облака.
Я прочла и мне взгрустнулось…
А в этой мирской жизни Канэиэ продолжал радоваться продвижению по службе — то до генеральского чина тюдзё, то уже до третьего придворного ранга.

— Плохо то, — сказал он мне, — что разные места вызывают у меня много разных неудобств: здесь поблизости я присмотрел один удобный дом. — И перевез меня в него.
Сюда, если под рукой даже не было паланкина, он добирался быстро, так что я могла вовсе не заботиться о том, что подумают люди. Это было в середине одиннадцатой луны — месяца инея.
В последний день двенадцатой луны госпожа из дворца Дзёган пожаловала ко мне через западную сторону моего поместья. Когда наступил последний день года, я приготовилась проводить обряд Изгнания демона, и еще с полудня, когда раздался шум: «Гохо-гохо, хата-хата», — стала улыбаться сама себе, и так встретила сначала рассвет, а за ним и полдень. За это время в гости ко мне не пришел никто из мужчин, и я сидела в безмятежности. Я тоже слышала шум по соседству и беззвучно смеялась, вспоминая стихи «То, что буду ждать теперь».
Одна из моих дам для собственного развлечения оплела сеточкой каштан и сделала из него жертвоприношение, а потом укрепила его в виде ноши к деревянной одноногой фигурке; я взяла эту фигурку к себе, к ее бедру прицепила клочок цветной бумаги, написала на нем стихотворение и поднесла этой особе.
Жить с одной ногою, —
Как в любви бесцветной,
Одинаково горько бывает.
А без палки в руке
Никогда не встречается горец.
Когда она услышала это стихотворение, то связала вместе концы коротко обрезанной сушеной водоросли «морская сосна»[42], надела эту связку на палку вместо каштана, а у куклы подскоблила на ее сухой ноге деревянную шишку, так что она стала казаться больше, чем прежде, и вернула ее назад. Когда я посмотрела на эту куклу, на ней обнаружила бумажку, где было написано:
Когда бы с ним ожиданье
Встречи с любимым
Можно было сравнить,
Они б оказались сильнее —
Страданья любви безответной.
Солнце стало подниматься все выше, я отослала ей праздничные яства, и сама, в свою очередь, получила от нее такие же; пятнадцатого числа мы тоже провели обычные обряды.
И вот наступила третья луна. Я по ошибке получила письмо Канэиэ, предназначенное, очевидно, госпоже из дворца Дзёган. Когда я обнаружила это, ошибку было уже не исправить. В письме было написано: «Я собирался в скором времени побывать у тебя, но подумал, что возле тебя находится та, которая может подумать: „То не ко мне ли?“». Поскольку они за много лет привыкли видеться друг с другом, я подумала, что ничего сюда добавлять не нужно, и написала очень немного:
Не захлестнет
Сосновую ту гору Мацуяма,
А обо мне
Неужто, притворившись,
Так шумит волна?!
— Отнесите той госпоже! — велела я, отправляя письмо. А когда чуть погодя поинтересовалась, оказалось, что от нее сразу же принесли ответ:
Когда встает волна,
Что нагоняет ветром
У горы Мацуяма, —
Чем она ближе,
Тем ее вздымает выше.
Поскольку эта госпожа выполняла обязанности наставницы наследного принца, она должна была скоро переехать во дворец.
— Неужели так и расстанемся? — говорила она мне часто. — Нам бы встретиться хоть ненадолго.
Поэтому однажды, как только сгустились сумерки, я пришла к ней. Как раз в то время в моем доме раздался голос Канэиэ.
— Эй-эй! — восклицал он, и так как я вела себя так, будто не слышала его, госпожа из Дзёган проговорила:
— Как спустились сумерки, послышалось мне, будто к вам пришел братец. Он будет очень недоволен. Скорее идите к нему!
Но я заметила:
— Он, я полагаю, может побыть и без няньки. — И немного задержалась. Но за мною пришли, да и хозяйка торопила, так что скоро я возвратилась домой. Госпожа из Дзёган уехала во дворец на следующий день вечером.
В пятую луну завершился траур по покойному императору, и госпожа из Дзёган должна была на некоторое время оставить дворец. Думали, что она переедет в прежний дом, поблизости от меня, но она сказала, что видела дурной сон, поэтому на время поселилась в поместье Канэиэ. Однако дурные сны часто повторялись и там, и, решив: «Хорошо бы, если б они не предвещали беды», — госпожа из Дзёган однажды в седьмую луну, в очень светлую ночь, написала мне такие стихи:
Я поняла теперь,
Как трудно длится сон
Осенней ночью
После дурного сновидения,
Пусть даже не сбывается оно?
Мой ответ:
Вы правы — сон дурной
Не сбудется ли, трудно ожидать.
Но как же горько
Знать, что встречи наши
Надолго миновали!
Она сейчас же прислала новое стихотворение:
Я видела во сне,
Как с Вами повстречалась.
Теперь живу,
Очнуться не могу,
Окутана туманом милых встреч.
Когда я его получила, то опять написала ей письмо:
С тех пор, когда прервались
Наши встречи,
Со мной вы говорите,
Встретившись во сне.
Но этот способ встречи неизвестен мне.
И снова она написала: «Что такое „когда прервались“? Это же нельзя считать приметой.
Когда я вижу реку, —
Ее не перейду,
Едва подумаю —
Она неодолима.
Не делайте серьезных заключений».
Тогда я ответила:
Если не можешь реку пересечь,
Но только душой стремишься
К тому, кто на том берегу, —
Разве стремнины, разве пучины
Разделят сердца людей?!
Так мы и обменивались стихами ночь напролет.
Уже несколько лет у меня было желание — я думала как-нибудь отправиться на паломничество к храму Хассэ[43], и теперь решила, что сделаю это в следующую, восьмую луну. Но у меня никогда не получалось сделать так, как было задумано вначале, — вот и в этот раз я перенесла поездку на девятую луну. Правда, Канэиэ сказал мне:
— В следующую, десятую, луну состоится церемония Первого вкушения государем риса нового урожая под названием Дайдзёэ. С моей стороны там должна быть представлена придворная дама — одна из моих дочерей. После того, как церемония закончится, я смогу поехать с тобой.
Девушка эта отношения ко мне не имела, поэтому я тайком от Канэиэ отправилась в путешествие. Так как этот день, согласно гаданию, не был признан благоприятным, мы лишь выехали из ворот и остановились в районе храма Хосёдзи[44], а с рассветом пустились дальше. Примерно в полдень, в час Лошади[45], мы достигли поместья Удзи и остановились там.
Я огляделась. В просветах между деревьями искрилась поверхность реки, и это создавало очень трогательное впечатление. Я подумала, что здесь очень покойно и хорошо, что людей со мной отправилось немного: я выехала без подготовки. Если бы здесь кроме меня был еще кто-нибудь, насколько было бы тогда шумнее!
Я велела развернуть экипаж, вынести из него занавеси, выйти и сойти на землю только сыну, — он ехал, сидя в глубине экипажа, — и когда я подняла на окнах шторы и выглянула наружу, то увидела, что реку перегораживала рыболовецкая плотина. Множества лодок, сновавших во все стороны, отсюда видно не было, так что все вокруг было исполнено очарования. Когда я посмотрела на сопровождающих, то увидела, что утомившиеся в дороге слуги, как некую драгоценность, срывают захудалые с виду мандарины и груши и уплетают их. Это выглядело трогательно.

Подкрепившись закуской из коробочек вариго, мы погрузили экипаж на паром, переправились на другой берег и продолжали двигаться мимо пруда Ниэно, вдоль реки Идзуми. Водоплавающих птиц я принимала как-то близко к сердцу, они очаровывали и умиляли меня. Может быть, оттого, что мы выехали путешествовать тайком, все по дороге трогало меня до слез. Вот мы и переправились через реку Идзуми.
На ночлег остановились в местности под названием монастырь Хасидэра[46]. Часов в шесть вечера — в час Птицы — мы сошли на землю и расположились отдыхать, но прежде всего из того строения, которое мы определили как кухню, нам вынесли нарезанную редьку и овощной салат, приправленный апельсиновым соком. Удивительное впечатление от всего этого забывается с трудом, так полно оно своеобразным ароматом путешествия.
Когда рассвело, мы опять переправились через реку, и когда во время переправы я увидела дома, сплошь обнесенные заборами, то подумала, что они из какого-то — не помню точно какого — романа, и тогда меня опять охватило очарование. В этот день мы опять остановились в строении напоминающем храм, а назавтра — в местности под названием Цубаити. Наутро, при свежевыпавшем инее, сверкающем белизной, я увидела, как торопливо шагают паломники. Ноги их обернуты куском полотна. Люди прибывают в храм или возвращаются из него. В помещении, которое мне отвели, шторы были подняты, и, пока для меня кипятили воду, я смотрела наружу. Паломники виднелись повсюду, и каждый из них был погружен в себя.

Несколько времени спустя ко мне пришел человек с письмом. Остановившись на расстоянии, он промолвил:
— Письмо для госпожи.
Я посмотрела и прочла: «Вчера и сегодня я очень озабочен мыслью, не случилось ли чего у тебя. Как тебе понравилось путешествовать с малым числом сопровождающих? Останешься ли ты на затворничество в храме, как говорила прежде, дня на три? Когда услышу, что ты должна возвращаться, я хотя бы встречу тебя».
В ответ я написала ему: «Я спокойно доехала до местности под названием Цубаити. Думаю отсюда углубиться еще больше, поэтому не могу дать тебе знать о дне моего возвращения».
Однако посыльный вернулся лишь после того, как услышал, что моя прислуга определила: «Затвориться здесь еще на три дня — ничего в этом хорошего нет».
Отправившись в путь, мы удалялись от дома все дальше, и дорога постепенно создавала ощущение, что мы углубляемся в горы. Я была совершенно очарована шумом воды. Криптомерии вздымались в небо, пестрели листья деревьев. Вода бежала, разбиваясь о камни и делясь на многие потоки. Когда я видела, как все это пронизывают лучи вечернего солнца, я не могла удержать слезы.
Дорога здесь не была особенно красивой. Багряных листьев на кленах еще не было, цветы уже все завяли, виднелись только метелки травы сусуки. Здесь все казалось близким сердцу, поэтому я подняла в экипаже верхние шторы, опустила нижние и все смотрела и смотрела — и вдруг заметила, что дорожные одежды на мне кажутся совершенно выцветшими. Я достала сшитый из тонкого слабо окрашенного полотна мо и обратила внимание, что, в отличие от его пояса, по цвету он совпадает с выгоревшими на солнце прелыми листьями, и это снова вызывало чувство умиления.
Очень грустный вид был у нищих, сидевших со своими плошками и горшками в руках. Когда я въезжала в ворота храма, то оказалась совсем близко к этой черни.
Вечером, когда мне не спалось и не было никаких особенных занятий, я погрузилась в слух и услышала, как громко молился один незрячий; не думая, вероятно, что кто-нибудь его услышит, он не говорил ни о чем необыкновенном, но — только о том, что накопилось на душе. На меня это произвело такое впечатление, что после этого я могла только проливать слезы.
Я думала, что немного побуду здесь, но как только рассвело, мы шумно выехали из ворот храма. Возвращение тоже было предпринято тайком, но и здесь и там владельцы поместий стали приглашать меня к себе в гости, так что путь назад сделался беспокойным. Я считала, что на третий день пути должна прибыть в столицу, но стало очень темно и пришлось остановиться в местности Кудзэномиякэ в провинции Ямасиро.
Место было очень убогое, и, едва наступила ночь, я стала ждать рассвета. Мы выехали еще затемно, и тут нас нагнал верховой, одетый в темный плащ. Довольно далеко от меня он спешился и, прежде всего, преклонил колени. Я взглянула — это был телохранитель Канэиэ.
— В чем дело? — спросила я, и тогда он отвечал:
— Вчера вечером, около часа Птицы, хозяин изволил прибыть в поместье Удзи и распорядиться: «Поезжайте к госпоже и пришлите ее сюда!»
Погонщики быков, шедшие впереди, принялись всячески понукать быков.
Когда мы приблизились к реке Удзи, поднялся туман, из-за которого не видно стало дороги, и у меня на душе сделалось тревожно. Быков выпрягли, и оглобли у экипажа опустили, стали готовиться к переправе, и тогда послышалось множество громких голосов:
— Подними оглобли у экипажа, положи их концы на берег!
В тумане виднелась обычная рыболовецкая плотина. Было не сказать, как удивительно. Оказалось, что сам Канэиэ стоит на противоположном берегу. Я написала ему стихотворение и отправила впереди себя.
Но каковы
Сердца людские —
Известен им тот день, когда
Рыболовецкую плотину
Поставить в Удзи для тебя!
Когда лодка, с которой оно было послано, вернулась к нашему берегу, мне передали его ответ:
В своей душе
Я дни считал,
Когда надумаешь домой вернуться,
А ты спросила, для кого
Поставлена плотина в Удзи.
Пока я читала эти стихи, экипаж погрузили на паром и с громкими восклицаниями стали переправляться. Было не очень удобно, но и отпрыски довольно высокопоставленных семейств и какой-то чиновник ранга дзё-но-кими теснились между оглоблями, короткими слегами на заднике экипажа. Едва пробились лучи солнца, как мало-помалу туман растаял. Стало видно, что на том берегу выстроились в ряд племянник Канэиэ, офицер дворцовой гвардии и другие люди. Канэиэ стоял среди них, одетый для путешествия в охотничье платье. Паром пристал к берегу в высоком месте, так что мы поднялись на сушу с некоторым усилием. Экипаж вкатили за оглобли, по настилу из досок.

Когда мы собрались на веранде, чтобы я разговелась после паломничества специально приготовленными яствами, один человек сказал о владельце поместья на противоположном берегу, старшем секретаре Адзэти:
— Мне сказали, что он сейчас осматривает рыболовецкие плотины, и после этого, видимо, приедет сюда.
— Как только услышит, что мы приехали, непременно пожалует.
Только об этом перемолвились, как от господина Адзэти принесли очень красивую кленовую ветку с багряными листьями, привязанную к фазану и свежей рыбе. «Я только что услышал, что вы изволили пожаловать сюда, и захотел отобедать с вами вместе, только в этот день у меня, к сожалению, не случилось ничего примечательного», — было написано в сопроводительной записке. Канэиэ ответил: «Не успели мы прибыть сюда, как Вы сейчас же прислали услужить нам. Извините за беспокойство», — потом снял с себя нижнее одеяние[47] и подарил посыльному. Тот, так и не снимая платья, переправился через реку.
Оказывается, карп, окунь и другие яства были присланы в соседнюю комнату, слугам. Некоторые любители уже собрались выпить, и от них слышалось:
— Какая замечательная вещь! Пусть лунный диск колес сего экипажа виден будет и при солнце!
Один из моих домашних слуг украсил задок моего экипажа цветами и яркими кленовыми листьями.
— Чтобы пришел такой день, когда расцвели бы ближние цветы и стали плодами! — воскликнул он, и Канэиэ высказал ему благодарность за это, а потом все мы на лодке переправились на другой берег. Предварительно Канэиэ отобрал всех любителей выпивки, взбодрив их словами:
— Поедем, напьемся как следует!
Экипажи мы велели повернуть в сторону реки, а их оглобли поднять на подставки; сами же переправились на двух лодках. А потом, совершенно опьянев, с пением возвращались домой и кричали:
— Экипаж запрягай, запрягай!
От всего этого я чувствовала себя в затруднении и вернулась домой очень усталой.
Когда рассвело, я занялась спешной подготовкой к приближающемуся обряду великого очищения.
— Здесь надо сделать то-то и то-то, — сказал Канэиэ, и я впопыхах старалась исполнить это. Демонстрация продолжалась и во время церемонии, в особом экипаже. Сплошным потоком следовали служанки, телохранители выходили красочно одетые, создавая великолепное настроение. Наступила следующая луна, мы стали готовиться к предварительному смотру перед самой церемонией Первого вкушения государем риса нового урожая. Я тоже была занята подготовкой к осмотру, а тем временем подступили хлопоты по случаю завершения года.
Так накапливались годы и месяцы, и мне было грустно от того, что не получалось так, как бывало задумано заранее, так что и наступление Нового года не приносило счастья. Я только думаю, что все в мире быстротечно, и эти записи можно назвать дневником эфемерной жизни, наполненной всяческими недостойными чувствами.
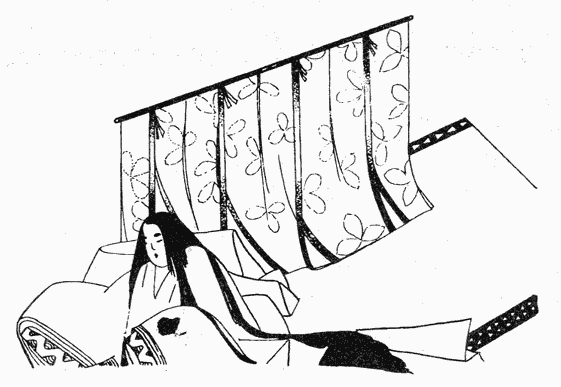
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ