Глава XI Дух и дисциплина армии Наполеона
На войне три четверти всего – это моральные силы.

В предыдущих главах прежде всего речь шла о материальной стороне армии Наполеона. О моральных категориях говорилось лишь в той минимальной мере, которая была необходима для связности повествования. Теперь нам предстоит обратиться к ним подробнее, ибо моральный фактор столь важен на войне, что без него портрет армии будет явно незавершенным. Нет сомнения, что данная глава представляет собой самую субъективную часть повествования, ибо здесь почти ничего не поддается строгому математическому учету. Можно, конечно, посчитать количество дезертиров в той или иной части, количество награжденных или количество приговоров военно-полевых судов, вынесенных в том или ином соединении, но кто может сосчитать число солдатских подвигов, оставшихся неизвестными, или, напротив, актов грабежа и насилия над мирными жителями, оставшихся безнаказанными? Как подсчитать отвагу и трусость, великодушие и низость, щедрость и алчность? Недаром по-русски и по-французски все это называется «духом» (ésprit), субстанцией прозрачной, неуловимой, эфемерной.
И все-таки от этой эфемерной субстанции зависит на войне все. Ничто не заменит в бою веры в свое дело, презрения к смерти, уверенности в своих силах, моральной спайки, дисциплины, ничто не спасет армию, в которой царит расхлябанность, недисциплинированность, которая не верит ни в правоту своего дела ни в победу.
Чтобы раскрыть моральный образ Великой Армии, нам придется не раз прибегнуть к примерам, однако примеры не следует рассматривать как доказательство того или иного положения.
Действительно, набором отдельно взятых фактов можно создать какой угодно образ наполеоновского войска, как, впрочем, и всякого другого – от черного до светло-идиллического. Поэтому примеры, которые приведены здесь, являются лишь иллюстрацией того образа солдат и офицеров императора, который сложился у автора на основе изучения тысяч источников – писем, официальных документов, дневников, мемуаров.
Мы начнем это эссе о духе наполеоновской армии с качества, которое было ее неоспоримой и неотъемлемой характеристикой. Этим качеством была отвага, и это, в общем, неудивительно в войсках, которые с 1792 г. почти непрерывно были в пекле войн, большей частью победоносных.
Свидетельство не раз уже упоминавшегося Клаузевица, непримиримого врага наполеоновской Франции, звучит, пожалуй, наиболее убедительно: «Надо было самому наблюдать стойкость одной из частей, воспитавшихся на службе Бонапарту и предводимых им в его победоносном шествии, когда она находилась под сильнейшим и непрерывным орудийным огнем, чтобы составить себе понятие, чего может достигнуть воинская часть, закаленная долгой привычкой к опасностям и доведенная полнокровным чувством победы до предъявления самой себе требования высочайших достижений. Кто не видел этого, тот не сможет этому поверить»[597].
Наивно, конечно, было бы полагать, что в полки Наполеона не попадали трусы, просто последние если и были, то они либо дезертировали, либо, стиснув зубы, должны были следовать общему порыву и иногда, увлеченные им… становились героями.
Особенно беспощадной к трусости была офицерская среда. Д’Эспеншаль, автор блистательных по точности воспоминаний, рассказывает, как старший офицер, прибывший в 5-й гусарский полк, оказался не на высоте своей миссии в одном из первых боев кампании 1809 г. Тогда, как рассказывает автор, служивший в этой части: «…все офицеры полка заявили единодушно, что он не достоин командования…», и с согласия генерала Пажоля провинившегося офицера отправили в депо во Францию «под предлогом необходимости заниматься организацией подкреплений, однако, накануне отъезда по поручению всех офицеров полка, молодой сублейтенант заявил изгнаннику, что он должен снять с себя белый ментик (характерная деталь униформы 5-го гусарского, ставшая его символом), и что, если он этого не сделает, то о его поведении будет доложено Императору. С этого времени мы больше ничего не слышали об этом офицере…»[598].
Понятно, что с офицерским корпусом, пронизанным чувством чести, честолюбием и жаждой славы, распаленными императором, при ежедневном экзамене на храбрость трусу, особенно в офицерских эполетах, было нечего делать в наполеоновских полках. Ведь как писал де Брак: «На поле боя человек раскрывается таким, каков он есть. Здесь нет больше вуали, нет хитроумных уверток – все страсти человека выступают наружу, его душа открыта, и в ней может читать любой, кто захочет. Здесь интриги в бессилии молкнут, здесь храбрецы приемных, умники салонов… любители погарцевать в мирное время не задирают носа. Горе любому, кто побледнеет в бою, даже если он и носит шляпу с шитьем, горе эполетам и галунам, которые склонятся под ветром от ядра… Здесь вершится неподкупное правосудие, и горе тому, кто будет осужден трибуналом, где честь – судья»[599].
Нужно было не просто быть бесстрашным, но нужно было, чтобы это все видели: не склонять голову под ядрами и пулями! – понималось абсолютно буквально. Как-то раз кавалерийский генерал Груши вместе со своим начальником штаба полковником Жюмильяком и начальником артиллерии полковником Гриуа отправились на рекогносцировку. Неприятельское ядро, просвистевшее совсем рядом от них, заставило Жюмильяка невольно пригнуться. Гриуа пишет, что «… генерал Груши не мог сдержать улыбку. Он сказал, обращаясь ко мне: “Кажется, полковник, вы лучше знакомы с ядрами, чем этот господин, ибо вы не приветствуете их столь же почтительно”. Несчастный начальник штаба был сконфужен и не ответил ни слова. Впрочем, у многих военных, которых я знал, – это всего лишь невольное движение, которое, однако, было для них настоящим несчастьем, ибо многие приписывали эти кивки страху»[600].
Трусость в солдатской среде была столь же презираема, как и среди офицеров, причем, подобно своим командирам, солдаты сами разбирались с теми, кто вел себя недостойно в бою.
И все же не страх перед наказанием, даже наказанием со стороны товарищей, был главной мотивацией отваги. Жажда славы, почестей, желание подняться по ступеням военной иерархии и, наконец, просто упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю армию Наполеона, вплоть до самой толщи солдатской массы. Капитан Дебёф рассказывает в своих бесхитростных и удивительно точных мемуарах о чувствах, которые он, будучи молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом бою: «…Войска, в нетерпении сразиться с врагом, ринулись по мосту. Затрещала ружейная пальба, и я ускорил шаг, гордый тем, что я ступил на австрийскую землю и еще более тем, что я шел в охране знамени. Это было великолепное зрелище – мой первый бой…»[601] Прошло немного времени, и новичок стал закаленным воином, без оглядки идущим на врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал в руках ружье и ускорил шаг в нетерпении доказать, что я достоин быть французом»[602].
«Какой это был прекрасный бой! – записал 18 октября 1806 года в своем дневнике другой солдат, – Мы не очень-то много видели, ибо дым заволакивал нас со всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. Тебе хочется кричать, скусывать патроны и драться. При всполохах огня, вылетающего из жерл орудий, в красных клубах пушечного дыма, были видны силуэты канониров на своем посту, похожих на театр китайских теней. Это было восхитительно!»[603]
Как видно из последнего отрывка, бесстрашие перед лицом опасности перешло в наполеоновской армии в нечто большее – жажду опасностей. Грохот канонады вызывал у основной массы солдат и офицеров не страх, а страстное желание сразиться с врагом, добиться новых отличий, совершить подвиги. Интересен в этом смысле один из эпизодов в дневнике Фантена дез Одоара, редком по точности и яркости характеристик источнике, ибо капитан Фантен дез Одоар писал свой дневник прежде всего для себя и по самым свежим следам событий – каждый эпизод записывался если не вечером того же дня, то через день или два. Вот что он занес в свою тетрадь 4 декабря 1808 года, когда после сравнительно продолжительной по меркам той эпохи мирной передышки (больше года!) его полк на марше в Испании услышал впереди гул орудий: «После Фридланда мы не слышали этого величественного голоса битв. Его первые раскаты, звучавшие подобно раскатам отдаленного грома и отраженные тысячекратным эхом в горных долинах, по которым шли наши колонны, заставил нас восторженно затрепетать от наших воспоминаний и наших надежд»[604].
Современному человеку нелегко понять, что для офицеров и старых солдат наполеоновской армии сама война стала предметом не страха, а вожделения. Буквально все документы описываемой нами эпохи (а мы еще раз подчеркиваем, что отдаем безусловное предпочтение тем из них, которые написаны по горячим следам событий) говорят, что весть об объявлении войны армия встречала восторгом. Вот, как уже известный нам д’Эспеншаль описал чувства, которые испытывали его гусары накануне кампании 1809 года. В январе он отметил в дневнике: «…все происходящее подтверждает, что весной начнется война с Австрией, что наполняет нас радостью». В марте он добавляет новую запись: «… мы узнали, что мы скоро выступим в поход, что было воспринято с бешеным восторгом». Наконец, когда 10 апреля утром капитан Добантон, адъютант Пажоля, принес известие о том, что австрийцы начали войну, д’Эспеншаль написал: «Эта новость была встречена полком восторженными криками “Vive l’Empereur!” И уже час спустя наши гусары обменялись с врагом первыми выстрелами из карабинов, ставшими прелюдией к великой драме, которая, под названием Ваграмская кампания, должна была потрясти Европу»[605].
Другой современник вспоминал о начале того же похода: «Нам не терпелось прибыть на новые поля битв, снова увидеть Италию, которую мы уже знали, и австрийцев, которых мы тоже знали, но тем не менее считали, что еще недостаточно померились с ними силами…»[606].
Наконец, сейчас просто трудно поверить, зная о том, что ожидало Великую Армию на правом берегу Немана в 1812 году, те чувства, которые охватывали солдат и офицеров накануне роковой войны. Вот, что записал в своём дневнике офицер гвардии: «1 марта 1812 года. Париж… Я только что узнал с невыразимым наслаждением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она скоро начнется, эта новая война, которая так превознесет славу Франции. Огромные приготовления завершены, и скоро наши орлы полетят к тем краям, которые наши отцы едва знали по названию…»[607].
Все эти слова не были пустой бравадой. Едва только эти люди оказывались в бою, они рвались в самое пекло. Их отвага носила на себе отпечаток живости национального характера французов, она была дерзкой, напористой и еще лучше раскрывалась в атаке, чем в обороне. Вот только часть списка представленных к награждению после сражения под Ауэрштедтом солдат 25-го линейного полка:
«…Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на вражескую батарею и захватил у канониров знамя артиллерии.
Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пушку, после того, как убил одного канонира, а остальных взял в плен.
Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы дрался с вражескими кавалеристами, уничтожил многих из них и с жаром преследовал неприятеля.
Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во вражеские ряды…»[608].
А ведь это всего лишь один из многих полков, мужественно сражавшихся в этой битве!
«Эти французские солдаты, – писал в 1806 году прусский офицер, – они такие маленькие и слабые, один из наших немцев побил бы их четверых, если бы речь шла только о физической силе, но под огнем они превращаются в сверхъестественных существ»[609].
Во время испанской кампании при штурме Сагунта, неприступной крепости на скалах, французские штурмовые колонны устремились на приступ через узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем обороняющихся. «Обломки крепостной стены осыпались под ногами наших солдат, и, поднявшись к бреши, они увидели перед собой неразбитую стену. Чтобы подняться до пролома, нужно было подтягиваться на руках, а позади него стояли испанцы, которые встретили наших солдат жестоким огнем в упор. Но отвага штурмовой колонны была такова, что офицерам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить немалые усилия, чтобы остановить ставший безнадежным штурм и отвести назад людей… Здесь полегло 400 человек, среди которых было много достойных офицеров»[610].

Э. Детайль. «Пограничный столб». Французские драгуны пересекают прусскую границу.
Что же заставляло этих людей, словно одержимых, презирая раны и смерть, устремляться на вражеские штыки и навстречу шквалу картечи? Конечно, жажда славы, почестей и наград играли определенную роль, но эти стимулы были серьезными побудительными мотивами, прежде всего для офицеров и генералов. На простого солдата более всего воздействовало то общее в наполеоновской армии начало, на котором мы подробно останавливались в главе III, а именно – чувство чести.
Конечно, никакой воинский коллектив не может существовать хотя бы без смутного понятия о чести солдата. Однако это чувство явно не было первостепенным в мотивации английских наемников, завербованных среди уголовников и бродяг, не было оно определяющим и для солдат прусской армии 1806 года, «боявшихся палки капрала больше, чем пуль неприятеля» и даже для прусских солдат 1813 года, ведомых в бой порывом исступленного патриотизма и жаждой отмщения (см. гл. XII).
Особенностью же французской армии еще в дореволюционную эпоху было то, что понятие чести и достоинства, хотя и не в такой рафинированной форме, как у офицеров, существовало среди рядовых. Равенство граждан перед Законом, пришедшее после свержения старого порядка и закрепленное Кодексом Наполеона, энтузиазм, который вызывали в армии и в обществе победы императорского войска, высокий социальный престиж воина вообще, даже если он не являлся офицером, сознание того, что солдат – это не выходец из подонков общества, а гражданин – все это позволило Наполеону еще более, чем в старой королевской Франции распространить принцип чести на всю массу войска, а не только на офицерский корпус, как это было в европейских армиях конца XVIII – начала XIX века. «Я слишком много жил с нашими солдатами, чтобы не знать их недостатки, большие недостатки, – писал в своих мемуарах майор Гонневиль, – но они обладали чувством чести, жившим в них, таких простых и великих»[611].
О том, насколько серьезно слово «честь» в армии Наполеона, лучше всего говорят наставления полковника де Брака своим подчиненным: «Это не значит презирать жизнь, предпочитая сохранение чести сохранению жизни. Это просто означает воздавать чести то, чего она заслуживает»[612].
Честь требовала не оставлять ни при каких условиях свой боевой пост. Накануне Аустерлица унтер-офицер гренадер должен был подвергнуться однодневному аресту за плохую форму одежды, тем самым он лишался бы возможности принять участие в бою. «Это пустяк, конечно, арест на один день, – ответил сержант, – но пусть меня лучше разжалуют или арестуют надолго, но при условии, что это будет послезавтра, – я не хочу быть обесчещенным»[613]. В 1806 году при отправлении в прусскую кампанию больные гвардейские конные егеря, лечившиеся в госпитале Военной школы, выпрыгивали из окон, чтобы пойти с армией. Во время польской кампании 1807 года отставшие солдаты, разбитые голодом, холодом и усталостью, при первых же выстрелах орудий устремлялись вперед, стараясь во что бы то ни стало догнать своих и принять участие в бою. «Делали ли они это из-за отвращения к столь тяжелой жизни или желания отомстить неприятелю? – писал полковник Сен-Шаман. – Нет! Это было только из чувства чести»[614].
Офицер, сражавшийся в Испании, удивляясь своим солдатам, спрашивал себя: «…Почему эти люди, которые вчера так ворчали, ругались, проклинали все на свете, исполняя простейшие распоряжения, следствием которого было в самом худшем случае одно – два лье марша сверх необходимого, почему сегодня эти же люди беспрекословно идут туда, где нужно ставить жизнь на карту? – и сам себе отвечал, – Потому что ворчать, когда идешь в бой – это уже недалеко от трусости, а значит и от бесчестья»[615].
Ясно, что подобная концепция чести была бы немыслима без высокого понятия о собственном достоинстве. «Французский солдат гордится своим званием, требует вежливости и платит тем же. Офицер, генерал видит в простом солдате своего собрата и величает его “товарищем”. Обращаясь к барабанщику, генерал говорит ему тоже самое “Вы”, которое получает от него»[616].
Интересно, что последнее наблюдение сделано русским чиновником в небольшой брошюре под названием «Замечания о французской армии последнего времени с 1792 по 1808 год», изданной в 1808 году в Санкт-Петербурге. Обращаем внимание на дату издания брошюры, здесь, как и в остальных случаях, мы отдаем предпочтение непосредственной реакции современников, а не воспоминаниям, написанным много лет спустя.
Практически то же самое отмечает и французский офицер: «У нас… солдат подчиняется офицеру как своему командиру, он знает, что нужно уважать его положение, но он также знает, что офицер обязан по крайней мере соблюдать почтительную форму в отношении к нему. Он тоже человек. Офицер был солдатом, солдат может быть офицером – все устанавливает между ними определенное равенство прав… – вот, что нельзя упускать из виду, когда командуешь нашими солдатами. С ними нужно быть твердым, но без излишеств, добрым, но без слабости. Чрезмерная строгость их раздражает, слабость вызывает насмешки. Нужна разумная мера, золотая середина, которая представляет собой нечто вроде отеческого братства»[617].
Высокое чувство достоинства французских солдат вызывало подчас изумление офицеров иностранных армий, где между командирами и рядовыми лежала непроходимая сословная пропасть. Рассказывают, что французский сержант под Торрес-Ведрас был взят в плен англичанами во время перемирия. Приведенный на допрос к самому Веллингтону, он вел себя с таким достоинством и был так искренне возмущен его несправедливым захватом в плен, что английский главнокомандующий приказал его отпустить, предварительно хорошенько накормив и напоив за столом слуг. Но француз, несмотря на смертельный голод, выслушав указание генерала, не двинулся с места. «Чем же ты еще не доволен?» – спросил Веллингтон. «Французский солдат не садится за стол с лакеями», – таков был ответ. Изумленный «железный герцог» предложил тогда разделить трапезу с ним…[618]
Скорее всего, конечно, это всего лишь красивая легенда, однако о ней можно смело сказать словами итальянской поговорки: «Если это и неправда, зато точно сказано». Сам факт появления этой и многих подобных историй говорит о том, что французские солдаты рассматривали себя вполне ровней генералам, по крайней мере, неприятельским.
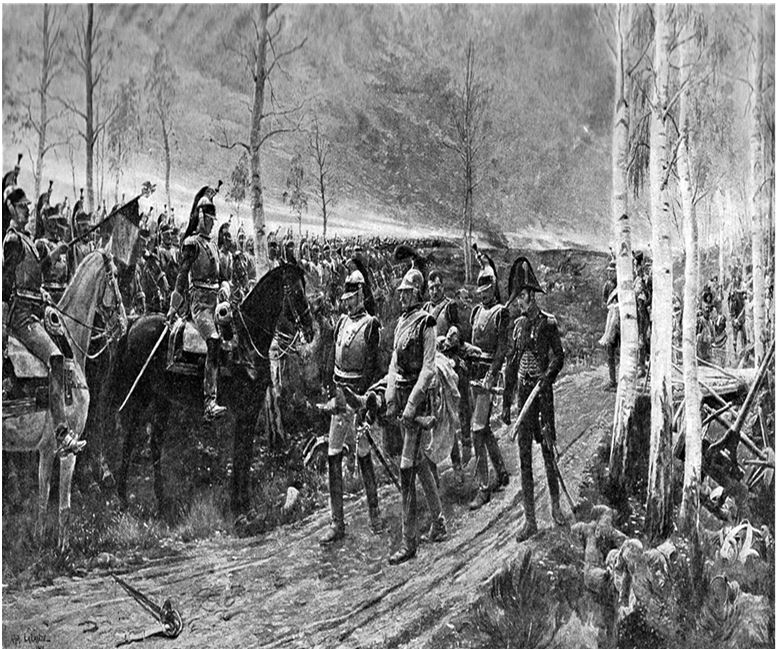
А. Лалоз. Тело генерала Огюста Коленкура, погибшего при штурме Большого редута проносят перед строем кирасир.
Конечно, командовать подобными людьми было не всегда просто. Офицеру недостаточно было лишь появиться в эполетах перед фронтом, чтобы быть признанным за командира. Он должен был быть лидером – быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем его подчиненные. Вот, например, что писал старый солдат в бесхитростном послании своему бывшему командиру части, генералу Друо: «…Я считаю, что самое главное, чтобы командир заслужил любовь солдат, потому что если полковника не любят, не очень-то захотят погибать за него… Под Ваграмом в Австрии, где так отчаянно дрались, и где наш полк сделал все, что мог, как Вы считаете, сражались бы так наши гвардейские артиллеристы, если бы они вас не любили?.. К тому же Вы говорите с солдатами так, как если бы они были вам ровней. Есть офицеры, которые разговаривают с солдатами, как если бы они были солдатами, но, по-моему, это не стоит и ломаного гроша…»[619].
Действительно, когда офицер отвечал этим критериям, преданность подчиненных, их готовность идти за ним куда угодно не знали границ. Полковник Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал своей жене из Испании 1 января 1811 года: «Вчера мы закончили старый год тем, что разбили вражеский отряд, захватив у них немало пленных, и мой полк вел себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно сражаются, какое счастье командовать подобными солдатами»[620].
«Разделите то, что у вас есть с вашими солдатами, – советовал де Брак, – они поделятся с вами, и вы не останетесь в проигрыше. Вы увидите однажды, когда у вас не будет ничего, как старый солдат будет горд, будет счастлив, отдать вам свой последний кусок хлеба, а если надо, то и свою жизнь»[621].
Солдаты, которые шли в огонь за такими командирами как Друо, Шаморен или де Брак, подававшими пример бесстрашия и воспитывавшими в них культ чести, поистине презирали смерть. Вот, что писал 1 августа 1815 года лейтенант Жан Мартен, рассказывая о том, как во время боя при Шарлеруа ему пришлось пересечь колонну повозок с ранеными: «… перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один на другом, они были искалечены самым разным образом, и смерть уже читалась на многих лицах. Но именно эти люди, казалось, наименее заботились о своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей армии. Забывая боль, они старались поднять наш дух. Они поднимали свои бледные лица над повозками и кричали: “Вперед, товарищи, не бойтесь! Все идет отлично. Еще немного, и враг побежит!” Я видел тех из них, над которыми смерть уже простерла свои объятия, но они употребляли свой последний вздох, чтобы крикнуть “Да здравствует Император! Дерьмо пруссакам!” Другие размахивали своими окровавленными конечностями, грозя врагу и сожалея лишь о том, что они не могут мстить!»[622]
Но самое удивительное, наверное, в этих людях было умение, несмотря на все ужасы боев и тяготы похода, сохранять французскую веселость, эту черту, без которой портрет наполеоновского солдата был бы явно не полным. На бесконечных маршах по разбитым дорогам, в кошмаре битв и в грязи биваков сыпались шутки и раздавались раскаты смеха маленьких вольтижеров, великанов кирасиров и усатых гренадеров. «Это было поистине удовольствие смотреть, как работают эти парни, – вспоминал о французских понтонерах вюртембергский офицер, – они делали свое дело, словно играючи, хотя было холодно, а у них был пустой желудок. Но это был непрекращающийся поток шуток и веселья… поистине это были настоящие французы»[623].
Наблюдения иностранцев, имевших возможность видеть французскую армию изнутри, особенно интересны, ведь они подмечали то, что для самих французов казалось естественным и обыденным. Здесь стоит вспомнить великолепную характеристику французских пехотинцев на марше при вступлении в Познань, данную будущим офицером императорского штаба поляком Хлаповским[624], ну, а вот как увидел один из трудных переходов во время Ульмского маневра 6 октября 1805 года французский унтер-офицер: «Чтобы отрезать путь отступления неприятелю, мы, конечно, должны идти по кратчайшей дороге, правда, она покрыта слоем воды в три фута… мы похожи на библейских израильтян, переходивших Красное море, с той только разницей, что древние бросались в воду, чтобы уйти от своих врагов, а мы бултыхаемся в ней, чтобы дойти до них… Тому, кто повыше, вода доходит до пояса, тому, кто пониже, – до лопаток. Мы поскальзываемся, мы дрожим от холода, мы ругаемся, но все же идем… Но вот кто-то из солдат поставил ногу на край канавы, скрытой водой, соскользнул вниз и скрылся с головой. Мы срочно вылавливаем неудачника, увы, руками, так как у нас нет удочек, и тот, кого надо было бы оплакивать, становится объектом шуток:“ Скажи-ка, брат, ты что, хотел выпить всю воду и ничего не оставить другим?! “ – кричат одни. “ Тебе не придется стирать рубашку!” – смеются другие. Впрочем, если бедный утопавший желает, чтобы эти насмешки побыстрее прекратились, ему лучше ответить в том же тоне… А вот лошадь генерала, который ехал во главе войск, тоже оступилась и провалилась в канаву. Шитый золотом мундир исчез под водой, и над ее поверхностью осталась только шляпа с галунами… Адъютанты с трудом вытаскивают своего начальника из канавы, и тотчас от головы колонны до хвоста посыпались шутки и смех… В адрес кого? Ну, конечно же, в адрес генерала,“который пьет из Очень большой чашки!”»[625].
Веселость в сочетании с привычкой к виду ран и смерти порождала порой шутки, от которых может содрогнуться мирный человек, но которые, без сомнения, помогали презирать опасность. Капитан Франсуа рассказывает, как французские офицеры веселились при обороне Гамбурга в 1813 году: «Мы часто идем прямо с бала в бой, а по окончании боя снова возвращаемся танцевать. Нас спрашивают, почему не вернулся тот или иной наш товарищ. “Этот на дежурстве на аванпостах… А этот… в гостях у Святого духа”, – отвечаем мы, и танцы продолжаются»[626].
«Привычка к опасности заставляла нас рассматривать смерть, как, если можно так выразиться, самое обыденное явление жизни, – вспоминал кавалерийский офицер. – Мы жалели раненых товарищей, но, едва кто-нибудь из них умирал, то по отношению к нему высказывалось лишь легкое сожаление, а то и холодное безразличие. Вот солдаты находят среди убитых своего приятеля. Что они говорят по этому поводу? Примерно следующее: “Больше не будет напиваться”, или “Больше не будет лопать чужих куриц”, или что-нибудь в этом роде… Подчас это была единственная надгробная речь, которую произносили над нашими товарищами по оружию, павшими в бою»[627].
Фантен дез Одоар записал в своем дневнике 16 июня 1807 года, через день после битвы под Фридландом: «…было бы, конечно, лучше закопать убитых, но это показалось слишком долгим делом, и был отдан приказ бросать их в реку Алле. Тотчас наши солдаты взялись за дело. Они тащили тела людей и лошадей до берега реки, протекающей в глубоком овраге, и бросали их с обрыва. В этом деле, казалось, не было ничего веселого, тем не менее такова уж легкомысленность солдата, а тем более французского, что самое неподобающее случаю оживленнее царило на этих весьма специфических похоронах – дело в том, что трупы, катясь с откоса, кувыркались в самых невообразимых позах, что вызывало взрывы всеобщего смеха…»[628].
Вполне понятно, что подобного рода веселость могли себе позволить только люди, не верящие ни в бога, ни в черта. Так оно, в общем, и было. Антирелигиозная пропаганда века Просвещения и Великой французской революции дала свои результаты. Конечно, среди солдат и офицеров было немало верующих людей, однако они не задавали тон, а следовали общему стилю поведения своих товарищей по оружию.
«Нечего и говорить, что о религии у нас в лагере (Булонском) не говорили, – рассказывает офицер пехоты. – Полки ходили на мессу лишь в городах, и по странному предубеждению Император считал, что набожность подходит лишь женщинам, а не мужчинам. “Я не хочу иметь набожную армию”, – говорил он. Без сомнения, с этой точки зрения он мог быть вполне удовлетворен»[629].
Впрочем, в этой антирелигиозности было больше военно-политического подтекста, чем подлинного атеизма. Не следует забывать, что в период революции армии пришлось сражаться с противником разного рода, и очень часто враг шел под знаменем религии. «Крестовый поход» против Франции был благословлен самим римским папой. В Вандее, на юге Франции, в Неаполитанском королевстве французских солдат пытали и предавали мучительной смерти крестьяне, ведомые фанатичными священниками. Для солдат и офицеров «священник», «монах» стало синонимом слова «враг». И, хотя Первый консул восстановил религию в правах, подписав в 1802 году Конкордат с римским папой, в армии сохранилось стойкое неприятие всего, что связано с церковью. Именно поэтому бывшие республиканские командиры резко отрицательно встретили заключение Конкордата, а генерал Дельма якобы даже сказал в лицо Бонапарту: «Вам осталось только сменить наши темляки на четки. А Франция пусть утешится, что потеряла без толку миллион человек, чтобы положить конец всей этой поповщине, которую Вы возрождаете»[630].
Остатки республиканского видения религии очень сильно ожили с началом испанской войны, где монахи, священники, инквизиторы стали не просто пропагандистами священной войны против наполеоновских войск, но и вдохновителями ужасающих зверств по отношению к пленным французам или союзникам. Ответом на это армии был новый виток антирелигиозности. В бою под Брагой в Португалии вольтижеры одного из полков узнали, что ополченческая рота, сражавшаяся против них, состоит из… молодых монахов. Это вызвало среди французских солдат взрывы смеха и поток презрительных шуток в отношении врага, который был в мгновение ока опрокинут штыковым ударом. В отличие от обычного неприятеля пощады монахам не давали, всех тех, кто не успел убежать, вольтижеры перекололи штыками[631]. Во взятых штурмом испанских городах монастыри становились излюбленным объектом разграбления. «Опьяненные вином, весельем и гневом, солдаты изображали религиозные процессии вокруг бивачных огней, держа в руках свечки и нацепив на себя одежду монахов, песнопениям которых они подражали, только заменяя слова молитв казарменными выражениями»[632].
Набожные испанцы считали, что французская армия состоит то ли из язычников, то ли из мусульман или уж, как минимум, из еретиков, и поэтому с удивлением смотрели на тех солдат и офицеров, которые заходили в церковь помолиться, а тем более на посещения церкви, организованные командованием: «В полной парадной форме… мы прибыли в монастырь, где в соответствии с данными нам указаниями выслушали молитву, – рассказывает унтер-офицер вольтижеров. – Наше поведение несколько образумило испанцев, которые не могли вообразить, что мы тоже католики…»[633].
Несмотря на отдельные примеры организованного участия в религиозных церемониях во французских полках так и не был учрежден институт полковых священников, хотя, как следует из источников, в ряде частей они все же существовали на полулегальном положении, официально числясь как солдаты. В общем же до самого падения Империи в армии сохранилось неприязненное отношение к религии. Интересно, что в неоднократно цитируемой нами знаменитой книге де Брака «Аванпосты легкой кавалерии», где автор, резюмируя свой опыт наполеоновских войн, дает наставления молодым офицерам, и где важное, если не сказать, самое важное место отводится моральным факторам: чести, отваге, воинской дружбе, самопожертвованию, бодрости и веселью, нет ни слова о вере в бога.
Отсутствие религиозности совсем не означало аморальность. Саксонский генерал Тильман прекрасно резюмировал это одной фразой, написанной им в 1808 году: «Немецкий солдат религиознее, чем французский, но французский нравственнее, поскольку принцип чести оказывает на него неизмеримо большее влияние, чем на немецкого»[634].

Победа под Оканьей, 19 ноября 1809 г. Гравюра. В этом сражении французские войска, ведомые королем Жозефом, маршалами Журданом и Сультом, разгромили испанскую армию генерала Арисага. Характерно, что на переднем плане художник изобразил французского драгуна, разящего своим палашом монаха
Впрочем, сказать, что у наполеоновских солдат не было веры, будет не совсем правильно. Вера у них была, и вера глубокая, пылкая и преданная. Эта вера была в одного бога – Наполеона. Когда-то в армии Древнего Рима существовал официальный культ императора, изображениям которого воздавались божеские почести. В наполеоновской армии, конечно, не было ничего подобного в качестве организованного культа. Однако отношение к Наполеону можно назвать не иначе, как культ императора. У генералов и маршалов он часто выливался в форму казенного восторга, у офицеров принимал вид поклонения тому, в ком видели надежду на фантасмагорическую карьеру, зато у солдат, и прежде всего, конечно, старых солдат, он был глубоко искренним и шел действительно от души.
«Я считался страшным в ваших салонах, – говорил император Лас Казу на острове Святой Елены, – среди генералов и, может быть, среди офицеров, но никоим образом не среди солдат; у них был инстинкт справедливости и симпатии, они знали, что я их покровитель, а если надо, то и защитник… Мои солдаты чувствовали себя прекрасно и свободно со мной, они часто называли меня на “ты”»[635]. Хотя, как уже отмечалось, среди сказанного и написанного Наполеоном на Святой Елене большую часть занимает пропаганда для грядущих поколений, в приведенной цитате нет ни слова лжи. Действительно, императору удалось добиться глубокой преданности и уважения со стороны солдат, которые, не стесняясь, могли говорить с ним откровенно и даже шутить.
Описывая взаимоотношения Наполеона с солдатами, легко впасть в сусальную легенду, разумеется, беспристрастный анализ позволяет несколько нюансировать идиллию этих взаимоотношений – например, приказом маршала Лефевра, командующего Старой Гвардией, от 22 августа 1812 года солдатам было запрещено вручать на параде петиции Императору, а рекомендовалось направлять их по инстанциям[636].
Тем не менее подавляющее большинство источников, наиболее заслуживающих доверия, подтверждают искренность и глубину чувств, которые питали старые солдаты по отношению к своему полководцу. Особенно важно, что эти чувства не только не ослабевали в часы невзгод и тяжелых испытаний, как это имело место в рядах высшего командования, но и, наоборот, становились еще более чистыми и трогательными. «Я плачу, видя нашего императора, идущего пешком с посохом в руках, его, такого великого, его, который сделал нас такими гордыми»[637], – говорит гренадер Старой Гвардии, едва волоча ноги по обледенелой дороге, ведущей к Березине, туда, где он скоро найдет свою смерть.
Если так принимали солдаты своего полководца на грани катастрофы, то что говорить о том времени, когда победоносные знамена Великой Армии развевались над покоренными столицами, когда бронзовые орлы колыхались впереди сверкающих батальонов, триумфальным маршем вступающих в Вену, Берлин, Неаполь, Варшаву, Мадрид…
«По мере того, как войска приближались к нему, солдаты начинали кричать “Да здравствует Император!” – рассказывает капитан Дебеф, – этот крик шел от самой души и доходил до энтузиазма, близкого к безумию. Крича во все горло вместе со всеми, я смотрел на этого великого человека и говорил себе: ”Вот она, эта голова, самая могучая в мире, из которой родилось столько чудес!” И снова с удвоенной силой я кричал: “Да здравствует Император!” Какой воин не был бы растроган. Ведь был самый великий полководец, который только являлся на землю, самый удивительный человек, которого за много веков знала история»[638]. «Французская пехота восторженно салютовала своему императору. Это восхитительное зрелище: с одной стороны, пехота, полная уверенности в своих силах и энтузиазма, взиравшая на своего главнокомандующего и с порывом шедшая в бой, с другой стороны, колонна пленных, из которых часть также приветствовала императора криками “Виват!”»[639].
Нет сомнения, что Наполеон нашел ключ к душе солдата, умел воздействовать на него личным примером и страстной речью. Величественный перед строем войск, идущих на смерть, он был доступен и прост в общении на биваке и в походе, позволяя солдатам то, что ни за что не разрешил бы никому из своих генералов.
За два дня до битвы при Аустерлице Император приблизился к биваку гренадер линейного полка. Он подошел к огню и вытащил оттуда пару печеных картофелин. Гренадер Жазон, варивший суп, сделав вид, что не узнал Наполеона, сказал: “Эй, товарищ, смотри не съешь все!” ”Ничего, найдешь еще, – добродушно усмехнулся император, – ты ведь знаешь, что на походе нужно делиться”»[640].
Незадолго до сражения под Фридландом Наполеон проезжал мимо полков, идущих по дороге форсированным маршем. Не стесняясь присутствия императора, а может, специально в расчете на это присутствие, пехотинцы громко разговаривали: «“Ему нужно было бы набирать армию из добровольцев”, – сказал кто-то из солдат. “Где он их найдет то!” – ответил другой. “Вот именно! Собачье это занятие”, – добавил третий. “А ему нужно сто тысяч человек в год!” “Что, что? Сто тысяч? Да ему двести тысяч человек будет мало!”… Подобные речи часто достигала ушей императора, – написал свидетель этой сцены, – но он только посмеивался над ними…»[641].
На марше к Ульму, в деревушке Хаслах, главной квартире пришлось разместиться в доме, уже занятом солдатами. Офицеры объяснили, что здесь будет располагаться штаб императора, и солдаты без возражений удалились. Но один молодой барабанщик, пригревшись у печки, ни за что не хотел уходить. Он говорил, «что здесь места хватит на всех, что на улице холодно, что он ранен, и, вообще, он отсюда никуда не уйдет». Офицеры хотели было выдворить его силой, но в это время вошел Наполеон. Узнав причину спора, он засмеялся и разрешил, чтобы солдату «оставили его стул, раз уж он так им дорожит». Так император и барабанщик заснули, сидя друг против друга, в кругу стоявших в почтительном молчании, ожидая приказов, генералов и сановников[642]. Последний эпизод подтверждается двумя совершенно независимыми источниками и практически не вызывает сомнения в своей реальности, но это, впрочем, и неважно – подобными сценами полны все воспоминания, записи и дневники современников, что их нельзя, конечно, отнести лишь к вымыслу наполеоновской легенды.
В памяти солдат запоминались такие моменты, как тот, когда император ужинал с гвардейцами на зимнем биваке в кампании 1807 года, разделив с верными гренадерами несколько мерзлых картофелин, или когда он ел суп вместе с 11-м линейным полком. Очевидец рассказывает о последнем эпизоде: «Император был очень усталым и остановился на нашем биваке у костра. Он лег на солому, подперев голову. Мартело (капрал вольтижеров 11-го линейного) приблизился к императору и спросил его: ” Сир, Ваше величество не желает попробовать нашего супа? – А хлеб есть? – Да, сир. – Ну что ж, давайте”. Мартело дал ему котелок и серебряную ложку. “Ничего себе! Белый хлеб и серебряная ложка! Где ты все это взял?” – “Хлеб я принес из деревни, где находится госпиталь, а ложку я нашел на офицере, убитом под Госпишем”. В то время, как император ел суп, Мартело отрезал кусок курицы и дал ему тоже. Тот съел ножку и перед тем, как уйти, достал семь золотых монет из кармана и вручил Мартело. Капрал с гордостью показал деньги своим солдатам и сказал: ”Вот, Его Величество дал мне 200 франков, мы выпьем за его здоровье. Да здравствует Император!” – закричали солдаты»[643].
В общении с великим императором в дыму походных костров солдаты как могли выражали преданность своему вождю. «Наполеон присел на нашем биваке и попросил плащ, чтобы согреться, – пишет лейтенант Шевалье, тогда рядовой гвардейского конно-егерского полка, – я только снял свой плащ, как солдат, более скорый, чем я, уже накинул на него свой. Было так прекрасно снять с себя свою одежду, чтобы согреть Императора. Среди нас не было ни одного, кто не дал бы изрубить себя в куски за него. У этого человека было такое искусство привязывать к себе солдат, что его любили как отца»[644]. А вот что вспоминал молодой офицер пехоты: «Как же мы обожали нашего Императора! Полчища казаков, рыскавших вокруг лагеря, разбрасывали недостойные памфлеты, направленные против него. Но ответом на эту писанину было лишь наше солдатское презрение»[645].
Простой и доступный на биваке, Наполеон, если нужно, демонстрировал неустрашимость и хладнокровие под огнем, будь то молодым генералом на Аркольском мосту, будь то императором в зените своего могущества, стоя на кладбище Эйлау под ужасающим огнем русской артиллерии. «Милая мама, – писал домой после битвы под Иеной вольтижер Дефламбар, – я хотел бы, чтобы Вы видели нашего Императора – всегда в гуще боя, подбадривающего свои войска. Мы видели полковников и генералов, убитых рядом с ним, мы видели его также с группой фузилеров поблизости от врага. Маршал Бессьер и принц Мюрат сказали ему, что он зря подвергает себя опасности, на что он повернулся к ним и спокойно ответил: ”Вы за кого меня принимаете? За Епископа?”»[646].
Наполеон впечатлял солдат и на парадах и на смотрах, где порой неожиданно раздавались чины, дотации, кресты Почетного легиона. Иногда эти смотры проводились прямо на поле отгремевшей битвы, как тот, что он провел после боя при Валутиной горе (см. гл. III), иногда в более мирной обстановке. «Каждое воскресенье после мессы и дипломатического приема проводился парад, где ему представляли вновь сформированные части, – вспоминал генерал Роге. – Он проходил вдоль рядов войск, находя в строю солдат, ветеранов своих первых походов, приветливо беседовал с ними, вспоминал бои, где они отличились, и всегда оставлял их глубоко растроганными. Иногда он спрашивал полковника или капитана, иногда прямо у солдат, кто из них самый храбрый, и всегда окружал храбреца своим вниманием, повышал его в чине или награждал. Иногда какой-нибудь из солдат сам испрашивал у него милость. Тогда Император обращался к его товарищам, и, если те подтверждали, что проситель заслуживает поощрения, он приказывал сопровождающему его офицеру занести фамилию просителя в блокнот, чтобы наградить или повысить в звании. Однажды, он забыл сказать офицеру, чтобы тот записал сведения в блокнот. Солдат, просивший его о награде, не отстал от него и подходил еще несколько раз. Император ответил, наконец, несколько раздраженно: ”Ты просишь крест – он у тебя будет, что тебе нужно?” – “Да, Сир, но пока этот Господин, – солдат показал на Бертье, – не запишет меня в свою тетрадку, я буду дураком, отстав от Вас”. Император рассмеялся и сказал:” Бертье, сделайте, о чем Вас просят”. Эти моменты были очень важны. Они трогали сердца солдат, оставались в их памяти, о них говорили на биваках, они были той нитью, которая связывала Императора и его бесстрашных “ворчунов”»[647].
Огромное впечатление на солдат и офицеров производило и военное красноречие их вождя. Император умел так говорить с войсками, что самые холодные и скептические люди невольно воодушевлялись: «Его слова были простыми, но какое неповторимое красноречие было вложено в них, как много было в этом пламенном взгляде, в этом взволнованном, проникающем в самую душу голосе! – вспоминал пехотный лейтенант. – Никогда не забуду, как в конце речи он приподнялся в стременах и, протянув руку к нам, бросил слова: ”Вы клянетесь?!”… Я почувствовал тогда вместе со всеми моими товарищами, как он словно из глубины груди вырвал крик: “Клянемся! Да здравствует Император!” Какая чудодейственная сила в этом человеке! У нас были почти что слезы на глазах и, конечно, непоколебимая решимость в сердце»[648].
Поистине шедевром являются и прокламации Наполеона. Они «… при чтении их в не боевой обстановке кажутся нам болтливыми и хвастливыми, но волновали души его солдат и делали их непобедимыми»[649]. При внешней импровизированности наполеоновские воззвания представляют из себя строгое и классическое произведение. Здесь нет ничего лишнего, каждая фраза, словно спонтанно вырывающаяся из-под пера, подчинена на самом деле глубокому внутреннему ритму. Начало сразу захватывает слушателя: «Солдаты! Война третьей коалиции началась…», «Солдаты! Мы не побеждены…» или «Солдаты! Я доволен вами!». Затем несколько энергичных, литых фраз и яркая концовка: «Они и мы, разве уже не Аустерлицкие солдаты!», «Вперед же, и пусть, завидев вас, враг узнает своих победителей!», «Для каждого француза, у которого есть сердце, – настал момент победить или умереть!»[650].
И армия всегда отвечала на этот призыв, она шла за ним, верила ему и обожала его…
Честь, отвага, преданность императору и неунывающая веселость – вот, собственно, и все главные моральные характеристики, свойственные наполеоновской армии в целом. Не случайно Гейне, мальчишкой видевший эту великую эпоху, в своем замечательном произведении “Das Buch Le Grand” дал короткое, но такое блистательное по точности, почти исчерпывающее описание солдат Наполеона: «Я вышел из дома и увидел вступающие в город французские войска, этот ликующий народ – дитя Славы, с пением и музыкой прошедшие весь мир, радостно серьезные лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, штыки вольтижеров, полных веселья и point d’honneur[651]…»[652].
Тем не менее описание морального облика наполеоновской армии будет неполным, если не затронуть одного очень важного для любого воинского организма вопроса, а именно, дисциплины.
Насколько прочными были узы дисциплины и субординации, связывающие французские войска эпохи Первой Империи, и на чем прежде всего держалась дисциплина? Собственно говоря, рассказывая об отваге наполеоновской армии, мы уже отвечали на вторую часть этого вопроса. Де Брак со своей воинской лаконичностью так формулирует принципы, на которых строилась дисциплина: «Вопрос: Что есть основа дисциплины? Ответ: Честь»[653].
Действительно, материальные стимулы, страх наказания играли, конечно, свою роль, но они не были единственной базой дисциплины и субординации. «Страх, как основа для порядка, был практически неизвестен большинству наших солдат, – писал генерал Фуа. – В большинстве полков с ними обращались с крайней мягкостью. Телесные наказания не употреблялись, ибо их отвергало общественное мнение; подобные наказания вообще могут существовать как обдуманная мера лишь в тех странах, где бьющие считают себя существами высшего порядка по сравнению с теми, кого бьют…
Однако субординация царила в нашей армии, быть может, лучше, чем в любой другой армии Европы…»[654]. Конечно, картина, написанная Фуа, несколько приукрашена. Порядок в наполеоновских войсках имел свои лимиты, а дисциплина, как и в любой армии, давала сбои, подчас весьма значительные, но об этом несколько позднее.
А пока отметим, что дисциплина действительно была во многом построена на чувстве чести и разделялась как бы на две составляющие, существование которых хотя и не фиксировалось официальными регламентами, но не было от этого менее реальным.
«Первая дисциплина» относилась к боевой деятельности. И здесь можно с уверенностью сказать, что не было армии, где она была бы столь строга и неумолима. За то, за что в других войсках солдат мог отделаться сотней-другой палочных ударов, во французской армии его приговаривали к расстрелу. Оставление порученного поста, непослушание старшему в боевой обстановке карались смертью. В принципе, карался расстрелом и грабеж, однако с последним вопросом дело обстояло куда сложнее…
«Вторая дисциплина» относилась к упущениям в деталях службы, к соблюдению формы одежды и внутреннего распорядка. Здесь царила такая терпимость и мягкость, которые были бы немыслимы, например, в прусских или русских войсках. «В некоторых армиях доводят до предела строгость к деталям, которые в глазах разума кажутся малозначительными, – писал маршал Мармон. – Если дело идет о мелочах униформы или временном отсутствии неподвижности в строю, слишком суровое наказание неправильно… Во французской армии часто бывает достаточно лишь похвалы или порицания, сделанных к месту, и благородного соревнования. Ведь наказания и отличия, основанные на мнении товарищей, обладают той чудесной способностью, что им можно придать бесконечные нюансы, и тем, что они мощно воздействуют на благородные сердца»[655].
«Если солдат попался на мелких провинностях, – отмечал автор «Замечаний о французской армии последнего времени», – то его пристыдят, сделают ему выговор, подействуют на самолюбие, лишение свободы для него уже строгое наказание, неувольнение со двора, арест – составляют высшие наказания; вывод в строй в шапке, когда другие в киверах, следование в тылу части, держа ружье прикладом вверх, – вот наказания, чаще применяемые»[656].
Чтобы сравнить старопрусский стиль дисциплины с французским, можно сопоставить наставления Фридриха II, приводимые им в поучении своим генералам. Им предписывались строгие меры предосторожности и неусыпного контроля за солдатами, которые следует соблюдать, чтобы предотвращать дезертирство на походе: тут и посты егерей, спрятанные во ржи, и гусарские патрули, так как гусары и егеря были набраны из наиболее надежных элементов. Здесь же категорические запрещения солдатам передвигаться иначе как строем и в сопровождении офицеров. «Большая часть армии состоит из порочных, несдержанных людей, – наставлял король, – если генерал не будет постоянно внимателен к тому, чтобы они оставались в рамках долга, эта искусственная машина… скоро сломается…»[657].
А вот приказ по Великой Армии, отданный 3 фримера XIV года (24 ноября 1805 г.) незадолго до Аустерлицкой битвы: «Временно армия останавливается на отдыхе. Начальники отдельных частей должны составить списки отставших, которые без уважительной причины остались позади; они должны рекомендовать солдатам устыдить их, потому что во французской армии самое сильное наказание – это позор, которым виновных покроют их собственные товарищи. Если найдутся солдаты, которые окажутся в таком положении, то император не сомневается, что они с готовностью соберутся и станут под свои знамена»[658].
Итак, армия с практически идеальной дисциплиной?.. Увы, не совсем. Мотивы чести, самолюбия, достоинства, без сомнения, действовали на наполеоновских солдат с большей силой, чем на наемников «Старого Фрица», и все-таки на них действовал и другой, очень приземленный, но очень понятный мотив – пустой желудок. От недостаточной заполненности этого немаловажного органа проистекало огромное количество бед и прежде всего мародерство.
Наполеоновский стиль войны был направлен на сокрушение противника стремительными ударами, и, как следствие, он предполагал быстрое передвижение огромных масс войск – людей и лошадей. Нетрудно догадаться, что даже если бы чиновники военной администрации были образцами энергии, честности и служения долгу, доставить провиант и фураж всем десяткам, а то и сотням тысяч стремительно идущих вперед людей и коней было физически невозможно. Как неизбежный результат подобной системы – солдаты искали пропитание сами, и действительно «находили» его (см. главу X) у крестьян, которые, как нетрудно догадаться, не особенно жаждали отдавать свой последний мешок крупы или свою корову. Когда солдат было много, а крестьян мало – вопрос решался однозначно, когда же соотношение численности было иным, могли возникнуть большие осложнения – драка, пролитие крови, желание выместить злобу и т. д., и т. п.
Лейтенант Шевалье писал в своих мемуарах: «Я провел более 20 лет на войне и не видел армии менее склонной к грабежу, чем французская, да, я видел, как мародерствовали, делали это только по необходимости найти пропитание. Французский солдат, который предался бы грабежу во время добычи провианта, был бы воспринят как вор, его презирали бы товарищи и он был бы изгнан из части. Я всегда видел, что поступали именно так, и говорю правду»[659].
Увы, несмотря на безаппеляционность последнего заявления, старый воин не говорит правды. Мемуары Шевалье, несмотря на ряд интересных сведений, которые оттуда можно почерпнуть, как раз представляют собой пример источников, использования которых мы старались избежать в нашей работе, и приводим данную цитату скорее как курьез и образец того, как под влиянием прошедших лет изменяется точка зрения на самые очевидные вещи. Шевалье писал свои воспоминания через много лет после наполеоновской эпохи, и, несмотря на свою солдатскую простоту и прямоту, он кое-что позабыл, а кое-что ему хотелось позабыть. Ему хотелось, наверное, видеть эпоху своей молодости только прекрасной, а своих товарищей, погибших на полях давно отгремевших битв, образцом для подрастающего поколения.
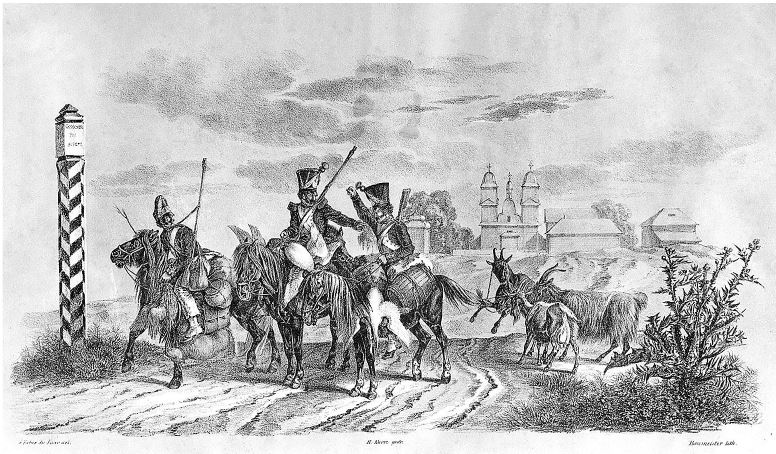
Фабер дю Фор. Реквизиция в окрестностях Казущины 11 июля 1812 г. Слева изображен португальский, в центре – два французских пехотинца с «найденными» козами, гусями, провиантом и т. д.
Свидетельства сотен очевидцев подтверждают то, что должен был бы подсказать и здравый смысл, – там, где был грабеж ради того, чтобы поесть, он плавно перерастал и в грабеж без дополнительных эпитетов.
Не без юмора рассказывает об этом один из офицеров: «Солдаты… заходя в дома якобы для того, чтобы найти хлеб, забирают заодно и кошелек хозяина. Искать хлеб – это прекрасный повод, ибо, когда нет регулярных раздач продовольствия, никак нельзя помешать им заниматься мародерством. Неотразимый ответ на все замечания: “Я голоден, я ищу хлеб.” Эта фраза безапелляционна как слова Гарпагона[660] “без приданого”. Раз уж ты не можешь дать им хлеб, ты вынужден разрешать им делать то, что они хотят. У кавалеристов есть еще дополнительный повод – они ищут фураж для своих лошадей. Однажды кирасир был застигнут своим капитаном в момент, когда он шарил в ящиках шкафа.
– Что ты тут делаешь?! – гневно воскликнул офицер.
– Ищу овес для моей лошади.
– Хорошее же место для поисков овса.
– А что, я тут уже нашел в библиотеке одного крестьянина[661] связку овса, завернутую в бумажку, почему бы не найти овес в шкафу?
Дело в том, что кирасир незадолго до этого разграбил коллекцию любителя ботаники…»[662]
А вот куда менее забавное свидетельство, записанное прямо по горячим следам:
«21 брюмера XIV года, Санкт-Пельтен[663]. Страх, который нам предшествует, разогнал значительную часть жителей, и нужно сказать, что этот страх вполне оправдан теми поступками, которые позволяют себе наши солдаты. Счастлив тот собственник, двери дома которого достаточно прочны, чтобы сопротивляться напору грабителей! То, что в крепости, взятой штурмом, в течение некоторого времени позволяется грабеж – это я могу понять, законы войны, кажется, оправдывают подобное поведение, но ведь Санкт-Пельтен был незащищенным городком, жители которого не только не пытались сопротивляться, а, напротив, были готовы поделиться своими продуктами. Я краснею, видя эти беспорядки, которые пятнают наши лавры»[664].
Еще одно свидетельство австрийской кампании, на этот раз 1809 года: «Этот очаровательный замок, принадлежавший графу Тинтицу, являл собой зрелище ужасающего погрома. Более 500 пехотинцев из дивизии Молитора расположились в нем, занявшись грабежом, опрокидывая мебель, разбивая двери и окна, разгромив в конечном итоге все это, еще недавно столь красивое, богатое и изящное здание»[665].
Мы намеренно начали с примеров, относящихся к «благополучным» австрийским кампаниям 1805 и 1809 годов, где такие эпизоды если и не были исключением, то, по крайней мере, не являлись естественной нормой. Что же касается Испанской войны, похода в Калабрию, то там подобные сцены встречаются буквально на каждом шагу и ими просто переполнены все дневники и мемуары.
«Что касается Бургоса, взятого штурмом, и из которого бежали практически все жители, он стал жертвой самого отчаянного грабежа, – рассказывает Сегюр, – двери домов были разбиты, улицы усеяны разбросанными одеждами, осколками разбитой посуды, обломками мебели. Наши солдаты суетились среди всего этого разгрома, согнувшись под грузом ценных вещей, некоторые несли на плечах огромные мешки, и все были столь увлечены этим делом, что мне едва удалось найти батальон, чтобы занять здания архиепископства… В этот день (11 ноября 1808 года) и на следующий грабеж продолжался во всем городе. Регулярных раздач продовольствия не было. Не было и жителей, с которых можно было бы его получить. Необходимость искать продовольствие служила хорошим поводом для грабежа, и ничто не избежало разрушения»[666].
«2 августа 1809 года, Пласенсия… Наши войска всех родов оружия соревновались между собой в том, чтобы поставить город вверх дном, – отметил в своем дневнике хорошо известный нам Фантен дез Одоар. – Разграбление было полным, и никогда, наверное, не видели города, столь тщательно выпотрошенного»[667].
Приведенные свидетельства убедительно показывают, что грабеж самый настоящий, а не просто насильственная конфискация продуктов питания, существовал в рядах наполеоновской армии, а значит, было и все, что ему сопутствует: пьянство, бесчинства, неподчинение командирам, бандитизм, дезертирство…
Впрочем, для любого беспристрастного исследователя – это аксиома. Нам незнакома армия, в которой подобные явления не встречались бы в той или иной пропорции. Достаточно вспомнить, что творили союзники на территории Франции в 1814 году, что делали английские солдаты в Испании. А вот, что говорят документы русского штаба, относящиеся к Отечественной войне 1812 года:
«Приказ по армиям.
18 августа 1812 года[668]
Главная квартира села Старое Иваново № 2.
Сегодня пойманы в самое короткое время разбродившихся до 2000 нижних чинов… Привычка к мародерству сию слабостию начальства, возымев действие свое на мораль солдата, обратилась ему почти в обыкновение…»[669].
«Ф. В. Ростопчин – М.И. Кутузову
17 сентября 1812 года. Село Вороново.
…Московская губерния находится теперь в самовольном военном положении и жители оной, так как и должностные чиновники, более нежели на 50 верст в окрестностях Москвы, опасаясь стать ограбленным от неприятеля, а более того от своих раненых, больных и нижних чинов, всюду шатающихся единственно для разорения своих соотечественников, оставив свои жилища, разбежались в неизвестные места»[670].
По поводу последнего документа необходимо добавить, что в письме к Александру I от 8 (20) сентября 1812 года московский генерал-губернатор еще резче высказывается по этому поводу: «…Солдаты уже не составляют армии. Это орда разбойников, и они грабят на глазах своего начальства… Расстреливать невозможно: нельзя же казнить смертью по несколько тысяч человек на день»[671].
Если даже не верить буквально последнему письму, где, возможно, Ростопчин сгущает краски с целью очернения нелюбимого им Кутузова, факт абсолютно неопровержим – русская армия грабила вовсю, даже на своей территории во время Отечественной войны 1812 года.
Таким образом, само по себе наличие актов грабежа со стороны наполеоновских войск еще никак не характеризует их – грабили все. То, что могло бы действительно отразить их особенность, это первое – степень распространения этого явления во французской армии, второе – величина этой степени по отношению к таковым в других европейских армиях рассматриваемого периода.
Математически точно это сделать, увы, невозможно. Казалось бы, в нашем распоряжении есть десятки толстых папок военно-судебных дел в архиве сухопутных войск Франции. Но, даже самый тщательный анализ всех этих документов, проведенный целой группой исследователей, может мало что дать. Почему?
Во-первых, вполне очевидно, что бумаги сохранились далеко не полностью. Если в ходе военных действий утрачивались порой даже очень важные документы штаба, то что уж говорить о деле по поводу ограбления тремя солдатами фермы.
Во-вторых, даже если бы все эти дела и сохранились и была бы физическая возможность проанализировать тысячи бумаг, разбросанных по разным архивам, мы не смогли бы получить чего-то принципиально нового по сравнению с тем, что стало нам известно на основе рассмотрения части этих документов.
Дело в том, что две основные цифры, которые действительно могли бы дать нам реальную картину, – это число совершенных актов грабежа и насилия солдатами наполеоновской армии и число привлеченных к ответственности и наказанных военнослужащих, или, говоря языком криминалистики, «уровень преступности» и «уровень раскрываемости преступлений». Наконец, нужно было бы сравнить полученные цифры с таковыми, характерными для других армий.
Но это не может быть установлено с математической точностью, потому что, обработав даже все военно-судебные дела, мы не узнаем, сколько актов насилия, грабежа и неподчинения осталось вне поля нашего зрения.
Добавим также, что протоколы военно-полевых судов крайне скупы на информацию, детали самих преступлений даются только в редких случаях.
Таким образом, здесь, как и в других разделах этой главы, нам остается положиться на интуицию и обработку как можно большего числа источников, понимая, однако, всю ограниченность подобного анализа.
Наше заключение можно сформулировать примерно следующим образом: грабеж, мародерство и, как следствие, – неподчинение командирам и развал дисциплины, не был редкостью в наполеоновской армии. Однако основной причиной и одновременно поводом было отсутствие регулярного снабжения армии. Командование всячески старалось пресечь подобные поступки, но, когда оно не могло организовать регулярное снабжение провиантом, все предпринимаемые для этого меры были напрасными. Тем не менее, когда раздачи продовольствия осуществлялись, офицеры и генералы довольно быстро ставили ситуацию под контроль. О том, с какой жестокостью это делалось, говорят уже упомянутые протоколы военно-полевых судов. Мы приведем лишь некоторые из хранящихся в Архивах Венсенского замка приговоров, вынесенных в течение 1809 года на разных театрах военных действий:
«3-я дивизия, 7-й корпус Испанской армии. Баткара, 17 мая 1809 года.
Партонелли Джованни, гренадер 113-го полка
Дитшер Пьер Жозеф, солдат 16-го полка линейной пехоты
Бендителло Паскуале, гренадер 113-го полка
Виновны в непредумышленном убийстве – 20 лет каторги.
2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Самора, 21 февраля 1809 года.
Пельтье Пьер, барабанщик 54-го полка
Виновен в грабеже столового серебра – 6 лет каторги.
2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Оргас, 8 декабря 1809 года.
Буржуа Поль, гренадер 45-го полка
Виновен в краже предметов, принадлежащих товарищам по оружию, – 6 лет каторги.
1-я дивизия Итальянской армии. Бруннекен, 22 декабря 1809 года.
Франсуа Жомар, фузилер 92-го линейного полка
Жан Клод Пруасси, конный егерь 8-го конно-егерского полка
Виновны в вооруженном грабеже кюре г. Штрассен (г-на Кальса) – расстрел.
4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Вайдхофен в Нижней Австрии, 1 декабря 1809 года.
Бертен Жан-Луи, барабанщик 56-го линейного полка
Виновен в непредумышленном убийстве – 20 лет каторги.
1-я дивизия, 11-й корпус Германской армии. Фиум, 14 октября 1809 года.
Дебардье Этьен, фузилер 11-го линейного полка
Виновен в краже серебряной ложки у хозяина дома, где он располагался, – 10 лет каторги.
4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Будвиц, Моравия,
14 августа 1809 года.
Демайе Шарль-Огюст, вольтижер 56-го полка
Виновен в грабеже – расстрел.
2-я дивизия, 3-й корпус Германской армии. В лагере под Брюнном, 6 августа 1809 года.
Дюфрен, драгун 7-го полка
Виновен в изнасиловании и убийстве – расстрел.
2-я дивизия, 2-й корпус Германской армии. Лагерь в Линце, 2 сентября 1809 года.
Молинелли Филипп-Бартелеми, вольтижер 21-го полка легкой пехоты
Убийство хозяина дома, где он жил, – 20 лет каторги»[672].
Как видно из приведенных примеров, военная фемида была сурова; и достаточно вспомнить о фузилере Этьене Дебардье, отправившемся на долгие годы каторги из-за украденной ложки, чтобы понять, что в наполеоновской армии при возможности наказывали, и наказывали порой жестоко.
О том, как изменялось поведение французских солдат в зависимости от обстоятельств, хорошо рассказал полковник английской армии, участник испанской кампании, сэр Уильям Френсис Нейпир. В его знаменитом произведении «История войны на Пиренейском полуострове» есть описание момента, когда французские войска покидают в 1811 году территорию Португалии и вступают на испанскую землю, рассматривавшуюся, по крайней мере официально, как территория союзного государства.
Вот что пишет Нейпир: «Здесь проявилось все, на что способна французская дисциплина в самых тяжелых обстоятельствах. Едва только люди, в течение долгих месяцев жившие только грабежом, путь которых был отмечен насилием и опустошениями, пересекли воображаемую линию, разделяющую два королевства, как они вернулись в рамки самой строгой дисциплины, не позволяя себе ни малейшего дурного поступка по отношению к испанцам. Они скрупулезно платили за все, что требовалось для армии, в то время как даже хлеб стоил 48 су[673] за фунт!»[674]
Русские, а особенно советские историки не скупились на черные краски для описания грабежей и мародерства наполеоновской армии на территории России в 1812 году. И в общем, если отбросить ряд преувеличений, они были недалеки от истины. Действительно солдаты Великой Армии грабили, и причём не только на пространстве «старых русских земель», но и на территории Литвы и Белоруссии, которых они официально освобождали от российского ига.
Но, во-первых, картина будет не полной, если не вспомнить, что русские войска также грабили, а во-вторых, если не указать реакции французского командования на эти беспорядки. С этой точки зрения для нас очень интересны бумаги штаба Даву, хранящиеся (частично в подлинниках, частично в копиях) в архиве Венсенского замка. Вот только несколько из этих документов:
«Генерал Ромёф (начальник штаба корпуса) из Вильно, 29 июня 1812 года, генералу Дессе (командир 4-й дивизии корпуса).
1-й корпус теряет с каждым днем свою дисциплину. Солдаты безнаказанно мародерствуют чуть ли не на глазах офицеров, и эти беспорядки оправдывают тем, что раздачи продовольствия нерегулярны и что им не хватает хлеба. Под предлогом поисков продовольствия ломают шкафы и крадут белье, вещи, деньги. Повозки, которые должны вести продовольствие, используются для перевозки награбленного. Маркитанты и маркитантки если не участвуют в грабеже, то скупают и продают награбленное. Подобное поведение, если оно не будет пресечено, запятнает нашу униформу, наш национальный характер и сделает нас солдатами, недостойными нашего монарха.
Г-н Маршал приказывает немедленно сделать обыск во всех повозках, которые следуют за полками, конфисковать все украденные предметы и послать их генералу Сонье, начальнику военной жандармерии 1-го корпуса, который передаст их властям г. Вильно…
Маркитанты, маркитантки, захваченные на месте преступления, будут тотчас же арестованы и отконвоированы к начальнику жандармерии Сонье, который предаст их суду.
Французская армия неоднократно в своих походах терпела лишения, солдаты питались иногда несколькими каштанами в день, но не предавались грабежу. Сейчас раздачи хлеба нерегулярны, но они заменены раздачами мяса и риса. Желудок солдат наполнен, пусть и не идеально. В любом случае, даже самые большие лишения не могут оправдать грабежа… Подобные действия осуществляют не те солдаты, которые стоят под знаменами, а те, кто позорно их покидает. Сами солдаты должны справиться с нарушениями дисциплины»[675].
А вот еще один приказ, отданный по корпусу Даву, на этот раз в Минске 9 июля 1812 года: «Категорически запрещается всем офицерам и солдатам покидать лагерь без разрешения. Полковники могут дать для солдат не более чем по пять увольнительных на роту для выхода в город, а для офицеров – не более чем по двенадцать на полк. Г-н Маршал требует восстановления строжайшего порядка и дисциплины в течение 24 часов. Мы должны пресечь тех, кто делает нас ужасом для наших друзей, народа, преданного нашему монарху (речь идет о населении Литвы)»[676].
В циркуляре от 11 июля маршал в резкой форме требует даже делать все, чтобы избежать напрасной порчи посевов ржи вокруг Минска. О том, что эти приказы не оставались пустыми угрозами, говорят другие архивные документы. 10 июля 1812 года Даву пишет из Минска начальнику штаба Великой Армии маршалу Бертье: «Я имею честь направить Вашей светлости копию приговора превотальной комиссии[677], которая приговорила к смерти троих военнослужащих, обвиняемых в грабеже и бесчинствах. Приговор приведен в исполнение сегодня в полдень. Я надеюсь, что этот суровый и полезный пример подействует на войска»[678].
Буквально через три дня Даву снова направляет Бертье документы, где говорится об осуждении еще троих солдат, «обвиняемых в убийстве и вооруженном грабеже». Указывается, что приговор приведен в исполнение вчера (т. е. 12 июля) перед фронтом части, к которой принадлежали военнослужащие. 25 июля из Могилева маршал докладывает о расстреле еще троих солдат (определенно Даву считал, что бог любит троицу!), обвиняемых в грабеже и неподчинении жандармерии[679].
Непреклонная суровость командующего 1-го корпуса к мародерам нашла отражение и в мемуарах. Вот что пишет автор очень точных воспоминаний некто Комб, офицер 8-го конно-егерского полка: «Вахмистр моей роты по фамилии Рединг, образец дисциплинированности и храбрости, не смог устоять перед соблазном и схватил пробегавшую курицу в тот момент, когда он проезжал по Виленскому предместью, чтобы присоединиться к полку. Хозяин курицы заметил это и, набросившись на вахмистра, затащил его в полицейский участок. Был тотчас составлен протокол, который дошел до маршала Даву. Так как было объявлено, что каждый, кого возьмут с поличным при мародерстве, будет расстрелян, необходим был пример, маршал был неумолим. Ни отчаянные просьбы полковника де Перигора, ни безупречная служба этого унтер-офицера, ничего не могло защитить его. Он был приговорен и расстрелян своим взводом в присутствии своей роты»[680].
Что касается других корпусов Великой Армии, то здесь, возможно и не с таким же упорством, но так же пресекали грабеж, о чем свидетельствуют документы, которые почти что чудом не затерялись во время отступления. Вот некоторые из них:
«19 июня 1812 года. Вильно.
Бенезе Антуан, солдат 35-го линейного полка.
Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.
30 июля 1812 года, в лагере под Витебском.
Франсуа-Элеонор Сартен, солдат 12-го линейного полка.
Виновен в мародерстве и воровстве. Приговорен к смертной казни.
5 сентября 1812 года. Полоцк.
Бернар Гитц, 24 года, солдат 21-го линейного полка,
Ян Илличанети, 26 лет, солдат 3-го временного хорватского полка,
Мигель Гомес, 24 года, солдат 1-го португальского полка,
Жан Менар, 28 лет, солдат 18-го легкого полка.
Виновны:
1) в том, что они отлучились без уважительной причины из расположения своих частей,
2) в том, что занимались мародерством и жили за счет мародерства и грабежа.
В соответствии с этим превотальная комиссия приговорила вышепоименованных военнослужащих к смертной казни.
19 сентября 1812 года. Полоцк.
Джакомо Домиксикацца, солдат.
Виновен в мародерстве, приговорен к смертной казни.
22 июля 1812 года, в Перебродье (в подлиннике “Перенбронн”). Дессаж Флорантен, кирасир 1-го полка.
Виновен в том, что ударил г-на Стефана Адама, крестьянина, прикладом мушкетона, наступил ему ногой на горло и избил его, сверх того выстрелил из карабина в крестьянина Стефана Адама, отца предыдущего.
Приговорен к смертной казни»[681].
Прочитав этот мрачный список, трудно сомневаться в том, что командование Великой Армии много делало для того, чтобы пресечь мародерство и грабеж на территории России, и если этого не удалось добиться, то потому, что обстоятельства оказались сильнее.
В общем же, подводя итог, можно сказать следующее: в момент марша крупных масс войск и боевых операций, в отсутствие регулярного снабжения, мародерство во французской армии принимало повальный характер. Впрочем, даже и в этом случае залпы орудий возвращали солдаты императора на стезю долга. В испанской войне, где особенно было трудно бороться с мародерством, где солдаты часто становились «легко раздражимыми, невоздержанными, издающими проклятия и фразы, выказывающие их обескураженность… можно было рассчитывать на них в день боя. В бою они снова становились самими собой, отважными солдатами, солдатами в хорошем настроении»[682].
Когда же удавалось наладить сносное снабжение, когда во главе войск стояли люди, подобные Даву или Сюше, в войсках воцарялась строжайшая дисциплина, что резко контрастировало с состоянием частей, находившихся под иным командованием и в иной ситуации. Вот что рассказывает офицер из Армии Юга (т. е. войск, сражавшихся под командованием маршала Сульта на юге Испании): «Армия Юга соединилась в Екле с армией маршала Сюше… Мы увидели несколько отрядов его войск, стоявших под Валенсией, и изумились их великолепной форме. По прекрасному состоянию их экипировки можно было подумать, что они только что прибыли из Франции. Они были здоровы и обеспечены всем необходимым… так что мы произвели на них жалкое впечатление нашими запыленными изодранными мундирами, драными башмаками и высохшими лицами. Солдаты Сюше соблюдали строгую дисциплину, в то время как наши привыкли к беспорядкам, так что они наградили нас эпитетом “бандиты с юга”. Действительно, генералом, наиболее поддержавшим в Испании честь французского имени, был, без сомнения, Сюше. Опытный воин и мудрый администратор, он знал цену золота и крови, экономно расходуя и то и другое. Как когда-то Дезе в Египте, его можно было бы прозвать Султан Справедливости…»[683].
А вот что рассказывает голландец по происхождению, генерал Дедем де Гельдер о корпусе Даву в 1811 году: «Наследный князь Мекленбургский посетил нас. Увидев крестьянских гусей из соседней деревни, мирно прогуливающихся по лагерю, он воскликнул: “Вот, господа, ваша самая высокая похвала”. Действительно, даже пропавший платок становился объектом строгого разбирательства. По мельчайшим жалобам жителей окрестных сел солдат наказывали безжалостно. Впрочем, они сами наблюдали за новобранцами. Старшие офицеры не осмеливались покинуть лагерь и посетить город, как только с разрешения бригадного генерала. Нас было вместе с артиллерией семнадцать тысяч человек и за три месяца нашего пребывания нам не пришлось наказывать ни одного серьезного проступка»[684].
Несколько слов о технике функционирования военной фемиды.
Военные преступления подлежали юрисдикции трибуналов: постоянных (conseils de guerre permanents) и специальных (commissions militaires spéciales, conseils de guerre spéciaux). Постоянные военные трибуналы существовали при каждой дивизии. Под их юрисдикцию попадали все военнослужащие данного соединения. «Специальные» предназначались для суда над шпионами и дезертирами. Наконец, особые военные трибуналы назначались для разбора дел старших офицеров. Кроме указанных судов декретом от 22 июня 1812 года были учреждены так называемые «превотальные комиссии» из пяти членов – некий род военного трибунала для совершения скорого суда над мародерами. Согласно закону постоянные и специальные трибуналы состояли из семи членов, назначаемых командующим корпусом или дивизией. Один из семи членов трибунала был старшим офицером, остальные – младшими. Сверх того, офицеру штаба или жандармерии поручалось быть «докладчиком». В обязанности «докладчика» входило предварительное расследование дела: опрос свидетелей, допросы задержанных и т. д. Кроме того, во время процесса он должен был изложить вину подсудимого. Писарем на суде был специально назначенный унтер-офицер, наконец, подсудимый имел право выбрать себе любого защитника, в случае, если он не мог этого сделать, офицер-«докладчик» должен был сам найти его.
Заседания военного трибунала были открытыми, однако число зрителей не должно было превышать тройного количества числа судей (т. е. 21 человек). Они не имели права входить в зал суда вооруженными или даже просто имея в руках трости.
Заседание начиналось с того, что председатель приказывал внести экземпляр военного законодательства. Эта книга должна была находиться перед ним в течение всего процесса, причем данная формальность обязательно заносилась в протокол. Затем офицер-«докладчик» информировал членов трибунала о совершенном преступлении и зачитывал протоколы допросов. После этого в зал вводили подсудимого, в зависимости от обстоятельств председатель мог распорядиться, чтобы конвой остался в зале или покинул его.
После допроса подсудимого, выступлений пострадавших (если таковые имелись) и защитника конвой выводил подсудимого из зала суда. Зал должны были также покинуть все остальные, кроме членов трибунала, которые оставались для совещания. В задачу совета входило лишь вынести вердикт – виновен или нет подсудимый в преступлении, которое ему вменялось. В этом, собственно, и состоит главное отличие военного трибунала от привычного для нас современного гражданского правосудия. Мотивы преступления, смягчающие обстоятельства во внимание не принимались, а степень вины не нюансировалась. Упомянутый нами фузилер 11-го полка Этьен Дебардье, уличенный в воровстве ложки, был бы приговорен к тем же десяти годам каторги, если бы украл все столовое серебро, всю одежду, деньги и ценности в том доме, где он расположился на постой. С другой стороны, относительный гуманизм наполеоновского трибунала проявлялся в том, что если хотя бы три из семи его членов считали подсудимого невиновным, он тотчас же должен был быть отпущен на свободу[685].
В приложении приведена часть списка наказаний, установленных регламентом от 21 брюмера V года (11 ноября 1796), которые формально существовали в армии в эпоху Империи. Этот список имелся у каждого солдата в его индивидуальной книжке на страницах 27 и 28. На самом деле большинство из указанных там проступков и наказаний за них не встречаются в реальных военно-судебных делах. Это связано с тем, что многие просто-напросто устарели, так как родились на свет в эпоху революционного террора («выкрики, призывающие к мятежу», «измена», «служба против Франции», карающиеся смертной казнью), либо в королевской армии XVIII века и уже не соответствовали новым условиям войны («повторная запись в рекруты», «нарушении трубачом линии аванпостов без приказа»). Из многочисленных реальных документов, проработанных в архиве, приговоров по подобным обвинениям не встретилось нам ни разу. Зато очень часто попадались обвинительные заключения по следующим пунктам: вооруженный грабеж – смертная казнь; воровство у хозяина дома – 10 лет каторги; воровство у своих товарищей – 6 лет каторги.
Наконец очень часто встречалась формулировка «непредумышленное убийство», которой нет в списке солдатской книжки. За него во всех случаях приговаривали к 20 годам каторги. Из документов, относящихся к реальным проступкам, видно, что хотя далеко не все преступления в наполеоновской армии наказывались, те из солдат, кто попался на грабеже и насилии над мирными жителями, платил за остальных, и расстрел был здесь разменной монетой.
Смертная казнь, как и ранее при старом порядке, обставлялась мрачно-торжественным церемониалом. «По этому случаю нарочито развертывается вся пышность военного ритуала, – писал современник, – и это справедливо, ибо уж если хотят дать суровый пример, то нужно, чтобы он пошел на пользу остальным.
…Войска строятся в каре из трех фасов, оставляя четвертый для пролета пуль… Приводят приговоренного в сопровождении священника. В определенный момент все барабаны бьют “поход” до тех пор, пока осужденный не окажется в центре каре. Тогда барабаны бьют дробь и затихают. Капитан-докладчик читает приговор, барабаны снова бьют дробь. Приговоренного ставят на колени, завязывают ему глаза и двенадцать капралов под командой фельдфебеля (adjudant sous-officier) стреляют в несчастного, стоящего в десяти шагах от них. Чтобы уменьшить, насколько это возможно, ужас наказуемого, команды не произносят в слух. Фельдфебель отдает их движением своей трости. Если осужденный не умер после залпа, что иногда случается, его должен добить резервный взвод из четырех человек, которые стреляют в упор… После приведения в исполнение приговора войска дефилируют мимо трупа… Я видел, как многие встречали смерть с удивительным хладнокровием. Я видел тех, кто обращался с последними словами к полку, я видел даже тех, кто сам отдавал команды взводу расстрела, ни в одном звуке их голоса не чувствовалось волнения…»[686].
Это описание почти в точности соответствует регламенту, за исключением того, что устав предписывает формировать взвод расстрела не из 12 капралов, а из «4 сержантов, 4 капралов и 4 рядовых, взятых среди самых старослужащих солдат и унтер-офицеров части, где служил приговоренный». Резерв расстрела согласно регламенту состоял также не из четырех, а из двенадцати человек. Наконец, в уставе нет ни слова о священнике. Вполне понятно, что эти детали могли изменяться по распоряжению командования[687].
В этой главе, основное содержимое которой – моральный дух войск, уместно будет подчеркнуть то мужество, с которым старые солдаты наполеоновской армии встречали смерть. Об этом упоминал процитированный автор, но нам хотелось бы добавить еще одно драматическое описание. Рассказывает офицер 14-го легкого полка: «По моему прибытию в полк рядовой по фамилии Тьерсон, в общем неплохой солдат, отправился однажды помародерствовать, напился и выстрелил в офицера, который хотел вернуть его в лагерь. Солдат был арестован, судим, приговорен и расстрелян в 24 часа. Когда его поставили на колени, чтобы предать его смерти, он сказал только следующие слова: “Я прошу прощения у 14-го полка и у Бога”»[688].
Разумеется, что все наказания, о которых мы говорили (расстрел, каторга), были карами за военные преступления и применялись только по приговору суда. За исключением, конечно, боевой обстановки, когда командир мог убить подчиненного в экстренной ситуации. Об одном таком случае, произошедшем во время отступления из России, рассказывает генерал-интендант Денние: «Наш правый фланг был обойден, в рядах солдат начался ропот… и вдруг жалкий гренадер 12-го полка, бросив свое ружье, начал убеждать своих товарищей, что надо сдаваться. В этот момент генерал Жерар с быстротой молнии подскочил к нему с пистолетом в руке и, застрелив негодяя, смертью одного человека спас многих. Войска, еще несколько мгновений назад бывшие на грани деморализации, воспрянули духом и огласили воздух криком “Да здравствует Император!”»[689]
В случае мелкого проступка наказание, как и во всех армиях мира, назначалось начальником провинившегося. Для солдат и унтер-офицеров карой за серьезное упущение по службе был простой арест или карцер, в случае небольших нарушений дисциплины – неувольнение в город, выговор, словесное замечание. Вот примеры наказаний, примененных в гвардейских полках в феврале 1811 года:
«1-й полк пеших гренадеров
Вераж и Массон – рядовые, 15 дней карцера за то, что они не ночевали в казарме.
Пирон, рядовой, 15 дней ареста за то, что он учинил шум в частном доме.
2-й полк пеших гренадеров
Гаспер, капрал, 8 дней неувольнения за то, что он не выучил урок по теории.
Аан, рядовой, 4 дня неувольнения за то, что он не сохранял неподвижность в строю.
Латур, старший сержант, 4 дня неувольнения за то, что он не наказал сержанта, которого ему было указано наказать.
3-й полк тиральеров
Руссо, рядовой, 8 дней ареста за плохую форму одежды в строю.
Драгунский полк
Фурро, трубач, 4 дня неувольнения за то, что он злоупотреблял алкоголем.
2-й полк шеволежеров
Боль, Гериетс, Дехаус, Авергау, Нартен, рядовые, арест до особого распоряжения за то, что отсутствовали на перекличке.
Флорин, рядовой, 4 дня ареста за неподчинение бригадиру»[690].
Все это достаточно обыденные методы наказания, хорошо известные во всех армиях. Однако наполеоновское войско знало и другие, весьма своеобразные методы воздействия на провинившихся. Самым распространенным из них был солдатский самосуд, применявшийся к тем, кто был уличен в трусости в бою.
«Если не во всех, то по крайней мере в ряде полков, существовали товарищеские суды, которые сами вершили правосудие, – рассказывает офицер 18-го полка. – Эти трибуналы чести функционировали быстро и справедливо. Наказание, к которому они обычно приговаривали, состояло в нескольких ударах башмаком по ягодицам провинившегося (savate). Били “жирно” или “постно”, т. е. каблуком или подметкой. Тот, кто испытал это наказание, не мог более рассчитывать получить унтер-офицерские нашивки или попасть в элитную роту, до тех пор, пока он не смывал позор своей кровью»[691].
Существование «савата» по приговору товарищей подтверждается многими источниками, однако в ряде случаев подобный неуставной метод наказания инспирировался самим командованием, оставаясь все же как бы «инициативой снизу». Вот что маршал Даву, командующий 3-м корпусом Великой Армии (в 1807 году), приказал после битвы при Эйлау своему подчиненному дивизионному генералу Гюдену: «Я с прискорбием заметил, что многие солдаты уходили в тыл под предлогом увода раненых. Это злоупотребление может нанести серьезный ущерб армии, и оно должно быть наказано теми, кто рисковал своей жизнью. Нужно, чтобы храбрые солдаты сами наказали отставших и беглецов, которые не следовали их благородному примеру. В соответствие с этим я предписываю вам настоятельно предложить полковникам рекомендовать солдатам, чтобы они наказали “жирным” саватом всех тех, кто не участвовал в битве по неуважительной причине…»[692].
Журнал 3-го корпуса, составленный в кампанию 1806–1807 годов, подтверждает, что подобное наказание было применено в этом соединении после Эйлау почти что официально: «Два канонира прибыли только после битвы, и так как не смогли дать достойного объяснения своему отсутствию, их приговорили к “савату”, что и было исполнено в присутствии всего корпуса на могиле товарищей, павших на своем посту в ходе боя»[693].
Наконец в ряде случаев наказания могли приобретать совсем непривычные формы, что можно рассмотреть на примере трагикомичного случая, разбирательству которого посвящено несколько документов в архиве исторической службы французской армии.
В небольшом северо-итальянском городке Иврея, что неподалеку от Турина, каждый год в марте устраивается веселый карнавал, длящийся несколько дней. Традиция этих праздников уходит в далекое прошлое, а продолжается она и поныне. В марте 1810 года, как обычно, праздновался карнавал. Его отмечали не только местные жители, но и французские солдаты, располагавшиеся в городке (напомним, что в этот период времени Пьемонт и, естественно, Иврея были неотъемлемой частью Французской империи). Конные егеря 24-го полка сняли за свой счет даже целую таверну, где устроили угощение и танцы. Однако один из солдат так злоупотребил вином, что в разгар веселья вышел посреди зала, где танцевали и… испражнился прямо на пол!.. Возмущенные конные егеря наградили пьяного хорошими тумаками, а потом вышвырнули пинками вон…
На этом бы, наверное, и должна была кончиться эта маленькая история, но то ли постарались злые языки, то ли просто в маленьком городишке любое ничтожное происшествие становится предметом несоразмерных его значению пересудов, ясно только одно, что это «событие» приобрело почти что политическую окраску. По городу поползли слухи, что мол-де французские солдаты попытались сорвать народный праздник.
Тогда командир депо 24-го конно-егерского полка Дюфаи решил устроить примерное наказание дебоширу. Провинившегося вывели перед казармой, сняли мундир и, завязав руки за спиной, снова набросили ему на плечи мундир, но уже вывернутый наизнанку. Ему надели также фуражную шапку задом наперед, привязали сзади швабру, а спереди совок, и в таком виде под конвоем четверых солдат и бригадира провели по улицам города на место «преступления». Там провинившийся должен был просить прощения у хозяина таверны, и, как доносил рапорт одного из «доброжелателей», солдата заставили даже поцеловать пол в зале, где он совершил проступок, после чего еще целый час он стоял привязанный у дверей таверны, осыпаемый насмешками и издевками толпы зевак.
Теперь «дело» приобрело столь большую огласку, что неизвестный «доброжелатель» составил рапорт военному министру, где говорилось следующее: «…эти насмешки раздавались со стороны подонков городского населения… которые наслаждались видом солдата императора, выставляемого на поругание толпы своим командиром. Честные люди с негодованием смотрели на это действо и не знали, чему больше удивляться: варварству изобретателя сего наказания или его политической недальновидности, ведь все это происходило в крае, который весьма непросто ассимилировался среди земель Империи»[694].
Когда читаешь этот поклеп, сразу вспоминаются слова генерала Тьебо, который говорил: «…благодаря этой магической фразе, “солдаты Императора”, разного рода прохвосты приобретали в глазах слабых и нерешительных командиров нечто похожее на индульгенцию, прикрываясь которой, они порой совершали серьезные проступки»[695].
К счастью для майора Дюфаи, в ответ на запрос военного министра, начальники командира депо дали ему положительную характеристику, хотя один из них и не преминул вставить в нее на всякий случай фразу: «…я не очень хорошо знаю этого офицера…»[696]. Тем не менее дело на майора было закрыто.
В этом курьезном эпизоде раскрываются характерные черты французской дисциплины. Как мы видим, случай, который в ряде других армий мог остаться просто без внимания, тем более что солдаты сами поколотили незадачливого выпивоху, здесь, несмотря на отсутствие физического наказания, обернулся для провинившегося жестокой карой. С другой стороны, облик этой экзекуции вызвал неоднозначную реакцию, и она стала предметом внимательного разбирательства вышестоящих инстанций, последнее, как кажется, показывает, что в отсутствие боевых действий даже малозначительные проступки бывали нечастыми.
Подводя итог, можно сказать, что охарактеризовать степень дисциплинированности наполеоновской армии однозначно довольно трудно. Здесь можно было найти все – от строгого соблюдения порядка и уставов до расхлябанности и мародерства.
Несмотря на противоречивость источников, очевидно, пожалуй, одно – эта дисциплина, как минимум, не уступала той, что существовала в иностранных армиях, хотя она и базировалась там на других принципах. Генерал Фуа в своем очерке, посвященном английским войскам, очень метко охарактеризовал эту разницу: «Едва они (англичане) только выходят за пределы того, что может быть предусмотрено дисциплинарным кодексом, – а можно ли вообще воевать, не попадая в подобные ситуации, – они совершают такие чудовищные проступки, которые удивили бы казаков… Они напиваются, как только могут, и их опьянение, апатичное и холодное, приводит к отупению.
Ежеминутная строжайшая субординация – это условие “sine qua non” в английской армии, которая не может существовать, соблюдая сдержанность в изобилии, а, с другой стороны, не разбегаясь в случае голода»[697].
Чтобы завершить моральный портрет наполеоновской армии, мы рассмотрим еще одну проблему, а именно: взаимоотношения между солдатами, офицерами и различными частями, ее составляющими.
Как нетрудно предположить, в армии, где существовал культ чести, где жажда славы и отличий неминуемо вызывала соперничество, и где смерть рассматривалась как «обыденное явление жизни», малейшее посягательство на чье-то достоинство неминуемо должно было приводить к кровавой резне. Так, в общем, и было.
Хотя официальной статистики числа дуэлей в наполеоновских войсках не было, уже сам факт того, что практически все мемуаристы имели за свою карьеру хотя бы один поединок, говорит сам за себя. «Я знал много офицеров, которые были охвачены настоящей манией дуэлей, – пишет современник, – они считали, что необходимо иметь хотя бы одно “дело чести” в месяц»[698].
Хотя император не любил дуэлянтов, никаких запретительных мер на этот счет в армии фактически не применялось. В мемуарах Верньо говорится, например, что в их полку (4-м конно-артиллерийском) офицер, подравшийся на дуэли без разрешения дежурного командира батальона, получал четверо суток ареста, а если дуэль закончилась смертью одного из дуэлянтов, то выживший отправлялся на четверо суток за решетку. Для солдат и унтер-офицеров наказанием были, соответственно, двое суток гауптвахты или двое суток карцера[699]. Последнее – дуэль между солдатами была спецификой наполеоновской армии. Подобная вещь была совершенно немыслима в русских или австрийских войсках, весьма далеки от этого были и англичане, хотя у них допускалось выяснение отношений между рядовыми в кулачном поединке.
Солдатские дуэли существовали во французской армии еще при Старом порядке, они пережили революцию и сохранились в эпоху Империи. Столь же ничтожное наказание, о котором пишет мемуарист, конечно, не останавливало желающих подраться, тем более что оно налагалось только на тех, кто принял участие в дуэли без разрешения!
Что же касается списка наказаний в солдатской книжке, то там дуэль вообще не упоминается.
Ничто не мешало поэтому старым воякам поддерживать и, более того, культивировать обычай дуэли в наполеоновской армии. Особенно выделялись среди этих носителей «традиции» – полковые учителя фехтования. «Они подбивали меня на то, чтобы я устроил ссору с поединком без всякой причины, – рассказывает о своих учителях фехтования знаменитый капитан Куанье, тогда молодой солдат. – Ну, доставайте свою саблю, – сказал бретёр, – я выпущу из тебя небольшую капельку крови.
– Посмотрим, господин наглец.
– Возьми себе секунданта.
– У меня его нет.
Но мой старый учитель фехтования, который участвовал в этом “заговоре”, сказал:
– Хочешь, чтобы я был твоим секундантом?
– Да, папаша Пальбуа, это будет замечательно.
– Ну, что ж, тогда пойдем на место, хватит разглагольствовать»[700].
Впрочем, эта дуэль была прервана самими организаторами, молодого солдата просто испытывали на храбрость. Этот «экзамен» Куанье успешно сдал. «Я был признан хорошим гренадером, – вспоминал он, – Я понял, что они от меня хотели, это испытать меня и сделать так, чтобы я заплатил за выпивку, что я охотно сделал, и они остались мне признательны. Гренадер, который утром собирался убить меня, стал моим лучшим другом…»[701].
Впрочем, дело далеко не всегда заканчивалось так безобидно. Особенно много дуэлей, и дуэлей серьезных, происходило, когда в гарнизоне оказывались две еще не знакомых друг с другом части. Тогда, словно между кланами Монтекки и Капулетти, в городе повсюду завязывались поединки, часто без всякой причины. Вот что рассказывает очевидец о том, как происходило формирование дивизии Удино, образованной из гренадерских рот, взятых в различных полках: «Это слияние осуществилось очень быстро для офицеров, но не так-то просто оно обернулось для солдат. Согласно старому обычаю нашей армии знакомство происходило с саблей наголо. В течение первых месяцев создания дивизии бесчисленные дуэли, которым невозможно было воспротивиться, научили наших храбрецов взаимно уважать друг друга, однако пока не наступил этот момент, более пятидесяти из них стали жертвами этого досадного предрассудка…»[702].
Подобные поединки, когда они происходили между противниками, разгоряченными винными парами и на виду у товарищей, легко могли перерасти в настоящие бои. «Этот постой на кантонир-квартирах был, к сожалению, отмечен стычкой в кабаре, последствия которой были печальны и могли бы оказаться еще более серьезными, – рассказывает о стычке между пехотинцами и кавалеристами офицер пятого гусарского полка, – четыре гренадера были убиты, трое попали в госпиталь в тяжелом состоянии, с ними был ранен также один понтонер и один артиллерист. Шесть гусар были очень тяжело ранены и один убит.
Когда я прибыл на место этого несчастного события, бой, казалось, должен был возобновиться и причем еще с большим ожесточением, так как в кабаре уже сбегались солдаты пехотных полков, а с другой стороны подоспели пятьдесят гусар. Только с помощью многих офицеров мы смогли развести враждующие стороны по своим казармам. В городе были наряжены сильные патрули, чтобы обеспечить порядок и безопасность»[703].
Дуэли между офицерами были, разумеется, не похожими на драки и не часто связаны с принадлежностью к различным полкам или родам войск. Однако так же, как и солдатские, они происходили преимущественно на холодном оружии. «В гарнизоне это были шпаги или рапиры со снятыми наконечниками. На кантонир-квартирах – шпаги или сабли, носившиеся с формой… – рассказывает Верньо, – никто не осмелился бы предложить пистолет (огнестрельное оружие считалось менее достойным и не рыцарственным), однако нельзя было отказаться от боя на пехотных полусаблях, кавалерийских палашах или саблях легкой кавалерии. Секунданты становились по сторонам от сражающихся, каждый справа от своего дуэлянта… с обнаженными шпагами или саблями, чтобы в случае чего предохранить противников от недостойных методов сражаться, а также с целью разъединить их, когда будет решено, что честь удовлетворена и секунданты провозгласили, что дело закончено. Мы сражались рубящими и колющими ударами, кто как хотел, до первой крови, если причина дуэли была маловажной, сражались до смерти из-за серьезных оскорблений, лжи или пощечины»[704].
Впрочем, офицеры не всегда пренебрегали пистолетами. Использование огнестрельного оружия означало, в общем, более решительный характер поединка, т. к. вероятность получить тяжелую или даже смертельную рану была здесь большей, чем при дуэли на шпагах. Одну из таких дуэлей с трагическим концом нам хотелось бы описать как пример поединка по серьезной причине, хотя и далекой от соперничества за женщину, приводившего так часто к жестоким схваткам.
Предоставим слово уже известному нам д’Эспеншалю, полк которого располагался зимой 1807–1808 годов на кантонир-квартирах в Бреслау. 2 декабря 1807 года маршал Мортье, командующий французскими войсками в городе и округе, решил дать пышный бал по поводу годовщины коронации императора Наполеона и победы под Аустерлицем. На бал было приглашено все высшее общество Бреслау. «Можно вообразить, что не все из гостей пришли на праздник, ведомые лучшими чувствами, однако они вели себя достаточно корректно. Лишь один прусский полковник в отставке, разговаривая по-немецки с тремя особами, позволил себе столь оскорбительно отзываться об императоре, что капитан артиллерии Гурго… слышавший их и прекрасно говорящий по-немецки, сказал полковнику: “Сударь, если бы Вы были не на балу, я дал бы Вам пару пощечин, но если у Вас есть еще остаток чести, я прошу Вас рассматривать ситуацию так, как если бы Вы их получили”. “Отлично, – ответил полковник, – я надеюсь завтра сделать так, что Вы больше уже не будете болтать”. Все это было сказано с таким холодным спокойствием, что никто, за исключением свидетелей происшествия, и не подумал, что среди музыки, танцев и радости готовилась ужасающая драма…
На рассвете 2 декабря маленькая записка от командира батальона артиллерии Флёрио поставила меня в известность о том, что он утром заедет за мной в экипаже. Действительно, около семи утра мы выехали: Гурго, командир батальона, старший хирург и я, захватив с собой пару пистолетов и боевую шпагу.
Двадцать минут спустя, мы были на месте, избранном для дуэли, куда почти в то же время приехали полковник Тауэнцин и два его секунданта. “Господа, – сказал полковник, – на самом чистейшем французском языке, – я думаю совершенно бесполезно объясняться по поводу мотива, который привел нас сюда. Я получил самые тяжелые оскорбления, которые может получить воин, и поэтому я хочу мести, оставляя на ваш выбор условия поединка”.
После этих слов пистолеты были заряжены, две шпаги воткнуты на расстоянии трех шагов одна от другой и две другие на расстоянии пятнадцати шагов от предыдущих. Условия были таковы, что дуэлянты после третьего хлопка в ладоши могли сближаться с той скоростью, с которой они желают, и равным образом стрелять в любой момент.
Гурго передал мне, что он соглашается на то, чтобы стреляли по очереди, отдав полковнику право первого выстрела. В случае четырех безрезультатных выстрелов (по два с каждой стороны) дуэль должна была быть продолжена на шпагах. Однако полковник благородно отказался от первого из этих предложений.
Итак, дело было решенным, все происходило с самым большим спокойствием. Барон Фретцинген подал сигнал. В тот же миг раздались два выстрела и полковник, пораженный в грудь, рухнул, успев только вымолвить: “Я убит”»[705].
Вообще, мемуары современников полны примерами самых необычных дуэлей, на самых различных видах оружия, по самым различным причинам и с самыми разными исходами. Тем не менее нельзя не отметить одной особенности: несмотря на многочисленные упоминания о факте дуэлей, в подавляющем большинстве случаев мемуаристы наполеоновской армии не только не возводят дуэль в культ, но и даже упоминают о поединках как-то вскользь, не особенно задерживая на них свое внимание.
Дуэль не была окружена в их среде тем обостренным, почти что болезненным вниманием, как, скажем, в России 20-х – 30-х годов XIX века, где она стала чуть ли не главным источником вдохновения авторов романтических литературных произведений.
Изнурительные походы, слава на поле грандиозных битв империи, удивительные исторические события, свидетелями которых они являлись, занимали воображение офицеров и солдат наполеоновской армии куда больше, чем сомнительная прелесть бретерских подвигов. Если в гарнизоне и на постое по причине вынужденного относительного безделья отношения между частями складывались, как ясно из вышесказанного, достаточно непросто, иначе было на поле сражения. Здесь совместное преодоление опасностей, общая слава, добытая в тяжелой борьбе, вызывали к жизни другие чувства – чувства товарищества и братства по оружию. Вот, что вспоминал об этом Гонневиль: «…благодаря редкому везению мы выбрались живыми и невредимыми из этого гибельного места и в 11 часов вечера прибыли в городок Эспьель, умирая от усталости. Мы встретили тут пехотную дивизию и наш полк… я не могу описать радости и счастья наших товарищей и гусар; со всех сторон были рукопожатия, бесчисленные объятия, которые выражали нашу искреннюю любовь друг к другу, те чувства преданности, которые рождаются в боях, когда вместе идут навстречу смертельной опасности»[706].
Конечно, подобные чувства не являлись какой-то особой небывалой чертой наполеоновского войска. Но то, что поистине удивляет и является характерным прежде всего для армии 1-й Империи, – это те формы, в которых проявлялось боевое братство, формы, которые, без сомнения, характерны для французской нации классического периода с ее врожденным артистизмом и склонностью к театральным эффектам, в хорошем смысле этого слова. Не редкостью было, что появление на поле битвы полка, отличившегося в предыдущих боях, армия встречала громким ликованием и даже… аплодисментами! «Заслуженная репутация части быстро распространяется в армии, – рассказывает де Брак. – Я видел, как полкам аплодировала вся армия. Им кричали “браво!”, когда они вступали в боевую линию. Солдаты выбегали из строя, чтобы подойти к ним и пожать руки храбрецов! Какой только порыв это не возбуждало! “Они с нами! – раздавалось отовсюду. – “Вперед! Вперед! Теперь победа наша!”»[707].
Пожалуй, нигде с такой силой не раскрывались рыцарственные чувства солдат и офицеров наполеоновской армии, как в этом благородном умении воздать должное отваге своих товарищей по оружию. И примеров этих искренних, дружеских, шедших от самого сердца приветствий, великое множество. Вот что писал герцог Бассано о том, как 84-й линейный полк вступил в боевые порядки армии в битве при Ваграме: «Когда “один против десяти”[708] показался на поле сражения, он был встречен исступленными восторженными приветствиями своих товарищей, а император снял шляпу и оставался с непокрытой головой, пока полк проходил мимо него»[709].
«Можно было залюбоваться порывом наших войск, – вспоминал генерал Гриуа о бое под Шевардиным. – Под чистым синим небом, в лучах заходящего солнца, сверкали ружья и клинки, украшая открывавшееся перед нами зрелище. Армия с высоты своих позиций провожала глазами полки, которым была поручена честь атаковать первыми, и приветствовала их ликующими криками…»[710].
Однако еще больше, чем в отношении к друзьям, рыцарственность проявляется в отношении к врагам. И здесь можно с уверенностью сказать, что по стилю поведения армия Наполеона еще полностью относится к пониманию войны, принятому в европейском «традиционном» обществе, смягченном к тому же гуманистической философией XVIII века. Враг рассматривался как таковой на поле боя, пока сталью и свинцом он хотел навязать свою волю. Но едва стихал грохот битвы, как в неприятеле солдаты и офицеры Наполеона видели лишь людей, волею судеб оказавшихся по другую сторону барьера, таких же, как и они, воинов, выполняющих долг перед своим монархом и отечеством.

А. Лалоз. «Возвращение из Испании, 1814 г.» Драгуны, ветераны похода в Испанию, прибывают на помощь войскам, сражающимся на подступах к Парижу.
Пример подавал сам Император. После каждого генерального сражения отдавался приказ помогать раненым – своим и чужим. Французские хирурги оперировали, часто даже не вникая, к какой армии принадлежит раненый. Главный хирург Гвардии (а впоследствии всей Армии) Ларрей не раз лечил без разбора всех раненых – французов и их врагов, а Перси, другой выдающийся врач, записал в своем дневнике о вступлении наполеоновских войск в Гейльсберг: «…Мы видели, сколько стоила эта битва русским. В городе осталось около 400 раненых, которых они не сумели увезти… по причине тяжести их ран. Я отрядил тридцать хирургов, чтобы перевязать их и оперировать. Мы собрали их в одном здании, которое теперь будет для них госпиталем»[711].
Справедливости ради нужно отметить, что в том же дневнике Перси указывает, что французские раненые, взятые до этого в плен русскими и освобожденные наступавшими полками Великой Армии «…единодушно утверждали, что хирурги русской армии перевязывали их даже вперед своих собственных солдат»[712].
Подобное поведение было скорее нормой, чем исключением, по крайней мере до тех пор, пока война не приобрела в 1812-м, а особенно в 1813 г. небывалый размах и ожесточение. Впрочем, и в этих кампаниях находилось место великодушию. Вот что писал в своих воспоминаниях ирландец Вольф Тон, прошедший кампанию 1813 г. в рядах наполеоновских войск: «…На поле боя французы обычно сражаются с дикой яростью. Они устремляются в битву душой и телом, они словно становятся охваченными опьянением, особенно в атаке, когда они бьют всех без пощады и сами ее не просят. “Бей! Бей!” – кричат они во всю глотку… Но едва бой кончился, как их ярость исчезает, и естественная гуманность их натуры становится доминирующей. Я всегда видел их сострадательными и гуманными к раненым и пленным, которых они никогда не оскорбляли и не обижали»[713].
Фантен дез Одоар записал в своем дневнике после битвы при Аустерлице: «Те из раненых, кто мог передвигаться, приближались к нашим бивачным кострам и садились вокруг них. Среди раненых было много русских и австрийцев, рассеянных по полю боя, они тоже расположились обогреться у наших огней. Для стороннего наблюдателя это была весьма своеобразная сцена – видеть, как по-дружески сгрудились вокруг костров те люди, которые еще несколько мгновений назад в ожесточении убивали друг друга»[714].
А вот что видел другой очевидец после битвы под Цнаймом в 1809 г.: «К пяти часам огонь утих, и офицеры проехали по линии войск, чтобы прекратить стрельбу, так как князь Лихтенштейн был в этот момент в императорской палатке с целью заключить перемирие. Мы подошли к австрийцам, пожимали им руки и завязывали дружеские беседы с помощью фламандцев, которые служили нам переводчиками»[715].
Но даже в ярости боя французский солдат был далек от кровожадности. Вот какой трагикомичный случай, произошедший в бою при Березине, описал гренадер великой Армии: «Один из русских кавалеристов, которого понесла его смертельно раненая лошадь, рухнул вместе с ней прямо в нашем каре. Так как лошадь придавила ему ногу и кавалерист никак не мог сам выбраться из под нее, один из наших помог ему подняться. Используя то, что мы были заняты отражением атаки других эскадронов его полка, он вышел из каре, причем никто и не подумал ему мешать, а затем как ошпаренный бросился бежать в сторону своих. Мы не могли не рассмеяться, и никто не стал стрелять по нему»[716].
Когда же война кончалась, французские солдаты охотно братались со своими бывшими врагами. В Тильзите императорская гвардия организовала огромный пир, куда были приглашены солдаты русских гвардейских полков: «Суп, говядина, свинина, баранина, гуси и куры были в изобилии, пиво и вина в бочках стояли на каждом столе. Гренадеры и егеря французской гвардии, смешавшись с русскими гвардейцами, ели и пили. Русские вначале держались очень скромно, не понимая нашего языка, они не осмеливались предаться веселью, но дружелюбные жесты и доброта наших солдат сделали свое дело, они осмелели и к концу пиршества были так же веселы… Этим вечером невозможно было понять, кто есть кто: французы, обменявшись с русскими шапками, мундирами и даже башмаками, прогуливались в поле и по городу, крича: “Да здравствуют Императоры!”»[717]
Вообще, как отмечают современники, ожесточение и ненависть появились лишь в поздних кампаниях, да и то в основном по отношению к пруссакам, с которыми французские солдаты сражались с остервенением, не свойственным боям с «англичанами, русскими и австрийцами, где с обеих сторон проявлялось много любезности»[718].
Некоторые из жестов воюющих армий того времени словно сошли со страниц рыцарских романов и, наверное, не всегда понятны людям, воспитанным на идеологизированных и прагматичных войнах XX века.
В кампанию 1814 г. в Италии вице-король Евгений Богарне, славившийся своим благородством и отвагой, в ходе рекогносцировки случайно оказался в пятидесяти шагах от австрийского поста, стоявшего на другом берегу узкой речки. Один только залп – и главнокомандующий французской армии в Италии и многие его высшие офицеры погибли бы. «…Но в тот момент, когда командир отряда узнал вице-короля по его белому плюмажу и бляхе ордена Почетного легиона, он выровнял строй своих солдат, скомандовал “На караул!” и приказал барабанам бить встречный марш. Эта военная любезность… была оценена вице-королем по достоинству. Он вежливо поприветствовал пост и его командира. Вечером, вернувшись в Верону, он послал одного из своих адъютантов к австрийскому главнокомандующему, чтобы высказать свою благодарность за этот благородный жест»[719].
Нужно отметить, что, пока французы вели войну с профессиональной прусской армией, а не с вооруженным народом, обработанным шовинистической пропагандой, подобные любезности имели место и в отношении с пруссаками. Гонневиль, тогда молодой офицер кирасирского полка, был взят в плен в одной из отчаянных кавалерийских стычек зимой 1807 г. Прусские офицеры и солдаты проявили максимальную тактичность по отношению к раненому пленнику. В дороге командир прусского отряда, также раненный в бою, «столь же был мало занят своей раной, – рассказывает Гонневиль, – как если бы вовсе ее не получал. Зато я был предметом самой трогательной заботы. Меня окружили вниманием, беседовали о моей семье и моем родном городе, с восторгом говорили об отваге, с которой дрался мой отряд, и вообще всеми способами старались меня утешить…» За ужином «несмотря на мои протесты, меня обслуживали первым и выбирали для меня лучшие куски…».
После двухмесячного пребывания в плену Гонневиль был обменян на прусского офицера и был препровожден в расположение французских войск (дивизия Дюпона) графом фон Мольтке, командиром отряда, в свое время взявшим его в плен. Во французском штабе пришел черед ответной учтивости: «Час спустя мы были за столом, накрытым на тридцать персон… Генерал Дюпон посадил г-на фон Мольтке рядом с собой и во время обеда спросил, в каком бою он получил шрам на щеке, который казался свежим. Граф фон Мольтке сказал, что это я нанес ему эту рану, что сделало меня объектом внимания всех присутствующих и весьма меня смутило. Я покраснел до корней волос… и генерал Дюпон попросил меня рассказать, как все это случилось… Во время рассказа г-н фон Мольтке был изысканно любезен, он несколько раз сказал, что я преуменьшаю достоинство своего поведения. Я же рассказал, как граф спас меня в ту минуту, когда без его вмешательства я был бы убит. Со всех сторон на графа посыпались благодарности, и генерал Дюпон говорил с ним с такой добротой, как если бы он был ему обязан жизнью своего близкого друга или родственника»[720].
Конечно, последний из эпизодов с его изысканной рыцарской учтивостью словно сошедший со страниц хроник бургундского двора XV века, являлся скорее исключением, но нет сомнения, что в общем французские солдаты, а особенно офицеры, не испытывали ненависти к своему противнику, сражаясь пронизанные не желанием убить врага, а добиться победы во имя жажды славы, приключений, наград и материальных выгод. Особняком, конечно, стоит испанская война и, вообще, все те кампании, где в дело вмешивалось вооруженное гражданское население.
Итак, как же, в общем, выглядел моральный портрет наполеоновской армии?
Армия мужественная, полная кипучей отваги, презрения к опасности и энтузиазма, безгранично верящая в своего вождя, в целом дисциплинированная, хотя под влиянием обстоятельств, не чуждая эксцессам и прежде всего мародерству. Армия иногда слишком самоуверенная, беспечная и драчливая, зато высоко ценящая честь и товарищество, веселая и неунывающая, гуманная к поверженному врагу.
Такой она была в первые годы Империи, в пору блистательных побед, во многом она осталась такой и в самое трагическое время, однако в моральной истории наполеоновского войска есть рубеж, который нельзя не заметить при внимательном его рассмотрении.
Как получилось, что армия с подобными высокими морально-боевыми качествами превратилась в жалкую кучку оборванных деморализованных беглецов за время не слишком долгого отступления из России? Если этот вопрос не возник перед читателем, то он всегда волновал автора, и нам необходимо дать на него ответ, который, как будет понятно, имеет самое прямое отношение к теме данной главы.
Напомним, что главные силы Великой Армии выступили из Москвы 19 октября 1812 г. В строю было около ста тысяч человек при 500 орудиях, а в первых числах декабря из них оставалось еще живыми и не плененными едва ли несколько тысяч солдат и офицеров. Таким образом, за 45–50 дней огромная армия фактически перестала существовать. (Речь здесь идет, разумеется, только о войсках, действовавших на главном направлении).
Точка зрения на эти события исторической литературы, распространенной во Франции для широкой публики, очень проста – причиной всему был ужасающий мороз. Именно он погубил доселе непобедимые полки, физически уничтожив десятки тысяч людей и сломив узы дисциплины и братства по оружию. Подобное воззрение на катастрофу в России, конечно, не выдерживает критики. Ведь когда начались настоящие холода, в самых последних числах ноября, начале декабря, от Великой Армии оставались в основном лишь жалкие кучки бредущих без строя и дисциплины, а часто и без оружия людей. Их-то действительно и доконал мороз. Во время же большей части отступления – от Малоярославца до Березины включительно – температура была низкой, но совсем не такой, от которой погибают и разлагаются закаленные войска.
Таблица температур в октябре-ноябре 1812 г.[721] [722]

Наполеоновская армия в кампании 1807 г. уже вела боевые действия при подобных условиях, не говоря уже о французских войсках эпохи революции, которые зимой 1794–1795 гг. в действительно лютые морозы завоевали всю Голландию.
Точка зрения, которая была распространена в русской и советской исторической литературе, предназначенной для широкой публики, – Великую Армию разбили партизаны и преследующие по пятам русские войска. Несмотря на то, что эта концепция несколько более обоснованна, чем предыдущая, она также не согласуется с фактами. Партизаны и казаки действительно нанесли большой урон отступающим, но те, кого они били и брали в плен, были в подавляющем большинстве группами деморализованных, отбившихся от армии солдат, зачастую невооруженных. Все источники сходятся на том, что казаки никогда серьезно не атаковали идущие в порядке, готовые к отражению нападения воинские части. Да и зачем им это было делать? Позади и вокруг армии плелись тысячи лишенных оружия и дисциплины людей, тащивших с собой повозки с награбленным добром. Простая мужицкая логика подсказывала им, что именно здесь они могут найти верную добычу при минимуме риска, в то время как, напав на колонны дисциплинированных войск, можно получить лишь сталь и свинец.
Куда более серьезным фактором, воздействовавшим на отступавших, была регулярная русская армия. Она нанесла серьезные удары по неприятелю под Вязьмой, Красным и Березиной… но и здесь значительная, если не самая главная часть потерь приходилась не на организованные части, а на деморализованные полки, шедшие за армией. Русская армия не столько уничтожала французские полки, а рассеивала, истребляла, забирала в плен тех, кто и без того уже не являлся бойцами.
Напомним, что боевые действия разворачивались не только на главном – московском направлении, но и на флангах, где русская армия и казаки ничуть не меньше, если не больше наседали на отступающего неприятеля. И что же? Мы видим, что польско-прусский корпус Макдональда понес, сравнительно с главной армией, просто ничтожный урон. Ограниченные потери были и в рядах саксонского корпуса Рейнье и австрийских войск Шварценберга. Когда в 20-х числах ноября главная часть Великой Армии, за исключением Гвардии, подходила к Березине в виде деморализованной толпы, корпуса Удино и Виктора шли монолитными рядами, сохраняя готовые к бою организованные батальоны, полки, батареи. И это несмотря на то, что они совершили отступление под сильнейшим нажимом русских войск.
Итак, главной причиной катастрофы была не русская армия, которая била отступающие толпы полувооруженных людей, не казаки, и не партизаны и не мороз. Кстати, выдающийся русский ученый Е.В. Тарле также полагал, что морозы лишь добили Великую Армию, а сражения в ходе отступления наносили удар прежде всего по «некомбатантам»: «Под Красным произошел своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен наименее боеспособные люди…»[723].
Главной же причиной того, что произошел развал армии, знаменитый академик считал голод, который преследовал французов с самого выступления из Москвы: «Нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в этот период, когда морозов еще не было, а стояла прекрасная солнечная осень. Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления»[724].
Нет сомнения, что данный фактор сыграл огромную роль в процессе разложения главных сил Великой Армии… Все же и подобное объяснение покажется явно неудовлетворительным, если внимательно вчитаться в дневники современников, мемуары и документы, относящиеся к началу отступления, и сопоставить их с километражем и временем пройденного пути.
Дело в том, что от Малоярославца до Смоленска, где симптомы тотального разложения были уже налицо, армия шла всего лишь две недели. Солдаты вынесли из Москвы немалые запасы продовольствия, кроме того, ежедневно в дороге падало огромное количество лошадей, которых тотчас же забивали на мясо, были даже кое-какие раздачи провианта. Конечно, жаренная на костре конина – это не бифштекс в парижском ресторане, конечно, не хватало хлеба, водки и т. д., но все же это очень далеко от смертельного голода, который мог бы разложить полные стойкости и выдержки войска.
Напомним, что отступавшие на флангах корпуса, хотя и в меньшей степени, также страдали от голода, но никак не потеряли внутренней спайки и организованности. Солдатам наполеоновской армии приходилось выносить подобные лишения в холоде и голоде польской кампании 1807 г. А в отступлении из Мадрида через Ла Манчу в том же 1812 г., где приходилось идти по безводной равнине в дикую жару, без глотка воды? Но только в русском походе произошла деморализация и развал, превосходящие все вообразимое. Как же это объяснить?
Причина, на наш взгляд, кроется именно в этом неуловимом, но всесильном моральном факторе, которому посвящена эта глава. Действительно, чтобы понять, почему произошла катастрофа главных сил, для начала надо сравнить те факторы, которые воздействовали на фланговые корпуса и на основную группировку. Холод, голод, наскоки казаков и натиск регулярных сил русской армии воздействовали на все соединения Великой Армии. Конечно, в разной степени, но все же различия были не столь велики, как результат.
Первым из действительных различий, которые бросаются в глаза, было то, что главными силами командовал сам император, а фланговыми корпусами его маршалы. Казалось бы, прекрасная возможность для хулителей полководческого таланта Наполеона сказать, что где командовал Бонапарт – там развал, а где командовали «незаслуженно» отодвинутые на второй план «скромные» герои – там порядок. Факты, однако, показывают, что, напротив, если из главной армии хоть что-то уцелело, то это лишь благодаря присутствию императора, который воодушевлял своим присутствием войска, по крайней мере Гвардию.
Есть еще одно существенное различие – главная армия дала кровопролитное генеральное сражение, Бородино. Неужели прав Толстой, считавший, что Бородино является началом конца Наполеоновской армии и империи, моральной победой русской армии? Все дневники современников, датированные 7–14 сентября 1812 г., единодушны – Великая Армия чувствовала себя победительницей. Да, это была пиррова победа, которая не принесла желаемого стратегического результата и, следовательно, оказалась бесполезной. Но хотя солдаты оплакивали потерю многих героев, дух армии был ничуть не сломлен, а когда впереди, открывшись с высоты Поклонной горы, показались башни и купола Москвы, ликованию и ощущению триумфа не было предела. Бородино нанесло чувствительные материальные потери, которые были в значительной степени восполнены подошедшим подкреплением, и никоим образом не ответственно за то разложение войск, которое произошло в период отступления.
Итак, остается только одно различие – это Москва, точнее пожар Москвы. Именно этот фактор, по нашему глубокому убеждению, явился тем мощным ударом, от которого действительно не смогла оправиться Великая Армия. Вступи Наполеон в Москву, как он вступал в Берлин, Вену, Варшаву, Мадрид… и, вероятно, никакой трагедии для его армии не приключилось бы. Но случилось иначе – древняя столица запылала, подожженная самими же россиянами.
Для Наполеоновской армии именно это и оказалось шокирующим ударом. В обычной обстановке французские войска, вступавшие в европейские столицы, вели себя с максимальной дисциплинированностью. В Вене, например, местная буржуазная гвардия салютовала входящим колоннам императорской армии, а затем совместно с французскими войсками вела патрулирование в городе. При таких условиях обеспечивалось строгое соблюдение дисциплины, пресекались все попытки военнослужащих совершить малейшие акты насилия над жителями. Иное дело – пылающая Москва. Как было объяснить солдатам, что нельзя вытаскивать ценности из домов, подожженных самими же местными жителями? Здравая логика говорила, что лучше спасти пропадающие красивые и ценные вещи, которые раз уж не нужны москвичам, то могут еще очень и очень послужить солдатам Наполеона. И солдаты тащили все: меха и картины, столовую утварь и одежду, икру и вино, хотя приказы императора, один строже другого, и требовали немедленного пресечения беспорядков. Вот только некоторые из этих распоряжений, относящихся к гвардейским полкам:

А. Адам. В Москве 20 сентября 1812 г.
«Приказ на день, 20 сентября 1812 г.
Император повелевает, чтобы грабеж в городе был немедленно пресечен. Господа майоры всех полков должны выделить из каждого батальона, который не находится на дежурстве, по 15 человек под командой офицеров. Эти патрули пройдут по всему городу, чтобы остановить мародерство и вернуть солдат в свои части…
Приказ на день, 21 сентября 1812 г.
Император крайне недоволен тем, что, несмотря на его настоятельные приказы по прекращению грабежа, отряды мародеров из самой гвардии входят в Кремль, обязанность господ Генералов и командиров частей строго исполнять приказы его Величества…
Приказ на день по Армии, 29 сентября 1812 г.
Несмотря на приказ прекратить грабеж, он продолжается во многих кварталах города.
В соответствии с этим приказываю г.г. Маршалам, командующим армейскими корпусами держать солдат в районе расположения своих корпусов.
Запрещается давать разрешения кому бы то ни было, офицеру или солдату, уходить в город отрядом или индивидуально на поиски муки, кожи и других предметов.
….
До тех пор, пока в городе не будет восстановлен порядок, ни один торговец не будет иметь права торговать.
….
Солдаты, которые будут арестованы и уличены в продолжении грабежа, с завтрашнего дня 30 сентября будут судимы специальными военными комиссиями и приговорены согласно строгости закона.
Маршал, князь Невшательский»[725].
Несмотря на эти повторные распоряжения и угрозы грабеж продолжался и, хотя со временем он все же затих, но принес свои «плоды». Он подорвал дисциплину в глобальном масштабе, нанес непоправимый удар по духу войск. Солдаты почувствовали вкус золота. Отныне многие из них были нагружены вытащенной из пожара богатой добычей, и им очень хотелось донести ее домой, остаться живым, во что бы то ни стало.
Офицер Вислинского легиона фон Брандт очень точно определил ту моральную рану, от которой суждено будет погибнуть Великой Армии: «Самое роковое последствие этого грабежа было развитие ростков деморализации… Когда порядок был восстановлен, в каждой части осталось тем не менее некоторое количество дурных солдат, которые убегали ночью из ее расположения, чтобы продолжать мародерствовать. Другие, хуже того, постарались вообще не возвращаться в строй. Во время выхода из Москвы было уже шесть-восемь тысяч людей подобного рода – “одиночек”, как их прозвали. Они первыми образовали тянущийся за армией хвост, а их число быстро возросло вследствие тягот отступления, среди них вооруженные солдаты составляли меньшинство»[726].
Дальнейший сценарий понять нетрудно. Масса «одиночек» облепляла армию со всех сторон, словно рой мух. Они забегали вперед, в стороны, мародерствовали, грабя дочиста еще нетронутые деревни. Они делали это, конечно, уже не с целью добыть богатства. Трудно было бы в нищей деревушке найти что-нибудь, сравнимое с московской поживой, теперь мародеры охотились за провиантом. В результате нормальным, шедшим в строю солдатам осталось только доедать косточки за рыскавшими повсюду подонками.
Результат очевиден, дисциплинированные люди также мало-помалу стали покидать ряды, раз уж с бичом «одиночек» не удалось справиться. Количество «одиночек» выросло на подходе к Смоленску уже до 20–30 тыс. человек. Стендаль, свидетель и участник отступления из России, точно охарактеризовал процесс развала армии: «На обратном пути из Москвы в Смоленск впереди армии шло тридцать тысяч трусов, притворявшихся больными, а на самом деле превосходно себя чувствовавших в течение первых десяти дней. Всё, что эти люди не съедали сами, они выбрасывали или сжигали. Солдат, верный своему долгу, оказывался в дураках. А так как французу это ненавистнее всего, то вскоре под ружьём остались только солдаты героического склада или ж простофили»[727].
Ситуация усугублялась тем, что среди отступающих колонн было немало мирных жителей из числа иностранцев, проживавших в Москве и теперь бежавших из города от возможных эксцессов. Их многочисленные повозки и экипажи усиливали беспорядок, а сами они множили толпы одиночек. Наконец, ряд высших чинов, поживившихся от «московской ярмарки» (так солдаты прозвали грабеж бывшей русской столицы), тащили за собой массу набитых добром экипажей и никак не могли подать пример презрения богатству для своих подчиненных. В конечном итоге следствием московского пожара стало превращение Великой Армии в хаос повозок с награбленным и тащивших свое добро людей, где каждый был сам за себя.
Нет, не морозы, не голод, не казаки и не партизаны сломили армию Наполеона. Люди и стихии били прежде всего эту толпу спасающих пожитки и собственную шкуру, чаще всего безоружных «одиночек». А эта толпа, как гангрена, постепенно охватывала все новые и новые части войска. Начальник штаба 3-го корпуса Жомини вспоминал, что солдаты всех наций, «…перемешавшись между собой, шли толпой в 30–40 тысяч человек. Эта толпа никому не подчинялась и думала только о том, как бы добыть средства, чтобы не умереть от холода и голода. Всякий, кто вследствие холода или усталости отставал от части, попадал в эту дезорганизованную массу. Она увеличивалась с каждым переходом и в конце концов, надо в этом сознаться, постепенно втянула в себя всю армию…»[728].
Именно поэтому, когда к «главным силам» присоединялись еще не затронутые разложением войска, они растворялись в этом хаосе почти мгновенно. Удино и Виктор героически сражались при Березине (см. главу XII), потому что… они не шли в главной армии!
«Так как наши солдаты не входили ни в какие сношения с теми, которые возвращались из Москвы, не имели ни малейшего представления о беспорядке, царившем среди этих несчастных, – нравственный дух корпуса Удино был очень высок…»[729] – вспоминал Марбо, командовавший тогда 23-м конно-егерским полком, входящим во 2-й корпус. Впрочем, не прошло и одного-двух дней, как разложенные контактами с гангренозной массой эти корпуса также рассеются, тем более что в это время действительно ударят суровые морозы. Все, кто присоединялся на различных этапах отступления к главной армии, абсолютно единодушны – их солдаты были шокированы, увидев дикую, никому не подчиняющуюся орду, от этого зрелища их собственный дух падал, и в скором времени они растворялись в толпе… и гибли вместе с ней.
Как неузнаваемо изменились французские солдаты! «Люди дрались за кусок хлеба, – вспоминал офицер 4-го корпуса. – Если кто-нибудь, замерзая от холода, подходил к костру, то солдаты, знавшие его, без всякой жалости прогоняли его прочь. Если кто-нибудь, изнемогая от жажды, просил солдата, несшего полное ведро воды, дать хоть несколько капель, то он резко отказывал. Часто можно было слышать, как люди, бывшие, несмотря на разницу положения, до сих пор друзьями, теперь ссорились из-за пучка соломы или из-за куска конины, который они вырезали для себя. Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными и великодушными, сделались теперь эгоистами, скупыми, ростовщиками и злыми»[730].
Выходит, что первопричиной катастрофы Великой Армии во время ее отступления был московский пожар, который заразой стяжательства подорвал дух армии. Враг внутренний, проникший в души солдат, оказался более сильным, чем неприятель и стихии, которые били по уже морально подкошенным людям. С каждым днем число таковых становилось больше, а воля к борьбе падала все ниже[731].
Вышедшие живыми из этого страшного отступления были не только на грани физического изнеможения – они были прежде всего сломлены духовно. В донесении военному министру от 24 января 1813 г. майор Бальтазар, осмотревший этих людей, писал: «…Трудно даже передать картину того состояния, в котором находятся остатки армии… Ужас и продолжительные страдания, которые вынесли эти люди, словно изменили их природу. В них не осталось ничего военного. Они находятся постоянно в состоянии недовольства, у них отсутствует военная субординация, и, сверх того, они панически боятся врага…»[732].
«Я поклялся больше не вспоминать о печальных событиях, покрывших трауром нашу страну, – записал в своем дневнике 15 марта 1813 г. Фантен без Одоар, который прошел все отступление из России, – но я ничего не могу с собой поделать. Они вновь и вновь приходят мне на ум. Днем я погружаюсь в черные мысли, ночью меня мучают кошмары. Напрасно я стараюсь отвлечься чем-либо, перед моими глазами снова и снова встает океан льда, который поглотил нашу армию и столько славы!»[733]
Наступила весна 1813 года, и вместе с солнцем и таянием снегов для Великой Армии, казалось, снова начались великие дни. Как уже отмечалось, невероятными усилиями Наполеону удалось в кратчайшие сроки набрать новую армию, обмундировать, вооружить, поставить в строй тысячи и тысячи новых солдат, подобрать командные кадры, создать гигантскую материальную часть.
В армии, особенно после первых побед императора, снова возродится боевой дух, снова, как и до этого, солдаты будут драться с порывом и отвагой, снова вернется товарищеская взаимопомощь и французская веселость. «В течение этой кампании полки будут соперничать в пыле, отваге и преданности, новобранцы, ведомые молодыми солдатами, отслужившими шесть месяцев, с патронами в карманах будут сражаться со всей возможной доблестью и достойно поддержат репутацию старых частей»[734].
Свидетельства французских источников полностью подтверждают как друзья, так и противники. «Ты не можешь вообразить, с какой отвагой сражаются эти французские мальчишки шестнадцати-семнадцати лет, – писал 17 сентября 1813 г. на родину один из датских офицеров, – Едва они завидят врага, как их охватывает ярость и бешеный порыв. У них мало физических сил, но у них есть неукротимая отвага»[735].
Интересно, что почти в тех же выражениях рассказывал о наполеоновских солдатах 1813 г. и русский офицер, артиллерист Илья Радожицкий: «Молодые воины Наполеона, невзирая на их юность, дрались отчаянно и, будучи ободрены нашим отступлением, лезли вперед как бешеные… Смотря на пленных французов, отважных мальчиков, нельзя было не досадовать на то, что мы, старики, от них уходили, но их одушевлял гений Наполеона, который умел из юношей создавать новых героев Франции…»[736].
Однако катастрофа в России не осталась бесследной для морального состояния армии. Часто пишут о том, что молодые солдаты 1813 г. были уже не те, что солдаты Аустерлица и даже Ваграма, что, несмотря на отвагу, им не хватало стойкости, выносливости, умения переносить тяжелые марши, непогоду и голод. Это, конечно, так, но ведь и у неприятеля в строю было немало новобранцев, взять хотя бы пруссаков с их массовым ландвером, иначе говоря, ополчением, только что поставленным под ружье.
Не менее, а может быть более, на результате кампании скажется состояние духа высшего командования, изменившееся после войны 1812 года. Исчезла та спокойная уверенность в своих силах, то «полнокровное чувство победы», которое передавалось от маршала до младшего офицера и простого солдата, делая их непобедимыми. Отныне генералы знают, что поражение и, более того, катастрофа возможны. Они становятся более осторожными, у них пропадает отчаянная, порой бесшабашная самоуверенность, которая иногда приводила к промахам, зато столь часто приносила фантасмагорические успехи. У некоторых осторожность переходит в неуверенность, а то и просто в робость.
Разумеется, что те, у кого появлялось это чувство, искали ответственных, чтобы оправдаться перед другими и самими собой за собственную слабость, поэтому резко критиковали все действия вышестоящих лиц, а прежде всего императора. «Наши генералы устали, – вспоминает Куанье о настроениях в среде высшего командования после битвы под Дрезденом. – Я слышал в генеральном штабе чудовищные речи. Были и те, кто кощунственно говорил об императоре: “Этот… нас всех погубит”. Услышав это, я был потрясен, и я сказал себе: “Мы погибли…”»[737] Интересно, что почти в тот же день, когда, вероятно, Куанье слышал подобные разговоры, Наполеон в письме герцогу Бассано, министру иностранных дел написал: «…Что плохо – это отсутствие веры в себя у генералов, силы врага им кажутся гигантскими везде, там, где меня нет с ними…»[738].
Да, армия 1813 г. не была, конечно, толпой «одиночек», сгрудившихся на подходе к заснеженному Ковно, однако армией с могучим пронизывающим все духом победы она уже не стала. В ней произошел внутренний надлом. И, как следствие этого, наряду с отчаянной отвагой молодых солдат кампания 1813 г. – это также паника под Денневицем, Петерсвальдом и Кацбахом.
Кампания 1814 г. еще более акцентирует это двойственное состояние духа. Там, где появлялся на поле боя легендарный серый редингот и треуголка императора, солдаты, словно зачарованные волшебством, бились с яростным исступлением, совершая чудеса героизма, опрокидывая, повергая, уничтожая многократно превосходящего по численности противника. Но там, где Наполеон отсутствовал, словно исчезали чары, там вялость, нерешительность и робость генералитета парализуют добрую волю и смелые порывы.
«Напрасно, чтобы обмануть врага, французские солдаты кричали “Да здравствует Император!”, – пишет Анри Уссе о битве при Бар-Сюр-Об, где командовал маршал Удино. – По тому, как битва была начата, и по тому, как управляли войсками, всем было ясно – здесь Наполеона не было»[739].
Силы были к тому же слишком не равны. На каждого французского солдата приходилось по три неприятельских. Поэтому результат, несмотря на весь гений французского полководца, был предопределен.
Падение Империи было глубоким моральным потрясением для армии. Вот что вспоминал офицер, сражавшийся под Тулузой, о том, как в его полку было встречено известие об этой катастрофе: «…мы узнали об отречении Императора и о возвращении Бурбонов. Эта новость повергла в траур меня и всех моих товарищей. Мы были далеки от политики и ее дрязг, долго сражались вдалеке от Франции и знали о Императоре лишь по его славе… Войны, которые мы вели, казались нам справедливыми и необходимыми, в наших сердцах монарх и отечество сливались в одно целое. Унижение одного, катастрофа другого, были для нас одинаково горестны. Мы были готовы умереть за Императора и за Родину. Полковник прочитал перед нашими рядами приказ, в котором говорилось о смене династии. Он поднял шляпу и крикнул: “Да здравствует король!” Никто не ответил ему. Он повторил свой возглас. Но ряды остались молчаливыми. По щекам офицеров, опустивших глаза, текли крупные слезы»[740].

Э. Детайль. Северная армия (1815 г.) на марше
Хотя Империя пала, но в нашем кратком обзоре эволюции духа наполеоновских войск рано ставить точку. Необходимо сказать еще несколько слов об армии 1815 года, стоящей несколько особняком в произошедшей последовательной эволюции.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльба и европейские монархи объявили ему войну, стодвадцатитысячная армия двинулась на север Франции для того, чтобы защитить ее от вторжения 800 000 солдат союзных войск, собиравшихся на границах. Армия 1815 года резко отличалась от армии 1813 года. Обстоятельства, в которых началась война, не вызывали сомнения в ее целях: Франция защищала свой суверенитет, свое право на самоопределение от иностранных штыков, силой которых хотели реставрировать ушедшие в прошлое порядки, посадить на трон Бурбонов, которые, как метко сказал Талейран, «ничего не забыли и ничему не научились».
В войсках с особой силой возродилась патриотическая идея защиты отечества. Да и по составу армия резко отличалась от того, что она представляла собой в 1813 году. Вернулись тысячи ветеранов из русского, испанского, немецкого плена. Эти люди умели драться и рвались в бой для того, чтобы отомстить за все унижения, которые они претерпели, смыть кровью позор поражения. На войну уходили с энтузиазмом. Смотры превращались в манифестации. Один из солдат Северной армии писал домой: «Все мужчины от двадцати до сорока лет уходили на войну добровольно и с криком “Да здравствует Император!”»[741] Эту фразу, еще недавно произносимую шепотом, с наслаждением орали во все горло. Разноцветные шинели и фуражные шапки вместо киверов, гражданские рединготы с эполетами напоминали ветеранам их молодость, которая привела их на поля Жемаппа, Флёрюса, Арколе и Риволи. Снова, как двадцать лет назад, ноги бодро шагали по раскисшим от дождя дорогам в такт «Марсельезе», «Ca ira», «Мы стоим на страже Империи».
«Никогда армия не уходила в поход с такой уверенностью в победе, – писал лейтенант Мартен. – Что нам было число врагов? В наших рядах шли солдаты, состарившиеся в победах… Тысяча оскорблений, за которые надо было отомстить, добавляли гнева к их природной отваге. Эти лица, загрубевшие от солнца Испании и льдов России, освящались при мысли о битве»[742]. Это была «армия, обученная и доблестная, в которой не хватало сплоченности, потому что солдаты не знали своих командиров и не доверяли генералам, мрачная, нервная, охваченная духом II года, взволнованная исступленной страстью к Императору – она была способна на чудесные порывы, но и подвержена трагическим моментам депрессии»[743].
Разумеется, что в этом моральном портрете наполеоновской армии мы вовсе не пытались отразить все аспекты, а попытались выделить главное и, в частности, те изменения, которые начались в ходе войны 1812 года. Московский пожар нанес духу армии такой ущерб, что он во многом предопределил ужасные последствия отступления из России, оно же, в свою очередь, в значительной мере предопределило исход кампании 1813 года, неудача в которой не могла не сказаться на состоянии армии в 1814-м…
Тем не менее, каким бы проникнутым нервозностью не стал дух наполеоновских войск в последние кампании, нельзя не сказать, что армия сохранила даже в самые тяжелые часы испытаний многие из своих лучших качеств. И если в последних войнах Империи молодые солдаты Наполеона не подавляли своих противников гигантским моральным превосходством, как это, скажем, было в прусском походе 1806 года, то их преданность, отвага, чувство чести, веселость и великодушие не могут не вызывать симпатии. И хотя последняя битва Империи – Ватерлоо закончилась чудовищной катастрофой, она нисколько не убавила той притягательности и обаяния, которыми наполеоновская армия привлекает и сейчас к себе внимание тысяч людей.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ