ЛИЦА СТОЛИЦ

БУДАПЕШТ
Как узнать Будапешт?
Как-то я разбирал фотографии. Снимки перепутались, надписи я вовремя не делал.
Как же узнать Будапешт?
Конечно, в этом городе есть постройки и монументы широко известные, множество раз повторенные на страницах газет и журналов, ставшие как-бы его эмблемой — как Медный Всадник в Ленинграде, как Эйфелева башня в Париже.
Я сразу отложил снимки бесспорно будапештские. Можно ли не отличить Дунай, перепоясанный восемью мостами? Самый старший из них — знаменитый Цепной мост. Он первый сто с лишним лет назад прочно соединил Буду и Пешт, заменив утлые понтоны. С тех пор в сущности и слились эти два города, породили Будапешт.
Цепной мост стал пропускать пароходы, появившиеся на Дунае как раз в то время. Понтонная переправа им мешала. Так что и пароходы способствовали объединению столицы.
Да, нельзя не узнать на фотографии панораму Будапешта, снятую с борта нашего теплохода. Величавое зрелище! Дунай здесь широк, полноводен. На его правом берегу, холмистом, высоком, — дворцы и башни Буды. На левом, на плоской степи Альфельд, раскинулся неоглядный Пешт — плотный, темный городской массив, словно опаленный огнем многих сражений.
Будапешт с его почти двухмиллионным населением — самый большой город на Дунае!
Дунай и здесь не голубой, он отливает сталью. Башни столицы словно вонзили в него свои шпили. Лишь зеленый бордюр набережных смягчает черты Будапешта — суровые, резкие, обветренные.
Вот цепь холмов Буды, где некогда был оплот римлян. На одном холме, над Дунаем, белые балюстрады и башенки-беседки Рыбацкого бастиона. Это, быть может, единственный в мире бастион, сооруженный не для защиты города, а с чисто декоративной целью.
Вдали, в конце всей цепи возвышенностей Буды, гора Геллерт, вся словно в зеленой мохнатой бурке из кустарников. На ее вершине гигантский памятник Освобождения. На высоком цоколе женщина, вытянув вверх руки, держит пальмовую ветвь. На ступени постамента — советский воин со знаменем, а внизу, по бокам лестницы, ведущей к монументу, две фигуры атлетов: один из них побеждает чудовище фашизма, другой несет людям огонь жизни, счастья… Прекрасное, благородное творение скульптора Жигмонда Кишфалуди-Штробля.
Хорошо смотреть с горы Геллерт на столицу и днем, когда ярко блестит клинок Дуная, разделяющий две такие несхожие части города, и ночью, когда из тьмы сверкают лишь миллионы электрических глаз Будапешта.
А этот снимок? Толпа веселых купальщиков в обширном бассейне, вокруг струи фонтанов… Безусловно, снято в Будапеште. Еще римляне знали здешние теплые источники. На этой фотографии купальня и водолечебница Геллерт. С горы видишь крышу большого, известного всей Европе здания да пестрые зонтики кафе, расположившегося рядом, на открытом воздухе.
А вот снимки Пешта.
Не спутаешь ни с каким другим зданием Парламент — филигранное творение зодчества; мощная каменная корона, отделанная тончайшей лепкой, вся в несчетных остриях-башенках. Издали от этого уникального здания веет резкостью готики, а когда подойдешь поближе, видишь, как она смягчена и куполом, и линиями арок на фасаде, и множеством изящных лепных деталей. Казалось, громадная постройка раздавит тебя, но происходит чудо: именно вблизи постигаешь и легкость ее, и какую-то необъяснимую, радостную прозрачность ее узорчатого одеяния. Отраженное Дунаем, оно словно переливается в глубине вод.
Недаром именно Парламент, талантливое творение зодчего-патриота Имре Штейдла, стал эмблемой Будапешта.
Парламент да собор святого Стефана — два великана в Пеште. Их купола-шлемы возвышаются на левом плоском берегу, над гладкой равниной крыш. До чего же они разные, старая Буда и сравнительно молодой Пешт с его правильными квадратами-кварталами, вылощенный, подлинно столичный!
Кажется, Пешт с удивлением взирает на Буду — видение давнего прошлого, вставшее за Дунаем. Буда напоминает Пешту о короле Матиаше, герое сказок, о полководце Гуниади Яноше, о турецких пашах!
Впрочем, один исторический памятник есть и в Пеште. Это монумент в честь тысячелетия Венгрии, тоже единственный в своем роде; его узнаешь даже по смутным контурам на самых неудачных снимках. Стоит он на обширной площади Героев, одной из красивейших в Европе. Под сенью колоннад бронзовые изваяния, олицетворяющие историю страны. Тут и Матиаш, и храбрый Гуниадщ чьи победы на десятки лет отсрочили турецкий полон. А у подножия центральной колонны конные статуи праотца Арпада и его спутников, вождей кочевых племен. Это основатели венгерского государства.

Площадь Героев замыкают Музей искусств с многоколонным классическим фасадом и Академия художеств. Простор этой площади, ширина улиц, явно превышающая западноевропейскую норму, говорят о том, что здесь столица степного народа, не привыкшего к тесноте.
Разумеется, объектив фотоаппарата задержался на многих памятниках Будапешта. Разве можно пропустить, например, вот это древнеримское надгробие в самом центре современного города — утомленный легионер, в шлеме, в короткой накидке, прислонился к стволу дерева…
Седок на вздыбленном коне напоминает Медного Всадника на берегу Невы, и не случайно: это памятник другу Петра Первого Ференцу Ракоци. Да, тому самому Ракоци, который повел на борьбу против императора и австрийских вельмож не только солдат, но и ополчения венгерских, словацких, украинских крепостных крестьян. Овладев чуть не всей Венгрией, Ракоци стал главой страны, правда на короткое время. Из иноземцев только Петр признал его власть.
Нельзя было не снять и бронзового монаха со свитком летописи в руке. Лицо его затенено надвинутым капюшоном. Это Анонимус, средневековый хроникер, венгерский Нестор. «Анонимус», «Безымянный» — так он подписывал свои пергаменты. Кто он, почему скрывал свое имя, — пока загадка.
Но вот другие снимки Будапешта. Обыкновенные улицы большого города, обсаженные платанами и каштанами, дома в пять-шесть этажей, бойкие трамвайные перекрестки, блеск витрин.
Попробуйте тут узнать Будапешт!
Будь снимок цветным, мы увидели бы, что трамваи желтые. Любимые цвета венгров — желтый, зеленый и красный; их чаще всего используют в убранстве столицы.
А вот фотографии Будапешта нового, социалистического, который далеко шагнул через прежние городские рубежи. Война уничтожила тридцать две тысячи здании, но руины и пожарища давно исчезли, возникли новые районы. На снимках великолепные многоэтажные здания. Они выстроены в районе Андьялфельд, где некогда в жутких трущобах гнездилась нищета. Гордое стремление ввысь, огромная ширина проспектов, нарядная, броская расцветка фасадов — все это отличает новый Будапешт, растущий с истинно венгерским размахом.
Многие дома в нем охвачены цветным поясом витрин, неоновых вывесок. Разумеется, и тут, как повсюду в столице, то и дело попадаются сверкающие вывески «Эспрессо». Небольшие, очень светлые, ярко убранные кафе «Эспрессо» как нельзя более соответствуют кипучему темпераменту венгра: он ведь непоседа, он хочет поскорее получить чашечку черного кофе и быстро выпить его с марципановой булочкой. При этом, стоя у высокого столика, он успевает просмотреть газету, перекинуться словом с друзьями. «Эспрессо» очень популярны во всей Венгрии. Они появились даже в деревнях — в передовых коллективных хозяйствах.
Передо мной снимок маленького подвального ресторанчика в стиле старой корчмы. Они очень характерны для Будапешта. Здесь простые дубовые столы, свечи, табуретки, бочонки с вином, большущий вертел над очагом. На подавальщице пышное, украшенное кружевами и вышивками национальное платье…
В объектив фотоаппарата попало и объявление ресторана. Оно сообщает, что здешний повар вступил в соревнование кулинаров на лучшую уху, на лучший гуляш. Традиции венгерской кухни, острой и пряной, не забыты. Кто же будет присуждать премии поварам? Да сами посетители!
В Будапеште выразительны вывески магазинов. Одеждой торгуют «Янош», «Илона», «Тереза», а книжная лавка именуется трогательно — «Горький».
А это какой город? На снимке угол дома, афишная тумба, а на ней большими буквами: «ТОТО», «ЛОТО», «ТОТО»…
Тоже Будапешт. «Лото» — государственная лотерея, а «тото» — футбольный тотализатор. Правда, они есть и во многих других столицах, но нигде эти два слова не зовут вас так упорно и не встречаются так часто, как здесь. Венгры очень азартны. В специальных конторах «Тото» вы можете узнать подробные данные о составе команд и различные прогнозы.
А вот детская железная дорога. По виду она ничем не отличается от прочих в других городах. Однако тут детская дорога работает, как настоящая. Она перевозит обычных пассажиров в парковом пригороде Будапешта.
На снимке подъезд клуба на скромной улочке, упирающейся в заводской корпус. Это клуб пенсионеров — одно из новшеств сегодняшнего Будапешта. Старики приходят сюда почитать, сыграть в шахматы, в карты. Здесь встречаются ветераны былых боев. Помню, я однажды спросил пенсионеров, собравшихся на спевку, не был ли кто из них в Красной гвардии.
Красногвардейцы нашлись, они всегда рады случаю поговорить по-русски. Один был в личной охране М. В. Фрунзе, другой дрался под Киевом, под Белой Церковью.
Это те венгры, которые во время первой мировой войны были в австро-венгерской императорской армии, сдались в плен русским, а затем вступили в ряды бойцов за Советскую власть.
Революционный дух они принесли потом к себе домой. Многие из них сражались против фашистов в Испании. До сих пор они удивительно крепкие, жизнерадостные. То, о чем они мечтали в молодости, осуществилось на их родной венгерской земле.
Пусть ведут поэты
В Будапеште у меня свой путь.
Нет, я не против маршрута, рекомендованного для приезжих. Конечно, сперва надо осмотреть все интереснейшие достопримечательности города, начиная с амфитеатров, мозаичных полов и алтарей римского Аквинкума, раскопанного в Буде.
Однако, чтобы узнать город, этого мало. Давайте войдем в Будапешт вместе с Шандором Петефи!
Представьте себе юношу с дорожной сумкой на спине, худого, длинноногого, с шапкой черных волнистых волос. Живое лицо с тонкими чертами, пристальный, прямой взгляд узких глаз. Что он привез в Пешт? Ломоть хлеба, тетрадь со стихами и надежды. Антал Гидаш в своей книге «Шандор Петефи» приводит такие строки из записок поэта: «После мучительного путешествия я через неделю добрался до Пешта. Не знал, к кому обратиться. Никто на меня не обращал внимания, никому дела не было до бедного, оборванного бродячего актера. Я дошел уже до последней грани, и тут меня обуяла отчаянная храбрость: я отправился к одному из величайших людей Венгрии с таким чувством, с каким игрок ставит на карту свои последние деньги: жизнь или смерть…»
Петефи решил пойти к поэту Михаю Верешмарти, чьи строки твердила наизусть пылкая молодежь.
Сегодня в центре Будапешта мы любуемся памятником Верешмарти, высеченным из белого мрамора. На зиму его закрывают, поэтому мрамор всегда чист, свеж, как память о славном поэте, который проложил дорогу для Петефи.
И вот в одном из толстостенных, похожих на сундуки домов Пешта — теперь уже не узнать, в каком именно, — Петефи в дружеском кругу читает свои стихи. На нем одежда, взятая напрокат, и хозяин костюма в самый разгар вечеринки требует его обратно, но Петефи счастлив. Верешмарти поддержал его. Стихи будут напечатаны. На издание книги уже собраны деньги…
Прошло всего четыре года, и Петефи — владыка сердец, один из вождей Венгерской революции.
Памятник Петефи, мост Петефи. Трудно перечислить все, что носит в столице имя Петефи или каким-либо образом связано с ним. Разве можно, например, пройти мимо Национального музея и не вспомнить Петефи, читавшего здесь, на Гранитной лестнице, в бурные мартовские дни 1848 года перед толпой свою «Национальную песню»:
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно,
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами.
Никогда!
Вывеска «Пильвакс» над входом в кафе опять напоминает о Петефи и о его друзьях. В их числе был задумчивый Янош Арань, с которым так любил беседовать Петефи и за чашкой кофе, и в письмах.
«Что правдиво, то естественно, что естественно, то и хорошо, а следовательно, и красиво, — вот моя эстетика», — писал Петефи другу.
Янош Арань — автор баллад и исторических повестей в стихах. Это он поведал про короля, созвавшего к себе народных певцов. Им приказано было услаждать короля, льстить ему, а они воспротивились. Пятьсот певцов пошли на костер. Ни один не спел того, что угодно было королю…
Если мы отправимся вслед за Аранем, он приведет нас на свое излюбленное место — остров Маргит, который зеленеет посреди Дуная. Там, в стороне от пляжей, бассейнов и горячих источников, в тиши парка, стоят рядом, как братья-богатыри, семь дубов Араня. Да, семь братьев — так и назвал их поэт, часто сидевший здесь с пером в руке.
Здесь мой кров зеленый,
Здесь моя скамья.
Улиц истомленных
Зной оставил я.
Поэты последующих поколений покажут нам рабочий район Уйпешт, остров Чепель — главный очаг венгерской индустрии. Мы еще побываем там.
По всей стране могут нас провести поэты. Бунтарская поэзия Венгрии, выросшая в неволе, всегда двигалась в авангарде, часто обгоняя тяжелую артиллерию — прозу. Какой венгерский юноша не пишет стихов? Венгрию по праву можно назвать страной поэтов, а Будапешт — их столицей.
Остров горячих источников
Раз уж мы, шагая вслед за поэтом, попали на остров Маргит, так побудем тут, оглянемся вокруг.
Что и говорить, чудесный подарок сделал Дунай столице! Разделившись на два рукава, вложил в Будапешт, в самый центр его, зеленое сердце. Сходишь с моста, ступившего на остров одной своей опорой, — и полог листвы отделяет тебя от потока машин, от городской летней духоты.
Посидев у дубов Араня, можно погулять по парку, поискать камни монастыря, в котором некогда молилась Маргарита, или по-венгерски Маргит, дочь короля Белы. Тогда страну грабили и жгли татары. Король, призывая на помощь господа, отдал ему в жертву дочь — велел ей постричься в монахини.
Впрочем, в парке есть памятник прошлого более интересный, чем замшелая кладка, — это музыкальный фонтан, копия знаменитого фонтана Петера Бодора.
Бодор был самоучкой. Пяти лет он уже поражал соседей удивительными игрушками-самоделками. В начале прошлого века он построил в родном городе Марошва-шархей фонтан с музыкальным механизмом, который действовал под напором воды. В дни восстания 1848 года фонтан венгерского Кулибина подавал сигналы окрестным деревням.
Парковая аллея приведет вас к озеру с золотыми рыбками, к живописному водопаду. Целый гектар занимает розарий — благоухающее творение цветоводов-мичуринцев. Здесь сто тридцать видов роз; в их числе не так давно выведенная «Роза мира», волшебно меняющая оттенки. Юный желтовато-розовый венчик постепенно становится бледно-желтым, отливает золотистой свежестью утра.
Теперь купаться!
«Весь Будапешт плавает» — так говорят здесь. Плавает в Дунае, в бассейнах, плещется под струями многочисленных теплых источников. Вы можете выбрать воду по вкусу — прохладную, теплую, горячую. Естественная температура здешнего подземного потока +43°. Нагнетаемый насосами, он обогревает дома Пешта, вливается в бассейны, в души, бьет фонтанами из земли.
Понятно, в буржуазном Будапеште источники, это щедрое благодеяние природы, составляли собственность дельцов, намывали золото тогдашним хозяевам города. Остров Маргит хотя и рекламировался для всех, но на деле он был доступен лишь для сытых, для хорошо одетых.
«Нельзя баловать пролетарских детей, приучая их купаться, ведь по окончании школы им купаться все равно не придется» — так сказал на собрании муниципалитета директор Бамба Эбер в ответ на предложение расширить доступ школьников в бассейны.
Лишь теперь плавают все будапештцы.
Прежде уголок дорогих развлечений, азартной игры теперь остров Маргит стал подлинно всеобщим достоянием. Днем остров заполняют ребята. Здесь летний пионерский лагерь и огромный спортивный детский комбинат, на территории которого размещаются площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и других игр, водная станция, стадион на три тысячи юных зрителей и, конечно, бассейны.
Много нового сделано и для взрослых: расширены купальни, построены здания для отдыха, для лечебных процедур. А когда с приходом темноты утихает веселый гомон у источников, на пляже, на солярии, толпы людей направляются к зеленым театрам. Более двух тысяч зрителей занимают места перед оперной сценой. Спектакль идет под звездным небосводом, на фоне густой листвы деревьев. Их шепот вплетается в звуки оркестра.
В Будапеште теперь два оперных театра, несколько театров оперетты. Вообще театров в венгерской столице больше, чем в Вене, и даже больше, чем в Париже. Однако летом будапештцам очень нравится слушать музыку здесь, на острове, у голубого Дуная.
Запретные песни
Однажды австрийская полиция арестовала в Будапеште студентов, распевавших недозволенную песню.
Резкие, смелые слова песни, обличавшие дом Габсбургов, самовластие иноземцев, студенты сочинили сами. А мелодию взяли из оперы Ференца Эркеля «Банк бан». Австрийские власти, недолго думая, запретили и оперу. Она и без того раздражала их…
Был некогда в Венгрии храбрый бан, то есть военачальник. Преданно служил он родине. Когда во дворце появилась жадная, злая королева немка и подчинила себе слабовольного короля, обнажил бан свою саблю против королевы и против своры ее приближенных.
О бане Банке писал Петефи. Бан Банк действует в пьесе Катоны — основателя венгерской драмы. Тот же сюжет использовали композиторы Эркель и либреттист Эгреши.
«Люди опасные, — доносил о них властям администратор театра. — Ни одна опера не обходится без эпизодов, вызывающих ненависть к аристократам, без убийств короля или королевы».
Не только действие оперы задевало правителей, но и сама музыка. В ней было что-то дерзкое, она словно звала к оружию. Недаром мелодию марша из оперы «Банк бан» тотчас подхватила революционная молодежь.
Не побоялся Эркель воскресить на оперной сцене и Дьердя Дожа, мужицкого бана. И когда? В те самые дни, когда австрийский император Франц Иосиф приехал в Будапешт, чтобы принять корону венгерских королей. Премьера «Дьердя Дожа» превратилась по существу в демонстрацию композитора и всего театра против гнета австрийской монархии.
Думаешь о подвиге Эркеля, создателя венгерской национальной оперы, и вспоминаешь другого славного венгра — Ференца Листа. По-разному жили они и трудились, но нельзя не видеть общее в их судьбе. Ведь и того и другого реакция пыталась отнять у Венгрии. Эркеля — путем запретов, а Листа — иным, более коварным способом.
Уже одно то, что Лист, гениальный композитор и пианист, по национальности венгр, не нравилось венским правителям. Это возвышало угнетенный народ, а императорская Вена стремилась его принизить. И появилась теория, державшаяся очень долго: Лист-де с Венгрией не связан, ничего национально венгерского в его музыке нет. Кто же он? Одни критики считали его немецким композитором Францем Листом, другие принимали его за человека без рода и племени, за этакого перекати-поле.
Правда, Лист большую часть своей жизни провел за пределами Венгрии. С восьми лет он стал известен как пианист-виртуоз. Все столицы Европы наперебой звали его к себе. Ведь игра его, по отзыву Гейне, «настоящее сумасшествие, неслыханное в летописях фурора».
Утверждали, что Лист, обласканный удачей, забыл Венгрию, забыл скромный домик возле Шопрона, где он, сын смотрителя графской овчарни, провел детство.
Ложь! Лист с гордостью говорил о своем народе, «самобытном и неукротимом». И убедительнее всяких слов венгерское гражданство Листа подтверждает его музыка.
Бессмертны его «Венгерские рапсодии», «Венгерские национальные мелодии». Мотивы родной Венгрии вплелись в симфонические поэмы, мужественно звучат в «Марше Ракоци».

Лист написал этот марш в Пеште под впечатлением июльских событий 1831 года во Франции. Цензура вычеркнула «Марш Ракоци» из концертных программ. Листу связали руки. Заметим, тогда еще не было в Пеште ни Петефи, ни Эркеля. Юноша не мог бороться в одиночку. Его «Революционная симфония», начатая в Пеште, осталась незаконченной. Ему пришлось уехать, снова скитаться…
Во Франции он дружил с писателем-бунтарем Виктором Гюго, в России — с М. И. Глинкой, А. П. Бородиным.
А. П. Бородин записал свои беседы с Листом. «В России течет живая струя, — сказал ему Лист. — Рано или поздно она пробьет себе дорогу и у нас».
Записки А. П. Бородина запечатлели обаятельный образ Листа: «…по крайней мере полное отсутствие всего узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного как в артисте, так и в человеке сказывается в нем сразу».
Многие, аплодируя Листу, не подозревали, какую глубокую трагедию переживает знаменитейший музыкант. Не радостно, а горько ему в богатых салонах, где «стынет искусство». Он с возмущением пишет о зависимом, лакейском положении людей искусства.
Лист умер в баварском городе Байрейте, одинокий, вдали от друзей. Его слава пианиста давно умолкла, а композитором его считали неблестящим, даже неудавшимся. Будущее устранило и эту несправедливость.
…Разные есть памятники. И мрамор, и бронза противостоят времени. Но еще крепче тот памятник творцу музыки, который высечен в сердцах потомков.
Красный Чепель
Мы видели остров отдыха.
Есть на Дунае, на южной окраине Будапешта, другой остров, на котором тоже надо побывать. Это Чепель, дымный, заводской Чепель, центр тяжелой промышленности Венгрии.
Некогда Чепель был синонимом беды, тяжелого труда. От слова «Чепель» веяло унылой рабочей казармой, извечным потом, нищетой трущоб, где бедняки рылись в отбросах.
Теперь слово «Чепель» сверкает, как орден на груди героя труда. Чепель — остров передовых, остров новаторов.
Бывало, на чепельских предприятиях чаще собирали машины из иноземных деталей, чем делали свои. Из Лондона, из Берлина на Венгрию смотрели свысока. Конечно, пастухи в бурках, пушта, табуны — занятное зрелище для туриста. Но техника? Венгерская техника? Нет, не слыхали…
Теперь во многих странах мира можно встретить мотоциклы «Паннония», венгерские автомашины, станки, точные приборы. Их родина — Чепель.
Трудно перечислить все, что он создает. Но индустриальный Чепель — это еще не весь Чепель. В свободной Венгрии он стал известен как крупнейший международный порт на Дунае. Когда плывешь вниз по реке, по левому берегу долго тянутся причалы, краны, пакгаузы — почти все новое. Над мачтами судов — гигантский элеватор.
Еще выше вытянулась мачта будапештского радиовещания. Ее высота — триста четырнадцать метров. Это подлинный шедевр из стали. Есть глубокий смысл в том, что именно из Чепеля, из «красного Чепеля» новая Венгрия разговаривает с миром.
Теплоход прощается со столицей и отправляется дальше. За Чепелем появляются корпуса нового нефтеперегонного комбината, самого мощного в стране.
На пути вам часто будет казаться, что Чепель не кончился, что он тянется по всему венгерскому берегу Дуная, на котором то и дело показываются промышленные города с незнакомыми именами. Одни еще не успели попасть на карту, другие вы отыщете только на самой новой…
Вечерний Дунай темнеет, ширится. Дымка за кормой поглотила все, кроме горы Геллерт с монументом на вершине.
Скульптор-волшебник
Кто хоть раз видел Жигмонда Кишфалуди-Штробля, тот навсегда запомнит его — седого, подвижного, полного жизни и доброты. Тот поймет и секрет его волшебства. Чувствуешь: таким вот и должен быть мастер, способный оживить глину, бронзу.
Обычно говорят, что скульптуры украшают здания или город. О созданиях Кишфалуди-Штробля хочется сказать не только это. Они в сущности населяют Будапешт — его парки, залы его музеев. Велика и прекрасна семья героев, созданных ваятелем.
Начало ей было положено давно. Сперва ему, сыну бедного сельского учителя, служили самодельные краски из трав и коры, грубый плотничий карандаш. Окончательно найти свое призвание Кишфалуди помог случай: отца перевели в другую деревню и там оказалась красная глина…
Первые работы юного скульптора — «Девушка-жница», «Крестьянин с косой».
В людях Кишфалуди ищет красоту чувств и устремлений, красоту созидания.
Давно притягивала Кишфалуди-Штробля оригинальная личность Бернарда Шоу — драматурга, мыслителя, острослова. Согласится ли Шоу позировать? Знаменитого ирландца лепили такие мастера, как Роден, Трубецкой…
Шоу с некоторым недоверием принял молодого венгра с трудно произносимой фамилией. Собирался отказать, сославшись на дела, но не смог. Венгр был так подкупающе жизнерадостен и так очаровательно настойчив…
Впоследствии Шоу писал ему:
«Вы изобразили меня не только таким, какой я есть, но и таким, каким мне следует и хочется быть. Возможно, мне и удастся стать таким, если я буду смотреть на ваше творение достаточно долго и пристально».
Скульптурные портреты доставили Кишфалуди-Штроблю всемирную славу. Число их за полвека достигло семисот. Они образуют богатейшую галерею характеров эпохи.
«Скульптор должен быть всем: и режиссером, и костюмером-осветителем. Но это не все. Я бужу модель, словно спящую красавицу», — говорит Кишфалуди-Штробль.
С помощью света, одежды он силится оттенить самое характерное во внешности. Кроме того, он всегда старается сблизиться с натурщиком духовно. Расспросами, шуткой расшевелить его, вызвать на откровенность.
Да, это добрый талант. Скульптор любит хороших людей, умных, умелых, честных, отважных, и по-дружески представляет их нам.
Есть у скульптора давняя мечта — вылепить В. И. Ленина. Еще сорок лет назад, в парижском кафе «Ротонда», где бывали русские революционеры, Кишфалуди-Штробль увидел однажды человека небольшого роста с рыжеватой бородкой. Во всем его облике было что-то стремительное. Русские поднялись ему навстречу, он заговорил… и скульптор пожалел, что он не понимает языка. Он ловил жесты этого русского, запоминал его мимику, на редкость красноречивую.
Встретиться с этим человеком скульптору больше не привелось. Много лет спустя, когда на газетной странице Кишфалуди увидел портрет Владимира Ильича, он узнал, кто был тот русский…
Кишфалуди-Штробль уже не раз брался за резец, чтобы изобразить Ленина. Но все, что сделано пока, — это эскизы будущего изваяния.
Трудится он упоенно, с пылом юности.
Сегодня не представляешь себе Будапешта без Кишфалуди-Штробля. Рядом с творением замечательного мастера человеку хочется быть и красивее, и лучше. Страна щедро отдала ему свои улицы, парки, площади, величавую вершину Геллерт. На нее как на могучий, нерушимый пьедестал взошла бронзовая женщина в просторной ниспадающей одежде и подняла высоко над Дунаем, над столицей, над Венгрией пальмовую ветвь свободы и мира…
Она встретила нас, когда мы подходили к Будапешту. Сейчас она провожает нас, провожает долго, и вечерние сумерки не в силах скрыть ее. Зажигаются прожектора и словно поднимают ее на своих лучах.
…Я еще долго стоял на корме.
Статуя Освобождения все еще видна. Или это звезда появилась над горизонтом? Она не тонет в созвездиях, обступивших ее, в огнях пригородов Будапешта.
А впереди тоже огни и огромное зарево, — наверное, над Дунайварошем, новым городом металлургов, где днем и ночью пылают домны.
Как узнать Будапешт?
Как-то я разбирал фотографии. Снимки перепутались, надписи я вовремя не делал.
Как же узнать Будапешт?
Конечно, в этом городе есть постройки и монументы широко известные, множество раз повторенные на страницах газет и журналов, ставшие как-бы его эмблемой — как Медный Всадник в Ленинграде, как Эйфелева башня в Париже.
Я сразу отложил снимки бесспорно будапештские. Можно ли не отличить Дунай, перепоясанный восемью мостами? Самый старший из них — знаменитый Цепной мост. Он первый сто с лишним лет назад прочно соединил Буду и Пешт, заменив утлые понтоны. С тех пор в сущности и слились эти два города, породили Будапешт.
Цепной мост стал пропускать пароходы, появившиеся на Дунае как раз в то время. Понтонная переправа им мешала. Так что и пароходы способствовали объединению столицы.
Да, нельзя не узнать на фотографии панораму Будапешта, снятую с борта нашего теплохода. Величавое зрелище! Дунай здесь широк, полноводен. На его правом берегу, холмистом, высоком, — дворцы и башни Буды. На левом, на плоской степи Альфельд, раскинулся неоглядный Пешт — плотный, темный городской массив, словно опаленный огнем многих сражений.
Будапешт с его почти двухмиллионным населением — самый большой город на Дунае!
Дунай и здесь не голубой, он отливает сталью. Башни столицы словно вонзили в него свои шпили. Лишь зеленый бордюр набережных смягчает черты Будапешта — суровые, резкие, обветренные.
Вот цепь холмов Буды, где некогда был оплот римлян. На одном холме, над Дунаем, белые балюстрады и башенки-беседки Рыбацкого бастиона. Это, быть может, единственный в мире бастион, сооруженный не для защиты города, а с чисто декоративной целью.
Вдали, в конце всей цепи возвышенностей Буды, гора Геллерт, вся словно в зеленой мохнатой бурке из кустарников. На ее вершине гигантский памятник Освобождения. На высоком цоколе женщина, вытянув вверх руки, держит пальмовую ветвь. На ступени постамента — советский воин со знаменем, а внизу, по бокам лестницы, ведущей к монументу, две фигуры атлетов: один из них побеждает чудовище фашизма, другой несет людям огонь жизни, счастья… Прекрасное, благородное творение скульптора Жигмонда Кишфалуди-Штробля.
Хорошо смотреть с горы Геллерт на столицу и днем, когда ярко блестит клинок Дуная, разделяющий две такие несхожие части города, и ночью, когда из тьмы сверкают лишь миллионы электрических глаз Будапешта.
А этот снимок? Толпа веселых купальщиков в обширном бассейне, вокруг струи фонтанов… Безусловно, снято в Будапеште. Еще римляне знали здешние теплые источники. На этой фотографии купальня и водолечебница Геллерт. С горы видишь крышу большого, известного всей Европе здания да пестрые зонтики кафе, расположившегося рядом, на открытом воздухе.
А вот снимки Пешта.
Не спутаешь ни с каким другим зданием Парламент — филигранное творение зодчества; мощная каменная корона, отделанная тончайшей лепкой, вся в несчетных остриях-башенках. Издали от этого уникального здания веет резкостью готики, а когда подойдешь поближе, видишь, как она смягчена и куполом, и линиями арок на фасаде, и множеством изящных лепных деталей. Казалось, громадная постройка раздавит тебя, но происходит чудо: именно вблизи постигаешь и легкость ее, и какую-то необъяснимую, радостную прозрачность ее узорчатого одеяния. Отраженное Дунаем, оно словно переливается в глубине вод.
Недаром именно Парламент, талантливое творение зодчего-патриота Имре Штейдла, стал эмблемой Будапешта.
Парламент да собор святого Стефана — два великана в Пеште. Их купола-шлемы возвышаются на левом плоском берегу, над гладкой равниной крыш. До чего же они разные, старая Буда и сравнительно молодой Пешт с его правильными квадратами-кварталами, вылощенный, подлинно столичный!
Кажется, Пешт с удивлением взирает на Буду — видение давнего прошлого, вставшее за Дунаем. Буда напоминает Пешту о короле Матиаше, герое сказок, о полководце Гуниади Яноше, о турецких пашах!
Впрочем, один исторический памятник есть и в Пеште. Это монумент в честь тысячелетия Венгрии, тоже единственный в своем роде; его узнаешь даже по смутным контурам на самых неудачных снимках. Стоит он на обширной площади Героев, одной из красивейших в Европе. Под сенью колоннад бронзовые изваяния, олицетворяющие историю страны. Тут и Матиаш, и храбрый Гуниадщ чьи победы на десятки лет отсрочили турецкий полон. А у подножия центральной колонны конные статуи праотца Арпада и его спутников, вождей кочевых племен. Это основатели венгерского государства.

Площадь Героев замыкают Музей искусств с многоколонным классическим фасадом и Академия художеств. Простор этой площади, ширина улиц, явно превышающая западноевропейскую норму, говорят о том, что здесь столица степного народа, не привыкшего к тесноте.
Разумеется, объектив фотоаппарата задержался на многих памятниках Будапешта. Разве можно пропустить, например, вот это древнеримское надгробие в самом центре современного города — утомленный легионер, в шлеме, в короткой накидке, прислонился к стволу дерева…
Седок на вздыбленном коне напоминает Медного Всадника на берегу Невы, и не случайно: это памятник другу Петра Первого Ференцу Ракоци. Да, тому самому Ракоци, который повел на борьбу против императора и австрийских вельмож не только солдат, но и ополчения венгерских, словацких, украинских крепостных крестьян. Овладев чуть не всей Венгрией, Ракоци стал главой страны, правда на короткое время. Из иноземцев только Петр признал его власть.
Нельзя было не снять и бронзового монаха со свитком летописи в руке. Лицо его затенено надвинутым капюшоном. Это Анонимус, средневековый хроникер, венгерский Нестор. «Анонимус», «Безымянный» — так он подписывал свои пергаменты. Кто он, почему скрывал свое имя, — пока загадка.
Но вот другие снимки Будапешта. Обыкновенные улицы большого города, обсаженные платанами и каштанами, дома в пять-шесть этажей, бойкие трамвайные перекрестки, блеск витрин.
Попробуйте тут узнать Будапешт!
Будь снимок цветным, мы увидели бы, что трамваи желтые. Любимые цвета венгров — желтый, зеленый и красный; их чаще всего используют в убранстве столицы.
А вот фотографии Будапешта нового, социалистического, который далеко шагнул через прежние городские рубежи. Война уничтожила тридцать две тысячи здании, но руины и пожарища давно исчезли, возникли новые районы. На снимках великолепные многоэтажные здания. Они выстроены в районе Андьялфельд, где некогда в жутких трущобах гнездилась нищета. Гордое стремление ввысь, огромная ширина проспектов, нарядная, броская расцветка фасадов — все это отличает новый Будапешт, растущий с истинно венгерским размахом.
Многие дома в нем охвачены цветным поясом витрин, неоновых вывесок. Разумеется, и тут, как повсюду в столице, то и дело попадаются сверкающие вывески «Эспрессо». Небольшие, очень светлые, ярко убранные кафе «Эспрессо» как нельзя более соответствуют кипучему темпераменту венгра: он ведь непоседа, он хочет поскорее получить чашечку черного кофе и быстро выпить его с марципановой булочкой. При этом, стоя у высокого столика, он успевает просмотреть газету, перекинуться словом с друзьями. «Эспрессо» очень популярны во всей Венгрии. Они появились даже в деревнях — в передовых коллективных хозяйствах.
Передо мной снимок маленького подвального ресторанчика в стиле старой корчмы. Они очень характерны для Будапешта. Здесь простые дубовые столы, свечи, табуретки, бочонки с вином, большущий вертел над очагом. На подавальщице пышное, украшенное кружевами и вышивками национальное платье…
В объектив фотоаппарата попало и объявление ресторана. Оно сообщает, что здешний повар вступил в соревнование кулинаров на лучшую уху, на лучший гуляш. Традиции венгерской кухни, острой и пряной, не забыты. Кто же будет присуждать премии поварам? Да сами посетители!
В Будапеште выразительны вывески магазинов. Одеждой торгуют «Янош», «Илона», «Тереза», а книжная лавка именуется трогательно — «Горький».
А это какой город? На снимке угол дома, афишная тумба, а на ней большими буквами: «ТОТО», «ЛОТО», «ТОТО»…
Тоже Будапешт. «Лото» — государственная лотерея, а «тото» — футбольный тотализатор. Правда, они есть и во многих других столицах, но нигде эти два слова не зовут вас так упорно и не встречаются так часто, как здесь. Венгры очень азартны. В специальных конторах «Тото» вы можете узнать подробные данные о составе команд и различные прогнозы.
А вот детская железная дорога. По виду она ничем не отличается от прочих в других городах. Однако тут детская дорога работает, как настоящая. Она перевозит обычных пассажиров в парковом пригороде Будапешта.
На снимке подъезд клуба на скромной улочке, упирающейся в заводской корпус. Это клуб пенсионеров — одно из новшеств сегодняшнего Будапешта. Старики приходят сюда почитать, сыграть в шахматы, в карты. Здесь встречаются ветераны былых боев. Помню, я однажды спросил пенсионеров, собравшихся на спевку, не был ли кто из них в Красной гвардии.
Красногвардейцы нашлись, они всегда рады случаю поговорить по-русски. Один был в личной охране М. В. Фрунзе, другой дрался под Киевом, под Белой Церковью.
Это те венгры, которые во время первой мировой войны были в австро-венгерской императорской армии, сдались в плен русским, а затем вступили в ряды бойцов за Советскую власть.
Революционный дух они принесли потом к себе домой. Многие из них сражались против фашистов в Испании. До сих пор они удивительно крепкие, жизнерадостные. То, о чем они мечтали в молодости, осуществилось на их родной венгерской земле.
Пусть ведут поэты
В Будапеште у меня свой путь.
Нет, я не против маршрута, рекомендованного для приезжих. Конечно, сперва надо осмотреть все интереснейшие достопримечательности города, начиная с амфитеатров, мозаичных полов и алтарей римского Аквинкума, раскопанного в Буде.
Однако, чтобы узнать город, этого мало. Давайте войдем в Будапешт вместе с Шандором Петефи!
Представьте себе юношу с дорожной сумкой на спине, худого, длинноногого, с шапкой черных волнистых волос. Живое лицо с тонкими чертами, пристальный, прямой взгляд узких глаз. Что он привез в Пешт? Ломоть хлеба, тетрадь со стихами и надежды. Антал Гидаш в своей книге «Шандор Петефи» приводит такие строки из записок поэта: «После мучительного путешествия я через неделю добрался до Пешта. Не знал, к кому обратиться. Никто на меня не обращал внимания, никому дела не было до бедного, оборванного бродячего актера. Я дошел уже до последней грани, и тут меня обуяла отчаянная храбрость: я отправился к одному из величайших людей Венгрии с таким чувством, с каким игрок ставит на карту свои последние деньги: жизнь или смерть…»
Петефи решил пойти к поэту Михаю Верешмарти, чьи строки твердила наизусть пылкая молодежь.
Сегодня в центре Будапешта мы любуемся памятником Верешмарти, высеченным из белого мрамора. На зиму его закрывают, поэтому мрамор всегда чист, свеж, как память о славном поэте, который проложил дорогу для Петефи.
И вот в одном из толстостенных, похожих на сундуки домов Пешта — теперь уже не узнать, в каком именно, — Петефи в дружеском кругу читает свои стихи. На нем одежда, взятая напрокат, и хозяин костюма в самый разгар вечеринки требует его обратно, но Петефи счастлив. Верешмарти поддержал его. Стихи будут напечатаны. На издание книги уже собраны деньги…
Прошло всего четыре года, и Петефи — владыка сердец, один из вождей Венгерской революции.
Памятник Петефи, мост Петефи. Трудно перечислить все, что носит в столице имя Петефи или каким-либо образом связано с ним. Разве можно, например, пройти мимо Национального музея и не вспомнить Петефи, читавшего здесь, на Гранитной лестнице, в бурные мартовские дни 1848 года перед толпой свою «Национальную песню»:
Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно,
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами.
Никогда!
Вывеска «Пильвакс» над входом в кафе опять напоминает о Петефи и о его друзьях. В их числе был задумчивый Янош Арань, с которым так любил беседовать Петефи и за чашкой кофе, и в письмах.
«Что правдиво, то естественно, что естественно, то и хорошо, а следовательно, и красиво, — вот моя эстетика», — писал Петефи другу.
Янош Арань — автор баллад и исторических повестей в стихах. Это он поведал про короля, созвавшего к себе народных певцов. Им приказано было услаждать короля, льстить ему, а они воспротивились. Пятьсот певцов пошли на костер. Ни один не спел того, что угодно было королю…
Если мы отправимся вслед за Аранем, он приведет нас на свое излюбленное место — остров Маргит, который зеленеет посреди Дуная. Там, в стороне от пляжей, бассейнов и горячих источников, в тиши парка, стоят рядом, как братья-богатыри, семь дубов Араня. Да, семь братьев — так и назвал их поэт, часто сидевший здесь с пером в руке.
Здесь мой кров зеленый,
Здесь моя скамья.
Улиц истомленных
Зной оставил я.
Поэты последующих поколений покажут нам рабочий район Уйпешт, остров Чепель — главный очаг венгерской индустрии. Мы еще побываем там.
По всей стране могут нас провести поэты. Бунтарская поэзия Венгрии, выросшая в неволе, всегда двигалась в авангарде, часто обгоняя тяжелую артиллерию — прозу. Какой венгерский юноша не пишет стихов? Венгрию по праву можно назвать страной поэтов, а Будапешт — их столицей.
Остров горячих источников
Раз уж мы, шагая вслед за поэтом, попали на остров Маргит, так побудем тут, оглянемся вокруг.
Что и говорить, чудесный подарок сделал Дунай столице! Разделившись на два рукава, вложил в Будапешт, в самый центр его, зеленое сердце. Сходишь с моста, ступившего на остров одной своей опорой, — и полог листвы отделяет тебя от потока машин, от городской летней духоты.
Посидев у дубов Араня, можно погулять по парку, поискать камни монастыря, в котором некогда молилась Маргарита, или по-венгерски Маргит, дочь короля Белы. Тогда страну грабили и жгли татары. Король, призывая на помощь господа, отдал ему в жертву дочь — велел ей постричься в монахини.
Впрочем, в парке есть памятник прошлого более интересный, чем замшелая кладка, — это музыкальный фонтан, копия знаменитого фонтана Петера Бодора.
Бодор был самоучкой. Пяти лет он уже поражал соседей удивительными игрушками-самоделками. В начале прошлого века он построил в родном городе Марошва-шархей фонтан с музыкальным механизмом, который действовал под напором воды. В дни восстания 1848 года фонтан венгерского Кулибина подавал сигналы окрестным деревням.
Парковая аллея приведет вас к озеру с золотыми рыбками, к живописному водопаду. Целый гектар занимает розарий — благоухающее творение цветоводов-мичуринцев. Здесь сто тридцать видов роз; в их числе не так давно выведенная «Роза мира», волшебно меняющая оттенки. Юный желтовато-розовый венчик постепенно становится бледно-желтым, отливает золотистой свежестью утра.
Теперь купаться!
«Весь Будапешт плавает» — так говорят здесь. Плавает в Дунае, в бассейнах, плещется под струями многочисленных теплых источников. Вы можете выбрать воду по вкусу — прохладную, теплую, горячую. Естественная температура здешнего подземного потока +43°. Нагнетаемый насосами, он обогревает дома Пешта, вливается в бассейны, в души, бьет фонтанами из земли.
Понятно, в буржуазном Будапеште источники, это щедрое благодеяние природы, составляли собственность дельцов, намывали золото тогдашним хозяевам города. Остров Маргит хотя и рекламировался для всех, но на деле он был доступен лишь для сытых, для хорошо одетых.
«Нельзя баловать пролетарских детей, приучая их купаться, ведь по окончании школы им купаться все равно не придется» — так сказал на собрании муниципалитета директор Бамба Эбер в ответ на предложение расширить доступ школьников в бассейны.
Лишь теперь плавают все будапештцы.
Прежде уголок дорогих развлечений, азартной игры теперь остров Маргит стал подлинно всеобщим достоянием. Днем остров заполняют ребята. Здесь летний пионерский лагерь и огромный спортивный детский комбинат, на территории которого размещаются площадки для волейбола, баскетбола, тенниса и других игр, водная станция, стадион на три тысячи юных зрителей и, конечно, бассейны.
Много нового сделано и для взрослых: расширены купальни, построены здания для отдыха, для лечебных процедур. А когда с приходом темноты утихает веселый гомон у источников, на пляже, на солярии, толпы людей направляются к зеленым театрам. Более двух тысяч зрителей занимают места перед оперной сценой. Спектакль идет под звездным небосводом, на фоне густой листвы деревьев. Их шепот вплетается в звуки оркестра.
В Будапеште теперь два оперных театра, несколько театров оперетты. Вообще театров в венгерской столице больше, чем в Вене, и даже больше, чем в Париже. Однако летом будапештцам очень нравится слушать музыку здесь, на острове, у голубого Дуная.
Запретные песни
Однажды австрийская полиция арестовала в Будапеште студентов, распевавших недозволенную песню.
Резкие, смелые слова песни, обличавшие дом Габсбургов, самовластие иноземцев, студенты сочинили сами. А мелодию взяли из оперы Ференца Эркеля «Банк бан». Австрийские власти, недолго думая, запретили и оперу. Она и без того раздражала их…
Был некогда в Венгрии храбрый бан, то есть военачальник. Преданно служил он родине. Когда во дворце появилась жадная, злая королева немка и подчинила себе слабовольного короля, обнажил бан свою саблю против королевы и против своры ее приближенных.
О бане Банке писал Петефи. Бан Банк действует в пьесе Катоны — основателя венгерской драмы. Тот же сюжет использовали композиторы Эркель и либреттист Эгреши.
«Люди опасные, — доносил о них властям администратор театра. — Ни одна опера не обходится без эпизодов, вызывающих ненависть к аристократам, без убийств короля или королевы».
Не только действие оперы задевало правителей, но и сама музыка. В ней было что-то дерзкое, она словно звала к оружию. Недаром мелодию марша из оперы «Банк бан» тотчас подхватила революционная молодежь.
Не побоялся Эркель воскресить на оперной сцене и Дьердя Дожа, мужицкого бана. И когда? В те самые дни, когда австрийский император Франц Иосиф приехал в Будапешт, чтобы принять корону венгерских королей. Премьера «Дьердя Дожа» превратилась по существу в демонстрацию композитора и всего театра против гнета австрийской монархии.
Думаешь о подвиге Эркеля, создателя венгерской национальной оперы, и вспоминаешь другого славного венгра — Ференца Листа. По-разному жили они и трудились, но нельзя не видеть общее в их судьбе. Ведь и того и другого реакция пыталась отнять у Венгрии. Эркеля — путем запретов, а Листа — иным, более коварным способом.
Уже одно то, что Лист, гениальный композитор и пианист, по национальности венгр, не нравилось венским правителям. Это возвышало угнетенный народ, а императорская Вена стремилась его принизить. И появилась теория, державшаяся очень долго: Лист-де с Венгрией не связан, ничего национально венгерского в его музыке нет. Кто же он? Одни критики считали его немецким композитором Францем Листом, другие принимали его за человека без рода и племени, за этакого перекати-поле.
Правда, Лист большую часть своей жизни провел за пределами Венгрии. С восьми лет он стал известен как пианист-виртуоз. Все столицы Европы наперебой звали его к себе. Ведь игра его, по отзыву Гейне, «настоящее сумасшествие, неслыханное в летописях фурора».
Утверждали, что Лист, обласканный удачей, забыл Венгрию, забыл скромный домик возле Шопрона, где он, сын смотрителя графской овчарни, провел детство.
Ложь! Лист с гордостью говорил о своем народе, «самобытном и неукротимом». И убедительнее всяких слов венгерское гражданство Листа подтверждает его музыка.
Бессмертны его «Венгерские рапсодии», «Венгерские национальные мелодии». Мотивы родной Венгрии вплелись в симфонические поэмы, мужественно звучат в «Марше Ракоци».

Лист написал этот марш в Пеште под впечатлением июльских событий 1831 года во Франции. Цензура вычеркнула «Марш Ракоци» из концертных программ. Листу связали руки. Заметим, тогда еще не было в Пеште ни Петефи, ни Эркеля. Юноша не мог бороться в одиночку. Его «Революционная симфония», начатая в Пеште, осталась незаконченной. Ему пришлось уехать, снова скитаться…
Во Франции он дружил с писателем-бунтарем Виктором Гюго, в России — с М. И. Глинкой, А. П. Бородиным.
А. П. Бородин записал свои беседы с Листом. «В России течет живая струя, — сказал ему Лист. — Рано или поздно она пробьет себе дорогу и у нас».
Записки А. П. Бородина запечатлели обаятельный образ Листа: «…по крайней мере полное отсутствие всего узкого, стадового, цехового, ремесленного, буржуазного как в артисте, так и в человеке сказывается в нем сразу».
Многие, аплодируя Листу, не подозревали, какую глубокую трагедию переживает знаменитейший музыкант. Не радостно, а горько ему в богатых салонах, где «стынет искусство». Он с возмущением пишет о зависимом, лакейском положении людей искусства.
Лист умер в баварском городе Байрейте, одинокий, вдали от друзей. Его слава пианиста давно умолкла, а композитором его считали неблестящим, даже неудавшимся. Будущее устранило и эту несправедливость.
…Разные есть памятники. И мрамор, и бронза противостоят времени. Но еще крепче тот памятник творцу музыки, который высечен в сердцах потомков.
Красный Чепель
Мы видели остров отдыха.
Есть на Дунае, на южной окраине Будапешта, другой остров, на котором тоже надо побывать. Это Чепель, дымный, заводской Чепель, центр тяжелой промышленности Венгрии.
Некогда Чепель был синонимом беды, тяжелого труда. От слова «Чепель» веяло унылой рабочей казармой, извечным потом, нищетой трущоб, где бедняки рылись в отбросах.
Теперь слово «Чепель» сверкает, как орден на груди героя труда. Чепель — остров передовых, остров новаторов.
Бывало, на чепельских предприятиях чаще собирали машины из иноземных деталей, чем делали свои. Из Лондона, из Берлина на Венгрию смотрели свысока. Конечно, пастухи в бурках, пушта, табуны — занятное зрелище для туриста. Но техника? Венгерская техника? Нет, не слыхали…
Теперь во многих странах мира можно встретить мотоциклы «Паннония», венгерские автомашины, станки, точные приборы. Их родина — Чепель.
Трудно перечислить все, что он создает. Но индустриальный Чепель — это еще не весь Чепель. В свободной Венгрии он стал известен как крупнейший международный порт на Дунае. Когда плывешь вниз по реке, по левому берегу долго тянутся причалы, краны, пакгаузы — почти все новое. Над мачтами судов — гигантский элеватор.
Еще выше вытянулась мачта будапештского радиовещания. Ее высота — триста четырнадцать метров. Это подлинный шедевр из стали. Есть глубокий смысл в том, что именно из Чепеля, из «красного Чепеля» новая Венгрия разговаривает с миром.
Теплоход прощается со столицей и отправляется дальше. За Чепелем появляются корпуса нового нефтеперегонного комбината, самого мощного в стране.
На пути вам часто будет казаться, что Чепель не кончился, что он тянется по всему венгерскому берегу Дуная, на котором то и дело показываются промышленные города с незнакомыми именами. Одни еще не успели попасть на карту, другие вы отыщете только на самой новой…
Вечерний Дунай темнеет, ширится. Дымка за кормой поглотила все, кроме горы Геллерт с монументом на вершине.
Скульптор-волшебник
Кто хоть раз видел Жигмонда Кишфалуди-Штробля, тот навсегда запомнит его — седого, подвижного, полного жизни и доброты. Тот поймет и секрет его волшебства. Чувствуешь: таким вот и должен быть мастер, способный оживить глину, бронзу.
Обычно говорят, что скульптуры украшают здания или город. О созданиях Кишфалуди-Штробля хочется сказать не только это. Они в сущности населяют Будапешт — его парки, залы его музеев. Велика и прекрасна семья героев, созданных ваятелем.
Начало ей было положено давно. Сперва ему, сыну бедного сельского учителя, служили самодельные краски из трав и коры, грубый плотничий карандаш. Окончательно найти свое призвание Кишфалуди помог случай: отца перевели в другую деревню и там оказалась красная глина…
Первые работы юного скульптора — «Девушка-жница», «Крестьянин с косой».
В людях Кишфалуди ищет красоту чувств и устремлений, красоту созидания.
Давно притягивала Кишфалуди-Штробля оригинальная личность Бернарда Шоу — драматурга, мыслителя, острослова. Согласится ли Шоу позировать? Знаменитого ирландца лепили такие мастера, как Роден, Трубецкой…
Шоу с некоторым недоверием принял молодого венгра с трудно произносимой фамилией. Собирался отказать, сославшись на дела, но не смог. Венгр был так подкупающе жизнерадостен и так очаровательно настойчив…
Впоследствии Шоу писал ему:
«Вы изобразили меня не только таким, какой я есть, но и таким, каким мне следует и хочется быть. Возможно, мне и удастся стать таким, если я буду смотреть на ваше творение достаточно долго и пристально».
Скульптурные портреты доставили Кишфалуди-Штроблю всемирную славу. Число их за полвека достигло семисот. Они образуют богатейшую галерею характеров эпохи.
«Скульптор должен быть всем: и режиссером, и костюмером-осветителем. Но это не все. Я бужу модель, словно спящую красавицу», — говорит Кишфалуди-Штробль.
С помощью света, одежды он силится оттенить самое характерное во внешности. Кроме того, он всегда старается сблизиться с натурщиком духовно. Расспросами, шуткой расшевелить его, вызвать на откровенность.
Да, это добрый талант. Скульптор любит хороших людей, умных, умелых, честных, отважных, и по-дружески представляет их нам.
Есть у скульптора давняя мечта — вылепить В. И. Ленина. Еще сорок лет назад, в парижском кафе «Ротонда», где бывали русские революционеры, Кишфалуди-Штробль увидел однажды человека небольшого роста с рыжеватой бородкой. Во всем его облике было что-то стремительное. Русские поднялись ему навстречу, он заговорил… и скульптор пожалел, что он не понимает языка. Он ловил жесты этого русского, запоминал его мимику, на редкость красноречивую.
Встретиться с этим человеком скульптору больше не привелось. Много лет спустя, когда на газетной странице Кишфалуди увидел портрет Владимира Ильича, он узнал, кто был тот русский…
Кишфалуди-Штробль уже не раз брался за резец, чтобы изобразить Ленина. Но все, что сделано пока, — это эскизы будущего изваяния.
Трудится он упоенно, с пылом юности.
Сегодня не представляешь себе Будапешта без Кишфалуди-Штробля. Рядом с творением замечательного мастера человеку хочется быть и красивее, и лучше. Страна щедро отдала ему свои улицы, парки, площади, величавую вершину Геллерт. На нее как на могучий, нерушимый пьедестал взошла бронзовая женщина в просторной ниспадающей одежде и подняла высоко над Дунаем, над столицей, над Венгрией пальмовую ветвь свободы и мира…
Она встретила нас, когда мы подходили к Будапешту. Сейчас она провожает нас, провожает долго, и вечерние сумерки не в силах скрыть ее. Зажигаются прожектора и словно поднимают ее на своих лучах.
…Я еще долго стоял на корме.
Статуя Освобождения все еще видна. Или это звезда появилась над горизонтом? Она не тонет в созвездиях, обступивших ее, в огнях пригородов Будапешта.
А впереди тоже огни и огромное зарево, — наверное, над Дунайварошем, новым городом металлургов, где днем и ночью пылают домны.
БЕЛГРАД
Три входа в столицу
Да, три входа: в Белград прибывают по суше, по воде и по воздуху.
Три входа — три лица у города.
Кто прилетает в Белград, тот сходит на бетонное поле аэропорта, по праву составляющего гордость югославов. Из всех аэропортов Европы это, верно, самый молодой; он похож на красавца юношу, одетого со вкусом и по последней моде.
Поле размечено цветными лампочками. Назначение их — указывать самолетам дорожки, а прилетевшему — путь к вокзалу. Поле словно расшито красной тесьмой. Здание аэровокзала, сооруженное из бетона и стекла, поразительно легкое, воздушное и тоже приветливое.
Мы привыкли к геометрическим формам современной архитектуры — целесообразным, экономичным, но, увы, часто до скуки одинаковым во всех странах мира. Здесь же перед вами здание, похожее на самолет, рвущийся в небо. Клекот стаи моторов за окнами, вернее за прозрачными стенами, усиливает это впечатление.
Вы идете, и двери распахиваются перед вами, как будто их толкает ветер, взбитый пропеллером. На самом деле, это работа механических привратников — реле, спрятанных где-то. В залах вечнозеленые сады, плещут фонтаны.
Если вы въедете в Белград по суше, вас тоже встретят новостройки. Они со всех сторон охватывают столицу. Наиболее интересны, пожалуй, подступы с севера, где расположен новый район столицы — Новый Белград.
Здесь, на плоской приречной части равнины, высятся четыре тринадцатиэтажных здания. Опоясанные балконами и верандами, они не выглядят грузными. Градостроители решили нарушить и стандартную прямоугольную планировку: высотные дома поставлены полукругом, и улицы, бегущие от них подобно лучам от вогнутого зеркала, вдали сливаются. Зеленеют лоскутки только что сделанных скверов.
В числе новоселов Нового Белграда тысячи студентов, которым народная власть предоставила здесь уютный, просторный университетский городок.
А ведь мало кто верил энтузиастам, начинавшим здесь стройку. Считали, что зыбкая, болотистая почва поглотит каменную кладку. Но землю усмирили, сцементировали. Югославские специалисты применили самые передовые методы укрепления грунта. Вот еще одна победа над вековой отсталостью!
Старожил белградец смотрит на Новый Белград с особым чувством. Он ведь помнит: на этом месте был лагерь смерти. Убитых и полумертвых гитлеровцы укладывали в штабели, обливали керосином и сжигали, и не было уголка в городе, куда бы не проникала гарь от этих страшных костров.
Новый Белград — это торжество жизни над пепелищами. Но и стертые, они не исчезнут из памяти…
Есть еще третий подъезд у столицы — водный.

Я знаю все три и рекомендую вам, читатель, прибыть на теплоходе. Ведь Белград — город типично речной. Теплоход, идущий по Дунаю, сворачивает в устье почти такой же широкой Савы, и вы видите справа эффектные высотные здания Нового Белграда, а слева — собственно Белград. Вам знакома панорама Ростова-на-Дону, открывающаяся с Дона? Приблизительно так же выглядит Белград на высоком берегу. Густая зелень парков курчавится по откосам, ее прорывают светло-серые кварталы столицы. На самой стрелке, над местом слияния Савы и Дуная, где гряда белградских холмов повышается, видны коренастые башни старинной крепости Калемегдан, словно каменные короны, упавшие наземь и поросшие деревьями. Там, над древней кладкой, на рифленой колонне возвышается бронзовый воин.
Воин устало опирается на меч. Он вышел из жестокой сечи. Отважная птица-сокол сидит на ладони витязя. Это Вестник Победы — творение замечательного скульптора Ивана Мештровича.
Сойдя с пристани, вы окажетесь на невзрачной припортовой улочке, врезанной в склон. Трамвайчик, дребезжа, одолевает подъем. Пожилая женщина в черном платке, по-черногорски низко спадающем сзади, несет из булочной кусок бюрека — слоеного пирога с сыром.
Вы поднимаетесь по ступеням в тени чинар и акаций. «Велика степеница» («Большая лестница») — гласит табличка на столбике ограды. В данном случае это улица-лестница.
Наверху вас ждет улица опять-таки в другом стиле — уже типично столичная. Дома на ней разных оттенков белого и светло-серого (Белград оправдывает свое имя!), разной архитектуры, разного возраста и высоты. Улица извилиста, так как подчиняется рельефу. Она чем-то напоминает московскую улицу в районе Арбата. На вывесках то славянские буквы сербского алфавита, то латинские — хорватского. А язык один — сербохорватский! Дело в том, что народы Югославии были веками разделены: западные области были захвачены Австрией и стали католическими. Власть римского папы искореняла славянскую грамоту, вводила латинскую.
На востоке, в Сербии, Македонии, несмотря на турецкий гнет, народ сохранил исконную свою письменность — славянскую.
Куда теперь, направо или налево? Центр столицы, видимо, направо: там дома крупнее, наряднее. Налево улица кончается зеленым тупичком парка, над которым парит Вестник Победы.
Под сенью Вестника Победы
Говорят, чтобы здание стояло прочно, в старину каменщики замуровывали в стену живого человека. Иначе то, что воздвигнешь за день, ночью раскидают вилы, злые девы, живущие среди скал, у воды. Достаточно-де запереть в кладке даже тень человека. Но все равно, лишившись своей тени, живое существо умирает.
В крепости Калемегдан так и кажется, что из расщелин выходят тени, тени скифов, начавших укреплять этот холм, тени римлян, основавших здесь твердыню Сингидунум. В воображении предстают витязи из дружины первых сербских королей, при которых город назвали Белградом. Поглядишь на граненую башенку Небойша — «Не бойся» — и видишь сербов, бившихся там насмерть, и турок, обосновавшихся потом в крепости.
Теперь лишь зелень парка, по-южному напористая, осаждает крепость, бросая на штурм отряды проворных вьющихся растений. Местами они хлынули со стен в укромные дворики и проулки. Здесь лабиринт крутых мощеных троп, продетых в игольные ушки многочисленных ворот.

Тысячи белградцев заполняют Калемегдан по вечерам. В это время тени прошлого до ночи прячутся в свои тайники. И крепость, заполненная живой, броско одетой экспансивной толпой, выглядит совсем не грозно, она напоминает живописную декорацию, оставшуюся после исторического действия.
Если уж мы попали в гущу гуляющих, то не станем вырываться из потока, полюбуемся на союз Дуная и Савы с верхней площадки Калемегдана, где стоит Вестник Победы, а затем спустимся в парк. Там, под сводами ветвей, создан своего рода пантеон Югославии. В сумраке аллей белеют мраморные бюсты выдающихся писателей и революционеров.
Из парка мы выходим на широкую, короткую улицу. В вечерние часы доступ транспорту на эту улицу закрыт, она вся отдана во власть гуляющих. Смесь наречий, лиц… Вы увидите горца с резким профилем, словно вычеканенным на металле. А вот высокий, на голову выше прочих, стройный далматинец, в чертах которого как-то своеобразно соединяются и мужественность, и мягкость, а в извилине губ чуть заметная усмешка. Очень красивое славянское племя выросло у теплого Адриатического моря!
А лицо этого города — как уловить его, о чем говорит оно приезжему?
Белград светел и молод. Древняя крепость хоть и венчает город, но она не подавляет. Кроме нее из памятников седой старины сохранились лишь развалины турецкой бани, гробница знатного турка и мечеть… Только одна мечеть уцелела из тридцати, перечисленных путником, побывавшим в Белграде в XVII веке. Сербы энергично стирали следы господства полумесяца, и жалеть об этом незачем: решительно ничего стоящего не воздвигнуто при пашах и беях.
Туриста, который вздумает искать в Белграде экзотику Востока, ждет разочарование. Разве что его утешит в трапезной чевабчичи — блюдо, близкое кебабу. Да еще турецкие названия некоторых улиц города… Впрочем, их тоже заменили бы, но они напоминают о событиях и героях освободительной борьбы.
В парке Топчидер, под ветвью гигантской чинары, ютится скромный дом сельского вида, явно стесняющийся своего титула «конак», то есть дворец. Здесь, подальше от пушек Калемегдана, жил князь Милош Обренович, вождь восстания 1815 года. Сербия отвоевала тогда некоторую автономию.
Скульптурный фонтан Чукур-Чесма рассказывает о другом эпизоде кровавой истории страны. В 1862 году турецкие солдаты застрелили мальчика, пришедшего за водой. Он упал, вода из разбитого кувшина смешалась с кровью… Весь Белград поднялся против убийц.
Нет, это не восточный город, но и совершенно непохожий на соседний Будапешт, на Прагу…
Сходство с ними проглянет разве только в самом центре, на площади Теразия, где блещет неоном сомкнутый строй восьми-, девятиэтажных зданий, занятых до половины магазинами и конторами, да еще кое-где на прилегающих улицах. Вообще для Белграда не характерны ни пышность фасадов, ни надменность богатых мраморных подъездов, ни ряды грузных доходных домов с трафаретной лепкой, с дворами-колодцами.
Приобрести все это, столь обычное для столиц Запада, Белград не успел. Ведь Сербия только во второй половине XIX века освободилась от турок. И позже, при королях, строили мало. Что запоминается из построек Белграда королевского? Изящное, не очень большое здание парламента — ныне Народной Скупщины — с колонным портиком и высоким, легким куполом да ажурная, тоже без тяжеловесных излишеств колоннада Исполнительного вече Сербии. Что еще? Над Теразией мачтой торчит узкий тринадцатиэтажный дом — творение тридцатых годов нашего века. Это здание вряд ли очень украсило город…
Мне как-то довелось прочесть очерки корреспондента русской газеты, побывавшего в Белграде незадолго до первой мировой войны. Он увидел город, полный бедняков и полицейских. Сломя голову носился в своем автомобиле, сбивая пешеходов, наследник престола. Потомки князей-повстанцев прославились самодурством и дикостью. Тот же наследник забил до смерти своего слугу, подавшего его высочеству не ту одежду. Папаша король заявил в оправдание представителям прессы: «Мы, Карагеоргиевичи, страшно вспыльчивы. Это у нас фамильное…»
Со скорбью покинул королевскую Сербию замечательный инженер Никола Тесла; он уехал за океан, к Эдисону, и там в числе первых в мире начал работать над расщеплением атома. Оттуда с американской маркой прибыли в Европу генераторы Тесла и другие блестящие его изобретения. В королевской Сербии трудно было технику, ученому, архитектору. Страну распродавали иностранным монополиям: французским, английским, итальянским. Они по дешевке вывозили сырье. Мало что изменилось и после Версальского мира.
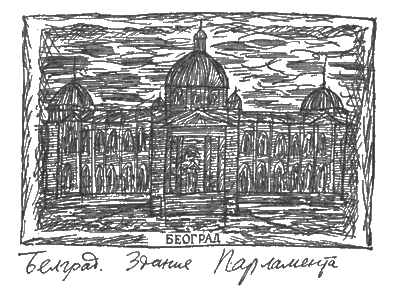
В первой мировой войне Сербия сражалась против Австрии и Германии и оказалась в числе победителей. Тогда-то воссоединились земли южных славян. Король Сербии стал владыкой Хорватии, принадлежавшей Австрии, и далматинского побережья, которое почти целиком было собственностью Италии.
Кто выиграл тогда от этого? Главным образом белградский двор и дельцы всяких мастей и рангов — местные и зарубежные.
Все это приходит на ум, когда бродишь по боковым улицам Белграда. Вдоль них тянутся приземистые, гладкие, ящикообразные дома в один-два этажа, с железной корзинкой балкона, с простой верандой, обращенной во двор. Такие же строения я видел в Греции, в Румынии да и в небольших городах нашего юга. Так выглядели служебные пристройки пышных особняков, притаившиеся за чугунной оградой. Сравнение вполне уместное: ведь Белград весь был в сущности пристройкой к банковским кварталам Парижа, к лондонскому Сити. Подчеркиваю, был!
Новый Белград не только за Савой, он прорастает всюду, пользуясь каждой прогалиной в старой застройке, а то и раздвигая, сметая ее с дороги. Для новых зданий часто выбирают место повыше, на холме, над обрывом, над зеленым разливом парка, затопившего ложбину. Тем резче контраст старого и нового в этом городе под сенью Вестника Победы.

С какой любовью принялись югославы отстраивать свой Белград! На панели блестят медные буквы, вбитые навечно. Это краткое напоминание о том, что здесь работала на субботниках такая-то молодежная бригада: или убирала кирпич, разбросанный взрывом фашистской бомбы, или извлекала мины, клала фундаменты, сажала деревья…
Недалеко от Теразии вырос огромный Дом югославских профсоюзов. Здесь, одетый в розовый гранит, и образовался новый центр Белграда — площадь Маркса и Энгельса. Широкий полукруг Дома замыкает ее; по вечерам она освещается прожекторами, укрепленными на карнизе за матовой стеклянной лентой. Молнией сверкает эта лента под чернотой южного неба. Поблизости, против здания Скупщины, полыхают разноцветные струи фонтанов — длинная стена пляшущей воды посреди улицы, над зеркалом бассейна.
В Белграде повсюду цветы. Они в вазонах, расставленных по обочинам улиц, в декоративных стаканчиках, прикрепленных к тонким фонарным столбам., Прежний Белград был невеселым городом, и тем заметнее сегодня желание украсить его, заставить улыбаться. Новые хозяева ухаживают за своим городом с нежностью и с хорошей выдумкой.
Именно с выдумкой! Она проявляется и в рекламе социалистических фирм, соревнующихся между собой, и в скульптурах, и в архитектуре. Страна, веками скованная, жаждет творить свое! За городом строится стадион — глубокая, врытая в землю воронка на восемьдесят тысяч мест. Вот коттеджи в парковом пригороде, построенные кооперативами и заводами. Каждый домик в своем стиле — хорошенький, пронизанный светом.
В Белграде повсюду ощущаешь торжество народной победы, — вот главное, что надо о нем сказать.
С волнением входишь на кладбище воинов-освободителей. Каменный рельеф у ворот изображает вступление советских войск в Югославию, радостную, братскую встречу. Надгробия суровы, как скалы балканских вершин, поверхность плит отполирована лишь там, где высечены имена павших, — югославов и наших бойцов.
«Непознати борац», — читаешь на глыбе гранита. Кто он? Верно, русский, похороненный среди однополчан в далекой, но дружеской земле. Он тоже не забыт, югославская мать усыновила его посмертно, вот свежие цветы, положенные ее рукой…
Возле кладбища, как бы в почетном карауле, стоят три высотных здания, три гвардейца в парадной — белой с голубым — форме.
На горе Авала
Есть еще могила неизвестного солдата за пределами города, на горе Авала.
Шоссе на Авалу, бегущее мимо деревьев-великанов парка Топчидер, мимо новеньких приветливых коттеджей, прежде было для многих последним, смертным путем. На выступе горы ненасытно поглощал жертвы гитлеровский концлагерь Яинцы.
Автобус бодро берет крутой подъем. На пригорке показывается памятник — кусок лагерной стены, сложенный из крупных каменных кубов. А в нескольких шагах от него юные деревца, ромашки на лужайках… И страшное прошлое этого места кажется мрачной легендой. Восемьдесят тысяч казненных и замученных…
Дальше дорога еще круче, она петляет, вспарывает лес извилистым лезвием. Вывеска любезно приветствует вас сербско-хорватским «Добро дошли!» — «Добро пожаловать». Впереди видна вершина Авалы, свободная от леса, и на ней коричнево-серый каменный четырехугольник строгих классических пропорций. Внутри, под двускатным кровом, в полумраке, монументальные фигуры.
Неведомы ни имя, ни национальность солдата первой мировой войны, лежащего под памятником; никто не знает, серб он, хорват ли, македонец… Но все народы-братья признали его своим. На надгробии каменные изваяния шести былинно величавых женских фигур. Они олицетворяют шесть социалистических республик Югославии: Македонию, Хорватию, Сербию, Словению, Боснию и Герцеговину, Черногорию. Они сходны между собой, как сестры, их торжественные одежды различаются скупыми национальными деталями.
Это не только печальное надгробие, но и символ народного бессмертия и силы. И в этом памятнике, как и в том, что высится над Калемегданом, чувствуешь торжество победы.
Так мы снова встретились с Мештровичем.
Теперь лишь его скульптуры живут среди людей: великий зодчий недавно умер. Далеко от своей родины, за океаном… Жизнь у него была сложная, трудная вроде дороги на Авалу — изломанной, пробивающейся сквозь чащу, сквозь тени зловещего прошлого…
Родился он на берегу Адриатики, в захолустном городке, придавленном громадами соборов. Отец — бедный поденщик — определил мальчика в подручные к каменотесу. В мастерской делали могильные плиты, кресты. А юный подручный мечтал о большем, Ему виделись отважные юнаки, древние славянские витязи, высеченные из камня родных гор. Юнаки и их предводитель королевич Марко — герои злополучной битвы против турок на Косовом поле.

Впоследствии, став скульптором, Мештрович высек фигуры витязей, но мечту его жизни — создать памятник павшим на Косовом поле — осуществить не удалось. Влюбленный в красоту нагого тела, Мештрович не одевал своих юнаков. Мускулы их выпирают резко, от изваяний веет первобытной грубой силой. Сильными ударами он словно вырубал богатырей из скалы.
Он же создал и «Девушку с лютней», украшающую столичный парк. Впрочем, Мештрович никогда не стремился украшать. Как-то не вяжется с ним это слово… Смотришь на скульптуру и раздумываешь: радуется девушка, перебирая струны, или грустит? Ведь, пожалуй, ее мелодия — это та же песня о Косовом поле, торжественная песня о подвиге. Не чудо ли это? Черты лица, чем-то напоминающие иконный лик, лишь намечены, вся фигура схематична, резец как будто не нанес психологических деталей. И все-таки камень поет!
Однако Мештрович всегда мечтал о монументах, о героических ансамблях, он по духу своему был сказителем, перелагавшим национальный эпос на язык скульптуры. Но, увы, из всех замыслов этого рода в королевской Югославии был осуществлен только один — сооружен знакомый нам памятник на горе Авала.
Мештрович мало жил на родине. Он пытался работать за границей. Но там его охватывала тоска. Он был слишком связан со своей страной — с ее скалами, с легендами, с ее храбрым и гордым народом.
Перед войной он обосновался было в Белграде, а в начале войны скульптора-патриота арестовала фашистская охранка. Вырвавшись на свободу, он уехал в Италию, затем в Соединенные Штаты, где ему предложили место профессора. Из Югославии к нему приходили вести, искаженные враждебной пропагандой. В империи доллара цепко держали прославленного скульптора, козыряли его именем. Между ним и народом Югославии встали и церковники. Мештрович порывался вернуться, но добирался не дальше Рима. Слуги Ватикана его запугивали, заклинали не верить безбожникам, «красным».
Перед смертью он все же увидел родину. Это было счастливое, но запоздалое свидание.
Мештрович завещал все свои скульптуры социалистической Югославии. Сейчас в Сплите открыт музей имени великого скульптора.
…Захватывающий дух простор открывается с Авалы. Позади, на севере, предместья Белграда. Впереди, на юге, холмистая Шумадия, некогда страна лесов, беспощадно истребленных былыми хозяевами страны. Народ-пая власть насаждает новые леса. Вот они, коврики из свежей зелени, вклинившиеся в поля. Вдали, на туманном горизонте, если мне не изменяет зрение, темнеют горные цепи. Где-то там, на юге, далеко отсюда, в Черногории, стоит гора Ловчен, увенчанная гигантским памятником Петру Негошу — поэту, борцу за независимость, другу России.
Эта скульптура тоже работа Мештровича, очарован-, ного каменотеса, создавшего поэму о героях.
Три входа в столицу
Да, три входа: в Белград прибывают по суше, по воде и по воздуху.
Три входа — три лица у города.
Кто прилетает в Белград, тот сходит на бетонное поле аэропорта, по праву составляющего гордость югославов. Из всех аэропортов Европы это, верно, самый молодой; он похож на красавца юношу, одетого со вкусом и по последней моде.
Поле размечено цветными лампочками. Назначение их — указывать самолетам дорожки, а прилетевшему — путь к вокзалу. Поле словно расшито красной тесьмой. Здание аэровокзала, сооруженное из бетона и стекла, поразительно легкое, воздушное и тоже приветливое.
Мы привыкли к геометрическим формам современной архитектуры — целесообразным, экономичным, но, увы, часто до скуки одинаковым во всех странах мира. Здесь же перед вами здание, похожее на самолет, рвущийся в небо. Клекот стаи моторов за окнами, вернее за прозрачными стенами, усиливает это впечатление.
Вы идете, и двери распахиваются перед вами, как будто их толкает ветер, взбитый пропеллером. На самом деле, это работа механических привратников — реле, спрятанных где-то. В залах вечнозеленые сады, плещут фонтаны.
Если вы въедете в Белград по суше, вас тоже встретят новостройки. Они со всех сторон охватывают столицу. Наиболее интересны, пожалуй, подступы с севера, где расположен новый район столицы — Новый Белград.
Здесь, на плоской приречной части равнины, высятся четыре тринадцатиэтажных здания. Опоясанные балконами и верандами, они не выглядят грузными. Градостроители решили нарушить и стандартную прямоугольную планировку: высотные дома поставлены полукругом, и улицы, бегущие от них подобно лучам от вогнутого зеркала, вдали сливаются. Зеленеют лоскутки только что сделанных скверов.
В числе новоселов Нового Белграда тысячи студентов, которым народная власть предоставила здесь уютный, просторный университетский городок.
А ведь мало кто верил энтузиастам, начинавшим здесь стройку. Считали, что зыбкая, болотистая почва поглотит каменную кладку. Но землю усмирили, сцементировали. Югославские специалисты применили самые передовые методы укрепления грунта. Вот еще одна победа над вековой отсталостью!
Старожил белградец смотрит на Новый Белград с особым чувством. Он ведь помнит: на этом месте был лагерь смерти. Убитых и полумертвых гитлеровцы укладывали в штабели, обливали керосином и сжигали, и не было уголка в городе, куда бы не проникала гарь от этих страшных костров.
Новый Белград — это торжество жизни над пепелищами. Но и стертые, они не исчезнут из памяти…
Есть еще третий подъезд у столицы — водный.

Я знаю все три и рекомендую вам, читатель, прибыть на теплоходе. Ведь Белград — город типично речной. Теплоход, идущий по Дунаю, сворачивает в устье почти такой же широкой Савы, и вы видите справа эффектные высотные здания Нового Белграда, а слева — собственно Белград. Вам знакома панорама Ростова-на-Дону, открывающаяся с Дона? Приблизительно так же выглядит Белград на высоком берегу. Густая зелень парков курчавится по откосам, ее прорывают светло-серые кварталы столицы. На самой стрелке, над местом слияния Савы и Дуная, где гряда белградских холмов повышается, видны коренастые башни старинной крепости Калемегдан, словно каменные короны, упавшие наземь и поросшие деревьями. Там, над древней кладкой, на рифленой колонне возвышается бронзовый воин.
Воин устало опирается на меч. Он вышел из жестокой сечи. Отважная птица-сокол сидит на ладони витязя. Это Вестник Победы — творение замечательного скульптора Ивана Мештровича.
Сойдя с пристани, вы окажетесь на невзрачной припортовой улочке, врезанной в склон. Трамвайчик, дребезжа, одолевает подъем. Пожилая женщина в черном платке, по-черногорски низко спадающем сзади, несет из булочной кусок бюрека — слоеного пирога с сыром.
Вы поднимаетесь по ступеням в тени чинар и акаций. «Велика степеница» («Большая лестница») — гласит табличка на столбике ограды. В данном случае это улица-лестница.
Наверху вас ждет улица опять-таки в другом стиле — уже типично столичная. Дома на ней разных оттенков белого и светло-серого (Белград оправдывает свое имя!), разной архитектуры, разного возраста и высоты. Улица извилиста, так как подчиняется рельефу. Она чем-то напоминает московскую улицу в районе Арбата. На вывесках то славянские буквы сербского алфавита, то латинские — хорватского. А язык один — сербохорватский! Дело в том, что народы Югославии были веками разделены: западные области были захвачены Австрией и стали католическими. Власть римского папы искореняла славянскую грамоту, вводила латинскую.
На востоке, в Сербии, Македонии, несмотря на турецкий гнет, народ сохранил исконную свою письменность — славянскую.
Куда теперь, направо или налево? Центр столицы, видимо, направо: там дома крупнее, наряднее. Налево улица кончается зеленым тупичком парка, над которым парит Вестник Победы.
Под сенью Вестника Победы
Говорят, чтобы здание стояло прочно, в старину каменщики замуровывали в стену живого человека. Иначе то, что воздвигнешь за день, ночью раскидают вилы, злые девы, живущие среди скал, у воды. Достаточно-де запереть в кладке даже тень человека. Но все равно, лишившись своей тени, живое существо умирает.
В крепости Калемегдан так и кажется, что из расщелин выходят тени, тени скифов, начавших укреплять этот холм, тени римлян, основавших здесь твердыню Сингидунум. В воображении предстают витязи из дружины первых сербских королей, при которых город назвали Белградом. Поглядишь на граненую башенку Небойша — «Не бойся» — и видишь сербов, бившихся там насмерть, и турок, обосновавшихся потом в крепости.
Теперь лишь зелень парка, по-южному напористая, осаждает крепость, бросая на штурм отряды проворных вьющихся растений. Местами они хлынули со стен в укромные дворики и проулки. Здесь лабиринт крутых мощеных троп, продетых в игольные ушки многочисленных ворот.

Тысячи белградцев заполняют Калемегдан по вечерам. В это время тени прошлого до ночи прячутся в свои тайники. И крепость, заполненная живой, броско одетой экспансивной толпой, выглядит совсем не грозно, она напоминает живописную декорацию, оставшуюся после исторического действия.
Если уж мы попали в гущу гуляющих, то не станем вырываться из потока, полюбуемся на союз Дуная и Савы с верхней площадки Калемегдана, где стоит Вестник Победы, а затем спустимся в парк. Там, под сводами ветвей, создан своего рода пантеон Югославии. В сумраке аллей белеют мраморные бюсты выдающихся писателей и революционеров.
Из парка мы выходим на широкую, короткую улицу. В вечерние часы доступ транспорту на эту улицу закрыт, она вся отдана во власть гуляющих. Смесь наречий, лиц… Вы увидите горца с резким профилем, словно вычеканенным на металле. А вот высокий, на голову выше прочих, стройный далматинец, в чертах которого как-то своеобразно соединяются и мужественность, и мягкость, а в извилине губ чуть заметная усмешка. Очень красивое славянское племя выросло у теплого Адриатического моря!
А лицо этого города — как уловить его, о чем говорит оно приезжему?
Белград светел и молод. Древняя крепость хоть и венчает город, но она не подавляет. Кроме нее из памятников седой старины сохранились лишь развалины турецкой бани, гробница знатного турка и мечеть… Только одна мечеть уцелела из тридцати, перечисленных путником, побывавшим в Белграде в XVII веке. Сербы энергично стирали следы господства полумесяца, и жалеть об этом незачем: решительно ничего стоящего не воздвигнуто при пашах и беях.
Туриста, который вздумает искать в Белграде экзотику Востока, ждет разочарование. Разве что его утешит в трапезной чевабчичи — блюдо, близкое кебабу. Да еще турецкие названия некоторых улиц города… Впрочем, их тоже заменили бы, но они напоминают о событиях и героях освободительной борьбы.
В парке Топчидер, под ветвью гигантской чинары, ютится скромный дом сельского вида, явно стесняющийся своего титула «конак», то есть дворец. Здесь, подальше от пушек Калемегдана, жил князь Милош Обренович, вождь восстания 1815 года. Сербия отвоевала тогда некоторую автономию.
Скульптурный фонтан Чукур-Чесма рассказывает о другом эпизоде кровавой истории страны. В 1862 году турецкие солдаты застрелили мальчика, пришедшего за водой. Он упал, вода из разбитого кувшина смешалась с кровью… Весь Белград поднялся против убийц.
Нет, это не восточный город, но и совершенно непохожий на соседний Будапешт, на Прагу…
Сходство с ними проглянет разве только в самом центре, на площади Теразия, где блещет неоном сомкнутый строй восьми-, девятиэтажных зданий, занятых до половины магазинами и конторами, да еще кое-где на прилегающих улицах. Вообще для Белграда не характерны ни пышность фасадов, ни надменность богатых мраморных подъездов, ни ряды грузных доходных домов с трафаретной лепкой, с дворами-колодцами.
Приобрести все это, столь обычное для столиц Запада, Белград не успел. Ведь Сербия только во второй половине XIX века освободилась от турок. И позже, при королях, строили мало. Что запоминается из построек Белграда королевского? Изящное, не очень большое здание парламента — ныне Народной Скупщины — с колонным портиком и высоким, легким куполом да ажурная, тоже без тяжеловесных излишеств колоннада Исполнительного вече Сербии. Что еще? Над Теразией мачтой торчит узкий тринадцатиэтажный дом — творение тридцатых годов нашего века. Это здание вряд ли очень украсило город…
Мне как-то довелось прочесть очерки корреспондента русской газеты, побывавшего в Белграде незадолго до первой мировой войны. Он увидел город, полный бедняков и полицейских. Сломя голову носился в своем автомобиле, сбивая пешеходов, наследник престола. Потомки князей-повстанцев прославились самодурством и дикостью. Тот же наследник забил до смерти своего слугу, подавшего его высочеству не ту одежду. Папаша король заявил в оправдание представителям прессы: «Мы, Карагеоргиевичи, страшно вспыльчивы. Это у нас фамильное…»
Со скорбью покинул королевскую Сербию замечательный инженер Никола Тесла; он уехал за океан, к Эдисону, и там в числе первых в мире начал работать над расщеплением атома. Оттуда с американской маркой прибыли в Европу генераторы Тесла и другие блестящие его изобретения. В королевской Сербии трудно было технику, ученому, архитектору. Страну распродавали иностранным монополиям: французским, английским, итальянским. Они по дешевке вывозили сырье. Мало что изменилось и после Версальского мира.
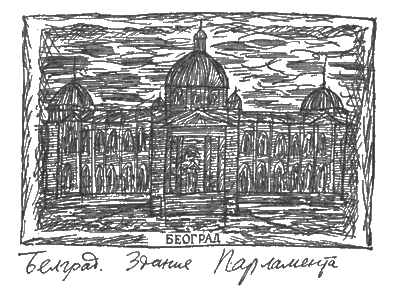
В первой мировой войне Сербия сражалась против Австрии и Германии и оказалась в числе победителей. Тогда-то воссоединились земли южных славян. Король Сербии стал владыкой Хорватии, принадлежавшей Австрии, и далматинского побережья, которое почти целиком было собственностью Италии.
Кто выиграл тогда от этого? Главным образом белградский двор и дельцы всяких мастей и рангов — местные и зарубежные.
Все это приходит на ум, когда бродишь по боковым улицам Белграда. Вдоль них тянутся приземистые, гладкие, ящикообразные дома в один-два этажа, с железной корзинкой балкона, с простой верандой, обращенной во двор. Такие же строения я видел в Греции, в Румынии да и в небольших городах нашего юга. Так выглядели служебные пристройки пышных особняков, притаившиеся за чугунной оградой. Сравнение вполне уместное: ведь Белград весь был в сущности пристройкой к банковским кварталам Парижа, к лондонскому Сити. Подчеркиваю, был!
Новый Белград не только за Савой, он прорастает всюду, пользуясь каждой прогалиной в старой застройке, а то и раздвигая, сметая ее с дороги. Для новых зданий часто выбирают место повыше, на холме, над обрывом, над зеленым разливом парка, затопившего ложбину. Тем резче контраст старого и нового в этом городе под сенью Вестника Победы.

С какой любовью принялись югославы отстраивать свой Белград! На панели блестят медные буквы, вбитые навечно. Это краткое напоминание о том, что здесь работала на субботниках такая-то молодежная бригада: или убирала кирпич, разбросанный взрывом фашистской бомбы, или извлекала мины, клала фундаменты, сажала деревья…
Недалеко от Теразии вырос огромный Дом югославских профсоюзов. Здесь, одетый в розовый гранит, и образовался новый центр Белграда — площадь Маркса и Энгельса. Широкий полукруг Дома замыкает ее; по вечерам она освещается прожекторами, укрепленными на карнизе за матовой стеклянной лентой. Молнией сверкает эта лента под чернотой южного неба. Поблизости, против здания Скупщины, полыхают разноцветные струи фонтанов — длинная стена пляшущей воды посреди улицы, над зеркалом бассейна.
В Белграде повсюду цветы. Они в вазонах, расставленных по обочинам улиц, в декоративных стаканчиках, прикрепленных к тонким фонарным столбам., Прежний Белград был невеселым городом, и тем заметнее сегодня желание украсить его, заставить улыбаться. Новые хозяева ухаживают за своим городом с нежностью и с хорошей выдумкой.
Именно с выдумкой! Она проявляется и в рекламе социалистических фирм, соревнующихся между собой, и в скульптурах, и в архитектуре. Страна, веками скованная, жаждет творить свое! За городом строится стадион — глубокая, врытая в землю воронка на восемьдесят тысяч мест. Вот коттеджи в парковом пригороде, построенные кооперативами и заводами. Каждый домик в своем стиле — хорошенький, пронизанный светом.
В Белграде повсюду ощущаешь торжество народной победы, — вот главное, что надо о нем сказать.
С волнением входишь на кладбище воинов-освободителей. Каменный рельеф у ворот изображает вступление советских войск в Югославию, радостную, братскую встречу. Надгробия суровы, как скалы балканских вершин, поверхность плит отполирована лишь там, где высечены имена павших, — югославов и наших бойцов.
«Непознати борац», — читаешь на глыбе гранита. Кто он? Верно, русский, похороненный среди однополчан в далекой, но дружеской земле. Он тоже не забыт, югославская мать усыновила его посмертно, вот свежие цветы, положенные ее рукой…
Возле кладбища, как бы в почетном карауле, стоят три высотных здания, три гвардейца в парадной — белой с голубым — форме.
На горе Авала
Есть еще могила неизвестного солдата за пределами города, на горе Авала.
Шоссе на Авалу, бегущее мимо деревьев-великанов парка Топчидер, мимо новеньких приветливых коттеджей, прежде было для многих последним, смертным путем. На выступе горы ненасытно поглощал жертвы гитлеровский концлагерь Яинцы.
Автобус бодро берет крутой подъем. На пригорке показывается памятник — кусок лагерной стены, сложенный из крупных каменных кубов. А в нескольких шагах от него юные деревца, ромашки на лужайках… И страшное прошлое этого места кажется мрачной легендой. Восемьдесят тысяч казненных и замученных…
Дальше дорога еще круче, она петляет, вспарывает лес извилистым лезвием. Вывеска любезно приветствует вас сербско-хорватским «Добро дошли!» — «Добро пожаловать». Впереди видна вершина Авалы, свободная от леса, и на ней коричнево-серый каменный четырехугольник строгих классических пропорций. Внутри, под двускатным кровом, в полумраке, монументальные фигуры.
Неведомы ни имя, ни национальность солдата первой мировой войны, лежащего под памятником; никто не знает, серб он, хорват ли, македонец… Но все народы-братья признали его своим. На надгробии каменные изваяния шести былинно величавых женских фигур. Они олицетворяют шесть социалистических республик Югославии: Македонию, Хорватию, Сербию, Словению, Боснию и Герцеговину, Черногорию. Они сходны между собой, как сестры, их торжественные одежды различаются скупыми национальными деталями.
Это не только печальное надгробие, но и символ народного бессмертия и силы. И в этом памятнике, как и в том, что высится над Калемегданом, чувствуешь торжество победы.
Так мы снова встретились с Мештровичем.
Теперь лишь его скульптуры живут среди людей: великий зодчий недавно умер. Далеко от своей родины, за океаном… Жизнь у него была сложная, трудная вроде дороги на Авалу — изломанной, пробивающейся сквозь чащу, сквозь тени зловещего прошлого…
Родился он на берегу Адриатики, в захолустном городке, придавленном громадами соборов. Отец — бедный поденщик — определил мальчика в подручные к каменотесу. В мастерской делали могильные плиты, кресты. А юный подручный мечтал о большем, Ему виделись отважные юнаки, древние славянские витязи, высеченные из камня родных гор. Юнаки и их предводитель королевич Марко — герои злополучной битвы против турок на Косовом поле.

Впоследствии, став скульптором, Мештрович высек фигуры витязей, но мечту его жизни — создать памятник павшим на Косовом поле — осуществить не удалось. Влюбленный в красоту нагого тела, Мештрович не одевал своих юнаков. Мускулы их выпирают резко, от изваяний веет первобытной грубой силой. Сильными ударами он словно вырубал богатырей из скалы.
Он же создал и «Девушку с лютней», украшающую столичный парк. Впрочем, Мештрович никогда не стремился украшать. Как-то не вяжется с ним это слово… Смотришь на скульптуру и раздумываешь: радуется девушка, перебирая струны, или грустит? Ведь, пожалуй, ее мелодия — это та же песня о Косовом поле, торжественная песня о подвиге. Не чудо ли это? Черты лица, чем-то напоминающие иконный лик, лишь намечены, вся фигура схематична, резец как будто не нанес психологических деталей. И все-таки камень поет!
Однако Мештрович всегда мечтал о монументах, о героических ансамблях, он по духу своему был сказителем, перелагавшим национальный эпос на язык скульптуры. Но, увы, из всех замыслов этого рода в королевской Югославии был осуществлен только один — сооружен знакомый нам памятник на горе Авала.
Мештрович мало жил на родине. Он пытался работать за границей. Но там его охватывала тоска. Он был слишком связан со своей страной — с ее скалами, с легендами, с ее храбрым и гордым народом.
Перед войной он обосновался было в Белграде, а в начале войны скульптора-патриота арестовала фашистская охранка. Вырвавшись на свободу, он уехал в Италию, затем в Соединенные Штаты, где ему предложили место профессора. Из Югославии к нему приходили вести, искаженные враждебной пропагандой. В империи доллара цепко держали прославленного скульптора, козыряли его именем. Между ним и народом Югославии встали и церковники. Мештрович порывался вернуться, но добирался не дальше Рима. Слуги Ватикана его запугивали, заклинали не верить безбожникам, «красным».
Перед смертью он все же увидел родину. Это было счастливое, но запоздалое свидание.
Мештрович завещал все свои скульптуры социалистической Югославии. Сейчас в Сплите открыт музей имени великого скульптора.
…Захватывающий дух простор открывается с Авалы. Позади, на севере, предместья Белграда. Впереди, на юге, холмистая Шумадия, некогда страна лесов, беспощадно истребленных былыми хозяевами страны. Народ-пая власть насаждает новые леса. Вот они, коврики из свежей зелени, вклинившиеся в поля. Вдали, на туманном горизонте, если мне не изменяет зрение, темнеют горные цепи. Где-то там, на юге, далеко отсюда, в Черногории, стоит гора Ловчен, увенчанная гигантским памятником Петру Негошу — поэту, борцу за независимость, другу России.
Эта скульптура тоже работа Мештровича, очарован-, ного каменотеса, создавшего поэму о героях.
СОФИЯ
Сын Старой Планины
Я еще утром заприметил на теплоходе нового пассажира — коренастого, в клетчатой ковбойке и в шортах из искусственной кожи, открывавших мускулистые, волосатые ноги.
Почти все время он проводил на палубе, говорил мало, больше слушал других и смотрел на берег. Когда турист югослав, выразительно жестикулируя, расхваливал жгучий рыбный паприкаш, пассажир в шортах лишь слегка кивнул и сдержанно улыбнулся, чуть шевельнув жесткими кустиками черных усов. Видно было, что он понимает речь югослава и что он тоже южанин, но другого, менее экспансивного склада.
Слева проплыл румынский город Турну-Северин. Маленькие домики с палисадничками, словно засунутые в букеты роз, пионов и мальв, хороводом охватили крупные белые кубы новых кварталов. Пассажир проводил взглядом каменный столб, торчащий на холмике, — остаток Траянова моста, первого моста через Дунай, сооруженного два тысячелетия назад. Потом внимание пассажира привлек порт: нарядные, в гирляндах лозунгов новенькие причалы, чаща мачт и долговязых кранов.
— Ваш, — произнес он коротко, показав мне буксир под советским флагом, энергично замахал и взглядом попросил меня сделать то же.
Справа еще тянулся югославский берег, более гористый. Постелено горы отодвигались, тонули в дымке, а к воде подступала слегка волнистая, почти плоская суша. Местами правый берег как будто подражал румынской стороне, силился стать широкой равниной. Однако горы уходили недалеко, они точно грозили снова сдавить Дунай.
Вскоре вереница гор вошла в Болгарию, и тут я почувствовал, что пассажир в коричневых шортах у себя дома. Он барабанил пальцами по перилам, темные глаза его блестели.
— Стара Планинá, — проговорил он быстро с сильным ударением на последнем «а».
Хребет Стара Планина — самая крупная горная цепь в Болгарии — скорее угадывался теперь, чем виднелся. Но болгарин весь так напрягся, словно его крепкие ноги горца уже ступали по привычной тропе, парящей над пропастью.
Он назвал село, в котором родился.
— Борческо село, — прибавил он вскользь.
Он не пытался как-нибудь выделить свое село среди прочих: ведь все они «борческие». Прадед Николы Георгиева был в отряде гайдуков, низвергавшихся с круч на турок. Дед помогал русским войскам, освобождавшим Болгарию от турецкого ига. Отец по призыву Георгия Димитрова выступил против царя-фашиста… Словом, обычная родословная простого болгарина, да еще с Стара Планины.
А сам Никола?
Тут уж ответ приходится буквально вытягивать. Да, в юности партизанил. Э, что тут особенного! Да, участвовал в боях, как и другие.
Единственное, чем он позволяет себе гордиться, — это учебой в Советском Союзе. Он инженер-железнодорожник, окончил институт в Ленинграде. Теперь работает в Софии.
Разумеется, он каждую субботу отправляется в горы. Берет с собой одеяло и ночует там прямо под звездами.
— Без этого мне нельзя, понимаете… Засохнешь в кабинете, бюрократом станешь…
Он тихо смеется. У него прекрасные белые зубы.
На болгарском берегу показывается Лом — желто-серый городок, дышащий домовитостью и опрятностью. Пора в каюту собирать вещи.
Георгиев едет дальше — до Русе, а я решил сойти в Ломе, съездить в Софию. Я еще застану вечерний поезд.
Георгиев вздыхает. Если бы не дела, поехал бы вместе со мной в Софию, показал бы мне все.
— Вы где там будете? — спохватывается он. — Наверно, в отеле «Балкан»?
— Наверно.
— Добро. В воскресенье я за вами зайду. Вместе на Витошу! Договорились?
— Да.
— Отлично!
Он смеется. Я крепко жму ему руку. Я очень благодарен Николе Георгиеву. Он ввел меня в Болгарию.
Утро в Софии
Я просыпаюсь в гостинице.
Хорошо открыть глаза в солнечной, стерильно чистой комнате, вскочить, пройти по ковру, глянуть из окна на город, еще почти незнакомый тебе, но уже вызывающий в душе теплое чувство.
Откуда оно, это тепло?
Кажется, чья-то улыбка согрела тебя. Ну конечно! Только не одна, а много… Я унес их с собой из вагона, полного друзей. Вспомнился студент, его сумка на ремне, из которой торчал какой-то непонятный мне инструмент — что-то для геодезических измерений…
Он рассказал много интересного, этот молодой болгарин. Блокнот, начатый вчера, я исписал до конца. От Дуная к Софии строится вторая железная дорога, в горах пробивают туннель длиной семь километров.
«Искыр, приток Д., каск., плотины…»
О, эти записи в пути прыгающим и вдобавок еще стершимся карандашом! Сколько мучений с ними потом! Исписанный блокнот, лежащий сейчас на столе, самодовольный, пухлый, изъясняется со мной словно сквозь зубы, невнятно.
«Каск. гидрост.»…
На дне пропасти злился Искыр, бешеный приток Дуная, знаменитый ныне Искыр: ведь на нем с помощью советских инженеров построен целый каскад гидростанций. Высоченные плотины, перегородившие ущелье…
Присесть к столу невероятно трудно: нестерпимо тянет в город. Но я все-таки расшифровываю, выправляю лохматые записи. Пожалуй, прибавлю фразу, одну-единственную:
«Ой, братушки с нами ехали!»
Это сказала милая девочка-подросток с косичками на перроне Софийского вокзала. Сказала громко, так что прохожие обернулись на нее. И смутилась… Я посмотрел назад: из нашего поезда вышли и нерешительно сбились стайкой советские туристы. Они, верно, и не расслышали, зато этот чудесный привет целиком достался мне.
Я встаю. Точнее, вскакиваю, как бы подкинутый пружиной. Я во власти неумолимой силы, пока еще не измеренной учеными. Это жажда новизны. Она буквально выкидывает меня из номера, гонит вниз по лестнице.
Площадь залита солнцем. На ней толчея трамваев, машин, потоки прохожих, киоски. Тут есть и очень знакомое, и непривычное. Направо многоэтажный универмаг, он словно явился сюда в гости из Москвы. По стилю он родной брат отеля «Балкан», из которого я вышел. За универмагом мечеть.
Я пересекаю площадь, иду мимо киосков, торгующих орехами в меду и рахат-лукумом, мимо тележек с семечками тыквы и подсолнуха.
Меня ждет открытие. На перекрестке торчит столбик с пучком голубых дощечек-указателей. Я убеждаюсь, что они могут быть интересны не только для водителей. На одной из дощечек надпись: «ЦАРЬГРАД 563 км».

Не Стамбул, а именно Царьград, как в летописи Нестора, сообщавшего про князя Олега: «…повеси щит свой в вратах, показуя победу, пойде от Царяграда».
Так писал Нестор, пользуясь грамотой, составленной Кириллом и Мефодием, и литературным языком, тоже пришедшим к нам из Болгарии.
Меня отбросило на много веков назад. Указатель напомнил мне, что я нахожусь на земле древнейшего славянского государства.
Кстати, совсем недалеко каменный современник византийского Царьграда — храм святой Софии. Возраст, внушающий трепетное уважение! Сооружали храм каменщики фракийцы в VI веке по велению императора Юстиниана, который очень любил отдыхать здесь, в городе Сердике, известном своими садами, минеральными источниками и мягким, нежарким климатом. Когда на Балканах расселились славяне и дали городу другое название — Средец, храм был уже столетним, а во времена киевского князя Олега — двухсотлетним. Впоследствии храм и дал имя городу.
Вернувшись на центральную площадь, я обратил внимание на странное здание, до крыши врытое в землю. Славянская вязь вилась над входом. Не памятник ли прошлого скрыт под железной крышей?
Путеводитель часто бывает досадно лаконичен, но на мое счастье тут остановилась экскурсия. Притихшие черноволосые, большеглазые ребятишки косячком жались к учительнице — рослой девице с ярким румянцем во всю щеку. Слушать стремительную речь болгар труднее, чем читать по-болгарски, но, к счастью, девица говорила медленно.
— Днес… брзо… град…
Таких древних слов в болгарском языке много, и девушка словно декламировала летопись.
Оказалось, что строение это — старинная церковь, кусочек той Софии, что хирела и нищала в турецкой неволе. Никакое здание не смело превышать мечеть. А болгарское тем более. Оно должно было быть как можно ниже…
Вслед за ребятами я иду к мечети Буюк-Джамия. Будто окаменевший турецкий часовой, чернеет в центре современного города эта мечеть с острым как штык минаретом. Это один из немногих памятников пятивекового султанского гнета. Глаза учительницы вспыхнули. Турецкое иго — бедствие не очень давнее. Ведь пало оно, добитое русскими воинами, меньше ста лет назад — при дедах…
Гнет Стамбула всюду означал дикий разгул крепостников и палачей. А Болгарию, одну из ближайших провинций Оттоманской Порты, разоряли с особой методичностью, без передышки. Богатым, кипучим городом была София до нашествия турок, и полководец Лала Шахин с восторгом доносил о ней султану: «Промысловых заведений и ремесленных мастерских в Софии много, они вырабатывают толстые и тонкие шерстяные и хлопчатобумажные ткани… Торговля в городе достаточно развита, во все стороны от него вьются дороги, по которым снуют путешественники-торговцы, торговые караваны с разными товарами и изделиями, которые производят в Софии…»
А пять веков спустя русские воины, вступившие в Софию, встретили жалкое захолустье. Лабиринт кривых, непролазных улочек, глиняные домики, низкие воротца, такие низкие, чтобы турок не мог ввести во двор коня. Был 1878 год, но София еще не знала ни железной дороги, ни газового освещения, ни фабрик, ни мостовых.
…Гулко раздается голос учительницы болгарки под сводом галереи мечети Буюк-Джамия. От волнения она говорит теперь быстрее, и я улавливаю лишь последнюю фразу: «Братските руски войска».
Я мысленно досказываю: «… четы, то есть отряды народных мстителей, получили мощного союзника. Они покидали горные гнезда, выходили навстречу русским братьям, вливались в болгарское ополчение».
Стоя у старой мечети, в бурлящем центре Софии, я думаю о том, какой могучий запас ненависти к врагу, любви к свободе накапливался здесь в течение пяти веков иноземного ига.
Два из четырех сотен
В честь России-освободительницы в центре Софии поставлен памятник. Издали видишь только конную статую Александра Второго. Невольно спрашиваешь себя, почему так лишена движения и жизни эта фигура. Как вкопанный стоит конь, понурый, чуть опустив голову. Тяжело вдавился в седло монарх.
Но подойдите ближе — и вы почувствуете в памятнике и движение, и страсть. В яростную атаку устремлены бронзовые воины по бокам постамента. Тут и русский солдат, и болгарин-ополченец. Как же далек от них — героев дунайской переправы, героев Шипки и Плевны — и как равнодушен всадник наверху!
Не одна была война, а две: царская и народная. Царская власть стремилась подчинить своему влиянию Балканы, сломить соперника-султана.
Народ же имел одну цель — избавить братьев болгар от ужасов рабства. Потому-то со всех концов России и потянулись добровольцы.
Автор памятника — итальянец Арнальдо Цокки. Он родился во Флоренции в семье, известной художественными дарованиями. Среди его работ наиболее известны памятник Гарибальди в Болонье, Лафайетту в США…
Это народные герои, борцы за независимость. Значит, и работа над монументом в Софии не случайный эпизод в творчестве Цокки.
Мне запомнился еще один памятник, единственный в своем роде, в Докторскому саду. Каменная пирамида, густо испещренная именами русских медиков, погибших в Балканском походе.
Много имен женских… То сестры милосердия. Они шли на фронт по зову сердца, обычно наперекор и родным, и обществу. Ведь медицинское образование для женщин было тогда новинкой, вызывало недоверие, насмешки.
Русские врачи прославились блестящими операциями, вошедшими в историю нашей медицины. Не лишне вспомнить: в русско-турецкой войне участвовали такие выдающиеся врачи, как С. П. Боткин, Н. И. Пирогов.
…Я сказал только о двух памятниках, запечатлевших в бронзе, в камне признательность народа к стране, которая помогла ему разбить турецкое ярмо. А во всей Болгарии таких памятников более четырехсот!
В музее дружбы
Наверное, нигде в мире нет такого музея.
Подъезд его, охраняемый пушками-ветеранами, — самое людное место на тихом бульваре Скобелева. С утра дежурят здесь ватаги школьников, подстерегают советских туристов. Кидаются к ним, окружают, суют свои адреса. Суют молча: верно, боятся сделать ошибку в русском языке. Уверены, что поймут и так, что русские сверстники получат их адреса, напишут…
Чтобы послушать экскурсовода, я присоединился к туристам и не пожалел об этом. Юная девушка, трогательно искренняя, с тем мягким золотистым блеском в темно-русых волосах, какой бывает у македонок, вся сияла, водя нас из зала в зал.
В окна било солнце… Впрочем, я не уверен, что оно проникало сквозь шпалеры тополей. Но мне так представляется сейчас, когда я вспоминаю этот необыкновенный музей. В нем не было холодка официальности, нередко присущего музеям.
Девушка рассказывает о героях Шипки, Плевны. Да так, будто они стоят тут, среди нас.
Это чувство не покидало меня в музее.
На стенах портреты знаменитых патриотов Болгарии. Почти в каждой биографии: «учился в России», Но они не только учились у нас. Вот Димитрий Благоев, революционер болгарский и русский. В нашу историю он вошел как создатель одной из первых в России социал-демократических групп. Благоев редактировал первую русскую пролетарскую газету «Рабочий». Его высоко ценил В. И. Ленин. Высланный из Петербурга на родину, Благоев встал в первые ряды болгарских революционеров. Он основатель социал-демократической партии Болгарии, учитель Георгия Димитрова.
Вот рабочая семья Димитровых. Тодор Димитров замучен в софийской охранке, Никола, участник русской революции 1905 года, подпольщик, погиб в сибирской ссылке… Это братья Георгия Димитрова.
А вот горячие слова Георгия Димитрова.
«Для болгарского народа дружба с Советским Союзом так же необходима, как солнце и воздух для каждого живого существа».
Вторая мировая война. Царь Борис братается с Гитлером. Болгария в состоянии войны с Советским Союзом. Под ружьем двадцать три болгарские дивизии. Царь и его приспешники грозят нашей стране, напутствуют свое воинство, но… армия не двигается. В Берлине у Гитлера очередная истерика. Болгар нельзя отправлять на фронт. Они повернут штыки…
Ни один полк болгарской армии, ни один солдат не воевали против нас.
На чьей стороне болгарский народ, о том сказали выстрелы партизан. Старики припоминали гайдуцкие тропы, пещеры, перевалы, откуда удобнее бить врага. Снова загремели горы — Стара Планина, Родопы.
Партизаны брали себе клички «Суворов», «Чапай» и даже «Максим» — в честь героя полюбившегося фильма.
Мы узнали и о подвиге «болгарской Зои». Так прозвал народ свою героиню Велу Пееву.
В тяжелом бою ночью Вела была тяжело ранена и потеряла сознание. Когда она очнулась, в горах стояла мертвая тишина. С трудом поднялась, побрела искать своих. Жительница города, она плохо знала горы.
Вела разрешала себе недолгий отдых в сторожке, в шалаше охотника, и шла дальше, голодная, стиснув зубы от боли, стягивая затвердевшим бинтом гноящуюся рану. Шла с одной только мыслью — добраться к своим, снова сражаться.
Жандармы выследили ее. Им приказано было взять партизанку живьем. Они окружили Велу, сулили ей прощение, деньги. Она отвечала пулями.
Народ чтит место гибели Велы Пеевой — выемку в скале, где остались стреляные гильзы и кровь.
Победу и во второй раз принесла братская страна. Наступило 8 сентября 1944 года. В Болгарии — советские воины.
Они еще не дошли до Софии, а иго фашистов уже кончилось. Всюду, в городах и селах, из гущи народной рождается новая власть. Радио разносит голос Георгия Димитрова.
Закаленная в испытаниях дружба крепка и сегодня. Юная хозяйка музея говорит нам о советских тракторах, которые выручили крестьян в первую послевоенную весну, о помощи Советского Союза и машинами, и специалистами, о том, как при содействии друзей сооружаются болгарские заводы и электростанции, добываются уголь и металлы.
Мы выходим из музея, как из дома наших близких.
На бульварах
Бульвары, бульвары… Пройдемся по ним, они откроют нам истинный облик Софии.
Я говорил о контрастах Софии; но они гаснут, как только покидаешь ее центр. Правда, на плане города указаны еще две мечети, две-три старинные церквушки, но я их не видел. Наверно, их скрыла от меня стена зелени. А слепых мазанок, глиняных дувалов, караван-сараев времен турецкого ига и не отыщешь: все это давно похоронено под гладкими светло-серыми плитками мостовой, на которые так приятно ставить ногу.
Как и югославы, болгары переняли от турок лишь рецепты восточной кухни и, по-моему, поступили правильно. Вы согласитесь со мной, если зайдете в кебаб-чийницу на бульваре Георгия Димитрова и отведаете кебаба или острого бараньего супа — шурпы.
Бульвар этот, идущий от мечети Буюк-Джамия к вокзалу, самый людный из всех бульваров Софии. За деревьями мелькают вывески, скромные болгарские вывески. Они не зовут вас, а сдержанно информируют: тут гостиница, там складкарница (кондитерская), там, в доме с тремя почтовыми ящиками, поща. Один ящик для простой почты, другой — для воздушной, третий — для срочной.
Впрочем, не всегда все так понятно, часто вывески заставляют поломать голову. Что такое, например, шкемберджийница? Зайдите, вам подадут шкемберджи — суп из рубца с чесноком. А в бозаджийнице угостят бозой — чуточку алкогольным кисло-сладким напитком из забродившего солода.
Путешественник еще раз убеждается, каким увлекательным занятием может быть чтение вывесок. До крайнего предела доводит ваше любопытство
«НЕРВОЗЕН КАШКАВАЛ»
Пусть вам уже известно, что «кашкавал» — это плотный, зеленоватый сыр, употребляемый часто в горячем виде. Но он еще нервный, оказывается! Да, так оно и должно быть. «Нервозность» переводится как «острота».
Вы сворачиваете на другой бульвар, более молчаливый. Тут ветви затеняют окна научных институтов, заглядывают в больничные палаты.
Бульвар глушит столичный грохот, охватывает своими шорохами, ароматом, сбрасывает на вас ливни солнечных бликов. Под прямым углом его пересекают другие бульвары. По этому бульвару можно выйти за город. Идешь будто по парковой аллее, почти не ощущая города, его сутолоки, его раскаленного камня. Каштаны, липы, дубы, статные молодцы тополя пышно драпируют здания, особенно старые. Новые крупнее. А их зеленое обрамление еще не успело подрасти. Вероятно, поэтому София в общем производит впечатление очень молодого города.
Правнучка фракийской Сердики, внучка славянской столицы Средец, она в то же время едва ли не самая новая из главных городов Европы. Ведь после освобождения от турок София отстроилась в сущности заново. Тогда же и появилось на плане города слово «булвард». Болгария хотела иметь столицу типично европейскую. Прибыли архитекторы из Германии, из России. Но конечно, разоренная, отсталая страна не могла тягаться с блестящими столицами соседей.

Здесь видишь дом, словно перенесенный из русского губернского города, — с железным крыльцом на крученых столбиках, с простенькими лепными наличниками, с мезонином. Там — здание как будто с окраины Берлина: высокая черепичная крыша, узкий разрез готических окон, каменные балкончики с цветами и виноградом. Догадываешься, что София царская выглядела скучно, провинциально.
На одном из бульваров как раз при мне была фотовыставка «Старая и новая София». На снимках я увидел полицейских, очень похожих на российских городовых, покосившуюся дверь корчмы и ее хозяина — самодовольного, в жилетке и в феске. На снимках запечатлелись глаза голодных детей, понурые крестные ходы, оборвыш, торгующий в пасхальный день самодельными хлопушками и стереоскопами. И разгон рабочей демонстрации, и матери в немом ожидании у ворот тюрьмы… И трущобы, и ночлежки безработных…
И поклоны «отцов» города приезжему концессионеру-иностранцу: он ведь не погнушался, соизволил купить болгарский лес, болгарскую рудную залежь!
А новая София… Она бурно прорастает сквозь прежнюю столицу, ломает ее пределы, вытягивает свои кварталы далеко на простор Софийской долины.
Следом за новыми улицами бегут деревья. Зелени сейчас вчетверо больше, чем до войны. В Софии триста двадцать садов и парков.
Но зелень не заслоняет южного сверкания дня. Столица хороша щедрой шириной своих улиц, площадей, бульваров. Они вбирают солнце и синеву неба, они устремлены в поля и дубравы или к громаде Витоши вдали, они словно распахнуты в будущее…
Такой хотел видеть Софию Георгий Димитров.
Там, где широкий Русский бульвар выходит на Площадь 9 Сентября, белеет мавзолей. Черным крепом падают на мрамор тени деревьев. Неподвижен почетный караул, пропускающий вереницу посетителей.
Георгий Димитров навечно с живыми.
Витоша
Наступило воскресенье. Каюсь, я не очень рассчитывал увидеть Николу, моего знакомого с теплохода. Мало ли какие обещания даются при расставании, а потом забываются!
В то утро в вестибюле гостиницы было людно. Кутаясь в белые покрывала, степенно продефилировала группа африканцев. За круглым столом тараторили и хохотали греки. У ларька с сувенирами толпились только что приехавшие французы. В этом столпотворении твердо и неподвижно с рюкзаком и в шортах стоял Никола.
— Нет, — сказал он, оглядев меня. — Так на Витошу нельзя. Возьмите пиджак.
Я поспешно повиновался. Совесть жгла меня за недоверие к Николе.
Мы пошли. Впрочем, — чтобы быть точным — мы сели на площади в трамвай, доехали до кольца, а оттуда пошли.
Витоша отодвигалась, что обычно делают горы, когда к ним приближаешься. Дорога поднималась плавно, словно боясь утомить нас, словно извиняясь перед нами за коварную шалость горы. Витоша все отступала, только ее округлая, лысоватая макушка стала как будто ниже.
Этот подъем не страшен, даже если вы несете на себе тяжесть лет! Склоны Витоши пологие, ласковые, вам не преграждают путь утесы, у ваших ног не зияют пропасти.
Тропу, по которой мы поднимаемся, природа выложила камешками, правда довольно скользкими… Но вам любезно протягивает свою ветку молодой ясень. Чаща молодого леса гостеприимна, она развлекает вас птичьим щебетом, угощает на полянках малиной.
Местами лес раздвигают осыпи. Тут надо быть осторожнее. Глыбы большие, гладкие. Никола объяснил мне, что это поток древней лавы, обработанный водой и ветром, и называется он «золотой мост». Камни и в самом деле сверкают на солнце золотистым блеском.
Никола шел впереди привычным, размеренным шагом. Иногда он молча притопывал на камне, указывая, куда мне ступить. Полагая, что меня необходимо ободрить, он усердно расхваливал вид с вершины Витоши.
— София — как с птичьего полета. Да что София, — Черное море! — произнес Никола.
— Да ну! — вырвалось у меня.
Он усмехнулся, обрадованный тем, что поймал меня. А птица в овражке, та рассмеялась громко.
Вершина Витоши не обманула моих ожиданий. С веранды гостиницы «Копыто» София вся перед вами. Она лежит курчавым ковром зелени, почти не показывая своих крыш. Едва заметны корпуса заводов в новых и возрожденных промышленных пригородах. Торчат только трубы.
— Наша сталь, — говорит Никола.
Мне вдруг вспомнились годы моей юности, первые наши пятилетки. Но царская Болгария была более отсталой, чем царская Россия. В Болгарию даже иголки, даже гвозди ввозили из-за границы.
Металлургический комбинат возле Софии воздвигнут с помощью советских инженеров.
София строит всевозможные станки, моторы и трансформаторы, радио- и телефонные станции, троллейбусы. Сотни новых изделий впервые выпускаются в Болгарии.
Труб множество, но дым над Софией не густ; его, верно, разносят ветры, поглощают зеленые защитники города…
А горы словно раскрыли объятия столице. Расходятся вправо и влево, погружаясь в марево. Покрывающие горные склоны леса соединяются с бульварами и садами столицы. Как она здесь на месте, София! Как естественно вписана она в ландшафт страны!
Природа обделила город водой, из рек, клокочущих в горах, не подарила ни единой. Теперь к столице отведены воды реки Искыра. Те крупные голубые капли вдали — искусственные озера. В них купаются, катаются на лодках, на яхтах…
Кроме того, Софию опоясывает теперь судоходный канал.
Насмотревшись, мы подкрепляем свои силы кебабом и нервозным кашкавалом. Рядом с верандой стартуют вагончики канатной дороги. Когда канат исчезает из глаз, кажется, будто они летят по воздуху.
К вагончику длинная очередь, и мы втискиваемся в автобус. Никола говорит, что иногда он позволяет себе пользоваться автобусом в день вылазки, при спуске конечно. Сегодня надо поскорее спуститься.
— Я вас веду к себе, — заявляет он властно.
Квартира Николы Георгиева на бульваре, за живыми шторами зелени, вся в солнечных зайчиках. Они прыгают по тахте, по салфетке с вышивкой, напоминающей украинскую.
На стеллажах много русских книг. Они здесь не иностранцы, кичащиеся яркостью нетронутых суперобложек. Русские книги читаются, они стоят вперемежку с болгарскими, такие же потрепанные, такие же близкие хозяину.
Ужином нас потчевала жена Николы — энергичная, быстрая Пенка, командир в доме. Когда мы расправились с фаршированным перцем, она с видом заговорщицы поставила вазочку с клубничным вареньем и блюдца.
— Наша церемония, — сказала она, протянув мне ложечку.
По болгарскому обычаю, первым пробует варенье почетный гость. Затем пьют кофе по-турецки, запивая холодной водой.
Так заканчивается вечер — последний в милой Софии.
Сын Старой Планины
Я еще утром заприметил на теплоходе нового пассажира — коренастого, в клетчатой ковбойке и в шортах из искусственной кожи, открывавших мускулистые, волосатые ноги.
Почти все время он проводил на палубе, говорил мало, больше слушал других и смотрел на берег. Когда турист югослав, выразительно жестикулируя, расхваливал жгучий рыбный паприкаш, пассажир в шортах лишь слегка кивнул и сдержанно улыбнулся, чуть шевельнув жесткими кустиками черных усов. Видно было, что он понимает речь югослава и что он тоже южанин, но другого, менее экспансивного склада.
Слева проплыл румынский город Турну-Северин. Маленькие домики с палисадничками, словно засунутые в букеты роз, пионов и мальв, хороводом охватили крупные белые кубы новых кварталов. Пассажир проводил взглядом каменный столб, торчащий на холмике, — остаток Траянова моста, первого моста через Дунай, сооруженного два тысячелетия назад. Потом внимание пассажира привлек порт: нарядные, в гирляндах лозунгов новенькие причалы, чаща мачт и долговязых кранов.
— Ваш, — произнес он коротко, показав мне буксир под советским флагом, энергично замахал и взглядом попросил меня сделать то же.
Справа еще тянулся югославский берег, более гористый. Постелено горы отодвигались, тонули в дымке, а к воде подступала слегка волнистая, почти плоская суша. Местами правый берег как будто подражал румынской стороне, силился стать широкой равниной. Однако горы уходили недалеко, они точно грозили снова сдавить Дунай.
Вскоре вереница гор вошла в Болгарию, и тут я почувствовал, что пассажир в коричневых шортах у себя дома. Он барабанил пальцами по перилам, темные глаза его блестели.
— Стара Планинá, — проговорил он быстро с сильным ударением на последнем «а».
Хребет Стара Планина — самая крупная горная цепь в Болгарии — скорее угадывался теперь, чем виднелся. Но болгарин весь так напрягся, словно его крепкие ноги горца уже ступали по привычной тропе, парящей над пропастью.
Он назвал село, в котором родился.
— Борческо село, — прибавил он вскользь.
Он не пытался как-нибудь выделить свое село среди прочих: ведь все они «борческие». Прадед Николы Георгиева был в отряде гайдуков, низвергавшихся с круч на турок. Дед помогал русским войскам, освобождавшим Болгарию от турецкого ига. Отец по призыву Георгия Димитрова выступил против царя-фашиста… Словом, обычная родословная простого болгарина, да еще с Стара Планины.
А сам Никола?
Тут уж ответ приходится буквально вытягивать. Да, в юности партизанил. Э, что тут особенного! Да, участвовал в боях, как и другие.
Единственное, чем он позволяет себе гордиться, — это учебой в Советском Союзе. Он инженер-железнодорожник, окончил институт в Ленинграде. Теперь работает в Софии.
Разумеется, он каждую субботу отправляется в горы. Берет с собой одеяло и ночует там прямо под звездами.
— Без этого мне нельзя, понимаете… Засохнешь в кабинете, бюрократом станешь…
Он тихо смеется. У него прекрасные белые зубы.
На болгарском берегу показывается Лом — желто-серый городок, дышащий домовитостью и опрятностью. Пора в каюту собирать вещи.
Георгиев едет дальше — до Русе, а я решил сойти в Ломе, съездить в Софию. Я еще застану вечерний поезд.
Георгиев вздыхает. Если бы не дела, поехал бы вместе со мной в Софию, показал бы мне все.
— Вы где там будете? — спохватывается он. — Наверно, в отеле «Балкан»?
— Наверно.
— Добро. В воскресенье я за вами зайду. Вместе на Витошу! Договорились?
— Да.
— Отлично!
Он смеется. Я крепко жму ему руку. Я очень благодарен Николе Георгиеву. Он ввел меня в Болгарию.
Утро в Софии
Я просыпаюсь в гостинице.
Хорошо открыть глаза в солнечной, стерильно чистой комнате, вскочить, пройти по ковру, глянуть из окна на город, еще почти незнакомый тебе, но уже вызывающий в душе теплое чувство.
Откуда оно, это тепло?
Кажется, чья-то улыбка согрела тебя. Ну конечно! Только не одна, а много… Я унес их с собой из вагона, полного друзей. Вспомнился студент, его сумка на ремне, из которой торчал какой-то непонятный мне инструмент — что-то для геодезических измерений…
Он рассказал много интересного, этот молодой болгарин. Блокнот, начатый вчера, я исписал до конца. От Дуная к Софии строится вторая железная дорога, в горах пробивают туннель длиной семь километров.
«Искыр, приток Д., каск., плотины…»
О, эти записи в пути прыгающим и вдобавок еще стершимся карандашом! Сколько мучений с ними потом! Исписанный блокнот, лежащий сейчас на столе, самодовольный, пухлый, изъясняется со мной словно сквозь зубы, невнятно.
«Каск. гидрост.»…
На дне пропасти злился Искыр, бешеный приток Дуная, знаменитый ныне Искыр: ведь на нем с помощью советских инженеров построен целый каскад гидростанций. Высоченные плотины, перегородившие ущелье…
Присесть к столу невероятно трудно: нестерпимо тянет в город. Но я все-таки расшифровываю, выправляю лохматые записи. Пожалуй, прибавлю фразу, одну-единственную:
«Ой, братушки с нами ехали!»
Это сказала милая девочка-подросток с косичками на перроне Софийского вокзала. Сказала громко, так что прохожие обернулись на нее. И смутилась… Я посмотрел назад: из нашего поезда вышли и нерешительно сбились стайкой советские туристы. Они, верно, и не расслышали, зато этот чудесный привет целиком достался мне.
Я встаю. Точнее, вскакиваю, как бы подкинутый пружиной. Я во власти неумолимой силы, пока еще не измеренной учеными. Это жажда новизны. Она буквально выкидывает меня из номера, гонит вниз по лестнице.
Площадь залита солнцем. На ней толчея трамваев, машин, потоки прохожих, киоски. Тут есть и очень знакомое, и непривычное. Направо многоэтажный универмаг, он словно явился сюда в гости из Москвы. По стилю он родной брат отеля «Балкан», из которого я вышел. За универмагом мечеть.
Я пересекаю площадь, иду мимо киосков, торгующих орехами в меду и рахат-лукумом, мимо тележек с семечками тыквы и подсолнуха.
Меня ждет открытие. На перекрестке торчит столбик с пучком голубых дощечек-указателей. Я убеждаюсь, что они могут быть интересны не только для водителей. На одной из дощечек надпись: «ЦАРЬГРАД 563 км».

Не Стамбул, а именно Царьград, как в летописи Нестора, сообщавшего про князя Олега: «…повеси щит свой в вратах, показуя победу, пойде от Царяграда».
Так писал Нестор, пользуясь грамотой, составленной Кириллом и Мефодием, и литературным языком, тоже пришедшим к нам из Болгарии.
Меня отбросило на много веков назад. Указатель напомнил мне, что я нахожусь на земле древнейшего славянского государства.
Кстати, совсем недалеко каменный современник византийского Царьграда — храм святой Софии. Возраст, внушающий трепетное уважение! Сооружали храм каменщики фракийцы в VI веке по велению императора Юстиниана, который очень любил отдыхать здесь, в городе Сердике, известном своими садами, минеральными источниками и мягким, нежарким климатом. Когда на Балканах расселились славяне и дали городу другое название — Средец, храм был уже столетним, а во времена киевского князя Олега — двухсотлетним. Впоследствии храм и дал имя городу.
Вернувшись на центральную площадь, я обратил внимание на странное здание, до крыши врытое в землю. Славянская вязь вилась над входом. Не памятник ли прошлого скрыт под железной крышей?
Путеводитель часто бывает досадно лаконичен, но на мое счастье тут остановилась экскурсия. Притихшие черноволосые, большеглазые ребятишки косячком жались к учительнице — рослой девице с ярким румянцем во всю щеку. Слушать стремительную речь болгар труднее, чем читать по-болгарски, но, к счастью, девица говорила медленно.
— Днес… брзо… град…
Таких древних слов в болгарском языке много, и девушка словно декламировала летопись.
Оказалось, что строение это — старинная церковь, кусочек той Софии, что хирела и нищала в турецкой неволе. Никакое здание не смело превышать мечеть. А болгарское тем более. Оно должно было быть как можно ниже…
Вслед за ребятами я иду к мечети Буюк-Джамия. Будто окаменевший турецкий часовой, чернеет в центре современного города эта мечеть с острым как штык минаретом. Это один из немногих памятников пятивекового султанского гнета. Глаза учительницы вспыхнули. Турецкое иго — бедствие не очень давнее. Ведь пало оно, добитое русскими воинами, меньше ста лет назад — при дедах…
Гнет Стамбула всюду означал дикий разгул крепостников и палачей. А Болгарию, одну из ближайших провинций Оттоманской Порты, разоряли с особой методичностью, без передышки. Богатым, кипучим городом была София до нашествия турок, и полководец Лала Шахин с восторгом доносил о ней султану: «Промысловых заведений и ремесленных мастерских в Софии много, они вырабатывают толстые и тонкие шерстяные и хлопчатобумажные ткани… Торговля в городе достаточно развита, во все стороны от него вьются дороги, по которым снуют путешественники-торговцы, торговые караваны с разными товарами и изделиями, которые производят в Софии…»
А пять веков спустя русские воины, вступившие в Софию, встретили жалкое захолустье. Лабиринт кривых, непролазных улочек, глиняные домики, низкие воротца, такие низкие, чтобы турок не мог ввести во двор коня. Был 1878 год, но София еще не знала ни железной дороги, ни газового освещения, ни фабрик, ни мостовых.
…Гулко раздается голос учительницы болгарки под сводом галереи мечети Буюк-Джамия. От волнения она говорит теперь быстрее, и я улавливаю лишь последнюю фразу: «Братските руски войска».
Я мысленно досказываю: «… четы, то есть отряды народных мстителей, получили мощного союзника. Они покидали горные гнезда, выходили навстречу русским братьям, вливались в болгарское ополчение».
Стоя у старой мечети, в бурлящем центре Софии, я думаю о том, какой могучий запас ненависти к врагу, любви к свободе накапливался здесь в течение пяти веков иноземного ига.
Два из четырех сотен
В честь России-освободительницы в центре Софии поставлен памятник. Издали видишь только конную статую Александра Второго. Невольно спрашиваешь себя, почему так лишена движения и жизни эта фигура. Как вкопанный стоит конь, понурый, чуть опустив голову. Тяжело вдавился в седло монарх.
Но подойдите ближе — и вы почувствуете в памятнике и движение, и страсть. В яростную атаку устремлены бронзовые воины по бокам постамента. Тут и русский солдат, и болгарин-ополченец. Как же далек от них — героев дунайской переправы, героев Шипки и Плевны — и как равнодушен всадник наверху!
Не одна была война, а две: царская и народная. Царская власть стремилась подчинить своему влиянию Балканы, сломить соперника-султана.
Народ же имел одну цель — избавить братьев болгар от ужасов рабства. Потому-то со всех концов России и потянулись добровольцы.
Автор памятника — итальянец Арнальдо Цокки. Он родился во Флоренции в семье, известной художественными дарованиями. Среди его работ наиболее известны памятник Гарибальди в Болонье, Лафайетту в США…
Это народные герои, борцы за независимость. Значит, и работа над монументом в Софии не случайный эпизод в творчестве Цокки.
Мне запомнился еще один памятник, единственный в своем роде, в Докторскому саду. Каменная пирамида, густо испещренная именами русских медиков, погибших в Балканском походе.
Много имен женских… То сестры милосердия. Они шли на фронт по зову сердца, обычно наперекор и родным, и обществу. Ведь медицинское образование для женщин было тогда новинкой, вызывало недоверие, насмешки.
Русские врачи прославились блестящими операциями, вошедшими в историю нашей медицины. Не лишне вспомнить: в русско-турецкой войне участвовали такие выдающиеся врачи, как С. П. Боткин, Н. И. Пирогов.
…Я сказал только о двух памятниках, запечатлевших в бронзе, в камне признательность народа к стране, которая помогла ему разбить турецкое ярмо. А во всей Болгарии таких памятников более четырехсот!
В музее дружбы
Наверное, нигде в мире нет такого музея.
Подъезд его, охраняемый пушками-ветеранами, — самое людное место на тихом бульваре Скобелева. С утра дежурят здесь ватаги школьников, подстерегают советских туристов. Кидаются к ним, окружают, суют свои адреса. Суют молча: верно, боятся сделать ошибку в русском языке. Уверены, что поймут и так, что русские сверстники получат их адреса, напишут…
Чтобы послушать экскурсовода, я присоединился к туристам и не пожалел об этом. Юная девушка, трогательно искренняя, с тем мягким золотистым блеском в темно-русых волосах, какой бывает у македонок, вся сияла, водя нас из зала в зал.
В окна било солнце… Впрочем, я не уверен, что оно проникало сквозь шпалеры тополей. Но мне так представляется сейчас, когда я вспоминаю этот необыкновенный музей. В нем не было холодка официальности, нередко присущего музеям.
Девушка рассказывает о героях Шипки, Плевны. Да так, будто они стоят тут, среди нас.
Это чувство не покидало меня в музее.
На стенах портреты знаменитых патриотов Болгарии. Почти в каждой биографии: «учился в России», Но они не только учились у нас. Вот Димитрий Благоев, революционер болгарский и русский. В нашу историю он вошел как создатель одной из первых в России социал-демократических групп. Благоев редактировал первую русскую пролетарскую газету «Рабочий». Его высоко ценил В. И. Ленин. Высланный из Петербурга на родину, Благоев встал в первые ряды болгарских революционеров. Он основатель социал-демократической партии Болгарии, учитель Георгия Димитрова.
Вот рабочая семья Димитровых. Тодор Димитров замучен в софийской охранке, Никола, участник русской революции 1905 года, подпольщик, погиб в сибирской ссылке… Это братья Георгия Димитрова.
А вот горячие слова Георгия Димитрова.
«Для болгарского народа дружба с Советским Союзом так же необходима, как солнце и воздух для каждого живого существа».
Вторая мировая война. Царь Борис братается с Гитлером. Болгария в состоянии войны с Советским Союзом. Под ружьем двадцать три болгарские дивизии. Царь и его приспешники грозят нашей стране, напутствуют свое воинство, но… армия не двигается. В Берлине у Гитлера очередная истерика. Болгар нельзя отправлять на фронт. Они повернут штыки…
Ни один полк болгарской армии, ни один солдат не воевали против нас.
На чьей стороне болгарский народ, о том сказали выстрелы партизан. Старики припоминали гайдуцкие тропы, пещеры, перевалы, откуда удобнее бить врага. Снова загремели горы — Стара Планина, Родопы.
Партизаны брали себе клички «Суворов», «Чапай» и даже «Максим» — в честь героя полюбившегося фильма.
Мы узнали и о подвиге «болгарской Зои». Так прозвал народ свою героиню Велу Пееву.
В тяжелом бою ночью Вела была тяжело ранена и потеряла сознание. Когда она очнулась, в горах стояла мертвая тишина. С трудом поднялась, побрела искать своих. Жительница города, она плохо знала горы.
Вела разрешала себе недолгий отдых в сторожке, в шалаше охотника, и шла дальше, голодная, стиснув зубы от боли, стягивая затвердевшим бинтом гноящуюся рану. Шла с одной только мыслью — добраться к своим, снова сражаться.
Жандармы выследили ее. Им приказано было взять партизанку живьем. Они окружили Велу, сулили ей прощение, деньги. Она отвечала пулями.
Народ чтит место гибели Велы Пеевой — выемку в скале, где остались стреляные гильзы и кровь.
Победу и во второй раз принесла братская страна. Наступило 8 сентября 1944 года. В Болгарии — советские воины.
Они еще не дошли до Софии, а иго фашистов уже кончилось. Всюду, в городах и селах, из гущи народной рождается новая власть. Радио разносит голос Георгия Димитрова.
Закаленная в испытаниях дружба крепка и сегодня. Юная хозяйка музея говорит нам о советских тракторах, которые выручили крестьян в первую послевоенную весну, о помощи Советского Союза и машинами, и специалистами, о том, как при содействии друзей сооружаются болгарские заводы и электростанции, добываются уголь и металлы.
Мы выходим из музея, как из дома наших близких.
На бульварах
Бульвары, бульвары… Пройдемся по ним, они откроют нам истинный облик Софии.
Я говорил о контрастах Софии; но они гаснут, как только покидаешь ее центр. Правда, на плане города указаны еще две мечети, две-три старинные церквушки, но я их не видел. Наверно, их скрыла от меня стена зелени. А слепых мазанок, глиняных дувалов, караван-сараев времен турецкого ига и не отыщешь: все это давно похоронено под гладкими светло-серыми плитками мостовой, на которые так приятно ставить ногу.
Как и югославы, болгары переняли от турок лишь рецепты восточной кухни и, по-моему, поступили правильно. Вы согласитесь со мной, если зайдете в кебаб-чийницу на бульваре Георгия Димитрова и отведаете кебаба или острого бараньего супа — шурпы.
Бульвар этот, идущий от мечети Буюк-Джамия к вокзалу, самый людный из всех бульваров Софии. За деревьями мелькают вывески, скромные болгарские вывески. Они не зовут вас, а сдержанно информируют: тут гостиница, там складкарница (кондитерская), там, в доме с тремя почтовыми ящиками, поща. Один ящик для простой почты, другой — для воздушной, третий — для срочной.
Впрочем, не всегда все так понятно, часто вывески заставляют поломать голову. Что такое, например, шкемберджийница? Зайдите, вам подадут шкемберджи — суп из рубца с чесноком. А в бозаджийнице угостят бозой — чуточку алкогольным кисло-сладким напитком из забродившего солода.
Путешественник еще раз убеждается, каким увлекательным занятием может быть чтение вывесок. До крайнего предела доводит ваше любопытство
«НЕРВОЗЕН КАШКАВАЛ»
Пусть вам уже известно, что «кашкавал» — это плотный, зеленоватый сыр, употребляемый часто в горячем виде. Но он еще нервный, оказывается! Да, так оно и должно быть. «Нервозность» переводится как «острота».
Вы сворачиваете на другой бульвар, более молчаливый. Тут ветви затеняют окна научных институтов, заглядывают в больничные палаты.
Бульвар глушит столичный грохот, охватывает своими шорохами, ароматом, сбрасывает на вас ливни солнечных бликов. Под прямым углом его пересекают другие бульвары. По этому бульвару можно выйти за город. Идешь будто по парковой аллее, почти не ощущая города, его сутолоки, его раскаленного камня. Каштаны, липы, дубы, статные молодцы тополя пышно драпируют здания, особенно старые. Новые крупнее. А их зеленое обрамление еще не успело подрасти. Вероятно, поэтому София в общем производит впечатление очень молодого города.
Правнучка фракийской Сердики, внучка славянской столицы Средец, она в то же время едва ли не самая новая из главных городов Европы. Ведь после освобождения от турок София отстроилась в сущности заново. Тогда же и появилось на плане города слово «булвард». Болгария хотела иметь столицу типично европейскую. Прибыли архитекторы из Германии, из России. Но конечно, разоренная, отсталая страна не могла тягаться с блестящими столицами соседей.

Здесь видишь дом, словно перенесенный из русского губернского города, — с железным крыльцом на крученых столбиках, с простенькими лепными наличниками, с мезонином. Там — здание как будто с окраины Берлина: высокая черепичная крыша, узкий разрез готических окон, каменные балкончики с цветами и виноградом. Догадываешься, что София царская выглядела скучно, провинциально.
На одном из бульваров как раз при мне была фотовыставка «Старая и новая София». На снимках я увидел полицейских, очень похожих на российских городовых, покосившуюся дверь корчмы и ее хозяина — самодовольного, в жилетке и в феске. На снимках запечатлелись глаза голодных детей, понурые крестные ходы, оборвыш, торгующий в пасхальный день самодельными хлопушками и стереоскопами. И разгон рабочей демонстрации, и матери в немом ожидании у ворот тюрьмы… И трущобы, и ночлежки безработных…
И поклоны «отцов» города приезжему концессионеру-иностранцу: он ведь не погнушался, соизволил купить болгарский лес, болгарскую рудную залежь!
А новая София… Она бурно прорастает сквозь прежнюю столицу, ломает ее пределы, вытягивает свои кварталы далеко на простор Софийской долины.
Следом за новыми улицами бегут деревья. Зелени сейчас вчетверо больше, чем до войны. В Софии триста двадцать садов и парков.
Но зелень не заслоняет южного сверкания дня. Столица хороша щедрой шириной своих улиц, площадей, бульваров. Они вбирают солнце и синеву неба, они устремлены в поля и дубравы или к громаде Витоши вдали, они словно распахнуты в будущее…
Такой хотел видеть Софию Георгий Димитров.
Там, где широкий Русский бульвар выходит на Площадь 9 Сентября, белеет мавзолей. Черным крепом падают на мрамор тени деревьев. Неподвижен почетный караул, пропускающий вереницу посетителей.
Георгий Димитров навечно с живыми.
Витоша
Наступило воскресенье. Каюсь, я не очень рассчитывал увидеть Николу, моего знакомого с теплохода. Мало ли какие обещания даются при расставании, а потом забываются!
В то утро в вестибюле гостиницы было людно. Кутаясь в белые покрывала, степенно продефилировала группа африканцев. За круглым столом тараторили и хохотали греки. У ларька с сувенирами толпились только что приехавшие французы. В этом столпотворении твердо и неподвижно с рюкзаком и в шортах стоял Никола.
— Нет, — сказал он, оглядев меня. — Так на Витошу нельзя. Возьмите пиджак.
Я поспешно повиновался. Совесть жгла меня за недоверие к Николе.
Мы пошли. Впрочем, — чтобы быть точным — мы сели на площади в трамвай, доехали до кольца, а оттуда пошли.
Витоша отодвигалась, что обычно делают горы, когда к ним приближаешься. Дорога поднималась плавно, словно боясь утомить нас, словно извиняясь перед нами за коварную шалость горы. Витоша все отступала, только ее округлая, лысоватая макушка стала как будто ниже.
Этот подъем не страшен, даже если вы несете на себе тяжесть лет! Склоны Витоши пологие, ласковые, вам не преграждают путь утесы, у ваших ног не зияют пропасти.
Тропу, по которой мы поднимаемся, природа выложила камешками, правда довольно скользкими… Но вам любезно протягивает свою ветку молодой ясень. Чаща молодого леса гостеприимна, она развлекает вас птичьим щебетом, угощает на полянках малиной.
Местами лес раздвигают осыпи. Тут надо быть осторожнее. Глыбы большие, гладкие. Никола объяснил мне, что это поток древней лавы, обработанный водой и ветром, и называется он «золотой мост». Камни и в самом деле сверкают на солнце золотистым блеском.
Никола шел впереди привычным, размеренным шагом. Иногда он молча притопывал на камне, указывая, куда мне ступить. Полагая, что меня необходимо ободрить, он усердно расхваливал вид с вершины Витоши.
— София — как с птичьего полета. Да что София, — Черное море! — произнес Никола.
— Да ну! — вырвалось у меня.
Он усмехнулся, обрадованный тем, что поймал меня. А птица в овражке, та рассмеялась громко.
Вершина Витоши не обманула моих ожиданий. С веранды гостиницы «Копыто» София вся перед вами. Она лежит курчавым ковром зелени, почти не показывая своих крыш. Едва заметны корпуса заводов в новых и возрожденных промышленных пригородах. Торчат только трубы.
— Наша сталь, — говорит Никола.
Мне вдруг вспомнились годы моей юности, первые наши пятилетки. Но царская Болгария была более отсталой, чем царская Россия. В Болгарию даже иголки, даже гвозди ввозили из-за границы.
Металлургический комбинат возле Софии воздвигнут с помощью советских инженеров.
София строит всевозможные станки, моторы и трансформаторы, радио- и телефонные станции, троллейбусы. Сотни новых изделий впервые выпускаются в Болгарии.
Труб множество, но дым над Софией не густ; его, верно, разносят ветры, поглощают зеленые защитники города…
А горы словно раскрыли объятия столице. Расходятся вправо и влево, погружаясь в марево. Покрывающие горные склоны леса соединяются с бульварами и садами столицы. Как она здесь на месте, София! Как естественно вписана она в ландшафт страны!
Природа обделила город водой, из рек, клокочущих в горах, не подарила ни единой. Теперь к столице отведены воды реки Искыра. Те крупные голубые капли вдали — искусственные озера. В них купаются, катаются на лодках, на яхтах…
Кроме того, Софию опоясывает теперь судоходный канал.
Насмотревшись, мы подкрепляем свои силы кебабом и нервозным кашкавалом. Рядом с верандой стартуют вагончики канатной дороги. Когда канат исчезает из глаз, кажется, будто они летят по воздуху.
К вагончику длинная очередь, и мы втискиваемся в автобус. Никола говорит, что иногда он позволяет себе пользоваться автобусом в день вылазки, при спуске конечно. Сегодня надо поскорее спуститься.
— Я вас веду к себе, — заявляет он властно.
Квартира Николы Георгиева на бульваре, за живыми шторами зелени, вся в солнечных зайчиках. Они прыгают по тахте, по салфетке с вышивкой, напоминающей украинскую.
На стеллажах много русских книг. Они здесь не иностранцы, кичащиеся яркостью нетронутых суперобложек. Русские книги читаются, они стоят вперемежку с болгарскими, такие же потрепанные, такие же близкие хозяину.
Ужином нас потчевала жена Николы — энергичная, быстрая Пенка, командир в доме. Когда мы расправились с фаршированным перцем, она с видом заговорщицы поставила вазочку с клубничным вареньем и блюдца.
— Наша церемония, — сказала она, протянув мне ложечку.
По болгарскому обычаю, первым пробует варенье почетный гость. Затем пьют кофе по-турецки, запивая холодной водой.
Так заканчивается вечер — последний в милой Софии.
БУХАРЕСТ
Сказочное село
Начать рассказ о столице Румынии следует, по-моему, с села. С необычайного, сказочного села, в котором я очутился, не выходя из города.
В этом селе не пашут и не сеют. Населяют его художники. Они там днюют и ночуют.
Образовалось оно из многих сел. Вообразите, что по волшебству с разных концов страны в Бухарест, на берег озера Хэрэстрэу, перенеслись дома со всем имуществом, колодцы, мельницы, резные ворота, даже уличные скамейки с фигурными навесами. И расположились посадами, раскинули свои палисадники, обросли цветниками, яблонями, вишнями…
Собственно, так оно и произошло, только не вдруг.
Еще в королевской Румынии, в тяжелейших условиях, начали это благородное дело энтузиасты народного искусства, очарованные странники, которые бродили по селам, отбирали, а затем свозили сюда самые примечательные творения безымянных умельцев — зодчих и резчиков, гончаров и вышивальщиц.

Переступаешь порог хатенки, выбеленной внутри и снаружи, — и ты будто в лесном прикарпатском крае, в избе, где, по преданию, жили старуха Врынчоайя и семь ее сыновей — храбрые витязи, отличные плотники и художники. Не они ли придумали этот хитроумный пресс, чтобы зажимать кровельную дранку для обрезки? С первого взгляда не поймешь, машина это или взлохмаченная голова лешего, затейливая деревянная скульптура.
Покидаешь хату старухи Врынчоайя, всю в полотняных бабочках, сложенных из расшитых полотенец, — и несколько минут спустя ты в горном крае Кымпулунг. В избе ковры из овечьей шерсти, со ступенчатым орнаментом, похожим на гуцульский; на полках деревянные фляги и бочонки с выжженным либо вырезанным узором.
А вот изба, типичная для области Байя-Маре, тоже в Молдове, но тут все по-другому. На бревенчатый неоштукатуренный сруб нахлобучена большущая крыша, подпираемая кругом еще и столбиками. Внутри по стенам висят расписные кувшины. Какое племя оставило здесь свои любимые цвета — черный, желтый и синий — и свои узоры из цветов и листьев?
Быть может, никто не даст мне ответа. Имя этого племени, смешавшегося с многими другими в румынском народе, возможно, давно забыто. А искусство его художников осталось. Вот оно, на глазури длинногорлых кувшинов, на цветных скатертях и половиках, на деревянной формочке для сыра, на солонке.
Искусство талантливых умельцев, разоренных, обездоленных, нищих…
Я подошел к жилью, какого не увидишь теперь в Румынии. Передо мной курная землянка, крытая соломой, похожая на бугор, заросший сорняком. Когда-то она давала приют крестьянской семье в степной Олтении, недалеко от Бухареста. В плетеном амбарчике, стоящем на четырех столбах, хранился скудный урожай кукурузы… Тут, в сказочном селе, в воображении не могут не возникать тени прошлого… Под амбаром мне привиделся маленький мальчик в тряпье, играющий в пыли.
«Этот выжил. Он одолел и пустышку с жеваным хлебом… Не ошпарился он, когда опрокинулась бадья с кипятком. Не сожрали его и свиньи, когда наткнулись на него за хатой в корытце, где он шевелил, словно жучок, ножонками и ручонками и лопотал что-то по-своему. Не погиб он ни от варева из незрелых плодов, ни от конского навоза, что пихали ему в рот деревенские бабки, когда болел он коклюшем».
Звали этого мальчика Митря Кокор, и вы, верно, его знаете, если читали одноименную повесть Михаила Садовяну.
Конечно, я зашел в землянку к Кокорам. Две девушки сидели там у очага, да, живые девушки, художницы с текстильной фабрики, увлеченные работой. Они смотрели на жесткий топчан, накрытый домотканым полотном, и переносили с него орнамент в свои альбомы. Поразительный орнамент! Основа его проста — ромбы и полоски. Но как разнообразны их сочетания, с каким вкусом подобраны тона на красном фоне — зеленые, желтые, синие, как будто контрастные, спорящие между собой и все-таки сведенные в один цветовой аккорд!

Это сделала хозяйка бедной землянки при тусклом свете, сочившемся из крохотного оконца. Глаза болели от дыма, от горя. А покрывала на топчане, на сундуке, на подушке играют ручьями красок, смеются, Можно подумать, мастерица знала, что творения ее увидят другое время.
Народное искусство задохнулось бы, не будь надежды, его вдохновлявшей.
Я выхожу из землянки, проулком иду к водяной мельнице. Ветер гонит волну, она шевелит ветви плакучих ив, пошаливает с колесом. Кажется, мельница оживает, колесо со скрипом принимается за работу. И слышится, будто жалуется на свою судьбу батрак Митря Кокор.
Сотня шагов — и я из степного края перешел в горную Трансильванию. Здесь, в бревенчатом доме, тоже художники. Они срисовывают дубовые стулья на точеных ножках. Спинки стульев напоминают очертания скрипки. Среди сокровищ этого дома пастушеский посох. Его тончайший узор нанесен острием ножа. Сколько это требовало кропотливого труда, сколько бессонных ночей у костра, на высокогорном пастбище!
Сказочно хороши творения замечательных умельцев, народа-искусника, веками бившегося в путах!
«Маленький Париж»
Королевский Бухарест, город нищеты и роскоши, кичливо именовал себя «маленьким Парижем».
Говорят, основал его букур — чабан, — поставивший когда-то здесь свою хижину.
Лист зеленый, ствол паленый,
Город Бухарест хваленый,
Чтоб ты сгинул, провалился!
Зря к тебе я в путь пустился.
Твои улицы манили,
Жизнь хорошую сулили…
Так пели пахари и букуры, искавшие работы в столице.
Огромен королевский дворец, ныне Музей искусств. Его строили с явным намерением потягаться с Версалем и Веной. Об этом говорят и его размеры, и помпезная архитектура с отголосками барокко. Его коронованные обитатели владели еще ста тридцатью дворцами и замками, наделом земель общей площадью сто пятьдесят тысяч гектаров, акциями разных предприятий на четыре миллиона лей. Вольготно было королям распродавать иностранным концессионерам — немецким, французским, английским — уголь и нефть, медь и свинец, леса и речные пути Румынии.
Старожилы знают место на набережной речки Дымбовицы, где король оказывал милость народу. Происходило это каждую зиму, в день православного праздника крещения, в крещенскую стужу. Тысячи бедняков втягивались в крестный ход, возглавляемый митрополитом и королем. Лес хоругвей, облака ладана нависали над речкой, и король бросал в воду крестики.
Прыгай, ищи королевское золото! Прыгали в воду, поражая новичков, из года в год одни и те же нанятые, привычные к зимнему купанию молодчики. Не знали люди и того, что кресты — дешевка. Слегка позолоченные, а то и медные…
Вокруг королевского дворца, словно толпа сановников в нарядных мундирах, теснились богатые особняки. Горделивые, изобилующие лепными украшениями, они и сегодня рассказывают о своих былых хозяевах — тщеславных, кичащихся гербами и доходами, но часто нищих духовно. Изъяснялись в особняках по-французски, а по-румынски обращались лишь к прислуге: надо же было держать марку «маленького Парижа»…
Мало смущало «парижан» то, что в самом центре города была сделана свалка. Да, на пустыре, принадлежавшем именитому и наглому дельцу, возвышалась гора мусора. Он решил продать эту землю городу и заломил несусветную цену. А муниципальные власти упрямились. Он и велел свозить на свой пустырь мусор: этак скорее раскошелятся!
Тому, кто приезжает в Бухарест из скромной Софии, единственная роскошь которой — пышная зелень, румынская столица кажется особенно экстравагантной. Разница понятна: ведь в Софии не было аристократов, а денежная знать лишь набирала силу. Помещиками в Болгарии были сплошь турки и их вымели вместе с турецкими наместниками.
Не то в Румынии. Здесь родовитая знать продолжала здравствовать. Она легко перенесла в прошлом веке «освобождение» крестьян. И не удивительно: мужик, получивший крохотный кусочек земли за дорогой выкуп, не мог не остаться в кабале у помещика…
Расплодились еще и мелкие дельцы, старавшиеся во всем подражать вельможам. О таком дельце с ненавистью писал в прошлом веке Никулаз Филимон, автор книги «Старые и новые мироеды»;
«Он появился в эпоху фанариотов, облаченный в халат, с чернильницей у пояса; теперь же мы видим его затянутым в модный фрак, в безукоризненно белых перчатках, но по-настоящему творящим свое грязное дело».
Фанариоты — это греки из Фанара, стамбульского квартала ростовщиков, которым султан раздавал за взятку посты в вассальной Румынии. Многие потомки фанариотов стали управляющими имений, а потом, случалось, и сами завладевали господским добром.
Словом, орда мироедов, старых и новых, хозяйничала в «маленьком Париже» во главе с королем немцем. Они отличались и неуемной жадностью, и спесью, и космополитским презрением к румынскому народу. Все это отразилось и в их особняках — назойливо великолепных и словно свезенных из разных стран мира. Здесь вы увидите и башенки, подражающие то минаретам Стамбула, то куполам готических соборов, и славянские резные крылечки и терема, тут и ампирные колонны, и дворы с галереями в виде итальянских лоджий, и фигурные ограды садиков с фонтанами и скульптурами. Оплетенные виноградными лозами веранды, ковры плюща…
Бесспорно, сегодня мы любуемся многими зданиями, многими уголками Бухареста королевского, города необычайной пестроты стилей, но зато не скучного, создававшегося с фантазией, с южным темпераментом.
По центральной улице Виктория можно пройти к центру более новому, отстроенному в тридцатых годах нашего века нефтяными, пшеничными и пароходными магнатами. Здесь нас заставят задрать голову многоэтажные дома — ярко-белые, окруженные каштанами и липами. Должно быть, архитекторы мечтали воспроизвести в Бухаресте хотя бы кусочек парижских Больших бульваров, но получилось что-то сверхпарижское по ширине, по высоте построек, по купеческому размаху… Бухарест скорее напоминает в этом месте большие, быстро разбогатевшие города Южной Америки.
На площади Республики
В новом центре Бухареста, на площади Республики, меня охватило такое чувство, какое испытываешь в театре после блистательной премьеры. Хотелось громко аплодировать и вызывать на сцену автора.
Я не ожидал, что эта площадь так поразит меня. Ведь я уже немало интересного видел в Бухаресте. Меня порадовала цветущая Флоряска: ее уютные, веселые улицы, названные в честь выдающихся композиторов, своеобразное здание цирка, похожее на гриб с большой волнистой шляпкой. Я побывал и возле завода Красная Гривица — ветерана революционных боев. Там раскинулись улицы нового Бухареста — приветливые и, хочется сказать, хорошо одетые благодаря удачному подбору красок.
Видел я и «Дом Скынтейи». «Скынтейя» значит «Звезда». Это название крупнейшей румынской газеты. В Доме помещаются издательства, типографии — целый полиграфический комбинат. Многоэтажная громада четко вырисовывается на фоне синего неба, отражается в синей воде озера. Она немного близка по очертаниям университету на Ленинских горах. И место ее не менее выгодное. Без «Скынтейи» пейзаж столичной окраины с ее цепочкой степных озер выглядел бы плоским, скучным.
Показали мне и постройки в так называемом стиле Брынковяну, вызывающем много споров. Нет, это не имя зодчего. Есть не очень далеко от Бухареста дворец князей Брынковяну, памятник XVII столетия. Князья откуда-то привезли талантливого архитектора; он не копировал ни турецкие, ни византийские образцы, а пытался найти свой путь. Лента лаконичного, зубчатого узора под карнизом, небольшая галерея, сводчатые ниши, всего две на весь фасад, — все это детали, разумеется, восточные, но как бы смягченные и без чрезмерностей в отделке.
Подражатели доводили стиль Брынковяну до кричащей безвкусицы; свидетельство тому — уродливость некоторых богатых старых особняков. Теперь одни отвергают этот стиль, другие же ищут в нем зерно национального румынского зодчества. И находят! Детали дворца Брынковяну, чаще всего рисунок его арок, нередко проявляются в новых сооружениях. И нисколько не портят их. Напротив! Они украшают и крупные, нарядные городские здания — тот же «Дом Скынтейи», и загородные и сельские коттеджи.
Но вернемся к площади Республики.
Легко понять, какую сложную задачу взялся решить архитектор площади — архитектор, кстати говоря, коллективный. Это ведь посложнее, чем построить серию коттеджей, городскую улицу или даже жилой квартал. Бухаресту нужен был новый центр.
Бухаресту! Городу, вобравшему в себя множество стилей. Городу, обаяние которого заключается именно в этой игривой, своевольной, не скованной канонами пестроте…
Я пробую проникнуть в творческую лабораторию архитекторов. Я не знаком с ними, я знаю их только по их творению. Они, конечно, часто задавали себе вопрос: какой же из стилей лучше всего подойдет к облику Бухареста?
Может быть, повторить с многоэтажным увеличением скромный, двухэтажный фасад Брынковяну? Но ведь из такого повторения получится скорее декорация для исторической оперы, чем дома, предназначенные украсить площадь живого современного города.
И на листах ватманской бумаги появились чертежи зданий простых геометрических линий. «А это не скучно?» — спросит читатель. Подождите! Зодчий распоряжается не только объемами, у него в распоряжении еще краски.
И что же вышло?
Площадь образует обширный неправильный четырехугольник с разрывами, с закруглениями. Посередине, над коврами газонов, Дворец республики. До сих пор я именовал площадь сокращенно. Площадь Дворца Румынской Народной Республики — вот ее полное название.
Невысокий свод дворца, закрепленный лишь в четырех местах, точно приподнят ветром, а вместе с этим кровом-платком, кажется, поднимается кверху, обретает легкость все здание с ребристыми фасадами, бетонный монолит, вмещающий в своем зале тысячи людей.
Остальные здания на площади жилые. Их всего пять. По размерам, по рисунку гладких фасадов они все одинаковые. Все, кроме одного. Каждая сторона площади — это громадный десятиэтажный длинный домина. И только одно здание нарушает этот строгий ранжир, взрывает его своей семнадцатиэтажной высотой.
Вы спросите: что же в этом нового? Каков же результат поиска архитекторов? Вторжение холодной геометрии в разноликий пестрый город…
Однако не веет холодом от этих построек. И нет в них однообразия. Да, по всей стороне площади все по линейке: и ряды окон, и столбики нижней галереи, пестреющей витринами магазинов, и чердачные оконца под плоским козырьком-карнизом, сливающиеся как бы в точечный орнамент. И все-таки дома разные!
Что это, иллюзия, обман зрения? Нет, все дело в расцветке. В красках, которыми градостроители частенько пренебрегают.
Дома стоят веселые, жизнерадостные, с цветными поясками. Одним цветом залиты ряды окон, другим — стена между этими рядами. У каждого дома свои цвета, Подбор их — замечательная художественная находка. Зодчие, должно быть, немало потрудились, испробовали в своей мастерской сотни вариантов, чтобы избежать разнобоя, нестройной чересполосицы. Составили гамму красок, игру тонов — голубых, синих, зеленых, оранжевых…
«Но позвольте, — спросите вы, — разве эту гамму не разрывают черные провалы окон или пестрота занавесок, штор, жалюзи?» Нет, всюду цветные шторы, предусмотренные проектом.
И вот еще деталь — ограждения из пластика на балконах. Тоже в цвет.
Не знаю, удалось ли мне понять до конца секрет бухарестского чуда. Но чудо налицо: громадные здания кажутся воздушно-легкими. Бетон не давит и не утомляет. Геометрия простых линий стала поэтичной, площадь на диво вросла в Бухарест, хотя она не покорилась ни одному из его былых зодчих, спорит со всеми…
Вечер. Зажигаются фонари, витрины. Толпы гуляющих вливаются на площадь с бульваров, с калья Виктория. Тянутся к новому центру столицы, в котором радостно и широко раскрылась душа народа-художника,
Миорица
Тот вечер на празднично шумящей площади был для меня последним в Бухаресте. Хотелось бродить как можно дольше. Томили мысли о чем-то неувиденном, о каких-то несостоявщихся встречах. Извечная обида человека на время, которое нельзя ни остановить, ни растянуть…
А площадь развлекала меня как могла. Она предлагала мне для разгадки афиши, и одну я прочитал. Афиша приглашала в Дом культуры «Гривица Рошие», то есть «Красная Гривица», на бал совершеннолетних.
Площадь звала меня испытать счастье в лотерее. Выигрыши вручаются на месте, немедленно! Подхваченный потоком гуляющих, я приблизился к столику с вертушкой. Нетерпеливые руки вытаскивали из нее свернутые билеты. Разверни и получай, если тебе повезло! Азарт окружающих, горячий азарт южан передался мне, и я уже опустил руку в карман с намерением отдать во власть фортуны свои последние леи и спохватился… А сувениры?
Витрины магазина сувениров уютно мерцали на галерее высотного здания. Магазин гостеприимно раскрыл мне свои двери. Что же купить?
Вышивки, карпатские трубки, трости, расписные деревянные бочонки для вина, настенные украшения, керамика, полочки с кувшинами… И тут на меня глянула Миорица. Овечка Миорица из народной баллады. Я еще не рассказал вам о ней. Я видел ее — памятник-фонтан — за озером Хэрэстрэу, где о городские стены плещет степь, извечная степь букуров и овечьих отар.
Есть сигареты «Миорица», конфеты «Миорица». И кажется, кафе «Миорица».
Город отодвинул степь, но славная овечка Миорица не испугалась автомашин, света фонарей, она прижилась и в столице…
Шли по степи три отары, гнали их три букура: один — из Молдовы, другой — из Трансильвании, третий — с лесистых холмов Вранчи. И задумали двое букуров убить третьего — пастуха-вранчанина, веселого и доброго парня. У него, вишь, овцы жирнее и шерсть у них богаче, шелковистей.
Услышала это Миорица, любимая ярка вранчанина, и побежала к нему, чтобы предупредить об опасности. Но смерть парню не страшна. Одно желание у букура: пусть его похоронят в родной степи, у овечьего загона.
В головах положи
Мне из бука рожок —
В нем любви огонек,
Да из кости рожок —
Ласков в нем голосок,
Да бузинный рожок —
Он всех жарче поет,
Когда ветер в него
Дует, плачет, зовет…
Так должна сделать ярка. А если мать спросит о судьбе сына, то пусть скажет Миорица: женился сын, женился в чужой, дальней стороне.
Убили ли парня — неизвестно. Дойна о Миорице, гениальное творение неведомого поэта, не рассказывает о смерти вранчанина. Сквозь печаль она славит жизнь.
Сейчас, когда я пишу эти строки, на меня смотрит Миорица, милая волшебная овечка. Всегда будет на моем столе кусочек Бухареста, фонтан-памятник в честь вечного букура, вечного труженика и слагателя песен.
Легенда не ошиблась, — это он основал Бухарест и не устает его строить.
Сказочное село
Начать рассказ о столице Румынии следует, по-моему, с села. С необычайного, сказочного села, в котором я очутился, не выходя из города.
В этом селе не пашут и не сеют. Населяют его художники. Они там днюют и ночуют.
Образовалось оно из многих сел. Вообразите, что по волшебству с разных концов страны в Бухарест, на берег озера Хэрэстрэу, перенеслись дома со всем имуществом, колодцы, мельницы, резные ворота, даже уличные скамейки с фигурными навесами. И расположились посадами, раскинули свои палисадники, обросли цветниками, яблонями, вишнями…
Собственно, так оно и произошло, только не вдруг.
Еще в королевской Румынии, в тяжелейших условиях, начали это благородное дело энтузиасты народного искусства, очарованные странники, которые бродили по селам, отбирали, а затем свозили сюда самые примечательные творения безымянных умельцев — зодчих и резчиков, гончаров и вышивальщиц.

Переступаешь порог хатенки, выбеленной внутри и снаружи, — и ты будто в лесном прикарпатском крае, в избе, где, по преданию, жили старуха Врынчоайя и семь ее сыновей — храбрые витязи, отличные плотники и художники. Не они ли придумали этот хитроумный пресс, чтобы зажимать кровельную дранку для обрезки? С первого взгляда не поймешь, машина это или взлохмаченная голова лешего, затейливая деревянная скульптура.
Покидаешь хату старухи Врынчоайя, всю в полотняных бабочках, сложенных из расшитых полотенец, — и несколько минут спустя ты в горном крае Кымпулунг. В избе ковры из овечьей шерсти, со ступенчатым орнаментом, похожим на гуцульский; на полках деревянные фляги и бочонки с выжженным либо вырезанным узором.
А вот изба, типичная для области Байя-Маре, тоже в Молдове, но тут все по-другому. На бревенчатый неоштукатуренный сруб нахлобучена большущая крыша, подпираемая кругом еще и столбиками. Внутри по стенам висят расписные кувшины. Какое племя оставило здесь свои любимые цвета — черный, желтый и синий — и свои узоры из цветов и листьев?
Быть может, никто не даст мне ответа. Имя этого племени, смешавшегося с многими другими в румынском народе, возможно, давно забыто. А искусство его художников осталось. Вот оно, на глазури длинногорлых кувшинов, на цветных скатертях и половиках, на деревянной формочке для сыра, на солонке.
Искусство талантливых умельцев, разоренных, обездоленных, нищих…
Я подошел к жилью, какого не увидишь теперь в Румынии. Передо мной курная землянка, крытая соломой, похожая на бугор, заросший сорняком. Когда-то она давала приют крестьянской семье в степной Олтении, недалеко от Бухареста. В плетеном амбарчике, стоящем на четырех столбах, хранился скудный урожай кукурузы… Тут, в сказочном селе, в воображении не могут не возникать тени прошлого… Под амбаром мне привиделся маленький мальчик в тряпье, играющий в пыли.
«Этот выжил. Он одолел и пустышку с жеваным хлебом… Не ошпарился он, когда опрокинулась бадья с кипятком. Не сожрали его и свиньи, когда наткнулись на него за хатой в корытце, где он шевелил, словно жучок, ножонками и ручонками и лопотал что-то по-своему. Не погиб он ни от варева из незрелых плодов, ни от конского навоза, что пихали ему в рот деревенские бабки, когда болел он коклюшем».
Звали этого мальчика Митря Кокор, и вы, верно, его знаете, если читали одноименную повесть Михаила Садовяну.
Конечно, я зашел в землянку к Кокорам. Две девушки сидели там у очага, да, живые девушки, художницы с текстильной фабрики, увлеченные работой. Они смотрели на жесткий топчан, накрытый домотканым полотном, и переносили с него орнамент в свои альбомы. Поразительный орнамент! Основа его проста — ромбы и полоски. Но как разнообразны их сочетания, с каким вкусом подобраны тона на красном фоне — зеленые, желтые, синие, как будто контрастные, спорящие между собой и все-таки сведенные в один цветовой аккорд!

Это сделала хозяйка бедной землянки при тусклом свете, сочившемся из крохотного оконца. Глаза болели от дыма, от горя. А покрывала на топчане, на сундуке, на подушке играют ручьями красок, смеются, Можно подумать, мастерица знала, что творения ее увидят другое время.
Народное искусство задохнулось бы, не будь надежды, его вдохновлявшей.
Я выхожу из землянки, проулком иду к водяной мельнице. Ветер гонит волну, она шевелит ветви плакучих ив, пошаливает с колесом. Кажется, мельница оживает, колесо со скрипом принимается за работу. И слышится, будто жалуется на свою судьбу батрак Митря Кокор.
Сотня шагов — и я из степного края перешел в горную Трансильванию. Здесь, в бревенчатом доме, тоже художники. Они срисовывают дубовые стулья на точеных ножках. Спинки стульев напоминают очертания скрипки. Среди сокровищ этого дома пастушеский посох. Его тончайший узор нанесен острием ножа. Сколько это требовало кропотливого труда, сколько бессонных ночей у костра, на высокогорном пастбище!
Сказочно хороши творения замечательных умельцев, народа-искусника, веками бившегося в путах!
«Маленький Париж»
Королевский Бухарест, город нищеты и роскоши, кичливо именовал себя «маленьким Парижем».
Говорят, основал его букур — чабан, — поставивший когда-то здесь свою хижину.
Лист зеленый, ствол паленый,
Город Бухарест хваленый,
Чтоб ты сгинул, провалился!
Зря к тебе я в путь пустился.
Твои улицы манили,
Жизнь хорошую сулили…
Так пели пахари и букуры, искавшие работы в столице.
Огромен королевский дворец, ныне Музей искусств. Его строили с явным намерением потягаться с Версалем и Веной. Об этом говорят и его размеры, и помпезная архитектура с отголосками барокко. Его коронованные обитатели владели еще ста тридцатью дворцами и замками, наделом земель общей площадью сто пятьдесят тысяч гектаров, акциями разных предприятий на четыре миллиона лей. Вольготно было королям распродавать иностранным концессионерам — немецким, французским, английским — уголь и нефть, медь и свинец, леса и речные пути Румынии.
Старожилы знают место на набережной речки Дымбовицы, где король оказывал милость народу. Происходило это каждую зиму, в день православного праздника крещения, в крещенскую стужу. Тысячи бедняков втягивались в крестный ход, возглавляемый митрополитом и королем. Лес хоругвей, облака ладана нависали над речкой, и король бросал в воду крестики.
Прыгай, ищи королевское золото! Прыгали в воду, поражая новичков, из года в год одни и те же нанятые, привычные к зимнему купанию молодчики. Не знали люди и того, что кресты — дешевка. Слегка позолоченные, а то и медные…
Вокруг королевского дворца, словно толпа сановников в нарядных мундирах, теснились богатые особняки. Горделивые, изобилующие лепными украшениями, они и сегодня рассказывают о своих былых хозяевах — тщеславных, кичащихся гербами и доходами, но часто нищих духовно. Изъяснялись в особняках по-французски, а по-румынски обращались лишь к прислуге: надо же было держать марку «маленького Парижа»…
Мало смущало «парижан» то, что в самом центре города была сделана свалка. Да, на пустыре, принадлежавшем именитому и наглому дельцу, возвышалась гора мусора. Он решил продать эту землю городу и заломил несусветную цену. А муниципальные власти упрямились. Он и велел свозить на свой пустырь мусор: этак скорее раскошелятся!
Тому, кто приезжает в Бухарест из скромной Софии, единственная роскошь которой — пышная зелень, румынская столица кажется особенно экстравагантной. Разница понятна: ведь в Софии не было аристократов, а денежная знать лишь набирала силу. Помещиками в Болгарии были сплошь турки и их вымели вместе с турецкими наместниками.
Не то в Румынии. Здесь родовитая знать продолжала здравствовать. Она легко перенесла в прошлом веке «освобождение» крестьян. И не удивительно: мужик, получивший крохотный кусочек земли за дорогой выкуп, не мог не остаться в кабале у помещика…
Расплодились еще и мелкие дельцы, старавшиеся во всем подражать вельможам. О таком дельце с ненавистью писал в прошлом веке Никулаз Филимон, автор книги «Старые и новые мироеды»;
«Он появился в эпоху фанариотов, облаченный в халат, с чернильницей у пояса; теперь же мы видим его затянутым в модный фрак, в безукоризненно белых перчатках, но по-настоящему творящим свое грязное дело».
Фанариоты — это греки из Фанара, стамбульского квартала ростовщиков, которым султан раздавал за взятку посты в вассальной Румынии. Многие потомки фанариотов стали управляющими имений, а потом, случалось, и сами завладевали господским добром.
Словом, орда мироедов, старых и новых, хозяйничала в «маленьком Париже» во главе с королем немцем. Они отличались и неуемной жадностью, и спесью, и космополитским презрением к румынскому народу. Все это отразилось и в их особняках — назойливо великолепных и словно свезенных из разных стран мира. Здесь вы увидите и башенки, подражающие то минаретам Стамбула, то куполам готических соборов, и славянские резные крылечки и терема, тут и ампирные колонны, и дворы с галереями в виде итальянских лоджий, и фигурные ограды садиков с фонтанами и скульптурами. Оплетенные виноградными лозами веранды, ковры плюща…
Бесспорно, сегодня мы любуемся многими зданиями, многими уголками Бухареста королевского, города необычайной пестроты стилей, но зато не скучного, создававшегося с фантазией, с южным темпераментом.
По центральной улице Виктория можно пройти к центру более новому, отстроенному в тридцатых годах нашего века нефтяными, пшеничными и пароходными магнатами. Здесь нас заставят задрать голову многоэтажные дома — ярко-белые, окруженные каштанами и липами. Должно быть, архитекторы мечтали воспроизвести в Бухаресте хотя бы кусочек парижских Больших бульваров, но получилось что-то сверхпарижское по ширине, по высоте построек, по купеческому размаху… Бухарест скорее напоминает в этом месте большие, быстро разбогатевшие города Южной Америки.
На площади Республики
В новом центре Бухареста, на площади Республики, меня охватило такое чувство, какое испытываешь в театре после блистательной премьеры. Хотелось громко аплодировать и вызывать на сцену автора.
Я не ожидал, что эта площадь так поразит меня. Ведь я уже немало интересного видел в Бухаресте. Меня порадовала цветущая Флоряска: ее уютные, веселые улицы, названные в честь выдающихся композиторов, своеобразное здание цирка, похожее на гриб с большой волнистой шляпкой. Я побывал и возле завода Красная Гривица — ветерана революционных боев. Там раскинулись улицы нового Бухареста — приветливые и, хочется сказать, хорошо одетые благодаря удачному подбору красок.
Видел я и «Дом Скынтейи». «Скынтейя» значит «Звезда». Это название крупнейшей румынской газеты. В Доме помещаются издательства, типографии — целый полиграфический комбинат. Многоэтажная громада четко вырисовывается на фоне синего неба, отражается в синей воде озера. Она немного близка по очертаниям университету на Ленинских горах. И место ее не менее выгодное. Без «Скынтейи» пейзаж столичной окраины с ее цепочкой степных озер выглядел бы плоским, скучным.
Показали мне и постройки в так называемом стиле Брынковяну, вызывающем много споров. Нет, это не имя зодчего. Есть не очень далеко от Бухареста дворец князей Брынковяну, памятник XVII столетия. Князья откуда-то привезли талантливого архитектора; он не копировал ни турецкие, ни византийские образцы, а пытался найти свой путь. Лента лаконичного, зубчатого узора под карнизом, небольшая галерея, сводчатые ниши, всего две на весь фасад, — все это детали, разумеется, восточные, но как бы смягченные и без чрезмерностей в отделке.
Подражатели доводили стиль Брынковяну до кричащей безвкусицы; свидетельство тому — уродливость некоторых богатых старых особняков. Теперь одни отвергают этот стиль, другие же ищут в нем зерно национального румынского зодчества. И находят! Детали дворца Брынковяну, чаще всего рисунок его арок, нередко проявляются в новых сооружениях. И нисколько не портят их. Напротив! Они украшают и крупные, нарядные городские здания — тот же «Дом Скынтейи», и загородные и сельские коттеджи.
Но вернемся к площади Республики.
Легко понять, какую сложную задачу взялся решить архитектор площади — архитектор, кстати говоря, коллективный. Это ведь посложнее, чем построить серию коттеджей, городскую улицу или даже жилой квартал. Бухаресту нужен был новый центр.
Бухаресту! Городу, вобравшему в себя множество стилей. Городу, обаяние которого заключается именно в этой игривой, своевольной, не скованной канонами пестроте…
Я пробую проникнуть в творческую лабораторию архитекторов. Я не знаком с ними, я знаю их только по их творению. Они, конечно, часто задавали себе вопрос: какой же из стилей лучше всего подойдет к облику Бухареста?
Может быть, повторить с многоэтажным увеличением скромный, двухэтажный фасад Брынковяну? Но ведь из такого повторения получится скорее декорация для исторической оперы, чем дома, предназначенные украсить площадь живого современного города.
И на листах ватманской бумаги появились чертежи зданий простых геометрических линий. «А это не скучно?» — спросит читатель. Подождите! Зодчий распоряжается не только объемами, у него в распоряжении еще краски.
И что же вышло?
Площадь образует обширный неправильный четырехугольник с разрывами, с закруглениями. Посередине, над коврами газонов, Дворец республики. До сих пор я именовал площадь сокращенно. Площадь Дворца Румынской Народной Республики — вот ее полное название.
Невысокий свод дворца, закрепленный лишь в четырех местах, точно приподнят ветром, а вместе с этим кровом-платком, кажется, поднимается кверху, обретает легкость все здание с ребристыми фасадами, бетонный монолит, вмещающий в своем зале тысячи людей.
Остальные здания на площади жилые. Их всего пять. По размерам, по рисунку гладких фасадов они все одинаковые. Все, кроме одного. Каждая сторона площади — это громадный десятиэтажный длинный домина. И только одно здание нарушает этот строгий ранжир, взрывает его своей семнадцатиэтажной высотой.
Вы спросите: что же в этом нового? Каков же результат поиска архитекторов? Вторжение холодной геометрии в разноликий пестрый город…
Однако не веет холодом от этих построек. И нет в них однообразия. Да, по всей стороне площади все по линейке: и ряды окон, и столбики нижней галереи, пестреющей витринами магазинов, и чердачные оконца под плоским козырьком-карнизом, сливающиеся как бы в точечный орнамент. И все-таки дома разные!
Что это, иллюзия, обман зрения? Нет, все дело в расцветке. В красках, которыми градостроители частенько пренебрегают.
Дома стоят веселые, жизнерадостные, с цветными поясками. Одним цветом залиты ряды окон, другим — стена между этими рядами. У каждого дома свои цвета, Подбор их — замечательная художественная находка. Зодчие, должно быть, немало потрудились, испробовали в своей мастерской сотни вариантов, чтобы избежать разнобоя, нестройной чересполосицы. Составили гамму красок, игру тонов — голубых, синих, зеленых, оранжевых…
«Но позвольте, — спросите вы, — разве эту гамму не разрывают черные провалы окон или пестрота занавесок, штор, жалюзи?» Нет, всюду цветные шторы, предусмотренные проектом.
И вот еще деталь — ограждения из пластика на балконах. Тоже в цвет.
Не знаю, удалось ли мне понять до конца секрет бухарестского чуда. Но чудо налицо: громадные здания кажутся воздушно-легкими. Бетон не давит и не утомляет. Геометрия простых линий стала поэтичной, площадь на диво вросла в Бухарест, хотя она не покорилась ни одному из его былых зодчих, спорит со всеми…
Вечер. Зажигаются фонари, витрины. Толпы гуляющих вливаются на площадь с бульваров, с калья Виктория. Тянутся к новому центру столицы, в котором радостно и широко раскрылась душа народа-художника,
Миорица
Тот вечер на празднично шумящей площади был для меня последним в Бухаресте. Хотелось бродить как можно дольше. Томили мысли о чем-то неувиденном, о каких-то несостоявщихся встречах. Извечная обида человека на время, которое нельзя ни остановить, ни растянуть…
А площадь развлекала меня как могла. Она предлагала мне для разгадки афиши, и одну я прочитал. Афиша приглашала в Дом культуры «Гривица Рошие», то есть «Красная Гривица», на бал совершеннолетних.
Площадь звала меня испытать счастье в лотерее. Выигрыши вручаются на месте, немедленно! Подхваченный потоком гуляющих, я приблизился к столику с вертушкой. Нетерпеливые руки вытаскивали из нее свернутые билеты. Разверни и получай, если тебе повезло! Азарт окружающих, горячий азарт южан передался мне, и я уже опустил руку в карман с намерением отдать во власть фортуны свои последние леи и спохватился… А сувениры?
Витрины магазина сувениров уютно мерцали на галерее высотного здания. Магазин гостеприимно раскрыл мне свои двери. Что же купить?
Вышивки, карпатские трубки, трости, расписные деревянные бочонки для вина, настенные украшения, керамика, полочки с кувшинами… И тут на меня глянула Миорица. Овечка Миорица из народной баллады. Я еще не рассказал вам о ней. Я видел ее — памятник-фонтан — за озером Хэрэстрэу, где о городские стены плещет степь, извечная степь букуров и овечьих отар.
Есть сигареты «Миорица», конфеты «Миорица». И кажется, кафе «Миорица».
Город отодвинул степь, но славная овечка Миорица не испугалась автомашин, света фонарей, она прижилась и в столице…
Шли по степи три отары, гнали их три букура: один — из Молдовы, другой — из Трансильвании, третий — с лесистых холмов Вранчи. И задумали двое букуров убить третьего — пастуха-вранчанина, веселого и доброго парня. У него, вишь, овцы жирнее и шерсть у них богаче, шелковистей.
Услышала это Миорица, любимая ярка вранчанина, и побежала к нему, чтобы предупредить об опасности. Но смерть парню не страшна. Одно желание у букура: пусть его похоронят в родной степи, у овечьего загона.
В головах положи
Мне из бука рожок —
В нем любви огонек,
Да из кости рожок —
Ласков в нем голосок,
Да бузинный рожок —
Он всех жарче поет,
Когда ветер в него
Дует, плачет, зовет…
Так должна сделать ярка. А если мать спросит о судьбе сына, то пусть скажет Миорица: женился сын, женился в чужой, дальней стороне.
Убили ли парня — неизвестно. Дойна о Миорице, гениальное творение неведомого поэта, не рассказывает о смерти вранчанина. Сквозь печаль она славит жизнь.
Сейчас, когда я пишу эти строки, на меня смотрит Миорица, милая волшебная овечка. Всегда будет на моем столе кусочек Бухареста, фонтан-памятник в честь вечного букура, вечного труженика и слагателя песен.
Легенда не ошиблась, — это он основал Бухарест и не устает его строить.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ