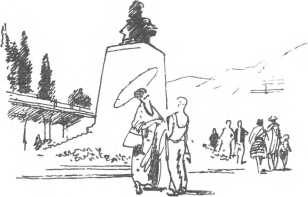 Глава восьмая
ТЫСЯЧУ РАЗ ГЕРОЙ
Глава восьмая
ТЫСЯЧУ РАЗ ГЕРОЙ
Работа моя подходила к концу. И снова, в какой уже раз, мы встретились с Василием Ивановичем Тонушкиным. За минувший год произошли существенные изменения: Василий Иванович стал не только первым действующим лицом этой книги, но и моим постоянным советчиком, оппонентом — словом, соучастником, если можно так сказать.
Говорили о разном и в первую очередь, конечно, об авиации, на этот раз о потенциальных командирах кораблей — о тех, кто еще не числится в списках экипажей, но кто непременно придет к штурвалу.
— Молодым надо обязательно рассказать не только о буднях нашей работы, но и о праздниках тоже, — сказал Василий Иванович.
Это было несколько неожиданно. И я спросил:
— В каком смысле о праздниках?
— В буквальном. Кто первые Герои Советского Союза? Летчики. А где больше всего дважды Героев? В авиации. И трижды — тоже в авиации. Вот и надо взять такого выдающегося летчика, да и рассказать, как он достиг своего потолка. По-моему, это было бы правильно. Ведь на каждом маршруте должны быть свои контрольные ориентиры…
Довод показался мне справедливым: контрольные ориентиры действительно необходимы, и чем они крупнее, чем ярче, тем лучше.
Еще рано, а солнце уже не греет, не печет и даже не парит, солнце жжет. Жжет упрямо, неумолимо, будто с цепи сорвалось. Лист не выдерживает, сворачивается, трава не терпит — пригибается, небо и то сдается — за каких-нибудь полчаса посветлело, вылиняло, словно старый матросский гюйс.
Алупка раскалилась. Асфальт хватает за каблуки. В такой день одно спасение в море. Кажется, весь город перебазировался на пляж; народу у воды видимо-невидимо, и все идут и идут новые люди.
Впрочем, бог с ними со всеми, хочу увидеть одного. Только одного из всех. Он быстрый, нет, не просто быстрый, он стремительный, он уже немолодой, но в чем-то совершенно по-прежнему мальчик: то ли фигура такая, то ли озорной взгляд, то ли посадка головы. Он с виду незаметный, самый незаметный из десяти обыкновенных людей, и все-таки он удивительный, пожалуй, один из самых удивительных представителей нашего поколения…
Вот он! Быстро-быстро переставляет ноги, обутые в старенькие, стоптанные тапочки. На нем потрепанные тренировочные брюки. Через плечо перекинуто мохнатое полотенце. Спешит. Спешит, как все, к морю.
Левым разворотом обходит площадь. Для такой жары он набрал великолепную скорость. Еще немного — и ринется бегом. Нет, не ринется. Непредвиденная задержка. Его курс перерезает курортная дама: пестрый халатик-сарафан, войлочная широкополая шляпа, зеленовато-желтые очки-фильтры, зонтик на тонкой блестящей ножке.
— Простите, — говорит дама, — я бы хотела узнать: вы случайно не его отец? Чем-то похожи. — И дама показывает зонтиком на бронзовый бюст, установленный в центре площади.
Бронза тщательно подчеркивает гордый завиток чуба. Бронза отчетливо передает и молодой порыв, и дерзкую волю, и стремительность взгляда. В одном только благородный металл скуп — в надписи: «Дважды Герой Советского Союза Султан Амет-Хан».
Сначала он смотрит на даму. Потом на свой бронзовый бюст. Взгляд быстрый, как пулеметная очередь. Отвечает без улыбки, совсем серьезно:
— Отец. Отец. Ему — отец. Правильно. — И поспешно исчезает.
А когда дама остается за спиной, Султан трогает ладонью широкую, изрядно облысевшую голову, сгоняет морщины ото рта к ушам и тихо смеется:
— Отец! Конечно, ему — отец! — И вприпрыжку бежит к морю.
У входа на пляж новая задержка. Разомлевшая от жары девица — страж курортной законности и порядка останавливает Султана грозным рыком:
— Пропуск!
— У меня нет пропуска.
— Нет пропуска, так куда лезешь?
— Что — лезу? К морю. К Черному морю.
— Это же дважды Герой Советского Союза Султан Амет-Хан. Ему на площади бюст поставлен. Ты что, не соображаешь? — пытается помочь Султану какая-то незнакомая доброжелательница.
Но девицу, не избалованную утонченным воспитанием, несет:
— А по мне пусть он хоть четырежды Герой. Мне наплевать на это. Мне пропуск давай. Есть — иди, нет — поворачивай…
Поворачивай? Тебе, значит, наплевать? На кого ж тебе, интересно, плевать? Лично на меня или на всех, кто воевал за это море, за эти горы, за это небо? Только на живых или на мертвых тебе плевать тоже? Может быть, тебе на все и на всех плевать? Стоп. Не волнуйся, Султан. Не выходи из себя. Ну, какой тут рубеж — всего-навсего калитка, ведущая к морю, всего-навсего глупая, нахальная девчонка на краю алупкинского городского пляжа. Спокойно, Султан.
И он молча идет вперед. Глаза в глаза — и идет. Только одна бровь чуть приподнята, только губы поджались. Вот так он смотрел когда-то в перекрестье коллиматорного прицела: сдержанно, уверенно, не мигая.
— Вот черт! — говорит девчонка ему вслед и никак не может понять, почему она все-таки пропустила этого странного человека. Действительно, почему? Ведь могла бы и настоящий скандал учинить и в свисток засвистеть могла бы. Есть у нее свисток…
А он уже забыл о девчонке. Увидел море и все забыл. Зеленоватое, в свежей мыльной пене у берега, море сегодня ласковое и спокойное. Султан смотрит вдаль с удивлением и тихой радостью, будто давным-давно не видел этой красоты.
Море велико, почти как мир, море полно неожиданностей, почти как жизнь, море — это… хорошо, очень хорошо, почти как небо.
Очень давно маленький Султан должен был написать школьное сочинение на всем известную старую-престарую тему: «За что я люблю свою Родину». Не мудрствуя лукаво, он вывел на тетрадном листе: «За Черное море, за Ай-Петри». Больше он ничего не придумал тогда. Ему поставили двойку. И он никак не мог понять почему. Ведь написал человек правду, чистую правду.
Взрослый Амет-Хан, дважды Герой страны, лауреат, заслуженный летчик-испытатель, многократный кавалер высших орденов Родины, комментируя это достопамятное событие, замечает вскользь:
— Ты понимаешь, что получилось: я тогда еще общих слов не знал.
— А теперь?
— Теперь, конечно, знаю, но все равно не люблю. Черное море — это моя родина. И Крым — это моя родина. И Ай-Петри — это моя родина. Не будет Черного моря, не будет Крыма, не будет Ай-Петри, ну, для чего мне тогда жить?
Вот здесь, на этом самом ласковом берегу, все и началось. Мальчишка валялся на пляже, глядел в бескрайнюю морскую даль, прислушивался к переменчивому голосу моря и, сам того еще не понимая, покорялся великой силе неизмеримого пространства.
В городе была школа — скучные уроки, казенное однообразие классов, гудевших тяжелым мушиным гудом; там были бесконечные нотации, бессчетные наставления на путь истинный; там каждый новый день в точности повторял день предыдущий. А здесь море распахивало свои синие объятия и браталось с голубым куполом неба; здесь жила волнующая, все время изменявшая цвет, запах, облик бесконечность мира; здесь вольные птицы пилотировали над серыми камнями берега с лихостью и азартом боевых истребителей. Словом, здесь была настоящая жизнь.
Как это случилось, он не знает — не заметил, не запомнил, не понял до сих пор, но это случилось: мальчишка перестал принадлежать плоской земле, ее унылым одинаковым домам, ее размеренной, словно ход стенных часов, повседневности. Султан Амет-Хан отдал себя пространству, которое принадлежало птицам.
Сначала это была только мечта. Но пришло время, и начались действия: едва дотерпев до окончания школы, он перешел в ФЗО, одновременно поступил в аэроклуб. Планер, парашют, старый, добрый У-2 вывели его на воздушную дорогу. Шаг, другой, третий — и слесаришка-паровозник Амет-Хан завоевал право поступить в одну из старейших истребительных школ страны. Еще шаги. Еще год — и младший лейтенант Военно-Воздушных Сил Султан Амет-Хан, пилот боевого И-16, прибыл в строевую часть.
Казалось бы, все удалось, все сложилось как нельзя лучше и проще. Пилот И-16, младший лейтенант Военно-Воздушных Сил — это звучит, вероятно, очень внушительно. Но не надо обольщаться: младший лейтенант образца 1940 года, закончивший сокращенный курс обучения (был такой курс), имел за своими мальчишескими плечами всего-навсего десять часов самостоятельного налета. Младший лейтенант умел с грехом пополам взлетать, весьма осторожно маневрировать (преимущественно в горизонтальной плоскости) и, покрываясь от напряжения холодным потом, приземляться на собственном аэродроме. Скажем прямо: его окунули в безграничное голубое пространство, прозаически именуемое небом, но к войне, настоящей войне не на жизнь, а на смерть, не подготовили.
Как на грех, он еще не понравился командиру полка. Не пришелся ко двору, и все — хоть сдохни, а ничего не изменишь.
Командир полка «придерживал» не приглянувшегося ему младшего лейтенанта, ограничивал в тренировочных полетах, «жал» на самолюбие, готовился и вовсе выставить из полка.
А время шло. Время приближало день начала войны. Все двигалось, все изменялось, только Султановы крылья никак не увеличивались в размахе. Так и встретил он грозу если уж не совсем птенцом, то и далеко не грозным сталинским соколом, очень далеко.
Мы сидим за столом, прислушиваемся к приглушенной радиопередаче, и вдруг Султан говорит:
— А ты помнишь, как про нас тогда говорили? Орлы из курятника.
И я вспоминаю: действительно говорили. Именно так говорили. Слушать это было ужасно обидно. Но что возразишь против правды? Мы отмалчивались или отшучивались, смотря по характеру, смотря по темпераменту. Но мы не сдавались, мы свято верили в главное — фашизм надо одолеть. Не одолев фашизма, жить нельзя. Пожалуй, только эта святая вера и давала нам надежду отрастить настоящие несгибаемые крылья. И мы отлично понимали: вырастить крылья — такой шанс есть не у всех. Заработать крылья можно только большим потом, большой горячей кровью.
Сначала Амет-Хан летал на «чайке». Драться не приходилось. День за днем — штурмовики. Малая высота, прижимаясь к макушкам деревьев, «вылизывая» овраги, пересекали линию фронта, выскакивали на дороги, охотились за колоннами врага на марше. Били из пулеметов, бросали бомбы и спешили домой.
Дома — заправка, зарядка и новый вылет.
Найти и поразить цель, нанеся максимальный ущерб живой силе и технике противника, — так примерно формулировался боевой приказ на бумаге.
Но стоило взлететь, и все смещалось: сердце одолевала тревога — как бы не потерять ориентировку, как бы не сбиться с пути, как бы разыскать свой аэродром раньше, чем кончится горючее. Ведь по маршрутам до войны почти не летали и малых высот боялись, как черт ладана.
А летать бреющим и на самом деле трудно. Ты свистишь над землей в каких-нибудь двадцати-тридцати метрах, пейзаж будто с тормозов сорвался, мелькает и исчезает под крыльями. Вот проскочило село, а какое — Ивантеевка или Щелкуны? Обернуться бы, уточнить — нет, не обернешься, не уточнишь: земля рядом. Зевнешь — и родная земля уничтожит тебя вернее любого «мессершмитта». Удар, взрыв, черный надмогильный столб дыма, и поминай как звали тебя, человек.
Штурмовать с малых высот трудно. Штурмовать надо уметь. Если не умеешь, научись, иначе не доживешь до победы.
Научись! На этот раз сакраментальное требование предъявляли не школьные учителя, не въедливый завуч: «научись», требовала боевая обстановка. Или научишься, или пропадешь так говорила сама жизнь.
И Султан понял — научиться надо.
Сто семьдесят боевых вылетов на штурмовку противника, выполненные за первый год войны, выполненные к тому же на устаревшем истребителе «чайка», — вот так он сдал свой первый военный зачет. Кстати, это была и пятерка, первая вообще в его жизни.
И еще одну очень важную науку преподала ему разворошенная войной земля. Летая в тыл противника, Султан своими глазами видел печные трубы вместо домов, скореженные груды железа вместо ажурных мостов, бурые руины вместо нормальных признаков жизни, танковые следы вместо золотых простынь пашен, он видел золу и пепел там, где должны были зеленеть сады.
Земля учила его святой науке ненависти.
Нельзя победить врага без танков, без самолетов, без техники, без надежного арсенала всех видов оружия, но никакие сверхмощные танки, никакие сверхскоростные самолеты, никакие ракетные установки не принесут решительной победы, если солдат не будет вооружен настоящей ненавистью к врагу.
Год войны дал боевой опыт. Год войны дал ярость. Не было только ни одной победы в воздушном бою.
А тут, как назло, полк отозвали в тыл. В тылу предстояло переучиться на английский истребитель «харрикейн». Переучились, поставили в ПВО…
Здесь я отвлекусь.
Однажды, еще до перебазирования в тыл, Султан сказал приятелю-инженеру:
— Ну, я не я буду, если до первого июня хоть одного не собью.
Сказать-то сказал, а сбить не пришлось. Не представился случай. А случай на войне, как известно, важная персона.
И вот 30 мая 1942 года приятель напомнил:
— Так где ж твой немец, Султан? Май как будто кончается? Ты, понимаешь, на свадьбе гуляешь, а немцы летают…
Действительно, война войной, а предыдущий вечер Амет-Хан провел на свадьбе своего друга. И немцы летали. Приятель ничего не передернул, ни в чем не уклонился от истины. Султану сделалось ужасно обидно, и он сказал:
— А завтра что — не день? — Ничего не сказать он не мог.
31 мая 1942 года Султан Амет-Хан был поднят по тревоге. На высоте семь тысяч метров увидел: летит. Он — Ю-88, Одиночный. Видимо, разведчик. Это было редкое и крупное везение.
Амет-Хан развернулся в атаку.
Если два самолета сближаются со скоростью всего лишь в шестьсот километров в час, то и при этом скромном условии за минуту исчезают десять километров. Теперь учтите, что пилоту редко когда удается заметить противника дальше чем за два километра, значит на принятие решения, выполнение маневра и ведение огня остается каких-нибудь десять-двенадцать секунд. Согласитесь — не много. А если человек идет в свою первую атаку, на своего первого противника, то это и совсем уже мало.
Султан очень спешил. И пулеметы «харрикейна» расстреляли весь боезапас раньше, чем машина вышла на дистанцию действенного огня.
В первый момент Амет-Хан даже не понял этого. Но он сообразил другое: «Пулеметы молчат. Ю-88 идет на город. Я проскакиваю».
И тогда он подхватил машину в сумасшедший боевой разворот. Небо почернело. Небо всегда чернеет, когда перегрузка — неизменная спутница ускорений — ослепляет на миг пилота. Земля качнулась и резко побежала в сторону. Султан вышел в хвост Ю-88.
Ю-88 летел к городу.
Газ от себя до упора, ручку тоже от себя. Скорость! Ему нужна была скорость. Самая большая скорость. Иначе не догнать.
Султан догнал его. Догнал и ударил всей живой силой своей машины, всей накопленной за год ненавистью, всем азартом своего двадцатидвухлетнего сердца.
И Ю-88 рухнул. Правда, «харрикейн» тоже начал разваливаться в воздухе.
Амет-Хан приземлился на парашюте. Это случилось 31 мая 1942 года в 6 часов 45 минут утра.
Трофей Султана — обломки Ю-88 вскоре после этого памятного дня были доставлены на главную площадь тылового волжского центра и выставлены там для всеобщего обозрения, а сам герой таранного удара произведен в высокий сан почетного гражданина этого старейшего русского города.
Так было.
Так и не так.
Первое озарение славой — радостное событие. Звание почетного гражданина тоже удовольствие. Возможность спросить у коварного приятеля: «Ну, так что я тебе говорил?» — прямо скажем, редкостное наслаждение. Но все это — лицевая сторона медали. А оборотная — вот: Султан понял — таран удался случайно. И вообще воспетый на земле «соколиный удар» — худший вариант воздушного боя.
Во-первых, потому, что счет потерянных на таране машин почти неизменно: один — один. Во-вторых, потому, что вероятность гибели обоих экипажей почти равная. Значит? Значит, таранами войну не выиграешь. Значит? Значит, надо учиться драться, маневрировать и стрелять так, чтобы на землю падали только самолеты противника, а ты возвращался домой своим ходом. Возвращался бреющим, и крутил над стартом восходящую «бочку», и салютовал бы сам себе очередью из непременно оставшихся про запас снарядов…
Сорокапятилетний Амет-Хан, вспоминая минувшее, говорит:
— Ты понимаешь, какая штука получается: в конце концов вся война от первого до последнего дня — сплошная учеба, сплошной университет.
Все правильно теперь про нас пишут — и про то, как мы дрались, как стреляли, как сбивали, и про то, как нас сбивали, но не надо забывать, что труднее всего было учиться. Все время ведь учились, особенно под Сталинградом досталось.
Как сбивают самолет противника?
Теоретически так: сначала его находят в небе, затем убеждаются, что обнаруженная цель — действительно противник (замечу, кстати, что спутать, например, собственный ПЕ-2 с немецким Ме-110 было проще простого), после этого принимают решение, как лучше атаковать врага (слов нет, лобовая атака — эффективный прием, но все же надежнее заходить с хвоста, если возможно), далее строят решительный, скоротечный маневр, позволяющий тебе навязать свою волю чужому летчику, маневрируя, сближаются (чем энергичнее, тем лучше), сократив дистанцию (практически не более чем до ста метров), прицеливаются, вводя поправки на скорость цели и ее ракурс, после этого плавно, чтобы не сбить наводки, нажимают гашетки. Вся эта работа выполняется в считанные секунды.
Если ты сработал все правильно, противник должен быть поражен, но это теоретически.
А на практике картина выглядит несколько иначе: ты ищешь противника, но и он ищет тебя; ты ловишь наивыгоднейший момент для начала маневра, но и он не дремлет; ты идешь на сближение, но и он тоже идет на тебя. Побеждает воля — это верно, побеждает смелость — тоже верно, побеждает преданность делу, которому служишь, — и это бесспорно, но все высокие моральные качества боевого летчика обретают максимальную цену при одном совершенно необходимом условии: ты должен быть вооружен еще и высочайшим профессиональным уменьем, ты должен быть действительно мастером, а не подмастерьем, и горячая дрожь машины на резком маневре должна восприниматься тобой как твоя собственная дрожь; ты должен чувствовать каждое дыхание своего истребителя, не взглядывая на приборы, знать: у машины есть еще «запас» — капли мощности, крохи маневренности, пылинки скорости. Взять в последний момент этот резерв, бросить его на врага — вот это и дает победу.
Вскоре Амет-Хан переучился на истребителе ЯК-7. Это была уже не «чайка» и не английский «харрикейн». Скоростной, вытянутый, словно веретено, вооруженный мощной пушкой, способный отлично маневрировать и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях, новый истребитель впервые позволил нашим летчикам драться с противником на равных.
На яковлевском истребителе Амет-Хан прилетел под Сталинград.
Город дымился, город терял, казалось, последние капли крови. И естественно было ожидать, что воздушное пополнение будет с ходу брошено в дело.
Но вопреки абсолютной очевидности такого решения, этого не случилось.
Командир вновь организованного истребительного полка, ставшего впоследствии легендарным, Герой Советского Союза Лев Шестаков — да будет ему земля пухом! — выхлопотал у командования месяц на подготовку.
Месяц на войне! Месяц в критические сталинградские дни! Можете ли вы вообразить, что это такое?
Сталинград истекал кровью. Небо над городом сделалось бурым от дыма и пепла, а летчики Шестакова тренировались в нескольких километрах от линии фронта.
Жестоко? Вероятно. Но ведь и вся война — чудовищная жестокость. Голыми лозунгами не побеждают. Слова на войне имеют скорее даже отрицательное значение…
Пилотаж, пилотаж, пилотаж. Каждый день. До седьмого пота. Ниже, орелики, ниже, еще ниже. Вы не должны бояться земли. А теперь темп, темп, темп. Наращивайте темп, черти! У вас трещат хребты? Вот и хорошо, пусть трещат. Это как раз то, что нужно! При таком темпе в настоящем воздушном бою затрещат хребты и у немцев тоже, а тогда-то мы и посмотрим: кто кого?
Теперь слетанность. Замполит говорит: «Ведомый — щит героя». Николай Верховец знает, что говорит. Такого комиссара дай бог каждому летчику — душа-человек и истребитель настоящий. «Мотайте своих ведомых, герои, — говорит комиссар, — пусть жалуются, пусть пищат, пусть рыдают на тренировках. Зато завтра, в бою под Сталинградом, они спасут вам жизнь. Герой без щита, — говорит комиссар, — не герой, а покойник. Хватит! Нам не нужно больше покойников. Вся Россия плачет уже по тем, кого нет и никогда не будет на свете. Нам нужны герои. Тренируйтесь, слетывайтесь, не теряйте время».
А Сталинград медленно угасал. Казалось, в развороченных руинах большого города не осталось уж никакой жизни, никакой крови. Казалось, началась агония.
Летчики смотрели на своего командира.
«Когда?» — спрашивали запавшие, сухие глаза. «Когда?» — спрашивали плотно сжатые, потрескавшиеся на ветру и морозе губы. «Когда?» — спрашивали натруженные руки.
Шестаков был сдержанным, строгим, немногословным по характеру человеком. На первый взгляд казалось: заперт на глухой замок. Он делал вид, что не замечает немых вопросов. Говорил:
— Завтра проводим тренировочные стрельбы. Прошу обратить особое внимание на дистанцию открытия огня…
Месяц под Сталинградом показался длинным, как жизнь.
И наконец, дождались: вылетаем на боевое задание. Приказ был как приказ: произвести свободную охоту. Расписание вылетов прилагалось. И все же это был удивительный приказ, во всяком случае, один из его пунктов просто-таки поразил летчиков: «Воздушные бои завязывать и вести только над расположением своих войск».
Почему? Почему? Почему? Мы же на ободранных «чайках» лазали по тылам противника? Мы же на стареньких «ишаках» дрались над оккупированной землей? Мы же тогда были совсем зелеными, и то?..
Командир может отвечать на вопросы своих подчиненных, а может и воздерживаться от ответов — это его командирское право.
Шестаков ответил:
— Пусть многострадальная матушка пехота, исштурмованная Ю-87, избомбленная Ю-88, обстрелянная «мессерами» и «фокке-вульфами», увидит, наконец, как мы будем их бить. Бить пачками. В хвост и в гриву. Вы можете их бить, я знаю. Вы будете их бить, я уверен.
За очень короткий срок Амет-Хан срубил над Сталинградом шесть немецких самолетов. Шесть! Факт, достойный славы, удивления, самых высоких похвал, но, рассказывая о той поре, сам Султан подчеркивает другое:
— Какая там мясорубка была, невозможно передать, а наш полк, полк Шестакова, не имел ни одной боевой потери над Сталинградом. Ни одной. Вот что значит уверенность. Вот что значит подготовка. Вот что значит дело. Если ты на самом деле будешь писать про меня, обязательно отметь этот факт. Жирным шрифтом отметь. Ладно?
Рассказать об Амет-Хане на войне нелегкая задача. Если внимательно прислушаться к тому, что говорит сам Султан, и до конца поверить ему, получается: четыре с половиной года войны — постоянный университет.
Вот примерная программа этого университета: сначала привыкали не бояться своих собственных машин, привыкали к «чайке», «харрикейну», нескольким модификациям «Яковлевых», «кобре», «Лавочкину»; параллельно обучались практической навигации: раз глянул на землю и тут же ориентируешься, где свои, где чужие, где север, где юг. Потом овладевали искусством воздушного боя. Ведь одно дело — сформулировать, например, такой правильный закон: «Хозяин высоты — хозяин боя», и совсем другое дело — перевести эту формулу в четкий маневр пары, звена, эскадрильи истребителей.
До войны летчики учили тактику. На войне пришлось создавать тактику. Военное искусство, как, впрочем, любое настоящее искусство, не терпит слепого повторения одних и тех же приемов. Ни одна воздушная схватка не должна была повторять предыдущей. Неожиданный маневр ошеломляет, неразгаданная хитрость приводит в тупик, расчетливая дерзость повергает противника в панику… А ошеломленный, растерявшийся, впавший в панику противник — это уже наполовину жертва…
«Военный университет» Амет-Хана был долгим и очень трудным. Пересказывать весь его курс, значит непременно залезать в дебри науки побеждать. Это специальная материя, к тому же материя, требующая сухих цифр, четких определений, тактических схем.
А мне бы хотелось рассказать об Амет-Хане на войне какими-то очень напряженными, звенящими, возвышенными, если хотите, словами. Ведь человек изо дня в день совершал подвиг за подвигом. Мальчик-лейтенант вытянулся в военного мужа, гвардейского майора, заместителя командира полка. Он сам изо дня в день летал в бой, он водил в бой молодых, он дрался с самыми прославленными истребителями фашистской Германии и выходил победителем из всех боев.
Но как произносить мне эти так называемые «приподнятые» слова, когда Султан боится слов, особенно звучных, больше, чем дюжины остроносых «мессершмиттов» сразу.
Нет, слова не должны звенеть. Пусть уж лучше выскажутся несколько цифр. За годы Великой Отечественной войны Султан Амет-Хан выполнил боевых вылетов — 603. Он сбил самолетов противника 30 лично и 18 в группе. По состоянию на 1 января 1965 года Султан Амет-Хан награжден:
Золотыми Звездами Героя Советского Союза 2.
Медалью лауреата Государственной премии 1.
Орденами Ленина 3.
Орденами боевого Красного Знамени 4.
Орденом Александра Невского 1.
Орденом Отечественной войны I степени 1.
Орденом Красной Звезды 1.
Орденом «Знак Почета» 1.
Оборонными медалями 4.
Замечу в качестве примечания: за последние пятнадцать лет мне ни разу не довелось видеть Султана Амет-Хана во всех его высоких регалиях.
Окончилась война. Грохнул и умолк последний салют. Золотом по мрамору мы поклялись: «Вечная слава героям, павшим в боях за независимость нашей Родины». Затихли оркестры. Прошло затянувшееся похмелье победителей. На земле снова стало тихо.
Живым надо было жить.
Гвардии майора Амет-Хана откомандировали в военную академию имени Фрунзе.
Его ждали чинные аудитории, аккуратно наклеенные на полотно карты; оружие с просверленными казенниками стволов — это оружие не должно было стрелять, оно должно было собираться и разбираться; игрушечные макеты военных объектов, миниатюр-полигоны, выполненные руками первоклассных декораторов…
В высоких академических стенах Султану предстояло осмысливать и переоценивать боевой опыт — свой, противника бывшего и противника вероятного.
Амет-Хана хватило на неделю.
Нет, не трудности академической программы сразили боевого летчика. С этими трудностями можно было еще сладить. Его ввергло в грусть и отчаяние ощущение замкнутого пространства, в котором он очутился. Между Султаном и небом залегли этажи прославленного учебного заведения.
Этажи, этажи, этажи…
А над этажами перехлестнулись балки, а над балками вознеслись стропила, на стропилах лежала крыша… И вся эта многослойная «броня» должна была удерживать его пять долгих лет. Султан запросил пощады:
— Не могу я не летать. Не могу.
— Тебе надо учиться, — говорили Амет-Хану. — Положа руку на сердце признайся: тебе ж не хватает знаний, военной культуры, кругозора. Академия сделает тебя широкообразованным офицером. Надо же смотреть в будущее.
— Это правильно. Все правильно. Согласен. Но я не могу не летать.
В конце концов ему пошли навстречу, перевели в Военно-Воздушную командно-штурманскую академию. Обещали: здесь будешь учиться и периодически подлетывать, не очень часто придется летать, но пилотировать не разучишься.
Из замкнутого пространства Султана выпустили в пространство ограниченное. Это он почувствовал очень скоро.
Есть рыбы, способные жить в аквариумах, некоторые даже дают потомство, не замечая ни стеклянных стен, ни электрической подсветки, имитирующей солнце, ни искусственных гротов, предназначенных, видимо, для рыбьего уюта… Но то рыбы.
Султан понимал, как правы его фронтовые товарищи, недавние герои воздушных боев, мертвой хваткой вцепившиеся в академическую науку. Он знал: эти ребята со временем станут генералами, им доверят командовать частями, соединениями, может быть даже всеми Военно-Воздушными Силами страны. Он от души желал им маршальских звезд и головокружительных успехов. А сам… Впрочем, вот его подлинные слова:
— Со второй академией я покончил в шесть месяцев. Подал рапорт — демобилизовался. Понимаешь: я хотел летать. Летать для меня самое главное. Это не только профессия — это жизнь.
Султан Амет-Хан выбрал себе трудную судьбу, судьбу летчика-испытателя.
Да-а, он-то выбрал себе судьбу, а вот судьба совсем не торопилась сделать его своим избранником. Судьба в облике начальника отдела кадров задавала вопросы:
— Общий налет? Образование? Семейное положение? Происхождение? Национальность? Место рождения?..
Вопросов было очень много.
Категорического отказа не последовало, но и распоряжения о зачислении на должность летчика-испытателя тоже не было.
— Подумаем, товарищ Амет-Хан, посоветуемся. Зайдите через недельку. Договорились?
Он приходил в назначенный срок, и все повторялось сначала: вопросы, глубокомысленное созерцание пейзажа за окном и назначение новой встречи.
Наконец кончилось все: терпение, деньги, уверенность. И тогда Султан, кажется, впервые в жизни обратился за помощью в «личном вопросе».
Генерал Хрюкин, хорошо знавший Амет-Хана по войне, веривший в его прирожденный талант летчика, позвонил увертливому кадровику. И все сразу переменилось.
— Вы лично ручаетесь, товарищ генерал? Тогда все в порядке. О чем речь, товарищ генерал! Пусть завтра же ваш Амет-Хан приезжает оформляться. Конечно! Конечно! Все будет хорошо, товарищ генерал.
Действительно, с точки зрения кадровых формальностей все было улажено в несколько минут. Но называться летчиком-испытателем — это вовсе еще не значит быть им.
И все-таки он радовался: в кармане лежал новенький пропуск. Пропуск открывал доступ на летное поле испытательного аэродрома. Амет-Хан переступил порог строгой проходной и сразу повеселел.
Утренний ветерок попахивал бензином. Где-то за ангарами взревел двигатель. Полосатый колдун на вышке метеостанции покачивался. Обгоняя Султана по направлению к стоянкам, промчался бензозаправщик. Он был снова дома.
Новые товарищи дали ему почувствовать свое дружеское расположение. Да, его имя было здесь известно. Да, его боевые заслуги оценивались очень высоко. Но первое же летное задание могло смутить хоть кого.
— Возьмите ПО-2, Амет-Хан, и, пожалуйста, слетайте на соседний аэродром. Инженеру Н. надо попасть туда ровно к одиннадцати ноль-ноль. Высадите его и сразу возвращайтесь.
Потом он возил инженера К. Потом механика Г. Потом перебрасывал запасные части и еще банки с краской. Летал он много, ничего не скажешь, но что это были за полеты? Связное порхание на стареньком ПО-2. Радиус действия километров сто-сто пятьдесят. Неужели это дело для дважды Героя Советского Союза, бывшего заместителя командира гвардейского истребительного авиаполка, одного, пожалуй, из первых десяти истребителей страны?
К счастью, такого вопроса Султан не задавал ни своим начальникам, ни своим новым товарищам, ни самому себе.
Он просто летал. Делал дело.
И через месяц Амет-Хан услышал:
— Ты хороший парень, Султан. Пора начинать настоящую работу. — И это было первое признание того особого мира, в который он вступил.
Несколько пояснительных слов об этом особом мире.
Есть такое специальное понятие — техника пилотирования. Понятие это весьма емкое. Оно включает в себя уменье четко владеть определенным типом самолета. Владеть самолетом — значит взлетать, маневрировать, рассчитывать на посадку и приземляться, укладываясь в определенные нормы. Летчик высокой квалификации обязан пилотировать не только в хорошую погоду, когда небо и горизонт отчетливо видны, но и в облаках и в непроглядную ночь.
Для любого летчика, будь он пилотом Гражданского воздушного флота, военным летчиком — истребителем, штурмовиком, бомбардировщиком — техника пилотирования всегда остается, как говорят, вопросом вопросов. Твердая пятерка дает тебе одни права; устойчивая четверка — другие (значительно меньшие), а тройка, тройка ставит под сомнение твою профессиональную судьбу — тройка — это уже болезнь.
Так обстоит дело для любого летчика, но только не для летчика-испытателя.
Коль скоро ты признан способным испытывать самолеты, речь о технике пилотирования идти уже не может. Блестящая, виртуозная, безукоризненная техника пилотирования (и не на каком-либо одном, а на любом типе летательного аппарата) подразумевается сама собой. И это требование — минимум.
Применительно к ремеслу испытателя я бы вообще отказался от употребления термина «техника пилотирования», его следовало бы заменить более отвечающим существу дела понятием — искусство пилотажа. Но это между прочим.
Летчик-испытатель должен уметь вести непрерывный диалог с машиной. Постоянно задавать ей вопросы, терпеливо выслушивать ответы и понимать их суть. Собственно, в этом и заключается основной смысл работы испытателя — понимать машину, выявлять ее слабости, находить объяснения, нащупывать пути устранения недостатков, предвидеть и предугадывать реакцию самолета на то или иное воздействие — свое, внешних сил, случайных факторов.
Летчиков-испытателей много раз называли уже экзаменаторами. Это верно. Но не следует забывать, что летающий экзаменатор, кроме того, и постоянно сдающий зачеты ученик. Машины тоже умеют загадывать загадки, и порой столь хитрые, что справляться с ними бывает далеко не просто.
Вот к такой работе предстояло готовиться теперь Амет-Хану.
Для начала Султану дали возможность перепробовать собственными руками с десяток разных машин. Заядлый истребитель, он летал теперь и на двухмоторных и на многомоторных бомбардировщиках, познакомился с тяжелыми транспортными кораблями, он испытал совершенно особенное, ни с чем не сравнимое чувство перевоплощения, когда ты выбираешься из крошки истребителя и, не снимая парашюта, поднимаешься по четырехметровому трапу в «летающую крепость».
Амет-Хан много летал в ту пору. И очень много спрашивал. Для того чтобы догнать старожилов испытательного аэродрома, ему совершенно необходимо было узнать много-много нового. Он был въедлив. Он не стеснялся спрашивать.
— Ты знаешь, что мне было очень важно тогда? Определить: у кого лучше спрашивать, — говорит Султан. — Другой от доброты заморочит подробностями, а мне ведь надо было схватывать самую суть, на подробности времени не хватало. А объяснять и учить любят все. Больше других я не давал покоя Сереже Анохину, Игорю Эйнису и Лёне Тарощину. Их я понимал почему-то лучше других. И они меня как-то сразу поняли. Без их помощи я бы очень дол-то осваивал новую работу, а с ними все получилось довольно просто. Прижился.
Сегодня Амет-Хан говорит: «Все получилось довольно просто». И я уверен, что ему и на самом деле представляется так. Но это сегодня!
А я вспоминаю одну из первых работ Султана.
На аэродроме появился ярко-красный малыш планер. Планер мог взлетать только с помощью самолета-буксировщика. Машину затаскивали на высоту, там Султан отцеплялся и начинал трудиться. Необходимо особо заметить, что в один из дней Амет-Хан летал с прямыми крыльями, в другой — со стреловидными, оттянутыми назад (они напоминали руки прыгуна в воду), в третий — со стреловидными крыльями, выкинутыми вперед (они напоминали руки прыгуна с лыжного трамплина). Летал он ради сравнительных данных. Эти данные нужны были науке.
Еще одна важная подробность: взлетал планер с бетонированной полосы, разбегаясь на специальной колесной тележке. На высоте метров в двадцать-тридцать колеса сбрасывались. Приземление производилось на грунт, на амортизированную посадочную лыжу.
Что же требовалось в этих полетах от испытателя?
Прежде всего точность. Чтобы сравнивать поведение летательного аппарата, оснащенного разными крыльями, надо было все режимы полета выдерживать с эталонной непогрешимостью.
Еще требовался высочайший темп. В полетах без двигателя у летчика никогда не бывает «лишней» минуты. И тут уж изволь каждое свое движение предусмотреть заранее. Обдумай хоть тысячу раз все на земле, а в воздухе действуй, действуй быстро, последовательно, безостановочно.
Еще требовалась тщательная осмотрительность. Ведь посадка на экспериментальном планере полностью соответствовала вынужденной посадке на новом летательном аппарате. Каждая посадка!
Кажется, для начинающего испытателя вполне достаточно.
Но случилось так, что Султану пришлось решать еще одну, весьма неожиданную и едва ли не самую сложную задачу.
Разбег, планер оторвался и послушно полез на высоту. Левая рука пилота потянула шарик сброса стартовой тележки. Но тележка не сбросилась. Еще попытка, еще — тележка не сбрасывается. Что делать? Прерывать полет и садиться на неамортизированные колеса? Такое приземление не предусмотрено никакими расчетами.
Планер, отяжеленный стартовой тележкой, лениво ковыляет за буксировщиком. Летчик-испытатель должен что-то решать. За свое решение он будет нести всю полноту ответственности. Решение должно быть быстрым и обоснованным. Ну? Султан передает на командный пункт:
— Освободите полосу, буду садиться на тележке. Буксировщик заводит его к границе аэродрома, и малыш планер валится к земле. Именно валится, потому что такое снижение трудно назвать планированием.
Под фюзеляжем висят колеса. Уменьшить угол снижения нельзя — потеряешь скорость, и тогда упадешь, просто рухнешь на землю.
Ниже, ниже, ниже… Проверь скорость. Нормально. Еще немного, еще… Спокойно. Так, так, хорошо. Выравнивай.
И вот колеса коснулись земли. Планер угрожающе качнулся — пошел на нос. Ничего — выровнялся. Снова пошел на нос и опять выровнялся. Облако бурой пыли несется по летному полю. Несется со скоростью гоночного автомобиля. Машина неуправляема. Летчика мотает в кабине, того гляди разобьет лицо о приборную доску. Спокойнее, ты уже на земле. В какой-то момент над облаком пыли взлетают колеса. Сбросились-таки, проклятые. Сбросились в самый неподходящий момент. Теперь, может быть, все… Но ничего плохого не случается: планер, чиркнув лыжей по грунту, почти мгновенно останавливается, а тележка убегает в овраг.
Мне пришлось видеть Султана через пять минут после этого совершенно циркового приземления. Он сидел на траве и курил сигарету. Когда прибежали ведущий инженер и механик, сказал:
— Давайте быстренько выясните, в чем дело, и налаживайте тележку. До темноты успеем еще слетать. Давайте…
Мне пришлось расспрашивать Султана об этом полете через пятнадцать лет. Я напомнил ему, как он тогда спешил повторить вылет. Амет-Хан засмеялся:
— Ну что ж ты хочешь — молодой тогда был, глупый, вот и спешил. Теперь немного обождал бы. Теперь разобрался бы сперва. Впрочем, и тогда меня заставили обождать.
Мы сидим за обеденным столом. Я любуюсь руками Султана — его большие рабочие руки не знают ни минуты покоя, они все время в движении. Я думаю: Султан человек неожиданный, очень разный, притягательный человек. Недаром его все любят, особенно летчики. Ему легко прощают какие-то слабости (нет же на самом-то деле человека без греха!), потому, вероятно, прощают, что каждый знает — он человек преданный. Преданный работе, товарищам, небу…
Султан тоже думает о чем-то своем и вдруг говорит:
— А вообще-то первый вылет на новой машине — это всегда трудно. Другой раз всю ночь накануне не спишь. Думаешь, куришь, думаешь. Слетать-то я слетаю, а как слетать лучше? Это одно. И второе: все стараешься угадать, о чем она думает…
— Кто она?
— Как — кто? Машина… Непонятно? Ты не сердись. Рассказывать я не мастер. Рассказывать не моя специальность…
— Понятно, — говорю я, — ты тоже не сердись: больше не буду расспрашивать. Давай выпьем.
— За успех. За то, чтобы не было бессонницы.
— За успех — хорошо, за успех выпьем, а бессонница все равно будет. От этого не уйдешь. Это ведь жизнь.
Слово надо держать. Сказал: «больше не буду расспрашивать», значит, все. Значит, точка.
Но мне все кажется, что я не рассказал о Султане чего-то очень существенного, чего-то самого-само-го главного. И это сомнение приводит меня к другу и непосредственному начальнику Амет-Хана — заслуженному летчику-испытателю СССР Федору Бурцеву. Мы знакомы давно, и мне не нужно строить никаких предварительных маневров, чтобы объяснить цель своего визита.
— Какая главная черта Амет-Хана, чем определяется его характер, где то зернышко, из которого вырос Султан?
Бурцев отвечает не задумываясь: — Главное в нем — жадность…
И прежде чем я успеваю выразить свое недоумение столь странным и неожиданным ответом, Бурцев рассказывает мне историю, которую я постараюсь передать здесь с максимальной точностью.
— Есть такая книга — «Один в бескрайнем небе». Автор — Бриджмен. Американский летчик-испытатель. Хороший летчик, и книгу он написал свою здорово. Так вот, в этой книге Бриджмен рассказывает, в частности, о полетах на подвеске. Это вот что: опытный самолет подвешивают под самолет-носитель. Носитель затягивает испытуемую машину на высоту и там сбрасывает. Честно говоря, работа не сахар. Трудная работа. Вся на нерве. Бриджмен в подробностях все описывает. Пожалуй, даже в излишних подробностях, вернее, с преувеличением ужасов и страхов. Но в основном он прав: после такого полета в себя приходишь не сразу…
Несколько лет назад нам с Султаном пришлось хлебнуть этой работенки на практике. Стартовали с подвески, а дальше… дальше начиналось самое неприятное — крошку машину вели не мы, ее вел автопилот. И скорость при этом была весьма подходящая и высота очень небольшая. А ты сиди, сиди и контролируй. Если что не так, можешь взять управление на себя, а если все так — смотри…
Летали мы, как говорится, «в очередь».
И вот в день, когда была очередь Султана, случилась неприятность: проводник электрического сбрасывателя замкнул. Сбрасыватель сработал, и Султан оторвался от носителя с незапущенным двигателем.
Высоты было совсем мало. Приземляться некуда. Словом, ситуация — хуже не придумаешь. И что же? Сумел он запуститься. Сумел прийти домой. И сесть сумел как положено. Но это не все.
На другой день все было исправлено. Кому следует, накрутили, конечно, хвоста. Работа продолжается. Лететь моя очередь. Приходит Султан и говорит:
— Вчера я задание не выполнил, поэтому лететь надо не тебе, а мне.
После такой встряски любому человеку надо в себя прийти. Если б он напился в стельку, ей-богу, я бы понял, если б запросил отпуск на недельку, я бы тоже понял. Так нет: дай я слетаю! И ведь это искренне, без всякой рисовки. Чуть не плачет: дай я.
В двадцать лет все на полеты жадные. А вот Султан и в сорок пять все так же, как в двадцать, летать рвется. Дай, дай, еще дай! И такая в нем неистребимая жадность к небу, что я лично только удивляюсь.
Ты хотел главную его черту узнать, корень, так сказать, всех его успехов определить, вот тебе и ответ: сумел наш Султан молодость сохранить, не растерял жадности к небу, не устал летать. Это не каждому дано, верь мне, я знаю, что говорю.
Все? Разумеется, нет. Это невозможно — рассказать все о живом, действующем, нестареющем герое. Каждый новый день — новые полеты, новые подробности биографии, новые открытия, новые радости и новые огорчения.
Для всех боевых летчиков Великой Отечественной войны вот уже двадцать лет, как кончилась битва. Для летчиков-испытателей война продолжается. Конечно, им не надо сегодня барражировать в воздухе, отыскивая самолеты противника, крадущиеся к цели; не надо вести воздушные бои, не надо штурмовать вражеские эшелоны и бомбить чужие города. Война идет за скорость, за дальность, за новые знания, за новые возможности человеческих крыльев. Это трудная война. Это рискованная война, и побеждают тут не пушечными очередями, не залпами ракет и бомбовыми ударами, побеждают уменьем, талантом, настойчивостью, преданностью небу.
Строго говоря, летчик-испытатель — это звание, это должность, это профессия. Но, на мой взгляд, это еще и награда, признание, счастье. А заслуженный летчик-испытатель страны, поднимающий в небо машины, с легкостью обгоняющие звук в полете, уходящий далеко за пределы насыщенной кислородом атмосферы, преодолевающий пространства, соизмеримые с длиной экватора, живущий в завтрашнем дне нашего неба, — это тысячу раз герой и тысячу раз счастливый человек.
И сегодня, как прежде, как в мучительные годы войны, Султан Амет-Хан в первой десятке самых отважных, самых умелых, самых достойных «тысячу раз героев».
Счастья тебе, Султан! Молодости тебе, Султан! Полетов! И достойной смены.
Вот и пришло время расставаться. Я рассказал обо всем, что казалось мне важным и, главное, нужным.
— А курс? Где же тот точный курс, который запрашивал Алеша Гуров?
Нет, точного, заранее вычисленного, так сказать, универсального курса я не назову ни Алеше, ни кому-либо другому. Даже если бы очень хотел это сделать, не сумею. В жизни готовых курсов не бывает.
Каждому — свой курс.
Вот послушайте, пожалуйста, что сказано на 112-й странице «Авиационного справочника» издания 1964 года:
«Курс — угол, заключенный между северным направлением меридиана и продольной осью самолета. В зависимости от меридиана (магнитного, географического, компасного, условного), от которого производится отсчет, различаются курсы: истинный — ИК, магнитный — МК, компасный — КК, условный — УК…»
Видите, даже в навигации, имеющей дело с бесстрастными цифрами, приходится учитывать и магнитное склонение и девиацию (кстати сказать, величины, изменчивые и для разных мест земли и для разных машин).
Тем более невозможно дать непогрешимый жизненный курс человеку, не учитывая всех его сугубо индивидуальных «поправок» характера, темперамента, увлечений и многих других особенностей. Я старался вложить в книгу необходимые для определения курса «исходные данные». Берите эти данные, взвешивайте, оценивайте их, примеряйте к себе и определяйте ваш единственный точный курс.
А мне остается пожелать вам счастливого неба, долгой жизни и неизменно чистых посадок.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ