Глава четвертая Сооружения
Жилище П.А. Раппопорт, Б.А. Колчин, Г.В. Борисевич
История древнерусского жилища интересовала исследователей уже по крайней мере с середины XIX в. Однако подлинных остатков древнерусских жилищ в то время еще не знали. В распоряжении историков имелось лишь небольшое количество сведений письменных источников, относящихся в основном к XVI–XVII вв. Но зато по русским жилищам существовал такой яркий сравнительный материал, как народное крестьянское жилище: огромное количество разнообразного этнографического материала, жилища разных климатических зон и самых различных типов. При этом многие крестьянские жилища имели настолько явно выраженный архаичный характер, настолько не были затронуты городской культурой, что невольно вызывали предположение о глубокой древности их прототипов. Естественно поэтому, что основой для изучения древнерусских жилищ на первых порах стала этнография.
К концу XIX в. этнографы накопили уже настолько существенные материалы по изучению жилищ, что стали возможны попытки первичного обобщения. Вместе с тем, помимо этнографов, к вопросу о происхождении и древнейших формах русского жилища подошли историки искусства, историки архитектуры. Если этнографы делали выводы на основании изучения сохранившихся жилищ, то искусствоведы в основном использовали письменные источники и графические материалы, относящиеся к русскому жилищу XVII в.
В последние годы XIX в. археологические раскопки принесли первые фактические сведения о подлинных древнерусских жилищах. Раньше всего удалось выявить жилища в Киеве, в районе Среднего Поднепровья, а затем в Рязанской земле. Вскоре были обнаружены и срубные наземные жилища в Северной Руси — в Старой Ладоге. Небольшое количество археологически изученных древнерусских жилищ, их плохая сохранность, а порой и неверная интерпретация привели к тому, что археологические источники не оказались в центре внимания исследователей, занимавшихся проблемами истории древнерусского жилища, а сама эта тематика и после Великой Октябрьской революции продолжала по-прежнему разрабатываться главным образом в плане этнографических исследований. Тем не менее, количество изученных остатков подлинных древнерусских жилищ, раскрываемых археологами, постепенно увеличивалось. Значительное количество жилищ было раскопано в районе Киева, на Райковецком городище, в Старой Рязани, в Суздале, в Полесье, началось систематическое изучение жилищ в Новгороде, Пскове и Старой Ладоге.
Существенный сдвиг в изучении древнерусских жилищ наметился после Великой Отечественной войны. По-прежнему очень серьезные работы вели в этой области этнографы; однако центр тяжести в исследованиях быстро переместился в область археологии. Раскопками было вскрыто очень большое количество жилищ разных исторических периодов и в различных районах древнерусской территории. В настоящее время общее количество остатков древнерусских жилищ, которые можно учесть, значительно превышает 2500. Появились специальные исследования о жилищах различных древнерусских городов (Киев, Новгород, Старая Рязань, Белая Вежа и др.), а также о типах жилищ разных районов. Эти материалы дают теперь возможность с достаточной полнотой судить о развитии древнерусского жилища (Раппопорт П.А., 1975).
В настоящем обзоре древнерусские жилища разделены на четыре хронологические группы: 1) жилища IX и первой половины X в.; 2) жилища второй половины X и XI в.; 3) жилища XII–XIII вв.; 4) жилища XIV в. Это членение связано не столько с изменениями типов и конструкции самих жилищ, сколько с возможностями хронологического членения памятников, учитывая массовый датирующий материал.
Восточнославянские жилища IX и первой половины X в. достаточно четко разделяются на две группы (табл. 36). Первая группа, включающая подавляющее большинство изученных жилищ, занимает всю территорию лесостепи, несколько заходя как на юг, в степь, так и на север, в лесную зону (табл. 37). Все жилища этой группы так называемые полуземлянки. Вторая группа — памятники, сконцентрированные в новгородско-псковском районе. Здесь все жилища наземные. По-видимому, территория распространения этой группы жилищ простиралась довольно значительно к югу, вплоть до верхнего течения Днепра, поскольку наземные жилища X в. были выявлены также в районе Смоленска. Наземные срубные дома, раскопанные на крайнем юго-востоке (Белая Вежа), настолько явно занесены сюда пришлым населением, что для территории степи или даже лесостепи являются совершенно чуждым элементом.
Жилища южной группы прямоугольные, большей частью почти квадратные (табл. 38). Их пол расположен ниже уровня поверхности земли на 0,5–1,0 м, хотя встречаются жилища как более глубокие, так и совсем мелкие. То обстоятельство, что пол жилищ очень часто мало заглублен в грунт, свидетельствует, что большая часть здания поднималась над землею и крыша должна была опираться на стены сложной конструкции и значительной высоты. Тем не менее, жилища такого типа, даже очень незначительно заглубленные, условно принято называть полуземлянками. Термин этот, конечно, условен, но он имеет широкое распространение в археологической литературе, так как позволяет разделять археологически два различных вида жилища — с полом, пониженным по отношению к уровню земли — мы их называем полуземлянки, и с полом, который расположен на уровне поверхности или несколько поднят над этим уровнем — это наземные жилища.
Степень углубленности построек в землю не находится в прямой зависимости от общей их высоты. Наличие углубления еще не свидетельствует, что перед нами остатки приземистого сооружения, равно как и его отсутствие не является признаком высотности здания. Распределение построек на «полуземляночные» и «наземные» ничего не дает также для определения их конструктивного типа, поскольку углубленные в землю жилища имели как столбовую конструкцию, так и срубную.
Размер сторон земляных котлованов полуземляночных жилищ обычно колеблется от 3,0 до 4,5 м, редко снижаясь до 2,5 м и также редко достигая 5,5 м. Пол жилищ обычно материковый, ровный, часто слегка понижающийся к середине. В тех случаях, когда пол лежит не на материковом грунте, а на культурном слое или каком-либо неплотном грунте, встречаются следы подмазки этого пола глиной, иногда в несколько слоев. Стены жилищ были деревянными, причем применялись два типа конструкции — срубная и столбовая. В первом случае в земляной котлован спускали сруб, а во втором — стены состояли из плах, закрепленных между вертикальными столбами.
При столбовой конструкции в углах котлована жилища обычно остаются следы столбов — столбовые ямы. Кроме того, часто имеются столбовые ямы и у середины стен. При этом если угловые ямы всегда круглые в сечении (от бревна), то ямы у середины стен чаще имеют полукруглую или удлиненную форму (от плах или сдвоенных столбов). Столбы закапывали в землю, а не забивали. Наличие или отсутствие столбовых ям не является единственным критерием разделения на срубную или столбовую конструкцию: для выявления этих типов могут быть использованы различные признаки. Одним из наиболее существенных признаков является расположение печи: печь, плотно вдвинутая (или даже врезанная) в материковый земляной угол, не оставляет места для угловой врубки и, следовательно, исключает возможность применения срубной конструкции стен. При срубной же конструкции печь всегда размещена несколько отступя от земляных стенок котлована.
Применение срубной и столбовой конструкции стен иногда можно обнаружить на одном и том же поселении. Однако к западу от Днепра преобладающим типом является жилище со срубной конструкцией, в то время как к востоку от Днепра преобладающей является столбовая конструкция.
Вход в полуземляночные жилища IX — первой половины X в. большей частью ведет с южной стороны, поскольку жилища этого времени, вероятно, не имели окон и единственным источником света служила дверь. Входные устройства — либо земляные ступеньки, либо деревянная лесенка. Плановая структура этих жилищ единообразна: печь почти всегда стоит в заднем от входа углу и повернута устьем в сторону входа. При этом правостороннее расположение печи преобладает над левосторонним.
Печи применялись двух типов — каменные и глиняные (табл. 39). Очаги встречаются лишь в виде единичных исключений, большей частью в постройках какого-либо специального назначения.
Печи-каменки в жилищах IX–X вв. имели снаружи форму, близкую к прямоугольнику, реже они подковообразные: стороны их не менее 0,8 м, но обычно не более 1,7 м, высота достигает 0,9 м. Камни использовались различные, в зависимости от того, какие имелись в окрестностях (табл. 40, 3). В нижней части печей стенки обычно складывали из довольно крупных, часто плоских камней, а выше — из более мелких. Камни, как правило, укладывали без связующего раствора, хотя иногда их промазывали глиной. Поды печей овальные или круглые: они обычно расположены на уровне пола, иногда слегка врезаны в пол или, наоборот, очень немного приподняты над полом на естественном материковом возвышении. Почти всегда под печей был материковым, хотя известны случаи, когда под вымощен камнем, черенками или промазан глиной. Близ устьев печей часто имеются ямки от кольев; очевидно, печи имели какие-то дополнительные деревянные части.
Второй тип печей, применявшихся в жилищах IX–X вв., — глиняные печи, вырезанные в материковых останцах. В редких случаях такие печи вырезались в останцах целиком до самого верха: в большинстве же — в останцах вырезали лишь нижнюю часть печи, а верх ее лепили из глины, обычно используя для этой цели специально вылепленные глиняные вальки («копусы»). В плане глиняные печи имеют прямоугольную форму: размер их от 0,9×1,0 м до 1,8×1,85 м, высота от 0,6 до 0,9 м, под их обычно находится на уровне пола жилища (табл. 40, 6).
Верхние части печей (как каменных, так и глиняных) в неразрушенном состоянии удалось раскрыть лишь в очень небольшом количестве случаев. Выяснилось, что своды печей обычно не имели отверстий и дым выходил из печи через топку. На многих поселениях были найдены остатки крупных глиняных жаровен, стоявших на печи и представлявших собой как бы завершение печей. Однако в ряде случаев в верхней части купола глиняных печей находились круглые отверстия диаметром около 20 см с заглаженными и обожженными краями. Иногда такие отверстия ошибочно принимали за дымоотводы (табл. 40, 1). Вероятно, это были отверстия для установки горшка. Это тем более правдоподобно, что при небольшой высоте устья (обычно 20–30 см) вставить внутрь печи даже небольшой горшок было не всегда возможно, и, следовательно, в таких печах иначе нельзя было бы варить пищу. Печи всегда стояли в углах жилищ и были повернуты устьем вдоль одной из стен. Гораздо реже встречаются примеры установки печей у середины одной из стен или в углу, но с устьем, повернутым по диагонали жилища. Размещение печи в середине жилища известно в виде единичных исключений.
Печи-каменки и глиняные печи в IX–X вв. были распространены не равномерно по всей территории Древней Руси, а объединены в несколько групп (табл. 41). Так, между Днестром и Днепром применяли в основном печи-каменки, а глиняные печи известны лишь в северной части этого района — в Полесье. На территории днепровского Левобережья применяли глиняные печи, а севернее — от нижнего течения Десны — каменки. Точно так же и восточнее, в Подонье, применяли печи-каменки, правда, обычно с использованием глины.
Очевидно, первоначально деление на каменные и глиняные печи было продиктовано местными условиями — наличием или отсутствием подходящего камня. Применение в глиняных, а иногда и в каменных печах обожженных глиняных вальков свидетельствует, что там, где камней было мало, из глины делали как бы искусственные камни. Однако в жилищах IX–X вв. это разделение стало уже этнографическим признаком, не всегда зависящим от природных условий. Так, на территории распространения глиняных печей, в тех случаях, когда материк был супесчаным, печи все равно делали в искусственно сбитых глиняных массивах, вырезая их нижнюю часть из глины. В районах распространения каменок их делали из любого, даже мало подходящего камня, не переходя, однако, к глиняным печам.
В отдельных случаях при раскопках удавалось обнаружить части перекрытия жилищ. Выяснилось, что поверх деревянной конструкции крыша промазывалась глиной. Крыши были, по-видимому, большей частью двухскатными, причем конек чаще был ориентирован поперек топки печи и, следовательно, поперек входа, хотя отмечены случаи, когда конек был направлен вдоль оси печи, от входа к задней стене. Впрочем, очень вероятно, что делали и четырехскатные крыши. Видимо, такую крышу имел в виду Ибн-Русте, когда писал, что крыша в славянских жилищах делается «деревянной, остроконечной… наподобие христианской церкви».
Жилища северной части лесной зоны, относящиеся ко времени до середины X в., известны пока в небольшом количестве. Это наземные срубные дома, имеющие, как правило, несколько больший размер, чем полуземляночные жилища (табл. 42, 6). Дома обычно квадратные в плане; размер их сторон 4,5–5,0 м. Срубы сооружались из хвойного дерева, бревна соединены в углах рубкой «в обло». Под нижним венцом часто встречаются подкладки в виде лежащих обрезков бревен. Пол в жилищах деревянный — из досок или плах. Лаги пола обычно лежат на земле. Печь-каменка расположена в углу.
В Старой Ладоге обнаружены и более крупные дома (со сторонами 6–7 м и более) с печью, расположенной в центре жилища. Очень возможно, что в этом случае печь не имела купола, т. е. представляла собой несколько усложненный очаг.
Жилища второй половины X и XI в. изучены в меньшем количестве, чем памятники предшествующего или последующего периодов. Объясняется это в основном двумя причинами. Во-первых, поселения этой поры большей частью продолжали существовать и позже, вплоть до XIII в. Поэтому культурные напластования более позднего времени часто разрушали жилища XI в. или же из-за перемешанности слоя не позволяют их выделить. Во-вторых, до сравнительно недавнего времени археологи часто суммарно отмечали в своих отчетах наличие материала «эпохи Киевской Руси» или «великокняжеского времени», т. е. X–XIII вв., не расчленяя найденный археологический материал на более узкие хронологические периоды. В таких случаях на основании публикаций и отчетов трудно отделить жилища XI в. от более поздних. Тем не менее, в настоящее время жилища этого периода все же достаточно детально изучены, на территории Новгородской земли, а на юге Руси — в Галицкой и Волынской землях.
В лесостепной зоне и южной части лесной зоны по-прежнему господствовал полуземляночный тип жилища, а в северной части лесной зоны применялся исключительно наземный тип. В средней части лесной зоны — на территории современной Белоруссии и в Рязанской земле известны оба конструктивных типа (табл. 43.)
Для лесостепной зоны полное господство полуземляночных жилищ в течение всего XI в. не подлежит сомнению. Наземные жилища известны здесь лишь в междуречье Днестра и Прута, на территории современной Молдавии, где они существовали одновременно с полуземлянками и, по-видимому, представляли собой летние дома облегченного типа. Совершенно особое место занимает Киев, где в нижней части города, на Подоле строили наземные дома северного типа. Причина такого явления до сих пор не установлена и по этому вопросу существуют различные предположения.
Все полуземляночные жилища этого времени более или менее единообразны (табл. 38, 2–4, 8). По размеру, форме и глубине пола относительно поверхности земли они ничем существенным не отличаются от полуземляночных жилищ предшествующей поры. Столбовая конструкция стен начинает теперь всюду преобладать над срубной, в том числе и к западу от Днепра, где ранее чаще строили срубные полуземляночные дома. Срубные стены в полуземляночных жилищах в XI в. имеют широкое распространение, по-видимому, лишь в юго-западной части древнерусской территории.
Плановая структура полуземляночных жилищ претерпевает существенные изменения. Вплоть до X в. в восточнославянских жилищах печь, как правило, стояла в заднем от входа углу и была повернута устьем ко входу. В X–XI вв. эта схема плановой структуры постепенно сменяется новой, при которой печь стоит рядом с входом и повернута к нему устьем (табл. 44, в).
В юго-западном районе, в Галицкой земле продолжает бытовать печь-каменка, ничем существенно не отличающаяся от подобных печей предшествующего периода. На всей же остальной территории распространения полуземляночных жилищ начинают применять круглые или овальные в плане печи, вылепленные из глины (табл. 40, 5). Наружный диаметр их от 1,0 до 1,5 м, а высота 70–90 см. Часто такие печи делали на деревянном каркасе; когда печь прожигалась после постройки, каркас ее выгорал и от него оставались пустоты в обожженной глине. В печах такого типа уже совершенно не применяли глиняные вальки, имевшие широкое распространение в более ранних печах. Верх круглых глинобитных печей часто имел горизонтальную поверхность и был окружен бортиками, т. е. имел характер жаровни (табл. 40, 2). Кроме того, в развалах печей находили обломки больших глиняных жаровен, стоявших на печи. Иногда в своде печей имелось круглое отверстие, совершенно такое же, как и в прямоугольных глиняных печах предшествующей поры. Поды круглых печей обычно расположены на уровне пола. Часто эти поды вымощены обломками горшков и поверх промазаны глиной. Иногда, хотя и не часто, перед печами имеются небольшие предпечные ямы. Встречаются печи, врезанные своей тыльной частью в материковые стенки жилищ.
Появление нового типа печей и изменение плановой структуры жилищ — взаимосвязанные процессы. Новая плановая структура делала жилище более гигиеничным, создавая чистое пространство в глубине помещения, а расположение печи близ двери создавало тепловой барьер и делало жилище более теплым, а главное — равномерно теплым. Новая схема плана стала возможна лишь при новом типе печей, имеющем значительно более высокие теплотехнические качества. Кроме того, в таких жилищах, по-видимому, перед входом существовал тамбур — легкие наземные сени.
Жилища наземного типа, относящиеся ко второй половине X и XI в. все срубные (табл. 42, 4). Срубы обычно делали из сосновых бревен, реже — еловых. Диаметр бревен, как правило, не менее 20 см. Срубы исполняли рубкой «в обло», с выпуском остатков длиной до 30 см. Чашу и паз при рубке всегда выбирали в верхней части каждого нижнего бревна. Пазы между бревнами конопатили мхом. Отмечено, что в некоторых районах, например в Новгороде, срубы оставляли открытыми, а в других (Старая Ладога, Новогрудок) промазывали глиной. Под нижними венцами срубов укладывали специальные бревенчатые прокладки, которые иногда образовывали даже специальную конструкцию, скрепленную внешним бревенчатым венцом. Иногда вместо подкладок под углами срубов закапывали в землю столбы-«стулья».
Полы в наземных жилищах дощатые, на лагах. В нескольких случаях удалось установить, что лаги не лежали на земле, а были врублены в бревна сруба и поэтому несколько приподняты над землей. В ряде пунктов отмечено наличие галереек, примыкавших к срубу с одной или нескольких сторон.
В южной части зоны распространения наземных жилищ в них ставили круглые глинобитные печи, но в основном печи в наземных домах не глинобитные, а каменные. При этом каменные печи в отличие от печей-каменок в южных полуземлянках сложены из камней на глине, иногда со столь значительным количеством глины, что трудно определить, являются ли они каменными или глиняными, но с применением камней. Другое существенное отличие: каменные печи в наземных домах в связи с приподнятым над землей уровнем пола подняты на специальных деревянных опечках. На юго-востоке лесной зоны (Старая Рязань) как каменные, так и глинобитные печи часто расположены над подпечной ямой, опираясь на деревянные столбы.
Следует отметить, что ареалы типов печей и конструктивных типов жилищ не всегда совпадают: как каменные, так и глинобитные печи встречаются и в полуземлянках, и в наземных жилищах (табл. 45).
Плановая структура наземных жилищ второй половины X и XI в. не везде ясна. В Старой Ладоге, очевидно, в это время уже сложилась та же схема, что и в южных полуземляночных жилищах, а в Новгороде — иная. Здесь печь также большей частью ставили в правом переднем углу от входа, но обращали устьем не ко входу, а к задней от входа стене.
Среди наземных жилищ этого времени выявлены не только простые однокамерные жилища, но и более сложные (табл. 44, 9). Это двухкамерные жилища-срубы — пятистенки, т. е. такие срубы, которые перегорожены внутренней стеной на два помещения. Подобные дома обычно имеют удлиненную в плане форму; одно из их помещений квадратное, а другое, меньшее — более узкое. Печь в таких домах всегда стояла в большом помещении, а вход вел через меньшее.
Жилища XII–XIII вв. выявлены раскопками в значительно большем количестве, чем жилища других этапов истории восточных славян. Помимо однокамерных жилищ, для этого периода известны уже и более сложные жилища, состоящие из нескольких помещений. К этому нужно добавить большое количество раскопанных жилищ, расположенных в срубных клетях оборонительных валов. Археологические данные о жилищах XII–XIII вв. более полны, чем для предшествующей поры и позволяют более детально судить об их основных конструктивных особенностях.
Прежде всего, следует отметить, что в XII в. происходят очень существенные изменения: это время широкого распространения наземного жилища (табл. 46). Заполняя теперь всю лесную зону, наземные жилища в западной части древнерусской территории охватывают также и зону лесостепи, вплоть до Карпат. На территории Белоруссии, где еще в XI в. часто встречались полуземлянки, в XII в. стоят уже исключительно наземные дома. В бассейне Оки полуземлянки по-прежнему продолжали сооружать наряду с наземными жилищами, но если в XI в. здесь преобладали полуземлянки, то в XII–XIII вв. — наземные дома. Целиком занят полуземлянками лишь маленький район к югу от Москвы. Встречаются полуземлянки и далее к северо-востоку, в бассейне Клязьмы и на Волге, но в значительно меньшем количестве, чем наземные дома.
В западной части лесостепной зоны, в Галицкой земле и на Волыни в XII–XIII вв. на смену полуземляночному типу жилища приходит наземный тип, хотя некоторое время еще продолжают строить и полуземлянки. В восточной части лесостепной зоны, на территории южной части Рязанской земли и в восточных районах Чернигово-Северской земли наземные дома также постепенно получают распространение. Наконец, известны наземные дома XII–XIII вв. и на границе со степью — в городе Воинь на Днепре. Районом полного преобладания полуземлянок в это время остается лишь среднее Поднепровье: в Киевской, Переяславльской и на основной части Чернигово-Северской земель рядовые жилища, как и в предыдущий период, были полуземляночными. В самом Киеве в XII–XIII вв. оба типа жилищ сосуществовали.
Среди полуземляночных жилищ XII–XIII вв., как и в XI в., наибольшее распространение имели полуземлянки со столбовой конструкцией стен. Полуземляночные жилища этого времени на всей рассматриваемой территории более или менее единообразны. Размер их повсюду примерно одинаков: длина земляных стенок котлованов редко снижается до 2,3 м и также редко достигает 5 м, обычно ограничиваясь пределами 3–4 м. Глубина, на которую пол этих жилищ был опущен от уровня поверхности, зависит главным образом от местных условий и поэтому глубина очень существенно меняется даже в пределах одного поселения. В среднем эта глубина примерно от 0,5 до 0,8 м, но иногда она составляет всего 20–30 см. Можно отметить несколько большую глубину земляных котлованов жилищ лесной зоны по сравнению с жилищами лесостепи. Так, глубина котлованов в жилищах лесной зоны часто превышает 1 м. Возможно, что такая значительная глубина объясняется наличием дощатого пола, приподнятого над уровнем земляного дна котлована.
В ряде случаев отмечено, что вдоль стен полуземляночных жилищ проходили земляные приступки, имеющие высоту 20–40 см и ширину от 30 до 70 см. Такие приступки встречались и в более ранних полуземлянках, но особенно много их известно в жилищах XII–XIII вв. Возможно, что такие приступки являлись лавками. Довольно часто в полуземляночных жилищах этого времени встречаются также хозяйственные ямы. Печи в полуземляночных жилищах XII–XIII вв. применялись исключительно круглые, глинобитные; печи-каменки встречаются лишь в единичных случаях в полуземлянках северно-русских районов.
Плановая структура полуземляночных жилищ в северных и южных районах Руси развивается по-разному (табл. 44, В). В Южной Руси к этому времени становится полностью преобладающей схема, при которой печь стоит рядом с входом и обращена устьем ко входу. Примеры старой плановой схемы, господствовавшей здесь до X в., встречаются и позже, даже в XIII в., по уже довольно редко. Иная картина вырисовывается при анализе плановой структуры полуземляночных жилищ более северных территорий. Уже почти на самой границе лесостепи — в Старой Рязани — печь и в XII–XIII вв. продолжали ставить по-прежнему напротив входа. Судя по немногочисленным известным примерам такое положение не случайно, а характерно для полуземляночных жилищ лесной зоны.
В полуземляночных жилищах XII–XIII вв. гораздо менее строго, чем в более раннее время, выдерживается ориентация входа в южном направлении. Очевидно, в этих жилищах, кроме двери, начали использовать и другие источники света: по-видимому, все большее значение начали приобретать окна.
В крупных городах (главным образом в Киеве) отмечено применение в полуземляночных жилищах срубной конструкции стен с использованием толстых бревен (диаметром не менее 20 см), покрытых слоем глиняной обмазки. В том случае, когда такие жилища были мало заглублены в грунт, они имели по существу характер наземных деревянных домов. Очевидно происходило сближение двух типов жилища — наземного и полуземляночного.
Наиболее значительную группу среди жилищ XII–XIII вв. составляют наземные жилища. Все они срубные, исполненные рубкой «в обло» с выпуском остатков длиной до 30 см. Для строительства обычно использовали сосновые бревна, резке еловые. Совсем редко наряду с сосной и елью использовали дуб, по-видимому, только для нижних венцов сруба. В хозяйственных постройках дуб использовали значительно чаще. Диаметр бревен колебался от 15 до 25 см, хотя иногда употребляли и более толстые бревна. Чашу и паз при рубке всегда выбирали в верхней части нижнего бревна. Довольно часто в пазах между бревнами находили остатки мха. Стены домов, как правило, не промазывали глиной, а оставляли открытыми.
Полы в наземных жилищах всюду дощатые. В нескольких пунктах (Туров, Старая Рязань и др.) наряду с дощатыми были обнаружены также глиняные полы. Однако под деревянным полом часто делали глиняную подмазку и поэтому очень вероятно, что находимые при раскопках глиняные полы наземных жилищ в действительности представляют собой лишь глиняные основания, поверх которых первоначально имелся дощатый пол. Доски пола лежали на лагах. В одних случаях эти лаги были уложены прямо на землю, в других они были врублены в венцы сруба, большей частью между первым и вторым или вторым и третьим венцами. Прием укладки лаг на землю был более характерен для юго-восточной части лесной зоны (например, Старая Рязань), тогда как лаги, врубленные в венцы, обычно применялись в северной и западной частях лесной зоны (Новгород, Белоозеро, Минск, Брест). Очень вероятно, что отличия в устройстве пола связаны с широким распространением в юго-восточной части лесной зоны подпольных ям. Эти ямы порой имели настолько большой размер, что по существу представляли собой как бы заглубленный в землю подклет дома (Старая Рязань, Москва). Подпольные ямы — конструктивная деталь, имевшая распространение на север до Ярославского Поволжья, а на запад — до Смоленщины. Таким образом, по высоте расположения пола над землей и по наличию подпольных ям в наземных жилищах лесной зоны намечаются два варианта.
Несколько вариантов строительной техники можно отметить и в устройстве основания под срубами. При достаточно плотном грунте и ровной горизонтальной площадке срубы часто ставили на землю без дополнительных укреплений. Если же площадка была неровная и грунт неплотный, под нижний венец и в особенности под углы сруба подводили специальное основание. Одним из способов было устройство деревянных «стульев» — закопанных в землю столбов. Такие «стулья» имели широкое распространение в юго-восточной части лесной зоны. В северной и западной частях лесной зоны чаще применяли другой прием — укладку под нижний венец сруба бревенчатых подкладок. Четкой границы между районами, где применяли эти приемы, провести нельзя, так как кое-где они оба использовались одновременно, но все же «стулья» и подкладки — два варианта строительной техники, имеющие в основном разные ареалы. Гораздо реже применялся третий прием — устройство под углами сруба каменных «стульев».
Все конструктивные особенности наземных срубных домов XII–XIII вв. выявлены на памятниках лесной зоны и главным образом северной части этой зоны (табл. 42, 5). Там, где удалось достаточно детально изучить наземные жилища более южных районов лесной зоны, все основные элементы конструкции оказались совпадающими с более северными жилищами (табл. 42, 1, 3). Очень вероятно, что более или менее аналогичны были и наземные жилища лесостепи, однако конструкции этих жилищ определяются с очень большим трудом, так как остатки дерева в этих районах в земле почти не сохраняются. Наиболее вероятно, что стены домов и здесь были срубными, а полы дощатыми, хотя нельзя исключить и другие варианты, например столбовую конструкцию со столбами, укрепленными на нижней обвязке. В нескольких случаях в наземных жилищах в лесостепной зоне находили куски глиняной обмазки с отпечатками бревен или плах.
О плановой структуре наземных жилищ XII–XIII вв. имеется сравнительно немного данных, так как соотношение входа и печи здесь удается определить довольно редко. В отличие от полуземлянок точное положение двери в наземных жилищах почти нигде не удается зафиксировать и его приходится определять по ряду косвенных признаков: наличие тамбура, расположению хозяйственных построек и т. д. Одним из показателей может служить также направление досок пола, которые обычно настилали «по ходу», т. е. от двери. К сожалению, и этим признаком довольно трудно руководствоваться, так как место входа при этом можно предполагать в двух противоположных стенах. К тому же признак этот не вполне надежен, поскольку известны примеры настилки досок не «по ходу», а поперек. Не всегда можно определить в наземных домах и направление устья печи, так как стоящие на деревянных опечках печи после разрушения обычно превращаются в бесформенный завал. Тем не менее, несмотря на небольшое количество изученных примеров, можно все же сделать некоторые заключения о плановой схеме наземных жилищ XII–XIII вв. Так, несомненно, что, кроме обычного расположения печи в углу жилища, здесь встречаются и печи, стоявшие посреди помещения, чего совершенно не встречалось в полуземлянках. В некоторых северно-русских городах (Новгород, Белоозеро) жилища подобного типа являются не случайными исключениями, а примерами четко выраженного типа планировки. Однако встречается такая плановая схема все же довольно редко и всегда лишь в качестве сопутствующего варианта, на поселениях, где основную массу составляют жилища с печью в углу, довольно редко встречаются в наземных жилищах этого времени и печи, стоящие в дальнем от входа углу. В подавляющем большинстве случаев печь ставили рядом со входом; большей частью справа от входа, реже слева. Но такое положение печи может соответствовать двум различным типам плановой схемы жилищ в зависимости от положения устья печи. В Новгороде достаточно определенно зафиксировано, что устье печей было повернуто к дальней от входа стене. В других поселениях отмечены оба варианта — с устьем, повернутым к дальней стене и с устьем, повернутым к входу. Очертить ареалы этих типов плановой структуры пока не представляется возможным.
Одной из наиболее характерных особенностей жилищ XII–XIII вв. является широкое распространение в наземных жилищах круглых глинобитных печей (табл. 47). Каменные печи к этому времени остались господствующим типом лишь в самой северной части рассматриваемой территории — в Новгородско-Псковских землях и в Белозерье, а также в Понеманье. В сочетании с глинобитными печами каменные печи имели, кроме того, распространение в Поволжье, в бассейне Клязьмы и в районе к югу и западу от Москвы. Применение открытых очагов, как и в более раннее время, почти всегда свидетельствует о неславянском характере жилища или производственном назначении постройки.
Круглые глинобитные печи XII–XIII вв. построены, как правило, целиком из глины. Правда, иногда в стенках печей использовали и камень, но камни при этом были соединены глиной и стенки печей были промазаны глиной как снаружи, так и со стороны топки. В городах, где велось монументальное строительство и налажено производство кирпича, известны печи, при постройке которых использовали кирпич. Печи обычно имели круглую форму, гораздо реже овальную, подковообразную или близкую к четырехугольнику со скругленными углами. Наружный диаметр печи обычно колеблется в пределах от 1,0 до 1,5 м, а высота купольного свода — до 60 см. Толщина стенок печей в нижней части 20–30 см, а выше значительно тоньше — не более 10–15 см. Стенки печей часто имели деревянный каркас из кольев или прутьев, хотя широко применялись и печи без деревянного каркаса (табл. 40, 4).
Поды печей обычно глиняные, но под слоем глины часто лежит забивка из битой керамики или мелких камней. Под большей частью расположен на уровне пола жилища, но иногда печи стоят на невысоких материковых останцах (особенно в полуземляночных жилищах). В лесной зоне для установки глинобитных печей применяли деревянные опечки, представлявшие собой квадратный или прямоугольный в плане постамент высотой около 0,5 м. Наиболее употребительные размеры опечков 1,2×1,2 м. Сооружали опечек обычно из плах, положенных на ребро и заведенных в пазы столбов, закопанных по углам. Пространство внутри опечка иногда засыпали землей. В южных районах лесной зоны применяли также срубную конструкцию опечков, а в юго-восточной части лесной зоны существовал еще один прием установки глинобитных печей — на деревянных столбах над подпечной ямой.
Каменные печи, применявшиеся в XII–XIII вв. на территории Северной Руси, лучше всего изучены в Новгороде. Северно-русские каменные печи были по размеру больше глинобитных печей и южнорусских печей-каменок более ранней поры. Иногда печи бывали сложены из плотно подогнанных крупных камней, но чаще камни бывали довольно мелкие (не более 20 см). Глина обычно применялась в таком количестве, что иногда даже трудно определить, что являлось основой стенок печи — камни или глина. Каменные печи почти всегда стояли на опечках, большей частью опечки делали столбовыми, причем их столбы возвышались над уровнем земли на 40–60 см. Учитывая, что деревянный пол обычно был поднят на лагах, врубленных в венцы сруба, можно считать, что опечки лишь слегка возвышались над полом жилища. Форма их прямоугольная или квадратная; размеры сторон колеблются от 1,2 до 2,6 м. Наряду со столбовыми опечками делали и срубные, исполненные рубкой «в лапу», т. е. без выпуска остатков. В Новгороде удалось установить, что опечки в жилых помещениях были столбовыми, а печи на срубных опечках, так же, как печи, стоявшие непосредственно на земле, имеют обычно производственное назначение.
В подавляющем большинстве древнерусских жилищ печи топились по-черному, т. е. с выходом дыма через устье топки. Однако при раскопках некоторых жилищ XII–XIII вв. встречались фрагменты глиняных труб, которые, вероятно, представляют собой остатки дымоходов. Наиболее достоверные материалы о дымоходах были получены на Ленковецком поселении (г. Черновцы), где в завале двух крупных печей (видимо, не рядовых, а богатых жилищ) были найдены трехгранные желоба из обожженной глины, внутренняя поверхность которых оказалась покрытой копотью. Судя по известным там же, на Буковине, этнографическим аналогиям, дым через отверстие в верхней части печи выводился из жилища наружу по горизонтальному каналу, состоящему из трехгранного перевернутого желоба, уложенного на обмазанную глиной доску. При раскопках во Вщиже в некоторых жилищах найдены примитивные кирпичи различной формы, лежавшие развалом в виде широких полос. Б.А. Рыбаков интерпретировал эти находки как остатки дымоходов. В северно-русских районах остатки дымоходов пока нигде не обнаружены, однако имеются данные, позволяющие думать, что дымоходы применяли и здесь.
Своеобразный вариант жилищ XII–XIII вв. представляют собой жилые клети, входящие в конструкцию оборонительного вала (табл. 44, 1, 2). Наиболее ранние срубные клети, примыкающие к оборонительному валу и не засыпанные землей, относятся ко времени до X в. Однако клети эти не имели печей и, следовательно, имели хозяйственное, а не жилое назначение. В XII–XIII вв. уже достаточно часто строили крепости, в которых такие клети с самого начала предназначались для жилья. Конструктивная система подобных клетей и их соединения с валом различны; большей частью это связанная система срубов, хотя встречаются и отдельные срубы, приставленные один к другому. Иногда клети располагались в два ряда, причем к основному ряду клетей, имевших жилое назначение, примыкали клети второго ряда, обычно использовавшиеся для хозяйственных нужд. Ширина клетей, определяемая расстоянием между двумя параллельными срубными стенками, идущими вдоль вала, колеблется обычно от 2,5 до 3,2 м, но на Ленковецком поселении этот размер значительно больше — 4,4 м. Поперечные стенки, врубленные в продольные, расставлены на расстоянии от 3,0 до 4,2 м и только на Ленковецком поселении всего на 1,7–1,8 м, т. е. здесь клети повернуты вдоль вала не длинной, а короткой стороной.
Часто между двумя подобными клетями обычного размера помещается меньшая клеть. Очевидно, это свидетельствует о наличии не однокамерного, а более сложного жилища, состоявшего из двух клетей — большой и малой. Печь в этом случае обычно стоит в малой клети. Полы в жилых клетях большей частью глинобитные и лишь изредка дощатые. В нескольких случаях отмечена побелка внутренней поверхности стен клетей. Перекрытием служил бревенчатый накат или настил из плах, а поверх них — накат из тонких бревен. Над накатом лежал слой глины и земли, служивший одновременно основанием боевой площадки для защитников крепости.
Жилые клети имели распространение как в районах, где в это время господствовал тип наземных домов, так и в тех районах, где продолжали строить полуземлянки. Очевидно, что жилища в клетях оборонительных валов представляют собой не локальный вариант жилищ, распространенный на определенной территории, а особый тип, связанный со специфическим назначением и социальным характером данного типа укреплений.
Жилища XIV в. на территории лесостепной зоны почти совершенно не изучены. Немногочисленные поселения, относящиеся ко времени после татаро-монгольского вторжения, начинают раскапывать лишь в самые последние годы. В тех случаях, когда следы жилищ XIV в. все же удавалось выявить, они оказывались наземными. Некоторые жилища XIV в., обнаруженные на Буковине, — полуземлянки, сопровождаемые комплексом лепной посуды, — несомненно не являются славянскими и отражают передвижение сюда населения с соседних, более южных земель.
На территории лесной зоны жилища этого времени известны довольно хорошо. Жилища XIV в. были раскопаны в большом количестве в Москве, Смоленске, Витебске, Полоцке, Новгороде и других городах. Все эти жилища наземные, рубленные «в обло» из сосновых или еловых бревен. В средней части лесной зоны (Смоленск, Витебск) они иногда не имели подклета, а пол их был земляным. Севернее они обычно были подняты на подклет, имеющий высоту в несколько венцов. Если пол был расположен невысоко над землей (на 1–2 венца), то для утепления вокруг дома делали земляную подсыпку, укрепленную досками, — завалинку. Так в большинстве случаев строили в Москве. Под нижним венцом сруба часто помещали бревенчатые подкладки или зарытые в землю столбы-стулья, иногда камни. Жилища в плане квадратные или близкие к квадрату, со сторонами от 3,5 до 6 м. В подавляющем большинстве они однокамерные.
Пол настилали из тесаных досок, уложенных по лагам. Доски, как правило, клали «по ходу», т. е. от двери к дальней стене. Печь ставили в углу: в северных районах обычно в ближнем ко входу, а южнее в дальнем от входа углу. Печи глинобитные или из глины с камнями, сводчатые, на столбовом опечке. В подавляющем большинстве они не имели дымоходов, т. е. топились по-черному.
В ряде пунктов (Новгород, Торопец и др.) в раскопках обнаруживали срубы, сохранившиеся на довольно значительную высоту. В таких срубах можно было увидеть даже оконные и дверные проемы. Рядом со срубами часто находили слои щепы, свидетельствующий, что строительство вели здесь же, на месте. Однако находили и такие срубы, на бревнах которых имелись метки, означающие, что сруб рубили на стороне, а затем перевозили в разобранном виде. Вход делали с высоким порогом, не перерубая нижний венец. Дверь — из пластин, соединенных брусьями. Перед входом снаружи часто сооружали сени легкой столбовой конструкции. Окна в жилищах большей частью маленькие, прорубленные в двух соседних бревнах так, чтобы ни одно бревно не было перерублено полностью. Окна волоковые. Отмечено наличие и более крупных «косящатных» окон в деревянных рамах. Такие окна имели слюдяные оконницы, а в Новгороде и Москве известны в XIV в. также и оконные стекла. Впрочем, такие окна имелись только в более богатых домах при отоплении по-белому.
При наличии дымохода в жилищах устраивали потолок из плах, опиравшихся на стену и центральную балку — «матицу». Для утепления над потолком, по-видимому, делалась земляная подсыпка. При топке по-черному потолка, как правило, не делали. Кровли были тесовые и из дубового лемеха.
В жилищах выдерживалась более или менее единообразная планировка: между печью и боковой стеной устраивали полати, а наискось от устья печи размещался «красный угол», где стояли лавки и стол.
Помимо рядовых однокамерных жилищ, археологическими раскопками были выявлены жилища более сложного типа, имеющие два-три, а иногда и больше помещений (табл. 44, Б). Такие многокамерные жилища встречаются в двух вариантах: заглубленные в землю (т. е. полуземляночного типа) и наземные. Многокамерные полуземляночные жилища известны только в районе среднего Поднепровья и все относятся к XII–XIII вв. Простейшими среди них являются обычные однокамерные жилища, имеющие со стороны входа дополнительное помещение. Это помещение имеет такую же ширину, как само жилище или несколько у́же его. Пол такого помещения либо на одной глубине с полом основного помещения, либо несколько выше его. Вход в жилище всегда ведет через это дополнительное помещение. Другим типом многокамерного жилища являются жилища, разделенные на две или три части внутренними перегородками. От таких перегородок обычно сохраняются канавки в материке, иногда с остатками древесной трухи. Иногда пол в жилищах такого рода расположен на разных уровнях. Подобные жилища имеют, как правило, ширину от 3 до 6 м, а длину 8–9 м. Глинобитная печь имеется лишь в одном помещении, причем в тех случаях, когда были обнаружены входы, они всегда вели в ту часть жилища, где стояла печь.
Значительное количество многокамерных жилищ было обнаружено в тех районах, где наземный тип жилища вообще являлся основным не только для богатых, но и для рядовых жилищ. Двухкамерные жилища имеют здесь характер срубов-пятистенков, т. е. таких срубов, которые перегорожены внутренней срубной стеной на два помещения. В Новгороде и Белоозере такие жилища отмечены уже в слоях X в., а в слоях XI в. в Новгороде срубы-пятистенки известны в довольно большом количестве. Совершенно такие же дома были раскопаны и на юге — на Подоле в Киеве. Особенно много срубов-пятистенков было обнаружено на поселениях XII–XIII вв. — в Новгороде, Пскове, Белоозере, Гродно, Новогрудке и др.
Следует отметить, что богатые двух- и трехкамерные жилища, вскрытые раскопками, в подавляющем большинстве относятся к XII–XIV вв. Несомненно, что такие жилища должны были появиться на Руси несколько раньше, вместе со сложением классовой структуры общества. Но, видимо, достаточно четко и в широком масштабе социальная дифференциация жилищ проявилась лишь к XII в.
В подавляющем большинстве древнерусские жилища были, вероятно, одноэтажными. Однако существовали двухэтажные и даже многоэтажные дома. Остатки нескольких таких домов XII–XIII вв. удалось обнаружить раскопками в Старой Рязани, Галиче, Любече, Киеве и еще в нескольких поселениях зоны лесостепи. Прямые свидетельства наличия второго и третьего этажа выявлены во многих новгородских жилищах: это упавшие сверху печи, лестницы, служившие для подъема на второй этаж, колонны, галереи. Такие многоэтажные жилища представляли собой сложные комплексы из нескольких срубов, объединенных сенями, переходами, галереями в хоромы.
Наиболее сложный вопрос, встающий при археологическом изучении жилищ — выяснение устройства их верхних частей. Жалкие остатки, находимые при раскопках, позволяют предложить в лучшем случае лишь весьма гипотетические реконструкции, да и то в виде общей схемы. Сложность, а во многом и спорность реконструкции верхних частей древнерусских жилищ делает пока невозможной их достаточно убедительное и детальное графическое воссоздание (Спегальский Ю.П., 1972). Решить проблему воссоздания наружного облика древних русских жилищ можно будет только с накоплением нового археологического материала.
Жилища Киева. Среди археологических памятников древнего Киева едва ли не последними, обратившими на себя внимание археологов, были рядовые жилища. Главной причиной этого, несомненно, являлась трудность их выявления и исследования. Только на исходе первого десятилетия XX в. В.В. Хвойко обнаружил на Старокиевской горе остатки древних жилых построек. Судя по чрезвычайно краткой публикации их было более 20. К сожалению, ни одна не была раскопана полностью. И, тем не менее, наблюдения В.В. Хвойки представляют значительный интерес. Все исследованные постройки сохранили следы деревянных конструкций. По углам находились обгоревшие или истлевшие столбы, в середине — рухнувшие потолочные перекрытия. В ряде случаев отмечено наличие деревянных стен, состоявших из толстых бревен. Некоторые постройки, по мнению исследователя, имели и вторые этажи (Хвойко В.В., 1913. с. 69–74).
Важные материалы по древнерусским жилищам были получены в 30-е годы Киевской археологической экспедицией, а также в 40-50-е годы экспедициями М.К. Каргера, В.А. Богусевича. На это же время приходится и начало дискуссии об основном конструктивном типе жилищ древнего Киева.
Наблюдения В.В. Хвойки о наличии мощного деревянного каркаса в массовых жилищах древнего Киева, а также выводы Г.Ф. Корзухиной о двухэтажных постройках, основанные на материалах его раскопок (Корзухина Г.Ф., 1956, с 318–336), подвергались критике со стороны М.К. Каргера. Многочисленные отлично сохранившиеся остатки жилищ, открытые в Киеве, как считал исследователь, неоспоримо свидетельствуют о том, что основным типом массового городского жилища даже в самом крупном городском центре Киевской земли вплоть до XII–XIII вв. продолжала оставаться полуземляночная постройка. Над заглубленной частью возвышались глинобитные стены, деревянный каркас которых состоял из нескольких вертикальных столбов, врытых в землю, соединенных между собой немногочисленными деревянными перевязями, переплетенными тонкими прутьями (Каргер М.К., 1958, с. 350).
Изложенная выше характеристика массовых жилищ Киева и других городов южной Руси разделялась не всеми археологами. Так, В.К. Гончаров, В.А. Богусевич, В.И. Довженок, считая вывод о землянках как основном типе жилищ в Среднем Поднепровье ошибочным, допускали широкое распространение в Киеве срубных сооружений. Полуземлянки, по их мнению, были результатом лишь временных тяжелых обстоятельств, как, например, военный разгром, пожары и другие бедствия. (Богусевич В.А., 1964; Довженок В.И., 1950, с. 71–72). Этот вывод археологов разделяли и многие историки, считая его более обоснованным, чем категорическое мнение о всеобщем господстве полуземлянок. «Уж очень бедным и жалким, — замечал М.Н. Тихомиров, — оказывается Киев, „соперник Константинополя“, со своими полуземлянками» (Тихомиров М.Н., 1956, с. 145).
На основании изучения исторической топографии древнего Киева и археологических источников удалось прийти к выводу о сосуществовании в Киеве двух основных типов жилищ — наземных срубных (табл. 48) и построек столбовой конструкции с углубленной нижней частью. Последние благодаря своей заглубленности обнаруживаются археологически значительно легче, что и создало несколько искаженную картину характера массовой застройки древнего Киева (Толочко П.П., 1970, с 111–118, 128–129).
В настоящее время археология Киева располагает материалами исследований более чем 200 построек IX–XIII вв. Половина из них раскопана в последние десятилетия, что дало новый важный источник для объективного решения вопроса о конструктивном типе древнекиевского жилища. В целом он подтвердил правильность высказанного ранее вывода о существовании в древнем Киеве каркасно-столбовых и срубных жилищ.
Остатки жилищ столбовой конструкции в большом количестве выявлены в пределах Верхнего города. Они представляют собой прямоугольные углубления в лёссе, по углам которых находятся ямы от столбов. В некоторых жилищах между угловыми столбами прослежены в материке неглубокие канавки, в которых лежали бревна — лаги. В одном из углов, чаще правом, дальнем от входа (в однокамерных жилищах) или ближнем правом основной камеры (в двухкамерных) находились глинобитные печи. Размеры углубленных частей, как правило, невелики — от 10 до 10–20 кв. м. В заполнении некоторых жилищ прослежен мощный горелый слой, представлявший собой завал угля, пепла, кусков обожженной глины. Их основания опущены в материк, как правило, от 0,20 до 0,70 м. В редких случаях глубина залегания пола построек достигает 1,2–1,5 м.
Изучение жилищ столбовой конструкции, исследованных в Верхнем городе, убеждает в том, что их конструктивное решение было иным, чем это представлялось М.К. Каргеру и другим исследователям. Это не были легкие глинобитные постройки, каркас которых состоял из нескольких столбов и жердей, переплетенных тонкими прутьями. После пожара от такого сооружения должен остаться мощный завал обожженной глины, между тем археологи его практически не находят. Но зато почти всегда удается проследить слой горелого дерева. Достаточно посмотреть на чертежи жилищ XII–XIII вв., раскопанных М.К. Каргером на территории Михайловского монастыря в 1938 г., а также во дворе № 4 по ул. Б. Житомирской (Каргер М.К., 1958, с. 305–311, 328), чтобы убедиться в значительной роли дерева в киевских постройках. Отметив совершенно справедливо, что эти жилища не могут быть отнесены к типу срубных, М.К. Каргер все же неверно определил их конструкцию: по его мнению, в отдельных случаях вместо глиняной обмазки стенки углубленной части жилищ были обложены досками, которые укреплялись в пазах угловых столбов, наземные их части имели глинобитные стены.
Более вероятным представляется предположение о том, что прослеженная М.К. Каргером и отмеченная другими исследователями конструктивная деталь нижних частей жилищ характеризует и тип в целом. Способ сооружения домов «взаклад» (в Среднем Поднепровье он называется «взакидку») дожил до наших дней. Применялся он преимущественно в районах с сухими почвами.
Столбовая конструкция жилых домов древнего Киева IX–XIII вв. представляется нам в следующем виде. В углах, а иногда и посередине жилища вкапывались столбы диаметром 0,25-0,35 м. В верхней части, а при наличии второго этажа и посередине, столбы «перевязывались» горизонтальными балками, способными нести чердачное или междуэтажное перекрытие. Стены возводились из горбылей или бревен, закрепленных в пазах вертикальных опор конструкции. После окончания строительства такой дом обмазывался тонким слоем желтой глины и, возможно, белился. Что касается плановой структуры, то она была, как правило, двухчастной. К основному, жилому помещению примыкали сени, которые сооружались, вероятно, из более легких конструкции, не связанных с основными объемами здании. Сейчас уже вряд ли может быть сомнение в том, что площадь киевского жилища IX–XIII вв. значительно превышала ту, которую занимало прямоугольное углубление.
Кроме столбового, в древнем Киеве имел широкое распространение и тип срубных построек. Еще до археологического выявления последних об этом можно было говорить на основании целого ряда косвенных данных, прежде всего срубных гробниц IX–X вв., которые, несомненно, конструктивно повторяли жилой дом, а также деревянных городен, применявшихся для насыпки оборонительных валов. Указание на срубный тип построек Киева имеются и в летописи. В 1016 г. киевляне, выступавшие со Святополком против Ярослава, кричали новгородцам: «Что придосте с хромъцемъ симъ, а вы плотници суще? А приставимъ вы хоромомъ рубити нашимъ» (ПВЛ, 1950, ч. I, с. 96).
К сожалению, ни М.К. Каргер, ни другие археологи, занимавшиеся киевским жилищем, не сочли возможным привлечь эти данные в качестве источника для решения вопроса о конструктивном типе массовой застройки древнего Киева. Прошли они и мимо целого ряда более надежных, в том числе и археологических, доказательств наличия в Киеве срубных построек.
Отрицание срубной застройки в древнем Киеве явилось результатом не только недостаточного внимания к накопленным археологическим источникам, но и следствием предубежденности в решении проблемы массовой застройки древнего Киева. Между тем первые срубные постройки в Киеве были обнаружены одновременно с каркасными в 1907–1908 гг., когда В.В. Хвойко производил значительные раскопки в самом центре древнего Киева, в пределах современной усадьбы Государственного исторического музея УССР. Опубликованные Г.Ф. Корзухиной выписки А.А. Спицына, сделанные из дневников В.В. Хвойко, свидетельствуют о том, что исследователю удалось обнаружить целый ряд жилых построек, среди которых были и срубные (Корзухина Г.Ф., 1956, с. 318–341). К такому выводу в последнее время пришел и П.А. Раппопорт (Раппопорт П.А., 1973, с. 85).
Срубные постройки XII–XIII вв. были обнаружены в 1909 г. в усадьбе митрополичьего дома (угол ул. Стрелецкой и Георгиевского переулка) раскопками В.Д. Милеева; в 1940 г. между стеной Михайловской и Трапезной церквей — Г.Ф. Корзухиной; в 1948–1950 гг. на Замковой горе и Подоле — раскопками В.А. Богусевича; в 1967 г. в усадьбе № 14 по ул. Б. Житомирской — раскопками П.П. Толочко.
Последние сомнения в существовании в древнем Киеве срубных построек были рассеяны после раскопок Киевской постоянно действующей археологической экспедиции Института археологии АН УССР, осуществленных в 1972–1976 гг. на Подоле (табл. 49). В различных его районах на глубине от 4 до 12 м раскопано около 60 срубов IX–XII вв. Оказавшись перекрытыми овражными выносами и речными намывами, нижние части срубов прекрасно сохранились до наших дней. Отдельные имеют по пять-шесть, и даже по девять венцов. Размеры срубов различные. Жилые достигают 40–60 кв. м, хозяйственные — 16–18 кв. м. Все срубы рублены «в обло» из сосновых бревен. Диаметр их различен. В жилых постройках диаметр бревен достигает 20–25 см, в хозяйственных — 10–16 см. Многие жилые постройки срубного типа, как и каркасно-столбовые, были двухъярусными домами на подклетах (Толочко П.П., 1981, с. 70–77).
Таким образом, новые археологические исследования окончательно убеждают в том, что срубный тип построек имел значительное распространение в древнем Киеве. Удельный вес его в общей застройке города не только не меньше каркасно-столбового типа, но, вероятно, значительно больше. Целиком срубной была застройка одного из крупнейших районов Киева — Подола, не были редкостью срубы и в верхних его районах. Следовательно, выводы о коренном отличии историко-архитектурного развития древнего Киева от Новгорода и других районов лесной зоны Киевской Руси не соответствуют действительности. В результате раскопок Киевского Подола получены материалы, аналогичные раскопанным в Новгороде, Старой Ладоге, Полоцке, Бресте и других городах северо-западных и северо-восточных районов Руси.
Исследование киевских построек показало, что они имеют практически все варианты строительной техники, отмеченные исследователями для северо-западных и северо-восточных районов Руси. Рубка киевских (как и новгородских, минских, смоленских и др.) срубов выполнена «в обло» с выпуском остатков длиной 20–30 см, реже 40 см. Все они сложены из сосновых бревен диаметром от 16 до 25 см. Чашки замков и паз всегда выбраны в нижнем бревне. Лаги для настилки полов бывают врублены в венцы и положены на землю; основания срубов устроены чаще всего из системы бревенчатых подкладок, но встречаются и деревянные «стулья». Нередки в киевских срубах и наружные венцы или обноска, характерные для построек Минска, Полоцка, Гродно, Рязани и других городов.
Типологически киевские срубные постройки практически также не отличаются от новгородских, староладожских, брестских и др. Здесь представлены те же три типа жилищ, которые имели повсеместное распространение и в лесной зоне: однокамерные срубы, двухкамерные избы-пятистенки и многокамерные постройки, состоявшие из нескольких срубов. Избы-пятистенки появились в Киеве уже в X в., однако, как и в других древнерусских центрах, массовое их строительство относится к XI — началу XIII в. Плановая структура киевских пятистенков аналогична общепринятой на Руси схеме двухкамерных жилых построек. Вход в такой дом находился в меньшей камере (или сенях), а печь всегда стояла в одном из углов большого квадратного помещения, чаще всего в правом или левом ближнем от входа. Печи исключительно глинобитные.
Сказанным, естественно, не исчерпываются элементы сходства древнекиевских срубных жилищ с жилищами других центров Руси, но и приведенного достаточно, чтобы прийти к выводу о преобладании среди массовой застройки Киева IX–XIII вв. общерусских архитектурных типов построек.
В определении характера планировочной структуры города очень важное значение имеет вопрос о том, что было основным элементом его массовой застройки — дом или усадьба? Отвечая на него, некоторые исследователи приходят к выводу об отсутствии в Киеве IX–XIII вв. огражденных заборами дворов. Дома стояли впритык один к другому, как и в любом европейском городе тех времен.
Многолетние археологические раскопки, особенно исследования последних лет на Подоле, показали, что в древнем Киеве, как и в других древнерусских городах основным звеном планировочной структуры была усадьба. Каждая из исследованных подольских усадеб состояла из одного жилого дома, двух-трех построек хозяйственного или производственного назначения и была обнесена высоким дощатым забором (реже частоколом). В застройке усадеб наблюдается определенная планировочная закономерность. Жилые дома стоят на некотором удалении от хлевов, комор и производственных построек, но как и последние, всегда вдоль заборов. Центральная часть усадьбы оставалась свободной от построек. Удалось выявить два типа усадеб: небольшие (площадь 250–350 кв. м), принадлежавшие низшим слоям киевского населения, и средние (площадь 600–700 кв. м), в которых, судя по раскопкам на Красной площади, проживали представители купеческого сословия (Толочко П.П., 1981, с. 85–92). Усадеб больших, площадью 1000 кв. м и больше, хорошо известных по раскопкам Новгорода, на Подоле не найдено. Это не значит, что их здесь и не было. Дворы Радьславль и Лихачев, упоминаемые в летописи, конечно же, были большими феодальными усадьбами, где, кроме их владельцев, проживали мелкие ремесленники, челядь.
В большей мере крупные феодальные дворы были характерны для Верхнего города, являвшегося средоточием земельной знати и богатого купечества. К сожалению, проследить их размеры ни разу не удалось и вряд ли удастся. С одной стороны, это связано с невозможностью проводить здесь раскопки широкими площадями, с другой — с плохой сохранностью археологических объектов. В связи с этим значительную ценность приобретает известный летописный рассказ 945 г. о детинце Киева времен Ольги. Пытаясь дать четкое представление о том, где располагался Ольгин град, летописец XI в. указывает: «Градъ же бѣ Киев, идеже есть ныне двор Гордятинъ и Никифоровъ, а двор княжь бяше в городе идеже есть нынъ двор Воротиславль и Чюдин» (ПВЛ, 1950, с. 40).
Следовательно, на территории древнейшего детинца, занимавшего площадь около 2 га, во второй половине XI в. находилось четыре боярских усадьбы. Если предположить, что примерно половина этой площади отошла к расположившимся здесь усадьбам Десятинной церкви, «Деместника» и Мстислава, то и тогда на одну боярскую усадьбу придется более чем по 2000 кв. м. Конечно же, здесь проживали не только семьи названных бояр, но и многочисленная челядь, а также ремесленники. В этом и следует искать объяснение, почему в самом центре Киева, рядом с дворцами и храмами, располагались жилища городской бедноты, ремесленные мастерские.
В настоящее время можно высказать некоторые суждения о градостроительной и планировочной схеме древнего Киева. Единой схемы, характерной для разных районов города, в нем не было. Слишком различными были их топографические условия.
В Верхнем городе, как и в большинстве средневековых центров, планировка приближалась к радиально-кольцевой (Бунин А.В., 1953, с. 142). Обусловливалась она рядом факторов: наличием нескольких концентров укреплений с воротами, а также городских площадей у этих ворот и в центре города, вокруг соборов и монастырей. От Подольских, Софийских и Михайловских ворот «города» Владимира, Золотых, Лядских и Жидовских «города» Ярослава пучки улиц выходили на площадь «Бабин торжок», площадь у Софийского собора. Под валом каждой из частей Верхнего города также проходили городские улицы. Можно полагать, что основная планировочная сеть старого города, отраженная на планах Киева XVIII — начала XIX в. и сохранившаяся до наших дней, сложилась еще в древнерусское время.
В какой-то мере вывод этот может быть подтвержден и данными археологических исследований. Так, планировочная ось «города» Владимира судя по направлению мостовой, отходившей от Софийских ворот в сторону площади «Бабий торжок», почти совпадала с современной ул. Владимирской. Характерной особенностью жилищ, выявленных археологами в усадьбе № 14 по ул. В. Житомирской, являлось то, что все они ориентированы по одной линии, совпадающей с направлением современной улицы (Толочко П.П., Килиевич С.Р., Дяденко В.Д., 1968, с. 191–193). Аналогичная картина наблюдалась и во время раскопок 1978 г. в усадьбах № 36–38 по ул. Рейтарской. Все шесть выявленных здесь жилищ спланированы практически по оси улицы. Исследования 1981–1982 гг. к северо-западу от Софийского собора обнаружили следы двух городских улиц: одна из них (шириной около 6 м) проходила параллельно современной улице Полины Осипенко, другая (шириной около 3 м) — параллельно ул. Чкалова. Следы истлевшего дерева позволяют утверждать, что эти улицы имели мостовые.
Раскопки на склонах Старокиевской горы открыли террасную систему планирования. Для Киева, значительную площадь которого составляли склоны, полученные результаты имеют важное значение. Они дают возможность полнее представить его архитектурно-планировочный облик.
Иная система застройки характеризует Подол. Его современная планировка появилась после пожара 1811 г. и, естественно, не отражает древней. Более близким по структуре к древнерусскому был Подол позднесредневековый. Исследователи неоднократно отмечали, что зафиксированная в XVII–XVIII вв. планировка Подола несет в себе древние черты. Видимо, так оно и есть. Однако пытаться представить Подол XI–XIII вв. только на основании проекций поздних планов в более раннее время, как это делается в работах некоторых архитекторов, вряд ли возможно. Здесь, безусловно, главная роль принадлежит археологии. К сожалению, несмотря на большие достижения в деле изучения Подола, накопленных данных еще недостаточно для реконструкции его древнерусской планировочной сети. На основании раскопок 1969 г. по ул. Ярославской, № 41, 1972–1973 гг. на Красной площади между улицами Героев Триполья и Хоревой, на Житном рынке; 1974 г. по улице Волошской, № 17 можно высказать лишь некоторые общие соображения. (Толочко П.П., 1981, с. 92–93). Планировка древнего Подола носила порядово-ветвистый характер, зависевший от естественных условий района. Важными градообразующими факторами для него служили, с одной стороны, Днепр, с другой — горная гряда. Последняя рассекалась оврагами, из которых вытекали ручьи (Киянка, Глубочица), а также выходили некоторые городские улицы, ведшие из Верхнего города на Подол (например, Боричев Взвоз). У подножья гор они разветвлялись и расходились в разные стороны. В центре Подола была большая площадь, знаменитое летописное «торговище», вокруг которой располагались каменные храмы Богородицы Пирогощи, св. Михаила (Новгородская божница), св. Бориса и Глеба (Турова божница). Расходившиеся от этой центральной площади улицы собирались в пучки у городских ворот, находившихся в системе подольских укреплений. Как показали раскопки участка между ул. Героев Триполья и Хоревой, основные улицы Подола имели ширину 6 м, переулки — 3 м. Видимо, эти цифры являются показательными для всех районов Киева.
Конечной целью изучения массовой жилой застройки древнего Киева является архитектурное моделирование ее структурных элементов. В настоящее время имеется уже несколько опытов реконструкций: жилища, усадьбы, кварталы (П.П. Толочко, В.А. Харламов и др.) (табл. 49). Не все они одинаково хорошо обоснованы документальными данными, однако без попыток архитектурного моделирования многие вопросы массового городского строительства древнего Киева останутся недостаточно освещенными.
Жилища Новгорода. За 50 лет работы Новгородской археологической экспедиции собран огромный и разнообразный материал по истории древнерусского городского жилища, включая как простейшие одноэтажные жилища с минимумом внутреннего оборудования, так и богатые, сложные по плану и развитые в высоту хоромы. В Новгороде в слоях X–XIV вв. вскрыто более 2500 разнообразных построек, в том числе более 800 жилищ.
Археологические данные настолько обильны, подробны и конкретны, что в сравнении с аналогичными материалами других древнерусских городов являются уникальными эталонами для сравнения. Древние жилища раскопаны полностью на огромных площадях. Например, напомним, что площадь Неревского раскопа достигала почти 10000 кв. м. Поэтому постройки и их планировочные структуры могут изучаться в составе комплекса хором, застройки всей городской усадьбы и даже в составе городского квартала. Выявление планировочных структур, конструктивных узлов и архитектурных деталей позволяет на археологических материалах создать своеобразную строительную энциклопедию деревянного хоромного зодчества Древней Руси и выявить устойчивые архитектурно-конструктивные традиции.
В Древней Руси существовали постоянные типы сооружений и помещений, известные нам из письменных документов. Самую большую группу сооружений X–XIV вв. составляли избы и истобки. Известны хозяйственные постройки: медуша, погреб, клеть, скотница (ризница), житница, стая (хлев) и др. В богатых и развитых хоромах постройки получали название в зависимости от назначения — одрина, ложница, покоище, плотница, гридница, светлица, горница, баня. В состав хором входили терема, вежи, повалуши, палаты.
Наиболее сложными сооружениями на усадьбах были жилые дома. Разработке их конструкций, совершенствованию плана, оборудования, связям с другими постройками — клетями, хлевами, мастерскими, службами — древними строителями уделялось много внимания. Усовершенствования диктовались самими условиями жизни, традициями, привычками, вкусами и даже причудами владельца двора, но все же складывались устойчивые типы построек, структура жилого дома и его частей, связи между помещениями как по вертикали, так и по горизонтали. Не все типы строений могут быть выявлены археологическими средствами, но археологические материалы отражают все части хором, известные по письменным источникам.
Основным типом сооружений в конструктивном отношении являлась срубная клеть. Каркасные постройки в Новгороде известны, но применялись значительно реже. В срубах делались те помещения хозяйственно-бытового комплекса, где необходимо было сохранить тепло — избы, горницы, которые отапливались, и те помещения, где температура должна была быть постоянной, выше уличной, например хлевы, некоторые ремесленные мастерские. В срубах помещались житницы, амбары, клети, где хранилось ценное имущество. Каркасные постройки возводились в том случае, если колебания температуры в них не имели решающего значения: навесы, легкие хлевы для летнего содержания скота, пристроенные сени, крыльца, реже — мастерские.
Все сооружения в Новгороде вскрывались полностью в составе других построек усадьбы и изучались комплексно как составляющие единого хозяйства (табл. 50). Это позволяло достаточно надежно проводить их интерпретацию и даже намечать элементы реконструкции. При изучении всех сооружении удалось выявить наиболее характерные приемы конструирования зданий, стен, полов, печей, входов, крылец, связей между помещениями, выделить и изучить избы, сени, клети, хозяйственные и производственные постройки.
На возведение построек шли бревна диаметром в комлевой части от 16 до 35 см. Оптимальный размер бревен, как и сегодня, был около 25 см. Для изб обычно шел более качественный лес, а тонкий — на хозяйственные постройки. Размеры сооружений колебались в значительных пределах. В X–XI вв. избы рубились из бревен 5-6-тиметровой длины. К середине XII в. размеры срубов достигают максимальных размеров. Один из срубов, выполненный из цельных бревен, был величиной 13×14 м. Эти громадные дома были современниками крупнейших каменных соборов Новгорода XII в. К XIV в. характер застройки меняется, и наряду с обычными домами встречаются жилища миниатюрных размеров из бревен длиной 2,5–3,0 м.
Срубы на дворах Новгорода возводились сразу на месте. Они рубились «в обло» с остатком, с чашкой и припазовкой в верхней части бревен. Возведение хором проходило в строгой технологической последовательности. Вначале рубился сруб. В нем прорубались дверные и оконные проемы, настилались полы и кровля, возводилась печь и после этого велись работы по оборудованию интерьера. В такой же технологической последовательности мы будем рассматривать материалы хоромного зодчества Новгорода.
Конструированию нижней части сооружения древние строители придавали большое значение, так как от этого зависела долговечность постройки. Основу сооружения составлял нижний окладной венец, определявший план и пропорции всего сооружения. Соприкасаясь с землей, он находился в самых неблагоприятных условиях и разрушался быстрее, чем все другие конструкции. Поэтому для окладного венца выбирались толстые и мощные бревна. Материалы Новгорода показывают, что многие постройки, даже довольно больших размеров и, возможно, развитые в высоту, поставлены прямо на грунт. Во многих случаях, начиная с древнейших слоев, под окладным венцом встречаются различной длины подкладки из обрубков кряжей, бревен и плах (табл. 51, 1, 3–6). На подкладки шли концы от крепежных бревен лесосплава, остатки от разделки и подготовки леса под строительство, вторично использовались части разрушенных построек, строительные детали, бывшие в свое время частью архитектурного декора. Например, обрубки дубовых резных колонн X в. использованы как подкладки под сооружение XI в. (Арциховский А.В., 1956). Часть подкладок в тех случаях, когда они обнаружены под какой-либо одной стенкой или углом, делалась в связи с необходимостью поставить сруб горизонтально, не прибегая к земляным работам по выравниванию площадки. Подкладки выравнивали нижний венец и давали ему в пониженной части устойчивое основание. В одном случае для нивелировки угла применен столб, к которому подходили два не врубленные в него бревна нижнего венца (табл. 51, 2).
В Новгороде с его сырой почвой, высокими грунтовыми водами и увлажненным культурным слоем в жилищах необходимы были полы. Они прослежены в большинстве жилищ, в амбарах, хозяйственных клетях, обнаружены почти во всех помещениях для скота. Полы или различного рода настилы имелись в сенях и во всех производственных постройках. Конструкции полов всевозможных построек значительно различаются между собой и могут служить определяющим признаком при интерпретации постройки (Засурцев П.И., 1963, с. 23).
Полы настилались обычно на уровне первого, второго или третьего венца, в зависимости от этого различались их конструкции. В простейшем случае пол устраивался на уровне первого венца в виде жердевого или дощатого настила, уложенного прямо по земле, например в сенях при мастерских, клетях, хлевах, производственных постройках с грубой технологией, т. е. в холодных помещениях. Соприкасаясь с землей, такие полы быстро загнивали и разрушались, поэтому они делались из менее ценных материалов или же из теса вторичного использования.
В избах, теплых помещениях и клетях, где хранилось наиболее ценное имущество, полы делалось капитальнее и тщательнее. Они сооружались с учетом долговечности постройки. Настилы полов набирались из тесин или толстых досок, а в хозяйственных постройках, например хлевах и конюшнях, из плах и полубревен. Лаги, если надо было устроить пол на уровне второго венца, укладывались либо на землю, либо, как и окладной венец, на подкладки. Иногда бревно окладного венца и близлежащая лага имели общие подкладки (табл. 51, 3, 5).
При устройстве пола выше второго венца под лаги с определенным шагом ставились необходимом высоты столбики (табл. 51, 4). Столбики под лагами в верхней части для прочности иногда затесаны седлообразно (Засурцев П.И., 1963, 25). Концы лаг настила часто врубались в сруб. Плотники пользовались двумя способами врубки — сквозной, наиболее распространенной, и глухой (табл. 51, 5, 6).
В первом случае конструктивное крепление лаги ничем не отличалось от рубки стены с остатком. Лага лежала в специально вырубленной чашке и своим концом выходила из стены. Иногда в размер лаги в смежных бревнах вырубалось оконце, куда она входила своим концом. Глухая врубка характерна тем, что гнездо в бревне стены вырубалось до половины толщины бревна и узел, таким образом, был более совершенен в теплотехническом отношении.
Расстояние между лагами определялось практическими соображениями обеспечения прочности настила. Длина и местоположение лаг зависели от размеров сруба, плана и местоположения печи в жилищах. Крайние лаги располагались, соприкасаясь со стеной или на расстоянии в один-полтора диаметра бревна в зависимости от способа конструирования.
В жилых домах на лагах укладывались доски, в хозяйственных постройках — жерди и окантованные мелкие бревна. Доски в полах были колотыми, с обеих сторон тщательно обтесанными. Для производства досок выбирали прямослойные бревна из нижней части ствола. При настилке пола смежные доски по краям подтесывались для плотности соединения. Половицы изготовлялись из теса толщиной 5–6 см. Они свободно лежали по балкам, а набранная из них пластина пола своими концами упиралась в бревна сруба, что гарантировало жесткость конструкции. В некоторых домах торцы тесин опирались на плоскость, вырубленную в четверть вдоль бревна сруба. В зависимости от назначения помещения выбирался тип конструкции пола.
С середины X до середины XII в. в Новгороде вокруг крупных домов устраивали завалины. Вокруг избы на расстоянии 0,5–0,9 м от стен укладывались бревна более длинные, чем у сруба, каждое из которых фиксировалось парой кольев, вбитых в грунт. В углу они или соприкасались торцами, или же одно своим торцом упиралось в другое, не доходя до конца последнего на расстояние, чуть большее толщины бревна. В начале XI в. появляется рубленое соединение угла. Прямоугольно затесанный торец закладывается сверху в вырубленный паз. Во второй половине XI в. появляется завалина в виде венца, рубленого в чашку с остатком (табл. 51, 7, 8).
В середине XI в. зафиксирована квадратная в плане столбовая постройка, у которой были оригинально выполнены углы окладного венца и крепление столбов (табл. 51, 9, 10, 11). Отступя от конца бревна на расстояние, равное его толщине, были сделаны с боков вертикальные затески, как бы вырубившие из тела бревна фрагмент бруса, приблизительно равный половине диаметра бревна. Далее на каждом бревне сверху или снизу было стесано еще по половине бруса, после чего они стесанными горизонтальными поверхностями были наложены, образуя венец, в углах которого образовывались четыре пазухи. В них четырьмя шипами устанавливался угловой столб, который не давал возможности смещения горизонтальных бревен в узле. В настиле мостовой начала XII в. было вторично использовано бревно опорного венца такой же столбовой конструкции, только в узле опорного венца было сделано усовершенствование: вместо простой накладки бревна врубались в замок, образуемый вырубкой, равной толщине вставляемого бруса.
Кровля — самая ответственная часть сооружения, предохраняющая его от воды и обеспечивающая ему длительное существование.
В Новгороде найдена целая коллекция куриц X–XIV вв. как бывших в употреблении, так и в виде заготовок. Они сделаны из тонких елей с диаметром ствола в комлевой части 6-12 см. У молодой ели, вывороченной из земли, срезали сучья и корни, оставив только самый крепкий, мощный отросток корня, обрубали его в виде крюка (кокоры) высотой 20–40 см, затем затесывали ствол брусом. Крюк также плоско затесывали заподлицо с поверхностью боковых граней, придавая ему прямоугольное сечение. Иногда крюку придавали художественную форму, например личину животного.
Отступя на 50–60 см от края крюка, снизу делалась затеска с уступом (пятой), плоской частью обращенным в сторону крюка. Готовая курица членится на две части: обозримую — карнизную и скрытую — подкровельную.
В принципе возможны два способа крепления куриц, которые встречаются в народном зодчестве (табл. 51, 12–13). Первый — заделка курицы между двумя верхними бревнами стены с нижней заделкой подкровельной части в первую слегу крыши. Второй способ — заделка курицы сверху в верхнее бревно стены, называемое подкурятником, и в слегу. Несмотря на то что верхние бревна сруба не сохраняются и потолки не найдены, тем не менее длина подкровельной и карнизной частей курицы, форма и размер пяты, кривизна крюка и угол сопряжения крюка со стержнем курицы, выгиб стержня курицы кверху или книзу с геометрической точностью свидетельствуют об уклоне кровли, приемах рубки слег и самцов в порубе (табл. 51, 14, 15), и даже о том, какой тип потока применен — доска-застрешина, водотечник в форме бруса или же полукруглого желоба. Основные требования при реконструкции этого конструктивного узла заключаются в том, чтобы поток плотно и устойчиво лежал на крюке, чтобы в среднюю часть его входили тесины кровли, а последние покоились на слегах и плотно примыкали к самому верхнему бревну стены (называемому повальным или повальной слегой). Иконографические материалы свидетельствуют о популярности высоких тесовых кровель с повалами (табл. 51, 15); в богатых хоромах применялись четырех и восьмигранные шатры. С появлением лемеха в XII в. начинается разработка бочечных и кубоватых покрытий, которые существенно обогащали архитектуру города (табл. 51, 16, 17).
Наиболее элементарным типом новгородской избы была однокамерная срубная клеть с печью. Изба — многофункциональное помещение, различным образом используемое в течение дня и по временам года. Для суждения о внутреннем устройстве древней избы принципиальное значение имеют взаимоотношения между входом в избу, положением печи и ориентацией ее устья в помещении. Это связано с компоновкой всего интерьера избы: лавок, стола, полатей, утвари. Несмотря на хорошую сохранность срубов (иногда до четвертого венца), в Новгороде только в нескольких случаях сохранились следы дверного проема. Место входа в избу, которое в древности называлось «придверием», легко определяется по наличию отмостки перед одной из стен. Показателем входа являются остатки навеса, сеней, а в случае их отсутствия место входа определяется по местоположению избы среди других построек в планировке двора.
Изнутри вход «читается» по направлению половиц, которые, как показывают этнографические данные (Бломквист Е.Э., 1956, с. 23), настилаются вдоль «по ходу» в избу.
Среди материалов новгородской экспедиции имеется коллекция дверей, относящихся к XI–XIV вв. (табл. 52, 1). Все они сделаны на кренившихся в пороге и притолоке круглых шинах, на которых они вращались. По величине двери делятся на четыре типа: 1,60×0,82; 1,30×0,70; 1,04×0,67; 0,92×0,55 м. Дверной проем в зависимости от навешиваемого полотнища прорубался на различной высоте относительно пола, порог устраивался в один, два или три венца. Высота притолоки колебалась в пределах одного-полутора венцов. Первый тип дверей применялся в избах, второй был универсальным, малые двери использовались в помещениях преимущественно хозяйственного назначения.
В традиционном русском жилище этнографами выделены четыре основных устойчивых типа компоновки интерьера избы в зависимости от местоположения и ориентации печи относительно входа. Для северных районов характерно местоположение печи у входа в углу справа или слева; если печь обращена боком ко входу, то тип плана называется северо-среднерусским, если устьем ко входу, то западно-русским.
Большинство новгородских печей в плане квадратные, поэтому определение местоположения устья сложно. Соотношения вариантов плана избы не показывают какой-либо ясно выраженной непрерывной этнографической традиции, характерной для Новгорода (табл. 52, 2). Даже на территории одного двора встречаются различные типы планов. В целом с самого начала возникновения Новгорода преобладают северные типы планов. Серединное положение печи в избе встречается только в слоях X–XIII вв. Постройки с печью в середине, относящиеся к более позднему времени, П.И. Засурцевым трактованы на основании археологического бытового материала как поварни, пекарни и ремесленные мастерские (Засурцев П.И., 1959, с. 289).
По материалам Неревского раскопа Новгорода в хорошо сохранившихся 152 избах удалось определить место входа и выявить пять вариантов местоположения печи относительно входа: 66 печей (43 %) справа от входа, 47 (31 %) слева от входа, 19 печей (12,5 %) напротив входа в левом углу, в правом 13 (8,5 %) и семь печей в центре помещения (5 %). В производственных постройках печи располагались в середине (28 построек) или у одной из стен (15 построек) (Засурцев П.И., 1963, с. 38). В редких случаях встречаются печи с запечьем, когда печь отодвинута на некоторое расстояние от стены.
Можно предположить, что главная структура так называемого южнорусского типа с печами в углах напротив входа были занесены в Новгород извне. Они появляются здесь с конца XII в. и получают некоторое распространение в XIV в.
В Новгороде открыто несколько типов печей и очагов в зависимости от способов использования огня: как отопительные устройства; для приготовления пищи; производственного назначения и просто специально подготовленная площадка для открытого производственного очага.
Остатки печей представлены преимущественно опечками, развалами и основаниями, сооруженными непосредственно на земле, или отверстием для опечка в полу. Наземные печи имели преимущественно производственное назначение. На них иногда прослеживается конструкция тела печи.
Внутри избы поды печей были приподняты относительно пола на опечках. Древние мастера придавали большое значение устойчивости печи, поэтому опечек в подавляющем большинстве ставили самостоятельно, не связывая его конструктивно со срубом. Обычно это были четыре столба диаметром 20–40 см, расположенные прямоугольником или квадратом, реже два. Высота полностью сохранившихся столбов колебалась от 0,6 до 1,4 м. Они вкапывались в грунт на 40–80 см. Часто верх опечка и столбов уничтожен огнем. Опечки были или глухие, или раскрытые в избу (вероятно, со стороны устья), или открытые. В четырехстолпном глухом опечке (табл. 52, 3) в двух столбах, стоящих у стен, вырубалось по вертикальному пазу, а в угловом, выходящем в интерьер избы, два паза. В них забирались бревна, на концах отесанные до ширины паза, или плахи. Поверхность стенки опечка могла быть стесана или же оставлена облой.
В раскрытом опечке (табл. 52, 8) наглухо забиралась только одна сторона, а вторая оставалась открытой или же заслонялась щитом или изнутри вертикально прислоненными тесинами. Подпечье использовалось для хранения кухонного инвентаря. В большинстве случаев пол в нем был земляной, иногда настилались жерди или плахи прямо на землю ниже уровня пола избы. В верхней части каждого столба вырубался горизонтальный паз глубиной в толщину бревна, по ширине у́же. Народ метко окрестил их «вушаками» (Лебедева Н.И., 1929, с. 57).
В щели горизонтально укладывались балки в виде брусьев или бревен, подтесанные в соответствующих местах. Выбор конструктивного решения вытекал из архитектуры опечка: забран ли он был тесинами или же обрубками бревен, т. е. имел плоскую поверхность или округлую. В углу одной из производственных построек встретился шестистолпный опечек (табл. 52, 6). Он был составлен как бы из двух обычных по площади опечков. Столбы его диаметром 45 см имели высоту 80 см и возвышались, очевидно, над уровнем земли на 50–60 см. В верхние пазы столбов была заложена пара брусьев с выпусками-консолями. Можно думать, что консольные выступы балок имелись в конструкциях других типов опечков.
Встречались опечки на двух столбах (табл. 52, 4). Одна стена подпечья забиралась в пазы между этими столбами, а другая — в паз углового столба и в паз, вынутый вертикально в бревнах сруба. Столбы поверху соединялись балкой либо врубленной в ушаки, либо насаженной на шипы, вытесанные по верху столбов. Балки, несущие печь, одним концом опирались на упомянутую балку, а другим концом врубались в противоположную стену сруба.
Редко встречались срубные опечки (табл. 52, 8). Всего такие опечки в новгородских постройках отмечены около 15 раз. Размеры их составляли от 1,5×1,5 м до 2,5×2,0 м. Опечки в плане на уровне древнего пола имели размеры от 1,2×1,1 м до 2,0×2,5 м. Вполне возможно, что в некоторых жилищах, особенно в ранний период застройки X–XI вв., в домах с серединным положением опечка и в производственных помещениях с использованием открытого огня вместо печи на опечке устраивали очаг. В простейшем случае опечек забивался землей, а пол обмазывался глиной.
По конструкции печи были различные: каменки, глинобитные (табл. 52, 9, 10), глиняно-плинфовые, глино-каменные и глино-кирпичные. О сложных формах печей известно мало.
Важнейшими элементами интерьера древнерусской избы были лавки. Впервые они зафиксированы в полуземляночных жилищах роменской культуры. Лавки были сделаны как остатки земляного грунта, укрепленные от осыпания подпорными стенками (Рыбаков Б.А., 1939, с. 324). Днем они использовались для сидения, а ночью как ложе. Такие лавки были традиционными в древнерусских жилищах Рязани, Вышгорода, Суздаля и других городов. Эту особенность ярко выразил писатель начала XII в. Даниил «игумен земли русской» в описании святынь Палестины, которую он посетил в 1106–1107 гг. В пещере он отметил: «На десной стороне есть место, яко лавица засечена в том камени печерном, и на лавици той лежало тело Господа нашего Иисуса Христа» (Срезневский И.И., 1895, с. 2).
В избах лавки составляли стационарную мебель, рубленую вместе со стенами сруба. Оборудование избы лавками и декором обозначалось термином «нарядить нутро» (табл. 52, 10, 11, 12). В новгородской берестяной грамоте XIV в. есть фраза: «Наряжай избу и клеть» (Арциховский А.В., Борковский В.И., 1963, с. 73–74).
В некоторых немногочисленных жилищах с конца XII в. прослежены один, два, реже три вкопанных в землю столба на некотором расстоянии от стены, которые можно трактовать как опоры лавок (табл. 53, 2). Можно предположить, что на некотором уровне от пола со столбов перекидывались брусья на врубки, сделанные в стене; затем на них укладывались тесины лавок. Отсутствие массовых следов от лавок при раскопках свидетельствует либо о конструктивных приемах, при которых они не сохраняются в развале дома после пожара, либо о переносных скамьях, которые их заменяли.
Пространство между боковой стороной печи и стеной — традиционное место кровати. В Новгороде в избах XIII в. неоднократно прослежены столбы, стоящие у стены напротив боковой стороны печи. Столбы поставлены на расстоянии, равном ширине печи. В некоторых случаях обнаружены столбы, стоящие у опечка. Очевидно, на столбы опирались брусья, по ним укладывались доски. Одним концом брусья могли опираться на опечек. Припечный настил как цельнорубленое оборудование избы соответствовал «полу» в народном жилище украинцев и белорусов. В быту это «семейная кровать», на которой все члены семьи спят «впокот» от стены к печи (Шарко А., 1901, с. 128). Ширина настила равнялась стороне печи и была больше человеческою роста. Размеры настила в новгородских избах вписываются в типы, бытующие в русском народном жилище, и по ширине колеблются от 1,2 до 2,2 м, что близко к древним полусажени и сажени. На узком настиле спящие располагались вдоль, а на широком — поперек. Первый настил можно считать прообразом кроватей, а второй являлся чем-то вроде нар. Его вполне можно отождествить с древнерусским «одром».
В XIV в. под одром и лавками пол иногда не настилался (табл. 52, 11; 53, 2, 5, 6). Отсутствие пола свидетельствует об исключении подлавочного пространства из бытового использования, во всяком случае ежедневного. Со стороны помещения они наглухо заделывались вертикальными стенками. Очевидно, что заделка залавочья связана с какой-то временной архитектурной модой. Глухие ступеньки лавок и одра как бы повторяли в деревянных рубленых формах земляные лавки в полуземляночных помещениях лесостепной полосы Киевской Руси. Использование залавочья и пространства под одром особенно необходимо было зимой и весной. Жители Новгорода имели домашних животных, мелкую скотину, птицу, которые содержались летом в хлевах и на дворе. Зимою, как показывают этнографические материалы, хозяева, не имеющие теплых хлевов, размещали под кроватью овец и новорожденных телят, а под лавками — весной сажали птицу на яйца. Для этого со стороны помещения делалось плетеное или решетчатое заграждение (Анимелле Н., 1854, с. 127). Вполне возможно, что избы XIII–XIV вв. Новгорода без настилов полов под лавками и мостами являются остатками жилищ, в которых зимой и весной помещалась мелкая скотина и птица. При отсутствии пола здесь увеличивалась высота, что давало определенные удобства.
Позднее при развитии надворных строений и хлевов от этого приема конструирования лавок отказались. Для северных вариантов русского народного жилища, в том числе и в Новгороде, характерно открытое пространство залавочья (Даль В., 1955, с. 595). В двух избах конца XIV в. рядом с печью прослежены настилы, не связанные с полом избы. В одном из домов было два настила, верхний был, вероятно, остатками одра, а нижний замощением полости, образованной стенами опечка, избы и вертикальной стенки. Само замощение указывает на попытки использования этого пространства, выделенного из интерьера избы.
Пространство под одром с глухой стенкой представляло собой емкость, удобную для хранения ценных вещей, вполне возможно, что это была разновидность древнего ларя. В процессе развития интерьера избы одр в северном варианте плана был отделен дверью от печи, превратившись в коник.
Изба и сени — четкий и ясный комплекс народного жилища, имеющий древнее происхождение, к моменту возникновения Новгорода прошел длительную историю своего развития. Новгородцы начиная с X в. практиковали в жилых и хозяйственных постройках все разновидности сеней от простого навеса до самостоятельного помещения в развитых хоромах. Около двери на грунт в простейшем случае накладывается доска или камень, так как при длительном пользовании помещением грунт в этом месте выбивается. Перед однокамерными избами иногда настилается на лагах мост с тесинами, уложенными параллельно фасаду (табл. 53, 1). Однако это еще не сени, а только отмостка перед входом. Вполне возможно, что в верхней части постройки на выпусках повального и одного-двух ниже лежащих бревен устраивался навес, который можно связать с древнерусской сенью. От навеса иногда сохраняется несколько столбов, которые несут сень — самостоятельное покрытие, не связанное с кровлей самого сруба (табл. 53, 2, 3, 8). В принципе этот тип столбовых сеней без стен можно рассматривать как крыльцо, как навес для защиты входа от дождя, снега и грязи. Часть навесов, конструктивно связанных с клетью избы, сенями в бытовом смысле (крытое преддверие жилища), представляют собой сень в древнерусском понимании (табл. 53, 4). Для людей того времени любое легкое покрытие без стен являлось сенью (Срезневский И.И., 1903, с. 898).
Сень при избе, огражденная стенами, стала частью жилища и получила название сеней, т. е. холодного помещения широкого назначения при избе, сооружения, функционально связанного с ней, защищающего вход от ветра, от дождя, снега, в зимнее время препятствующее охлаждению избы через дверь. Зимой сени также смягчали перепад температуры между теплым воздухом помещения и холодным на дворе. Древняя изба строилась как двор вместе с надворными строениями не сразу, а постепенно. Сперва возводилась изба-четырехстенка, затем к ней пристраивались сени. Столбовые сени встречаются начиная с X в., но широкое распространение они получили в XII–XV вв. У наиболее бедных построек встречались сени в виде навеса с легкими стойками и тонкими жердевыми стенками, которые на зиму должны были утепляться соломой или сеном. Конструкция столбовых сеней проста: столбы вкопаны на 25–30 см в землю. Вдоль столбов вытесаны пазы, куда забираются горизонтальные жерди, тонкие бревна, тесины. Бревна на концах стесаны для плотной закладки в пазы, которые у́же, чем диаметр горизонтальных вкладышей (табл. 53, 5).
Часть сеней Новгорода можно назвать прирубленными (табл. 53, 6). Они представляют собой трехстенный венчатый прируб, примыкающий обычно к продольным стенам избы. В богатых жилищах, особенно на первых этапах развитии Новгорода, встречались цельнорубленные с избой сени в виде пятистенка с неравными по площади отсеками: больший, приближающийся к квадрату, с печью — изба, а меньший, продолговатый — сени (табл. 53, 7). Иногда сени пристроены к избе позднее, не занимают весь фронт фасада избы, а примыкают как клеть, вне зависимости то того, выполнены они венчатым трехстенком или в виде столбовой конструкции. Они напоминают глухое крыльцо, в плане приближающееся к квадрату (табл. 53, 5, 6). Вероятно, подобные сени в XI–XIV вв. назывались «преклетами» (Срезневский И.И., 1895, с. 1654). Часть преклетов хотя и примыкала к избам, но сенями не являлась, особенно если при срубе имелось крыльцо (табл. 53, 8). Выбор конструктивного решения диктуется положением сеней в плане дома и архитектурно-художественными соображениями. При двухчастной структуре жилища сени будут выполнять свое назначение проходного холодного помещения вне зависимости от того, сделаны ли они срубом, трехстенком или же выполнены в каркасной технике. Встречались сени, выполненные в смешанной технике, например трехстенок своими неперевязанными бревнами забирался в пазы вертикальных столбов. Встречались случаи, когда у сеней был одни угол выполнен с перерубом, а другой забран в столбы (табл. 53, 9). Сени трактованы как огороженное перекрытое пространство перед входом в избу.
В одном из домов XV в. с южнорусским типом плана избы со стороны входа примыкали столбовые сени. Над входом был навес, опирающийся на пару столбов и стену: одни из столбов около угла сруба сохранился. Сени были по площади несколько меньше, чем изба. Стоящая в них пара столбов позволяет говорить о включении в них двух чуланов, выгороженных из половины площади подкровельного пространства (табл. 53, 10). Сени в сочетании с клетью и избой дали устойчивую трехчастную ячейку народного жилища на протяжении всей истории русского деревянного зодчества. Конструкция сеней была проста. В промежутке между срубами в углах ставились столбы. В них вырубались вертикально пазы, в которые горизонтально забирались бревна стен. В нужных местах устраивались двери и окна. В новгородском жилище сени между избой и клетью встречаются с середины XII в. Наибольшее распространение они получают в XIV в.
Преддверие сеней в богатых домах XI–XII вв. отмечалось специальными настилами, ведущими к самому дому (табл. 53, 7). Дворовый настил отличался от настила мостовых улицы: вдоль движения укладывались бревна на расстоянии около 3,0 м друг от друга. В них с внутренней стороны были выбраны четверти или пазы, в которые закладывались широкие тесины (табл. 53, 11, 12). Иногда вместо вымостки, проходящей через двор, перед входом устраивалась площадка. Около стены укладывался обрубок бревна со стесанной поверхностью, на некотором расстоянии укладывалось такое же бревно. Для предупреждения смещения бревен и тесин в процессе эксплуатации настила около торчащих из-под настила торцов бревен забивались колья. Между кольями с бревна на бревно вкладывались бревна, подтесанные сверху и снизу (табл. 53, 13, 14, 15). Иногда в наиболее богатых домах площадка устраивалась таким же образом на всю ширину сеней (табл. 53, 16).
Если уровень пола помещения был высок и вход с настила становился неудобным, то последний укладывался на лаги, поперечно положенные под балки настила. Перед площадкой — рундуком дополнительно укладывалась на землю тесина. Площадка превращалась в простейшее крыльцо (табл. 53, 17). Распространены были высокие безрундучные крыльца. По обеим сторонам дверного проема вкапывались два бревна, сверху в них вырубались выемки, в которые на нужной высоте укладывался брус. На него опирались врубленные верхние концы тетив лестницы. На некотором расстоянии от стены на землю укладывался параллельно массивный брус (табл. 53, 18). В нем была пара выемок, в которые вставлялись в шип нижние концы тетив лестницы со ступеньками. Встречающиеся обломки тетив показали, что высота ступенек была приблизительно равна их ширине, а уклоны маршей были от 45° и круче. Опоры лестницы встречаются начиная с XII в. и позднее. Более ранних примеров пока не зафиксировано, но о «всходах» храмов уже сообщает Изборник 1073 г. (Срезневский И.И., 1893, с. 427). Новгородские материалы показали, что «всходы» были типичным явлением в древнерусском жилище, подтверждая широкое распространение домов на подклетах. Основания лестниц вырубались из толстого кряжа. Его массивность и тяжесть вместе с весом крутой лестницы обеспечивали устойчивость без каких-либо укреплений. Лестница могла быть устроена в любом месте и даже поставлена прямо на тесовый пол, например в сенях (табл. 53, 19).
В зависимости от назначения здания выбирался тип всхода (лестницы). Несмотря на строительство некоторого числа примитивных безрундучных всходов, в XIII в. встречаются более развитые (табл. 53, 20, 21) в виде небольших крылечек с тремя ступеньками и небольшим рундучком. Одно из них полностью сохранилось. В хозяйственных службах использовались лестницы — шеглы из бревна с вырубленными ступеньками (табл. 53, 22).
Ширина лестничных маршей колебалась в пределах 0,8–0,9 м в зависимости от метода разметки ступеней, просвета между тетивами или расстояния по наружным граням тетив. Поскольку «всход» связан с размерами человека, то вполне естественно, что ширина оставалась на протяжении веков мало изменяемой величиной. Лестница служила чисто практическим целям. Подобные лестницы встречаются на двухэтажных амбарах XIII–XIV вв. (табл. 53, 23) Новгорода, в деревянных часовнях и колокольнях XVII в., в спусках в подклеты старых сельских домов XIX в. Не выходили из этих размеров внутренние лестницы на хоры каменных храмов XII в., выложенные в толще стен.
В избах крыльца примыкали к сеням с широкой или узкой стороны. Часть крылец, вскрытых в Новгороде, была связана не с подклетной частью изб, а вела непосредственно в парадную горницу на подклете. По сравнению с материалами этнографии они миниатюрнее и изящнее, оборудованы внизу площадками, открытыми или под навесом. В первой четверти XI в. уже встречаются тип крыльца с небольшим срубным рундучком, для устойчивости засыпанным внутри песком. От нижнего рундука шла крутая узкая лестница на тетивах к верхнему рундуку, устроенному из прямоугольного сруба, широкой стороной обращенного к лестнице, а противоположной стороной примыкавшего к узкой части сеней (табл. 54, 1). Над входной площадкой и всходом иногда устраивался навес на столбах, тем самым крытый всход превращался в собственно крыльцо (табл. 54, 5). Архитектура древних крылец Новгорода отражается позднее в палатном письме, архитектурной графике XVII в. и народном зодчестве (табл. 54, 2, 3, 4).
Оригинальное крыльцо было обнаружено в одном из богатых домов середины XII в. (табл. 54, 6, 7) во дворе, расположенном на юго-восточном углу пересечения Великой и Козьмодемьянской улиц. Дом — пятистенный сруб с квадратной избой и продолговатыми сенями. К узкой части сеней, обращенной в сторону ворот, было пристроено крыльцо. Полностью сохранилась нижняя его часть с широкой замощенной площадкой. Конструкция его на первый взгляд проста. Вдоль стены на подкладках из толстых обрубков бревен лежало бревно. Параллельно ему на расстоянии косой сажени (2,20 м) стояли четыре мощных столба. На уровне лежащего вдоль стены бревна в столбах были пробиты сквозные прямоугольные отверстия. В них был пропущен, прямоугольный брус. С бруса на бревно были перекинуты четыре балки. По ним был настлан мост рундука из широких тесин. Перед площадкой крыльца лежали две тесины — остатки ступенек лестницы. Для низкого крыльца не было необходимости применять сложную конструкцию сочетания лежней и мощных коротких столбов. Ясно, что столбы были высокие. Нижняя часть отверстий, в которые был пропущен опорный брус рундука, сохранилась, а сами столбы на уровне верха бруса были после гибели дома при расчистке развала обрублены. Вероятно, они несли второй этаж, который можно связывать с летописной «сеньницей». Нижний рундук служил только для прохода в сени. Следов наружной лестницы не обнаружено. Вне сомнения, лестница на второй этаж была в сенях на месте разрушенных половиц.
С сенями связан вопрос о галереях как важнейшей части архитектуры богатых феодальных хором (табл. 55). Более определенно о существовании галерей свидетельствуют комплексы, где сохранились следы столбов. К середине XII в. относятся две постройки, стоящие рядом (табл. 55, 2). Контур меньшей обрисован хорошо сохранившимся настилом из тесин по двум лагам. Западная стена преддверия сделана в виде выпуска венцов, настил отсутствует, что связано, вероятно, с устройством всхода. На месте восточной стены сохранился ряд из трех столбов. Вполне вероятно, что преддверие по контуру настила было ограничено стенами: рубленой западной, выполненной как часть сруба избы, а южная и восточная были забраны в столбы. Два южных столба были связаны с конструкцией галереи. Большая постройка представляет собой пятистенок, нижний венец которого полностью сохранился. Перед сенями обнаружена отмостка, которая по направлению плах не совпадает с настилом сеней, что указывает на самостоятельное ее значение. В столбах не обнаружено врубок для горизонтальной заборки стен, что указывает на наличие свободного пространства перед входом. Около юго-западного угла пятистенка прослежен столб, что в совокупности с четырьмя столбами перед сенями и двумя столбами соседней постройки, лежащими на прямой линии с ними, дает право предполагать общую для обеих построек галерею или навес. Можно допустить существование прохода по второму этажу в виде крытого или открытого гульбища, известного по летописи как «переход» (табл. 55, 1).
К началу XII в. относится пятистенок с центральным положением печи. С двух сторон он дополнен на некотором расстоянии еще одним венцом. Со стороны сеней венец лежал на расстоянии 1,0 м, а сбоку на расстоянии 1,35 м. Сооружение плохой сохранности, но все углы прослежены. От внешней обвязки к срубу был устроен настил из широких плах (табл. 55, 3). Вполне возможно, что по нижнему венцу лежал еще один венец, в который на шипах могли быть установлены столбы, несущие прикрывающий отмостку навес или галерею.
Наиболее четко галерея представлена в постройке конца XII в. (табл. 55, 4), где сохранились два ряда столбов с пролетом около 2,0 м на расстоянии от сруба 0,9 м, шедших вдоль бокового фасада. Галерея поворачивала под прямым углом и шла вдоль сеней. Перед сенями пролет между столбами был меньше — около 1,0 м. Обходную галерею имел каменный дом Юрия Онцифоровича, жившего в начале XV в.
Помимо жилищ, возводилось значительное количество сооружений самого различного назначения, связанных с ремесленным производством и особенностями быта обитателей дворов. Это были клети для хранения различного инвентаря, житницы, конюшни, хлева, сараи, навесы, мастерские, связанные с меднолитейным, ювелирным, гончарным, кожевенным и другими производствами, поварни и т. п. сооружения. Часть сооружений была холодной, а другая — отапливаемой, одни были сезонного использования, другие — круглогодичного. В зависимости от материальных возможностей хозяина они были различными по качеству применяемых материалов, обработке дерева, размерам, компоновке между собой и жилищами.
Несмотря на самое различное назначение, хозяйственные постройки имеют много общего в конструктивном отношении с жилыми. Наибольшую группу составляют срубные клети универсального назначения. В них настилаются тесовые полы и они по существу могут являться летними жилыми помещениями. Во многих случаях полы устроены по лагам, уложенным на столбы, т. е. они выше, чем обычно в избах.
В простейшем случае хозяйственная постройка представляет собой навес на столбах. Иногда навес дополнялся стеной из плетня, стеной в забирку или даже комбинированным ограждением (табл. 56). В одной из маленьких клетей в качестве стены использован разделяющий дворы частокол, к которому примыкали стены в забирку.
Окладному нижнему венцу в хозяйственных постройках уделяется такое же внимание, как и в избах. Широко применяются выравнивающие подкладки. В одной клети начала XII в. (табл. 56, 6) в качестве подкладок употреблены бревна завалин, положенные перед входом и по бокам, но не связанные друг с другом. Окладный венец клети имеет большие, чем обычно, выпуски, пересекая бревна завалины. Перед входом сделана из тесин неширокая отмостка.
Место входа в хозяйственных постройках зачастую отмечалось отмосткой, положенной вдоль стены (табл. 56, 6, 7), для чего иногда продольные бревна в окладном венце имели специальные выпуски (табл. 56, 6). Над входом устраивался на консолях навес кровли (табл. 56, 9). Часть клетей была выполнена в виде пятистенка, который повторял схему избы с сенями, но без печи. В одном пятистенке XIII в. полностью сохранился тесовый пол в обоих помещениях. Некоторые хозяйственные постройки были двухэтажными с сохранившимися устоями для лестничных маршей (табл. 56, 8).
Как правило, хозяйственные постройки рубились клетями, своими пропорциями тяготеющими к квадрату. Но иногда они перегораживались рубленой стеной на два продолговатых отсека, иногда отсеки были квадратными (табл. 56, 12). Оригинальная постройка XII в., квадратная в плане (9,0×9,0 м). Она разделена на три равных отсека, своими торцами выходящие на Великую улицу. Постройка стояла в углу богатого двора. В остатках сооружения найдено много горелого зерна. Полы в боковых отсеках настланы поперек, а в центральном — вдоль. П.И. Засурцевым высказано предположение о размещении в первом этаже этой постройки торговой лавки с окном на Великую улицу (табл. 56, 14).
Особую группу производственных помещений, имеющих специфические конструктивные особенности, составляют поварни и коптильни. Они представляли собой обширную клеть, в которую врублена в одном из углов напротив входа клеть поменьше. В большем помещении настилался тесовый пол, а в меньшем — пол из жердей. По жердям настилалась береста и укладывался слой глины. Меньшая клеть представляла собой собственно кухню или пекарню (табл. 56, 15, 16) с большой печью, где готовилась пища или происходило копчение. Малый сруб выполнял роль кожуха, при закрытой двери предохраняющего глаголеобразное помещение от перегрева. В последнем происходила разделка продуктов и «готовизны».
Постройки, в которых располагались ремесленные мастерские, соединялись между собой переходами в виде узких настилов, если это требовалось условиями технологии. Вполне вероятно, что коньки кровель делались по ходу движения и карнизами кровли закрывали от дождя место связи. Более совершенный переход оборудовался не только настилом, но и стенами, несмотря на миниатюрность размеров (табл. 56, 18).
Срубы вне зависимости от их назначения соединялись тамбурным помещением — сенями, которое связывали помещения между собой, а также с двором. Из источников XVI–XVII вв. и этнографии известна трехчастная связь помещений в традиционном жилище изба-сени-клеть. В Новгороде она встречается начиная с XII в., но получает широкое распространение лишь в слоях XIII–XV вв. В трехчастной связи могли соединяться избы с избами (табл. 56, 19) избы с ремесленными мастерскими (табл. 56, 20), избы с клетями (табл. 56, 17, 18).
Трехчастная связь избы, сеней и клети дополнялась иногда различными пристройками в виде закрытых навесов или галерей, идущих вдоль общего фасада или же путем создания развитого и расчлененного пространства позади связи (табл. 57, 1, 2).
Еще более сложные планы имеют связи производственных построек, что обусловлено требованиями технологического процесса. Производственные помещения иногда занимали подклеты изб, усложняя структуру жилого дома (табл. 58) (Колчин Б.А., Хорошев А.С., Янин В.Л., 1981).
Архитектура П.А. Раппопорт
Памятники древнего зодчества — источник чрезвычайно богатой информации о жизни общества. Будучи одновременно памятниками искусства и техники, они дают ценнейшие сведения о создавшей их эпохе, об идеологии, политической обстановке и художественных вкусах эпохи, о строительной технике и организации ремесла. Естественно поэтому, что интерес к таким памятникам проявился в России очень рано, по крайней мере с конца XVIII в. Однако изучение древних зданий на первых порах было все же связано не столько с научными задачами, сколько с практическими нуждами — ремонтом и обновлением старинных церквей. Лишь постепенно, в течение XIX в. все более проявлялся и чисто научный подход, делались первые попытки установить первоначальные формы и облик древних сооружений. Параллельно с изучением сохранившихся памятников проводились и первые археологические раскопки исчезнувших построек.
Одним из наиболее существенных препятствий, мешавших успешно изучать историю русского монументального зодчества древнейшей поры, является малое количество сохранившихся памятников. Многочисленные военные бури, пронесшиеся над Русью начиная с монгольского вторжения и вплоть до Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., снесли с лица земли множество памятников древнего зодчества. К этому следует добавить значительное количество древних храмов, погибших вследствие политики насильственной католицизации, проводившейся с XIV по XVII в. в западных районах Руси, попавших под власть Польши и Литвы. Поэтому в древнерусском зодчестве процент сохранившихся памятников значительно меньше, чем в романской архитектуре стран Центральной и Западной Европы.
В настоящее время на поверхности земли осталось всего немногим более 30 каменно-кирпичных русских зданий домонгольской поры. Большинство этих зданий до неузнаваемости перестроено в более позднее время и судить об их первоначальном облике можно лишь после длительного архитектурно-археологического исследования. Если к этому добавить и те постройки, которые погибли в сравнительно недавнее время, и здания, сохранившиеся только в своих нижних частях, то даже и в этом случае общее количество памятников не достигает 60. Учитывая, что сюда входят памятники, возведенные на всей территории Руси за время с конца X до XIV в. и относящиеся, таким образом, и к разным периодам и к разным архитектурным школам, станет понятно, какими неполными, обрывочными сведениями по истории древнерусского зодчества мы располагаем.
Очевидно, что для получения более полной картины необходимо было привлечь хотя бы некоторую часть памятников, остатки которых скрыты под землей. Между тем раскопки памятников древнерусского зодчества до сравнительно недавнего времени проводились довольно редко. Существенного прогресса в этой области можно было достичь только путем значительного усиления археологических раскопок. Такая задача была поставлена на I Всесоюзном археологическом совещании, проведенном в Москве в 1945 г. В материалах этого совещания отмечено: «Подлинная и полная история древнерусской национальной архитектуры может быть лишь результатом археологического раскрытия ее памятников и их реконструкции».
Последовавшее за этим развитие архитектурной археологии дало весьма значительные результаты. Количество изученных памятников за послевоенные годы увеличилось более чем вдвое. В настоящее время мы имеем сведения о материальных остатках более 150 памятников русского зодчества X–XIII вв. Вместе с тем за последние годы проведены большие работы и по детальному изучению сохранившихся зданий. В результате появилась возможность обрисовать хотя бы в самых общих чертах картину развития русского зодчества древнейшего периода (Раппопорт П.А., 1970а, 1982; История русского искусства, 1978; Всеобщая история архитектуры, 1966; Максимов П.Н. 1970; Асеев Ю.С., 1969) (табл. 59).
Археологические раскопки, проведенные в наиболее древних русских городах, полностью подтвердили уже ранее сложившийся взгляд, что все строительство на Руси вплоть до X в. велось исключительно из дерева. Лишь в середине X в., в пору окончательного сложения раннефеодального древнерусского государства созрели условия для появления монументального каменно-кирпичного зодчества. В летописи есть указание на то, что уже в 945 г. в Киеве существовал каменный княжеский терем. К сожалению, среди остатков древнейших дворцовых построек Киева, изученных археологами, ни одна не может быть уверенно связана с этим летописным упоминанием. Наиболее ранней древнерусской монументальной постройкой, от которой до нас дошли какие-то остатки, является церковь Богородицы в Киеве, называемая Десятинной церковью (табл. 60, 1). Согласно летописи, церковь эта была построена византийскими мастерами в 989–996 гг. Во время штурма Киева войском Батыя в 1240 г. церковь рухнула и затем долго стояла в руинах. В XIX в. на ее месте возвели новую церковь, разобранную в 1935 г. В 1938–1939 гг. остатки Десятинной церкви были раскопаны (Каргер М.К., 1961, т. 2, с. 9). От древнего храма сохранились лишь небольшие участки нижних рядов кладки стен и куски фундаментов, преимущественно же одни фундаментные рвы. Итоги раскопок позволяют лишь в самых общих чертах понять плановую схему древней церкви: это трехнефная шестистолпная трехапсидная церковь, характерная для средневизантийской архитектуры (так называемая схема вписанного креста). С трех сторон к церкви примыкали галереи, причем западная их часть была сильно усложнена и расширена, очевидно в связи с размещением здесь лестничной башни и крещальни. Более детальная реконструкция плана Десятинной церкви до сих пор вызывает дискуссии и не может считаться решенной.
Судя по фундаментам общий размер Десятинной церкви вместе с галереями около 42 м в длину при ширине около 34 м. Основное трехнефное здание храма имело в длину 27,2 м и в ширину 18,2 м. Подкупольное пространство было не вполне квадратным: в длину оно равнялось 6,5 м, а в ширину 7,2 м.
Раскопками была вскрыта своеобразная структура фундаментов и деревянных субструкций под ними. Фундаментные рвы были отрыты местами по ширине фундаментов, а местами значительно шире (ширина рвов около 2 м при ширине фундаментов 1,1 м), В апсидах выемка грунта была сделана не только под фундаментами, но широким котлованом под всей площадью апсид. Дно фундаментальных рвов и площадки под апсидами было укреплено деревянной конструкцией, состоящей из 4–5 лежней, круглого или прямоугольного сечения, уложенных вдоль направления стен. Лежни были закреплены многочисленными деревянными кольями длиной около 50 см и диаметром 5–7 см. Над лежнями был размещен второй ярус таких же лежней, уложенных поперек лежней первого яруса. Вся эта деревянная конструкция была залита слоем раствора, выше лежал фундамент, состоящий из крупных камней (кварцит, песчаник, валуны), также залитых раствором.
Близ Десятинной церкви раскопками были вскрыты остатки трех дворцовых построек (табл. 61, 17, 18). Сохранились они настолько плохо, что даже планы их можно реконструировать лишь приблизительно. Обнаружены также остатки так называемых Батыевых ворот, служивших для парадного въезда на территорию киевского «города Владимира». По-видимому, все эти сооружения были возведены вскоре после постройки Десятинной церкви: в конце X — начале XI в. Все киевские здания этой поры построены из плоского кирпича (так называемая плинфа) на известковом растворе с примесью цемянки (мелко толченая керамика или кирпич), в технике кладки со скрытым («утопленным») рядом. При этой технике на фасад здания выходят не все ряды кирпичей, а через ряд, тогда как промежуточные ряды слегка отодвинуты от лицевой поверхности стены и прикрыты слоем раствора (табл. 62, 4А). Кроме того, в кладке стен широко использованы крупные необработанные камни, уложенные рядами в слое раствора. Такая техника, несомненно, имеющая константинопольское происхождение, стала характерной для русской архитектуры и продержалась здесь вплоть до начала XII в.
После завершения строительства ансамбля «города Владимира», в первой половине XI в. происходит значительное расширение границ укрепленной части Киева — создается «город Ярослава». Его композиционным центром и наиболее величественным сооружением стал Софийский собор (табл. 60, 2; 63). Время его построения пока точно не определено: большинство исследователей относит его к 30-м годам XI в., хотя существует и иная точка зрения, что собор был начат строительством уже в 1017 г. (Асеев Ю.С., 1979. с. 3). Софийский собор строился как центральный храм всей Киевской державы; этим объясняются его большие размеры и исключительная пышность оформления. Собор сохранился до наших дней почти целиком, хотя в сильно перестроенном виде; снаружи он имеет облик памятника эпохи барокко (Кресальный Н.И., 1960). Это пятинефный храм с пятью апсидами. С трех сторон к зданию примыкают галереи — внутренние более узкие двухэтажные и наружные более широкие одноэтажные. В западную внешнюю галерею включены две лестничные башни. Храм имеет большие хоры, оставляющие в центре крестообразное в плане пространство, освещенное сверху окнами, размещенными в барабане главного купола. Кроме главного, собор имеет еще 12 меньших куполов.
Софийский собор — грандиозное здание, самими своими размерами свидетельствующее, что оно было возведено как главный храм Киевской Руси, как памятник, демонстрирующий мощь и величие сложившегося молодого государства. Общий размер собора с галереями по длине 41,7 м, по ширине 54,6 м. Главный купол возвышается над уровнем пола на 28 м. Площадь основного пятинефного ядра храма около 600 кв. м, а площадь хор, которые использовались как светские помещения для нужд княжеского двора, 260 кв. м. В интерьере сохранились великолепная мозаичная и фресковая живопись (табл. 63, 2). Архитектурные и археологические исследования, проведенные в Софии, позволяют с достаточной достоверностью реконструировать ее первоначальный облик, а также получить представление об исчезнувших великолепных мозаичных полах (Каргер М.К., 1961, т. 2, с. 182–206). Вокруг собора шла кирпичная ограда, видимо, окружавшая резиденцию митрополита. Археологическими раскопками на этой территории вскрыты также остатки кирпичного здания бани (Богусевич В.А., 1961, с. 105).
Неподалеку от Софийского собора в первой половине XI в. были построены еще три храма, два из которых известны по названиям — церкви Георгия и Ирины. От памятников сохранились лишь фундаментные рвы, к тому же раскопанные лишь частично. Интерпретация их объемной композиции остается спорной; это были пятинефные церкви, близкие по схеме центральному ядру Софийского собора, или же трехнефные храмы с галереями. В 30-х годах XI в. были возведены также главные городские ворота — Золотые Ворота — с надвратной церковью Благовещения (табл. 61, 11). В настоящее время от ворот сохранились только две стенки, высотой до 8 м. Археологическое исследование памятника, а также сопоставление руин с рисунками художника А. Вестерфельда, исполненными в середине XVII в., позволяют с известной долей гипотетичности представить первоначальный вид ворот. Это была мощная башня с проездом, имевшим ширину более 6 м и высоту около 7,5 м. На высоте около 5 м в проезде размещался боевой настил для воинов, защищавших ворота. Во второй половине XI в. ворота были укреплены, причем для поддержания боевого настила, который ранее опирался на деревянные балки, теперь сделали кирпичные арки. Ширина проезда при этом уменьшилась до 5 м. Над воротами стояла небольшая церковь, богато украшенная мозаикой и фресками. На наружных сторонах стенок ворот в растворе сохранились отпечатки бревен внутренней конструкции земляного вала, некогда примыкавшего к воротам. Остатки этой деревянной конструкции обнаружены также при раскопках по обе стороны ворот (Высоцкий С.А., 1982).
Одновременно с широким разворотом монументального строительства в Киеве было возведено первое монументальное здание в Чернигове. В 30-х годах XI в. здесь был построен Спасский собор (табл. 60, 3). Здание почти полностью сохранилось, хотя в сильно перестроенном виде. Это трехнефный храм, план которого имел очень вытянутые пропорции, поскольку в восточной части в отличие от Десятинной церкви и Софийского собора здесь имеется дополнительное членение — вима. Собор увенчан пятью главами. К его северо-западному углу примыкает круглая лестничная башня (Комеч А.И., 1975, с. 9) (табл. 65, 1).
В 1045–1050 гг. был построен Софийский собор в Новгороде (табл. 60, 4). Здание целиком сохранилось до наших дней. Архитектурно-археологические исследования собора дали возможность с достаточной полнотой представить его первоначальный облик. Это пятинефный храм, к которому с трех сторон примыкают галереи. Новгородская София несколько проще киевской: вместо пяти здесь только три апсиды, не два, а лишь один пояс галерей, вместо 13 всего пять глав. В широкой западной галерее киевской Софии размещались две лестничные башни, а в новгородской — всего одна. Тем не менее, общая схема плана и даже система пропорциональных построений здесь чрезвычайно близки. Нет сомнений, что новгородский Софийский собор строили мастера, прибывшие из Киева. Правда, очень существенные различия можно отметить в строительных материалах обоих памятников: стены новгородского храма сложены почти целиком из камня, лишь с небольшим количеством кирпича. Очевидно, опытные зодчие умело использовали местный материал — легко добываемую известняковую плиту. В сводах же и арочных перемычках — кладка кирпичная, такая же, как в Киеве (Штендер Г.М., 1974, с. 202; 1977, с. 30).
Сразу же по завершении строительства новгородского собора был построен Софийский собор в Полоцке. В XVIII в. здание было полностью перестроено и в настоящее время имеет вид пышного барочного храма. Археологические исследования показали, что от древнего памятника сохранились не только фундаменты, но и нижние части стен, а на некоторых участках стены сохранились даже на значительную высоту. Это был пятинефный храм с тремя апсидами, весьма близкий по схеме плана новгородскому собору. Дополнительные апсиды с западной стороны здания, вызывавшие самые различные толкования, оказались построенными в XVII или XVIII в. В отличие от киевского и новгородского Софийских соборов в Полоцке в восточной части храма перед апсидами имеется еще одно членение — вима. К северо-западному углу собора примыкала лестничная башня. В первой половине — середине XII в. к собору было пристроено несколько помещений: притвор перед южным порталом, небольшая часовня с прямоугольной в плане апсидой (быть может, крещальня) и длинное здание усыпальницы, протянувшееся вдоль всего восточного фасада храма. Здание возведено в технике, очень близкой киевской. Вряд ли могут быть сомнения, что строителями полоцкой Софии были киевские мастера, построившие до этого новгородский собор.
Возведением больших соборов в Чернигове, Новгороде и Полоцке строительная деятельность вне Киева ограничилась; все дальнейшее строительство во второй половине XI в. было сосредоточено исключительно в Киевской земле. Очевидно, на Руси в это время существовала лишь одна строительная артель, непосредственно подчиненная киевским князьям.
По-видимому, одним из первых храмов, начавших собой новую серию киевских памятников, был собор Дмитриевского монастыря, построенный, возможно, уже в 60-х годах XI в. Здание не сохранилось, а его фундаменты были изучены настолько дилетантски, что дают возможность установить только самую общую схему плана: это был шестистолпный храм, у западных углов которого существовали какие-то пристройки, вероятно, лестничная башня и крещальня.
В 1070 г. была заложена церковь Михаила в Выдубицком монастыре. До наших дней уцелела лишь западная половина здания, а восточная его половина изучена раскопками; однако, как оказалось, участок, где находились апсиды, рухнул в Днепр и поэтому план восточного окончания храма может быть восстановлен лишь гипотетически (Каргер М.К., 1961, т. 2, с. 287). Церковь была шестистолпной с четко выделенным нартексом, в северной части которого размещалась лестничная башня. Еще несколько позже, в 1073 г. был заложен Успенский собор Киево-Печерского монастыря (табл. 64, 3). Собор многократно перестраивался, а во время Великой Отечественной войны был разрушен. Изучение всех сохранившихся материалов, в особенности руин памятника, позволяют в общих чертах представить не только план, но и объемную его композицию (Холостенко М.В., 1976, с. 131). Это был одноглавый шестистолпный храм, с четко выделенным нартексом. К его западному фасаду с севера примыкала крещальня, имевшая во втором ярусе маленькую четырехстолпную церковь. Длина здания 35,6 м, ширина 24,2 м, стороны подкупольного квадрата около 8,6 м. В стенах выявлено несколько ярусов деревянных связей, а также карнизы из шиферных плит, соединенных между собой железными анкерами.
Неподалеку от Успенского собора раскопками обнаружены остатки мастерской по производству стекла и смальты для мозаик.
В 1076 г. заложили церковь Бориса и Глеба в Вышгороде (табл. 64, 4), законченную только в 80-х или даже 90-х годах XI в. От древнего храма сохранились в основном лишь фундаментные рвы, однако в результате археологических раскопок схема его плана установлена достаточно определенно. Собор был очень крупным шестистолпным храмом с дополнительным членением — вимой в восточной части. Раскопки выявили систему деревянных лежней под фундаментами храма. К западу от здания обнаружен кусок его упавшей стены с сохранившимися окнами и нишами. В северо-западном углу каменный фундамент заполнял все угловое членение здания, свидетельствуя, что здесь находилась лестничная башня.
По-видимому, в 80-х или 90-х годах была построена церковь Богородицы в Кловском монастыре. Она не сохранилась, но археологическими раскопками удалось вскрыть часть ее фундаментов. План храма не вполне ясен, но несомненно, что церковь представляла собой сложный архитектурный комплекс, включавший несколько примыкавших к основному зданию галерей. Наиболее вероятно, что центральное ядро храма представляло собой здание, увенчанное куполом на восьми опорах — тип, хорошо известный по памятникам Византии, но не распространенный на Руси (Логвин Г.Н., 1980, с. 72). Диаметр купола был равен приблизительно 9,6 м; это был самый крупный купол во всем русском зодчестве домонгольского периода. В основании фундаментных рвов обнаружена система деревянных субструкций, почти точно совпадающая с субструкциями Десятинной церкви. По-видимому, Кловский собор был последним памятником, в котором использовали конструкцию такого типа, поскольку в киевском зодчестве конца XI в. применяли уже несколько более упрощенную систему лежней, без кольев, но зато скрепленных в местах соединения железными костылями.
Около 1106 г. возведена надвратная Троицкая церковь в Киево-Печерском монастыре (табл. 64, 5) — небольшая квадратная, четырехстолпная. Она полностью сохранилась до наших дней. В 1108 г. заложили церковь архангела Михаила в Михайловском Златоверхом монастыре (табл. 64, 6). Здание было разобрано в 30-е годы XX в., но на основании материалов старых обследований можно с достаточной определенностью восстановить его формы. Лестничная башня для подъема на хоры здесь помещалась в северном членении нартекса, а к юго-западному углу примыкала маленькая четырехстолпная церковь, по-видимому, крещальня.
Наконец, между 1113 и 1125 гг. построена церковь Спаса в княжеском с. Берестове (табл. 64, 1; 65, 2). Западная половина церкви сохранилась почти на полную высоту, а раскопками были вскрыты фундаменты и восточной ее половины. Особенность церкви Спаса в том, что лестничная башня и крещальня здесь не пристроены к нартексу, а включены в него и удлиняют нартекс настолько, что западное членение храма приобретает бо́льшую ширину, чем основной объем, образуя выступы на южном и северном фасадах. Кроме того, перед всеми тремя порталами церкви существовали притворы, перекрытые сводами трехлопастного очертания. Такая конструкция свода могла существовать только при сочетании кирпичного свода с деревянными балками. Торцы этих балок до сих пор сохранились в толще западной стены церкви.
При раскопках была выявлена система деревянных лежней под фундаментом: вдоль направления стен лежало по четыре параллельных бруса, соединенных в перекрестьях железными костылями. Церковь имела размеры (без притворов) в длину около 30 м, а в ширину 20,3 м. Размер ее подкупольного квадрата 7,75 м.
Церковь Спаса на Берестове является последним сохранившимся памятником из серии храмов, возведенных в Киеве и его окрестностях во второй половине XI — начале XII в. К упомянутым памятникам следует добавить два сравнительно небольших храма, остатки которых были раскопаны в Киеве на усадьбе Художественного института и в Зарубском монастыре на Днепре (табл. 64, 2). Кроме того, в этот же период было возведено несколько храмов, известных по упоминаниям в летописи, но не обнаруженных в натуре. Однако даже если собрать все сведения о монументальных зданиях этого времени, окажется, что строили их все же последовательно, одно за другим, не возводя по нескольку построек одновременно. Очевидно, вплоть до начала XII в. в Киеве по-прежнему существовала всего одна строительная артель.
Несмотря на яркую индивидуальность каждого из упомянутых памятников, они имеют все же много общего. Прежде всего все они, за исключением Кловского храма надвратной церкви и крещален, шестистолпные храмы с четко выделенным нартексом и тремя апсидами. Продольной осью они повернуты на восток, точнее на восход солнца (следовательно, чаще на северо-восток) (Раппопорт П.А., 1974). Кроме небольших церквей на усадьбе Художественного института и в Зарубском монастыре, все они имели лестничную башню для подъема на хоры, а многие, кроме того, крещальню. Столбы их крестчатые в плане, а лопатки плоские одноуступчатые. По нескольким сохранившимся зданиям можно судить, что основными элементами наружного декора были двух- или трехступчатые ниши и декоративная кирпичная кладка. Кладка всюду была выполнена из кирпича в технике со скрытым рядом, с прокладкой рядов крупных необработанных камней; только в последнем памятнике — церкви Спаса на Берестове — на фасадах нет полос естественного камня. Фундаменты всюду сложены из крупных камней на растворе, а под фундаментами имеются следы деревянных субструкций — дубовых лежней. Кровля была покрыта свинцовыми листами непосредственно по сводам. Во внутреннем убранстве основное значение имели фресковые росписи, но в нескольких случаях отмечено наличие мозаики. Сходство композиционных приемов, строительной техники и элементов декоративного убранства, несомненно, свидетельствуют о сложившихся в Киеве устойчивых архитектурно-строительных традициях.
Параллельно с Киевом в конце XI в. началось монументальное строительство в Переяславле Русском. Летопись связывает организацию этого строительства с именем митрополита Ефрема и под 1089 г. перечисляет несколько возведенных зданий. Наиболее значительным сооружением был собор архангела Михаила (Малевская М.В., Раппопорт П.А., 1979, с. 30). Его фундаменты удалось частично раскрыть путем археологических раскопок (табл. 64, 10). Это был большой храм с очень своеобразной схемой плана — пятинефный собор, боковые нефы которого были настолько отделены от центрального пространства, что по существу превратились в галереи. Храм имел четыре очень массивных квадратных в плане столба и одну большую апсиду. К его порталам примыкали притворы. Вскоре после постройки собора к нему были пристроены погребальные часовни и дополнительные помещения, превратившие его в сложный мемориальный комплекс. Раскопками были обнаружены и вскрыты упомянутые в летописи церковь Андрея «у ворот» (табл. 64, 1), городские ворота, над которыми некогда стояла церковь Федора (табл. 61, 10), а также «баня камена» (табл. 61, 15). Кроме того, в Переяславле раскопаны не попавшие на страницы летописей еще три небольшие церкви — Спасская, на ул. Воссоединения и на Советской улице (табл. 64, 6). Особенно интересные результаты дали раскопки Спасской церкви, стены которой сохранились на высоту до 1,5 м. В церкви почти целиком уцелел пол из поливных керамических плиток, на стенах — фресковые росписи. Раскопано несколько погребений в каменных, кирпичных и деревянных саркофагах. На полу найдены предметы церковной утвари, в том числе замечательная по орнаментальному богатству бронзовая люстра (хорос) и великолепный бронзовый подсвечник романской работы.
Вероятно, к группе переяславльских памятников следует отнести также руины небольшой Михайловской церкви в Остерском городке (табл. 64, 3). За исключением собора архангела Михаила, все остальные переяславльские храмы очень небольшие, бесстолпные или двухстолппые (Каргер М.К., 1954, с. 11). Судя по строительной технике все эти здания возведены в конце XI — начале XII в. Существенные отличия в композиции и деталях плана дают основания утверждать, что здесь работали не киевские мастера, а местная строительная артель. Очень вероятно, что сложение в Переяславле самостоятельной строительной организации связано с участием константинопольских зодчих.
В начале XII в. в киевском зодчестве произошел резкий перелом. Изменились и строительная техника, и элементы декора, и даже сама композиция зданий. Началось строительство церквей, имеющих очень четкую и простую схему плана, — это шестистолпные храмы с тремя апсидами; постепенно к середине XII в. на смену шестистолпным храмам приходит четырехстолпный вариант. Деление на варианты в известной степени условно, поскольку шестистолпные храмы в действительности обычно представляют собой такие же четырехстолпные, но с добавлением нартекса. В строительстве храмов начинают применять новые, не использованные ранее конструкции. Так, угловые членения теперь часто перекрывают крестовыми сводами. Лестница на хоры размещена уже не в башне, а в толще одной из стен. Храмы имеют, как правило, одну массивную главу и спокойный ритм закомар, основания которых находятся на одной высоте. Полностью исчезает характерная для предшествующей поры динамика композиции, здания становятся статичными. Явно чувствуется стремление зодчих к лаконичности объемной композиции. Здания строят из плоского кирпича на растворе с цемянкой, но без применения камня и в технике равнослойной (или порядковой) кладки, где все ряды кирпичей выходят на лицевую поверхность фасадов (табл. 62, 4Б). Как бы компенсируя исчезновение декоративных возможностей кладки со скрытым рядом, теперь на фасадах появились новые декоративные элементы — массивные полуколонны, примыкающие к наружным лопаткам (кроме угловых лопаток, которые всегда остаются плоскими) и аркатурные пояса (табл. 62, 9).
Точное время и место появления первых храмов нового типа пока не установлено. Памятниками, уже полностью отвечающими новому архитектурному направлению, являются построенные в 40-х годах XII в. Кирилловская церковь в Киеве (табл. 66, 3)и Георгиевская церковь в Каневе. Они сохранились почти целиком, хотя снаружи сильно перестроены. Эти памятники, безусловно, свидетельствуют, что с 40-х годов XII в. в Киеве уже перешли к строительству храмов нового типа. Однако, по-видимому, новые архитектурные формы вначале появились не в Киеве, а в Чернигове, где были построены Успенский собор Елецкого монастыря (табл. 66, 1) и Борисоглебская церковь (табл.67, 1). К сожалению, время возведения обоих этих храмов пока не уточнено. Большинство исследователей относит их к первой четверти XII в., но высказывалось мнение, что собор Елецкого монастыря мог быть построен даже в 90-е годы XI в. Оба храма сохранились, а Борисоглебская церковь была даже реставрирована и восстановлена в первоначальных формах. Собор Елецкого монастыря первоначально имел перед порталами невысокие притворы, что придавало ему центричность и подчеркивало стройность пропорций (Холостенко Н.В., 1961, с. 51; 1967, с. 188). Длина здания (без притворов) почти 30 м, а ширина несколько более 19 м. Высота до вершины его купола 26,3 м, размер подкупольного пространства 6,2–6,9 м. В Борисоглебском соборе в процессе реставрации были проведены раскопки, выявившие под этим зданием остатки какой-то более ранней постройки, быть может, княжеского терема. При раскопках были найдены резные белокаменные капители, первоначальное местоположение которых в здании пока не установлено. Несколько позже в Чернигове было построено еще несколько храмов. В 70-е годы возведена небольшая четырехстолпная Михайловская церковь, а в 80-е годы Благовещенская — большой шестистолпный храм с галереями. Оба памятника известны по результатам раскопок (Рыбаков Б.А., 1949, с. 60). Кроме того, в Чернигове сохранилась до наших дней маленькая бесстолпная Ильинская церковь.
Новый тип храма получил широкое распространение. Правда, в Киевской земле интенсивность строительства, видимо, несколько уменьшилась: здесь известны лишь вскрытая раскопками Малая церковь Зарубского монастыря на Днепре и построенная уже в 80-е годы XII в. церковь Василия в Киеве (разобрана в 30-е годы XX в.). Но зато подобные храмы начали возводить в других городах. Так, фундаменты двух церквей — вероятно, Успенской и Борисоглебской (табл. 66, 5) — раскопаны в Старой Рязани — древней столице Рязанской земли (Монгайт А.Л., 1955). Два храма построили в столице Волыни — городе Владимире-Волынском. Один из них — полностью сохранившийся и реставрированный в древних формах Успенский собор (табл. 66, 2), построенный в 50-е годы XII в. (Раппопорт П.А., 1977, с. 17), Другая церковь, так называемая Старая Кафедра, вскрыта раскопками. Там же, во Владимире Волынском, раскопана еще третья церковь, имеющая очень существенные отличия — массивные квадратные в плане столбы, большую толщину стены, скругленные наружные углы.
Очень яркое развитие получило новое архитектурное направление в Смоленске (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А., 1979). Здесь в 1145 г. был построен Борисоглебский собор Смядынского монастыря (табл. 66, 6). Вскоре, в середине XII в., были возведены небольшая церковь в Перекопном переулке, а на детинце — княжеская бесстолпная церковь (табл. 66, 7) и терем (табл. 61, 14). Все эти памятники не сохранились и известны лишь по результатам археологических раскопок. В бесстолпной церкви стены сохранились местами на высоту до 2 м, на полу частично уцелели поливные керамические плитки. Несмотря на отсутствие внутренних столбов, стены церкви снаружи были расчленены лопатками как в нормальных четырехстолпных храмах. Размер внутреннего пространства церкви 10,45×8,25 м, что предполагает какую-то сложную систему перекрывавших здание сводов, поскольку для обычного купола на парусах это пространство слишком велико. Терем, расположенный на краю горы, откуда открывался прекрасный вид на пойму Днепра, вероятно, был двухэтажным. Судя по очень небольшой толщине стен, он был перекрыт не сводами, а деревянными балками. Нижний этаж терема врезан в землю, т. е. был полуподвальным. Полностью сохранилась и восстановлена в первоначальных формах церковь Петра и Павла (табл. 67, 2). Несколько позже построена церковь Ивана Богослова (табл. 66, 8), своды и верхняя часть которой полностью перестроены в XVIII в. Последним памятником того же типа в Смоленске является церковь Василия, построенная в 80-х годах XII в., изученная путем раскопок. Несколько раньше, видимо, в 70-х годах в Смоленске построили «немецкую божницу» — церковь иноземных купцов. Судя по материалам раскопок церковь эта в плане повторяла круглые церкви-ротонды Северной Европы.
Конечно, не во всех землях полностью и без всяких изменений применяли сложившийся в Киеве или Чернигове тип храма. Так, вскрытая раскопками церковь в Турове (табл. 68, 14) отличалась рядом своеобразных особенностей — наружные ее лопатки плоские двухуступчатые, а подъем на хоры был расположен не в толще стены, а в северной части нартекса в виде винтовой лестницы. В Переяславле, где интенсивность строительства в XII в. резко снизилась, по материалам раскопок известна Воскресенская церковь (табл. 66, 4), имеющая снаружи плоские лопатки, а западную пару столбов восьмигранной формы. Там же при строительстве поздней Успенской церкви были обнаружены остатки маленькой бесстолпной церкви.
Но даже в Турове и Переяславле, где архитектурные формы памятников отличны от киево-черниговских, общая схема сооружений совпадает, как совпадает и строительная техника — равнослойная кирпичная кладка. Таким образом, можно констатировать, что в XII в. архитектура Киевской, Черниговской, Рязанской, Волынской, Смоленской, а в значительной мере также Туровской и Переяславльской земель совпадает, образуя одну архитектурную школу.
Иначе шло развитие архитектуры в других русских землях. В Новгороде после постройки Софийского собора строительство прервалось на полстолетия и возобновилось только в начале XII в. В 1103 г. была построена церковь Благовещения в княжеской резиденции Городище (табл. 69, 2). Остатки ее удалось вскрыть раскопками. К счастью, полностью уцелели храмы, построенные вслед за церковью Благовещения — в 1113 г. Никольский собор на Ярославовом дворище (табл. 69, 1), в 1117 г. собор Антониева монастыря (табл. 69, 4) и в 1119 г. собор Юрьева монастыря (Каргер М.К., 1980) (табл. 69, 3). Это большие шестистолпные храмы. В Николо-Дворищенском соборе на хоры попадали по переходу из второго этажа деревянного дворца, а во всех остальных к западному фасаду с севера примыкала лестничная башня. Никольский собор был пятиглавым. Антониев и Юрьев — трехглавые, поскольку их основной объем имел одну главу, вторая венчала башню, а третья была расположена над юго-западным углом, создавая уравновешенную, хотя и несимметричную композицию. Как и в Софийском соборе, строители очень широко использовали местный строительный материал — известняковую плиту, прослаивая кладку рядами кирпичей. Однако в перемычках, сводах и других ответственных участках конструкции использована в основном кирпичная кладка. Во всех этих памятниках очень явно чувствуются киевские традиции — как в композиции и архитектурных формах, так и в строительной технике — применение кирпичной кладки со скрытым рядом. И все же здесь постепенно вырабатываются собственные, специфически новгородские приемы. В особенности это заметно в соборе Антониева монастыря, фасады которого в отличие от остальных упомянутых памятников не имеют декоративных двухуступчатых ниш. Из надписи, имевшейся когда-то на соборе Юрьева монастыря, известно имя строившего собор зодчего — мастера Петра.
В 1127 г. была построена церковь Ивана на Опоках, а в 1136 г. — Успения на Торгу. Обе церкви позднее были полностью перестроены и от древних памятников сохранились лишь самые нижние части. Раскопки дали возможность изучить технику кладки нижних частей стен и фундаментов этих храмов. Выяснилось, что церковь Ивана на Опоках была полностью перестроена в 1184 г., причем новую церковь поставили на основание первоначальной и поэтому планы их полностью совпадают. Однако западная стена церкви конца XII в. была отодвинута на 1,5 м к западу, очевидно, в связи с необходимостью утолстить эту стену для размещения в ней лестницы на хоры. Известная по результатам раскопок церковь Бориса и Глеба в детинце, построенная в 1146 г., приближается по плану к новгородским храмам начала XII в. и имеет квадратную лестничную башню. Она начинает серию не княжеского, а боярского строительства.
К середине XII в. окончательно сложился тип новгородского храма, свидетельствующий о наличии в новгородской земле самостоятельной архитектурной школы, существенно отличающейся от киевской. Новгородские церкви второй половины XII в. — небольшие четырехстолпные трехапсидные. Столбы их не крестчатые в плане, а квадратные. Лопатки на поверхности стен, обращенных внутрь здания, отсутствуют, а снаружи стены расчленены плоскими, хотя довольно сильно выступающими лопатками. Западная стена толще остальных стен, поскольку в ней размещена лестница на хоры. Снаружи обращает внимание почти полное отсутствие декоративных элементов: лишь зубчатый поясок в архивольтах закомар и плоская аркатура по верху барабана. Храмы имеют строгий и лаконичный облик. Широкое применение слабо отесанной плиты, лишь прослаиваемой рядами кирпичей, в большинстве случаев лишает здания геометрической четкости и придает им некоторую мятость форм, что новгородские зодчие явно используют как своеобразный художественный эффект.
Характерными образцами новгородских храмов второй половины XII в. могут служить полностью сохранившиеся Георгиевская (табл. 69, 7) и Успенская церкви (табл. 69, 10) в Старой Ладоге (Мильчик М.И., 1979, с. 101; табл. 70, 3). В интерьере Георгиевской церкви сохранилась значительная часть древней фресковой живописи. Не менее типичным памятником является и церковь Спаса-Нередицы близ Новгорода (1198 г.) (Штендер Г.М., 1961. с. 169) (табл. 69, 8). До Великой Отечественной войны церковь эта стояла полностью сохранившейся и, что особенно редко, хранила почти полный ансамбль фресковой росписи интерьера. Во время войны церковь была разрушена, но затем восстановлена по обмерным чертежам. Из зданий, сохранившихся не на полную высоту, к тому же типу относятся церкви Благовещения на Мячине (1179 г.) и Воскресения (1195 г.) в окрестностях Новгорода. Несколько подобных храмов были, кроме того, вскрыты раскопками: церковь Дмитрия Солунского в Пскове (табл. 69, 9), две церкви в Старой Ладоге (Спасская и неизвестная по названию), Успенская в Аркажах под Новгородом (1188 г.). Несколько особое место занимает полностью сохранившаяся церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Новгороде (1185 г.); по своим архитектурным формам эта церковь полностью совпадает с остальными памятниками новгородской школы, однако возведена она не из чередующихся рядов плиты и кирпича, а из одних кирпичей в технике кладки со скрытым рядом. Единственным примером здания, продолжающего традиции новгородских памятников первой половины XII в., является церковь Ивановского монастыря в Пскове — шестистолпный трехглавый храм (табл. 69, 5).

Интерьер Софийского собора в Киеве. Алтарная мозаика «Богоматерь-Нерушимая стена» (XI в.).
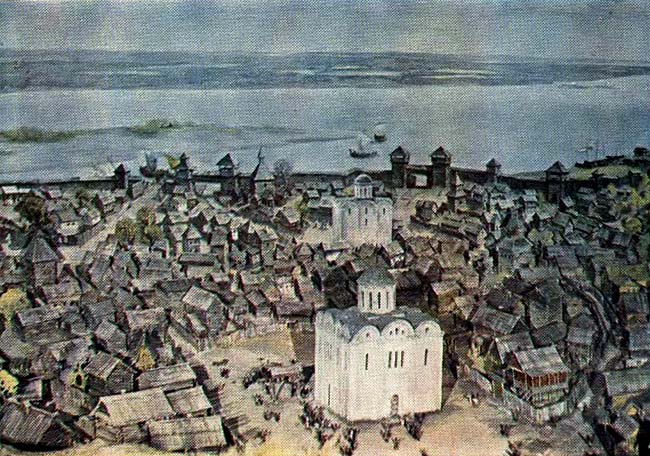
Вид Древнего Киева. Реконструкция.

Основание Новгорода. Миниатюра Радзивилловской летописи (конец XV в.).

Основание Белгорода. Миниатюра Радзивилловской летописи (конец XV в.).

Новгородский кремль. Фото.

Сцена пахоты. Миниатюра Радзивилловской летописи (конец XV в.).

Сцена боя. Миниатюра Радзивилловской летописи (конец XV в.).

Успенский собор во Владимире (XII в.) (зеркальное изображение).

Софийский собор в Новгороде (XI в.).

Храм Покрова на Нерли (1165 г.).

Вал и ров Старорязанского городища.

Софийский собор в Киеве (XI в.). Часть древней кладки освобождена от штукатурки.

Валы Старорязанского городища.

Клад восточных монет. Тимеревское поселение (IX–X вв.).

Бронзовый светильник иранской работы (IX–X вв.). Найден в одном из погребений Гнездовского курганного могильника под Смоленском.
Совершенно исключительным явлением в новгородском зодчестве может быть назван собор Мирожского монастыря в Пскове (табл. 69, 6), возведенный, по-видимому, в 40-х годах XII в. В отличие от всех памятников русского зодчества XII в. этот собор имеет явно выраженную извне крестообразную объемную композицию, образуемую высоко поднятыми средними членениями фасадов и резко опущенными боковыми. Впрочем, очень скоро западные угловые членения храма были надстроены. Композиция собора Мирожского монастыря, очевидно, отражающая византийские архитектурные формы, была в 1153 г. повторена в церкви Климента в Старой Ладоге, известной по материалам археологических раскопок. Следует отметить, что в отношении строительной техники и декоративных элементов оба эти храма ничем не отличаются от остальных памятников новгородской архитектурной школы.
Другой архитектурной школой, сложившейся на Руси в XII в., была полоцкая (Раппопорт П.А., 1980, с. 143). После окончания Софийского собора в Полоцке не велось никакого монументального строительства вплоть до 30-40-х годов XII в., когда был построен большой собор Бельчицкого монастыря (табл. 68, 2). Здание это, известное по материалам археологических раскопок, представляло собой шестистолпный храм с тремя притворами. Собор был выстроен из кирпича, причем технические особенности свидетельствуют о строительных традициях, характерных для Киева на рубеже XI и XII вв. Эти традиции, в частности кирпичная кладка со скрытым рядом, привились в Полоцке и продолжали здесь безраздельно господствовать в течение всего XII в. Однако, помимо киевских традиций, в полоцкой архитектуре вскоре появились и новые черты. Так, уже в большом соборе Бельчицкого монастыря подкупольное пространство перенесено с восточных столбов на западные, т. е. сдвинуто на одно членение к западу. Это изменение плановой схемы было, очевидно, вызвано стремлением зодчих создать более центрированную объемную композицию, вероятно, с высоко поднятой главой. В дальнейшем в полоцком зодчестве появился еще ряд новых особенностей. Вскрытые раскопками храм-усыпальница в Евфросиньевом монастыре (табл. 68, 8), а затем церковь на Нижнем замке, построенные в первой половине XII в., имеют совершенно необычные для русского зодчества предшествующей поры черты: одну апсиду и галерею, образующую на углах храма расширения. При раскопках храма-усыпальницы было вскрыто очень большое количество погребений в кирпичных склепах, занимавших почти всю площадь галерей. Обнаружены также остатки богатого убранства интерьера многочисленные фрагменты фресковых росписей и смальта от мозаичного набора полов. В церкви на Нижнем замке раскопки выявили своеобразное устройство фундаментов: котлован был отрыт под всей площадью храма на глубину около 70 см, а фундаментные рвы углублены еще на 30–35 см. Пространство между фундаментами было заполнено искусственной подсыпкой, и таким образом общая глубина фундаментов оказалась равной примерно 1 м.
К середине XII в. в полоцком зодчестве появляется тип храма с главой, башнеобразно поднятой на специальном пьедестале. Примером является Спасский собор в Евфросиньевом монастыре (табл. 68, 4), полностью сохранившийся до наших дней, хотя и не восстановленный пока в первоначальных формах (Раппопорт П.А., Штендер Г.М., 1980, с. 459). Из литературных источников известно, что строил этот собор мастер Иоанн. По-видимому, еще до Спасского собора такая же композиция была создана в Борисоглебской церкви (табл. 68, 5) Бельчицкого монастыря, ныне не существующей, но еще в начале XX в. сохранявшейся на высоту почти до основания сводов. Кроме храмов, в Полоцке археологическими раскопками были обнаружены остатки гражданской постройки — небольшого квадратного здания — княжеского терема (табл. 61, 13).
Наряду с этой линией строительства, определившей процесс сложения самостоятельной полоцкой архитектурной школы, в Полоцкой земле существовала и иная строительно-техническая традиция, отраженная в церкви Благовещения в Витебске (табл. 68, 1). Церковь эта, построенная в первой половине XII в., до недавнего времени сохранялась до основания сводов, а сейчас — на значительно меньшую высоту. Особенности витебской церкви — необычно вытянутая форма плана, одна апсида и совершенно своеобразная строительная техника, имевшая, несомненно, византийское происхождение — чередование рядов кирпича с рядами тесаного камня. Кроме витебской церкви, в той же технике была построена церковь Бориса и Глеба в Новогрудке, вскрытая археологическими раскопками. Наконец, раскопками в Минске были обнаружены остатки небольшого четырехстолпного храма (табл. 68, 3), который, очевидно, не был достроен: его строительство прервалось на стадии закладки фундамента. Архитектурные формы этого храма и его отношение к полоцкой школе пока неясны.
Сложение архитектурных школ в Новгородской и Полоцкой землях происходило путем постепенной переработки киевских архитектурных традиций. Иначе обстояло дело с галицкой и владимиро-суздальской школами, где разрыв с киевскими традициями был гораздо более резким и решительным.
В Галицкой земле монументальное строительство началось в первой четверти XII в. (Иоаннисян О.М., 1981, с. 35). По-видимому, около 1119 г. была построена первая каменная церковь — церковь Иоанна в г. Перемышле (современный польский город Пшемысль). Польские хроники свидетельствуют, что церковь была возведена из тесаного камня. Остатки здания, открытые польскими археологами, подтвердили правильность этих сообщений: церковь действительно была построена из блоков хорошо тесаного белого камня, без применения кирпича. Несомненно, что техника эта романская. Однако плановая схема церкви не имеет ничего общего с романскими храмами; это четырехстолпная трехапсидная церковь, отвечающая композиционной схеме, уже сложившейся к этому времени на Руси. Почти совпадает по плану и следующая по времени церковь, построенная в другом стольном городе — Звенигороде. Эта церковь, как и расположенный рядом дворец, была вскрыта раскопками.
К середине XII в. столицей Юго-Западной Руси стал Галич; здесь была построена церковь Спаса, повторяющая те же особенности плана и строительной техники, что и церкви в Перемышле и Звенигороде. В 50-е годы был возведен главный храм Галича — Успенский собор (табл. 68, 12), Это тоже четырехстолпный, трехапсидный храм, но в нем заметны уже существенные новые особенности: с трех сторон к церкви примыкают галереи, столбы не крестчатые, а круглые, в декоративном убранстве была широко применена скульптурная резьба. К сожалению, Успенский собор, как и все галицкие памятники, известен только по материалам раскопок. И все же сама плановая схема этих храмов не оставляет сомнений в том, что их объемная композиция должна была в общих, чертах совпадать с композицией церквей других русских архитектурных школ. Еще несколько четырехстолпных церквей было раскопано в окрестностях Галича, одна — в Василеве. Среди галицких построек резко выделяются маленькая церковь Ильи Пророка, представляющая собой круглую постройку с апсидой и примыкающей с запада прямоугольной частью, а также церкви у с. Побережье и так называемый полигон, имеющие четырехлепестковый план (Иоаннисян О.М., 1982, с. 39) (табл. 68, 10). Почти все галицкие постройки датированы пока очень приблизительно, в пределах второй половины XII в.
Единственный памятник галицкой архитектуры, сохранившийся над поверхностью земли, хотя тоже полностью перестроенный в верхней части, церковь Пантелеймона близ Галича (табл. 68, 13), построенная в конце XII или начале XIII в. По плановой схеме (четырехстолпный, трехапсидный храм) церковь Пантелеймона очень близка памятникам других русских архитектурных школ, но белокаменная техника и обилие резных деталей делают этот памятник типичным именно для галицкой архитектуры. Особенно характерны такие романские элементы, как базы и капители колонок, перспективный портал, украшенный резьбой (табл. 71).
Своеобразно развивалось зодчество Владимиро-Суздальской земли (Воронин Н.Н., 1961). В самые первые годы XII в. был построен собор в Суздале, небольшие участки кладки которого удалось раскрыть раскопками под существующим более поздним зданием собора. Выяснилось, что первоначальный храм был выстроен в типичной киевской технике кирпичной кладки со скрытым рядом. После этого строительство в северо-восточной Руси прекратилось и возобновилось лишь в середине XII в. В постройках этого времени можно видеть резкий разрыв с киевской традицией. Очевидно, при помощи галицких мастеров здесь возвели несколько храмов, построенных из тесаного белого камня. Из них целиком сохранился собор в Переславле-Залесском (табл. 72, 1) и почти целиком церковь Бориса и Глеба в резиденции суздальских князей — Кидекше (табл. 72, 2).
В 60-х годах XII в. обстраивается новая столица северо-восточной Руси — город Владимир и создается новая княжеская резиденция — Боголюбово. Центральным и наиболее ярким памятником строительства этой поры является ансамбль Боголюбова. В настоящее время от ансамбля сохранились лишь одна лестничная башня и переход, ведший из этой башни в церковь. Сама церковь разрушена, но нижние части ее стен были вскрыты раскопками (табл. 72, 7). Выяснилось, что церковь была оформлена с необычной роскошью: весь пол ее был устлан полированными медными плитами, а на порталах сохранились отверстия, свидетельствующие, что порталы были обиты золоченой медью. Столбы церкви имели круглую форму и судя по письменным источникам завершались «корунами», т. е., видимо, резными капителями. На площади перед церковью раскопками обнаружены остатки кивория над водосвятной чашей. Одновременно в 1 км от Боголюбова была построена церковь Покрова на р. Нерль (табл. 70, 4; 72, 3). Церковь эта сохранилась до наших дней, хотя раскопки показали, что первоначально к ней примыкали несохранившиеся теперь галереи. В стене галереи размещалась и лестница на хоры храма. Здание было построено в заливаемой пойме реки и поэтому над фундаментом зодчие возвели пьедестал из тесаного камня, имеющий в высоту 3,7 м. Пьедестал этот был обсыпан землей и образовывал холм, облицованный каменными плитами. На вершине холма, выше уровня паводковых вод стояла сама церковь. Во Владимире были построены центральный храм города — Успенский собор и парадные Золотые ворота. Характер архитектурных деталей и скульптурной резьбы свидетельствует, что в строительстве, развернувшемся в 60-е годы XII в., наряду с галицкими принимали участие романские мастера. Соединение объемно-пространственной композиции и конструктивной схемы, сложившихся на основе киевских традиций и характерных для всех русских архитектурных школ, с романской техникой и романскими декоративными элементами определило процесс сложения совершенно своеобразной архитектурной школы — владимиро-суздальской.
В 80-х годах XII в. был полностью перестроен владимирский Успенский собор (табл. 72, 5). Первоначально представлявший собой одноглавый шестистолпный храм, собор этот, обстроенный с трех сторон, превратился в пятинефное здание, увенчанное пятью главами. Собор полностью сохранился до наших дней, как и возведенный в 90-х годах XII в. Дмитриевский собор во Владимире (табл. 72, 4). Впрочем, Дмитриевский собор во Владимире сохранился лишь в своем основном объеме, утратив некогда примыкавшие галереи и башни. Особенность Дмитриевского собора — значительное увеличение роли скульптурного убранства. Одновременно были возведены ворота княжеского детинца во Владимире с надвратной церковью и собор Рождественского монастыря. Оба памятника не сохранились; основание ворот было раскрыто раскопками, а о соборе Рождественского монастыря можно судить лишь по сохранившимся старинным чертежам.
В 1200 г. во Владимире было возведено здание собора Княгинина монастыря. Обнаруженные под более поздним храмом остатки древнего памятника показали, что в отличие от всех предшествующих построек владимиро-суздальской школы собор был выстроен не из тесаного камня, а из кирпича.
Тенденции к сложению в русском зодчестве принципиально новых композиционных решении и появление существенных стилистических изменений можно отметить уже с середины XII в. Первым примером, в котором достаточно четко отражены эти новые тенденции, является Спасский собор Евфросиньева монастыря в Полоцке. Однако в полной мере новые формы сложились лишь к концу XII в. (Раппопорт П.А., 1977а, с. 12). Появились храмы, имевшие башнеобразную центрическую композицию, с высоко поднятой главой и большим количеством вертикальных членений на фасадах, что создавало впечатление стремительного взлета. На смену статичным, уравновешенным композициям середины XII в. пришли композиции, отмеченные динамизмом и вертикальной устремленностью объема. И каждой архитектурной школе Руси эти новые приемы отражались в собственных, специфических формах, но общие принципы прослеживаются повсюду. Процесс дифференциации русского зодчества, его разделение на различные школы продолжал углубляться, но параллельно наметились и объединительные тенденции, общие для всей русской архитектуры.
Очень яркое отражение получило новое направление в киево-черниговских землях. В 90-х годах XII в. была построена церковь Василия в Овруче (табл. 73, 2), которую обычно связывают с именем упомянутого в летописи зодчего Петра-Милонега (Раппопорт П.A., 1972, с. 82). Церковь сохранилась примерно до основания сводов, а в верхней части была в начале XX в. реставрирована, но, к сожалению, неточно. Произведениями того же зодчего, видимо, являются вскрытая раскопками церковь Апостолов в Белгородке (1197 г.) и полностью реконструированная в первоначальных формах церковь Пятницы в Чернигове (вероятно, первые годы XIII в.) (табл. 70, 1; 73, 1). Все эти храмы имели очень нарядную обработку фасадов и сложнопрофилированные пучковые пилястры. Замечательной особенностью Пятницкой церкви является впервые примененная в русском зодчестве конструкция — повышенные подпружные арки (Барановский П.Д., 1948, с. 13; Холостенко Н.В., 1950, с. 271). Эта конструкция создает высокий подъем барабана главы на трех ярусах закомар-кокошников. По-видимому, близки к перечисленным храмам еще некоторые памятники, вскрытые раскопками, — церкви во Вщиже и в Трубчевске, также возведенные в конце XII в. Несколько иной характер имел храм в Новгороде Северском, обладавший сложной, несколько напоминающей готическую, профилировкой пилястр. Очень близкий вариант дает раскопанный храм в Путивле (табл. 73, 7). Судя по наличию полукруглых завершении — апсид на северном и южном фасадах, создающих композицию триконха, этот храм отражает непосредственное влияние зодчества Афона (Греция). Храм в Путивле на основании археологической стратиграфии относится к первой трети XIII в. Вывод этот основан на том, что слой пожарища, связанный с взятием города монголами, залегает непосредственно на слое строительства храма. Вероятно, к концу XII в. относится и круглая постройка-ротонда (табл. 73, 4), раскопанная в центральной части Киева (Боровский Я.Е., 1981, с. 182). Наружный диаметр ротонды несколько более 20 м, в центре ее расположен один круглый столб. Назначение ротонды неясно: это либо гражданское, быть может, дворцовое сооружение, либо католическая церковь.
В Полоцкой земле, по-видимому, в 70-80-е годы была построена княжеская церковь на детинце — храм с одной апсидой и тремя притворами (табл. 68, 7). Раскрытые раскопками нижние части памятника не дают достаточных оснований для достоверного суждения об его объемной композиции, однако строгая центричность плана все же позволяет высказать обоснованное предположение, что здание имело башнеобразный характер завершения.
В конце XII в. сложная политическая и экономическая обстановка в Полоцкой земле привела здесь к прекращению монументального строительства, но прием, разработанный в полоцкой церкви на детинце, был заимствован в Смоленске, где на рубеже 80-90-х годов XII в. была возведена идентичная церковь архангела Михаила (табл. 73, 9; 70, 2). (Подъяпольский С.С., 1979, с. 103). Церковь эта сохранилась до наших дней почти полностью, хотя и не восстановлена в своих первоначальных формах. Ее высотная, ступенчато-башнеобразная композиция объема подчеркнута пучками вертикальных членений сложнопрофилированных пилястр, а фасады завершались трехлопастными кривыми. Археологические раскопки в Смоленске показали, что церковь архангела Михаила была далеко не единственным примером подобной композиции (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А., 1979, с. 409). Тот же прием почти повторен в церкви Троицкого монастыря на Кловке (табл. 74, 1). В несколько измененном варианте, где боковые притворы сдвинуты к восточным углам основного объема, подобная композиция применена в соборе Спасского монастыря в Чернушках (табл. 73, 11). В одних случаях смоленские храмы имели лишь один западный притвор (Пятницкая церковь), в других — вовсе не имели притворов (церковь у устья Чуриловки) или были окружены галереями (церковь на Малой Рачевке) (табл. 73, 10), Однако в любом из этих вариантов основное здание храма имело одну большую полукруглую апсиду и сложнопрофилированные пучковые пилястры. В подавляющем большинстве эти храмы четырехстолпные, но имеется пример большого шестистолпного собора с примыкающими галереями (Воскресенская церковь).
Параллельно с храмами подобного типа в Смоленске возводили церкви, имеющие три апсиды, но плоские снаружи, а внутри имеющие форму очень пологой дуги. Пилястры в этих храмах имели сложную профилировку лишь начиная с определенной высоты, а ниже они представляли собой как бы прямоугольные пьедесталы. Сюда относятся большой собор на Протоке (табл. 73, 8), церковь на Окопном кладбище и маленькая церковь на Большой Краснофлотской улице. Между памятниками двух смоленских групп имеются различия не только в схеме их плана, но и в строительной технике. Очевидно, эти храмы возводили мастера двух разных строительных артелей.
Особенно интересные результаты дали раскопки собора на Протоке. До начала раскопок руины храма были скрыты под большим земляным холмом. Раскопки этого холма показали, что стопы древней церкви сохранились местами до высоты более 2 м. При этом на стенах в значительном количество уцелели фресковые росписи. В процессе раскопок было снято со стен свыше 40 кв. м росписей, которые в настоящее время экспонируются в Государственном Эрмитаже (Шейнина Е.Г., 1980, с. 243). Собор имел значительные размеры — в длину почти 23 м и в ширину 19 м. С трех сторон к нему примыкали галереи, а у северо-западного и юго-западного углов размещались маленькие четырехстолпные храмики (табл. 74, 2). Общая ширина этого сложного ансамбля — около 47 м. При раскопках была вскрыта упавшая наружная стена южной галереи, прорезанная большими окнами. Обнаружено значительное количество погребений в аркосолиях и кирпичных склепах, расположенных как в основном помещении, так и в галереях. Пол храма оказался покрытым слоем известкового раствора и на нем были четко видны основания алтарной преграды, запрестольного креста и почетного (видимо, ктиторского) кресла.
Интенсивное монументальное строительство, развернувшееся в Смоленске в конце XII первой трети XIII в., свидетельствует, что здесь существовали опытные и достаточно многочисленные кадры строителей. Яркость архитектурного облика памятников смоленской архитектурной школы сделала эту школу популярной в других русских землях, куда стали приглашать смоленских мастеров. Так, в столице Рязанской земли (современная Старая Рязань), где не было собственных кадров строителей, смоленские зодчие возвели Спасскую церковь (табл. 73, 6), а вероятно, также и маленькую бесстолпную замковую церковь в Новом Ольговом городке (табл. 73, 5). Памятники эти известны по результатам археологических раскопок. В самом Киеве были раскопаны остатки небольшой церкви на Вознесенском спуске (табл. 73, 3), которая судя по ее архитектурным формам была построена в конце XII в. смоленским зодчим. Расцвет смоленской архитектуры продолжался до 1230 г., когда страшный мор и резко изменившаяся политическая обстановка прервали здесь монументальное строительство.
Очень яркое развитие получила в начале XIII в. владимиро-суздальская архитектура (Воронин Н.И., 1962, т. 2, с. 108). К сожалению, от этой поры здесь уцелели всего два памятника — собор в Суздале (1222 г.) (табл. 72, 6) и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230–1234 гг.) (табл. 72, 8), причем оба памятника сохранились лишь до половины своей первоначальной высоты, и система их завершения может быть реконструирована лишь гипотетически. Георгиевский собор поражает необычайной насыщенностью скульптурного убранства: его стены сплошь покрыты орнаментальной резьбой (табл. 75), а выше архитектурно-колончатого пояса размещались скульптурные композиции и отдельные изображения (Вагнер Г.К., 1964; табл. 75). Оба памятника имеют по три притвора, придающие центричность их объему и заставляющие предполагать, что здания эти имели башнеобразные завершения. Подобную плановую схему имела и вскрытая раскопками церковь архангела Михаила в Нижнем Новгороде (1227 г.). Следует отметить, что на основании археологических раскопок удалось восстановить расчленение владимиро-суздальской архитектуры в начале XIII в. на две самостоятельные строительные артели, из которых одна — суздальско-нижегородская продолжала традиции белокаменного строительства, тогда как другая — ростово-ярославская вела строительство из кирпича с применением резных белокаменных деталей.
Небольшая, но очень яркая архитектурная школа сложилась в конце XII в. в Городенском княжестве (Воронин Н.Н., 1954а). Частично сохранившаяся хотя и не на полную высоту церковь Бориса и Глеба на Коложе в Гродно (табл. 68, 11; 74, 3) отличается своеобразным приемом декоративного убранства фасадов при помощи вставленных шлифованных цветных камней и поливных керамических плиток. Раскопки на детинце в Гродно выявили здесь так называемую Нижнюю церковь (табл. 68, 9), сохранившую стены на высоту до 3 м. Церковь эта после раскопок не была засыпана и в настоящее время сохраняется в специальном павильоне. Для убранства фасадов Нижней церкви также использованы шлифованные камни, керамические плитки и поливные блюда. Церковь эта имеет шестистолпный план, по подкупольное пространство образовано не восточными, а западными столбами; с востока она имеет одну большую полукруглую апсиду, для подъема на хоры служила винтовая лестница, встроенная в юго-западное членение. В Волковыске, входившем в состав Городенского княжества, был раскопан фундамент церкви, имевшей почти такую же схему плана, как гродненская Нижняя церковь, но здесь лестница размещалась в отдельной квадратной башне, пристроенной к юго-западному углу храма. Здание церкви в Волковыске не было достроено; здесь успели заложить лишь фундамент. Еще одна почти такая же церковь, но с плоской прямоугольной апсидой была раскопана в Гродно на Посаде — так называемая Пречистенская церковь. На детинце в Гродно сохранились остатки небольшой гражданской постройки, видимо, княжеского терема (табл. 61, 15).
По-видимому, единственной архитектурной школой Древней Руси, совершенно не затронутой переломом, происшедшим в русском зодчестве на рубеже XII и XIII вв., была новгородская. Здесь строили довольно много каменных зданий, но строили очень экономно, очень быстро и в крайне упрощенных формах. При этом даже в начале XIII в. продолжали строить совершенно так же, как в середине XII в. Примером этому может служить вскрытая археологическими раскопками церковь Пантелеймона, построенная в 1207 г. Консервативные приемы новгородских зодчих в ряде случаев, видимо, перестали удовлетворять заказчиков и корпорация новгородских купцов, ведших заморскую торговлю, заказала в 1207 г. постройку церкви Параскевы Пятницы смоленскому зодчему. Церковь эта сохранилась не целиком; у нее полностью перестроены верхние части. По композиции и архитектурным формам Пятницкая церковь чрезвычайно близка таким смоленским памятникам, как церкви архангела Михаила и в Кловском монастыре (Штендер Г.М., 1964, с. 201). Художественный облик Пятницкой церкви, очевидно, произвел на новгородцев сильное впечатление, и новгородские зодчие сделали попытку соединить наиболее характерные особенности этого храма (одноапсидность, трехлопастное завершение фасадов) с типичными чертами новгородской архитектуры (упрощенность формы, скупость декоративного убранства, строительная техника, сочетающая применение камня и кирпича). В результате сложился совершенно своеобразный новый тип новгородского храма, первым образцом которого является маленькая церковь Перынского скита (табл. 61, 8), построенная, вероятно, в 20-30-х годах XIII в.
Монгольское вторжение внесло очень существенные перемены в процесс развития русской архитектуры. Страшному разорению подверглись Киевская, Черниговская, Рязанская, Волынская земли. Монументальное строительство здесь надолго почти полностью прекратилось. Таким образом, из яркого спектра архитектурных школ древней Руси выпала одна из важнейших школ — киево-черниговская, игравшая вплоть до XIII в. едва ли не ведущую роль. Разгромлены были и города северо-восточной Руси. Правда, здесь сохранилась политическая самостоятельность и экономика была постепенно восстановлена, но монументальное строительство в течение второй половины XIII и первой половины XIV в. почти не велось. Некоторое оживление строительства, которое можно отметить во второй половине XIV в., связано уже с новым политическим центром — Москвой (Борисов Н.С., 1976, с. 63). Смоленская и Полоцкая земли не были затронуты монгольским разгромом, но тяжелая политико-экономическая обстановка и здесь привела к прекращению монументального строительства.
Таким образом, развитие русской архитектуры во второй половине XIII — первой половине XIV в. в основном можно проследить лишь в двух районах Руси; на западных ее территориях (западные районы Галицкого и Волынского княжеств, Черная Русь) и в Новгородской земле.
В юго-западной Руси накануне монголо-татарского вторжении архитектурно-строительная обстановка в Галицкой и Волынской землях сложилась по-разному. На Волыни по каким-то причинам строительство в первой половине XIII в. вообще не проводилось и, по-видимому, даже не имелось строительных мастеров. В Галицкой же земле интенсивно работала местная строительная организация. Эта строительная артель, видимо, уцелела и после того жестокого разгрома, которому подверглись город Галич и другие крупные города княжества. Во всяком случае, когда Даниил Галицкий в 30-50-е годы XIII в. обстраивал свою новую столицу город Холм, строительство там, несомненно, вели зодчие галицкой архитектурной школы. Об этом можно судить по резным белокаменным фрагментам, которые были найдены при археологических раскопках. Раскопками в Холме вскрыта также каменная стена какого-то оборонительного или, вероятнее, дворцового здания, относящегося, по-видимому, к 60-х годам XIII в.
Позднее, на рубеже XIII и XIV вв. строительство в Галицкой земле сосредоточилось в основном во Львове. Здесь было построено несколько зданий, в том числе сохранившаяся до наших дней Николаевская церковь (табл. 61, 5). Исполненная в традиционной для галицкой архитектуры белокаменной технике, церковь эта показывает, что в развитии архитектуры здесь произошли существенные сдвиги: храм лишен скульптурного убранства, он бесстолпный и имеет симметричные приделы.
Большое значение в конце XIII — первой половине XIV в. придавалось в Галицкой земле строительству каменных оборонительных сооружении — отдельно стоящих башен. В районе Холма до настоящего времени сохранилась такая башня в Столпье (табл. 61, 2), а до Великой Отечественной войны существовали руины второй башни — в Белавине (табл. 61, 3) (Раппопорт П.А., 1952, с. 202). Все галицкие башни этого времени — квадратные в плане; построены они из камня, причем отеска камня гораздо менее тщательная, чем в культовых сооружениях.
Совершенно иначе развивалось монументальное строительство на Волыни. Как уже было отмечено, в первой половине XIII в. здесь вообще не велось монументального строительства. Интенсивное строительство началось лишь в середине XIII в. Одной из первых построек была церковь Михайловского монастыря во Владимире-Волынском (табл. 61, 6). Открытые раскопками остатки этой церкви оказались совершенно необычными: церковь была круглой (ротонда) и имела внутри кольцо столбов, вероятно, поддерживавших купол. Совершенно необычна для древнерусского зодчества и строительная техника этот памятника: он сложен из брускового кирпича. Очевидно, возобновление строительной деятельности в Западной Волыни было связано с участием мастеров из Восточной Польши, где незадолго до этого развернулось строительство из брускового кирпича в так называемой вендской технике кладки (чередование на фасадах двух ложков и одного тычка). Несколько позже, в 80-х годах XIII в. была построена Георгиевская церковь в Любомле. Археологические раскопки показали, что церковь была трехапсидной, вероятно, четырехстолпной. Возведена она в той же кирпичной технике («вендская» кладка из брускового кирпича), ставшей характерной для зодчества Волыни. Видимо, на рубеже XIII и XIV вв. построена Васильевская церковь во Владимире-Волынском, сохранившаяся хотя в несколько искаженном виде до наших дней. Эта постройка имеет центричный восьмилепестковый план.
Так же как в Галицком княжестве, в Западной Волыни в это время ведется строительство отдельно стоящих оборонительных башен (Раппопорт П.А., 1967а, с. 141). Однако в отличие от Галицкой земли здесь эти башни были круглыми в плане и возводили их из брускового кирпича. Одна такая башня, построенная в 70-80-е годы XIII в., полностью сохранилась в Каменце-Литовском (табл. 61, 1; 78). Некоторые архитектурные формы этой башни (стрельчатые окна, свод на нервюрах) имеют, несомненно, готический характер. Башня имеет наружный диаметр 13,5 м, высота ее около 29 м. Остатки другой башни, построенной в 1291 г., открыты раскопками в Черторыйске. По-видимому, на рубеже XIII и XIV вв. началось строительство Луцкого замка, позднее многократно перестраивавшегося.
На территории Черной Руси — в Новогрудке — в конце XIII в. была построена каменная башня, позднее вошедшая в состав новогрудского замка. В первой половине XIV в. там же были возведены церковь и гражданская постройка, вскрытые раскопками. Церковь одноапсидная, первоначально она не имела столбов, но вскоре в нее были встроены четыре столба, очевидно, поддерживавшие купол. Гражданская постройка, вероятно, входившая в состав дворцового комплекса, представляла собой квадратный зал, перекрытый сводами, опиравшимися на столб, стоявший в центре помещения. Судя по найденным фрагментам, своды церкви и гражданской постройки имели профилированные нервюры. Материал новогрудских построек первой половины X IV в. — брусковый кирпич.
Откуда появились в Новогрудке брусковый кирпич и готические формы сводов, не вполне ясно; они могли быть заимствованы с территории Волыни, где такие материалы и формы также имели распространение, но могли проникнуть сюда и через Литву, с которой Новогрудок в это время был политически тесно связан.
Северо-западная Русь — Новгородская земля — не была затронута монгольским вторжением, но политическая обстановка и особенно экономическое состояние во второй половине XIII в. здесь были настолько трудными, что строительство велось в крайне ограниченном масштабе (Каргер М.К., 1980, с. 25). Возведенная в 1292 г. церковь Николы на Липне, полностью сохранившаяся до наших дней, покалывает, что новгородские зодчие продолжали разрабатывать тип храма, появившийся еще в середине века и представленный церковью Перынского скита. Церковь Николы на Липне также одноглавая, четырехстолпная постройка с одной апсидой; фасады ее имеют трехлопастное завершение. В отличие от Перынской церкви она имеет большее количество декоративных элементов, в частности по верху фасадов, отвечая их трехлопастной форме, здесь проходит аркатурный пояс. Церковь построена из плиты и кирпича, по кирпич применен не старого типа (плоские кирпичи-плинфы), а брусковый. Очень вероятно, что этот тип кирпича проник в Новгородскую землю с запада, через Ригу.
О том, что новгородское зодчество в этот период переживало процесс поисков и становления новых форм, можно судить по двум памятникам, к сожалению, погибшим во время Великой Отечественной войны, — церквам Успения на Волотовом поле (1362 г.) (табл. 61, 9) и Спаса в Ковалеве (1346 г.). В Волотовской церкви зодчие пошли но пути упрощения типа Николы на Липне. Они отбросили не только промежуточные, но и угловые лопатки, полностью отказались от декоративных элементов. В то же время в Ковалевской церкви (в настоящее время она восстановлена по обмерным чертежам) зодчие возвратились к позакомарному покрытию фасадов.
Во второй половине XIV в. начинается новый экономический расцвет Новгорода и вместе с тем начинается интенсивное монументальное строительство. Новгородские зодчие приняли за основу тип храма, разработанный в Липненской и Волотовской церквах, но насытили его большим количеством декоративных элементов. Вновь введены не только угловые, но и промежуточные лопатки: многочисленные декоративные кресты, сгруппированные окна и ниши, снабженные бровками, аркатурные пояса придают этим храмам чрезвычайно нарядный вид. Образцами могут служить полностью сохранившиеся церкви Федора Стратилата (1360 г.) (табл. 61, 7), Спаса на Ильине улице (1374 г.), Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.). Они знаменуют начало блестящего расцвета архитектуры Великого Новгорода второй половины XIV–XV вв.
Археологические раскопки позволили не только значительно увеличить количество известных памятников древнерусского зодчества, но и начать изучение процесса строительного производства. В отдельных случаях удавалось раскрыть строительную площадку вокруг недостроенных сооружений. Так, например, в Волковыске, где строительство церкви было по каким-то причинам остановлено на стадии закладки фундамента, были обнаружены большая яма для творения извести, штабеля неиспользованной плинфы и аккуратно уложенные в ряд шлифованные камин для декоративного убранства стен. В Киеве была раскопана печь для выжигания извести (табл. 62, 1). Печь эта была сложена из плинфы на глине: она круглая, внутренним диаметром несколько более 2,6 м, заглублена от поверхности земли на 65–75 см. В нескольких случаях были вскрыты раскопками кирпичеобжигательные печи. В Киеве такая печь, видимо, относящаяся к концу X в., имела прямоугольную форму. Также прямоугольная кирпичеобжигательная печь была раскопана в Суздале. В Чернигове обнаружены остатки круглой печи для обжига плинфы. Наиболее детально были изучены подобные печи в Смоленске (табл. 62, 2; 76) (Юшко А.А., 1966, с. 307). Одна из этих печей относилась к концу XII в., вторая к началу XIII в. Обе печи круглые, диаметром около 4,5 м; они расположены на склоне и тыльной частью частично врезаны в материковую глину. Внутри печей было размещено по семь невысоких кирпичных стенок, а поперек этих стенок проходил арочный топочный канал.
Отмечено, что при обжиге древнерусских кирпичей получалось большое количество брака — ломаных, пережженных и недожженных кирпичей. Этот производственный брак в XII–XIII вв. дробили и использовали в качестве заполнителя известкового раствора, т. е. в качестве цемянки.
Изучение древнерусских кирпичей-плинф показало, что в каждом памятнике, как правило, применяли один основной формат кирпича (обычно не менее 60–70 % от общего количества кирпичей) и несколько дополнительных (табл. 62, 7). Несовершенство ручной формовки и обжига вело к тому, что принятый строителями формат обычно имел отклонения на 1–2 см, как в большую, так и в меньшую сторону. Формат древнерусских кирпичей имел тенденции к уменьшению и может служить датирующим признаком при изучении памятников (табл. 62, 5). Так, кирпичи построек XI в. имеют, как правило, длину от 34 до 38 см, а ширину от 27 до 31 см. В памятниках XII в. кирпичи меньше: их длина от 29 до 30 см, а ширина от 20 до 26 см. Наконец, в памятниках конца XII — первой трети XIII в. длина кирпичей от 24 до 29 см, а ширина от 17 до 21 см. Толщина кирпичей колеблется в пределах от 2,5 до 5 см. Для Смоленска и Новгорода удалось составить более точные шкалы изменении формата кирпичей, что дает возможность датировать памятники с точностью до 20 лет (Раппопорт П.А., 1976, с. 83; 1982а, с. 200).
Наряду с обычными прямоугольными плинфами в строительстве применяли также лекальные кирпичи различной формы. Особенно велико разнообразие лекальных кирпичей в конце XII — начале XIII в. в связи с усложнением профилировки пилястр и большей насыщенностью фасадов декоративными элементами. В некоторых строительных центрах (Чернигов, Смоленск, Полоцк, Гродно) на торцах кирпичей встречаются выпуклые знаки, оттиснутые с деревянных форм в процессе формовки сырцов (табл. 62, 8). Знаки эти имели производственное назначение, отмечая определенные партии кирпича при обжиге (Раппопорт П.А., 1977б, с. 28). Кроме того, на постелистой стороне кирпичей встречаются небольшие круглые или фигурные вдавленные клейма, очевидно, имевшие характер счетных знаков (табл. 62, 3). Наконец, на постелистой стороне кирпичей иногда обнаруживали большие выпуклые знаки, часто имевшие характер «княжеских» знаков (табл. 62, 6). Очень вероятно, что такие знаки определяли принадлежность строительства определенному заказчику.
В верхних частях здания, особенно в сводах, в кладке широко использовали горшки, обычно называемые голосниками. Основное назначение их — создание облегченной кладки, но часть таких сосудов выходила в интерьер храмов своими открытыми отверстиями и служила резонаторами, улучшавшими акустику. В качестве голосников очень часто использовали амфоры, но наряду с ними применяли специально формованные для этой цели сосуды.
Большое значение в оформлении интерьеров древнерусских монументальных зданий, в первую очередь храмов, имела система декоративного убранства полов. В наиболее богатых храмах Киева, Чернигова, Переяславля, Полоцка применяли мозаичные полы. При этом мозаика иногда набиралась непосредственно на известковой подмазке, сделанной по полу, а иногда кубики смальты набирались в пазы, специально вырезанные в плитах малинового овручского сланца (так называемый красный шифер). Наиболее распространенным типом убранства полов были наборы из поливных керамических плиток. Полива применялась, как правило, трех цветов — зеленая, желтая, красно-коричневая. Квадратные плитки обычно укладывались по диагонали помещения, образуя сплошной набор, а у стен укладывались треугольные плитки. С XII в. достаточно широко стали использовать также плитки с разноцветной росписью и наборы из фигурных плиток, образовывавших различные рисунки. В Галицкой земле применяли также плитки с рельефными изображениями (Малевская М.В., Раппопорт П.А., 1978. с. 87).
В богатых зданиях Древней Руси существовали остекленные окна. Небольшие круглые стекла вставлялись в отверстия деревянных оконниц. Такие оконницы были обнаружены в Новгороде, Старой Ладоге, Чернигове (табл. 77). В Новгороде найдены куски слюды и обломки круглых плоских стекол окончин (табл. 77, 3). Целые экземпляры неизвестны, но находимые фрагменты достаточны для восстановления общей формы, многих деталей и подробностей.
Круглые окончины диаметром 18–22, чаще около 20 см имели так называемое ребро жесткости, или закраину, или бортик. Его ширина около 1 см, иногда более, иногда менее. Конструкция бортика подобна конструкции венчика — утолщенный, отогнутый в момент оплавления или загнутый внутрь. Окончины изготовлены одинаково, из типичного для древнерусского стеклоделия калиево-свинцово-кремнеземного стекла, имеющего легкий желтоватый оттенок; со временем это стекло покрывается тонкой сетью мелких трещин.
В XIV в. на Руси стал известен еще один вид оконных стекол, небольшие по площади разных геометрических форм — круги, овалы, сегменты, прямоугольники, квадраты, ромбы, треугольники (табл. 77). Толщина таких стекол 1,5–3 мм, край напоминает собой ретушь, это их отличительная черта. Другая отличительная черта — цвет — оливковый светлый, изредка синий. Именно такие стекла могли крепиться в металлические медные и иные обоймицы.
В древнерусских постройках стекло окон было резной формы и разного происхождения. В домонгольское время, с середины XI в., употреблялись оконные стекла киевского производства — круглые желтоватые. Наиболее употребительны они были в XII в. В это же время применялись и византийские стекла. Западноевропейские стекла известны с XIV в. и позже. Кровли храмов обычно покрывались свинцовыми листами.
Строительство велось с помощью деревянных лесов, пальцы которых закреплялись в кладке стен строящегося здания. После окончания постройки отверстия от пальцев лесов иногда закладывались, но очень часто оставляли незакрытыми. Такие отверстия характерны как для кирпичной, так и для белокаменной техники древнерусского строительства.
Начиная с XIV в. в богатых жилых и административных отапливаемых постройках начали применять печные изразцы. Наиболее ранним типом, известным по находкам в Полоцке и Новогрудке, являются горшковидные изразцы круглого сечения, имевшие не только декоративное, но и функциональное значение, поскольку они служили своеобразными калориферами. Изразцы из красной глины квадратной и прямоугольной формы появляются в Новгороде в первой половине XIV в.
Фортификации А.В. Куза
Эволюция военного зодчества Руси — усовершенствование плановой схемы укреплений и организации их обороны, тесно связана с развитием тактических приемов осады. Появление новых способов взятия укреплений и новых технических средств штурма, изменения в структуре военных сил влекли за собой новшества в военно-инженерном искусстве обороны.
История военного зодчества Руси в X–XIV вв. подробно изучена П.А. Раппопортом и опубликована в трех томах специальных «Очерков» (1956, 1961, 1967а). Древнерусские крепостные сооружении конца XIII — начала XVI в. исследованы В.В. Косточкиным (1962).
Основную защитную роль в системе укреплений играли земляные валы с деревянными стенами и рвы перед ними. Именно они в сочетании с интенсивной стрельбой защитников должны были предотвратить взятие крепости штурмом. С целью усилить оборонные возможности при строительстве укреплений с IX по XIV в. широко использовали защитные свойства рельефа местности. Как показало изучение истории древнерусских укрепленных поселений, большинство из них занимало естественно защищенные площадки: мысы, вершины холмов или холмы-останцы, острова среди болотистых низин. В этом случае доступной для врага, как правило, оставалась лишь одна из сторон крепости, укреплению которой и уделялось основное внимание. Здесь насыпался высокий вал и отрывался глубокий ров, а по остальному периметру поселения могли стоять деревянные стены столбовой конструкции или частокол-острог. Иногда склоны мыса или холма для придания им большей крутизны эскарпировались. Таковы многие древнерусские городища IX–X вв.
Однако и в это время укрепления ряда поселений были более совершенными. Валы сооружались по всему периметру, причем внутри они усиливались деревянными конструкциями. Поверху устраивался не только частокол, но и деревянные стены (например, городища Титчиха на Дону и Горналь на Псле).
Наряду с мысовыми укреплениями уже в IX в. в западных землях Руси, вероятно, под влиянием западнославянских традиций, появляются укрепленные поселения, округлые в плане. Они располагаются на плоскости или на относительно пологом склоне коренного берега реки. Впрочем, их оборонительные системы обладали небольшой мощностью.
Для этого раннего периода истории древнерусского военного зодчества характерно стремление создать укрепления, способные отразить стремительный набег, не дать противнику, чаще всего конному, взять поселение «изъездом». Труднодоступное местоположение поселения даже при наличии слабых укреплений вполне отвечало этим задачам.
Многие укрепленные поселения тогда, особенно в лесостепном левобережье Днепра, на Южном Буге, в бассейнах Днестра и Прута, имели еще общинно-племенной характер. Они строились руками самих жителей без участия представителей государственной власти с специалистов-городников. Небольшие, слабо укрепленные поселки — средства народной самообороны, были вызваны к жизни тревожными условиями существования русского крестьянского населения в степном порубежье. В северо-западных землях Руси им соответствуют городища-убежища. Очень примитивные с инженерной точки зрения, построенные на островах посреди болот или вершинах холмов, они не имели постоянного населения. Здесь укрывались в момент опасности жители соседних деревень. И те и другие общинные укрепления постепенно забрасываются в конце X–XI в. Массовое строительство городов, крепостей и замков заменяет и вытесняет народную самооборону.
Значительные изменения в организации обороны произошли уже в середине-конце X в. С одной стороны, окрепло и упрочилось раннефеодальное Киевское государство. Сформировались его постоянные вооруженные силы — дружина. Появилась возможность широко использовать при строительстве крепостей труд подвластного населения. С другой стороны, печенеги — главные враги Руси, от тактики конного набега перешли к длительной осаде укрепленных поселений. Роль искусственных оборонительных сооружений многократно усилилась. Теперь они, как правило, возводятся по всему периметру поселения. Чтобы выдержать систематическую осаду, их стали строить более мощными, с деревянными стенами сложной конструкции. Такие укрепления позволяли вести фронтальный обстрел осаждающих практически со всех сторон.
В конце X в., при Владимире Святославиче, Русь принимает комплексные меры для действенной охраны своих южных рубежей и защиты столицы — Киева. Оборону от печенегов Владимиру удалось сделать общегосударственным, всенародным делом. На пути конных орд отстраиваются не отдельные укрепления, а целые оборонительные линии вдоль берегов рек Стугны, Сулы, Трубежа, Остра и Десны. Вырабатывается особый тип сторожевой крепости, состоящей из двух частей: собственно крепости и обширной, но менее укрепленной тверди. В детинце размещался постоянный гарнизон, снабжающийся всем необходимым централизованным путем. Твердь могла вместить как значительные воинские резервы, так и окрестное население. В тылу основных оборонительных линий по Стугне и Суле были построены гигантские города-крепости: Белгород и Переяславль (табл. 29, 2). Они являлись своеобразными штабами обороны правого и левого берегов Днепра.
Валы крепостей Владимира были сложными инженерными сооружениями. Их основу составляли поставленные впритык друг к другу деревянные срубы, забитые землей. Но некоторые срубы-городни оставлялись пустыми (Витичев, Новгород Малый) и были приспособлены для жилья и хозяйственных нужд. Перед деревянными срубами с внешней стороны проходила кладка из нескольких рядов сырцовых кирпичей (табл. 79, 7, 8; 80, 4).
Стены срубов поднимались над гребнем вала и образовывали деревянную стену из двух-трех ярусов с боевыми ходами. Над воротными проемами, а иногда и в местах поворота стен сооружались деревянные башни (табл. 79, 8).
На севере Руси в Ладоге (X в.) и Изборске (XI в.) строятся первые крепости с каменными стенами, сложенными насухо из плитняка. В Изборске на самой стрелке городищенского мыса, но с внутренней стороны стен сооружается круглая каменная башня.
Приемы строительства укреплений, освоенные во второй половине X в., получают дальнейшее развитие в XI столетии. Продолжая дело отца, Ярослав Мудрый возводит новую линию обороны по р. Рось. При нем строится самая мощная крепость Древней Руси Верхний Город (Город Ярослава) в Киеве (табл. 22). Основу вала составляла деревянная конструкция из дубовых срубов, вплотную примыкавших друг к другу. Размеры срубов исключительно велики: вдоль длинной оси вала 6,7 м, а поперек 19,2 м. Внутри срубы делились на клети: вдоль на две, а поперек — на шесть. Таким образом, каждый сруб состоял из 12 клетей, доверху заполненных лёссом (табл. 79, 3). В высоту вал достигал 12 м. На его постройку было израсходовано не менее 50 тыс. куб. м дубового леса, а на засыпку пошло около 630 тыс. куб. м грунта. Таким образом, в строительстве вала длительное время участвовало несколько тысяч человек. Одновременно с валом и рвом были сооружены из кирпича-плинфы трое ворот, обеспечивавшие надежную защиту самых уязвимых мест в системе городских укреплений.
Город Ярослава в Киеве — прекрасный пример неизмеримо возросших возможностей раннефеодального русского государства в целенаправленном строительстве конструктивно совершенных и чрезвычайно трудоемких по сравнению с предшествующим временем укреплений. Сооружение укреплений приобретает характер государственной деятельности. В числе представителей княжеской администрации появляются городники, руководившие возведением оборонительных линий. Их труд и содержание во время строительства обеспечивались в законодательном порядке.
Срубные конструкции в основании валов в XI–XII вв. получили повсеместное распространение (табл. 79, 2, 6; 80, 1, 2). Обычно срубы, рубленные «в обло», вплотную приставлялись друг к другу. Но благодаря выступавшим концам бревен между их стенами оставался промежуток. Срубы забивались землей, камнями и засыпались грунтом снаружи. Они придавали валу необходимую жесткость, крутизну и предохраняли его от оползания. Срубы ставились в один, а иногда в два-три ряда. При этом в зависимости от профиля вала их стены имели разную высоту и наклон. Такая конструкция внутривальных деревянных сооружений была широко распространена во всех землях Руси в XI–XIII вв.
Другой тип срубной конструкции внутри валов появляется уже в XII в. Она состоит не из отдельных срубов-плетей, а из их сплошной прочно связанной линии. Бревна лицевых стенок таких срубов врублены «внахлестку» в поперечные стенки, разделявшие соседние помещения. В плане срубы были квадратные и прямоугольные, реже — трапециевидные. В некоторых случаях (Вышгород) у них отсутствовала задняя стенка. Размеры срубов колебались от 1,5×3 м до 3,5×4 м и больше.
Известны и внутривальные конструкции смешанного типа, когда по длинной оси вала срубы стоят каждый в отдельности, а поперек подразделяются на две-три клети. Часто (особенно с середины XII в.) внутренний ряд клетей (или два ряда) не заполнялся землей, а служил жилыми и хозяйственными помещениями (табл. 79, 4). Таким образом, увеличивалась полезная жилая площадь внутри укрепления.
Особым, редко встречаемым типом внутривальных деревянных конструкций являются накаты из бревен. В основании вала поперек его длинной оси укладывались на небольшом расстоянии друг от друга бревна. На них в свою очередь помещались продольные лаги. Поверх лаг вновь укладывался накат и так несколько раз. Для предотвращения расползания бревен наката они иногда укреплялись небольшими поперечными бревнами с естественными крюками-сучьями. Пространство между бревнами засыпалось землей. Таковы валы Минска, Москвы, Новгородского детинца и некоторых других памятников.
Наряду с валами, имевшими внутренний деревянный каркас, во всех землях Руси широко известны оборонительные укрепления, целиком насыпанные из земли (табл. 79, 1, 5). Основание таких валов могло усиливаться низкими каменными стенками, а склоны укрепляются обожженной глиной или булыжниками.
Одновременно с отсыпкой вала перед ними сооружался ров, между которым и основанием вала устраивалась горизонтальная площадка берега. Она предохраняла от оползания в ров передний склон вала. Рвы древнерусских укреплений по большей части имели в разрезе симметричную, треугольную форму с несколько скругленным дном. Известны случаи, когда передний край рва усиливался частоколом, наклоненным в сторону «поля». Вал и ров вместе создавали перед штурмующими укрепленное препятствие высотой не менее 10 м.
На вершине вала возводилась деревянная стена (табл. 79, 2; 80, 3, 5). Ее простейшим типом был частокол из бревен — столпие или тын древнерусских летописей. Концы бревен 3-х и 4-метровой высоты заострялись. Гораздо более сложными являлись срубные конструкции деревянных стен. Их нижними частями служили внутривальные деревянные каркасы. Срубы, находившиеся в теле вала, поднимались на поверхность. Наземную деревянную стену могли образовывать лишь передние стенки срубов или она состояла из трехстенных клеток, вплотную приставленных друг к другу. Стену венчали заборола — деревянный бруствер с боевой площадкой, откуда велась стрельба и метались камни. Возможно, заборола имели кровлю.
У большинства древнерусских укреплений XI — середины XIII в. был только один въезд. Над ним сооружалась деревянная проездная башня. Для ворот в валу делался проем. Возможно, въезд оформлялся двумя рядом стоящими башнями (Минск). В некоторых случаях по углам укрепления строились и другие башни, служившие не только целям обороны, но и дальнего наблюдения. Через ров к воротам вели специальные мосты. Чаще всего они устраивались на столбовых опорах и во время нападения защитники их легко разрушали — «переметывали». Но известны мосты и более сложной конструкции — подъемные.
В XI в., а на севере Руси в XII в. начинается массовое строительство геометрически правильных (округлых, овальных или полукруглых) в плане крепостей (табл. 8, 9). Такие укрепления почти не использовали защитных свойств рельефа местности. Но они хорошо обеспечивали круговую оборону, были экономичными по затратам трудовых и материальных ресурсов в сравнении с укреплениями иной планировки. Расположенные чаще всего в низменной местности, эти крепости легко снабжались водой, что имело немаловажное значение во время длительной осады.
Строительство каменных оборонительных сооружений осуществлялось в это время лишь эпизодически (епископские ворота со стеной в детинце Переяславля, каменная ограда вокруг Печерского монастыря, стена посадника Павла в Ладоге). В конце XI — первой половине XII в. в некоторых крепостях появляются первые отдельно стоящие башни-донжоны (Любеч). Они были деревянными и выполняли функции наблюдательной вышки и важного узла обороны.
Во второй половине XII в. в связи с распространением различных камнеметных машин тактика длительной осады вытесняется решительным штурмом — взятие копьем. Пороками — катапультами разрушались ворота или участки стен. В проломы врывались осаждавшие. Это потребовало изменений в тактике обороны и в конструкции оборонительных сооружений. Последние делаются еще более мощными. Перед главной линией обороны иногда возводится несколько дополнительных. Полоса защитных сооружений расширяется, не позволяя устанавливать камнеметы на кратчайшем расстоянии от стен.
В середине — второй половине XIII в. в западнорусских землях основным элементом обороны становится высокая и мощная каменная башня-донжон. Построенная внутри крепости, она возвышалась над ее стенами. С боевых площадок башни велась дальнобойная стрельба во все стороны, препятствовавшая штурму (табл. 80, 6).
Если до середины XIII в. каменные укрепления на Руси были редкостью, то в конце этого столетия и особенно в XIV в. они известны уже в значительном числе. Толстые каменные стены значительно лучше деревянных выдерживали удары камнеметов. Помимо отмеченных особенностей военного зодчества, массовое применение штурма крепостей при поддержке камнеметных машин вновь заставило широко использовать защитные свойства рельефа местности. Строители укреплений стремились до минимума сократить протяженность их уязвимых участков. Там же, где естественные оборонительные рубежи отсутствовали, создавались наиболее мощные оборонительные системы с несколькими башнями. Со стороны «приступа» эти башни позволяли вести фланкирующий обстрел стен, прикрывая самое опасное направление штурма. К середине XIV в. данная тенденция в организации обороны полностью возобладала и продолжала совершенствоваться в XV в. в условиях действия огнестрельного оружия.
Инженерные сооружения Б.А. Колчин
Мостовые и водоотводы. Высокого уровня в древнерусском городе достигло инженерное благоустройство. Особенно оно было развито в городах лесной зоны Руси — Новгороде, Пскове, Москве, Белоозере, Минске, Смоленске, Мстиславле, Полоцке, Витебске и многих других.
Следует заметить, что эти города возникли на моренных отложениях, т. е. плотной глинистой почве, исключающей естественный дренаж осадков и других видов влаги по вертикали. Дождевые и талые воды пронизывали культурный слой городов, не проникая в глубь материка, и циркулировали только по горизонтали, стекая в реки или иные водоемы. Поэтому верхние слои почвы в этих городах всегда имели повышенную влажность, в связи с чем улицы необходимо было покрывать мостовыми, а из-под сооружений и иных мест скапливающуюся влагу нужно было отводить в реки или водоемы.
Во всех городах лесной зоны археологи, вскрывая древние улицы, всегда на раскопах обнаруживают деревянные мостовые, а на территории усадеб и вдоль улиц всевозможные системы дренажей и водоотводов.
Очень хорошо древние дренажи и деревянные мостовые улиц сохранились в культурном слое Новгорода. Деревянные настилы улиц в Новгороде начали делать в первой половине X в. Первая древнейшая мостовая Черницыной улицы в Новгороде была сооружена в 938 г. Первая мостовая Великой улицы в Неревском конце Новгорода была уложена в 953 г. На Торговой стороне первая мостовая Михайловой улицы, расположенной недалеко от Ярославова дворища, была устроена в 974 г.
Устройство мостовых было традиционно и неизменно повторялось в продолжение многих веков до XVIII столетия. В основе мостовой лежали три продольных круглых лаги, длиной до 10–12 м и диаметром в 10–20 см. Они укладывались вдоль улицы по направлению мостовой параллельно друг другу на расстоянии 1,3–1,6 м одна от другой (табл. 81, 8). Поперек на эти лаги укладывались толстые массивные плахи — расколотые пополам бревна диаметром 25–40 см плоской стороной вверх. Мостовая делалась шириной в 3,5–4,0 м в X–XI вв., до 4,0–5,0 м в XIII–XIV вв. Плахи хорошо подгонялись одна к другой. С нижней стороны в них делались полукруглые вырубки, соответствующие по форме и размерам лагам. В эти вырубки входили лаги, благодаря чему обеспечивалось прочное устойчивое положение плах мостовой. Плахи мостовых делались из сосновых и еловых бревен, диаметр которых иногда достигал в XIV–XV вв. 40–50 см.
Мостовые описанной конструкции были достаточно прочны и в условиях влажной почвы северных городов весьма долговечны. Мостовая обычно функционировала 15–30 лет. За это время мостовые, как правило, не изнашивались. Строительство новых мостовых предпринималось или после сильных пожаров, во время которых верхняя часть плах обгорала, или при необходимости подъема уровня мостовой в связи с общим ростом культурного слоя в городе. Новую мостовую делали так же, как и предшествующую, т. е. на плахи старой мостовой клали вдоль лаги и на них поперек новые плахи. Таким образом уровень мостовой каждый раз поднимался на 15–25 см.
В результате многократных сооружений настилов на улицах мостовые представляли собой многоярусные сооружения, иногда достигавшие 30 прослоек — ярусов. Такое количество ярусов на улицах Новгорода было сооружено с середины X в. до середины XV в., т. е. в течение пяти веков. Мостовые XVI–XVIII вв. не сохраняются.
Городские власти всегда заботились об исправности уличных мостовых, регулярно их ремонтировали и при необходимости сооружали новые настилы. Этим работам придавалось огромное значение, и они часто даже регламентировались княжеским законодательством. До нас дошел новгородский «Устав князя Ярослава о мостех», составленный в 1265–1266 гг. В этом документе речь идет о распределении строительных и иных работ по мощению и ремонту основных новгородских улиц среди всех слоев жителей Новгорода и его пригородных сел (Янин В.Л., 1977).
Большое количество водоотводных дренажных систем и их частей было раскопано за несколько десятилетий в Новгороде. Они были вскрыты в нескольких десятках пунктов города на Софийской и Торговой сторонах. Некоторые водоотводные системы были раскопаны на протяжении ста и более метров.
Все эти системы подразделяются на два типа сооружений. Основная система, наиболее массовая, предназначалась для отвода подземных вод из-под различных строений и жилых комплексов. Она в каждом конкретном случае состояла из нескольких рабочих звеньев. Первое звено устраивалось на объекте, из-под которого рассчитывали отводить воду. В землю внутри сооружения в одном из углов вкапывалась бочка диаметром около 50 см без дна. Применяли бочки типа долбленок, а также и сделанные из клепок. Эта бочка предназначалась для сбора воды. В верхнюю часть бочки на глубину ⅓ врезалась деревянная отводная труба (табл. 81, 3), по которой вода вытекала в ближайший водосборник. Этот водосборник — второе звено системы — представлял собой небольшой квадратный сруб из бревен или полукруглых плах размером 1×1 м или 1,5×1,5 м. Водосборники, или соединительные колодцы, всегда имели деревянное дно и крышу из наката круглых бревен, покрытую берестой. В такой водосборник с небольшим наклоном в сторону стока воды обычно входили 2–4 трубы. Выходила из водосборника одна более мощная магистральная труба, идущая с небольшим уклоном, как правило, по направлению к р. Волхов. Иногда магистральные трубы, представлявшие собой третье звено системы, на своем пути к реке еще раз сходились в более мощном водосборнике. Подобный срубный водосборник был раскопан в Новгороде на Ярославовом дворище (табл. 81, 2), он был построен в XII в. (Медведев А.Ф., 1956).
Известны случаи, когда отводные трубы подключали непосредственно к магистральной трубе в ее средней части. При таком способе в магистральной трубе делали квадратный или круглый боковой выем — окошечко, в который вставлялся специально обработанный конец вводной трубы. Это соединение затем обертывалось берестой.
Водоотводные трубы делались из длинных бревен. Диаметр труб колебался в пределах: наружный 40–60 см, внутренний, довольно стабильный во всех системах, достигал 20–22 см. Трубы делались довольно длинные, более 10 м. В Новгороде встречены водоотводы, в которых длина отдельных труб достигала 22,5 м.
Конструкция труб была следующая: каждая труба состояла из двух половинок, соединенных между собой волнообразным швом (табл. 81, 4). Каждая половника трубы вытесывалась из круглого бревна. На одну трубу шло два бревна. В каждой половине трубы после соответствующей подгонки соединительных швов выдалбливался полукруглый желоб глубиной в 10 см, который при сложении двух половинок образовывал проходное отверстие в 20–22 см. Швы иногда прокладывали берестой.
Стыки труб имели форму втульчатых шипов. Они делались двух типов. Конец одной трубы, уже сложенной из двух половинок, затесывался на конус и вставлялся в соответственно растесанный канал в комлевой части другой трубы (табл. 81, 6). Иногда шип имел форму коленчатого уступа (табл. 81, 5). Стыки, а иногда и сами трубы очень тщательно обертывали в два-три слоя бересты, которая предохраняла трубы от проникновения в них грязи.
Водоотводные сооружения описанной нами системы и конструкции обнаружены, кроме Новгорода, в Смоленске, Пскове, Москве и других городах.
Второй вид водоотводных систем, более мощных, отводил воду от ключей, а иногда и заключал небольшие ручьи на территории города в деревянные трубы. Подобная система была раскопана в Новгороде на Торговой стороне в 1978 г.
Раскопанная дренажная система, отводившая воду из района Ильиной улицы на юг, была построена в 1306 г. (Колчин Б.А., Рыбина Е.А., 1982). Эта система отводила воду в ручей, протекавший южнее Ильиной улицы. Ручей вытекал из речки Тарасовец за церковью Филиппа Апостола и направлялся к Волхову параллельно древней Ильиной улице, протекая у Торга с северной стороны церкви Успения на Торгу. Этот ручей, вероятно, уже в XIV в. был заключен в деревянную трубу. В писцовых книгах Новгорода XVI в. ручей упоминается уже под названием «Труба».
В ручей отводила воду система, раскопанная на улице Кирова. Она проходила через раскоп с севера на юг и вскрыта в длину на 16 м. Она представляла собой мощную водоотводную трубу квадратного сечения, сделанную из бревен по системе «ряда». В раскопе были вскрыты три секции водоотвода, примыкавшие торцами одна к другой. Конструкция секций была одинакова. Водоотводная труба состояла из двух бревенчатых стенок, пола и перекрытия (табл. 81, 7). Ширина трубы внутри 0,6 м, высота внутри 0,8 м. Стенки трубы срублены из четырех бревен диаметром по 20 см. Длина секции достигала 7,0 м. Стенки между собой соединялись двумя рядами переводин, отстоявших от концов секции на расстояние 0,6–1,0 м. Три нижние переводины, сделанные из бревен диаметром 18–20 см, соединились с боковыми бревнами трубы узлом рубкой «в обло», верхняя четвертая переводина делалась из горбыля и укладывалась плоской стороной на верхнее бревно стенок. У каждой бревенчатой переводины для протока воды в середине делался паз «в половину». Ширина паза 0,3 м, высота 0,4 м. Пол трубы делался из горбылей, лежавших выпуклой стороной вверх. Он покоился на подкладках из бревен, лежавших поперек трубы. Перекрытие трубы сделано из круглых бревен, лежавших на верхних переводинах. Стыки секций трубы пыли забутованы плахами и обложены берестой. Труба в свое время при строительстве была опущена в землю на небольшую глубину — ее перекрывал слой земли в 20–30 см.
Жилые усадьбы-дворы ограждались от улиц и соседей деревянными заборами. В подавляющем большинстве случаев ограды делались в виде тына, т. е. частокола из вертикально стоящих бревен. Хорошо сохранились археологически усадебные частоколы в Новгороде.
Тын делался из еловых бревен диаметром 13–18 см. Наземная часть частокола достигала высоты 2–2,5 м. Все вертикальные бревна частокола по сплошной линии, примыкая один к другому, закапывались своей нижней частью в землю в специально вырытую канаву на глубину 0,6–1,0 м. Для плотности и крепости частокола на дне канавы концы бревен забутовывались горизонтальными обрубками плах и бревен. Зарытый и утрамбованный в такой канаве частокол стоял достаточно крепко. В верхней наземной части, отступавшей вниз от заостренных концов на 0,3–0,5 м, через специальное отверстие в бревнах частокола проходила переводина — длинное бревно (табл. 81, 9), которая держала и укрепляла верх частокола. Описанная конструкция частокола в северных районах России дожила до XX в.
Иллюстрации
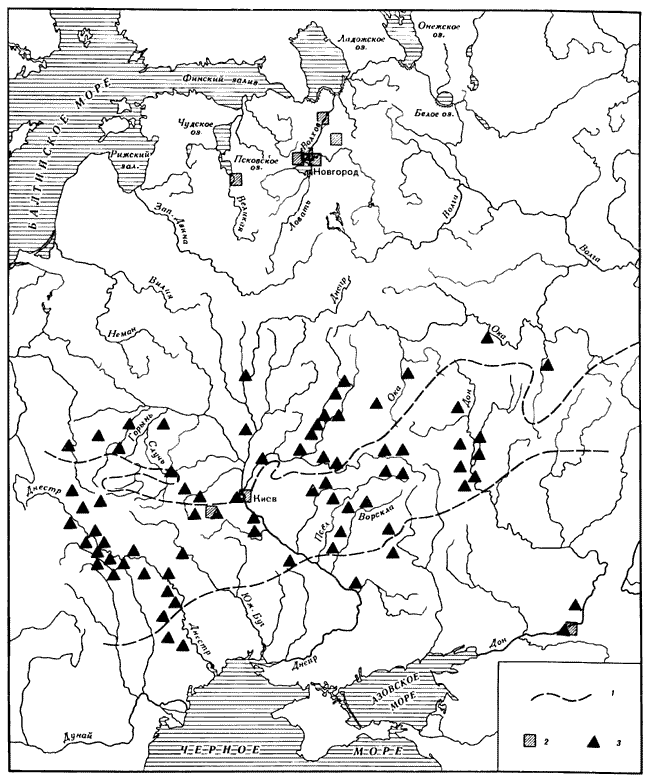
Таблица 36. Распространение наземных и полуземляночных жилищ в IX — первой половине X в.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.

Таблица 37. Древнерусские жилища.
1 — полуземляночное жилище, Городище Новотроицкое, IX в.; 2 — наземное жилище, Малое городище в Торопце, XII в.

Таблица 38. Полуземляночные жилища.
1 — Новотроицкое городище, IX в.; 2 — Алчедар, X–XI вв.; 3 — Владимир-Волынский, Белые берега, X в.; 4 — Галич (г. Крылос), Окольный город, X–XI вв.; 5 — Родень (Княжа Гора), XII–XIII вв.; 6 — Чучин (Щучинка), XII–XIII вв.; 7 — Кичкас, XII–XIII вв.; 8 — реконструкция полуземляночного жилища X–XI вв.

Таблица 39. Древнерусские печи.
1 — печь-каменка Крылос (древний Галич), X–XI вв.; 2 — печь, вырезанная в материке, Городище Новотроицкое, IX в.; 3 — глиняная печь, Городище Острожец, конец X–XI вв.

Таблица 40. Печи.
1 — глинобитная печь с отверстием в своде; 2 — глинобитная печь с жаровней; 3 — печь-каменка, Григоровка, IX–X вв.; 4 — глинобитная печь с каркасом, Переяславль (Переяслав-Хмельницкий), XII–XIII вв.; 5 — глинобитная печь, Лепесовка, X в.; 6 — прямоугольная глиняная печь, Новотроицкое городище, IX в.; 7 — кирпичная печь, Белая Вежа (Цимлянское городище), X–XI вв.
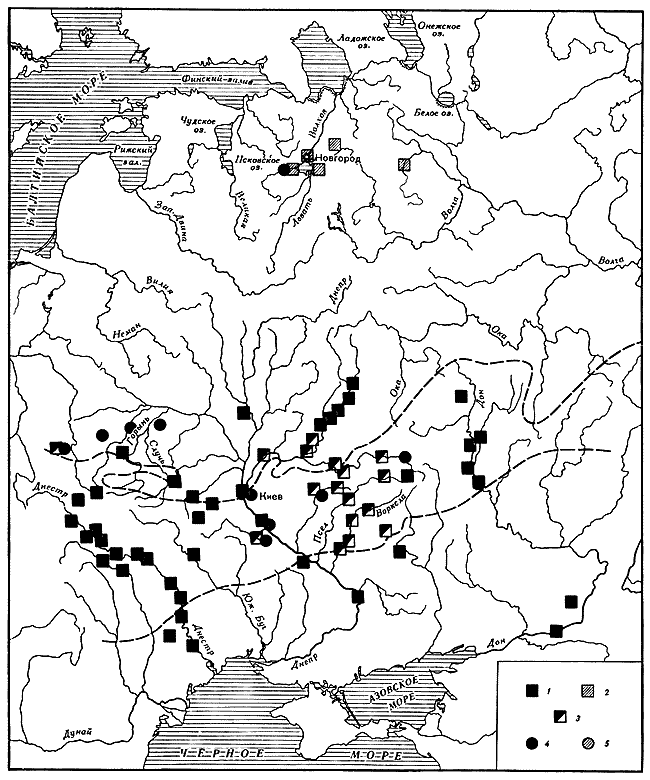
Таблица 41. Распространение типов печей в жилищах IX — первой половины X в.
1 — печь-каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь-каменка в наземном жилище; 3 — прямоугольная глиняная печь; 4 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 5 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.

Таблица 42. Наземные жилища.
1 — Старая Рязань, XII в.; 2 — Ленковецкое поселение, XII в.; 3 — городище, Осовик, XIII в.; 4 — Белоозеро, XI–XII вв.; 5 — Новгород, XIII в.; 6 — Старая Ладога, IX в.; 7 — реконструкция наземного жилища X–XI вв.

Таблица 43. Распространение наземных и полуземляночных жилищ во второй половине X–XI в.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.
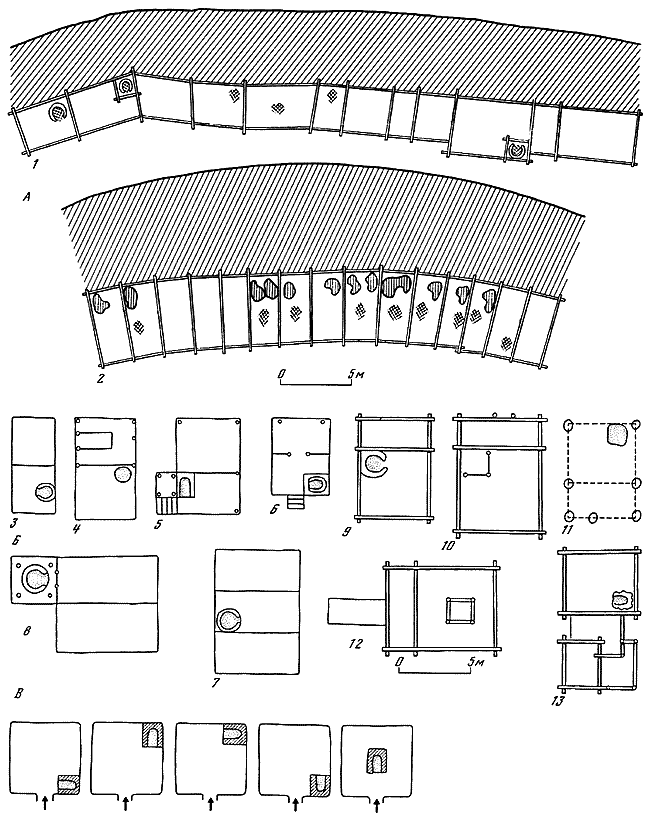
Таблица 44. Планы древнерусских жилищ.
А — жилые клети в оборонительных валах: 1 — Колодяжин; 2 — Ленковецкое поселение.
Б — схематические планы многокамерных жилищ: 3–8 — полуземляночные XII–XIII вв. (3 — Городск; 4–5 — Белгородка; 6–7 — Киев, город Владимира; 8 — Киев, Подол); 6-13 — наземные (9 — Киев, Подол, X в.; 10, 12 — Новгород, XII в.; 11 — Воищина, XIII в.; 13 — Новгород, XIV в.).
В — типы плановой структуры жилищ.
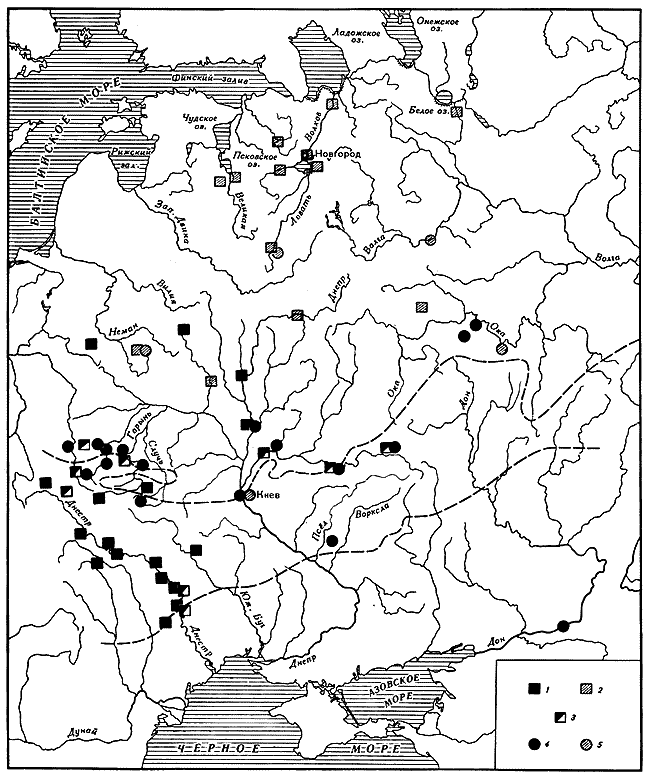
Таблица 45. Распространение типов печей в жилищах второй половины X–XI вв.
1 — печь каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь-каменка в наземном жилище; 3 — прямоугольная глиняная печь; 4 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 5 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.

Таблица 46. Распространение наземных и полуземляночных жилищ в XII–XIII вв.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.

Таблица 47. Распространение типов печей в жилищах XII–XIII вв.
1 — печь-каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь каменка в наземном жилище; 3 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 4 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.

Таблица 48.Жилища древнего Киева каркасно-столбовой и срубной конструкции X–XIII вв.
1 — жилище XII–XIII вв. (Город Владимира, раскопки 1946 г.); 2 — жилища XII–XIII вв. (Город Ярослава, раскопки 1973 г.); 3 — жилище XIII в. (Город Ярослава, раскопки 1967 г.); 4 — жилище X в. (Подол, раскопки 1972 г.); 5 — жилище XI в. (Подол, раскопки 1973 г.); 6 — жилище XII в. (Подол, раскопки 1973 г.).
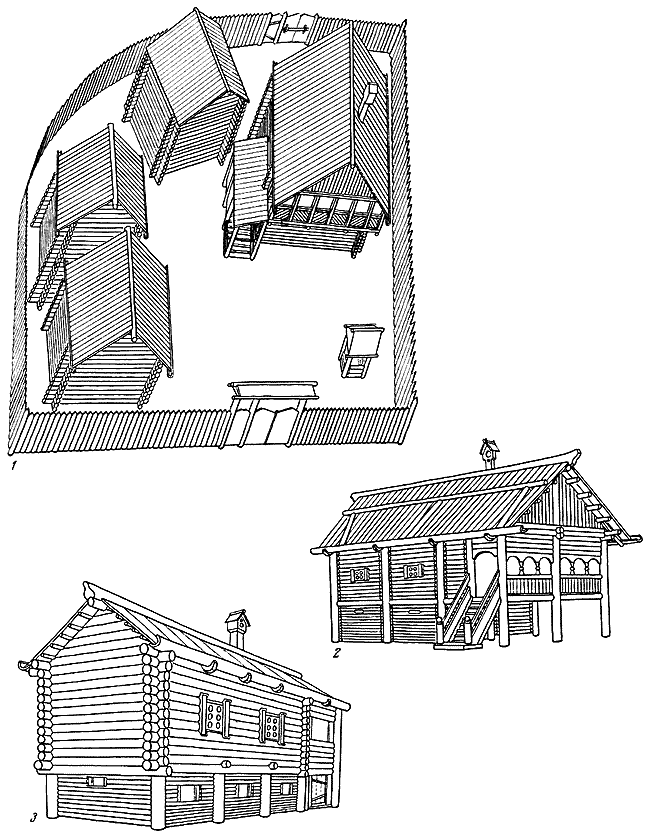
Таблица 49. Реконструкция жилищ и усадьбы древнего Киева, по П.П.Толочко и В.А. Харламову.
1 — усадьба X в. (Подол); 2 — жилище XII–XIII вв. (Город Владимира); 3 — жилище XII–XIII вв. (город Изяслава-Святополка).

Таблица 50. Застройка усадьбы Новгорода XII в.
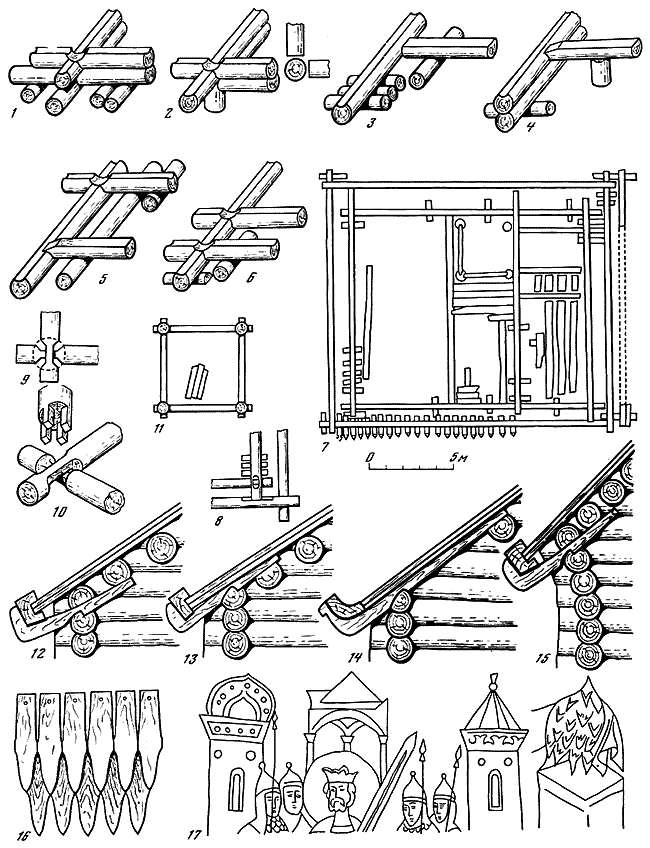
Таблица 51. Жилища Новгорода. Конструкция деревянной клети и крыши.
1 — угол окладного венца на подкладках; 2 — опора угла на столб; 3 — примыкание лаги к стене; 4 — врубка лаги в стену и опора лаги на столбы; 5 — опора лаги и венца бревна на общую подкладку; 6 — врубка с остатком лаги в стену; 7 — устройство завалины; 8 — сопряжение завалины со срубом; 9, 10, 11 — крепление столбов на окладном венце; 12, 13, 14, 15 — реконструкции тесовой крыши по курице; 16 — лемех; 17 — формы крыш.

Таблица 52. Жилища Новгорода. Интерьер новгородской избы.
1 — реконструкции дверных проемов; 2 — местоположение печи в избе; 3 — четырехстолбовой опечек; 4 — двухстолбовой опечек; 5 — опечек с предплечьем; 6 — опечек с мостом; 7 — одностолпный опечек; 8 — срубный опечек; 9 — реконструкция печи; 10 — реконструкция интерьера избы с каменкой; 11 — реконструкция интерьера избы; 12 — реконструкция интерьера избы на хозяйственном подклете; 13 — реконструкция избы на жилом подклете.
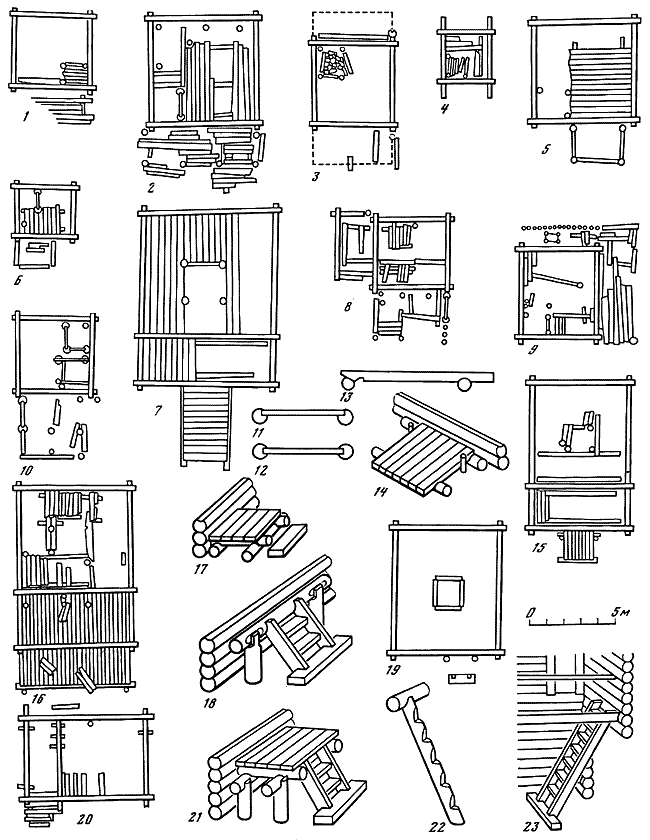
Таблица 53. Жилища Новгорода. Конструкция сеней и крылец.
1 — настил перед входом; 2 — навес на столбах; 3 — сени на столбах; 4 — открытое преддверие; 5, 6 — сени трехстенные столбовые, с притвором; 7 — сени перерубом; 8 — преклет и сени; 9 — сочетание угла в обло с заборкой в столбы; 10 — сени с двумя чуланами; 11, 12 — конструкция отмостки; 13–15 — тесовая площадка; 16 — отмостка перед сенями; 17 — крыльцо; 18, 19 — безрундучный всход; 20, 21 — крыльцо; 22 — шегла; 23 — всход на тетивах.
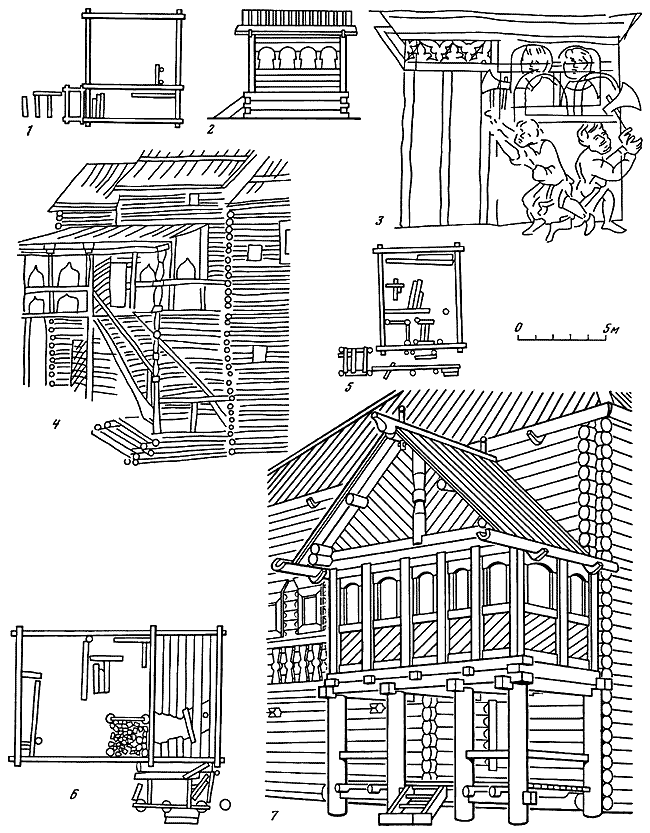
Таблица 54. Жилища Новгорода. Крыльца.
1 — крыльцо со всходом и рундуком; 2 — крыльцо XIX в.; 3 — сени варяга-христианина (Радзивилловская летопись); 4 — крыльцо в посольской избе (по Меербергу); 5 — крыльцо на столбах; 6 — крыльцо с теремцом; 7 — реконструкция крыльца.

Таблица 55. Жилища Новгорода. Крыльца и галереи.
1 — фрагмент двора А (ярус 14) с навесом и крыльцами; 2 — галерея для связи избы с клетью; 3 — галерея со столбами на окладном венце; 4 — обходная галерея; 5 — каменный дом Юрия Онцифоровича; 6 — реконструкция крылец и галерей.
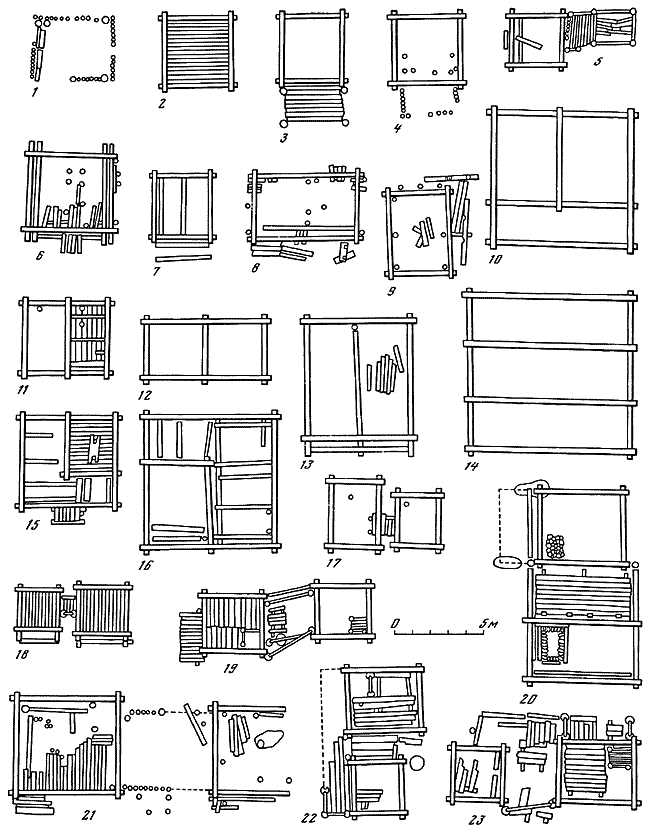
Таблица 56. Хозяйственные постройки и связи построек Новгорода.
1 — навес со стенами частоколом; 2 — клеть с тесовым полом; 3 — клеть с навесом; 4 — клеть с преддверием из частокола; 5 — клеть смешанной конструкции; 6 — клеть с завалиной; 7 — клеть с отмосткой при входе; 8 — двухэтажная клеть; 9 — клеть с консольным навесом; 10 — подклеть избы-пятистенки; 11, 12 — клети двойни; 13 — клеть двойная с навесом; 14 — шестистенок; 15, 16 — поварни; 17, 18 — связь двух клетей; 19 — связь изба-сени-изба; 20 — мастерская; 21 — сени с частоколом между избой и клетью; 22, 23 — изба-сени-клеть с притулой.
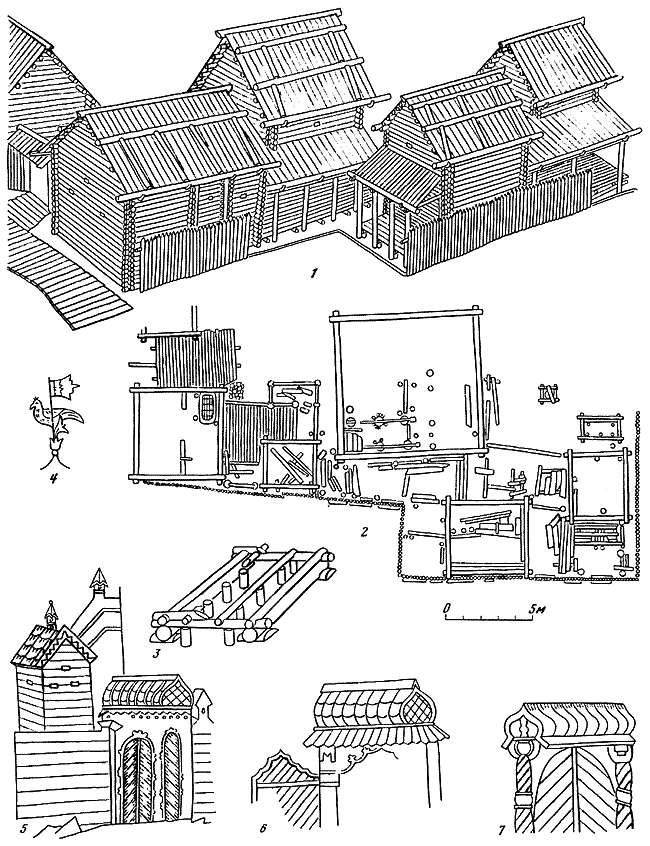
Таблица 57. Жилища Новгорода. Сложные формы связей.
1–3 — хоромы и производственный комплекс; 4 — завершение крыши XV в.; 5–7 — изображение ворот в Новгородской иконописи XVI в.

Таблица 58. Жилища Новгорода. Мастерская и хоромы Олисея Гречина, конец XII в.
1 — реконструкция; 2 — план.

Таблица 59. Карта размещения памятников русского зодчества X–XIII вв.
Количество памятников: 1 — один-два; 2 — три-четыре; 3 — пять-девять; 4 — десять и более.

Таблица 60. Древнейшие монументальные здания Древней Руси.
1 — Киев, Десятинная церковь; 2 — Киев, Софийский собор; 3 — Чернигов, Спасский собор; 4 — Новгород, Софийский собор.
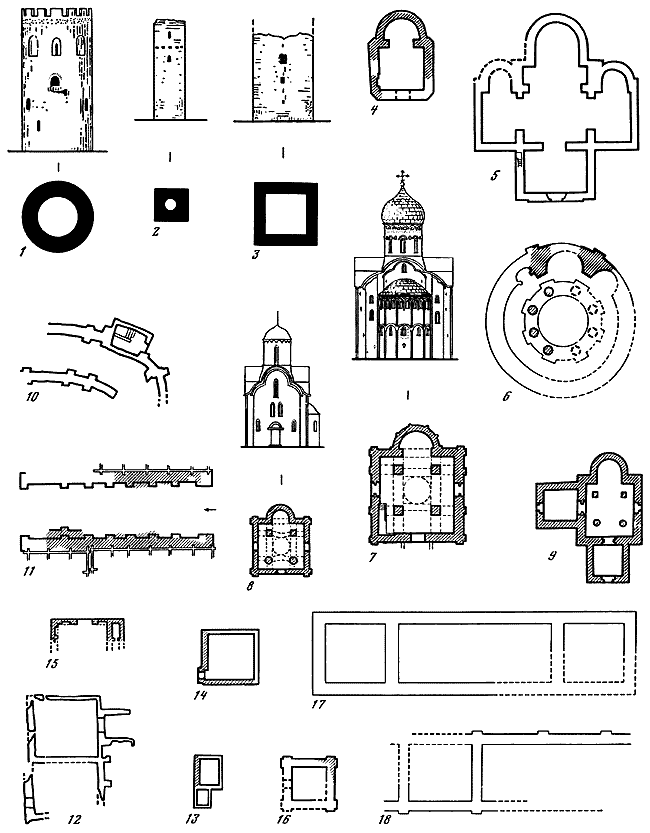
Таблица 61. Памятники архитектуры XI–XIII вв. (1, 2, 3, 7, 8 — общий вид и план; 4–6, 9-18 — планы).
1 — башня в Каменце-Литовском; 2 — башня в Столпье; 3 — башня в Белавине; 4 — Гродно, «Верхняя» церковь; 5 — Львов, Никольская церковь; 6 — Владимир-Волынский, Михайловская церковь; 7 — Новгород, церковь Федора Стратилата; 8 — Новгород, церковь Перынского скита; 9 — Новгород, церковь Успения в Волотове; 10 — Переяславль, Епископские ворота; 11 — Киев, Золотые ворота; 12 — Переяславль, гражданская постройка (баня); 13 — Полоцк, терем; 14 — Смоленск, терем; 15 — Гродно, терем; 16 — Чернигов, терем; 17 — Киев, постройка к юго-востоку от Десятинной церкви; 18 — Киев, постройка к юго-западу от Десятинной церкви (планы даны в масштабе 1:500).
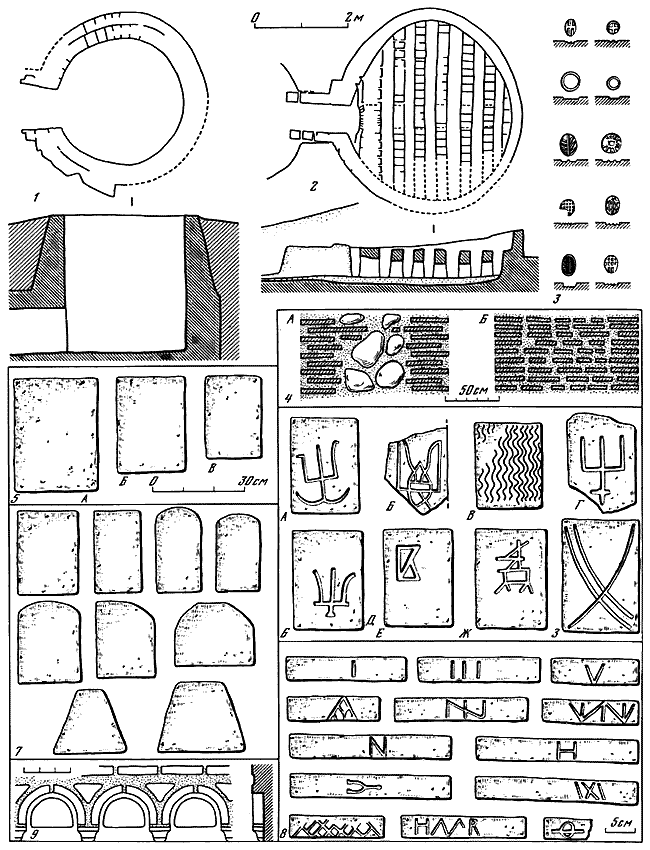
Таблица 62. Сооружения, связанные с производством строительных материалов. Архитектурные детали.
1 — печь для выжигания извести, Киев. XI в.; 2 — кирпичеобжигательная печь, Смоленск, конец XII в.; 3 — клейма на кирпичах, Смоленск, Бесстолпная церковь в детинце, середина XII в.; 4 — разрез стены: А — кладка со скрытым рядом (XI в.); Б — порядковая кладка (XII в.); 5 — типичные форматы кирпича: А — XI в.; Б — XII в.; В — начало XIII в.; 6 — знаки и метки на постельной стороне кирпичей: А — Смоленск, Борисоглебская церковь Смядынского монастыря; Б — Киев, Десятинная церковь; В — Владимир-Волынский, «Старая кафедра»; Г — Владимир-Волынский, Успенский собор; Д, Е, Ж — Полоцк, церковь на рву; З — Чернигов, терем; 7 — сортамент кирпичей, Смоленск, Воскресенская церковь, начало XIII в.; 8 — знаки на торцах кирпичей, Смоленск, Собор на Протоке, конец XII в.; 9 — аркатурный пояс, Киев, Кирилловская церковь, середина XII в.

Таблица 63. Софийский собор в Киеве, середина XI в.
а — аксонометрический разрез, по Г.Н. Логвину; б — интерьер.

Таблица 64. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Киев, церковь Спаса на Берестове; 2 — Киев, церковь на усадьбе Художественного института; 3 — Киев, Успенский собор Печерского монастыря; 4 — Вышгород, церковь Бориса и Глеба; 5 — Киев, Надвратная церковь Печерского монастыря; 6 — Киев, собор Михайловского Златоверхого монастыря (реконструкция Н.В. Холостенко); 7 — Остерская божница, 8 — Переяславль, Спасская церковь; 9 — Переяславль, церковь Андрея у ворот; 10 — Переяславль, церковь Михаила (планы даны в масштабе 1:500).

Таблица 65. Древнерусские храмы XI–XII вв.
1 — Чернигов, Спасский собор, 30-е годы XI в. Реконструкция западного фасада, по Ю.С. Асееву; 2 — Киев, церковь Спаса на Берестове, начало XII в. Фрагмент.

Таблица 66. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Чернигов, Успенский собор Елецкого монастыря; 2 — Владимир-Волынский, Успенский собор; 3 — Киев, Кирилловская церковь; 4 — Переяславль, Воскресенская церковь; 5 — Старая Рязань, Борисоглебская церковь; 6 — Смоленск, Борисоглебская церковь Смядынского монастыря; 7 — Смоленск, Бесстолпная церковь в детинце; 8 — Смоленск, церковь Ивана Богослова (планы даны в масштабе 1:500).

Таблица 67. Древнерусские храмы XII в.
1 — Чернигов, Борисоглебская церковь, начало XII в.; 2 — Смоленск, церковь Петра и Павла, середина XII в.

Таблица 68. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Витебск, церковь Благовещения; 2 — Полоцк, Большой собор Бельчицкого монастыря; 3 — Минск, церковь; 4 — Полоцк, Спасская церковь Евфросиньева монастыря (фасад — реконструкция П.А. Раппопорта и Г.М. Штендера); 5 — Полоцк, Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря; 6 — Полоцк, Пятницкая церковь Бельчицкого монастыря; 7 — Полоцк, церковь на детинце; 8 — Полоцк, храм-усыпальница в Евфросиньевом монастыре; 9 — Гродно, «Нижняя» церковь; 10 — церковь в Побережье, близ Галича; 11 — Гродно, Борисоглебская церковь на Коложе; 12 — Галич, Успенский собор; 13 — Галич, церковь Пантелеймона; 14 — Туров, церковь (планы даны в масштабе 1:500).

Таблица 69. Древнерусские храмы XI–XIII вв.
1 — Новгород, Николо-Дворищенский собор (фасад, реконструкция Г.М. Штендера); 2 — Новгород, церковь Благовещения на Городище; 3 — Новгород, Георгиевский собор Юрьева монастыря; 4 — Новгород, собор Антониева монастыря; 5 — Псков, собор Ивановского монастыря; 6 — Псков, Спасский собор Мирожского монастыря (фасад, реконструкция Г.В. Алферовой); 7 — Старая Ладога, Георгиевская церковь; 8 — Новгород, церковь Спаса Нередицы; 9 — Псков церковь Дмитрия Солунского; 10 — Старая Ладога, Успенская церковь (планы даны в масштабе 1:500).

Таблица 70. Древнерусские храмы XII–XIII вв.
1 — Пятницкая церковь в Чернигове, рубеж XII–XIII вв.; 2 — Смоленск, церковь архангела Михаила, конец XII в. (реконструкция, по С.С. Подъяпольскому); 3 — Старая Ладога, Георгиевская церковь, 60-е годы XII в.; 4 — церковь Покрова на Нерли, 1166 г.
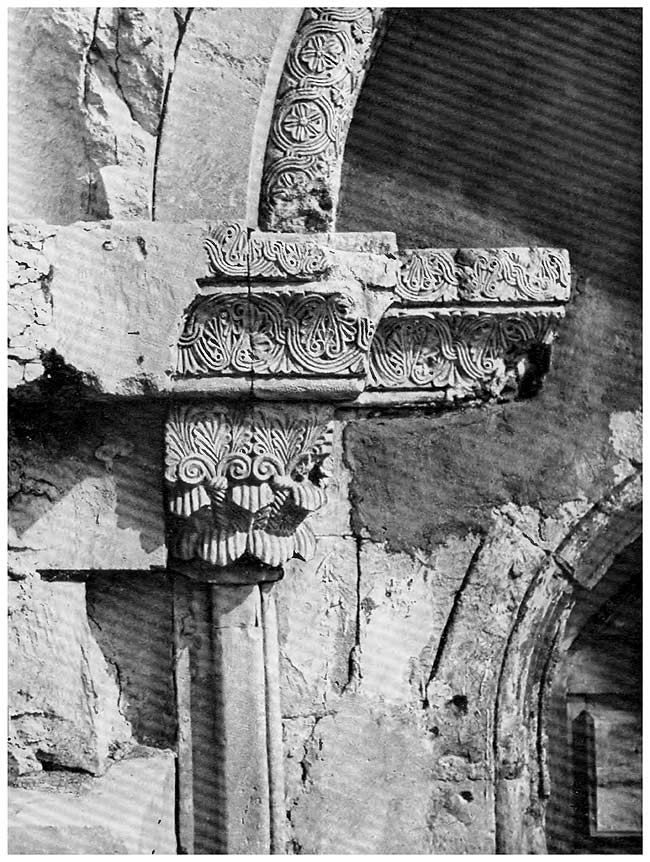
Таблица 71. Галич, церковь Пантелеймона, рубеж XII и XIII вв. Фрагмент западного портала.

Таблица 72. Храмы Владимиро-Суздальской земли XII–XIII вв. (общий вид и планы).
1 — Переяславль-Залесский, Спасский собор; 2 — Кидекша, церковь Бориса и Глеба; 3 — Боголюбово, церковь Покрова на Нерли (разрез — по Н.Н. Воронину); 4 — Владимир, Дмитриевский собор; 5 — Владимир, Успенский собор; 6 — Суздаль, собор Рождества Богородицы; 7 — Боголюбово, собор; 8 — Юрьев-Польской, Георгиевский собор (планы даны в масштабе 1:500).

Таблица 73. Древнерусские храмы XII–XIII вв. (планы).
1 — Чернигов, церковь Пятницы (фасад — реконструкция Н.Д. Барановского); 2 — Овруч, церковь Василия; 3 — Киев, церковь на Вознесенском спуске; 4 — Киев, ротонда; 5 — церковь в Новом Ольговом городке; 6 — Старая Рязань, Спасская церковь; 7 — Путивль, церковь на детинце; 8 — Смоленск, собор на Протоке; 9 — Смоленск, церковь архангела Михаила (фасад, реконструкция С.С. Подъяпольского); 10 — Смоленск, церковь на Малой Рачевке; 11 — Смоленск, Спасская церковь в Чернушках (планы даны в масштабе 1:500).
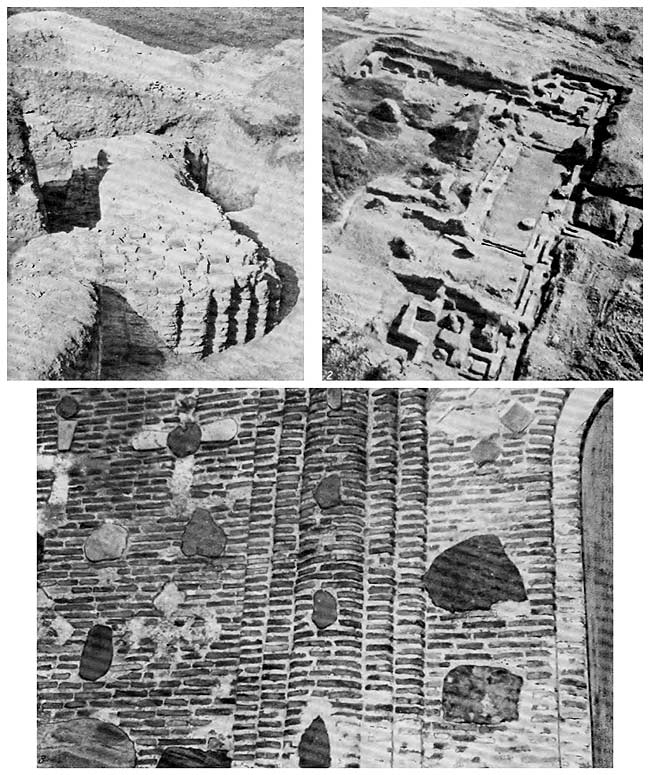
Таблица 74. Древнерусские храмы XII–XIII вв.
1 — Смоленск, Троицкий собор на Кловке, конец XII в., раскопки 1972 г.; 2 — Смоленск, собор на Протоке, конец XII — начало XIII в., раскопки 1952 г.; 3 — Гродно, Борисоглебская церковь на Коложе, конец XII в., фрагмент.

Таблица 75. Юрьев-Польской, Георгиевский собор, 1230 г., деталь южного притвора.
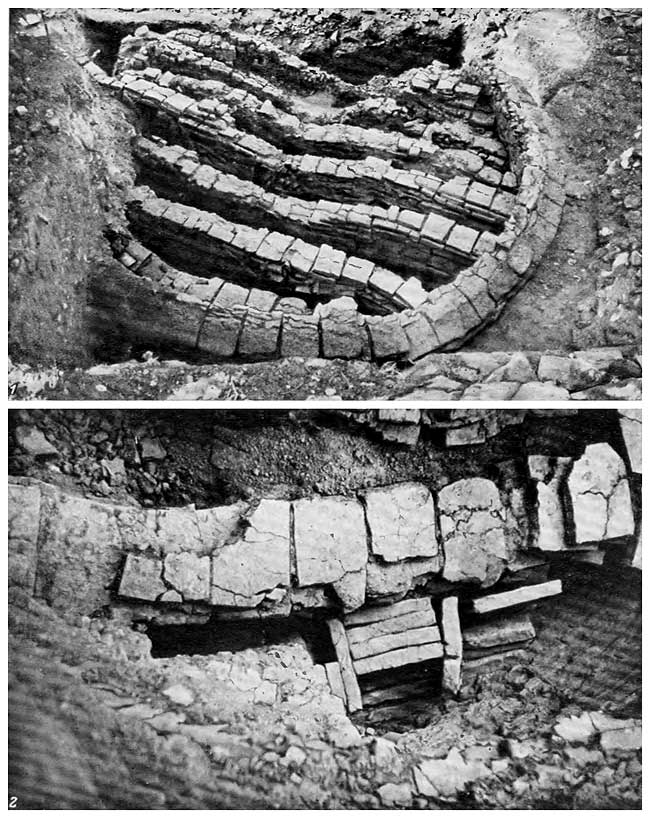
Таблица 76. Смоленск. Кирпичеобжигательная печь, начало XIII в.
1 — общий вид; 2 — фрагмент.

Таблица 77. Окна, витражи и изразцы.
1, 3–5 — оконные стекла; 2 — деревянные оконницы; 6, 7 — изразцы.
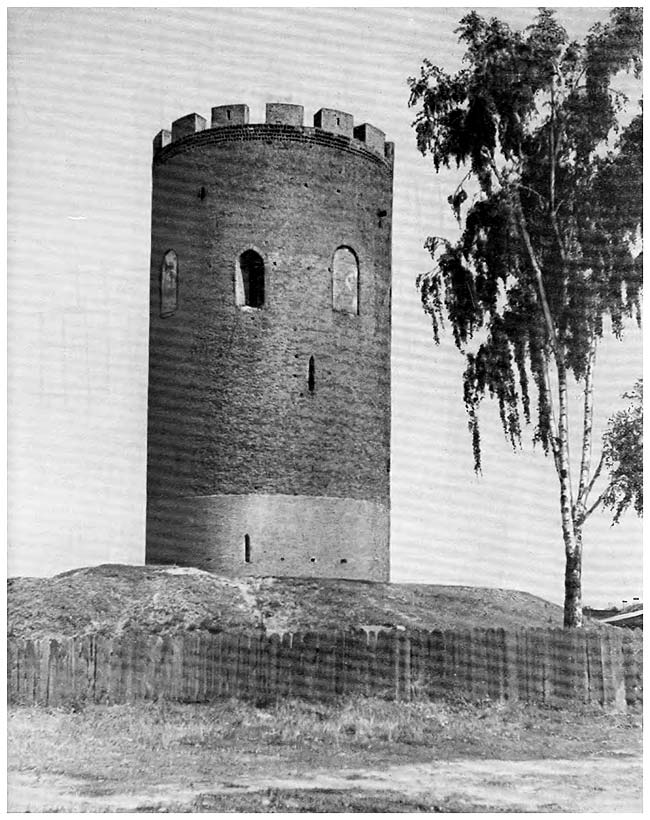
Таблица 78. Башня в Каменце-Литовском, конец XIII в.
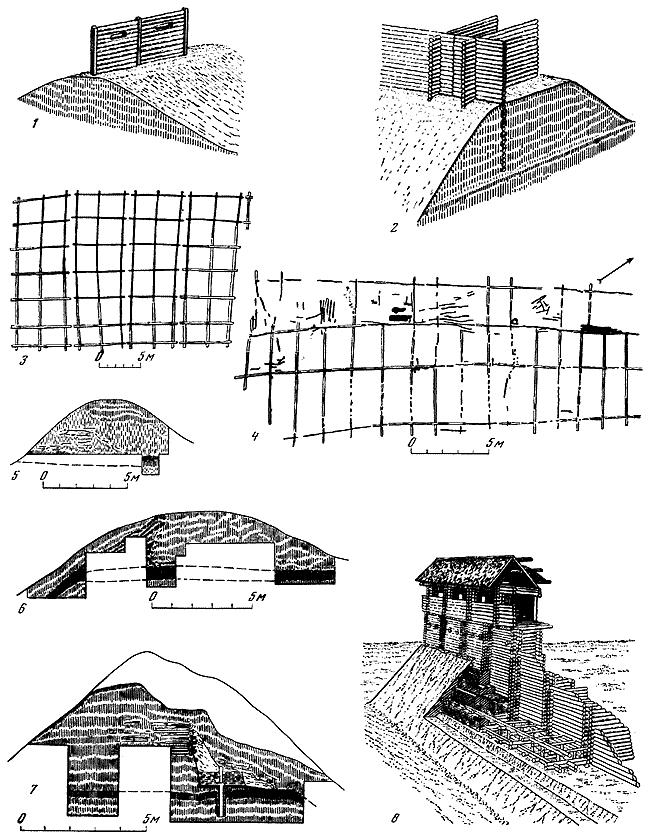
Таблица 79. Древнерусские оборонительные сооружения XI–XIII вв.
1 — столбовая конструкция стен, но П.А. Раппопорту; 2 — деревянная стена из срубов, реконструкция П.А. Раппопорта; 3 — система деревянных конструкций из срубов, разделенных на клети, в валу «Города Ярослава» в Киеве, по П.А. Раппопорту; 4 — система внутривальных конструкций с жилыми клетями в валу Воиня, по В.И. Довженку; 5 — разрез вала Снепорода (городище Мацковцы), по П.А. Раппопорту; 6 — разрез вала Сунгиревского городища, по Н.Н. Воронину; 7 — разрез вала детинца в Белгороде, по П.А. Раппопорту; 8 — вал и стена Белгорода X в., реконструкция М.В. Городцова и Б.А. Рыбакова.

Таблица 80. Древнерусские оборонительные сооружения XI–XIII вв.
1, 2 — разрезы валов в Мстиславле Залесском и Чарторыйске, по П.А. Раппопорту; 3 — оборонительная стена древнерусского города XII в., реконструкция П.А. Раппопорта; 4 — внутривальные конструкции и воротный проем в валу Новгорода Малого (городище у с. Заречье), по Б.А. Рыбакову; 5 — деревянная стена и воротная башня древнерусского города XII–XIII вв., реконструкция П.А. Раппопорта; 6 — Чарторыйск в XIII в., реконструкция П.А. Раппопорта.

Таблица 81. Инженерные сооружения. Водоотводы, дренажи, мостовые, частоколы.
1 — план дренажной системы; 2–7 — детали водоотводных сооружений; 8 — конструкция мостовой; 9 — частокол.
Таблица 36. Распространение наземных и полуземляночных жилищ в IX — первой половине X в.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.
Таблица 37. Древнерусские жилища.
1 — полуземляночное жилище, Городище Новотроицкое, IX в.; 2 — наземное жилище, Малое городище в Торопце, XII в.
Таблица 38. Полуземляночные жилища.
1 — Новотроицкое городище, IX в.; 2 — Алчедар, X–XI вв.; 3 — Владимир-Волынский, Белые берега, X в.; 4 — Галич (г. Крылос), Окольный город, X–XI вв.; 5 — Родень (Княжа Гора), XII–XIII вв.; 6 — Чучин (Щучинка), XII–XIII вв.; 7 — Кичкас, XII–XIII вв.; 8 — реконструкция полуземляночного жилища X–XI вв.
Таблица 39. Древнерусские печи.
1 — печь-каменка Крылос (древний Галич), X–XI вв.; 2 — печь, вырезанная в материке, Городище Новотроицкое, IX в.; 3 — глиняная печь, Городище Острожец, конец X–XI вв.
Таблица 40. Печи.
1 — глинобитная печь с отверстием в своде; 2 — глинобитная печь с жаровней; 3 — печь-каменка, Григоровка, IX–X вв.; 4 — глинобитная печь с каркасом, Переяславль (Переяслав-Хмельницкий), XII–XIII вв.; 5 — глинобитная печь, Лепесовка, X в.; 6 — прямоугольная глиняная печь, Новотроицкое городище, IX в.; 7 — кирпичная печь, Белая Вежа (Цимлянское городище), X–XI вв.
Таблица 41. Распространение типов печей в жилищах IX — первой половины X в.
1 — печь-каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь-каменка в наземном жилище; 3 — прямоугольная глиняная печь; 4 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 5 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.
Таблица 42. Наземные жилища.
1 — Старая Рязань, XII в.; 2 — Ленковецкое поселение, XII в.; 3 — городище, Осовик, XIII в.; 4 — Белоозеро, XI–XII вв.; 5 — Новгород, XIII в.; 6 — Старая Ладога, IX в.; 7 — реконструкция наземного жилища X–XI вв.
Таблица 43. Распространение наземных и полуземляночных жилищ во второй половине X–XI в.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.
Таблица 44. Планы древнерусских жилищ.
А — жилые клети в оборонительных валах: 1 — Колодяжин; 2 — Ленковецкое поселение.
Б — схематические планы многокамерных жилищ: 3–8 — полуземляночные XII–XIII вв. (3 — Городск; 4–5 — Белгородка; 6–7 — Киев, город Владимира; 8 — Киев, Подол); 6-13 — наземные (9 — Киев, Подол, X в.; 10, 12 — Новгород, XII в.; 11 — Воищина, XIII в.; 13 — Новгород, XIV в.).
В — типы плановой структуры жилищ.
Таблица 45. Распространение типов печей в жилищах второй половины X–XI вв.
1 — печь каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь-каменка в наземном жилище; 3 — прямоугольная глиняная печь; 4 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 5 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.
Таблица 46. Распространение наземных и полуземляночных жилищ в XII–XIII вв.
1 — граница лесостепи; 2 — наземные жилища; 3 — полуземлянки.
Таблица 47. Распространение типов печей в жилищах XII–XIII вв.
1 — печь-каменка в полуземляночном жилище; 2 — печь каменка в наземном жилище; 3 — круглая глинобитная печь в полуземляночном жилище; 4 — круглая глинобитная печь в наземном жилище.
Таблица 48.Жилища древнего Киева каркасно-столбовой и срубной конструкции X–XIII вв.
1 — жилище XII–XIII вв. (Город Владимира, раскопки 1946 г.); 2 — жилища XII–XIII вв. (Город Ярослава, раскопки 1973 г.); 3 — жилище XIII в. (Город Ярослава, раскопки 1967 г.); 4 — жилище X в. (Подол, раскопки 1972 г.); 5 — жилище XI в. (Подол, раскопки 1973 г.); 6 — жилище XII в. (Подол, раскопки 1973 г.).
Таблица 49. Реконструкция жилищ и усадьбы древнего Киева, по П.П.Толочко и В.А. Харламову.
1 — усадьба X в. (Подол); 2 — жилище XII–XIII вв. (Город Владимира); 3 — жилище XII–XIII вв. (город Изяслава-Святополка).
Таблица 50. Застройка усадьбы Новгорода XII в.
Таблица 51. Жилища Новгорода. Конструкция деревянной клети и крыши.
1 — угол окладного венца на подкладках; 2 — опора угла на столб; 3 — примыкание лаги к стене; 4 — врубка лаги в стену и опора лаги на столбы; 5 — опора лаги и венца бревна на общую подкладку; 6 — врубка с остатком лаги в стену; 7 — устройство завалины; 8 — сопряжение завалины со срубом; 9, 10, 11 — крепление столбов на окладном венце; 12, 13, 14, 15 — реконструкции тесовой крыши по курице; 16 — лемех; 17 — формы крыш.
Таблица 52. Жилища Новгорода. Интерьер новгородской избы.
1 — реконструкции дверных проемов; 2 — местоположение печи в избе; 3 — четырехстолбовой опечек; 4 — двухстолбовой опечек; 5 — опечек с предплечьем; 6 — опечек с мостом; 7 — одностолпный опечек; 8 — срубный опечек; 9 — реконструкция печи; 10 — реконструкция интерьера избы с каменкой; 11 — реконструкция интерьера избы; 12 — реконструкция интерьера избы на хозяйственном подклете; 13 — реконструкция избы на жилом подклете.
Таблица 53. Жилища Новгорода. Конструкция сеней и крылец.
1 — настил перед входом; 2 — навес на столбах; 3 — сени на столбах; 4 — открытое преддверие; 5, 6 — сени трехстенные столбовые, с притвором; 7 — сени перерубом; 8 — преклет и сени; 9 — сочетание угла в обло с заборкой в столбы; 10 — сени с двумя чуланами; 11, 12 — конструкция отмостки; 13–15 — тесовая площадка; 16 — отмостка перед сенями; 17 — крыльцо; 18, 19 — безрундучный всход; 20, 21 — крыльцо; 22 — шегла; 23 — всход на тетивах.
Таблица 54. Жилища Новгорода. Крыльца.
1 — крыльцо со всходом и рундуком; 2 — крыльцо XIX в.; 3 — сени варяга-христианина (Радзивилловская летопись); 4 — крыльцо в посольской избе (по Меербергу); 5 — крыльцо на столбах; 6 — крыльцо с теремцом; 7 — реконструкция крыльца.
Таблица 55. Жилища Новгорода. Крыльца и галереи.
1 — фрагмент двора А (ярус 14) с навесом и крыльцами; 2 — галерея для связи избы с клетью; 3 — галерея со столбами на окладном венце; 4 — обходная галерея; 5 — каменный дом Юрия Онцифоровича; 6 — реконструкция крылец и галерей.
Таблица 56. Хозяйственные постройки и связи построек Новгорода.
1 — навес со стенами частоколом; 2 — клеть с тесовым полом; 3 — клеть с навесом; 4 — клеть с преддверием из частокола; 5 — клеть смешанной конструкции; 6 — клеть с завалиной; 7 — клеть с отмосткой при входе; 8 — двухэтажная клеть; 9 — клеть с консольным навесом; 10 — подклеть избы-пятистенки; 11, 12 — клети двойни; 13 — клеть двойная с навесом; 14 — шестистенок; 15, 16 — поварни; 17, 18 — связь двух клетей; 19 — связь изба-сени-изба; 20 — мастерская; 21 — сени с частоколом между избой и клетью; 22, 23 — изба-сени-клеть с притулой.
Таблица 57. Жилища Новгорода. Сложные формы связей.
1–3 — хоромы и производственный комплекс; 4 — завершение крыши XV в.; 5–7 — изображение ворот в Новгородской иконописи XVI в.
Таблица 58. Жилища Новгорода. Мастерская и хоромы Олисея Гречина, конец XII в.
1 — реконструкция; 2 — план.
Таблица 59. Карта размещения памятников русского зодчества X–XIII вв.
Количество памятников: 1 — один-два; 2 — три-четыре; 3 — пять-девять; 4 — десять и более.
Таблица 60. Древнейшие монументальные здания Древней Руси.
1 — Киев, Десятинная церковь; 2 — Киев, Софийский собор; 3 — Чернигов, Спасский собор; 4 — Новгород, Софийский собор.
Таблица 61. Памятники архитектуры XI–XIII вв. (1, 2, 3, 7, 8 — общий вид и план; 4–6, 9-18 — планы).
1 — башня в Каменце-Литовском; 2 — башня в Столпье; 3 — башня в Белавине; 4 — Гродно, «Верхняя» церковь; 5 — Львов, Никольская церковь; 6 — Владимир-Волынский, Михайловская церковь; 7 — Новгород, церковь Федора Стратилата; 8 — Новгород, церковь Перынского скита; 9 — Новгород, церковь Успения в Волотове; 10 — Переяславль, Епископские ворота; 11 — Киев, Золотые ворота; 12 — Переяславль, гражданская постройка (баня); 13 — Полоцк, терем; 14 — Смоленск, терем; 15 — Гродно, терем; 16 — Чернигов, терем; 17 — Киев, постройка к юго-востоку от Десятинной церкви; 18 — Киев, постройка к юго-западу от Десятинной церкви (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 62. Сооружения, связанные с производством строительных материалов. Архитектурные детали.
1 — печь для выжигания извести, Киев. XI в.; 2 — кирпичеобжигательная печь, Смоленск, конец XII в.; 3 — клейма на кирпичах, Смоленск, Бесстолпная церковь в детинце, середина XII в.; 4 — разрез стены: А — кладка со скрытым рядом (XI в.); Б — порядковая кладка (XII в.); 5 — типичные форматы кирпича: А — XI в.; Б — XII в.; В — начало XIII в.; 6 — знаки и метки на постельной стороне кирпичей: А — Смоленск, Борисоглебская церковь Смядынского монастыря; Б — Киев, Десятинная церковь; В — Владимир-Волынский, «Старая кафедра»; Г — Владимир-Волынский, Успенский собор; Д, Е, Ж — Полоцк, церковь на рву; З — Чернигов, терем; 7 — сортамент кирпичей, Смоленск, Воскресенская церковь, начало XIII в.; 8 — знаки на торцах кирпичей, Смоленск, Собор на Протоке, конец XII в.; 9 — аркатурный пояс, Киев, Кирилловская церковь, середина XII в.
Таблица 63. Софийский собор в Киеве, середина XI в.
а — аксонометрический разрез, по Г.Н. Логвину; б — интерьер.
Таблица 64. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Киев, церковь Спаса на Берестове; 2 — Киев, церковь на усадьбе Художественного института; 3 — Киев, Успенский собор Печерского монастыря; 4 — Вышгород, церковь Бориса и Глеба; 5 — Киев, Надвратная церковь Печерского монастыря; 6 — Киев, собор Михайловского Златоверхого монастыря (реконструкция Н.В. Холостенко); 7 — Остерская божница, 8 — Переяславль, Спасская церковь; 9 — Переяславль, церковь Андрея у ворот; 10 — Переяславль, церковь Михаила (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 65. Древнерусские храмы XI–XII вв.
1 — Чернигов, Спасский собор, 30-е годы XI в. Реконструкция западного фасада, по Ю.С. Асееву; 2 — Киев, церковь Спаса на Берестове, начало XII в. Фрагмент.
Таблица 66. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Чернигов, Успенский собор Елецкого монастыря; 2 — Владимир-Волынский, Успенский собор; 3 — Киев, Кирилловская церковь; 4 — Переяславль, Воскресенская церковь; 5 — Старая Рязань, Борисоглебская церковь; 6 — Смоленск, Борисоглебская церковь Смядынского монастыря; 7 — Смоленск, Бесстолпная церковь в детинце; 8 — Смоленск, церковь Ивана Богослова (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 67. Древнерусские храмы XII в.
1 — Чернигов, Борисоглебская церковь, начало XII в.; 2 — Смоленск, церковь Петра и Павла, середина XII в.
Таблица 68. Древнерусские храмы XI–XIII вв. (планы).
1 — Витебск, церковь Благовещения; 2 — Полоцк, Большой собор Бельчицкого монастыря; 3 — Минск, церковь; 4 — Полоцк, Спасская церковь Евфросиньева монастыря (фасад — реконструкция П.А. Раппопорта и Г.М. Штендера); 5 — Полоцк, Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря; 6 — Полоцк, Пятницкая церковь Бельчицкого монастыря; 7 — Полоцк, церковь на детинце; 8 — Полоцк, храм-усыпальница в Евфросиньевом монастыре; 9 — Гродно, «Нижняя» церковь; 10 — церковь в Побережье, близ Галича; 11 — Гродно, Борисоглебская церковь на Коложе; 12 — Галич, Успенский собор; 13 — Галич, церковь Пантелеймона; 14 — Туров, церковь (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 69. Древнерусские храмы XI–XIII вв.
1 — Новгород, Николо-Дворищенский собор (фасад, реконструкция Г.М. Штендера); 2 — Новгород, церковь Благовещения на Городище; 3 — Новгород, Георгиевский собор Юрьева монастыря; 4 — Новгород, собор Антониева монастыря; 5 — Псков, собор Ивановского монастыря; 6 — Псков, Спасский собор Мирожского монастыря (фасад, реконструкция Г.В. Алферовой); 7 — Старая Ладога, Георгиевская церковь; 8 — Новгород, церковь Спаса Нередицы; 9 — Псков церковь Дмитрия Солунского; 10 — Старая Ладога, Успенская церковь (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 70. Древнерусские храмы XII–XIII вв.
1 — Пятницкая церковь в Чернигове, рубеж XII–XIII вв.; 2 — Смоленск, церковь архангела Михаила, конец XII в. (реконструкция, по С.С. Подъяпольскому); 3 — Старая Ладога, Георгиевская церковь, 60-е годы XII в.; 4 — церковь Покрова на Нерли, 1166 г.
Таблица 71. Галич, церковь Пантелеймона, рубеж XII и XIII вв. Фрагмент западного портала.
Таблица 72. Храмы Владимиро-Суздальской земли XII–XIII вв. (общий вид и планы).
1 — Переяславль-Залесский, Спасский собор; 2 — Кидекша, церковь Бориса и Глеба; 3 — Боголюбово, церковь Покрова на Нерли (разрез — по Н.Н. Воронину); 4 — Владимир, Дмитриевский собор; 5 — Владимир, Успенский собор; 6 — Суздаль, собор Рождества Богородицы; 7 — Боголюбово, собор; 8 — Юрьев-Польской, Георгиевский собор (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 73. Древнерусские храмы XII–XIII вв. (планы).
1 — Чернигов, церковь Пятницы (фасад — реконструкция Н.Д. Барановского); 2 — Овруч, церковь Василия; 3 — Киев, церковь на Вознесенском спуске; 4 — Киев, ротонда; 5 — церковь в Новом Ольговом городке; 6 — Старая Рязань, Спасская церковь; 7 — Путивль, церковь на детинце; 8 — Смоленск, собор на Протоке; 9 — Смоленск, церковь архангела Михаила (фасад, реконструкция С.С. Подъяпольского); 10 — Смоленск, церковь на Малой Рачевке; 11 — Смоленск, Спасская церковь в Чернушках (планы даны в масштабе 1:500).
Таблица 74. Древнерусские храмы XII–XIII вв.
1 — Смоленск, Троицкий собор на Кловке, конец XII в., раскопки 1972 г.; 2 — Смоленск, собор на Протоке, конец XII — начало XIII в., раскопки 1952 г.; 3 — Гродно, Борисоглебская церковь на Коложе, конец XII в., фрагмент.
Таблица 75. Юрьев-Польской, Георгиевский собор, 1230 г., деталь южного притвора.
Таблица 76. Смоленск. Кирпичеобжигательная печь, начало XIII в.
1 — общий вид; 2 — фрагмент.
Таблица 77. Окна, витражи и изразцы.
1, 3–5 — оконные стекла; 2 — деревянные оконницы; 6, 7 — изразцы.
Таблица 78. Башня в Каменце-Литовском, конец XIII в.
Таблица 79. Древнерусские оборонительные сооружения XI–XIII вв.
1 — столбовая конструкция стен, но П.А. Раппопорту; 2 — деревянная стена из срубов, реконструкция П.А. Раппопорта; 3 — система деревянных конструкций из срубов, разделенных на клети, в валу «Города Ярослава» в Киеве, по П.А. Раппопорту; 4 — система внутривальных конструкций с жилыми клетями в валу Воиня, по В.И. Довженку; 5 — разрез вала Снепорода (городище Мацковцы), по П.А. Раппопорту; 6 — разрез вала Сунгиревского городища, по Н.Н. Воронину; 7 — разрез вала детинца в Белгороде, по П.А. Раппопорту; 8 — вал и стена Белгорода X в., реконструкция М.В. Городцова и Б.А. Рыбакова.
Таблица 80. Древнерусские оборонительные сооружения XI–XIII вв.
1, 2 — разрезы валов в Мстиславле Залесском и Чарторыйске, по П.А. Раппопорту; 3 — оборонительная стена древнерусского города XII в., реконструкция П.А. Раппопорта; 4 — внутривальные конструкции и воротный проем в валу Новгорода Малого (городище у с. Заречье), по Б.А. Рыбакову; 5 — деревянная стена и воротная башня древнерусского города XII–XIII вв., реконструкция П.А. Раппопорта; 6 — Чарторыйск в XIII в., реконструкция П.А. Раппопорта.
Таблица 81. Инженерные сооружения. Водоотводы, дренажи, мостовые, частоколы.
1 — план дренажной системы; 2–7 — детали водоотводных сооружений; 8 — конструкция мостовой; 9 — частокол.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ