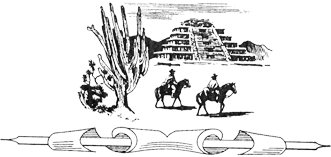 Николай Северцов
Николай Северцов
еподалёку от города Боброва, близ Воронежа, на берегу донского притока Битюга на кладбище села Петровского на одной из могил стоит чёрный обелиск. На нём надпись: «Николай Алексеевич Северцов».
За три тысячи километров от Боброва, на окраине Средней Азии, вздымаются гигантские горные хребты, рождающие безжизненные ледники и бурные реки. На карте этой грандиозной горной страны — десятки имён русских путешественников и среди них — пик Северцова на Памиро-Алае, ледники Северцова на Памире и на Заилийском Алатау. В этих названиях увековечено имя первого исследователя этих мест. Пятнадцать видов зверей и 45 видов птиц, обитающих в Средней Азии, впервые были описаны Николаем Северцовым, и его имя стоит в видовых названиях некоторых из них.
Призвание биолога
Николай Алексеевич Северцов родился в 1827 году 24 октября в Воронеже, в семье отставного полковника, потерявшего руку в Бородинском сражении и награждённого за доблесть золотой шпагой. Родился он в дворянской семье и мог относительно свободно выбирать свой жизненный путь.
Детство Николая прошло на берегах притоков Дона — Битюга и Икорца. Неяркая, простая природа пленила его с детства, он не предполагал, что увидит самые грандиозные, величественные её творения — горы Азии. А пока бродить по лесам, болотам, лугам было любимым занятием, «Естественная история» Бюффона — любимой книгой, изучение естественных наук в университете — сокровенной мечтой...
На математическое отделение естественно-философского факультета Московского университета Северцова приняли, когда тому не было ещё и 16 лет. Студент Северцов был застенчивым юношей, с добрыми мечтательными глазами; длинные вьющиеся волосы обрамляли его лицо. Он писал стихи, эпиграммы, с мольбертом и акварельными красками часто заходил в популярный тогда среди москвичей зверинец Борнебо и Берга. Способный художник, Северцов рисовал там бенгальских тигров, хищных птиц, крокодилов... Научно-популярные очерки «Тигр», «Лось, или Сохатый», «Горные хищники», «Крокодил» стали первыми публикациями Северцова.
Его можно было встретить и за 500 вёрст от Москвы, скитающимся с ружьём за плечами по перелескам и болотам Воронежской губернии: на каникулы он регулярно выезжал в родные места.
И вот университет окончен. Николай Северцов представил к защите на степень магистра диссертацию «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии». Научным руководителем работы был любимец студенчества профессор зоологии К.Ф. Рулье. Общение с крупнейшим в то время русским естествоиспытателем было исключительно полезным для формирования взглядов молодого учёного.
Магистерская диссертация Северцова была замечена в научном мире. Академик А.Ф. Миддендорф, выдвигая её на соискание Демидовской премии Академии наук, отметил, что у молодого исследователя есть «своя метода» и «он открывает собой новую колею, по которой можно дойти до важных открытий». Миддендорф писал: «Путеводной нитью сочинения является внутренняя связь явлений живой жизни с климатическими отношениями страны». Зарождалась новая наука — экология, наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей природной средой, и Северцов был первым русским экологом.
Непосредственное общение с живой природой много дало молодому учёному. Северцов открыл бесчисленное многообразие её зависимостей. Свои исследования он продолжил уже в местах очень далёких от родной ему воронежской земли.
Случай в казахской степи
Молодому лауреату Демидовской премии доверили руководство экспедицией, снаряженной Академией наук в низовье Сырдарьи. В мае 1857 года вместе с ботаником Борщовым и препаратором Гурьяновым он выехал из Петербурга в Оренбург, из которого в конце лета и началось собственно путешествие. Караван, пройдя возвышенность Северные Мугоджары, вышел к нижнему течению реки Эмбы, теряющейся среди солончаков на пути к Каспийскому морю. Здесь Северцов обнаружил (первым!) признаки нефтяного месторождения, исследовал Мугоджары, северную часть плато Усть-Урт и через пустыню Большие Барсуки вышел к Аральскому морю, обогнув его с севера. Лето уже кончилось, когда отряд подошёл к городу Казалинску в низовьях Сырдарьи. Не задерживаясь в нём, Северцов углубился в пустыню Кызылкум, нашёл сухое русло бывшей реки Жанадарья, по нему прошёл к восточному берегу Аральского моря, составил его описание и вернулся на экспедиционную базу, устроенную в форте Перовском.
В это время готовился дать сражение «белому царю» хан Коканда Худояр, обосновавшийся в защищённой со всех сторон горами Ферганской долине. Он выслал разведывательный отряд далеко на север, к форпостам русских войск у Аральского моря. И тут случилось событие, к которому в течение некоторого времени было приковано внимание всей России.
Форт Перовский (ныне город Кзыл-Орда) был окружён пустынной степью; между фортом и ближайшей пограничной крепостью Кокандского ханства лежала двухсоткилометровая полоса нейтральной земли. В пределах её начинались западные отроги совершенно неизвестного науке хребта Каратау. Дойти до них, исследовать изменения в характере животного мира, по пути познакомиться с геологией и посмотреть, не скрывают ли горы ископаемых богатств, было мечтой Северцова. Впоследствии он побывал в Каратау и открыл там месторождение каменного угля. Однако сейчас ему не повезло...
Северцов отправился вверх по Сырдарье и вдоль восточного берега Аральского моря вслед за отрядом казаков, посланным на заготовку дров в пойменных лесах. Проливной дождь, редкий в этих местах, внезапно обрушился на путников в саксаульнике. Дождь превратил илистую почву в грязное болото. У Северцова во время дождя часто повторялись жестокие приступы давней лихорадки. Утром 26 апреля 1857 года он почувствовал себя плохо. Но всё-таки, превозмогая недуг, после полудня выехал из лагеря с препаратором, тремя казаками и двумя киргизами-проводниками.
Вдруг за грядой барханов проводники увидели вооружённых всадников, устремившихся навстречу отряду. Северцов — начальник отряда, ему надо организовать отражение неожиданного нападения. Но он — учёный, человек мирный, командовать — не его дело.
«Вместо решительной команды, — вспоминал позже Северцов, — не допускающей возражений и заставляющей наших солдат и казаков побеждать или умирать, я высказал только своё мнение... Не мне, мирному зоологу, распоряжаться чужой жизнью».
Кокандцы, а их было человек пятнадцать, быстро приближались. «Надо спасаться! Уходим!» — закричали казаки, поворачивая лошадей. Преследователи дали залп, другой... Упала лошадь препаратора. Северцов приостановился, советуя помощнику спрятаться в зарослях колючки. Минутная задержка оказалась роковой.
Кокандцы догнали зоолога, один из них кольнул его пикой. Северцов выстрелил в упор... Подоспевшие товарищи убитого окружили Северцова, на него посыпались сабельные удары. Лишь вмешательство вожака отряда спасло учёного. Ему связали руки и повели в плен.
Тут Северцову пригодилось знание языка. «Пеший конному не товарищ», — произнёс он. Тогда его посадили на лошадь, привязав, правда, ноги к стременам. Оказавшись на одном уровне с кокандцами, Северцов попытался уговорить их отпустить его: «Мне надо уйти, я вам не нужен...»
Хотя отпускать русского кокандцы не собирались, но отнеслись к нему с достаточным вниманием.
Несмотря на то что опасность погони была велика, Северцову разрешали пить воду из каждого встречного ручейка. Более того, предводитель отряда, хорошо говоривший по-русски, «развлекал» пленника разговором. Вскоре опустилась ночь, и надежда на то, что казаки догонят и спасут, исчезла...
В русских газетах появилось сообщение о том, что при схватке отряда казаков с кокандцами был взят в плен коллежский асессор Северцов, начальник учёной экспедиции для исследования киргизских степей. В бою он получил двенадцать ран от сабель и пик. Только случай спас Северцова от смерти. Его увезли за 170 вёрст в пограничную крепость Яны-Курган.
Месяц провёл Николай Северцов в плену. Когда вернулся, то продолжал свои работы, не думая о том, чтобы сменить род занятия на более безопасный.
Кызылкум и Центральный Тянь-Шань
В 1864 году Киевский университет предложил Н.А. Северцову стать профессором по кафедре зоологии. Он согласился, но, узнав о предполагавшемся походе генерала М.Г. Черняева на Тянь-Шань, переменил своё решение. Северцов занял должность чиновника по особым поручениям при туркестанском генерал-губернаторе, лишь бы получить возможность побывать на Тянь-Шане.
Человек науки, по натуре чуждый всему военному, он часто невольно оказывался втянутым в рискованные военные операции. Вот и теперь, через семь лет после пленения кокандцами, когда Северцов, по выражению П.П. Семёнова-Тян-Шанского, «едва не сделался жертвой собственной любознательности», он опять оказался в гуще военных действий.
Сначала Северцов исследовал междуречье среднеазиатских рек Сырдарьи и Чу в примыкающем к Тянь-Шаню Зачуйском крае. Полгода провёл он там, составил геологическую карту, открыл ряд месторождений полезных ископаемых, в том числе каменного угля. Потом вернулся к песчаным берегам Аральского моря, приняв участие в экспедиции Русского географического общества в низовьях Амударьи. Цель — установить причины сокращения площади Аральского моря и провести геологическую съёмку на берегах Амударьи. Караван вышел из Перовска (теперь — город Казалинск).
Это был первый поход русской экспедиции через пустыню Кызылкум. Он пришёлся на невыносимо жаркое летнее время. «Безмолвие здесь казалось абсолютным, — писал Северцов, с удивлением обнаружив в песках следы былой жизни: развалины древних крепостей и арыков, — в таких глубоких песках, где теперь не только жить, но кочевать нельзя». Но, видимо, много веков назад в теперешней пустыне жило много людей. Они возделывали поля, строили города, разводили сады. Значит, здесь была вода. Она наполняла высохшие теперь русла рек, но по какой-то причине ушла, а вместе с ней ушла и жизнь. Но стоит вернуть воду — край вновь расцветёт! Северцову приходит мысль: если соединить Амударью и Сырдарью через высохшие русла, когда-то заполнявшиеся водой, то можно возродить не только земледелие в оазисах, но и судоходство. Можно провести и железную дорогу. Гипотеза Северцова об усыхании Аральского моря, вызванном изменением климата, и его проект обводнения пустыни впоследствии встретили поддержку в Географическом обществе со стороны П.А. Кропоткина и И.В. Мушкетова. Молодой учёный первый поведал Обществу о трагической судьбе Аральского моря, которая по-настоящему была осознана только в конце XX века.
Путешествуя в жаркой пустыне, Северцов не забывал о холодных ледниках. Прикомандировавшись к отряду генерала Черняева, он стремился проникнуть в Центральный Тянь-Шань, грандиознейшую горную страну, края которой коснулся П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Идти с передовым военным отрядом — единственная возможность попасть на Тянь-Шань, и Северцов выполнял обязанности начальника штаба, делал топографическую съёмку, водил отряд на штурм крепости. Однажды он даже взял на себя роль парламентёра, третьего по счёту — двух первых казнил кашгарский властелин Якуб-хан.
14 сентября 1864 года с группой казаков Северцов вышел из укрепления Верный по направлению к горам Тянь-Шаня. Он перевалил хребты Кунгей и Терскей-Алатау. Иссык-Кульская котловина потрясла открывшейся красотой: «Синее небо, синий же Иссык-Куль, между ними белая, зубчатая стена, на первом плане голый, красно-жёлтый берег — вот и весь вид, весьма несложный, но от которого глаз с трудом отрывается: так величественен колорит, так изящны и легки очертания хребта...»
Иссык-Куль вытянут с запада на восток. Он напоминает по форме миндаль. От тридцати до шестидесяти километров — ширина, сто семьдесят семь километров — длина, до семисот метров — глубина.
Среди внутренних водоёмов только Байкал и Каспийское море глубже. И хотя площадь озера сравнительно невелика, объем воды в нём приближается к двум тысячам кубических километров. Водная поверхность зимой не замерзает. Лишь некоторые мелкие заливы покрываются ледяной коркой. Необыкновенна прозрачность Иссык-Куля, потому что его наполняет чистейшая вода ледниковых речек.
Снова встретился Северцов с Иссык-Кулем в следующем году, а затем в 1867-м, когда состоялась самая значительная его Тянь-Шаньская экспедиция. Пройдя по южному берегу озера немного на восток, отряд повернул в ущелье реки Барскаун и поднялся по нему к перевалу, за которым раскинулась равнина сырта, того самого, что впервые обнаружил в центре Тянь-Шаня Пётр Петрович Семёнов. На высоте четырёх километров раскинулась плоская, местами заболоченная равнина, на которой едва заметным ручейком вытекала из болота великая Сырдарья, называемая сначала Нарыном. Открылся, как писал Северцов, «обширный великолепный вид на сырты: гряда за грядой поднимались на нём покрытые пожелтевшим дёрном холмы, как волны моря. Подобно пене на волнах, блестели на них полосы снега. Широкой дугой замыкали горизонт с востока, юга и запада зубчатые хребты, покрытые уже сплошным снегом».
Северцов поднялся на сырты сквозь арктическую метель, а когда она прошла, увидел, что его спутники убили... белого медведя. Это был особый вид медведя, близкий к гималайскому, хотя и с буроватой, но светлой длинной шерстью. Когти не чёрные, а белые, на передних лапах вдвое длиннее, чем на задних. Этого родственника полярного мишки люди застали за следующим занятием: он разрывал норы сурков, вытаскивал зверьков «на свет божий», перегрызал им затылки, складывал тушки в кучу, а потом садился и поедал. Остатки от обеда закапывал впрок. Была осень — время, когда сурки уже готовились к зимней спячке.
Северцов же радовался добытому на сыртах снежному грифу-кумаю, которого он зарисовал и подробно описал. Гигантская горная птица привела его в восторг: размах крыльев Достигал почти трёх метров!
Результатом этого похода для Северцова явились первые страницы книги «Путешествия по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шань», которая была завершена после трёхлетней работы и вышла в свет в 1873 году. В книге впервые были подробно описаны гигантские горные хребты Тянь-Шаня, широкие впадины и долины, их разделяющие, высокогорные озёра Иссык-Куль и Чатыр-Куль, реки Чу, Нарын... Северцов проник на высокогорное плоскогорье Тянь-Шаньских сыртов, к истокам великой среднеазиатской реки Сырдарьи, и в ясную погоду увидел величественный ледяной массив Хан-Тенгри. Он подтвердил выводы Семёнова о былом мощном оледенении Тянь-Шаня, побывал на нескольких современных ледниках.
Книга вскоре была переведена на немецкий язык и произвела большое впечатление в Европе. Северцов высказал в ней свой взгляд на природу Тянь-Шаня. Первооткрыватель Тянь-Шаня П.П. Семёнов это название отнёс только к могучему хребту, протянувшемуся вдоль южного берега Иссык-Куля. Северцов же дал хребту казахское имя — Терскей-Алатау, а Тянь-Шанем предложил называть всю горную страну, простирающуюся от Балхаша до Ферганы.
Когда Северцов поднялся в снежную, совсем как на севере, бурю по ущелью реки Барскаун на «крышу» сыртов, то записал в дневнике: «Метель была забыта на радостях, что наконец-то ночую за тем самым хребтом Болгар, или Суёк, на который с Зауки и Барскауна только смотрели Семёнов и Проценко и где не было европейской ноги». И добавил с гордостью: «Собрано 4000 экземпляров животных».
Из экспедиции Северцов привёз 3000 гербарных листов и 800 образцов минералов. А главное — карты, которые ещё никто никогда не пытался чертить.
В 1875 году на Парижском географическом конгрессе Николай Алексеевич Северцов делал доклад о своих исследованиях, сосредоточившись на ледниковой теме — «О следах ледникового периода на Тянь-Шане». Он был награждён Золотой медалью Конгресса, изготовленной специально для него, с надписью: «За путешествия в Туркестан и исследования Тянь-Шаня». Русское географическое общество, в свою очередь, наградило Н.А. Северцова большой Золотой медалью имени Литке за проведённые им исследования.
На Памир, «Крышу мира»...
В 1878 году состоялась Фергано-Памирская экспедиция, план которой Северцов представил туркестанскому генерал-губернатору К.П. Кауфману ещё три года назад. Резолюция всесильного генерал-губернатора гласила: «Исследование Памира составляет давнишнюю мою мечту». Эти шесть слов открыли Северцову путь в места, которые после легендарного Марко Поло не посещались никем из европейцев.
Помимо верблюдов, в караване шли навьюченные яки, низкорослые, длинношёрстные быки, «коренные жители» Памира. Через перевал Кызыларт высотой 4280 метров в Заалайском хребте экспедиция вышла к долинам Памира. Рано начавшаяся в «высокогорной Арктике» зима с морозами и снегопадами заставила прервать движение и вернуться на зимовку в киргизский город Ош. Из него Северцов отправился в Ферганскую долину, где и зимой можно было работать. Там совершил несколько исследовательских походов, а 7 июля 1878 года экспедиционный караван вышел из Оша, направившись к Памиру. В самом начале пути при переправе через реку утонул мешок с солью, поэтому срок путешествия пришлось сократить.
Почти месяц занял путь к озеру Кара-Куль, суровому и безжизненному, окружённому голыми скалами. Ландшафт был безрадостный, словно неземной. Ничуть не радостнее оказалась встреча с проточным озером Яшилькуль, реками Гунт и Пяндж, заснеженным хребтом Рушанским.
В этой экспедиции Северцов проник в самое сердце Памира, к озёрам Кара-Куль и Ранкуль, в долину Муксу, в высокогорную пустыню Восточного Памира.
«Орографический очерк Памирской горной системы» — последняя книга учёного. В ней подытожена колоссальная работа, выполненная, по существу, одним человеком, Северцовым. У него было только три помощника — геодезист, ботаник и препаратор. И с этими небольшими силами он исследовал огромную территорию. Гербарий, собранный в Фергане и на Памире, содержал около тысячи видов. До экспедиции наука знала только десять видов животных, обитавших в Фергано-Памирском районе; после экспедиции их число превысило семьдесят.
Северцов впервые доказал существование особой, своеобразной Памирской горной системы, которую он называл «орографическим центром азиатского материка». Учёный установил, что орография, то есть описание гор региона, необыкновенно сложна. Кроме параллельных хребтов, есть и меридиальные, их пересекающие. Они соединяются в ряде мест в гигантские горные узлы, представляющие собой главные центры оледенения. Между параллельными хребтами раскинулись широкие продольные долины; между пересекающимися хребтами — замкнутые котловины. Для Тянь-Шаня характерны поднятые на три-четыре тысячи метров плоскогорья, ограниченные цепями относительно невысоких гор. Это — «сырты», издавна ценимые жителями гор как прекрасные пастбища.
Ещё более сложной системой показался Северцову Памир. Все основные элементы Тянь-Шаньского рельефа встречаются и на нём. Но если на Тянь-Шане преобладают хребты, то на Памире большую роль играют внутренние плоскогорья. Это переход к Тибетской системе, где гигантские высокие плоскогорья занимают уже господствующее положение.
Предстояло завершите всю проделанную работу изданием трудов экспедиции. Но тут генерал-губернатор Г.А. Колпаковский принял решение об увольнении Северцова, так как «в продолжение четырнадцати лет он посещал край лишь непродолжительными наездами для учёных экскурсий». Учёный просил сохранить ему содержание хотя бы на год-два, чтобы закончить обработку памирского материала. «Иначе мне нечем жить», — писал он следующему губернатору — М.Г. Черняеву. Но и тот подтвердил увольнение.
Вертикаль жизни
...Зима 1883 года была малоснежной. В январе воронежские дороги были ещё свободны от снега — по ним ездили на колёсах. Северцов ехал вместе со своим соседом из села Петровского (близ Боброва) в Воронеж. Уже смеркалось, когда при подъёме по обледенелому склону экипаж вдруг покатился вниз, на лёд Дона. Колёса проломили тонкий лёд, экипаж и люди оказались в воде. Спутник Северцова и кучер выскочили из коляски, учёный же не успел. Одетый в тяжёлую доху, он по шею погрузился в воду. Когда его вытащили на берег, спросил: «Где портфель?» Потом сделал несколько шагов и упал. Пока ходили за врачом в ближайшую деревню, Северцов скончался от паралича сердца.
«Случай отнял у науки и России одного из самых талантливых и энергичных представителей», — так сказал профессор М. Мензбир на собрании Московского общества испытателей природы.
На 59-м году оборвалась жизнь выдающегося русского путешественника — исследователя Тянь-Шаня и Памира.
Хорошо знакомый с Н.А. Северцовым П.А. Кропоткин отмечал, что если бы Северцов успел опубликовать все свои труды, то был бы признан «одним из выдающихся учёных нашего времени». Не все его произведения ещё опубликованы, но имя Северцова занимает почётное место в истории науки. Столь же известен и его сын, академик А.Н. Северцов, ставший основателем новой науки — эволюционной зооморфологии, «корни» которой можно обнаружить в работах отца, открывшего закон вертикального распространения животных.
Северцов поднимался на многие вершины Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Памира. И всюду он встречал одну и ту же закономерность: каждая совокупность видов животных и растений имеет определённый высотный пояс своего распространения. Прежде всего это связано с изменением климатических условий с высотой.
Над безводными пустынями Средней Азии вздымаются горные гиганты, на их холодных вершинах конденсируется оставшаяся ещё в воздушных массах, пришедших с океана, влага. Она накапливается в ледниках. Ледники порождают реки, несущие воду пустыням. На вертикали в три-четыре километра природные условия меняются от жарких пустынь до пустынь холодных, ледниковых, по существу, арктических. В этих пределах сменяют друг друга те же самые природные зоны, что на поверхности земного шара растянуты на тысячи километров — от полюса до экватора. Поднимаясь по горной долине, Северцов проходил степную и лесную зоны, за которыми следовала зона горных лугов, тундры и «вечных» снегов. В каждой зоне был свой растительный и животный мир.
О закономерностях вертикального и горизонтального распределения животных в Туркестане создал Северцов одну из своих наиболее выдающихся работ. Его собственная «вертикаль жизни» составила лишь 58 лет, 23 из них он отдал путешествиям в труднодоступных пустынных и высокогорных районах. Семь экспедиций провёл Н.А. Северцов. Его последователи справедливо увековечили имя учёного в географических названиях. Величественный пик Северцова — одна из высочайших вершин хребта Петра Великого на Западном Памире. Два ледника носят имя Северцова: один — в истоках памирской реки Кашкадарья, другой — в Заилийском Алатау, на Севере Тянь-Шаня. Среди биологических названий, связанных с именем учёного, — тушканчик Северцова, мышь Северцова и лютик Северцова.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ