Часть 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ПОРУ РАСЦВЕТА

ГЛАВА 4.1. ФЕОДАЛИЗМ
В произведении раннехристианской литературы, приписываемом Дионисию Ареопагиту, «О небесной иерархии» (на самом деле это сочинение было написано в V или начале VI в., тогда как Дионисий, согласно церковному преданию, первый афинский епископ, жил в I в.) рассказывается о девяти хорах ангельских, окружающих престол Творца и славящих Его в своих песнопениях. ИЕРАРХИЯ — ступенчатая лестница чинов, в которой низшие подвластны высшим и все они вместе образуют стройную пирамиду. Так, вслед за Псевдо-Дионисием, представляли себе христианские писатели Средневековья устройство мира высшего.
По образу и подобию небесной иерархии строилась, на их взгляд, и земная иерархия. Разумеется, никто не пытался сознательно воплотить в общественной жизни идеи раннехристианского мыслителя. Но то, что между обеими иерархиями находили общее, более того, зеркальное соответствие, придавало земной иерархии высший смысл: общественные отношения оказывались отражением, пусть бледным и несовершенным, иерархии, подчиненной Божьему престолу, и тем самым приобретали высший смысл и религиозное оправдание. Люди разного правового положения, которые принадлежали к различным сословиям и занимали разные места на общественной лестнице или обладали разными профессиями, образовывали разные «хоры» в христианском мире.
Одни церковные авторы писали о девяти разрядах людей, начиная с королей и церковных и светских князей на вершине иерархии и кончая простонародьем в ее основании. Другие писатели предпочитали говорить о тройственном делении общества — на «тех, кто молятся» (т.е. священников и монахов), «тех, кто воюют» (т.е. рыцарей), и «тех, кто трудятся» (крестьян).
При любой классификации имелось в виду общественное единство, в рамках которого существуют разные слои и группы; люди, принадлежащие к тому или иному разряду, сословию, должны заботиться о благе целого (молиться, защищать с оружием в руках или давать пропитание), но, вновь подчеркнем, люди, образующие эти разные группы и сословия, не равны между собой, обладают разными правами и несут неодинаковые обязанности.
Общественный строй, который утвердился в Западной Европе в IX—XI вв., историки называют феодальным. ФЕОД, от которого образовались слова «феодализм», «феодал», «феодальный», — это наименование земельного владения, пожалованного господином — СЕНЬОРОМ (латинское «старшим») своему ВАССАЛУ — подчиненному, человеку, обязующемуся за владение феодом выполнять службу, преимущественно рыцарскую, т.е. в полном вооружении и верхом на боевом коне.
Как мы уже видели, начиная с франкских времен повелось, что для того, чтобы государь или другой властитель мог заручиться поддержкой профессиональных конных воинов, ему приходилось жаловать им населенные крестьянами земли. Условием пожалования было принесение воином присяги верности сеньору. Вступавший в вассальную зависимость вкладывал свои руки в руки сеньора и произносил установленную формулу верности, после чего они обменивались поцелуем. Между сеньором и вассалом заключался своеобразный устный договор о взаимной поддержке и помощи: вассал обязывался верно служить господину, а тот обещал вассалу поддержку и покровительство. Этот договор, заключенный при свидетелях и, как тогда верили, в присутствии Бога, считался нерушимым. На практике, однако, он нередко нарушался, в знак чего вассал должен был сломать над своей головой ветки и разбросать их на все четыре стороны, что символизировало разрыв связей с сеньором.
Вассалы нуждались как в феодах, так и в сильных и знатных покровителях, а могущество сеньоров зависело прежде всего от числа преданных и боеспособных вассалов. Богатства — земли или деньги — сами по себе еще ничего не решали в феодальном обществе; они нужны были для раздачи вассалам. Купец мог быть намного богаче какого-нибудь сеньора, но общественное и правовое положение знатного, родовитого господина неизменно оказывалось выше, нежели положение незнатного и непривилегированного богача из горожан.
Если купцы и ростовщики старались скопить богатства для того, чтобы употребить их для расширения своего дела, то знатные сеньоры и их вассалы искали добычу с совершенно другими целями: проесть на пирах вместе с подобными себе господами, либо раздарить подарки друзьям и приближенным и таким способом заручиться их поддержкой. Доблестью, с их точки зрения, было не скопидомство и накопительство, а, наоборот, расточительство. Притом расточительство демонстративное, на глазах многих людей, с тем чтобы показать собственную щедрость и широту натуры. Средневековые хронисты рассказывают об удивительных случаях расточительности отдельных господ: один сеньор в присутствии гостей сжег собственную конюшню с дорогостоящими боевыми скакунами, а другой приказал засеять поле золотыми монетами! Такого рода поступки, разумеется, были исключениями, но они отражают общие установки господствующего класса той эпохи — установки не на обогащение и развитие производства, а на расточительное потребление, которое способствовало росту их славы, привлекало к ним всеобщее внимание и противопоставляло их «мелкому люду».
Феодальное общество аристократично, в нем пользуются авторитетом и властью люди знатного происхождения, которые придерживаются особого поведения, не свойственного всем остальным. Феодальное общество — общество, разгороженное юридическими, сословными перегородками, общество, очень далекое от правового равенства. Для того чтобы обеспечить свою безопасность, человек был вынужден искать себе покровителя, господина. В некоторых областях Франции действовал принцип «Нет земли без сеньора», и даже тот, кто обладал собственным владением, старался превратить его в феод — в таком случае он становился «под высокую руку» могущественного аристократа.
В этом обществе не существовало полностью свободных людей, так как любой человек зависел от какого-либо господина. Иными словами, личная свобода сочеталась с зависимостью. Эта зависимость могла быть суровой и каждодневно ощутимой. Так, определение зависимого крестьянина в Англии гласило: «Он не знает вечером, что на утро ему прикажет делать его лорд». Но подвластность вассала сеньору могла быть чисто номинальной; скажем, он был обязан раз в год подарить сеньору пару шпор или перчаток, либо какую-нибудь дичь, подстреленную на охоте, — такой подарок расценивался как выражение преданности дарителя сеньору.
Вассалы образовывали союз, возглавляемый сеньором. Такой союз представлял собой обособленную замкнутую группу, которая защищала свои интересы. Если над сеньором и главенствовал другой, более высокопоставленный господин, он не имел права вмешиваться в его отношения с вассалами. «Вассал моего вассала — не мой вассал», — гласил принцип феодального права. Это значило, в частности, что король, будучи сеньором графов или герцогов, был лишен возможности отдавать через их головы приказания их вассалам (на деле, однако, этот принцип нередко нарушался). На том этапе развития средневекового общества, когда королевская власть еще недостаточно окрепла для того, чтобы проводить централизацию, опираясь на собственных чиновников, самим королям приходилось заботиться прежде всего о том, чтобы обзавестись собственными вассалами.
Личная свобода в феодальном обществе относительна. Существуют люди более свободные и привилегированные, а наряду с ними — масса людей с ограниченной, неполной свободой. Сохраняя частичную правоспособность, крестьяне вместе с тем находятся в тяжкой зависимости от господ.
Крестьяне образовывали основание феодальной иерархии, находясь официально вне нее. За их счет жили все эти господа. Но крестьяне были не вассалами, а подданными, и с ними не заключалось договоров о верности, как с благородными. Для того, чтобы избежать худшего — разграбления хозяйства вооруженным и воинственным соседом, простым людям приходилось искать защиты у того или иного могущественного светского господина или монастыря. Повелитель крестьян присваивал себе право собственности на их земли, нередко включая и их общинные угодья (выпасы для скота, леса и пустоши), и требовал с них исполнения барщин на господской части деревенского поля (на так называемом ДОМЕНЕ) и уплаты оброков. Зависимость крестьянина от феодала выражалась и в том, что он был подвластен ему лично: крупный землевладелец судил его в собственном поместном суде; крестьянин не имел права покинуть своего господина и без его позволения или уплаты пошлины переселиться в другую местность (но в действительности многие крестьяне попросту убегали от своих господ в те области, где надеялись расчистить из-под леса новые участки); не во всех случаях зависимый крестьянин имел право беспрепятственно взять в жены девушку из другого поместья.
Все эти ограничения свободы на протяжении длительного времени не воспринимались крестьянами как очень стеснительные. Причина в том, что понятие свободы в деревенской среде (в отличие от городской) еще не привилось. Повинности и оброки подчас были обременительны, так как в страдную пору, когда у крестьянина было полно дел в своем хозяйстве, ему приходилось трудиться еще и на барской запашке. Но эти повинности и размеры оброков не менялись из года в год и даже из поколения в поколение. Их регулировал обычай — могучая сила в средневековом обществе, с которой принуждены были считаться все — и крестьяне, и крупные землевладельцы. Всякие новшества встречали с подозрительностью, тогда как то, что было раз и навсегда установлено, считалось добром именно в силу того, что так издавна повелось.
Когда в XIV—XVI вв. господа стали нарушать обычаи, а требуемые с крестьян повинности в условиях растущего денежного хозяйства возросли, сельское население увидело в этом прежде всего нарушение установленного порядка вещей и ответило мощными бунтами и восстаниями. Но то было делом будущего. Пока же забота о защите своего хозяйства побуждала крестьянина держаться своего господина, в котором он видел покровителя.
Само собой разумеется, положение крестьян никогда в средневековой Европе не было легким и привольным. Они были принижены и лишены большинства прав, которыми пользовались их господа; да и при сравнении с горожанами они серьезно проигрывали. Крестьянин — всеобщий кормилец. Это подчеркивали многие церковные писатели, которые даже утверждали, что именно у крестьян наибольшие надежды на загробное спасение: ведь они, выполняя Божьи заветы, добывают хлеб насущный в поте лица своего. Но вместе с тем бродячие школяры, сочинители озорных песен, поносили невежественных мужиков, не признавая их за человеческие существа, а рыцари презирали крестьян, видя в них потомков Хама — бесстыжего и презренного сына библейского патриарха Ноя. От латинского слова villanus («сельский житель», «поселянин») в новоевропейских языках пошли слова, означающие «негодяй».
И тем не менее было бы ошибочно называть зависимых крестьян средневекового Запада «крепостными» (как это иногда делают историки). Крепостной в России XVI—XIX столетий (до реформы 1861 г.) — не что иное, как раб. Он бесправен во всех отношениях — личном, имущественном, юридическом. Помещик вправе поставить его на любую работу, произвольно наказывать его, продавать и покупать — вместе с участком земли или отдельно. Это раб, холоп, забитое и лишенное воли существо. У него нет никакой инициативы и он относится к труду как к тяжкой повинности, исполняемой из-под палки. Он не обладает правом собственности, а потому не приучен и уважать чужую собственность.
На средневековом Западе крестьянин, при всей своей зависимости от господина, не был бесправен, не был исключен из системы права. Если он исправно выполнял повинности, господин не мог отказать ему в пользовании земельным наделом, на котором трудились поколения его предков.
Как видим, феодализм глубоко отличается от рабовладельческого строя, при котором рабы были бесправны и приравнивались к орудиям труда (их так и называли — «говорящие орудия»), и от такой позднейшей разновидности рабства, как крепостничество. Но не менее резко феодализм был отличен от сменившего его в Новое время буржуазного, капиталистического общества, в котором работник лично свободен и юридически независим и продает свою рабочую силу нанимателю вследствие своей экономической необеспеченности. В феодальном обществе господствуют крупные землевладельцы, однако их собственность по существу является властью над людьми, вассалами, зависимыми крестьянами и подданными. Власть лежит в основе собственности феодала.
Как же и почему возник феодальный строй общественных отношений? На этот вопрос нужно ответить, прежде чем перейти к характеристике «тех, кто воюют».
Феодальный строй сложился в Европе после Великих переселений народов, в результате взаимодействия позднеримских порядков с общественными отношениями, которые складывались у варваров, преимущественно германцев. Как мы уже знаем, Римское государство в последние столетия своего существования было ослаблено, и хозяйственная жизнь, а вместе с ней и реальная власть все более сосредоточивались во владениях крупных собственников. После варварских вторжений значительная часть этих имений перешла в обладание германских вождей, королей и их дружинников. Воинственные магнаты, окруженные воинскими свитами, играли отныне ведущую роль в общественной жизни. Строй германских дружин приобрел новый облик с тех пор, как эти дружинники вслед за своими предводителями обзавелись поместьями. Бок о бок с их владениями располагались поместья римской знати и стремительно разраставшаяся земельная собственность церкви и монастырей.
В результате этих перемен значительная часть крестьян попала в личную и поземельную зависимость от светской и церковной верхушки общества. Власть концентрировалась в руках тех, кто обладал силой, авторитетом и землями. Эти господа вершили суд, от них зависели защита страны и соблюдение в ней права и порядка, с ними в первую голову считался король, принимая решения и законы.
Но эти перемены еще не привели к становлению феодализма. Важным этапом его развития явилась новая волна нашествий на Западную Европу в IX—XI вв. — нападения арабов, венгров и норманнов. Для того чтобы отразить эти грозные непрекращавшиеся атаки, нужно было возводить укрепления нового типа, каких не знали ни римляне, ни германцы, — каменные замки и крепости с постоянными гарнизонами в них.
Замок господствовал над сельской местностью. Его окружал наполненный водой ров, и проникнуть в крепость можно было лишь по охраняемому подъемному подвесному мосту. Над крутыми стенами замка высились сторожевые башни. Нередко в замке было два ряда стен — внутренние и внешние, так что даже если враг овладевал наружной стеной, владелец замка мог укрыться во внутреннем укреплении. Когда враги осаждали замок и пытались им завладеть, защитники осыпали их с высоты стен камнями и стрелами, лили на них горячую воду и кипящую смолу и старались разрушить лестницы, приставленные осаждающими.
Центральная башня замка — ДОНЖОН — состояла из нескольких этажей, где находились жилище феодала и службы, кухня, пиршественный зал и складские помещения, в которых хранились запасы, необходимые для того, чтобы выдержать длительную осаду. В подвальном помещении была расположена темница — в ней содержали пленников и осужденных феодалом преступников. Внутри замка были также конюшни для боевых коней и стойла для домашнего скота. Воду брали из колодца, расположенного во дворе замка. В замке мог быть подземный ход, через который можно было незаметно выбраться наружу.
Под стенами замка нередко возникало городское поселение, и его жители могли найти в крепости прибежище во время нападения врага. Замок служил наглядным символом могущества сеньора и его власти над вассалами и подданными.

Замок графов Фландрских. Гент. Около 1180 г. Ров, наполненный водой, в центре замка — донжон.
Вызванная новой волной нашествий потребность в тяжеловооруженном профессиональном воинстве и привела к возникновению рыцарства. Рыцарь — немецкое Ritter — значит «конник», но рыцарь был не просто всадником, он представлял собой самостоятельную боевую единицу. Рыцарь был одет в кольчугу — рубаху из скрепленных между собой металлических колец, а в дальнейшем ее сменили кованные латы, защищавшие все его тело, от шеи до ног включительно. На голову рыцаря надевали (ибо без помощи слуг или оруженосца ему трудно было снарядиться) шлем; со временем лицо рыцаря стало защищать забрало. Помимо этого он еще прикрывался в бою щитом, на котором был изображен его герб (нередко какое-нибудь благородное или диковинное животное). Рыцарское вооружение составляли меч и длинное тяжелое копье. Боевая броня делала рыцаря почти неуязвимым для ударов противника. Рыцарь на коне — своего рода маленькая подвижная крепость. Вооружение и снаряжение рыцаря стоили очень дорого, на них уходила значительная доля дохода, получаемого с крестьян, которые населяли его феод.
На всем скаку он нападал на врага и стремился ударом копья выбить его из седла. Если это не удавалось, рыцари вступали в схватку на мечах. Пока рыцарь оставался на коне, он был грозной боевой силой. Но стоило выбить его из седла, и он оказывался беспомощным, так как не был в состоянии быстро подняться на ноги без посторонней помощи, — вооружение и доспехи были довольно тяжелыми и, сковывая движения рыцаря, делали его неповоротливым. Основной целью рыцаря в сражении было не убить противника, а, выбив его из седла, обезоружить и захватить в плен. За знатного пленника можно было получить крупный выкуп. Главное же, победитель покрывал себя славой, — ее-то рыцари прежде всего и жаждали. Славу непобедимого воина можно было стяжать и в рыцарских турнирах.
Турнирами называли военные состязания, на которых рыцари — турнир был привилегией исключительно рыцарства — сражались на глазах у благородной публики либо в поединках, либо группами; впрочем, в последнем случае бой также превращался в серию поединков. Участники объявляли, что сражаются в честь прекрасных дам, на благосклонность которых могли рассчитывать победители. Победители получали славу и признание, почетные призы, а также коней и оружие побежденных. Поскольку остаться без вооружения и коня считалось позорным для рыцаря, победитель возвращал их своим незадачливым соперникам за выкуп. Постепенно турниры, первоначально имевшие целью военную тренировку, превращались в пышные аристократические празднества, и сражались на них специальным затупленным оружием, чтобы не нанести ущерба бойцам. Впрочем, в феодальных войнах вплоть до XIII—XIV вв. жертв среди рыцарей было не так много, скорее гибла сопровождавшая их пехота, которую составляли простолюдины.

Рыцарский доспех, начало XIV в.
Сын рыцаря обычно получал одностороннее и довольно грубое воспитание. С малых лет его учили ездить верхом и владеть оружием; досуги он проводил на охоте (благо зверей в Европе в то время водилось множество). Чтение, письмо, арифметика не интересовали знатных подростков и юношей, за одним, однако, немаловажным исключением. Дело в том, что с целью не допустить раздробления рыцарского феода, он целиком передавался по наследству лишь старшему сыну, который и получал посвящение в рыцарское достоинство. Младшие братья оставались ни с чем. Многим из них приходилось постригаться в монахи, — вступая в монастырь, юноша отказывался от мирских радостей и удовольствий, но жизнь его была материально обеспечена. Так вот, те дети рыцарей, которых предназначали к духовному званию (это касалось и дочерей, лишенных приданого), нередко изучали чтение, письмо и другие «искусства».
Становясь рыцарем, юноша проходил через процедуру посвящения: его сеньор ударял его плашмя мечом по плечу, они обменивались поцелуем, который символизировал их взаимную верность, посвящаемому надевали знак рыцарского достоинства — шпоры, и новый рыцарь лихо вскакивал на коня. Раз навсегда установленные обряды сопровождали все важные моменты жизни рыцарей, как, впрочем, и других людей той эпохи. Эти ритуалы и обряды, жесты и произносимые одновременно с ними клятвы и присяги делали связи между людьми нерушимыми. Торжественность этих процедур способствовала тому, что они навсегда оставались в памяти их участников и многочисленных свидетелей.

Турнир. Миниатюра конца XV в.

Опоясывание мечом при посвящении в рыцари. Миниатюра начала XIV в.
В литературе, которая описывает и воспевает прославленных рыцарей (в рыцарских романах, песнях, поэмах) и которую часто создавали представители самого рыцарства, изображены благородные герои. Их поведение образцово, о таких людях говорили: «рыцарь без страха и упрека». Если верить этим сочинениям, существовал своего рода кодекс рыцарского поведения, основанного на чести. Согласно этому неписанному своду нравственных правил, рыцарь беззаветно предан Богу, верно служит своему сеньору, равно как и прекрасной даме, заботится о слабых, включая женщин, духовных лиц и обездоленных, неизменно соблюдает все обязательства и клятвы. До сих пор существует выражение: «благородное положение обязывает». В рыцарских романах рыцари устремляют свои помыслы к Богу и совершают героические деяния. В поэзии французских ТРУБАДУРОВ и ТРУВЕРОВ и немецких МИННЕЗИНГЕРОВ XII—XIII вв. воспевается красота знатной дамы, нередко супруги сеньора, вассалом которого является поэт, и многим из этих певцов нельзя отказать в тонкости чувств.
Кодекс рыцарской чести не был литературным вымыслом, однако для рыцарей не менее характерна была и грубость нравов. На неблагородных и простолюдинов они взирали свысока, используя любой предлог для того, чтобы притеснить, ограбить или оскорбить их. О власти рыцарей часто говорят как о «кулачном праве»; то было не право, а произвол и насилие. Если подчиненных им крестьян они щадили, поскольку те их кормили, то чужих крестьян, как и горожан, они нещадно грабили, а то и убивали. В других странах, как в Европе, так и за ее пределами, они творили всяческие бесчинства. В подземных тюрьмах собственных замков они годами держали пленников, требуя за них выкуп. Встреча с рыцарем в поле или на большой дороге не сулила ничего хорошего. Психика рыцарей, как и многих других людей той эпохи, была неуравновешенна: от неуемного веселья они легко переходили к тоске и заливались слезами, либо внезапно впадали в столь же безудержную ярость.
Налицо противоречие между жестоким и подчас неприглядным бытом рыцарства и теми идеалами чести и достойного поведения, которые присутствовали в сознании части рыцарства и служили для него нравственной уздой. Вместе с тем, сопоставляя свое поведение с изображаемым литературой идеалом, рыцарь не мог не ощутить разрыва между ними. Как и перед любым христианином той эпохи, который не мог закрыть глаза на разительное противоречие повседневной жизни заповедям Спасителя, перед рыцарем вырисовывалась пропасть, отделявшая действительность от кодекса чести.
Существовало и другое противоречие, кроме несовпадения идеала и реальности: противоречие между равнообязательными для рыцаря христианской и рыцарской системами морали. Рыцарь должен быть влюблен в прекрасную даму, служить ей, совершать во имя ее подвиги. Церковь же с подозрением смотрела на любовные отношения между людьми. Участие рыцаря в турнире было делом чести, церковь осуждала турниры и даже запрещала хоронить погибших на них (а это все же случалось, несмотря на все меры предосторожности) в освященной земле.
Говоря о рыцаре как типе человеческой личности, который отличался от других представителей средневекового общества, нужно отметить еще одну черту. Любой член общества неизбежно выполняет свойственную его сословию или профессии функцию. Ее можно условно назвать «социальной ролью». Но поведение рыцаря было таково, что он действительно играл эту роль, и условные кавычки уже не надобны. Рыцарь — постоянно на людях: в окружении друзей и прихлебателей в своем доме, среди других вассалов в замке сеньора, на пиру, при дворе короля, в церкви, наконец, на турнире или в бою. И повсюду он неизменно как бы смотрит на себя со стороны, чужими глазами — прежде всего с точки зрения других знатных (с простолюдинами, «чернью» он не считается) и строит свое поведение так, чтобы не уронить себя в их мнении и заслужить их похвалу и уважение. В драме истории своей эпохи рыцарь выступает как актер.
В упомянутой выше схеме тройственного членения общества, которая была выработана учеными людьми Средневековья, на первом месте стоят «те, кто молятся», — монахи и духовенство. Не хозяйственная, производственная деятельность крестьян, и не военная служба, защита страны, возложенная на рыцарей, а заботы о спасении душ христиан — вот что поставлено во главу угла в сознании авторов этой троичной системы. Главным, с точки зрения человека той эпохи, были его отношения с Богом. Поэтому пребывание в монашестве или в духовном сане казалось более существенным, угодным Богу, нежели выполнение каких-либо земных функций.
Феодальное общество на протяжении столетий оставалось бедным в материальном и техническом отношениях, опираясь преимущественно на физическую силу людей, занятых производством сельскохозяйственной и ремесленной продукции. Народ жил впроголодь, и голод был частым гостем. И тем не менее, не считаясь с затратами средств, сил и времени, жители Европы возводили грандиозные соборы и бесчисленные церкви, отдавали духовенству десятину — десятую долю урожая и иных доходов. Желая спасти свои души, богатые и бедные собственники дарили церковным учреждениям и монастырям свои земельные владения. Мало этого, общество отдавало церкви и монашеству своих наиболее способных и грамотных сыновей, посвящавших себя служению Богу. Почти все известные ученые и мыслители, как и значительная часть писателей и поэтов, художников и музыкантов той эпохи принадлежали к духовному сословию.
Церковь представляла собой не только огромную политическую и экономическую силу, но вместе с тем и силу духовную; она мощно воздействовала на умы и чувства верующих. Естественно поэтому, что духовные лица занимали большую часть государственных должностей и активно воздействовали на политику светских государей.
В период формирования рыцарства церковь развернула движение за внутреннее умиротворение стран Запада и прекращение разбоя и бесчинств. Это движение (учреждение «Божьего мира») способствовало проникновению ценностей христианства в сознание рыцарей.
Учение о небесной иерархии и полном соответствии ей иерархии земной, которое упомянуто в начале главы, было официально принято церковью. Это учение исходило из идей гармонии и неподвижности: подобно тому как хоры ангелов, пребывая в вечности, дружно славят Творца, человеческое общество мыслилось неизменным и лишенным внутренних противоречий.
Нужно ли говорить о том, что это утверждение не соответствовало реальной действительности? Состав общества изменялся, и даже в то время, когда церковные мыслители вырабатывали свою трехчленную схему общественной структуры (в начале XI в.), они не могли не знать, что в жизни все более заметную роль начинали играть города, ремесленники и купечество, которым в этой схеме не нашлось места.
Изменялось и рыцарство. Конное войско существовало и в древности, но класс профессиональных тяжеловооруженных и закованных в броню воинов, которые были организованы в иерархию, владели феодами и господствовали над зависимыми крестьянами, оформился лишь в XII в., а спустя два-три столетия начал утрачивать свое монопольное положение в военном деле: изобретение пороха и огнестрельного оружия сделало его уязвимым, а латы, защищавшие рыцарей, невозможно было делать все более массивными, они и так сковывали движения воинов. Одновременно утрачивали свое значение и рыцарские замки-крепости, стены которых не могли устоять перед артиллерией. По мере укрепления государственной власти короли стали переходить к использованию солдат-наемников.
Короче говоря, структура феодального общества не была стабильной, она постепенно изменялась. Но эти перемены растягивались на столетия, и у людей той эпохи создавалось впечатление о незыблемости существующих порядков. Мысль об изменчивости общественного строя и быта с трудом проникала в их сознание. Не случайно же, как уже говорилось раньше, художники даже в конце Средневековья продолжали изображать рыцарей и рыцарские замки в картинах, повествующих о древних временах, а сцены из Священного Писания населять людьми, одетыми подобно средневековым крестьянам и бюргерам. История двигалась, воспринимаясь современниками как неподвижная.
Представление об устойчивости и вечности жизненного уклада было иллюзией, которая в немалой мере порождалась относительной медленностью действительных перемен. Но эта иллюзия цементировала феодальное общество, в свою очередь замедляя его изменения.
1. Где было больше условий для развития техники — в Древнем Раме или в средневековой Европе, и чем объясняются эти различия?
2. Сравните римских рабов и колонов со средневековыми зависимыми крестьянами.
3. Какие цели преследовали деятели церкви, развивая теорию о тройственном делении общества на «молящихся», «сражающихся» и «трудящихся»?
4. Как сказано выше, на Руси крестьяне находились в рабской зависимости от своих господ. Можно ли в таком случае говорить о русском феодализме?
5. Рыцарский феод целиком передавался по наследству старшему сыну феодала. Чем объясняется то, что рыцари избегали дробления своих земельных владений?
ГЛАВА 4.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ В XI—ХIII ВВ.
После завершения Великих переселений народов в V—VI вв. и новой волны завоеваний и переселений в VIII—X вв. (норманнов, венгров, арабов) политическая карта Европы решительным образом изменилась: если Римская империя охватывала прежде всего страны, окружавшие Средиземное море, то теперь были намечены основные политические контуры всего континента, той Европы, которая существует и ныне. Мы уже можем говорить о таких странах, как Франция и Англия, Германия и Скандинавские страны, — можем о них говорить, но с рядом оговорок. И дело не столько в том, что пределы этих стран впоследствии не раз перекраивались, сколько в том, что самые эти страны представляли собой особые образования, не похожие на те, что мы ныне называем страной, народом или государством.
Францией в то время именовали не всю ту территорию, которая ныне так называется, но лишь область вокруг Парижа, подчиненную власти короля. По мере того как расширялся королевский домен (территория, непосредственно подвластная королю как сеньору), росли пределы Франции. Но южная ее половина, которая в предшествующую эпоху испытала на себе сильное римское влияние, сохраняла свои особенности в культуре и языке, праве и обычаях на протяжении нескольких столетий и после ее подчинения королю Франции.
Германия... Но даже трудно утверждать, что Германия существовала в ту эпоху как некая целостность: Деление на франков, алеманнов, баваров, саксов, казалось бы, изжило себя в результате смешения народов и исчезновения древних племен. И вместе с тем у жителей Германии не сложилось сознания того, что они принадлежат к одному народу. У населения разных территорий и княжеств сохранялось представление о своей обособленности, их опять-таки разделяли диалекты немецкого языка, обычаи и недоверчивое, даже враждебное отношение к соседям. Представители одной области приписывали другим всяческие пороки: все они якобы лжецы и пьяницы, грубияны и вероломные люди. Сами они, разумеется, недостатков не имеют и обладают всеми доблестями!
Такое противоположное отношение к «своим» и «чужим» никого не удивит, ибо оно, к сожалению, не представляет собой черты, присущей только средневековым людям. Но вот вам и специфическая особенность средневекового сознания, пронизанного религиозными представлениями. Один немецкий проповедник XIII в. объяснял своим слушателям разницу между теми, кто живет в Верхней (т.е. Южной) Германии, и населением Нижней (т.е. Северной) Германии. И что же оказывается? Жители Нижней Германии, по его словам, — не просто люди, живущие в другой части страны и обладающие собственными наречием и обычаями, — это люди, которые проживают «внизу», т.е. в преисподней. Итак, согласно этой логике, те, кто не «наши», — вообще не люди, а демоны...
Раздробление Германии, точнее, отсутствие ее как единого целого на политической карте тогдашней Европы, усугублялось тем, что в ней не существовало политического центра, какими во Франции выступал Париж, а в Англии Лондон. То, что мы называем Германией, представляло собой совокупность обособленных княжеств, герцогств, графств. Над ними возвышалась фигура императора, который, однако, видел центр Священной империи не в Германии, а в Риме. Но римская политика германских императоров, гнавшая их в походы в Италию, послужила одной из главных причин ослабления их власти. То, что германские монархи XI—ХIII вв. упорно цеплялись за политический миф о Римской империи, принесло немало бед и им самим, и народам Германией и, особенно, Италии.
Ибо эта попытка превратить миф о Римской империи в реальность — попытка, обреченная на провал, но в высшей степени показательная для средневекового сознания, обращенного преимущественно в прошлое, — послужила препятствием для объединения самой Италии. На севере Апеннинского полуострова хозяйничали немцы, а центральная часть ее, Рим и примыкавшая к нему Папская область, была подчинена папе. Объединение Италии оказалось невозможным вплоть до второй половины XIX столетия.
Средневековые королевства и княжества отличались от государств Нового времени и в том отношении, что у них не было четких границ, которые можно было бы обозначить на географической карте. Да, кстати сказать, и карты в тот период представляли собой нечто особенное. Европа была еще слабо известна самим европейцам. Те ее контуры, какие мы находим на картах ХIII в., очень мало напоминают действительные очертания европейского континента, какие мы вид им на современной карте.
Но дело не в этом. Причина того, что границы средневекового государства трудно обозначить на карте, заключается в том, что государство вообще представляло собой не территорию, а личную власть короля, князя, герцога или другого сеньора, его верховенство над людьми. Его вассалы и подданные могли проживать в его владениях, но они могли находиться и вдали от них, в пределах страны, подчиненной другому властителю. Более того, человек, являвшийся вассалом одного сеньора, в то же время мог признавать власть и другого государя. Иными словами, в основе государства лежали не территориальные связи, а связи личные. Государство того периода — не страна, которая занимает определенную территорию и окружена границами, — государство представляло собой возглавляемый монархом (королем, князем) союз вассалов, связанных с ним узами личной службы и верности. Конечно, простые, неблагородные подданные, прежде всего крестьяне, были в зависимости от своих господ — рыцарей и, следовательно, входили в состав того государства, главе которого служили их господа. Такая система общественных и политических связей создавала территориальную пестроту, поскольку один и тот же господин имел вассалов и подданных в разных странах и в различных областях одной страны. Знатный род Плантагенетов имел обширные владения во Франции и вместе с тем занимал английский престол. Как французские герцоги они были вассалами королей Франции, но в качестве английских монархов, отстаивая интересы Англии, они вели длительные войны против королей Франции.
Итак, Европа делилась не только на страны и королевства, но — внутри них — на провинции, герцогства, графства, владения крупных и мелких сеньоров. Политическая, языковая, правовая разобщенность была исключительно велика. Если невозможно четко обозначить территориальные границы между королевствами, то зато переезд из владений одного феодала во владения соседа мог ощущаться очень живо: у ворот его замка или на мосту через реку в его земле путника поджидали сборщики податей и пошлин, и за проезд через владения сеньора купцов крепко обирали.
Однако наряду с силами сепаратизма, обособлявшими области и отдельные местности, в Европе того периода действовали и прямо противоположные начала — единения, преодоления раздробленности. Понять духовную, общественную, религиозно-церковную и политическую жизнь средневековой Европы можно только не упуская из виду это переплетение центробежных и центростремительных сил.
Главное, что объединяло Западную и Центральную Европу, была принадлежность ее народов к католической религии, тому направлению христианства, которое возглавляется папством. Религия играла такую большую роль в Средние века, что когда писатели того времени говорили о «христианстве», то они имели в виду не одну лишь религию, но всю совокупность населения католической Европы, Вера объединяла его и стояла выше всех различий — политических, национальных, языковых, правовых.
Католицизм называют еще латинским христианством. Языком богослужения была (а отчасти остается и по сей день) латынь. На этом языке нужно было обращаться к Богу: читать молитвы и служить МЕССУ (обедню), на латыни писали все богословские и другие ученые трактаты и жития святых. Только проповедь, с которой священник или монах обращались к верующим, могла быть произнесена на родном для слушателей языке. Латынь была языком образованных, и когда они писали или говорили о «неграмотных» или «простецах», они имели в виду и буквально неграмотных, и людей, которые были способны читать и писать на родном языке, но не знали латыни. Латынь, будучи языком церкви, вместе с тем считалась единственным языком культуры.
Ученый человек, духовное лицо, так же как и студент университета, чувствовал себя не столько немцем, французом или итальянцем, сколько сыном вселенской церкви, объединявшей всех верующих, независимо от их национальности. Студент, начинавший свое обучение в Германии, мог затем переехать в другой университет, скажем, в Италии или во Франции, и главная причина его странствий по Европе заключалась в том, что студенты стремились прослушать лекции наиболее знаменитых профессоров. Что касается богословов или ученых монахов, то итальянец мог быть избран аббатом английского монастыря или назначен епископом в другой стране. Латинская церковь не знала никаких национальных или государственных ограничений, и со знанием латыни человек повсюду чувствовал себя дома.
Таким образом, провинциализм и сепаратизм в общественной и политической жизни (стремление замкнуться в своей местности или в узком мирке) уравновешивался всеобъемлющим строем католической церкви, которая не считалась со всяческими границами.
Тем не менее эти границы существовали в действительной жизни. Реальную власть на местах осуществляли сеньоры, и короли или князья вынуждены были с ними считаться и при решении политических вопросов, и во время войны, так как знатный вассал короля, который в соответствии с данной им присягой личной верности должен был ему служить и во всем помогать, на самом деле мог выказать ему неповиновение. Хозяйство оставалось в основе своей натуральным, а пути, по которым перевозили товары, были опасными, транспортные средства — неразвитыми.
Латынь была официальным языком церкви и государства. Но в отдельных странах и областях постепенно начинали укреплять свои позиции народные языки: на них не только говорило большинство населения, но уже записывали местные судебные обычаи, некоторые исторические хроники, возникавшую в городах литературу — басни, забавные и сатирические рассказы, в которых высмеивались продажные судьи, тупые господа и жадные монахи. На национальных языках сочинялись любовные песни и рыцарские романы — поэтические повествования о подвигах легендарных героев. Эта литература пользовалась популярностью не только среди мирян, но и у духовенства. В одном монастыре аббат рассказывал монахам о Христе и святых, и слушатели сонно клевали носами. Тут аббат начал о другом — о сказочном короле Артуре и его рыцарях Круглого стола, — и монахи тотчас же оживились.
В тот период начинает пробуждаться национальное самосознание, и один поэт не без гордости заявляет: в былые времена носителями воинских и ученых доблестей были сперва эллины, а затем римляне, теперь же эти доблести переместились к французам.
Три группы событий пронизывают историю Западной Европы в XI—XIII вв. Это борьба монархов с крупными феодалами, борьба за централизацию государств и против нее, за то, станут ли подвластные монарху территории единой державой либо совокупностью владений; это борьба светской власти с властью церкви; это борьба христианского Запада с мусульманским Востоком, Крестовые походы. О двух последних исторических процессах мы расскажем отдельно, сейчас же коснемся первого.
Стремление к подчинению всех вассалов единой власти просматривается не только у монархов. Каждый территориальный владетель желал, чтобы его вассалы имели как можно меньше власти, а он как можно больше, причем и за счет высшего сюзерена, монарха. Такое характерно для всей Европы, но в каждой стране происходило по-своему.
Первые короли Франции из династии Капетингов фактически владели лишь землями вокруг Парижа и Орлеана. Король Людовик VI Толстый (1108—1137) чуть ли не половину своего царствования потратил на то, чтобы захватить замок одного из баронов, расположенный как раз на пути из Парижа в Орлеан, ибо этот барон преспокойно грабил находившихся под королевским покровительством купцов, ехавших по этому пути. Более чем веком ранее основатель династии Гуго Капет (987—996) решил призвать к порядку одного непокорного вассала, он направил ему письмо, в котором грозно вопрошал: «Кто сделал тебя графом?». Тот ответил: «А кто сделал Вас королем?». Ответ этот означал: я такой же граф Божьей милостью, как Вы — Божьей милостью король. Короли действительно зависели во многом от крупных вассалов. Опасаясь их сопротивления, французские монархи стремились еще при своей жизни короновать наследников. Высшие духовные и светские феодалы именовались ПЭРАМИ, т.е. равными; подразумевалось, что по отношению к ним король есть лишь первый среди равных. Но у монархов было нечто, отсутствующее у территориальных князей: благодаря обряду коронации они оказывались помазанниками Божьими и уже по одному этому возвышались над своими подданными. В это время во французском народе распространяется вера в то, что король обладает силой своим прикосновением исцелять больных золотухой. Эта вера в целительную силу короля держалась во Франции (как и в Англии) до Нового времени. Начиная с XII в. короли Франции делают первые шаги по собиранию территории. Это собирание не означало подчинения всех королевской власти, но, в первую очередь, расширение королевского домена, первоначально даже просто укрепление собственной власти в этом домене. Кроме того, важной стороной королевской власти было право созывать феодальное ополчение по всей стране.
Увеличение королевского домена происходило разными путями: при помощи браков, получения выморочных земель (т.е. таких владений, в которых местная правящая династия вымирала без наследников; в этих случаях по феодальным законам земли отходили королю), обмана, завоеваний. Король, будучи верховным сеньором (СЮЗЕРЕНОМ), мог конфисковать владения вассала, если тот нарушал присягу; правда, это было возможно только по приговору пэров, но королю нередко удавалось добиться подобного приговора, иногда взывая к справедливости, иногда — прибегая к подкупу. Бывали случаи, когда монархи сами становились вассалами своих подданных, лишь бы округлить свои владения. Союзниками королей начиная с XII в. были мелкие рыцари и возникшие именно тогда самоуправляющиеся города. Все они предпочитали зависеть от высшей власти, которая была дальше от них, нежели местные сеньоры, и тяжесть ее ощущалась не так сильно. Еще одним союзником монархов была местная церковь, также стремившаяся высвободиться из-под власти территориальных князей. Со временем, с централизацией самой церкви она начнет спорить и с королями, но это будет позднее. А пока именно церковь поставляла королям людей для управления страной. Среди таких был советник Людовика VI и его сына Людовика VII Молодого (1137—1180) — канцлер Франции, правитель страны во время участия Людовика VII в Крестовом походе, аббат главного королевского аббатства Сен-Дени Сугерий (1082—1152). Все силы своего незаурядного ума он направил на укрепление правосудия и финансов, на обеспечение единства государства, на исполнение королевских законов. И все же до конца XII в. короли смогли добиться значительного усиления власти только в собственном домене и несколько расширить его. Большая часть страны оставалась вне непосредственной власти монархов. Аббат Сугерий не без юмора писал одному знакомому из поездки по графству Тулузскому: «Я здесь пользуюсь той же властью, что и господин мой король, то есть никакой».
Ускорило объединение Франции ее столкновение с Англией. Посмотрим, как обстояли дела по ту сторону Ла-Манша.

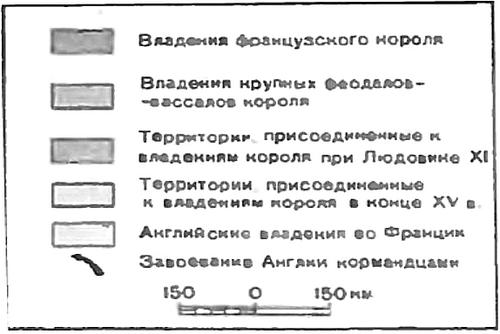


Рост королевского домена во Франции в XI—XV вв.
Как мы уже знаем, до конца первой трети XI в. Англия входила в состав державы датского короля Кнута. В 40—60-е годы XI в. она возвратила себе политическую независимость. Но герцог Нормандии (северо-западная часть Франции) Вильгельм Незаконнорожденный претендовал на английский престол и осенью 1066 г. высадился на побережье Англии с рыцарским войском. 14 октября произошла битва при Гастингсе, в которой англосаксы были разбиты, их король погиб.
Вильгельм I (1066—1087), получивший прозвище Завоеватель, вступил в Лондон и был коронован английской короной. Произошла смена верхушки господствующего класса Англии, крупные феодальные владения перешли в руки нормандских господ. Под их суровым гнетом оказалась основная масса крестьян англосаксонского и скандинавского происхождения. Если до нормандского завоевания в письменности преобладал древнеанглийский язык, то теперь он был вытеснен латынью и французским, хотя простой люд продолжал говорить на английском. Домашние животные, пока их пасли крестьяне, назывались по-английски, а блюда, изготовленные из их мяса и поданные на стол нормандскому сеньору, носили французские названия.
Проводя политику централизации, Вильгельм I заставил всех рыцарей принести ему вассальную присягу. В 1086 г. по его приказу была проведена перепись всех феодальных владений и жившего в них населения. Перепись должна была закрепить поместья за их новыми господами и упорядочить взимание налогов. Эта перепись известна под названием «Книга Страшного суда», потому что все, дававшие сведения, обязаны были отвечать королевским писцам так же правдиво, как они будут держать ответ на Страшном суде. «Книга Страшного суда» — свидетельство политики централизации, которую проводил Вильгельм I. Феодальные отношения, которые начали развиваться в Англии еще до Нормандского завоевания, теперь полностью укрепились. По всей стране были возведены феодальные замки. Король раздавал своим приближенным земельные владения, которые, однако, были разбросаны по разным графствам (так назывались административные округа в Англии) и не могли послужить баронам основой их территориальной самостоятельности, как это было на континенте Европы.
Англия в правление Вильгельма стала мощной державой, но еще больше усилилась при преемниках нормандской династии, Плантагенетах.
Однако нераздельность государственных и личных интересов, смешение власти и собственности приводили к тому, что иногда скандалы в королевской семье вызывали серьезные политические последствия.
Уже держава Вильгельма Завоевателя включала, кроме Англии, герцогство Нормандское. После прекращения Нормандской династии в Англии начались междоусобицы. Самым сильным из претендентов на престол оказался правнук Завоевателя по женской линии Генрих Плантагенет, граф Анжуйский, чей родовой домен был расположен в самом сердце Франции. К его землям присоединилась и Аквитания, Наследница последнего герцога Аквитанского, Алиенора, была выдана замуж за короля Людовика VII. Огромные владения, чуть ли не четверть тогдашней Франции, вошли в домен короля. Но королева отличалась весьма легкомысленным нравом, и король развелся с ней, обвинив ее в супружеской измене. Вместе с неверной женой он лишился и Аквитании. Позднее Алиенора тайно, ибо на ее руку (а точнее — на ее земли) было очень много претендентов, обвенчалась с молодым Плантагенетом, который вскоре стал королем Англии Генрихом II (1154—1189). Всего во владения Плантагенетов, кроме Англии, вошло примерно 2/3 территории Франции.
Чрезвычайная пестрота владений Плантагенетов побудила Генриха II попытаться установить единый закон в своем государстве. В Англии это было легче, чем в континентальных владениях, где действовали местные обычаи. Генрих II объявил королевский суд высшей судебной инстанцией в стране, и там мог судиться любой рыцарь, горожанин и даже свободный крестьянин, т.е. суды лордов теряли значение. Специальные королевские судьи разъезжали по стране и вершили суд на местах с участием присяжных из местных жителей, рыцарей и свободных крестьян. Уголовные преступления вообще были исключены из дел, разбиравшихся в частных судах лордов.
Генрих II позволил своим вассалам отказываться от военной службы взамен уплаты особого налога — так называемых «щитовых денег». На эти деньги король нанимал рыцарей, которые служили ему уже не за земли, а за плату и не в течение относительно краткого, обусловленного обычаем срока, а столько, сколько угодно было королю. Такое войско не было еще наемной профессиональной армией, но уже был сделан шаг к ее формированию.
Король Генрих большое внимание уделял правильному функционированию правительства — королевского совета, или королевской курии, особенно финансовой его части — «Палаты шахматной доски». Это учреждение именовалось так потому, что находившийся в помещении этой Палаты стол был расчерчен наподобие шахматной доски, и на клетках этой доски ставились столбиком монеты или фишки, означающие некие суммы денег. Это делалось для удобства счета, ибо бухгалтерских документов тогда еще не знали.
Созданная Генрихом II администрация могла более или менее нормально действовать даже тогда, когда государь не занимается делами управления. Подобное произошло при сыне Генриха И, знаменитом Ричарде I Львиное Сердце (1189—1199). Этот блестящий полководец, талантливый поэт и музыкант, человек огромного личного мужества, благородства, но одновременно свирепый, крайне неуравновешенный, за всю жизнь провел в Англии всего несколько месяцев. Его обуревала жажда славы. Он сражался в Палестине, в континентальных владениях Плантагенетов, но почти не обращал внимания на Англию. А созданная его отцом администрация, несмотря на отсутствие монарха и на распри в среде высшей знати, продолжала худо-бедно работать.
Борьба из-за владений английских королей на территории Франции началась при французском короле Филиппе II Августе (1180— 1223). Данное ему прозвище приравнивало его к почитавшемуся на протяжении всего Средневековья в качестве образца государственной мудрости первому римскому императору Октавиану Августу. Но при жизни Филиппа гораздо чаще называли Завоевателем. Только его завоевания резко отличались от завоевания его английских родственников, и сам он не был похож на них. Болезненный, физически слабый, боязливый, лишенный того ореола рыцарственности, которым обладал Ричард Львиное Сердце, Филипп тоже лелеял мечты, но не о дальних землях, а о собственной стране. Интриги, обман, юридические уловки — все шло в ход, чтобы вернуть французской короне земли Плантагенетов. Он искусно ссорил Генриха II с его сыновьями и сыновей между собой. Он всячески поддерживал Иоанна Безземельного (1199—1216), брата, соперника и преемника Ричарда Львиное Сердце, но как только Ричард умер, начал борьбу с Иоанном. Мы помним, что английские короли в качестве герцогов Нормандских, Аквитанских, графов Анжуйских и т.д. были вассалами французских королей, посему Филипп имел право вызвать Иоанна на суд ПЭРОВ. Иоанн не явился! Филипп объявил его владения на континенте конфискованными и начал войну. Иоанн сколотил против Филиппа коалицию с участием Фландрии и Империи, но тот разбил объединенные войска этой коалиции в битве при Бувине в 1215 г. Нормандия, Анжу, бо́льшая часть Аквитании и некоторые другие земли отошли к Франции. За время правления Филиппа II королевский домен увеличился вчетверо.
Во времена Филиппа началось завоевание южной Франции, Земли к югу от Луары хотя и считались подвластными французской короне, были независимыми и сильно отличались от севера Франции. Там было большим, нежели на севере, римское влияние, господствовало римское право, в противовес основанному на обычае праву севера. На севере и на юге говорили на разных диалектах, на севере — на старофранцузском, на юге — на провансальском. Нашествие рыцарей севера на Южную Францию под предлогом искоренения ереси возглавлял барон Симон де Монфор, мечтавший создать собственное герцогство на землях Тулузского графства, но это не удалось из-за сопротивления южан и, в конце концов, Южная Франция отошла к домену французских королей. Филипп II Август был первым королем Франции, который передал свой трон только по наследству, не коронуя предварительно наследника в качестве соправителя. Власть Капетингов упрочилась достаточно, никто не пытался уже ее оспорить.
Постоянные неудачи короля Англии Иоанна Безземельного в борьбе с Францией вызывали недовольство в стране. На это накладывалось раздражение баронов — высшего дворянства — нарушениями их привилегий, возмущение рыцарей, горожан и свободных крестьян налоговым прессом, коррупцией и казнокрадством. В 1215 г. недовольство вылилось в восстание, возглавляемое крупными феодалами севера Англии. Войско восставших двинулось на Лондон и вошло в него при поддержке горожан. Оставшись без вооруженной силы, Иоанн 15 июня 1215 г. принял требования мятежных лордов. Эти требования составили грамоту, позднее получившую наименование «Великой хартии вольностей».
По поводу этого документа историки спорят и поныне. Одни утверждают, что это первая в мире конституция. Другие говорят, что перед нами перечень феодальных привилегий, выгодных только высшей аристократии. В определенном смысле правы и те, и другие. Основная масса статей этой хартии защищает интересы крупных феодалов и одновременно ограничивает власть короля. Основные законы могли, в соответствии с этой хартией, издаваться королем только с согласия Высшего совета, состоящего из знати. Совет выбирал из своего состава особый Комитет 25-ти, который имел право принудить короля к исполнению хартии, вплоть до призыва страны к восстанию. Некоторые, весьма немногочисленные, статьи охраняют права рыцарей и горожан, даже имущество крестьян. Огромное значение имела во всей английской истории 39-я статья Хартии, ибо требования ее исполнения проходят через все общественные движения Англии вплоть до начала XX в. В этой статье говорится о том, что ни один свободный человек не может быть арестован, подвергнут конфискации имущества или наказан без суда равных ему.
Разумеется, бароны-составители Великой хартии вольностей в первую очередь заботились о своих интересах, а статьи, касающиеся рыцарей и горожан, были неким актом благодарности лордов их союзникам. И все же, впервые в истории власть ограничивалась законом, а не обычаем или религиозными либо моральными нормами; впервые в истории королевская власть ограничивалась неким органом, пусть и не демократически составленным; впервые в Средние века свободные люди (на зависимых крестьян это не распространялось) получали определенные гарантии от произвола властей, пусть и весьма неполные основы гражданской свободы.
Иоанн сразу же после подписания отказался соблюдать Великую хартию вольностей. Бароны возмутились, объявили о низложении Иоанна и передаче трона наследнику французского престола. В разгар этой борьбы король Иоанн умер.
Царствование сына Иоанна Безземельного, Генриха III (1216—1272) отмечено одним из важнейших событий не только английской, но и мировой истории — возникновением парламента. Его созыву предшествовала длительная борьба между королем и баронами из-за налоговой и внешней политики. Бароны вырвали у королей некоторые уступки, но не посчитались с интересами рыцарей и горожан, и те выступили со своими требованиями. Под их давлением король принял «Вестминстерские провизии», в соответствии с которыми ограничивался произвол чиновников короля и лордов; на их действия можно было приносить жалобы в суд присяжных.
Бароны не хотели выполнять требований рыцарей и горожан, а король добился от папы грамоты, освобождавшей его от выполнения Вестминстерских провизии. И тогда в 1263 г. началась гражданская война. Войско восставших состояло из рыцарей, горожан, студентов Оксфордского университета, свободных крестьян и ряда баронов. Возглавил их граф Симон де Монфор, сын завоевателя юга Франции. Повстанцы заняли столицу, разбили королевские войска и захватили короля и наследного принца в плен.
20 января 1265 г. в Вестминстере Симон де Монфор, который получил должность лорда-протектора, т.е. правителя, созвал Высший совет. Этот совет, получивший название ПАРЛАМЕНТА (от французского parler «говорить»), отличался от прежних советов тем, что кроме высшей знати, заседавшей там по личному приглашению короля, в него входили по два рыцаря от каждого графства, избираемые свободными налогоплательщиками этого графства, и по два горожанина, которых избрали муниципалитеты крупных городов. Так впервые на средневековом Западе возник представительный орган власти.
Бароны, недовольные усилением влияния рыцарей, горожан и свободных крестьян, стали переходить на сторону короля. Королевская армия разбила войско Монфора, сам граф погиб в бою. Однако ни Генрих III, ни его преемники не уничтожили парламент, ибо монархи сочли этот орган удобным для того, чтобы горожане и рыцари уравновешивали влияние знати. Королям отныне приходилось считаться не с одними лишь баронами, и в конце XIII в. король Эдуард I подтвердил Великую хартию вольностей, признав, что ни один налог не может взиматься без согласия парламента.
В парламенте того времени было представлено далеко не все население страны. В начале XIV в. он разделился на две палаты: палату лордов, где заседали по праву наследования высшие титулованные дворяне и высшее духовенство, и палату общин, куда входили рыцари от графств и депутаты от городов. Для того чтобы участвовать в выборах в палату общин, требовалось уплачивать довольно высокие налоги, так что значительная часть населения, в том числе, конечно, все зависимое крестьянство, этим правом не пользовалась. И все же возник представительный орган, имеющий возможность влиять на политику правительства, хотя бы в финансово-экономической сфере. Решения парламента были обязательны для всех подданных государства. Участие рыцарства и горожан, наряду с лордами, в управлении способствовало процессу централизации.
Апогеем развития феодальной монархии во Франции стало правление короля Людовика IX (1226—1270). В глазах современников и ближайших потомков это было время существования почти идеального царства справедливости. Основным направлением политики Людовика была централизация страны в юридическом и финансовом отношении. Именно при нем окончательно сложился высший судебный орган страны — Парижский парламент (не смешивать с английским парламентом, органом законодательным). Первоначально так называлось заседание королевского совета, решавшего судебные дела. В него входили представители высшей знати. При Людовике в его состав стали входить ЛЕГИСТЫ (от латинского «lех» — «закон») — знатоки римского права, обычно выходцы из мелкого рыцарства и горожан. Именно эти легисты готовили и проводили в жизнь решения Парижского парламента. Людовик последовательно добивался, чтобы все основные дела решались именно в королевских судах (суды сеньоров при нем практически лишались права рассматривать уголовные дела). Решения парламента были обязательны не только в пределах королевского домена, но и по всей стране. Людовик стремился ввести свои законы на территории всего государства, т.е. объединить страну не столько единой властью, сколько едиными законами; удавалось это, правда, не всегда. В средневековой судебной практике был распространен обычай судебного поединка. Истец и ответчик отстаивали свою правоту в вооруженном единоборстве; считалось, что Бог обязательно пошлет победу правому. Людовик запретил судебные поединки сначала в своем домене, а затем и по всей стране, повелев, чтобы суды выносили приговоры на основании показаний свидетелей. Нормальным явлением в Средние века были так называемые частные войны между отдельными феодалами. Людовик запретил их в своем домене, а в остальной части королевства ввел «40 дней короля» — срок, в течение которого стороны, вовлеченные в конфликт, должны были воздерживаться от военных действий и представить свой спор на третейский суд (т.е. на посредничество) короля; война могла начаться только, если стороны не пришли к соглашению. В предшествующий период крупные феодалы имели привилегию чеканить свою монету. Людовик ввел по всей стране единую королевскую монету, имевшую исключительное хождение в королевском домене, а в иных владениях — наравне с местной. Из королевского совета выделился особый орган финансового надзора — Счетная палата. Людовик стремился опираться в своей деятельности на свободные города.
В сознании современников эти нововведения воспринимались не как ломка привычной традиции, а как восстановление истинной справедливости. Этому способствовали личные качества Людовика. Король был человеком глубоко благочестивым и после смерти причислен к лику святых. Однако Людовик не был аскетом, нежно любил свою жену, советовал придворным одеваться получше, «чтобы жены их крепче любили», не отказывался от застолий и не был лишен личного мужества. Одной из главных, если не главной, побудительной причиной действий святого короля было его стремление к справедливости, к праву. Неудивительно, что святой король вошел в легенды как некий отец страны и народа. Именно при нем началась бюрократизация управления, но дарованное им право апеллировать к королевскому правосудию воплотилось в рассказы о том, что король ежедневно, выходя из дворца, садился под дубом в Венсенском лесу и справедливо судил каждого, кто обращался к нему.
История Германии и Италии тесно связана с борьбой Империи и папства, потому о них будет рассказано в другом месте. Сейчас обратимся к странам Пиренейского полуострова, ибо их развитие имело особенности, определявшиеся борьбой христиан с мусульманами. В XI—XIII вв. на территории полуострова сложились королевства Кастилия и Леон, занимавшие большую его часть, Арагон на северо-востоке, Португалия на западе, Наварра на севере. Владения арабов в начале XI в. доходили на севере до рек Дуэро и Эбро, т.е. занимали немалую часть Испании, но после распада Кордовского халифата, окончательно прекратившего существование в 1031 г., власть мавров стала слабеть.
Реконкиста набирала силу. Основная тяжесть борьбы легла на Кастилию, которая в 1085 г. овладела городом Толедо, ставшим столицей этого королевства. Мусульмане пытались дважды, в XI и XII вв., обращаться за помощью к своим единоверцам с другого берега Гибралтарского пролива, но новые завоеватели из Северной Африки не могли надолго остановить Реконкисту. В 1212 г. объединенные силы испанских христианских государств нанесли маврам решающее поражение при Лас-Навас-де-Толоса. К концу XIII в. на всей территории Испании арабским остался только небольшой Гранадский эмират на юге страны.
Постоянная война наложила свой отпечаток на общественную систему испанских государств, особенно на Кастилию. Боевые условия требовали определенного единства, поэтому гранды (высшее дворянство) не были независимыми правителями. Потребность в военной силе приводила к тому, что любой кастилец, даже неблагородного происхождения, мог стать рыцарем, если у него хватало средств на рыцарское вооружение. Крестьянские общины на недавно отвоеванных у мавров землях получали значительную независимость под королевским верховенством.
1. В чем отличие государств XI в. от современных?
2. Какой властью обладал король Франции в XI — начале XII в.?
3. Чем власть Вильгельма Завоевателя и его преемников отличалась от власти современных им французских королей?
4. Какая статья Великой хартии вольностей имела самое большое значение во всей истории Европы?
5. Как был организован английский парламент в Средние века?
6. Что такое Парижский парламент и в чем его отличие от английского?
7. Расскажите о поединках и частных войнах.
ГЛАВА 4.3. СВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ
25 января 1077 г. наружные ворота замка Каносса в Северной Италии открылись и в них вошел человек. Трое суток этот человек стоял между внутренними и внешними стенами замка босиком на снегу, под пронизывающим ветром, с непокрытой головой, в рубище, совсем один. Так, по обычаям эпохи, должен был вести себя тот, кто желал вымолить прощение за тяжкие прегрешения. Длинная рубаха из грубой ткани, одеяние кающегося грешника, не являлась привычным облачением для того, кто сейчас носил ее. Ибо перед замком стоял светский владыка христианского мира, император Священной Римской империи Генрих IV (1056—1106); тем, кто за внутренними стенами Каноссы решал, прощать или не прощать, был духовный глава христианского мира, папа Григорий VII (1073—1085).
Как же могло случиться, что император, предшественники которого со времен Карла Великого господствовали над церковью, назначали и смещали пап, столь ясно и очевидно признал над собой верховенство римского первосвященника? Какие события в жизни Империи и церкви привели к этому? Чтобы лучше понять происшедшее, посмотрим, чем была церковь в средневековом обществе.
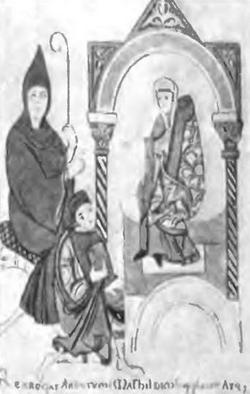
Свидание в Каноссе. Миниатюра ХII в.
В сегодняшней нашей действительности религия есть личное дело каждого. Человек сам определяет, во что и как ему верить или не верить, и никто не вправе указывать ему. Церковь и государство отделены одна от другого. Не так было в Средние века. Дело духовенства было обеспечить благосклонность небес каждому христианину и обществу в целом. Благополучие государства зависело от того, какие молитвы возносили «молящиеся». Церковь была посредником между земным и небесным мирами, от духовенства зависели и посмертная судьба каждого, и земные дела всех.
Отношения церковных и светских властей были двойственными. С одной стороны, церковь и государство не могли существовать друг без друга. Церковь нуждалась в поддержке светских господ и своим авторитетом освящала власть правителей. Она была частью феодального общества, крупнейшим землевладельцем; аббаты и епископы приносили вассальную присягу королям и были обязаны служить им за переданные земли. С другой стороны, церковь и государство не сливались воедино. Церковь управляла душами людей, монархи — телами. Еще в V в. было сформулировано учение о «двух мечах»: Христос, как царь и первосвященник одновременно, обладает двумя мечами — духовным и светским: один меч Он вручает церкви, другой — государям. На деле императоры использовали и духовный меч, а епископы, сражаясь с врагами королей как их вассалы, пускали в ход меч светский. Сама нераздельность светской и духовной властей таила в себе опасность конфликта.
Двойственными были не только отношения между церковью и светскими властями, но и положение самой церкви. Она была глубоко погружена в земные — имущественные, государственные — отношения, и вместе с тем являлась, согласно Писанию, «Царствием не от мира сего». Ссылаясь на эту отрешенность от мира, руководители церкви настаивали на том, что она не должна подчиняться мирским властям, а иметь собственную систему управления. Существовали особые церковные суды, которым только и были подсудны духовные лица. Церковная иерархия строилась параллельно иерархии светской: на ее вершине находился папа, ему подчинялись епископы, тем — священники и монахи. Поскольку церковь «не от мира сего» и не отягощена земной корыстью, то именно на этом основании она и должна править миром — учили ее теоретики.
Еще в середине VIII в. в папской канцелярии был составлен подложный документ, названный «Константиновым даром». Этот документ представлял собой акт дарения, в котором император Константин I якобы передавал всю западную часть своей империи папе Римскому и его преемникам, а сам удалялся на Восток, где основал новую столицу — Константинополь. Тем самым папа оказывался верховным светским владыкой Запада, а короли (напомним, это было в VIII в., еще до восстановления императорского титула на Западе) — его подданными. В середине IX в. был составлен другой документ, в соответствии с которым папская власть должна была иметь превосходство над любой светской, а в самой церкви римские первосвященники — обладать безусловным главенством над епископами.
Как уже говорилось выше, в Средние века истиной считали не совсем то, что мы считаем ею ныне. Для нас истина — то, что было на самом деле, для людей Средневековья — то, что должно быть. Верховенство церкви над мирскими властями, а папы — над церковью является, с точки зрения составителей указанных документов, высшей справедливостью, а раз так, то акты, подобные «Константинову дару», по их убеждению, не могли не быть созданы.
Чтобы воплотить идеал церкви «не от мира сего» во всем христианском мире, надо было реализовать его сначала во внутрицерковной жизни. Между тем духовенство находилось в зависимости от светских властей, причем не только от монархов. Многие светские сеньоры считали церковные приходы, расположенные на их землях, и монастыри, в которые они делали значительные вклады ради спасения души, своей собственностью и назначали священников и аббатов. В ряде случаев они, оставаясь мирянами, сами становились священниками и аббатами, точнее, присваивали себе доходы от прихода или монастыря и нанимали лиц духовного звания для исполнения обрядов. До XI в. низшее духовенство имело право вступать в брак, и многие из его членов больше заботились о своих семьях, нежели о душах прихожан. Церковные должности, в том числе и высшие, продавались и покупались. Даже монастыри были заполнены женатыми людьми. Подобное «обмирщение» церкви вызывало недовольство как рядовых верующих, так и многих светских и духовных владык.
Местом, где зародилось движение за преобразования в церкви, стал монастырь Клюни в Восточной Бургундии. Именно там в середине X в. был введен особо строгий устав с требованиями жесткой дисциплины, беспрекословного подчинения монахов настоятелю, обязательного обучения грамоте, чтения священных книг и физического труда, ограничения в пище и одежде, изгнания всякой роскоши. По монастырю само движение было названо клюнийским.
Многие монахи, привыкшие к привольной жизни, встретили реформу с неудовольствием и враждебностью, случались бунты и даже убийства аббатов, пытавшихся вводить новый клюнийский устав в своих монастырях. Местные сеньоры и епископы также выступали против реформы. Дабы высвободиться из-под их опеки, клюнийцы настаивали на том, чтобы монастыри подчинялись непосредственно папе. Папство видело в клюнийской реформе долгожданную возможность укрепить свою власть. В течение XI в. многие папы предпринимали энергичные действия по внедрению реформы. Было введено обязательное безбрачие духовенства для того, чтобы священники думали о Боге и церкви, а не о земных удовольствиях. Это вызывало резкое неприятие духовенства, но было поддержано рядовыми верующими, желавшими видеть в своих пастырях людей ангельского чина.
Заинтересованные в реформе папы начали поход против так называемой «симонии». Это выражение образовано от имени одного из персонажей Писания, Симона Волхва, который хотел купить апостольское достоинство и апостольскую благодать за деньги и был проклят святым Петром. Отсюда симонией стали называть получение за плату священнического сана или церковной должности и даже назначение духовного лица светскими властями, а, как мы помним, епископов назначали монархи.
Первоначально многие государи, в том числе императоры, поощряли реформаторов, как из личного благочестия, так и видя в реформе средство высвобождения церкви из-под власти местных сеньоров и, тем самым, ослабления их. Но в вопросе о назначении епископов интересы церкви столкнулись с интересами монархов.
Многовековой спор по этому поводу назывался спором об ИНВЕСТИТУРЕ. Инвеститура, т.е. процесс введения епископа в сан, состоял в том, что епископ после рукоположения получал посох в знак господства над паствой, кольцо, как символ обручения с церковью, и скипетр, как орудие светской власти над епархией. Но кто назначал епископов и кто вручал им эти предметы? Обычно и то и другое делал государь. Реформаторы же утверждали, что епископ должен свободно избираться духовенством епархии, а совершать инвеституру, т.е. как бы утверждать результаты выборов, следует папе лично или через посланцев, ибо всякий другой порядок означает симонию и нарушение свободы церкви. Монархи и их сторонники заявляли, что епископы являются вассалами королей, а сюзерен сам имеет право назначать своих вассалов.
Завершением клюнийской реформы в самой церкви стал Латеранский собор 1059 г. На нем было окончательно запрещено получать священникам духовные должности из светских рук и вступать в брак. Но самым главным стал декрет о выборах папы. До того времени папа избирался духовенством и «народом» Рима, а фактически выдвигался на этот пост группировками местной аристократии или императорами. По указанному декрету папу избирали высшие должностные лица церкви — КАРДИНАЛЫ, в число которых входили главные сановники Римской курии и наиболее влиятельные из епископов. Кандидат, набравший 2/3 голосов, считался избранным. Таким образом избрание пап стало внутрицерковным делом, точнее, делом высшего церковного руководства, и светская власть была полностью устранена от выборов.
Клюнийская реформа оказала большое влияние на всю последующую историю Западной Европы в Средние века, но кроме того дала толчок к еще одному событию,
В христианской церкви всегда существовало разделение на восточную и западную ветви, что объяснялось разными культурными и политическими традициями; в первом случае — греческой, во втором — римской. На Востоке существовала единая империя, на Западе — пестрая мозаика различных государств и владений. Обе церкви различались догматами и обрядами. На Востоке богослужение совершалось на местных языках, на Западе — только на латыни. Каждый патриарх в восточной церкви считался абсолютно независимым от других патриархов, а за папой признавалось лишь довольно неопределенное почетное верховенство; на Западе же папа претендовал на абсолютную власть над церковью. Распри между восточной и западной ветвями единой церкви приводили к кратковременным разрывам между ними, но лишь со времен клюнийской реформы эти разногласия стали непреодолимыми. Восточная церковь отвергла безбрачие низшего духовенства и — главное — верховенство пап над церковью и государями, ибо для Византии, где церковь фактически подчинялась государству, это было неприемлемым. В 1054 г. папа отлучил патриарха Константинопольского от церкви, а тот провозгласил АНАФЕМУ (отлучение, соединенное с полным проклятием) папе. С того времени и доныне разделение церкви на западную, католическую и восточную, православную, сохраняется.
Борьба между светскими и церковными властями распространилась практически на все западноевропейские государства, но наиболее острые формы приняла в Империи, где епископы обладали значительной светской властью и нередко стояли во главе целых княжеств.
Генрих IV взошел на трон шестилетним ребенком, и за регентство боролись могущественные группировки. Никому не было дела до того, что творилось за Альпами. А там во главе сторонников клюнийской реформы стоял удивительный человек, выходец из крестьян, архидиакон Римской церкви Гильдебранд. Он влиял на дела церкви при пяти папах и при некоторых из них играл решающую роль. Папского сана он добивался всяческими средствами, так что один из его близких соратников даже назвал его «святым Сатаной», В 1073 г. Гильдебранд был избран папой под именем Григория VII. Вскоре папа окончательно запретил светскую инвеституру и потребовал отстранения епископов, получивших должности таким образом. Он направил Генриху IV письмо, в котором заявил, что не признает власти того над Италией и Римом и пригрозил отлучением, если император не прекратит назначать епископов. Обозленный Генрих объявил о низложении папы. Епископы, назначенные им и не желавшие перемен, поддержали его. В ответ Григорий отлучил императора от церкви и заявил, что подданные его свободны от данной ему присяги, т.е. фактически объявил об отстранении императора от власти.
Значительная часть германских и итальянских епископов, назначенных императором, поддерживали Генриха IV. Монашество и большая часть епископов вне Империи стояли за Григория VII. Папу поддерживало и большинство светских князей Империи, желавших ослабления императорской власти и настаивающих на выборности монархов «народом», под которым понимались сами князья. Они пригрозили, что если с императора в течение года и дня не будет снято отлучение, то они откажут ему в повиновении. Генрих почувствовал, что у него слишком мало сил и решил примириться с папой. Григорий находился тогда в Северной Италии, в замке Каносса. Туда и направился Генрих IV без войска, лишь с семьей и небольшой свитой. Именно там и произошли те события, о которых говорилось выше. Наконец, на третьи сутки папа впустил императора и согласился принять его раскаяние.
Впрочем, Каносса ничего не дала. Борьба между императором и папой вскоре возобновилась. Против Генриха выступили князья, сместили его и выбрали своего короля. Генрих занял Рим и назначил своего антипапу. В разгар борьбы Григорий VII умер. Лишь в 1122 г. Генрих V (1106—1126), сын Генриха IV, заключил с папой конкордат (т.е. соглашение). По нему император отказывался от назначения епископов, они свободно избирались, но и за ним, и за папой оставалось право утверждать их в должности. Папа передавал новоизбранному епископу кольцо и посох, т.е. делал его духовным владыкой епархии, император — скипетр, т.е. наделял его светской властью. В целом, это ослабляло императоров, ибо не только светские, но и духовные князья оказывались в значительной мере независимыми от них.

Священная Римская империя XII—XV вв.
После смерти Генриха V в Империи началась борьба за престол. В ходе ее укреплялась власть светских князей, от которых зависел выбор императора, и они были готовы отдать голоса тому, кто предоставит им больше независимости. Усиливала эта борьба и пап, от которых зависела коронация германского короля императорской короной.
Очередную попытку возвышения императорской власти предпринял Фридрих I Барбаросса (Рыжебородый) из династии Штауфенов (или Гогенштауфенов) (1152—1190). Стремясь укрепить свою власть, Фридрих прибегал к помощи юристов — знатоков римского права, которое с недавнего времени стали усердно изучать. Этим правом охотно пользовались монархи, ибо оно понималось как единая правовая система в отличие от обычного права, особого для каждой местности, а также являлось светским правом, независимым от церкви.
Для того чтобы владеть Германией и всей Империей Фридриху приходилось прежде всего укреплять свой домен — герцогство Швабское — ибо только самый сильный из князей мог стать императором. В борьбу между императором, папой и князьями была втянута еще одна сила — североитальянские самоуправляющиеся города.
Воспользовавшись раздорами между этими городами, Фридрих I захватил наиболее богатый из всех городов — Милан — и разрушил его. По древнеримским образцам главная площадь его была распахана в знак того, что город больше никогда не возродится. Но Фридрих просчитался: города Северной Италии при поддержке папы объединились в союз и в 1176 г. в битве при Леньяно разбили армию Фридриха. Император едва спасся. Власть Империи над Италией рухнула. Сто лет спустя после Каноссы император вновь был унижен перед папой: для того чтобы примириться с ним, Фридриху пришлось во время их встречи в Риме целовать папскую туфлю и в торжественной процессии вести папского коня под уздцы.
Крах так называемой итальянской политики германских государей стал вполне очевидным в начале XIII в. В это время папский престол занимал Иннокентий III (1198—1216), один из наиболее влиятельных пап Средневековья. Если его предшественники именовали себя «наместниками святого Петра» (ученика Христа и первого епископа Рима), то Иннокентий провозгласил себя «заместителем Христа, наместником Бога на земле». Все земные монархи в его глазах являлись вассалами папы». Он умело воспользовался расколом Империи, в которой на корону претендовало несколько князей, и, лавируя между ними, присваивал себе право окончательного решения о законности их претензии.
Наконец императором был провозглашен внук Барбароссы Фридрих II Гогенштауфен (1220—1250). Фридрих был незаурядной личностью. Образованный человек и тонкий дипломат, проявлявший непривычную для своего времени терпимость в отношении к разным религиям, он вместе с тем продолжал придерживаться мифа об Империи. В центр своей политики он поставил не Германию, а Королевство Обеих Сицилий, унаследованное по материнской линии. Это королевство, в котором сочетались византийская, арабская и западноевропейская культуры, было относительно централизованным.
При Фридрихе II вся судебная и военная власть и налоговая система сосредоточились в руках короля и чиновников, что подорвало экономику Сицилийского королевства: император высасывал все соки из него для своих итальянских авантюр. Папы отлучали Фридриха и возводили на него обвинения в ереси и склонности к мусульманству.
Со смертью Фридриха все его государство рухнуло. В Германии после кратковременного правления его сына наступило междуцарствие (1254—1273), когда группировки князей выдвигали разных претендентов на престол, но ни один не мог удержаться на нем,
В то время как в Англии и Франции продолжался процесс укрепления королевской власти. Германия, а вместе с ней и вся Империя, продолжали разваливаться.
Борьба между светской и церковной властью охватила всю католическую Европу. Начиная с Вильгельма Завоевателя короли Англии стремились утвердить свою власть над английской церковью.
Острый конфликт разразился в правление Генриха II. Проводя свою судебную реформу, Генрих, намеревавшийся упразднить особые церковные суды и ввести единое королевское правосудие, натолкнулся на сопротивление духовенства. Тогда он предложил занять пост архиепископа Кентерберийского (высшее духовное лицо в Англии) своему другу и участнику совместных увеселений канцлеру Томасу (Фоме) Бекету. Но приняв духовный сан, тот стал строгим аскетом, погруженным в молитвы и дела милосердия. Из активного сторонника королевской политики Бекет превратился в не менее активного ее противника и защитника «свободы церкви», т.е. ее независимости от светских властей. Он отказывался признать решения короля законными и грозил отлучением королю и его приближенным, а также тем, кто подчиняется королевским судам. Король был взбешен тем, что он счел предательством со стороны старого друга и однажды воскликнул: «Неужели не найдется никого, кто освободит меня от этого попа!» Несколько придворных отправились в Кентербери и, ворвавшись в собор, зверски убили архиепископа возле алтаря. Это произошло в 1170 г. Папа, узнав об этом, отлучил короля и наложил на Англию ИНТЕРДИКТ (запрет во всех церквах совершать богослужения и иные таинства: исповедовать, крестить, венчать, в ряде случаев даже отпевать мертвых). Это вызвало ужас в стране, ибо по воззрениям эпохи люди, лишенные благодати таинств, должны отправиться после смерти в ад. Король был вынужден принести покаяние и отменить свои постановления, а папа причислил Бекета к лику святых.
Французские короли не менее иных монархов ссорились со Святым Престолом. Французское духовенство в основном поддерживало централизаторскую политику Капетингов. Король Людовик IX, как уже говорилось, был человеком глубоко благочестивым, но, оказывая всяческие знаки уважения папе, поддерживая пап в борьбе с Фридрихом II, он мягко и вместе с тем решительно противился какому-либо вмешательству римского первосвященника в дела Франции. Людовик стремился поставить местную церковь под свое верховенство.
К концу XIII в. папство, казалось, одержало решительную победу. В столкновении двух универсальных сил верх одержала сила духовная. Была ли победа пап над светскими властями окончательной, должно было показать будущее. Но целый ряд последствий этой борьбы уже обозначился. Пока императоры гонялись за призраком всемирной монархии, Германия распадалась на отдельные княжества. В Италии борьба императоров и пап позволила окрепнуть городам-коммунам, которые отстаивали свою независимость. В самих городах шла борьба между сторонниками папской власти и приверженцами императора.
Конфликт светской и духовной властей повлиял на политическое и нравственное сознание европейцев. Обе власти, беспощадно обвиняя друг друга, вносили в мысли людей критическое к себе отношение: если короли, как утверждали сторонники папства, разбойники, если папы, как заявляли сторонники императоров, думают не о Боге, а об унижении Германии и обогащении Рима, то это в глазах людей срывало с обеих властей покрывало святости. И потом, можно было выступать против папства и не становиться еретиком, против империи и не становиться изменником. Появляются некоторые возможности политического выбора.
1. Являлся ли «Константинов дар» поддельным в глазах современников?
2. Почему произошел раскол между православной и католической церквями?
3. Почему борьба между светской и духовной властями активнее всего шла в Империи?
4. Почему руководство католической церкви боролось за безбрачие духовенства? '
5. Почему итальянские города не желали подчиняться Фридриху Барбароссе?
6*. Можно ли считать Фридриха II Штауфена неверующим?
7. Каковы главные последствия борьбы Империи и папства?
ГЛАВА 4.4. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
26 ноября 1095 г. толпа людей, числом в несколько тысяч, собралась на поле близ южнофранцузского города Клермона. Только что закончился проходивший в Клермоне церковный Собор, в котором участвовал сам папа Урбан II. Помимо участников Собора в Клермон съехалось немало мирян, рыцарей и простонародья. Все они собрались послушать речь папы. Слухи о содержании этой речи ходили самые разные, но то, что присутствовавшие услышали, потрясло их.
Пала живописал ужасное положение христиан в той части Византии, которая была захвачена «племенами турок». Турками была завоевана и Святая Земля и даже величайшая святыня христиан — Гроб Господень. Силой вырвать из рук неверных Иерусалим и «спасти братьев, проживающих на Востоке», — вот к чему призвал папа и воскликнул: «Я говорю об этом присутствующим, поручаю сообщить отсутствующим — так повелевает Христос!» Все, отправившиеся отвоевывать у мусульман Святую Землю получат отпущение грехов, а павшие в бою с неверными — вечную награду на небесах. Победа же принесет и земные блага воинам за веру: «Кто здесь горестен и беден, — так перефразировал Урбан евангельское изречение, — там будут радостны и богаты! Пусть увенчает двойная награда тех, кто не щадил себя в ущерб своей плоти и душе». Тысячегласный вопль вырвался из толпы: «Так хочет Бог! Так хочет Бог!» Люди разрывали одежды и нашивали на плащи кресты из лоскутов в знак того, что они принимают обет отправиться за море воевать Гроб Господень. Так начался первый крестовый поход.
Надо сказать, что те, кто отправлялся в крестовые походы, слова «крестовый поход» не знали — оно появилось лишь у историков конца XVII в. Современники же говорили «паломничество за море», «путь в Святую Землю», «странствование по стезе Господней». Это значило, что в сознании людей того времени даже не война за веру, но именно путь, передвижение от дома до святынь было главной целью. Представления людей Средневековья о пространстве весьма отличались от наших. Для них пространство было наполнено религиозным содержанием. Бывали места святые — например, церкви, и места проклятые, например, языческие капища. Останки святых придавали благодать местности, где эти святые были захоронены. И если центром и нравственным смыслом всемирной истории были события земной жизни Христа, от Рождества до Вознесения, то центром и нравственным смыслом всемирной географии была та земля, где Христос родился и проповедовал, где принял муки и смерть, где был похоронен и воскрес и, в первую очередь, Иерусалим, земное отражение Небесного Иерусалима, т.е. Царства Небесного. Такие представления были распространены повсеместно. Средневековое географические карты изображали Землю в виде круга и центром этого круга был именно Иерусалим. «Иерусалим — это пуп Земли», говорил в своей речи Урбан II. Палестина, по воззрениям эпохи, — Святая Земля в буквальном смысле, и тот, кто придет туда, исполнится благодати; воды реки Иордан, где Спаситель принял крещение, смывают все грехи. Так что путь от родины до Земли Обетованной есть одновременно и нравственное, духовное движение от греха к спасению. Земля, на которой почиет благодать, не может не быть благодатной в земном смысле, плодородной, даже сверхплодородной. «Реки там текут млеком и медом, это край плодороднейший в сравнении с другими, это второй рай», — настаивал Урбан II. И стремление захватить богатства этой земли было в глазах людей того времени не жадностью, а мечтой об исполнении Господнего завета: по Писанию именно эта земля была обещана Им избранному народу, каковым после Христа являются не евреи (как это было согласно Ветхому Завету), а христиане. И если ныне Святая Земля, Иерусалим, Гроб Господень находятся в руках неверных, и эти неверные самим фактом своего присутствия оскверняют святыни, то необходимо вернуть себе истинным Богом заповеданное достояние, смыть скверну своей и чужой кровью. «Становитесь на стезю Святого Гроба, исторгните землю эту у нечестивого народа, покорите себе ее», — взывал Урбан II.
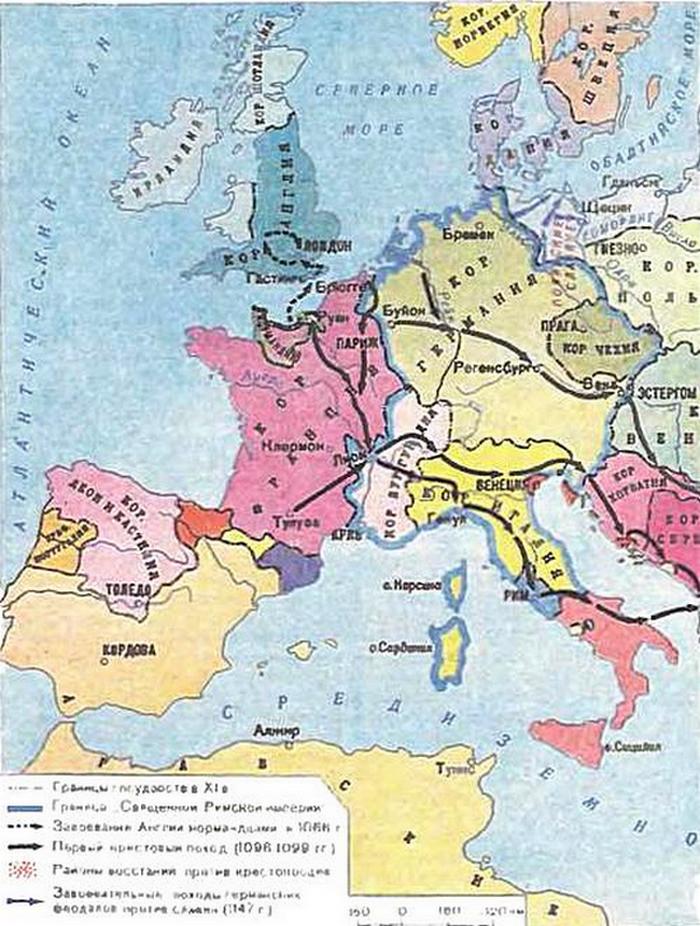

Крестовые походы
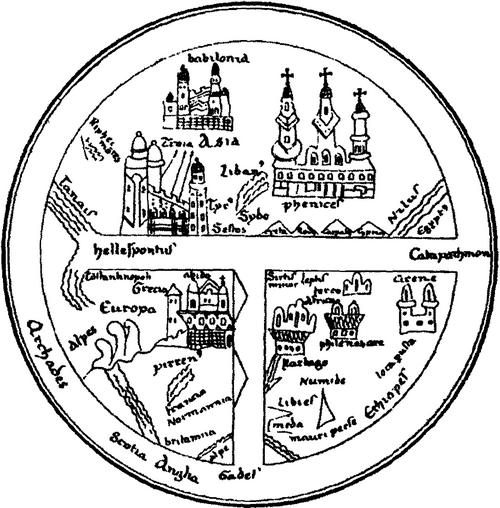
Карта мира ХIII в. В центре — Иерусалим
Во 2-й половине XI в. положение на Ближнем Востоке было сложным. Иерусалим, еще с 637 г. находившийся под властью арабов, в начале 70-х годов XI в. был завоеван пришедшими из глубин Средней Азии турками-сельджуками, которые, одновременно захватив большую часть Малой Азии, стали серьезной угрозой для самого Константинополя. Византийский император искал помощи на Западе, обещая папе даже соединение западной и восточной церквей. Положение христианских святынь в Иерусалиме и европейских паломников несколько ухудшилось под властью сельджуков, но это еще не объясняет начало крестовых походов.
Их источник был в Западной Европе. Как раз в XI в. начинает оформляться рыцарство — сословие «тех, кто воюют». Рыцари жили прежде всего войной, будь то война с соседями-христианами или война против язычников, неверных. Доходы значительной части рыцарства были невелики, а потребности и расходы — немалыми.
Среди христианских заповедей была «не убий». Клюнийская реформа изменила отношение к войне. Суть этой реформы, как мы помним, состояла в овладении миром в интересах церкви. В рыцарстве клюнийцы видели ту силу, которая должна помочь церкви устроить христианское общество. В рыцарских обычаях, в церковных обрядах, в культе святых проявляются новые черты. Священники благословляют рыцарское оружие, при церемонии посвящения в рыцари меч нового рыцаря освящается в церкви, вступающий в рыцарское сословие дает клятву защищать церковь. Некоторые святые претерпевают своеобразные трансформации: так, святой Георгий, воин-христианин, казненный в Риме, по преданию, за то, что отказывался брать в руки оружие, становится небесным покровителем рыцарства. Оживают идеи «священной войны», и папа Григорий VII впервые употребляет выражение «воинство Христово» не по отношению к монахам (как это было прежде), а к рыцарям, которые служат Святому престолу.
В марте 1096 г. в «паломничество за море» отправились крестьяне, горожане, бедные рыцари, просто всякий сброд — воры, нищие и т.п. Несколько лет неурожая в Северной Франции и Западной Германии подорвали благосостояние многих. Для иных поход был единственным выходом: папа не только заранее отпустил грехи всем крестоносцам, но и приостановил выплату ими долгов и запретил преследовать их по суду до окончания похода. Но не только жажда обогащения или хотя бы возможность вырваться из нищеты влекли этих людей. Среди толп, вооруженных косами, топорами, просто дубинами, толп, немалую часть которых составляли женщины и дети, царил религиозный подъем. Божья благодать и жажда земных благ, стремление уйти от господ и ожидание чуда сливались воедино. Этих людей вела вера, но не вера богословов, а вера простых людей, которую историки называют «народным христианством».
Один крупный отряд из Северной Франции вели безземельный рыцарь Готье Голяк и монах-проповедник Петр Пустынник. Петр, блестящий оратор и суровый аскет, ходил, одетый в лохмотья, и не ел ни хлеба, ни мяса, питаясь одной рыбой; он показывал всем якобы полученное во время паломничества в Святую Землю непосредственно от Бога письмо, в котором Вседержитель требовал освободить Иерусалим. Впереди некоторых отрядов шли гусь или коза, ибо считалось, что Господь проявляет свою волю через неразумных животных и приведет верующих туда, куда им надо. Подходя к каждому городу, паломники спрашивали: «Не Иерусалим ли это?» Дело не только в том, что они не имели ни малейшего представлена ни о пути, ни даже о положении места своих устремлений, но и в том, что Всевышний мог, по их мнению, сократить им дорогу и немедленно доставить в Иерусалим.
Путь бедноты отмечен грабежами и еврейскими погромами во всех селах и городах, через которые они проходили. Они считали, что все Божье и принадлежит Божьим воинам — потому-то они и могут брать себе все потребное. Что же касается убийств евреев, то чтобы осмыслить корни ненависти к иудеям (именно так, гнев, злобу вызывали иноверцы, а не инородцы, это была религиозная, а не национальная вражда), то следует обратиться к средневековым представлениям о времени. Для нас прошлое — это прошедшее, но не так для массового сознания Средних веков. Священная история — не только прошлое, но и настоящее. Христос не только родился в Вифлееме, но и рождается каждый год на Рождество в каждой церкви, не только умер и воскрес, но и умирает и воскресает каждую Пасху. Эти праздники — не воспоминания о событиях, но повторение их здесь и сейчас. Так верили массы, невзирая на протесты богословов. Потому иудеи из еврейского квартала ближайшего города были в их глазах именно теми самыми иудеями, которые послали Христа на смерть и которым за это надо было отомстить.
Когда ополчение подошло к Константинополю, из более чем 50 тысяч двинувшихся в путь, столицы Византии достигли около 25 тысяч. Остальные погибли в пути от голода, холода, от болезней, от рук разбойников и местного населения, не желавшего отдавать паломникам свое добро. Византийский император Алексей I предложил крестьянскому войску дождаться подхода основных сил, состоявших из куда лучше вооруженных рыцарей. Но беднота, избрав своим предводителем Петра Пустынника, двинулась в Землю Обетованную. Они переправились в Малую Азию, и близ г. Никея сельджуки 21 октября 1096 г. перебили почти всех ратников Божьих. Только 3 тысячи из них спаслись бегством в Константинополь.
Историки обычно считают начало Первого крестового похода с отправления в путь рыцарского войска. Самый большой отряд вел герцог Лотарингии Готфрид Бульонский (Бульон — название родового замка герцога), в него входили бароны и герцоги Лотарингии, Нидерландов и Нижнерейнских земель. Готфрид был человеком благочестивым, рассудительным, но лишенным политических и военных талантов. Из Южной Франции людей вел граф Тулузский Раймунд, опытный военачальник, глубоко преданный церкви и славившийся своей честностью. Из норманнских владений в Южной Италии двигался морским путем до Константинополя со своим войском Боэмунд, князь Тарентский, хитрый политик, талантливый полководец, человек весьма здравомыслящий, но довольно беззастенчивый в выборе средств для достижения своих целей. Кроме этих главных вождей крестоносного ополчения среди войска было немало знатных сеньоров со всей Европы. 6 декабря 1096 г. крестоносное войско прибыло в Константинополь.
Уже в Константинополе религиозные замыслы крестоносцев стали переплетаться с политическими. Император Алексей I добился от руководителей крестоносцев вассальной присяги за те земли, которые они завоюют и даже передачи некоторых из них Византии. Византийцы считали западных рыцарей — их всех именовали «франками» или «латинянами» — грубыми, наглыми, невоспитанными и необразованными людьми, а люди Запада видели в греках лукавых, вероломных рабов. Характерен эпизод, произошедший на церемонии принесения крестоносцами клятвы верности императору. В отличие от французского короля, который считался «первым среди равных», в византийском императоре, как мы знаем, его подданные видели своего неограниченного господина, священную особу. Эти представления поддерживались весьма сложными пышными церемониями. При появлении василевса следовало пасть ниц, в его присутствии нельзя было сидеть. Латиняне не только отказались исполнять унизительные процедуры, но и один из них, граф Роберт Парижский, на глазах у всех уселся на императорский трон. Когда его попросили встать, сказав, что «не в обычае у василевсов, чтобы подданные сидели рядом с ним», то Роберт ответил: «Что за деревенщина! Сидит один, когда вокруг него столько славных воинов». Зерна неприязни между Востоком и Западом начали прорастать во время Первого крестового похода.
Весной 1097 г. крестоносцы переправились в Малую Азию. Вскоре была взята Никея. Летом 1097 г. начался долгий и изнурительный поход через Сирию и Палестину. Воины Христовы страдали от жары, голода и жажды, от нападений легкой кавалерии турок и арабов. В октябре 1097 г. главные силы крестоносцев осадили крупный город Сирии — Антиохию. В то же время младший брат Готфрида Бульонского Бодуэн Булонский (он владел городом Булонь) сумел захватить город Эдессу и основал первое государство крестоносцев — графство Эдесское.
В лагере же основных сил начались споры, кому владеть Антиохией. Претендентами выступили Боэмунд Таретский и Раймунд Тулузский. Наконец, город был взят, разграблен, значительная часть населения перебита. Но, захватив город, осаждающие сами оказались осажденными подоспевшим турецким войском. Положение стало отчаянным. И вот некий бедняк, видимо крестьянин (некоторые источники называют его монахом), Пьер Бартелеми пришел к Раймунду Тулузскому и сказал, что ему не раз являлся во сне апостол Андрей и утверждал, что в антиохийской церкви святого Петра зарыта величайшая реликвия: копье, которым пронзили распятого Иисуса; если воины Христовы найдут это копье, то они спасутся от врагов. И вправду из-под плит этой церкви был извлечен кусочек ржавого металла, похожий на наконечник копья. Воодушевление охватило крестоносцев и 28 июня 1098 г. они схватились с осаждающими, причем в рядах сражавшихся стоял священник, державший Копье Господне, дабы вид его воодушевлял бойцов. Турки были отброшены.
Но не все крестоносцы верили в подлинность реликвии. Сторонники Раймунда Тулузского настаивали на подлинности, сторонники Боэмунда Тарентского подвергали это сомнению и даже упрекали противников в подлоге. Боэмунд заявлял: «Пусть толозанцы (т.е. жители Тулузского графства) приписывают своему куску железа нашу победу. Пусть жадный граф приписывает ее своему копью, пусть поступает так и глупый народ. Мы же победили и будем побеждать впредь именем Господа Бога Иисуса Христа».
Споры о Святом Копье обострили разногласия между вождями крестоносцев, которые никак не могли договориться о владычестве над Антиохией. Но в споры вождей вмешалась масса воинов Христовых, обвинявших руководителей в том, что в погоне за добычей они забыли о цели — освобождении Святого Гроба. Рядовые крестоносцы пригрозили разрушить Антиохию до основания, дабы она не служила яблоком раздора, избрать новых вождей и двинуться на Иерусалим. Предводители согласились отдать город Боэмунду и продолжить поход.
В июне 1099 г. крестоносцы подступили к Иерусалиму. После короткой и яростной осады Иерусалим пал. Начались избиения и грабежи. Крестоносцы убивали без разбора мужчин и женщин, стариков и младенцев. Любой из франков, первым ворвавшийся в дом, становился его собственником. Жестокость и жадность соседствовали с искренней верой. Забрызганные кровью воители Христовы с непокрытыми головами, босиком, ибо по Писанию, нельзя стоять в обуви на Священной Земле, отправились ко Гробу Господню и там истово молились и плакали от радости.
Взятием Иерусалима цель похода была достигнута. Город передавался под управление Патриарха Иерусалимского, а светская власть над всеми завоеванными землями вручалась Готфриду Бульонскому. Крестоносцы перенесли в новообразованное государство (Иерусалимское королевство) феодальные порядки, бытовавшие на родине большинства из них — Северной Франции. Основное население королевства составляли местные уроженцы: арабы, греки, армяне, сирийцы. Они облагались оброком от 1/3 до 1/2 урожая, в ряде мест существовала и барщина. В городах немалую роль играли выходцы из Генуи и Венеции. Они пользовались значительными привилегиями, ибо от флотов этих государств зависело снабжение Иерусалима и подвоз подкреплений. Господствующее положение занимали выходцы из Европы. Бароны и рыцари несли за свои феоды военную службу сеньорам. Крупные феодалы входили в Высокую палату, заседавшую в Иерусалиме. Она избирала монарха, давала согласие на издание королем законов. Власть монарха над вассалами в военное время была крепче, чем на их родине. Значительная часть крестоносцев, исполнив благочестивый обет, стремилась вернуться на родину вместе с добычей, а не оставаться на Святой Земле, которая, как оказалось, не истекала млеком и медом. Постоянной военной организацией, защищавшей Святую Землю от мусульман, стали духовно-рыцарские ордена.
В начале XII в. была предпринята попытка совместить два идеала — рыцарский и монашеский. Возникли так называемые духовно-рыцарские ордена, члены которых помимо обычных монашеских обетов — бедности, безбрачия и послушания — давали еще и обет борьбы с неверными. Это были рыцари, жившие по монашеским правилам. Полноправными членами орденов были только представители знати. Самым влиятельным стал орден тамплиеров (от французского temple — «храм»), или храмовников. Его члены носили белые плащи с красным крестом. Во главе ордена стоял великий магистр, пользовавшийся огромной властью внутри ордена. Орден подчинялся непосредственно папе; в течение ХII в. он распространился по всей Европе, но резиденция оставалась в Палестине. Орден получил значительные привилегии, был независим от местных духовных и светских властей и превратился в весьма богатую организацию. Немалое влияние имели и другие ордена. Среди них выделялись: орден иоаннитов, или госпитальеров, возникший из отрядов рыцарей, охранявших госпиталь святого Иоанна в Иерусалиме, предназначенный для больных паломников (орденская одежда — черный плащ с белым крестом с раздвоенными окончаниями, позднее — красный плащ с таким же крестом), и Тевтонский орден, в который принимались только немцы (форма — белый плащ с черным крестом). Последний орден в ХIII в. был вытеснен из Палестины тамплиерами и иоаннитами и утвердился на берегах Балтийского моря. Духовно-рыцарские ордена представляли собой постоянную военную силу в Святой Земле.
Иерусалимское королевство превратилось из мечты в феодальное государство, раздираемое интригами и междоусобицами и находящееся во враждебном окружении. В 1144 г. мусульманами была взята Эдесса. Опасения за судьбу христианских владений в Палестине привели к пропаганде Второго крестового похода. Он состоялся в 1147—1148 гг., оказался безуспешным, и войско крестоносцев после ряда военных неудач вернулось на родину.
Тем временем молодой курд Юсуф ибн Айюб захватил власть в Египте и принял титул султана и тронное имя ал-Малик ан-Насир Салах-ад-Дин, т.е. Победоносный царь, Защитник Веры; европейцы переделали его имя в Саладин. Расширив свои владения до Сирии и Палестины, этот дальновидный политик и талантливый полководец начал планомерное наступление на Иерусалимское королевство. Войско крестоносцев было им разбито, и в 1187 г. Саладин вступил в Иерусалим.
Европа была в шоке. Папа объявил крестовый поход и потребовал прекращения всех войн между христианами. Во главе Третьего крестового похода (1189—1192) стояли вечные враги: французский король Филипп II Август и английский король Ричард Львиное Сердце. Короли беспрерывно ссорились между собой. Филипп принял крест, лишь повинуясь требованиям папы, и думал о своем королевстве больше, чем о Святой Земле, Ричард мечтал о славе больше, нежели о Гробе Господнем. Добиться возвращения Иерусалима крестоносцам не удалось, и поход окончился безрезультатно.
Лишь Ричард Львиное Сердце надолго оставил о себе память в арабских землях. Арабы звали его Малик Рид, т.е. Царь Ричард, и до XIX в. арабские матери так стращали своих расплакавшихся детей: «Молчи, а то Малик Рид заберет тебя».
Неудача Третьего крестового похода побудила папу Иннокентия III начать подготовку нового похода. Для его снаряжения требовались большие средства и флот, который был у Венецианской республики. ДОЖ (глава государства) Энрико Дандоло, девяносточетырехлетний слепой старик, обладавший тем не менее редкой ясностью ума, решил использовать крестоносцев в своих собственных целях: Венецианская республика держала в своих руках значительную часть торговли с Востоком. Главным ее конкурентом была Византия. Против нее венецианцы и замыслили удар. Предлогом для нападения на Константинополь послужила борьба за византийский престол, и крестоносцы явились в столицу Византии для того, чтобы восстановить на троне императора, которого они считали законным. 13 апреля 1204 г. Константинополь был захвачен крестоносным войском. Часть населения погибла, православные храмы были разорены, множество памятников античного искусства разрушено.
Крестоносцам досталась неслыханная добыча. После взятия Константинополя возникло еще одно крестоносное государство — так называемая Латинская империя (название дано позднейшими историками, сами крестоносцы именовали свое государство Римской империей). Часть захваченных земель отошла к Венеции. Власть православного императора сохранилась в Малой Азии (Никейская империя, названная так поздними историками по имени временной столицы). Византийцы, поддержанные турками и главной торговой соперницей Венеции, Генуей, отвоевывали у Латинской империи территорию за территорией, пока, наконец, в 1261 г. вновь не овладели Константинополем. Латинская империя пала, но и возрожденная Византия никогда уже не оправилась от такого потрясения.
Неудачи крестоносцев в борьбе за Гроб Господень вызвали своеобразную реакцию в массах. Весной и в начале лета 1212 г. в разных частях Европы стали собираться толпы детей, заявлявших, что они идут на Иерусалим. В Германии этих детей возглавлял 10-летний Никлас, в Северной Франции — 12-летний пастушок Этьен. Эти вожди детей объявляли себя Божьими посланцами и говорили, что Бог посрамил сильных мира сего, не даровав им победы за их грехи, но освободит Гроб Господень руками малых, слабых и безгрешных. Дети, сопровождаемые иногда родителями, иногда монахами, иногда всяким сбродом, стекались в Геную и в Марсель. Церковь и светские власти относились к этому движению с подозрением и всячески препятствовали ему. Судьба юных крестоносцев не вполне ясна. Часть их разошлась, часть умерла в пути от голода и болезней. По некоторым сведениям, еще часть достигла Марселя, где ловкие купцы, пообещав переправить детей в Палестину, продали их затем на невольничьих рынках Египта.
Четвертый крестовый поход, превратившийся из «пути ко Гробу Господню» в венецианское коммерческое предприятие, приведшее к разграблению Константинополя латинянами, обозначил глубокий кризис крестоносного движения. Крестовые походы вызывали все меньше энтузиазма и собирали все меньше людей. Историки насчитывают 8 крестовых походов, последний из которых состоялся в 1270 г. За исключением Шестого похода (1228—1229), все они были безуспешны. Но и Шестой крестовый поход обернулся политическим скандалом. Его возглавил император Фридрих II Гогенштауфен, находившийся под церковным отлучением. Он заключил союз с египетским султаном и получил Иерусалим без единого сражения. Несмотря на это, папа подтвердил отлучение и даже наложил интердикт на те места, где пребывал император. Возвращение Иерусалима христианам сопровождалось запрещением богослужения в нем. Папа показал, что борьбу с императором он предпочитает освобождению Святой Земли. В 1244 г. Иерусалим снова был утерян христианами и уже навсегда. А в 1291 г. пала крепость-город Акра, последний оплот крестоносцев на Святой Земле.
Историки спорят о том, что дали крестовые походы. Одни говорят, что Европа благодаря им познакомилась с древнегреческими авторами, чьи труды были известны только в арабских переводах, что европейцы заимствовали многие технические достижения, даже правила гигиены. Другие отмечают, что все это было бы достигнуто в процессе торговли или благодаря мирным контактам с арабами Испании или Сицилии, и единственным приобретением в результате крестовых походов оказалось привезенное с Востока растение — абрикос.
Оказавшись на Востоке, западные европейцы вступили в тесный контакт с иной цивилизацией, во многом отличавшейся от западноевропейской. Несмотря на ожесточенные войны и религиозные конфликты, европейцы научились видеть в мусульманах не только врагов. Мусульманин Саладин поразил воображение европейцев и надолго остался в их памяти как идеальный рыцарь и мудрый правитель. Эта возможность признания за чужим, иноверцем, благородства и добродетели — один из итогов крестовых походов. И вместе с тем крестовые походы показали, что вера в Бога и религиозное рвение европейцев сочетались с предельной жестокостью и агрессивностью.
1. Что побуждало христиан идти в Святую Землю?
2. Почему во время крестовых походов по всей Европе вспыхивали еврейские погромы?
3. Что возмущало крестоносцев в Византии?
4. В чем была слабость Иерусалимского королевства?
5. Почему крестоносцы во время Четвертого похода смогли изменить направление и завоевать Константинополь?
6. Почему крестоносное движение быстро выдохлось?
7. Почему церковь и светские власти отрицательно отнеслись к крестовому походу детей?
ГЛАВА 4.5. ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Представим себе, что мы в Германии или Франции XIII в. Это страна, подобно другим странам Западной Европы того времени, населенная главным образом крестьянами. Но вместе с тем в ней уже довольно много городов. По теперешним нашим меркам эти города невелики. Однако их уже столько, что путь из деревни до ближайшего города подчас можно было одолеть пешком или проехать на повозке за один день.
Войдем в город. Он ютится у стен крепости — господского замка. За его стенами жители окружающей местности искали укрытия и защиты от нападений недругов — воинственных соседей, чужеземных завоевателей или всякого рода лихих людей, готовых ограбить и горожанина, и крестьянина. Когда город, дома которого лепились под стенами замка, разрастался, строили новую стену, окружавшую поселение. Поэтому признаком города, который бросился бы нам в глаза, была теснота: все строения нужно было вместить в стенах наружного укрепления. Улицы были очень узкие, дома вплотную примыкали один к другому, и когда возникала потребность увеличить размеры дома, то он рос не вширь, а вверх. Нередко второй или третий этаж дома нависал над нижним. Улица делалась темной.
Если в одном доме вспыхивал пожар, он быстро распространялся на соседние дома, и довольно часто выгорали дотла целые кварталы или город целиком. Ведь дома, за исключением немногих каменных строений, были деревянными. Трудно найти такой город в средневековой Европе, в истории которого не было бы большого пожара или серии пожаров, после которых приходилось отстраивать город заново.
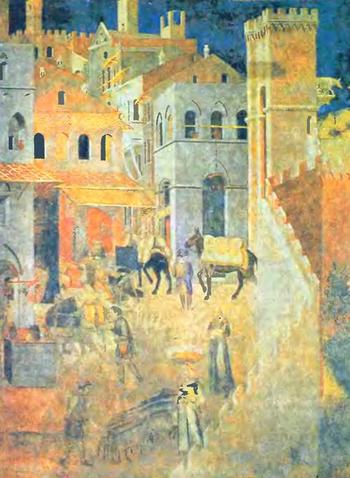
Итальянский город, фреска начала XIV в. В нижней части рисунка — пастух выгоняет стадо.
В городе было не только тесно. Хозяйки выливали помои прямо на улицу, так что по городу нелегко было пройти и проехать. В уличной грязи возились свиньи и домашняя птица, здесь же играли дети. Поэтому другой бедой города было то, что он представлял собой рассадник болезней. Грязь, скученность, примитивность медицины — все приводило к тому, что в городах нередко вспыхивали эпидемии заразных болезней, от которых многие умирали.
Если население города тем не менее росло, то главным образом благодаря притоку в него выходцев из сельской местности. Многие крестьяне убегали от своих господ: они искали свободы, а, по распространенному тогда выражению, «городской воздух делает свободным». И верно, города в то время освободились от строгого контроля феодалов, имели собственное управление. Крестьянин, который ушел из деревни и прожил в городе один год и один день, приобретал свободу, и прежний сеньор уже не мог получить его обратно.
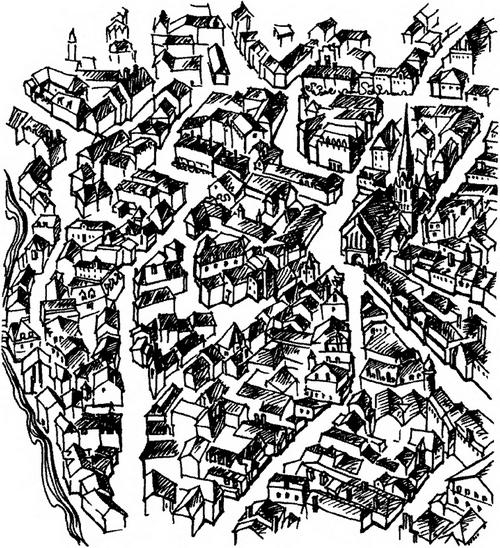
Французский город, сохраняющий средневековую планировку.
Город не полностью оторвался от деревни: часть его жителей имела участки земли в окружавших его полях, которые они возделывали; по утрам городской пастух выгонял за городские стены скот. В городе жила часть господ, здесь размещались епископ, возглавлявший духовенство этой области, и многие священнослужители. Нередко в городе находился представитель князя, государя, который управлял этой местностью.
Основную часть городского населения составляли БЮРГЕРЫ (от немецкого «бург» — крепость). Они занимались торговлей и ремеслом. Одни торговали по мелочам тем, что было нужно жителям города и окружающих деревень. А те, кто побогаче, занимались торговлей с другими областями и странами, где закупали и продавали большие партии товара. Для таких торговых операций были надобны немалые средства, и среди этих купцов главную роль играли состоятельные люди. Это им принадлежали лучшие здания в городе, нередко каменные, где располагались и их склады для товара. Богачи пользовались большим влиянием в городском совете, который управлял городом. Вместе с рыцарями и знатными людьми, часть которых селилась в городе, богачи образовывали ПАТРИЦИАТ — этим древнеримским термином обозначалась городская правящая верхушка.
Для ведения крупных торговых операций нужны были не только большие капиталы, но и изрядная смелость. Ведь дальние поездки были небезопасны. На пути купцов могли подстерегать разбойники, на их товары и деньги были готовы наложить свою тяжелую руку господа, владения которых проезжали торговые караваны. Нередко пошлина за проезд через те или иные владения превышала половину цены товара. Купцы объединялись в торговые ГИЛЬДИИ (это слово означало «пир», потому что члены купеческого объединения время от времени устраивали собрания с выпивкой).
В городе изготовляли ткани и одежду, тачали сапоги, производили орудия труда и оружие. Ремесленник работал у себя дома, где на первом этаже находилась его мастерская или лавка. Обычно у него был помощник — подмастерье. В части городов мастера одной профессии селились по соседству, так что были кварталы бочаров, кузнецов, оружейников и т.д. Но мастера, занятые одной профессией, были не только соседями, — они могли объединяться в ремесленный союз — ЦЕХ. «Цехе» по-немецки значит «пирушка», «попойка». Действительно, по праздникам ремесленники собирались на пир. Они оказывали друг другу помощь в случае нужды, а в городском соборе у мастеров каждой специальности было свое место, и в торжественных процессиях на праздники они шествовали под собственными знаменами.
Но, конечно, цех создавался не только ради совместных сборищ. Мастера объединялись и для того, чтобы защитить свое ремесло. Они вырабатывали устав цеха, воспрещавший заниматься их ремеслом кому-либо из жителей города помимо членов цеха. Устав определял, сколько дней в неделю и сколько часов в течение дня могли работать ремесленники, какого качества продукцию они должны были изготовлять. Даже сделать больше, чем разрешал цех, или заплатить подмастерью больше было нельзя. Короче говоря, объединяясь в цех, мастера преследовали цель; поставить всех его «братьев» (как они себя именовали) в одинаковые условия и не допустить соперничества тех ремесленников, которые не были приняты в члены цеха.

Экономическое развитие Европы XII—XV вв.
Для того, чтобы подмастерье был допущен в число полноправных мастеров, ему было необходимо овладеть всеми навыками и секретами производства и пройти своего рода экзамен, изготовить ШЕДЕВР — «образцовое изделие». Подмастерье долго и тщательно трудился над своим шедевром, а по завершении работы представлял его на суд мастеров цеха и его старшин. Если изделие нравилось, подмастерье принимали в состав цеха, и устраивали пир. Мастера заботились о том, чтобы их продукция была высокого качества. Качество изделий, а не их количество, — вот что было для них особенно важно.
Устав цеха определял весь образ жизни мастеров вплоть до мелочей. Между цехами не было равенства, и, например, золотых дел мастера выделялись среди других своими богатствами и высоким положением в городе.
Любопытно, что объединения купцов и ремесленников получили наименование от пиров и собраний и что их участники называли друг друга «братьями»: человек в ту эпоху испытывал настоятельную потребность объединиться с равными себе.
Но между ремесленниками-бюргерами и купцами-патрициями нередко развертывалась борьба за влияние и власть. Эта борьба приводила к вооруженным стычкам и восстаниям. В этих мятежах принимали участие и бедняки, не входившие в цехи, и всякий преступный сброд, какого было полным-полно в городе. Не случайно путник, подъезжавший к городу, видел виселицу с трупом преступника, осужденного городским судом.
Купцы нередко занимались и ростовщичеством: они давали взаймы деньги и взимали с должников большие проценты. Небогатые горожане и крестьяне попадали в денежную кабалу от них, многие разорялись, не имея чем с ними расплатиться, и поэтому зависть к денежным людям и ненависть к ним были всеобщими. Ремесленник, как и крестьянин, собственным трудом зарабатывал свое пропитание, и если купец продавал товар дороже, чем сам его приобрел, то это считалось честным заработком, поскольку он нес расходы и подвергался риску. Но ростовщик лишь ссужал деньги и требовал вернуть ему большую сумму, нежели та, какую он ссудил, но ничего при этом не производил. В то время говорили, что «волы ростовщика (т.е. его деньги) пашут даже тогда, когда он спит».
Без ростовщиков было невозможно обойтись, деньги нужны были всем. Но ростовщичество осуждалось. Церковь сулила ростовщикам за их грех стяжательства вечные муки в аду. Страшась церковного проклятья, денежные люди прибегали ко всяческим уловкам. Например, в долговом обязательстве записывали не ту сумму денег, которую на самом деле ростовщик дал взаймы, а сумму, включавшую и проценты; выглядело это обязательство так, будто вернуть нужно было ровно столько, сколько ростовщик ссудил. Но он не мог не понимать, что таким способом можно обмануть людей, но не всеведущего Бога. Поэтому нередки были случаи, когда разбогатевшие на денежных операциях люди перед смертью составляли завещания, в которых приказывали своим наследникам возвратить должникам все, что они с них взыскали в виде процентов. В душе средневекового финансиста алчность боролась со страхом пред загробными муками. Как видим, город представлял собой противоположность деревне и по хозяйственному укладу, и по своей правовой политической организации, и пестротой населения.
Но войдем, наконец, в городские ворота (на ночь их запирали, чтобы недобрый люд не проник в город) и пройдем по узким улицам, где не выветривался тяжелый дух, на центральную площадь. Это рынок, на который свозили продукты жители окружающих деревень, выставляли товары заморские купцы и приносили свои изделия местные ремесленники. В базарные дни здесь всегда людно и шумно, горожане приходят сюда не только с тем, чтобы что-то продать или купить, но и для того, чтобы повидать знакомых и послушать пришельцев из других мест и узнать новости. Глашатаи выкрикивали новые повеления государя. Здесь же выставляли к позорному столбу осужденных преступников. В праздничные дни на рыночной площади веселился народ.
Ремесленники и купцы нуждались в свободе для того, чтобы развивать производство и торговлю, не подвергаясь стеснениям со стороны сеньора. Горожане боролись с сеньорами городов, которыми были короли, местные князья и, чаще всего, епископы, не только за личную свободу, но и за право самоуправления. С этой целью они объединялись в союзы — коммуны. Путем восстаний, пожалований от королей, которые стремились ослабить князей и епископов, иногда с помощью денежного выкупа коммуны добивались официального признания, и города получали право самоуправления, как это тогда называлось — коммунальные вольности: право иметь собственные выборные власти, суды, полицию, ополчение, устанавливать местные налоги, право коммунальных властей располагать городской казной, издавать местные законы и т.п. Такой самоуправляющийся город стали называть принятым для союза горожан словом «коммуна».
Не все средневековые города имели права коммун; в некоторых горожане пользовались только личной свободой, а власти назначались сеньором. Иные коммуны были коллективными вассалами королей и обязывались оказывать государю денежную и даже военную помощь, поставляя отряды пехоты. Другие — особенно в Италии — становились независимыми государствами и даже как бы коллективными господами по отношению к сельской округе и близлежащим городам — так создавалась, например, Венецианская республика.
Достижение свободы не означало, однако, установления равенства в самой коммуне. Первоначально власть в освобождавшихся от зависимости городах принадлежала лишь нескольким семьям из самых богатых, из патрициата. Только патриции имели наследственное право заседать в городском совете и избираться на высшие должности. Во многих городах власть так и осталась в руках патрициата на протяжении всего Средневековья. В других — политических прав добивались ремесленники, и городское управление составлялось из выборных представителей цехов: так было во Флоренции. Полного равенства всех горожан во времена Средневековья не было достигнуто нигде. Далеко не все население являлось полноправными бюргерами: наемные рабочие, слуги, женщины, неимущие, кое-где духовенство не пользовались правами граждан, но — даже последние нищие — оставались свободными людьми.
Политическая жизнь города никак не была спокойной. Борьба, нередко с кровавым исходом, между городом и его сеньором, между различными патрицианскими семьями, между разными цехами сотрясала коммуны. Но в этой борьбе горожане были не пассивными наблюдателями либо страдающей стороной, как крестьяне при феодальных распрях, а активными участниками.
1. Каков был состав населения средневекового города?
2. Что побуждало купцов и ремесленников объединяться в цехи и гильдии?
3. «Городской воздух делает свободным». Почему жители средневекового города дорожили личной свободой больше, чем крестьяне?
ГЛАВА 4.6. СОБОР И ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД. ПРОПОВЕДНИКИ И СВЯТЫЕ
Главное украшение города, расположенное па площади, — собор. Он был предметом гордости горожан. Когда путник приближался к городу, то первое, что он видел издалека, была высокая башня собора. Вслед за ней возникали перед ним шпили других церквей, а потом уже вырисовывались контуры городских стен и остроконечные кровли жилых домов.
Собор сооружали на собранные верующими средства, строили любовно и старательно, — ведь его возводили на века. При средневековой технике строительство огромного сооружения растягивалось на десятилетия и поколения. Приглашали артель архитекторов, каменщиков, резчиков и скульпторов, и сами жители города нередко подвозили на место строительства камни и другие материалы, распевая гимны во славу Господа. Они верили, что их участие в возведении храма зачтется им как заслуга перед Богом, искупающая их грехи.
Собор — это одновременно и храм Божий, где верующий как бы ощущает Его присутствие, где вся обстановка и убранство располагали к молитвам, и свидетельство благочестия горожан, независимости и процветания их города. Собор был местом их встречи друг с другом. В нем можно было найти убежище от напавших на город врагов, потому что в Средние века верили: никто из христиан не осмелится пролить кровь в Божьем храме. Но далеко не всегда эти надежды оправдывались.
Собор украшали скульптурами — высеченными из камня фигурами и сценами из Священного Писания, статуями Христа, Богоматери, библейских пророков и царей, святых. Входя в храм, верующий воочию видел то, о чем толковал ему священник. Большинство горожан было неграмотно, но они могли усвоить основы христианской веры, созерцая эту «Библию в камне» (или «Библию для неграмотных»).
Бурное строительство церквей начинается около 1000 г., когда, по выражению хрониста того времени, Франция «оделась в белое одеяние церквей». Но одновременно подобное строительство развернулось и в других странах. Его сделали возможным хозяйственный подъем и рост численности населения.
В X—XII вв. соборы сохраняли некоторые черты римских церквей. Это были здания с массивными сводами и колоннами. Этот архитектурный стиль так и был впоследствии назван — РОМАНСКИЙ. Скульптурные изображения Бога или человека представляли собой угловатые, нередко изломанные фигуры. Скульпторы стремились создать изображения, в которых было воплощено религиозное настроение, устремление человека к Богу. Это были не фигуры людей, какими их видели в обыденной жизни, а символы святости. Романское искусство выражало настроения монахов, которые удалились от мира и наедине беседовали с Богом. Внешний мир их не занимал, и в храме романского стиля ничто о нем не напоминало.

Романский стиль. Церковь Святой Веры в Конке (Франция). 1041—1130 гг.
Иначе выглядит собор конца XIII—XIII вв. (подобным же образом строили и в XIV и XV вв.). Сложился новый архитектурный стиль, поскольку такие соборы строили главным образом во Франции, а также в Германии, Англии, других странах севернее Альп, то итальянцы более позднего времени стали называть этот стиль ГОТИЧЕСКИМ (по имени германского племени готов).
Готика — стиль церковной архитектуры, который утвердился в свободных городах. В соборах и церквах стали преобладать вертикальные линии, все сооружение как бы устремлено к небесам — и легкие, ажурные колонны, и стрельчатые своды, и высокие остроконечные башни. Громада собора кажется легкой. Главная башня нередко окружена башенками меньшего размера, создается впечатление, будто камень невесом и собор парит в небе. Стены собора не представляют собой ровной поверхности, — они изрезаны высокими узкими окнами и изломаны выступами и нишами — углублениями, в которых установлены статуи. Окна украшены ВИТРАЖАМИ — разноцветными стеклами, которые образовывали многокрасочные изображения сцен из Священного Писания, различных ремесел либо символов времен года. Витражи ярко светятся, пропуская в сумрачное пространство собора солнечные лучи. В определенных частях собора огромные окна с витражами имеют форму круга, — это «РОЗА», одно из главных его украшений.
Готический собор кажется целой Вселенной. Он так и был задуман своими создателями — как образ гармоничного Божьего мира. Человек кажется маленьким по сравнению с огромными пропорциями храма, но храм не подавляет его. Достигается это тем, что искусство архитектора, скульпторов и каменщиков как бы лишило его тяжести и материальности.

Готический стиль. Собор в Солсбери (Англия). 1220—1270 гг.
Как уже говорилось выше, представления людей Средневековья о пространстве и времени весьма отличались от нынешних. Страны света были не просто географическими направлениями, но наполнялись нравственным и религиозным содержанием. Восток был страной жизни, страной спасения; Запад — местом смерти. Собор, по представлениям той эпохи, есть не просто здание, но модель мира в целом. Поэтому в восточной части собора помещается алтарь, у которого справляет службу священник, совершая то, что необходимо для спасения души. В противоположной, западной части собора расположен вход, а поскольку Запад связан с мыслью о конце мира, над входом помещается скульптурное изображение Страшного суда: Христа в роли высшего Судии, архангела, который взвешивает души только что воскресших людей. В нижней части этого изображения видно, как они выходят из могил. И тут же суетятся страховидные черти, которые тащат в ад души осужденных.
Собор украшен и внутри. На капителях, увенчивающих колонны, изображены сцены самого разного содержания. Здесь и бесы, которые терзают и пожирают грешника, и обезьяны, углубившиеся в шахматную игру, и диковинные существа, играющие на музыкальных инструментах, и занятые трудом люди, и переплетения листьев и цветов, вырезанные из камня. Стулья, на которые во время церковной службы усаживались знатные граждане города (а у каждого из них было свое постоянное место), тоже украшены резьбой. Все радует глаз и настраивает верующего на торжественный лад.
Но откуда взялись в храме все эти фантастические мотивы? — Оттуда же, откуда пришли они и на страницы средневековых рукописных книг, украшенных МИНИАТЮРАМИ — небольшими цветными рисунками, которые старательно выполнены художниками в монастырских СКРИПТОРИЯХ — мастерских, где переписывали книги. Эти мотивы по большей части возникли в народной фантазии.
В соборе высятся статуи святых, которым поклоняются верующие, но вместе с тем установлены и статуи людей, которые пожертвовали богатства для сооружения и украшения собора. В готических храмах эти изображения уже передают человеческие чувства и настроения.

Внутренний вид церкви Сен-Серен в Тулузе (Франция). 1075—1250 гг. В глубине церкви — алтарь.

Страшный суд. Западный портал собора Сен-Лазар в Отёне (Франция). 1130—1145 гг.

Обезьяны, играющие в шахматы. Капитель собора. 1320 г.
Все верующие должны были приходить на церковную службу и участвовать в молитве, а те, кто уклонялся от посещения церкви, казались подозрительными в глазах священника и соседей и могли быть обвинены в неверии или в ереси. Жители деревни или городского квартала объединялись в церковный ПРИХОД — общину верующих. На собираемую с них ДЕСЯТИНУ — церковную подать (десятую часть их доходов) жил приходский священник. На протяжении всей жизни человек был тесно связан со своим приходом. Считалось, что на кладбище прихода он и должен был найти вечный покой, и нередко тела людей, которые умерли вдали от родных мест, доставляли домой, — они и мертвые принадлежали к своему приходу.
К своему приходскому священнику верующий должен был являться на ИСПОВЕДЬ: рассказывать ему о своих грехах и молить Бога о прощении. Исповедь побуждала верующего вдуматься в свое поведение, отличать добрые дела и намерения от дурных. Выслушав исповедь, священник давал прихожанину или прихожанке ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ, т.е. от имени Бога прощал им их прегрешения.
В центральной части храма высится кафедра. Отсюда епископ или священник читает прихожанам поучение — проповедь, излагает им слово Божье и объясняет, как должен вести себя христианин для того, чтобы спасти свою душу.
Но не всегда проповедь была убедительна, и скучного священника прихожане слушали невнимательно: одни болтали между собой, другие дремали, утомленные монотонной речью священника; его могли прервать возгласом: «Святой отец, не затягивай проповедь, — нам пора доить коров». Проповедник должен был быть умелым оратором и оживлять свои поучения наглядными примерами, рассказами о чудесных происшествиях. Тогда его слушали с интересом.
В XIII в. проповедь приобрела особое значение. Чем это объясняется? Дело в том, что в это время появляется новый тип монашества. Если в раннее Средневековье монахи преимущественно укрывались от грешного, по их убеждению, мира в монастырях, заботясь прежде всего о спасении собственной души, то в XIII в. были основаны новые монашеские ОРДЕНА (братства, объединения монахов) ДОМИНИКАНЦЕВ и ФРАНЦИСКАНЦЕВ. Орден доминиканцев основал святой Доминик. Второй орден получил свое прозвание по имени святого Франциска Ассизского, купеческого сына из итальянского города Ассизи, который, отказавшись от отцовских богатств, стал проповедовать бедность как обязательное условие спасения души. Монахи этих орденов не владели собственностью и жили нищенским подаянием. Франциска Ассизского в Средние века почитали превыше всех других святых.
Монахи нищенствующих орденов уже не сидели по монастырям, — они несли слово Божье в народ, жили среди него, знали его интересы и настроения. Они приспосабливали свою проповедь к потребностям и пониманию простых людей города и деревни.
1. Чем отличался готический стиль архитектуры от романского?
ГЛАВА 4.7. ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТИНЕ МИРА ГОРОЖАН
Одним из самых прославленных проповедников был францисканский монах Бертольд из южногерманского города Регенсбурга. Он проповедовал, странствуя по городам Германии, в середине XIII в. На его проповеди стекались огромные толпы народа.
Часто он проповедовал не в церквах, а в чистом поле. Пойдем и мы вслед за толпой. Мы видим, как устанавливают деревянную башню, вывешивают на ней флаг, и по нему судят о направлении ветра. Весь народ спешит собраться с той стороны башни, в какую дует ветер, с тем чтобы были слышны слова проповедника.
Прислушаемся к его речи.
Бертольд проповедовал на самые разные темы. Как было принято, проповедь начиналась с цитаты из Священного Писания. На этот раз Бертольд выбрал из него повествование о «пяти талантах» — деньгах, которые некий господин отдал на время своего отсутствия своим рабам, с тем чтобы они сберегли и даже приумножили это богатство. Проповедник так истолковывает эти слова Христа. Господь Бог вручил каждому человеку пять даров и завещал, чтобы тот сберегал их, разумно ими распорядился, а после окончания земной жизни возвратил бы их и дал Господу отчет о том, как он ими пользовался.
Что за дары имеет в виду Бертольд? Это — (1) личность человека, (2) его служба, должность, профессия, (3) его имущество, богатство, (4) время его жизни и (5) любовь к ближнему, к другим христианам. Разъясняя смысл каждого из даров, проповедник говорит: человек обязан выполнять ту службу, к которой приставлен Господом: судья должен судить, рыцарь — защищать страну, а король — управлять ею. «Ты — крестьянин, — обращается Бертольд к слушателю, — но, возможно, хотел бы быть князем. Но кто же будет нас кормить, если все сделаются господами?». Господь создал все богатства в изобилии, это люди распределили их между собой не поровну. Но каждый хозяин должен тщательно заботиться о своем имуществе, ведь он — не собственник его, но управитель, и на Страшном суде даст отчет собственнику — Богу о том, как он своим добром распорядился.
Итак, Бертольд учит, что общественный строй должен оставаться неизменным и никто не должен стараться перейти в высший общественный разряд. Нужно добросовестно выполнять свою службу и по возможности приумножать свое богатство. Что касается времени, то и его нужно тратить разумно — не на пустые забавы, но на молитвы и заботы о спасении души и на труд.
Как видим, наш проповедник вовсе не отвергает земную жизнь и богатство — в противоположность монахам более раннего времени, которые презирали земной мир и старались удалиться от него, Бертольд одобряет хозяйственные и другие общественные занятия и говорит о разумном употреблении богатства. Человек, к которому Бертольд обращается со своей проповедью, это мелкий собственник — ремесленник, торговец, крестьянин.
Среди даров Господа названо и время. В раннее Средневековье времени уделяли мало внимания. Измеряли его либо с помощью песочных часов, либо — и это был самый распространенный способ — по положению солнца на небе. Церковный колокол отзванивал часы, призывая к молитве. Течение жизни в сельском обществе определялось сменой времен года, и время, казалось, двигалось по кругу. Изменения, которые несет с собой история, воспринимались с трудом.
Но с развитием городов растет потребность в более точном измерении времени. Ибо торговцы и ремесленники не могли не дорожить временем. Они начинают догадываться о том, что «время — деньги». И францисканец Бертольд Регенсбургский, проповедующий этим людям и близко знакомый с их жизнью и интересами, подчеркивает: время — один из даров Творца, его нужно беречь и разумно использовать.
Пройдет несколько десятилетий, и в начале XIV в. на колокольнях соборов и башнях городских советов в крупных городах Западной Европы будут установлены первые механические часы. У них будет только часовая стрелка, но ее неустанное движение станет напоминать жителям города о ценности времени.
Вернемся, однако, к проповеди Бертольда Регенсбургского. Среди даров Господа человеку он назвал и «любовь к ближнему». И тут его прерывает голос из толпы прихожан: «Брат Бертольд, ты учишь, что нужно любить другого человека, как самого себя. Но вот я — бедняк, и у меня имеется только одна изношенная одежонка, а у тебя, я полагаю, есть несколько хороших плащей. Готов ли ты со мной поделиться?». Спрашивающий намекает на слова Христа, который учит, что с бедняком нужно поделиться последней рубахой. Каков же ответ проповедника? «Да, верно», — говорит он. — У меня имеется несколько одеяний, но тебе я ничего не уделю. Любить ближнего означает: желать ему того же, чего желаешь самому себе; себе желаешь царства небесного, — пожелай и ему».
Бертольд Регенсбургский, конечно, убежден в том, что верно истолковывает в своей проповеди евангельский рассказ о «талантах». Но мы могли убедиться в том, что вольно или невольно он серьезно изменил его смысл. Вместо древних талантов — золотых слитков — у него идет речь о важнейших признаках человека — члена общества: о его службе или профессии, о его хозяйстве и времени. Бертольд выразил на свой лад потребности жителей средневекового города. В его проповеди земная жизнь и небеса не противопоставлены так резко, как это было в учении монахов раннего Средневековья. Наоборот, необходимость исполнять службу, трудиться и обогащаться изображена как первый долг христианина перед Господом Богом.
В раннее Средневековье церковные писатели резко противопоставляли душу и тело: тело считали «темницей», в которую заточена пленница-душа, и она жаждет освободиться и соединиться с Богом. Этот взгляд распространяли на весь земной мир. Такое учение не могло способствовать развитию хозяйственной активности ремесленников. Когда ученые люди изображали в своих сочинениях общество в целом, то, как мы уже знаем, они называли три разряда людей: «тех, кто молятся», «тех, кто сражаются» и «тех, кто пашут землю». А где же горожане — ремесленники, купцы? Церковные писатели, выработавшие тройственную схему общества, не принимали их в расчет.
Однако в XIII в. роль бюргеров настолько возросла, что «не замечать» их стало совершенно невозможно. Бертольд Регенсбургский говорит уже не только о горожанах, но выделяет в их среде разные категории купцов и ремесленников. Город окреп, и настроения и интересы его населения было необходимо учитывать. Теперь самого Бога стали понимать как мастера: Он сотворил весь мир по собственному единому замыслу, подобно тому как архитектор чертит план и строит собор. Мир в глазах людей этого периода — это большая мастерская. Ремесленник своим трудом подражает Богу-Творцу.
Между человеком и Вселенной, по мнению людей XII—XIII вв., существуют соответствие и гармония. Они состоят из одних и тех же элементов и созданы Творцом по единому плану. На рисунках в ученых сочинениях изображают человека в виде «малого мира» — МИКРОКОСМА, который расположен в центре «большого мира» — МАКРОКОСМА. Следовательно, если прежде земному миру говорили «нет», то теперь говорят: «да!».
В городе формируется новое понимание человека. Получают признание его земные интересы. Не умерщвление плоти и не бедность являются угодными Богу качествами, но его активная деятельность, труд и честно заработанное имущество. Но, разумеется, связь человека с Богом остается в центре внимания.
Однако изменяется и понимание самого Бога. Прежде в Христе видели главным образом грозного и гневного Судию, готового покарать грешных людей, — теперь же обращают внимание на то, что Он — Сын человеческий (как сам Христос называет себя в Евангелии). В церковном искусстве Его изображают страдальцем, распятым на кресте для того, чтобы спасти род людской. Особым почитанием, наряду с Христом, пользуется Богоматерь: Она — и заступница, спасающая от адских мук даже закоренелых грешников, и Мать, оплакивающая Своего Сына после крестной муки. Божество внушает уже не только страх и трепет, но и сострадание и любовь. Люди стали отныне придавать большее значение человеческим чувствам.
Так же точно изменяется и отношение к святым. В начальный период Средних веков в народе их почитали прежде всего за способность творить чудеса: святые в их глазах были подобны кудесникам, магам, и им приписывали способность исцелять больных, спасать урожай от засухи и отвращать прочие несчастья. На протяжении всего Средневековья верующие совершали ПАЛОМНИЧЕСТВА (т.е. путешествия с благочестивыми целями) к могилам наиболее почитаемых святых, с тем, чтобы исцелиться благодаря прикосновению к гробнице святого, взять горсть земли или пыли с этого места и выпить воды из источника, который там бил. Нередко эти паломничества отнимали много времени и сил, в пути паломники подвергались всяческим опасностям, однако вера в чудо, которое может их исцелить или очистить от грехов, преодолевала все преграды. Разумеется, как правило, несчастные не излечивались, но если хотя бы немногим из бесчисленных паломников делалось на время немного легче, молва о всемогуществе святого распространялась повсюду.
Но начиная с XIII в. этот образ святого-мага, обладателя чудесной силы постепенно стал сочетаться с образом праведного человека, преданного Богу и внутренне совершенного. Его личные качества приобретают самостоятельную ценность, независимо от того, творит он чудеса или нет. Святой делается идеалом человека. При этом он не утрачивал в глазах народа своих чудесных способностей.
Христианство в начале Средних веков для большинства верующих было главным образом серией обрядов — религиозных действий, процессий, молитв, которые произносились на латыни — языке церкви и образованных людей, непонятном народу. Верили, что если все эти обряды выполнены, а молитвы произнесены, то человек сразу же очистится от грехов и его примирение с Богом произойдет независимо от того, как он ведет себя в жизни, каковы его мысли и чувства, добрые они или злые.
Но, конечно, были и другие люди, глубоко религиозные. Они настолько погружались своими мыслями в идею Бога, что ощущали свое единство с Ним. Эти МИСТИКИ, чувства которых были сосредоточены на Боге, мало обращали внимания на внешнюю жизнь.
Одним из самых влиятельных мистиков был монах XII в. Бернард из монастыря Клерво. Он осуждал тех, кто украшал церкви изображениями зверей, цветов и человеческих фигур и считал, что подобный обычай внушен дьяволом. Сам он был настолько поглощен размышлениями о Боге, что, по преданию, как-то раз весь день шел по берегу озера, не заметив его. Однако этот АСКЕТ (человек, отвернувшийся от мира и презиравший собственное тело и земные потребности с тем, чтобы приблизиться к Богу) активно вмешивался в церковные и политические дела. Бернард Клервоский был знаменитым проповедником, призывал к участию в крестовом походе и благословлял рыцарство на войну против мусульман.
1. В «Истории франков» Григория Турского приведены слова Хлодвига о его родственниках, которые могли бы помочь ему «в минуту опасности». Так эти слова переведены в русском издании «Истории франков». Цитируя этот отрывок в главе «Франкское государство Меровингов», мы исправили перевод таким образом: «в случае опасности». Чем, по вашему мнению, вызвано это уточнение?
2. Еще до того, как были изобретены механические часы в Европе, подобное изобретение было сделано в Китае. Однако в Китае такие часы оставались не более чем забавной игрушкой и не имели того практического значения, какое они приобрели в Европе. Чем вы объясните это различие?
3. Чем различались поведение и проповедь нищенствующих монахов и монахов раннего Средневековья?
4. Какова связь проповеди монахов нищенствующих орденов с возросшей ролью города в жизни средневековой Европы?
ГЛАВА 4.8. СВОБОДНЫЕ ГОРОДА И УНИВЕРСИТЕТЫ. «КАРЛИКИ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»
В своих проповедях Бернард обрушивал обвинения в ереси на голову выдающегося мыслителя Петра Абеляра (1079—1142), уличая его как неискреннего и ложного христианина. Вина Абеляра в глазах многих других богословов и философов состояла в том, что он хотел примирить веру в Бога с разумом, с тем чтобы вера не противоречила ему. «Понять для того, чтобы поверить», — такова была цель Абеляра, тогда как другие богословы шли к пониманию от веры: «Верую для того, чтобы понять». Иными словами, противники Абеляра не столько доверяли могуществу человеческого разума, сколько полагались на безусловную и нерассуждающую веру, а Абеляру ее было недостаточно. Эти разногласия привели к тому, что на церковных соборах — собраниях епископов и других высших чинов духовенства — Абеляр был осужден, и его заставили собственной рукой бросить в огонь свое сочинение.
Но конфликт Абеляра с другими богословами и церковными деятелями вызывался не только их философскими разногласиями. Абеляр был яркой, выдающейся личностью, и ему было тесно в тех рамках, которые ставила церковь. Он был талантливым преподавателем, и на его лекции по философии, которые он читал на Холме святой Женевьевы близ Парижа, собирались толпы школяров не только из Франции, но и из других стран.
Слава Абеляра была столь широка, что о нем ходило немало анекдотов. В одном из них говорится, будто французский король, недовольный Абеляром, запретил ему читать лекции в его землях. На другой день королю доложили, что Абеляр читает свои лекции, находясь на корабле, плавающем по Сене, а ученики слушают его, усевшись на берегу. Король во гневе запретил Абеляру преподавать и на суше и на воде. Последовал новый донос: теперь он залез на дерево и продолжает лекции. Не на шутку рассерженный король призвал к себе ослушника, но Абеляр возразил королю: никто не запрещал ему преподавать, находясь в воздухе. И тут король, убедившись в мудрости и находчивости философа, расхохотался и отменил свой запрет.
Но это — анекдот. Правда же заключалась в том, что лекции Абеляра были так популярны, что школяры перестали посещать занятия прочих богословов, и это вызывало у тех зависть к Абеляру и стало одной из причин его преследований. Мало этого, любовь между Абеляром и его ученицей Элоизой, на редкость образованной женщиной (а в XII в. женщины редко получали образование), тоже повлекла за собой несчастья. И Элоизе и Абеляру пришлось уйти в монастырь. Обо всех испытанных им невзгодах Абеляр рассказал в своем сочинении «История моих бедствий». Эта книга — одна из первых попыток человека Средневековья составить собственное жизнеописание.

Центры интеллектуальной жизни.
Другую такую попытку предпринял современник Абеляра Гвиберт — аббат монастыря Ножан. В книге «О моей жизни» он довольно подробно описывает свои детство и отрочество, свое ученье и первые литературные опыты, но любопытно: доведя повествование до того момента, когда он был избран аббатом монастыря, Гвиберт почти вовсе забывает о своей биографии, перейдя к рассказам о монастыре, о святых и творимых ими чудесах и о многом другом.
Гвиберт подробно рисует восстание горожан, которое произошло во французском городе Лане. Здесь горожане объединились в коммуну в первоначальном смысле этого слова — союз для борьбы за освобождение города от власти феодального господина. Мятежники убили своего сеньора — епископа, который жестоко их угнетал. Гвиберт осуждает коммуну как богопротивный заговор, но он показывает те причины, которые привели к ее возникновению.
В Италии города, частично сохранившиеся еще с римских времен, нередко не только освобождались от власти сеньоров, но и подчиняли, как мы помним, собственной власти сельскую округу. Так возникли города-государства, города-республики: Флоренция, Венеция, Генуя. Именно в них свободнее всего процветали ремесла, торговля и банковское дело.
Только в условиях независимости город мог развиваться. Там же, где он оставался под строгим контролем властей, хозяйство приходило к застою и упадку. Так было в Византии, где в начале Средневековья существовали большие и богатые города, которые по уровню развития торговли и ремесел превосходили города Западной Европы. Но впоследствии они были задушены бюрократической центральной властью Империи...
Развитие городов приводило не только к подъему хозяйственной жизни Западной Европы, но и к возникновению новых форм культуры и к утверждению идеи свободы. Человек, стремившийся к укреплению своего хозяйства, нуждался в том, чтобы его личность и собственность находились под защитой права и суда, в независимости от сеньора.
В XII и XIII вв. в Западной Европе усиливается стремление людей разного общественного положения объединиться в союз с себе подобными. Как мы видели, в этот период ремесленники образуют цехи, а купцы — гильдии, складываются городские коммуны с собственным самоуправлением, появляются новые монашеские ордена и, по их примеру, духовно-рыцарские ордена. То же самое происходило и в деревне, где укрепляется сельская община. Она не избавляется от власти сеньора, но ему приходится иметь дело уже не с разобщенными крестьянами, а с их коллективом, который способен противодействовать усилению эксплуатации.
И в то же время в ряде городов Запада возникают учебные заведения нового типа — университеты. «Университас» по-латыни означает «объединение». Университет включал в себя студентов и профессоров. Они объединялись и для того, чтобы решать свои дела и организовать самоуправление, и для того, чтобы отстаивать свою независимость и привилегии от города, в котором университет расположен. Подчас студент учился очень долго. Он мог начать учебу в одном городе, а потом, заслышав о том, что в другом городе и даже в другой стране преподает знаменитый профессор, отправиться туда. Так он мог странствовать на протяжении многих лет, слушая лекции в разных местах. Везде языком науки была латынь, поэтому трудности с языком у студента, выучившего латынь в школе, не было. Таких странствующих студентов называли ВАГАНТАМИ, т.е. «бродягами». Вольные студенческие песни и поэмы, в которых они над всем насмехаются, прославляя свою вольную жизнь и сетуя на бедность, так и известны под названием поэзии вагантов.
Университет делился на «землячества» — объединения студентов из той или иной страны, сохранявших свои обычаи, и на факультеты, каждый из которых специализировался на какой-то отрасли знания, — факультеты богословия и права были наиболее важными.
Старейший университет в Европе — Болонский в Италии — восходит к XI в.; он прославился своей школой права. Старейшие университеты Англии — Оксфорд (с конца XII или начала XIII в.) и Кембридж (начало XIII в.). В XII веке был основан и Парижский университет (Сорбонна). Университеты готовили как богословов и философов, так и врачей и знатоков права. В раннее Средневековье преобладало обычное право — те обычаи, которые с давних времен существовали у тех или иных племен или в отдельных областях. В Болонье и других университетах изучали римское право. Возрождение интереса к римскому праву имело огромное значение. На принципах, выработанных древнеримскими юристами, строилось право собственности, со временем элементы римского права стали использоваться королевской властью и в судебном деле.
Прежде немногочисленные образованные люди сидели в своих монастырских кельях, отныне же люди умственного труда жили и работали в городах, принимая участие в местном управлении и суде, на королевской службе.
Подъему знаний на Западе в тот период способствовало то, что при посредничестве арабов европейские ученые ближе познакомились с важнейшими сочинениями великих мыслителей античности. Наибольшее влияние на науку Запада оказал Аристотель. Опираясь на его труды, средневековые философы выработали строгий метод логического анализа понятий и построения рассуждений. Без применения такого метода не было возможно никакое правильное научное исследование. Это учение получило наименование СХОЛАСТИКИ (от латинского слова «схола» — школа). Схоласты редко прибегали к опыту и эксперименту, но они заложили основы для развития науки и философии последующего периода. Опираясь на мудрость древних, мыслители XII и XIII вв. развивали собственные методы объяснения мира. При этом они сравнивали себя с «карликами, которые стоят на плечах гигантов»: только потому они и видят дальше, чем их предшественники. На самом деле они, конечно, карликами не были.
Среди ученых-схоластов наиболее выдающимся мыслителем был Фома Аквинский (1225—1274). Итальянец по рождению, этот доминиканский монах учился во Франции и Германии и писал и преподавал в Неаполе, Риме и Париже, Среди его трудов главный — «Сумма богословия», но «сумма» в схоластике — не простое соединение разных частей, а обобщение знаний в строгую и логичную систему. «Сумма богословия» объединяла все знания о Боге и человеке. Каждый раздел сочинения Фомы Аквинского содержит обсуждение какого- либо философского мнения, его опровержение и изложение того вывода, который автор считает правильным. По своей завершенности и внутренней целостности «Сумма» была подобна готическому собору: в его архитектуре точно так же гармонично сочетались все отсеки и детали грандиозного строения.
1. Выше мы видели, что средневековые ремесленники и купцы объединялись в цехи и гильдии, что в сельские общины объединялись крестьяне, а рыцари сплачивались вокруг сеньоров. Теперь мы убедились в том, что тенденцию к объединению проявляли и горожане в целом, создавая коммуны, и монахи, образовывавшие духовные ордена, и профессора и студенты, создававшие университеты. Чем объяснить эту всеобщую тягу средневековых людей к объединению с себе подобными?
2. Почему средневековые города стремились освободиться от власти феодальных господ и благодаря чему им удалось добиться этого на несколько столетий раньше, чем крестьянам?
3. Кто такие схоласты и в чем их отличие от мистиков?
ГЛАВА 4.9. КАРТИНА МИРА: МИР ЗЕМНОЙ И МИР ЗАГРОБНЫЙ
Мы говорили об образованных, ученых людях. Но таких людей было немного на протяжении всего Средневековья. Не одни только крестьяне и бедняки-горожане, но и многие рыцари, занятые воинским делом и забавами, были неграмотны. Да и среди приходских священников и простых монахов нелегко было найти образованного человека. Люди, которые не могли читать и писать, воспринимали мир не так, как люди книжные. Они полагались в основном на слухи, молву, черпали свои познания из рассказов старших, из сказок и преданий, и им было нелегко отличить правду от вымысла, четко разграничить действительный факт и фантазию. Они были доверчивы ко всякого рода небылицам.
В раннее Средневековье не только время определяли приблизительно. Все меры счета тоже были неточными. Длину пути измеряли по числу дней, которые требовались для поездки по суше или по морю. Ткани мерили локтями, меры площади земли устанавливали на глаз. В «житиях святых», которые рассказывали об их жизни и чудесах, назван день смерти святого, потому что верующие отмечали его как церковный праздник, но не указан год, когда он умер, — в нем не было надобности.
Но с развитием ремесла и торговли положение изменилось. Купцы должны были уметь считать деньги и товары, вести записи о своих торговых делах и заключать письменные сделки. Пробуждается интерес к письму и арифметике, и многие купеческие дети усаживаются за ученье. Для того чтобы выиграть дело в суде, нужно было знать право, и немало молодых горожан принимаются в университетах за изучение права.
Мир начинают воспринимать на новый лад. Растет потребность в географии. Но первые средневековые географические карты отражают очень приблизительные знания европейцев о своем собственном континенте, не говоря уже об Азии и Африке. Контуры материков, стран и морей изображены на этих картах искаженно. На карте рисуют города и церкви, зверей, которые водятся в тех или иных странах, люден, там обитающих. Мало того, составители карт явно смешивали воедино географию с историей: помещая в центре мира «земной рай», рисуют в нем прародителей Адама и Еву.
Лишь постепенно карты насыщаются реальными деталями — очертаниями береговой линии, островов и континентов.
Мир земной в представлении средневекового человека не вполне был отделен от мира потустороннего. Ирландские монахи, гласит легенда, отплыли на запад и приблизились к одинокой скале в океане, — на ней сидел Иуда, предавший Христа. Что же он им поведал?
По понедельникам, средам и пятницам он мучается в «верхнем аду», а по вторникам, четвергам и субботам подвергается пыткам в «нижнем аду», но по Божьей милости по воскресеньям ему дано выбраться из пекла и отдышаться. Люди верили в то, что их могут посещать выходцы с того света и рассказать, каково им там. Человек, как рассказывали многие, может умереть на время, его душа, постранствовав в аду, возвращается в тело, после чего воскресший способен рассказать о муках грешников. Такие рассказы с жадностью слушали, их записывали монахи и священники, и все хотели узнать: что ожидает душу умершего за гробом?
Как мы уже знаем, великий итальянский поэт Данте (1265—1321) сочинил поэму «Божественная Комедия», в которой рассказывает о собственном странствии по загробному миру. Поэма Данте — плод его гениальной фантазии, но при этом он основывался и на рассказах о посещениях мира умерших, каких немало было в более ранний период. Передают, что жители Флоренции — родного города поэта, встречая его на улице, с любопытством и страхом всматривались в лицо человека, который, как они не сомневались, и в самом деле побывал на том свете: они пытались разглядеть на лице Данте отблески адского пламени.
Ничего хорошего большинство душ на том свете не ожидает, — так учила церковь. Ведь за время жизни люди запятнали себя грехами, и не все заботятся о том, чтобы очиститься от их груза исповедью и покаянием. В рай попадают лишь святые и люди праведной жизни. Эти Божьи избранники созерцают Господа, расположившись около Его небесного престола, и блаженство их столь велико, что поведать о рае человеческий язык не в состоянии. Остальные осуждены на вечные муки.
Средневекового человека страшила не столько сама по себе физическая смерть, сколько загробное наказание и в особенности мысль о том, что муки в аду будут длиться вечно. Церковь учила, что Страшный суд ожидает род человеческий после завершения его истории: произойдет Второе пришествие Христа, по Его повелению ангел звуком трубы пробудит от сна всех умерших, они покинут могилы и предстанут перед Христом — Судией, после чего одни будут оправданы и спасены, а другие — осуждены и брошены в ад. Скульптурные сцены над западными вратами соборов изображали Страшный суд именно в таком виде.
Но простым верующим было понятнее другое представление о суде над душой: в момент смерти к человеку являются ангелы и бесы, которые приносят с собой записи его добрых дел и грехов. Книга в лапах чертей огромна и исписана отвратительными письменами. В ней записаны все его грехи. Книга же, принесенная ангелами, — запись добрых дел человека — красива, но очень мала. Между добрыми и злыми духами происходит тяжба из-за души умершего. По окончании суда душа немедленно оказывается в аду или в раю.
Оба эти представления — о суде над родом человеческим в «конце времен» и о суде, который происходит над душой отдельного человека в момент его смерти — присутствовали в сознании верующих, и их, по-видимому, вовсе не тревожило противоречие между ними. То, что их серьезно беспокоило, — это мысль о том, что из-за грехов они почти все окажутся в аду, и вечно будут мучаться там.
Страх перед вечными муками особенно терзал тех, кто имел дело с деньгами. В «Светильнике», религиозном сочинении начала XII в., предсказывалось: надежда на спасенье имеется главным образом у крестьян, потому что они ведут простую жизнь, в поте лица добывая хлеб, и кормят все общество; что же касается рыцарей, разбойничающих и проливающих кровь, ремесленников и купцов, которые мошенничают и обвешивают народ, то они осуждены на вечную гибель.
Ростовщики, торговцы, рыцари не могли не задумываться над этой угрозой, невыносимой для средневекового верующего. И вот в конце XII в. в сочинениях ученых людей впервые появляется слово «чистилище». Это — такое место в загробном мире, где души грешников испытывают муки, но они подвергаются им не вечно, а в течение некоторого срока: более тяжкие грешники осуждены находиться в чистилище дольше, чем те, кто отяготил душу менее серьезными грехами. По окончании срока очистившаяся душа допускается в рай. В середине XIII в. папа римский официально признал учение о чистилище (это еще более рассорило католиков с православными, так как византийская церковь учение о чистилище не признала).
Таким образом, у людей, которые считали себя грешниками, тем не менее появилась надежда на спасение души. Считалось, что если человек творил добрые дела (например, подавал милостыню нищим), он мог избавиться от ада. А если за душу умершего грешника усердно служили церковные службы и молились, то срок его пребывания в чистилище мог сделаться короче.
«География» загробного мира католиков изменилась: наряду с раем и адом возникло чистилище. Предприниматели могли, не впадая в отчаяние, продолжать заниматься денежными делами. Богословы и церковь дали частичное оправдание городским профессиям.
Искусство и литература Средневековья были пронизаны религиозными мотивами, — ведь все люди были верующими. Но религиозные темы могли быть по-разному поняты и изображены. По городам и деревням странствовали актеры, которые веселили народ, высмеивая жадных господ и грешных монахов. Люди любили посмеяться, пошутить. По праздникам на рыночных площадях устраивали театральные представления. Актеры играли сцены из Священного Писания, но могли изобразить бесов не только ужасными, но и смешными. Очень популярны были рассказы о животных, в них под масками зверей скрывались люди. Могучий Лев представлял знатного, но неумного господина, хищный и вечно голодный Волк — это, конечно, рыцарь-разбойник, а умный и хитрый Лис — главный герой повестей о животных — горожанин. В литературе на народных языках, которая начала развиваться наряду с литературой на латыни, было немало комических произведений. В Германии они так и именовались: ШВАНКИ (шутки). Во Франции получают распространение ФАБЛИО (басни), в которых высмеивались и знатные господа, и продажные судьи, и монахи-обжоры, и невежественные крестьяне.
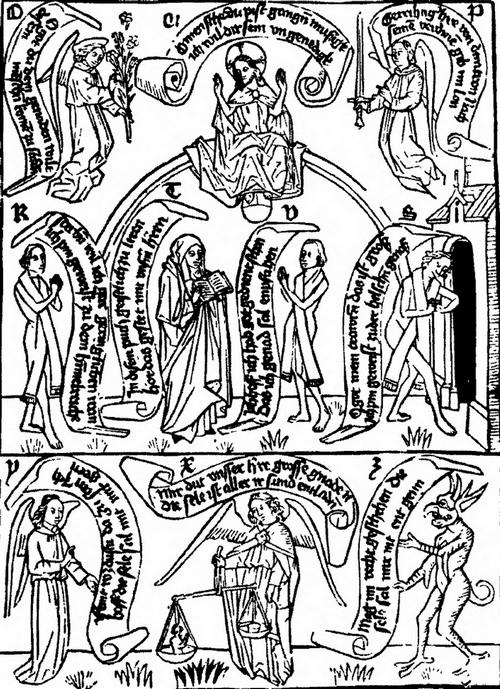
Суд над душой человека в момент его смерти. Гравюра 1465–1475 гг.
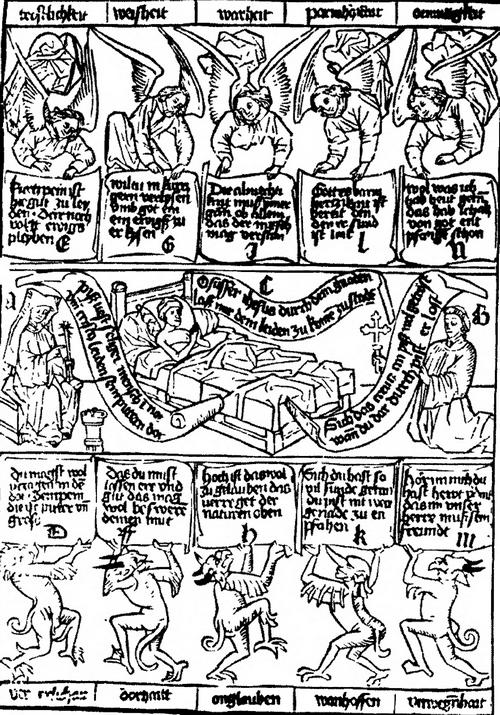
Страшный суд. Гравюра 1465—1475 гг.
Жизнь в городе шла в ином темпе, чем в деревне. В городах встречалось множество людей, которые приходили из других мест и стран. Они постоянно тесно соприкасались между собой, и потому уклад жизни постепенно, но неуклонно менялся. Профессии в городе были многообразнее, чем в сельской местности, и занятие этими профессиями требовало новых навыков и знаний. Выдвигались новые слои общества с собственными интересами и представлениями о мире и человеке. Церковное учение, которое оставалось господствующим в сознании людей, не могло не откликаться на эти перемены.
С подъемом городов в XII и XIII вв. изменилась вся жизнь Западной Европы, ее быт и ее культура.
1. Сравните учение о Страшном суде в «конце времен» с представлением о суде над душою отдельного человека, который происходит в момент его смерти. Что общего между этими идеями и в чем различия между ними?
2. Какова связь между возникновением идеи чистилища и изменениями в жизни средневекового общества?
ГЛАВА 4.10. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ
Историки обычно изучают историю взрослых. Точнее, историю мужчин. История женщин и детей остается мало известной. Господство отца, мужа, хозяина в семье и в обществе приводило к тому, что и историки, и писатели в Средние века уделяли основное внимание мужчинам, их делам и занятиям. Женщин и детей упоминают лишь от случая к случаю. Они не вызывали особого интереса. В результате большая часть рода человеческого оставалась как бы «вне истории».
И все же, как жили дети в Средние века? Один из современных историков, отвечая на этот вопрос, назвал средневековый мир «миром взрослых». Дело в том, что, как правило, никто в ту эпоху не задумывался над особенностями ребенка. Конечно, все понимали, что он мал и физически слаб. Но не обращали внимания на то, что у ребенка свои интересы и особая нервная система, что он иначе воспринимает окружающий мир, чем взрослые, и нуждается в заботе. Общество взрослых мало занималось детьми.
Ребенка считали маленьким взрослым. Если посмотреть, как изображали детей художники того времени, мы убедимся в том, что черты лица ребенка — это черты лица взрослого, что дети наряжены в такую же одежду, какую носили взрослые, отличавшуюся только размерами; каких-либо особых детских платьев не существовало. А игры? То, что ныне считается детскими играми (лапта, катанье на санках или игра в мяч и в обруч), было развлечением взрослых.
В глазах взрослых детство было коротким. В брак вступали подчас в 12—14 лет. Причинами столь ранних браков были отношения собственности или власти. Браки между малолетними наследниками королевского или княжеского престола диктовались исключительно политическими соображениями, потребностью приобрести дополнительные владения или заключить союз с другим королевством. Чувствами детей, которых соединяли в браке, никто не интересовался; брак оформлял династический союз. Детей могли поженить и феодалы, для того чтобы достигнуть примирения или укрепить свое положение в обществе, и богатые купцы, заинтересованные в приращении богатств и усилении своего влияния.
Со столь же раннего возраста ребенок считался ответственным за свои поступки: его могли судить и приговорить к тяжкому наказанию, вплоть до смертной казни.
Сплошь и рядом ребенка в очень раннем возрасте отрывали от семьи. Сына городского ремесленника отдавали в ученики к другому мастеру; в его семье он жил не столько в качестве ученика, перенимавшего ремесленное уменье, сколько в роли слуги, мальчика на побегушках. В чужом хозяйстве всякий мог его обидеть, а заступиться за него было некому.
Но и сын рыцаря тоже зачастую оказывался вдали от родительского дома: его отдавали на воспитание в семью другого рыцаря, с которым отец ребенка хотел поддерживать дружбу. Здесь мальчик должен был учиться боевому делу, обращению с мечом и копьем, езде верхом, даже если у него еще не доставало сил для подобных занятий. Он проводил время в общении со взрослыми — людьми, по большей части грубыми и необразованными, — ведь в среде рыцарей уважали силу, а не образованность. Младших детей рыцарей, у которых не было надежды на получение отцовского владения, нередко отдавали монахам. В монастыре они могли получить образование, а со временем стать монахами и даже возвыситься в церкви. Дочери знатных людей, если у них не было приданого, необходимого для замужества, тоже делались монахинями, — это был один из главных способов устроить их жизнь. При этом их не спрашивали, расположены ли они всю свою жизнь провести за монастырскими стенами, подчиняясь строгим правилам монашеской жизни.
Таким образом, и ребенок простолюдина, и рыцарские сын или дочь с малых лет нередко оказывались оторванными от родителей, жили отдельно от них. Семья не была той ячейкой общества, в которой ребенок окружен любовью и заботами своих родных. Легко понять, что такое воспитание отражалось на сознании и чувствах ребенка и подростка. Из сочинений духовных лиц, в которых они рассказывают о своей жизни, видно, что, войдя в монастырь, юноша или девушка теряли связь с семьей, и мы даже не можем узнать, были ли у них братья и сестры, как они относились к своим родителям.
Что касается сельских жителей, то крестьянскому хозяйству нужны были рабочие руки, и ребенок начинал трудиться с раннего детства. Детство в Средние века для очень многих едва ли было беззаботным и радостным.
Это не значит, конечно, что в Средние века не существовало родительской привязанности к детям. Сохранились письма матерей и отцов, адресованные их детям, в этих посланиях они наставляют их, как нужно себя вести, и проявляют любовь и заботу о них. Часто сочиняли так называемые «зерцала» — книги, в которых от имени отца сын, обычно из знатной семьи, получает необходимые наставления.
Уже знакомый нам Бертольд Регенсбургский в своей проповеди говорит о грехе чревоугодия и при этом предостерегает не одних только обжор, но и родителей, перекармливавших своих детей. Желудок человека, говорит он, подобен котелку, поставленному на огонь: если переполнить его пищей, она побежит через край и погасит огонь. Излишества в еде ведут к болезням. Вот почему, продолжает проповедник, дети бедняков здоровее детей богачей. Ведь что происходит в богатых домах? Сперва нянька накормит младенца, затем является родственница и с криком «Ах, Господи, дитя голодное!» тоже его пичкает. Перекормленный ребенок болеет и может умереть. Читаем мы и о горе матерей, у которых умер младенец, и о том, как они обращались к каким-то знахаркам и колдуньям за помощью, чтобы вылечить своих больных детей.
Церковные проповедники противопоставляли родительские чувства заботам о спасении души. Они предупреждали верующих: ваша чрезмерная привязанность к детям, которым вы собираетесь оставить наследство, приводит к тому, что в жажде скопить богатство вы впадаете в тяжкий грех. Значит, было немало родителей, которые стремились обеспечить своих детей.
В Средние века очень многие дети умирали в младенческом возрасте. И недостаточное питание, и болезни, от которых тогда не умели лечить, да и невнимание к ребенку — все могло служить причиной его смерти вскоре после рождения или в первые годы жизни. А это вырабатывало взгляд на ребенка: «Бог дал, Бог и взял». В условиях, когда «лишние» детские рты трудно было прокормить, в некоторых странах довольно долго держался обычай: отец мог решить, оставить ли новорожденного в семье или «вынести», т.е. унести его в пустынную местность и обречь на смерть. (В народных сказках, записанных уже в Новое время, рассказывается о детях, которых бедные родители, не имевшие возможности их прокормить, отводили в лес и бросали там.) Особенно часто так поступали с девочками, полагая, что от них меньше помощи в хозяйстве, чем от мальчиков. Многих матерей обвиняли в том, что они «заспали» своих младенцев. Новорожденный спал в постели вместе с матерью, и она, якобы во сне, случайно навалилась на него и задушила тяжестью своего тела. У тех детей, которые выжили, тоже было немного надежды дожить до зрелого возраста. Болезнь и смерть были частыми гостьями и близкими знакомыми. Существовало представление о том, что смерть постоянно где-то рядом с человеком и подстерегает его.
К детям относились противоречиво. До тех пор, пока новорожденный не подвергся акту крещения, его еще не считали принадлежащим к числу христиан; он как бы стоял вне рода человеческого. И потому дети, умершие, не получив крещения, не могли, согласно учению церкви, быть допущены в рай, несмотря на то, что они не грешили. Многие богословы видели в ребенке дурное и даже зловредное существо, которое еще предстоит приобщить к религиозным ценностям христианства.
С другой стороны, видя их невинность, люди верили, что дети способны совершить то, чего не дано достичь грешным взрослым. Вспомним в этой связи крестовый поход детей.
Но было бы ошибкой воображать, будто дети не веселились. Конечно, они и пели, и плясали, как дети во все периоды истории. Трудность для историка Средневековья заключается в том, что произведения литературы, из которых мы можем узнать о развлечениях городской и сельской молодежи, по большей части написаны духовными лицами, а они отрицательно относились к сборищам и танцам, видя в них грех. Они утверждали: где пляшут, там наверняка незримо для плясунов присутствует и черт. И поэтому средневековые авторы обычно упоминают развлечения молодых только в тех случаях, когда могут показать трагический конец, каким завершаются эти игры и танцы.
В одном южнофранцузском городе молодые люди разъезжали на деревянных лошадках, но когда в день религиозного праздника они въехали в церковь, то, как рассказывает церковный хронист, их немедля постигла Божья кара: их якобы испепелил удар молнии. Не менее чудесная и ужасная история рассказывалась и в Германии. Группа юношей и девушек затеяла пляску, тоже на церковный праздник. При этом они распевали веселую песенку. Бог наказал их, заставив непрерывно водить хоровод на протяжении целого года!
В ту эпоху люди были склонны на слово верить таким россказням. Теперь же историк увидит в этих анекдотах свидетельство того, что несмотря на все церковные запреты и осуждения молодость брала свое.
Большинство детей не получало никакого образования. Одних не учили вследствие бедности и отсутствия школ, другие, как дети рыцарей, предпочитали ученью воинские забавы и охоту. Огромное число людей не умело ни читать, ни писать. Те знания о жизни, которыми они обладали, были получены ими от окружающих, от старших. Сказки, легенды и слухи заменяли им книгу и учебник. Как уже было рассказано, изображения священных сцен в соборе и церкви были «Библией для неграмотных». При господстве устного слова человеческая память приобретала решающее значение. Быть умным, знающим, прежде всего означало — обладать хорошей памятью, хранить в ней знание обычаев, преданий старины, производственных навыков. Певцов, распевавших песни о героях и древних временах, высоко чтили и с жадностью слушали. Трудно найти в памятниках средневековой литературы описание собрания людей или пира, в котором не упоминался бы певец, развлекавший присутствовавших своими песнями. Сказания, повествования о святых и чудесах на протяжении поколений и столетий передавались из уст в уста, прежде чем были записаны. Судебные обычаи тоже хранились в памяти знающих («мудрых») людей.
У детей хорошая память, и поэтому их охотно использовали в качестве свидетелей. Например, когда нужно было установить границы владения, участники раздела земли обходили границы участка, ведя с собой детей или подростков, и время от времени пребольно их поколачивали; полагали, что так ребенок крепче запомнит условия сделки и сможет впоследствии при необходимости рассказать о них в суде и показать границы поля. В народе на протяжении столетий сохранялось больше доверия к слову свидетеля, нежели к записи в документе, которого они и прочитать-то не могли.
Тем не менее в Средние века существовали школы. Они создавались при монастырях и в них обучались дети, которые в дальнейшем должны были стать монахами. Известны также городские школы, учреждавшиеся обычно при главном (кафедральном) соборе. Там занимались дети горожан, и эти школы, в отличие от монастырских, были платными. Владельцы замков приглашали для своих детей учителей, и зачастую учителем был священник из ближайшего прихода. Детей, посещавших школу, заставляли преимущественно заучивать заданное наизусть. В книге, как тогда считали, заключена мудрость, и надобно знать текст точно таким, как он записан. Толковать и объяснять его мог только учитель — духовное лицо. Нерадивых и ленивых учеников секли розгами, и на рисунках, изображающих школу, мы видим розги под рукой учителя. Гвиберт Ножанский, о котором шла речь раньше, рассказывает о своем детстве. Он вырос в рыцарской семье, но со дня его появления на свет Гвиберта предназначали к духовному званию. Поэтому он не играл с детьми других рыцарей, и его мать пригласила к нему учителя. Он хорошо относился к своему ученику, но «из любви» нещадно его наказывал.
Чему же учили в школе? Начиная с IX в. церковные учителя обучали школьников «семи свободным искусствам» (число 7 считалось священным). Эти «семь свободных искусств» состояли из двух частей — двух циклов. Сперва учили трем искусствам, или трем наукам о слове — грамматике (правилам чтения и письма — имелось в виду латинское письмо), риторике (правилам построения речи, уменью говорить связно и красноречиво) и диалектике (умению рассуждать и спорить в согласии с правилами). Эти три искусства по-латыни назывались тривиум («трехпутье»).
Одолев его, ученик переходил к квадривиуму («четырехпутью»), наукам о числах, а именно: арифметике, геометрии, астрономии и музыке. Арифметика была необходима и монахам, следившим за церковным календарем, и купцам в их торговых сделках. Без геометрии невозможно начать строительство собора, замка или другого сооружения. Астрономия — наука о небесных светилах, — давала знание времени, ибо его определяли по солнцу и звездам. Кроме того, астрономия могла, как тогда верили, помочь предсказаниям о судьбах людей, которые якобы зависят от расположения небесных тел. Как полагали, небосвод с его звездами и планетами, вращающийся вокруг Земли, неподвижно покоящейся в центре мироздания, подчиняется законам числа. Он состоит из разных сфер, к которым прикреплены звезды, одни ближе к Земле, другие расположены дальше, и все они движутся согласованно, гармонично, т.е. точно так же, как строится музыкальная мелодия. В мире, как были уверены средневековые ученые, следовавшие мудрости древних, неслышно звучит «музыка сфер». Музыка, которую изучали в средневековой школе, требовалась для исполнения религиозных гимнов.
Пройдя курс «семи свободных искусств», ученик осваивал основы знаний. Они могли пригодиться как в практических делах, так и в богословии — рассуждениях о Боге. Образование открывало путь к церковной карьере или к службе у князя, государя. Кроме того, школяры, одолев «семь свободных искусств», могли продолжить образование в университете, где, как мы уже знаем, углублялись в философию и богословие или изучали право, медицину и другие специальные науки.
Нелегко было учиться, напрягая память, необходимую для заучивания всего того, что было высказано и написано учеными людьми (а их сочинения нужно было знать досконально) и прежде всего в Священном Писании и его толкованиях. Петр Абеляр рассказывает, как он поразил своих слушателей, когда без предварительной подготовки, т.е. копанья в ученых книгах и подбора многочисленных цитат из «авторитетов», взялся толковать трудные места из Библии.
Необыкновенные познания Абеляра снискали ему славу «чернокнижника», чародея, который, не иначе как связался с нечистой силой. Но то же самое рассказывали и о некоторых других ученых людях. Выдающийся своими знаниями и талантами человек был непонятен.
Ходили анекдоты и о школярах, которые, отчаявшись овладеть книжной премудростью, якобы прибегали к помощи черта. Один из таких школяров, как утверждали, вступил в сговор с дьяволом. В обмен на обещание школяра отречься от Господа дьявол вручил ему камень; если он будет сжимать его в кулаке, то без труда овладеет всеми науками. Так и произошло, гласит этот рассказ, и школяр, до того слывший среди сотоварищей неспособным к ученью, стал вдруг удивлять всех своими обширными познаниями. Но однажды он пришел в ужас, что договором с чертом, погубил свою бессмертную душу, и выбросил камень. В тот же миг утратил он все свои познания
Что означают эти басни? В обществе, в котором преобладала неграмотность, ученость внушала уважение, смешанное с недоверием.
Но столь же двойственным было отношение к образованным людям и самой церкви. Она создавала школы, и от священников требовались грамотность и знание религиозных текстов. Однако вместе с тем искренняя вера и любовь к Богу, как учило духовенство, не нуждаются в книжной учености. Ведь Господь избрал своих учеников (апостолов) не из числа ораторов и философов, а среди простых людей. Нерассуждающая вера ценится выше книжных знаний.
Эта двойственность питалась еще одним соображением: среди еретиков — противников церкви было немало людей грамотных и начитанных. Изучая Священное Писание, они находили в нем подтверждение своих идей о том, что Богу угодны бедность, а не богатство, между тем как католическая церковь превратилась в крупнейшего землевладельца и обладателя огромных сокровищ. Поэтому церковь опасалась, что самостоятельное чтение мирянами Библии и Евангелия может навести их на еретические идеи, и разрешала читать священные книги одним лишь посвященным — монахам и духовенству.
1. Как «короткое детство» влияло на психологию средневекового человека?
2. Сравните роль памяти в средневековом обществе с ее ролью в жизни современного человека.
3. Как относились к знаниям в Средние века?
4. Какие «искусства» входили в «тривиум», а какие — в «квадривиум»?
ГЛАВА 4.11. ЕРЕТИКИ И ИХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ
«Убивайте всех без разбору — Господь отделит своих». Так отвечал епископ участникам карательного похода против еретиков Южной Франции после того, как был захвачен один из городов, и воины не знали, кто из его жителей еретик, а кто — правоверный католик. Епископ, высоко вознесенный над простыми верующими, священник, в чьи обязанности входила забота о спасении их душ, дает такой бесчеловечный приказ, и он тотчас же выполняется: все население города было истреблено.
Как объяснить подобное отношение к людям со стороны церковного пастыря? Ересь понималась церковью как отклонение от истинной веры, следовательно, как измена Богу и тягчайший, непростительный грех. Церковь решала, какие верования и высказывания о Боге правильные, а какие — ложные, т.е. еретические. Еретиков ненавидели сильнее, чем людей другой религии, например, мусульман, потому что мусульмане были внешними врагами, не-христианами, тогда как еретики считали себя подлинными христианами; то были враги внутри церкви, учение которых, с точки зрения церкви, подтачивало и подрывало ее власть и авторитет.
Христианская ересь так же стара, как и сама церковь, и уже в первые столетия истории христианства, когда вырабатывались основы вероучения, те деятели церкви, которые высказывали взгляды на природу Христа и божественной Троицы, отличавшиеся от взглядов, официально принятых на церковных соборах, были осуждены и прокляты как еретики.

Сожжение Яна Гуса. Миниатюра XV в.
Ожесточенные споры, которые велись на соборах, нашли своеобразный отголосок у Григория Турского. Он тоже рассказывает в «Истории франков» о подобном диспуте между правоверными богословами и еретиками и завершает повествование сообщением, что спорившие так и расстались, не переубедив друг друга. Но «История франков» написана для образованных. А вот как тот же самый эпизод изображен Григорием Турским в более популярном сочинении, которое грамотные могли читать или пересказывать неграмотным. Спор между двумя священнослужителями — католиком и еретиком — вознамерились разрешить при посредстве «Божьего суда», т.е. такого действия, в которое, как тогда верили, вмешивается Бог. В данном случае то было испытание кипящей водой. В котелок с кипятком бросили кольцо, и оба спорящих должны были подвергнуться испытанию — голой рукой извлечь кольцо. Католик, гласит рассказ Григория Турского, долго шарил в котелке, прежде чем нащупал кольцо, и тем не менее рука его не была повреждена; когда же еретик попытался проделать то же самое, он получил ужасные ожоги, так что Бог всем продемонстрировал, чья вера истинная, а чья — ложная.
Такие баснословные рассказы убеждали народ сильнее всяких богословских рассуждений, которых он и понять-то не мог. Церковь требовала нерассуждающей веры, а не умствований. И в то время как с учеными еретиками велись споры на церковных соборах (нередко заканчивавшиеся для еретиков самым трагическим образом), с еретиками попроще расправлялись, не вступая в полемику.
Сохранился рассказ о неких еретиках, которые для того, чтобы привлечь к себе население французского города, творили всяческие чудеса; в частности, им не мог повредить костер. Епископ этого города, встревоженный тем, что народ склоняется на сторону еретиков-чудодеев, обратился за помощью... к кому бы вы думали? К самому дьяволу! Произошла встреча епископа с дьяволом, и тот признался: да, эти чудодеи — его слуги; а творят они чудеса потому, что у них подмышкой зашиты грамотки, на которых записаны их присяги верности дьяволу; без этих волшебных амулетов были бы они беспомощны. Теперь епископ знал, как ему действовать. Он созвал население города и заявил, что сам хочет убедиться в способности этих «святых» творить чудеса. Приказав своим слугам вырезать у еретиков амулеты, от велел им войти в костер, и они сгорели. Народ убедился в том, что никакие они не «святые», а еретики и служители нечистой силы. Хронист, поведавший об этом происшествии, заключает рассказ следующими словами: «Так с Божьей помощью было покончено с этими еретиками и народ возвратился в истинную веру». Ему, конечно, стоило бы прибавить: «и при содействии дьявола».
В отличие от средневековых людей, которые охотно принимали подобные истории за достоверные, современный историк без труда увидит в этом рассказе вымысел. Цель вымысла понятна: отвратить верующих от еретиков. Перед историками, изучающими средневековые еретические движения, постоянно стоит трудность. Заключается она в том, что, как правило, в имеющихся исторических источниках выражена только одна точка зрения на ересь — точка зрения церкви, которая неизменно была враждебна еретикам и рисовала их самих и их учения только отрицательно, в черных тонах. Сплошь и рядом мы узнаем из имеющихся документов не столько о том, что думали и как поступали сами еретики, сколько о том образе врага, который создавался официальными богословами и церковными судьями.
В приведенном сейчас рассказе важно не упустить вот что. Во-первых, церковный автор почти ничего не говорит об учении еретиков; между тем он сообщает, что горожане доверяли им и даже видели в них святых. По-видимому, распространяться об их учении означало бы пропагандировать его. Во-вторых, все внимание автора рассказа сосредоточено на способности еретиков творить чудеса. Но если святой творит чудеса Божьим соизволением, то еретик — с помощью черта. Еретиков церковь считала слугами Сатаны и нещадно с ними боролась.
Ереси то и дело вспыхивали в средневековой Европе. Одни из них церкви удавалось подавить довольно быстро, другие широко распространялись и долго держались. Ибо у них была хорошо подготовленная почва. Наряду с повседневными заботами у человека той эпохи была еще одна, более глубокая и неотступная: как спасти свою душу? Очевидно, о ней-то в первую очередь и нужно было заботиться. Но люди видели, что церковь, проповедуя смирение и отказ от земных благ, сама скопила в своей собственности колоссальные богатства и приобрела огромную политическую власть. Как согласовать это с учением Христа? Служители церкви ничем не похожи на Христа и Его учеников-апостолов, которые не имели ни власти, ни собственности и жили в бедности. В среде ремесленников, купцов, рыцарей, простых священников и монахов, иногда даже знати, время от времени появлялись люди, которые задумывались над противоречием между евангельским учением и тем, что они наблюдали в жизни. Они приходили к мысли: церковь учит неправильно, и только полный отказ от всех богатств и земных привязанностей может спасти душу человека.
Таким образом, еретиками делались люди, охваченные сомнениями. Заботясь о спасении собственной души, как и другие верующие, они не верили в то, что учение церкви может обеспечить или облегчить это спасение.
Город был одним из основных очагов, где зарождались подобные сомнения. Ведь здесь в наибольшей мере концентрировалось население, люди постоянно общались между собой. Здесь встречались выходцы из разных городов и стран, которые могли принести новые идеи и толкования религии. Здесь скорее, чем в сельской местности, увеличивалось число грамотных людей, способных читать религиозные книги и самостоятельно размышлять над их содержанием. Поэтому многие ереси возникали в городах. И точно так же, как сплачивались в группы ремесленники и купцы, монахи и даже воры, в группы, так называемые СЕКТЫ, объединялись и еретики.

Церковь, осаждаемая врагами. Миниатюра XV в. Люди с повязками на глазах символизируют еретиков, женщины — грехи.
Еретики нередко разделяли учение о том, что весь земной мир представляет собой не Божие творение, а есть не что иное, как порождение дьявола. Отрицание феодальных порядков перерастало в отказ от земного мира в целом. Эти еретики утверждали, что человек должен порвать с греховным миром, — лишь при этом условии он спасет душу, дарованную ему Богом. Не нужно возделывать землю или иметь детей, говорили они. Наиболее убежденные еретики торопили собственную смерть, приближая ее голодом. Они верили в переселение душ после смерти.
Таких еретиков на Западе, прежде всего, в Южной Франции в XII и XIII вв. было множество. Среди них были как горожане и крестьяне, так и знатные люди. Одним из центров распространения ереси стал город Альби. Поэтому еретиков, которые проповедовали подобные взгляды, называли АЛЬБИГОЙЦАМИ.
Между тем французские короли, уже объединившие вокруг королевского домена северную половину Франции, теперь вознамерились подчинить себе и южную ее часть, которая всегда отличалась от остальной страны языком, культурой, хозяйственными связями, особенностями права и обычаев. То, что здесь распространилась ересь, дало французской монархии удобный повод организовать против альбигойцев крестовый поход. Католическая церковь, усматривавшая в широком распространении альбигойской ереси большую опасность, благословила и возглавила поход. После упорных боев Юг был в начале XIII в. разгромлен и разграблен. Многие тысячи еретиков погибли. Приведенные выше слова епископа «Убивайте всех подряд — Господь отделит своих» были произнесены при захвате одного из оплотов альбигойской ереси.
Примерно в то же время, с конца XII и в начале XIII в., во Франции возникла другая ересь — ВАЛЬДЕНСЫ. Богатый купец из города Лиона Пьер Вальд отказался от своего имущества и возглавил секту, получившую название от его имени. Вальденсы делились на «совершенных», которые разрывали все связи с внешним миром и учили своих приверженцев следовать примеру Христа, и «братьев», которым разрешалось заниматься трудом. Как и альбигойцы, вальденсы отрицали необходимость и оправданность существования церковной иерархии.
Вскоре и вальденсы были осуждены церковью как еретики. Но преследование их во Франции привело к тому, что они рассеялись по другим странам: Италии, Германии, Австрии, Богемии (Чехии).
Заметная активизация еретических сект в тот период — свидетельство того, что конфликт между католической церковью и частью народа стал более острым. Папство двояко реагировало на это обострение. Во-первых, оно старалось привлечь к себе отдельные религиозные движения, которые легко могли перерасти в еретические; так оно поступило, в частности, с францисканцами, сделав их орденом католической церкви, хотя их превращение в еретическую секту было вполне реальным.
Во-вторых, далеко не случайно как раз в начале ХIII в. была учреждена ИНКВИЗИЦИЯ (в переводе с латыни «розыск», «расследование») — церковный суд, главнейшей задачей которого было разоблачение и преследование еретиков. Инквизиторы принадлежали к ордену доминиканцев. Тщательно расследуя все, что было связано с ересью, инквизиторы вместе с тем применяли жестокие пытки для того, чтобы добиться от еретиков признаний в самых ужасных грехах, после чего их публично сжигали на костре.
Но от многих еретиков невозможно было добиться раскаяния даже и пыткой. Религиозные убеждения обеих сторон — и католиков, и еретиков — отличались фанатизмом: люди были абсолютно уверены в том, что только их верования правильны, и потому еретики были готовы поплатиться за них своей жизнью, а инквизиторы не испытывали ни малейших сомнений, вынося смертные приговоры.
Еретики были теми верующими, которые с особой остротой ощутили глубину противоречия между религией Христа, учившего добру, милосердию и человеколюбию, с одной стороны, и действительным положением христианской церкви в средневековом обществе, где она играла роль наиболее могущественного и богатого феодального властителя, — с другой. Еретики воображали, что зовут христиан назад — к той организации религиозной общины, которая существовала при Христе и его учениках. Но в действительности, призывая к созданию «бедной церкви», без иерархии священников и без всякой политической власти, они выдвигали идеал, который был близок всем, желавшим «дешевой» церкви, прежде всего — горожанам.
1. В какой общественной среде в первую очередь возникали средневековые ереси?
2. Каковы основные идеи еретиков XII—XIII вв.?
3. Существовала ли связь между ересью и грамотностью?
ГЛАВА 4.12. ПОГРОМЫ И ИХ ЖЕРТВЫ
В 1190 г. в английском городе Йорке произошел еврейский погром. Местные жители, которые видели в евреях врагов Христа, начали их убивать и грабить их имущество. Единственным спасением, оставшимся для жертв погрома, был переход в христианскую религию. Не желая отречься от веры своих предков, все члены еврейской общины Йорка, включая мужчин, женщин и детей, покончили жизнь самоубийством. Они последовали примеру древних иудеев — защитников крепости, расположенной недалеко от Иерусалима, которая была осаждена римскими легионами, посланными на подавление народного восстания в Иудее в 70-е годы I в. н.э.
Еврейские погромы распространились на Западе с конца XI в., сразу же после начала крестовых походов. Показательно, что религиозная нетерпимость христиан одновременно усилилась по отношению ко всем инаковерцам — и мусульманам, и иудеям. С первыми христиане воевали в Испании и в Святой Земле, вторых громили у себя на родине.

Пытки иудеев. Гравюра XV в.
В начале Средних веков небольшие группы евреев населяли южную Францию, Испанию и Италию. Постепенно, в IX—XI вв., они появляются в городах Германии по Рейну и Дунаю. Отношение к ним местного населения было сравнительно мирным, хотя отдельные государи и церковные деятели смотрели на них настороженно, — ведь они были представителями другой религии и чуждой христианам культуры.
Правители западноевропейских государств нуждались в товарах и деньгах, а среди членов еврейских общин, которые находились в их владениях, были богатые люди. Они могли ссудить королям большие денежные суммы. Церковь запрещала христианам ростовщическую деятельность, и хотя многие, несмотря на эти запреты, ею занимались (купцы и банкиры, рыцари и священники, и даже сами римские папы), ссуда денег под проценты считалась смертным грехом. Но на инаковерцев эти запреты не распространялись. Вместе с тем церковь запрещала христианам работать на не-христиан, владевших землями; иудеев также не принимали в ремесленные цехи. Короли Франции, Англии и других стран Запада, во владениях которых жили евреи, считали их своей «собственностью», облагали их налогами и до поры до времени оказывали им свое покровительство. Они охотно обращались к богатым иудеям-финансистам за большими денежными суммами.
Евреи жили в городах обособленно от христиан. Во главе еврейских общин стояли РАВВИНЫ, знатоки религии и права, которые определяли все стороны жизни общины. Но христианские монархи держали эти общины в своем подчинении, и от них зависело назначение раввинов. Евреи не считались равноправными с христианами и далеко не всегда могли пользоваться защитой закона. Их неполноправие и подозрительность, с которой к ним относились власти и население, вызывались главным образом тем, что они исповедовали другую религию — иудаизм. Церковь неодобрительно относилась к христианам, которые общались с евреями. Браки между ними и католиками были запрещены. Единственным способом приобретения иудеем таких же прав, какими пользовались христиане, был его отказ от собственной веры и обращение в католичество.
Когда крестоносцы стали собираться в поход на Восток, как мы помним, некоторые из воинов говорили, что прежде чем отправиться в Святую землю, нужно покончить с врагами Христа у себя дома. В евреях — своих современниках — христиане видели тех самых людей, которые, согласно евангельскому преданию, распяли Христа. Таково было первое обвинение, которое предъявляли иудеям.
Позднее к нему прибавилось и другое: иудеи якобы продолжают казнить Христа и в настоящее время. Как они это делают? Распространялись слухи о том, что иудеи крадут священную облатку — маленький кусочек пресного теста, называемый «телом Господним», который христианский священник дает вкусить верующим в качестве причастия. Христиане веруют в то, что в облатке таинственным образом воплощается тело Христа, и христианин, съедая облатку приобщается к Богу. Так вот, распускали слухи о том, что иудеи, украв это «тело Христово», втыкают в него иголки или режут ножом, тем самым терзая самого Бога. Находились «очевидцы» утверждавшие, будто видели, как из поврежденной облатки текла кровь, и слышали плач младенца Иисуса.
Когда случались эпидемии заразных болезней, их источник предполагали в отравленной воде колодцев. Кто ее отравил? Невежественные люди верили слухам о том, что и в этом виноваты евреи.
Наконец, в Средние века распространялись выдумки, будто иудеи во время христианской пасхи заболевают кровотечением в наказание за то, что они распяли Христа. Для того чтобы излечиться от этого заболевания, они, по утверждениям религиозных фанатиков, нуждаются в крови христиан, преимущественно невинных детей, которых они тайком убивают и из их тел выцеживают кровь.
Обвиняя иудеев в этих вымышленных злодеяниях, христиане, поверившие подобным слухам, время от времени учиняли погромы, не давая пощады ни взрослым, ни детям.
Для того чтобы лучше представить себе причины распространения этих диких предрассудков, необходимо помнить, что большинство населения Европы жило в обстановке господства всяческих слухов и выдумок. Народ был неграмотен и питался преимущественно молвой, доверяя самым нелепым россказням и легко впадая в панику под их влиянием.
Люди были склонны делить род человеческий на «своих» и «чужих». К «чужим» причисляли жителей другой деревни или города, другого королевства или княжества, и прежде всего — людей, придерживавшихся другой религии. Люди, которые верили в иного Бога и исполняли особые и непонятные религиозные обряды, по-своему молились, внушали подозрение и казались опасными.
И мусульман, и иудеев рассматривали как врагов христианства. Их верования и религиозные обряды, их культура и образ жизни воспринимались как неправедные и враждебные. Однако мусульмане жили на Востоке, в Северной Африке и в Испании; их практически не было в католической Европе. Против них велись войны, но они оставались внешними врагами христианского мира. Между тем иудеи жили не только на Востоке, но и в разных странах Европы. Так же, как еретиков, их считали внутренними врагами. А внутреннего врага неизменно страшились больше, нежели внешнего.
Враждебные чувства к иудеям внушала и сама церковь. Против них проповедовали духовенство и монахи. Во многих церквах и соборах можно увидеть статуи, изображавшие женские фигуры. Одна — увенчанная короной, и другая, с завязанными глазами. Первая символизировала христианскую церковь, а вторая — СИНАГОГУ, молитвенный дом иудеев. С точки зрения христианских богословов, одна только их религия обладает истиной, а иудаизм — вера ложная. По их убеждению, евреи, которые не признали в Иисусе — выходце из их собственного народа, — Спасителя и Сына Божьего, придерживаются ложной веры. А согласно средневековым представлениям, те, кто не верует в истинного Бога, — Его враги.
Так религиозная проповедь усиливала враждебность к евреям. Те дикие россказни о злокозненности иудеев, о пролитии ими крови христианских младенцев и покушениях на «тело Христово», которые были упомянуты выше, распространялись и в церковной проповеди, направленной против иудеев как инаковерцев. Подозрительность по отношению к иудеям приводила к тому, что в некоторых странах Европы им было предписано носить на одежде желтую звезду, так, чтобы каждый мог отличить инаковерца от христианина. К концу Средних веков еврейское население городов Европы стало сосредоточиваться в обособленных кварталах, называемых ГЕТТО (по имени района Венеции, где жили евреи). Евреи все больше изолировались от остального городского населения.
Как рассказывается в Библии, у древних иудеев существовал обычай, согласно которому они символически возлагали на козла все свои прегрешения и прогоняли его в пустыню. С помощью этого обряда они как бы освобождались от груза собственных грехов. Отсюда пошло выражение «искать козла отпущения»: сознательно или чаще неосознанно люди ищут виновников своих собственных несчастий в других, которые чем-то от них отличаются. В Средние века таких «козлов отпущения» находили в еретиках, приписывая им всяческие преступления, и в ведьмах — тех женщинах, которых обвиняли в колдовстве и в том, что они — виновницы болезней и других несчастий, испытываемых верующими. Делали «козлами отпущения» и евреев.
Преследуя инаковерцев, живших среди них в той же местности или по соседству в городе, христиане возлагали на них вину за все свои беды и невзгоды. Изгоняя и громя иудеев, они думали, что творят угодное Богу дело и тем самым очищают себя от грехов. Но при этом преследователи не забывали разграбить имущество своих жертв.
В погромах главную роль играли бедняки и преступные элементы, каких немало было в средневековом городе. Они всегда были готовы захватить чужое имущество, а для этого было необходимо избавиться от его владельцев. Нередко к преследованию евреев подстрекали францисканские проповедники. Зачинщиками погромов подчас выступали ремесленники и мелкие торговцы, страдавшие от ростовщиков. Когда в 90-е годы ХIII в. по городам Прирейнской Германии прокатилась волна еврейских погромов, то их зачинщиком был человек, выдававший себя за рыцаря; однако судя по прозвищу, которое он носил, — «Говядина», он был мясником. Эти погромы, которые по числу жертв намного превосходили избиения евреев во времена Первого крестового похода, открыли серию гонений на иудеев, происшедших в разных странах Запада.
Укреплявшаяся во второй половине Средневековья королевская власть стремилась опереться на все слои населения и сплотить их в единство, которое в ту эпоху воспринималось как единство христиан. Евреи оставались вне этого процесса религиозного и политического сплочения. Кроме того, короли стремились избавиться от своих кредиторов, которые ссужали им деньги.
По всем этим причинам в конце XIII и в начале XIV в. короли Франции и Англии изгнали евреев из своих владений. Евреи были изгнаны и из некоторых областей и городов Империи. В 1492 г. политическое объединение Испании и ее освобождение от власти арабов сопровождались изгнанием иудеев. Подданными королей Кастилии и Арагона могли быть только правоверные католики.
Еврейское население Запада было вынуждено переселяться в Италию, Польшу и в турецкие владения, охватывавшие юго-восточную часть Европы.
1. Какие обвинения выдвигались христианами против евреев и чем они были вызваны?
2. Как вы объясните то, что еврейские погромы, начавшиеся в Европе в Средние века, происходили в России, Германии и других странах даже в XX в.?
3. В чем различия и в чем сходство между преследованиями евреев в средневековой Европе и антисемитизмом Нового времени?
ГЛАВА 4.13. МИР ФАНТАЗИИ И КАРНАВАЛА
Группа монахов ехала по своим делам и неожиданно попала в некий расположенный в чаще леса монастырь, о существовании которого никто не подозревал. Местные монахи дали прибывшим приют на ночь. Во время заутрени один из прибывших монахов начал читать проповедь, и посвящена она была «девяти хорам ангельским». Но когда проповедник дошел в своем повествовании до того момента как отпали от Господа мятежные ангелы и были низвергнуты Богом с небес и превратились в бесов, то увидел, что местные монахи, надвинув на свои лица капюшоны ряс, бросились вон из церкви. Пришлось прервать проповедь, и тут настоятель этого загадочного монастыря признался: «Никакие мы не монахи, мы бесы. Когда услыхали мы о том, как лишены были возможности лицезреть Господа и утратили вечное блаженство, то испытали душевное сокрушение и от стыда ушли с проповеди». Тотчас после этого удивительного признания все прикинувшиеся монахами бесы исчезли вместе с их «монастырем», не успев напакостить гостям...
Такую историю рассказывали верующим странствующие проповедники в XIII в. Как и во многих других подобных нравоучительных повествованиях, здесь рисуется встреча двух миров — мира людей и мира потустороннего. Пространство земное и время человеческой жизни как бы «пересекаются» с пространством потусторонним и с вечностью, которая в нем царит. Эта встреча драматична и всегда внезапна. Вместе с тем нужно признать, что человек Средневековья жил в ожидании чуда, во всяком случае, не видел в нем чего-то невозможного.
Мир Средневековья может показаться бедным и примитивным людям Нового времени. То был мир, в котором обходились без достижений современной техники и науки, без привычных для нас удобств. Средства сообщения были развиты слабо, подчас уступая тому, чем располагали древние римляне. Несмотря на множество городов, Запад оставался в основе своей сельским. Способы возделывания земли менялись чрезвычайно медленно, орудия труда были ручными. Строительство замков и соборов растягивалось на многие десятилетия. Время определяли по положению солнца на небе, часы были песочные или солнечные, и звон церковного колокола извещал о том, что наступило время молитвы. Лишь в XIV в., как мы знаем, на городских башнях были впервые установлены механические часы. Время текло медленно, и люди, продолжавшие жить в тесном контакте с природой, подчиняясь смене времен года, подчас не знали достоверно даже собственного возраста, и, как видно из судебных протоколов, сохранившихся от конца Средних веков, допрашиваемые не могли вразумительно ответить на вопрос: «сколько тебе лет?»
Жизнь общества текла медленно, но человеческая жизнь была кратковременна. Ее сокращали болезни, которых не умели лечить, частые жестокие эпидемии, антисанитарные условия в городах, нездоровое и скудное (для большинства) питание, наконец, войны и разбой. Смерть была частой гостьей, и не потому ли мир живых и мир мертвых воспринимались средневековыми людьми не столько как противоположные, сколько как миры, постоянно между собой общающиеся?
Так, Данте оказался в аду, заблудившись в сумрачном лесу. Кое-кто умирал на короткий срок, а затем, по воле Господа, возвращался к жизни и рассказывал окружающим о виденном на том свете. Ад был где-то далеко, и вместе с тем люди, слышавшие клокотанье вулкана Этны, были уверены в том, что слышат стук молотов в адской кузнице, где испытывали муки грешники. Как верили, умерший мог явиться родственнику, жене, детям, другу и просить их оказать помощь его душе, которая страдает в чистилище. Умерший может сохранить и на том свете заинтересованность в делах живых и вмешиваться в них. О том, что покойники не всегда отрешаются от земных страстей и интересов, свидетельствует хотя бы такой эпизод, о котором рассказывали, веря в его истинность: два крестьянина, всю жизнь враждовавшие между собой, умерли одновременно и попали в одну могилу, где продолжали нещадно пинать один другого.
Но в таком случае, мир средневекового человека не так-то прост, как нам могло бы показаться: он удвоен. Наряду с повседневностью существует мир иной. Из него к людям являются не одни только покойники. За каждым человеком постоянно следует пара незримых спутников: за правым плечом ангел-хранитель, оберегающий его душу, а за левым плечом — черт, который норовит вовлечь ее в беду, склонить ко греху, с тем чтобы в конце концов ею завладеть.
В одном немецком городе, как передают «верные свидетели», бюргер, спустившийся в свой погреб за вином, увидел беса, усевшегося на бочке. Нечистый явился взыскать с него должок: забрать его душу, которую горожанин обещал ему за содействие в делах. Не слушая никаких отговорок и просьб несчастного, бес увлек его в ад.
Люди той эпохи склонны были верить подобным россказням. «У страха глаза велики», и человек, на совести которого были какие-то неблаговидные поступки, ждал неминуемого наказания.
Потусторонний мир, с которым при жизни может встретиться верующий, — не одни бесы. Человека посещают ангелы, он встречается с самим Христом, в трудный момент жизни его может выручить заступница за тех, кто Ей поклоняется, — Богоматерь. Молитвы, обращенные к святым, посещения их гробниц помогают, как тогда верили, больным, убогим и несчастным. Святых было много, и нуждающиеся в их заступничестве «находили» все новых. Со временем произошла своеобразная «специализация» святых: один покровительствовал виноделию, другая избавляла от мышей, третий исцелял от горячки. От святого, которому оказывали почтение и приносили дары, ожидали помощи, а в случаях, когда он медлил со своими благодеяниями (например, не посылал дожди, чтобы избавить поля от засухи, и т.п.), верующие пытались принудить его, грозили отказать ему в уважении и даже выставляли его изображение вон из храма. К усыпальницам наиболее популярных святых устраивали паломничества: оставив свои семьи и все повседневные занятия, верующие собирались группами и отправлялись в Испанию, к могиле святого Иакова, или к Гробу Господню в Иерусалиме. Целью паломничества англичан была гробница святого мученика Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского.
Мы видим, что с силами потустороннего мира, как высшими, так и нечистыми, люди вступали в частое соприкосновение.
Поэтому уже не кажется столь удивительным, что между обоими мирами могла возникнуть переписка. Время от времени, как рассказывали, с небес падали письма, в руках умерших появлялись документы, удостоверявшие их посмертную волю, а в одном письме, адресованном бесами духовенству, они благодарили священников за то, что те так плохо заботятся о спасении своих подопечных, — в результате души умерших верующих все без исключения попадают в лапы бесов.
Питаемая верой необузданная фантазия действительно удваивала мир. Наряду с Богом, Его Матерью, ангелами и святыми люди соприкасались, по их убеждению, с душами и призраками умерших.
Фантазия служила питательной почвой для средневекового искусства, основные темы которого — изображение божества. В обществе, в котором большинство людей оставалось неграмотными, живопись и скульптура служили важнейшими средствами религиозного воспитания и воздействия церкви на сознание и чувства верующих.
Храмы украшали не одними только статуями Бога и святых, но и изображениями диковинных зверей и растений. Дело в том, что любое живое существо, будь то человек, зверь или птица, и многие предметы, от цветов до камней, можно было рассматривать не с одной только внешней, зримой стороны, — в них находили еще и потаенный смысл. Например, роза — цветок, но вместе с тем в восприятии средневекового человека она означала нравственную чистоту, святость, т.е. служила символом этих духовных качеств. Созерцая розу, верующий переходил от зримого образа цветка к понятию божественного. Два средневековых французских поэта пишут «Роман о розе», в котором цветущий сад превращается в религиозное понятие, а Данте, пройдя все круги загробного мира, возвышается в финале своей «Божественной комедии» до Райской розы — символа Бога.
Богословы выработали метод «многосмысленного толкования» священных текстов. В Ветхом Завете повествуется об истории евреев. Но этот же текст ученые люди читали не как исторический, а как иносказание, находя в нем иной, потаенный смысл: с их точки зрения, в Библии уже предвосхищаются новозаветные события — факты жизни Христа. И вместе с тем в тех же текстах ученые толкователи находили прообраз истории церкви.
Многие из таких потаенных смыслов-символов были недоступны пониманию непосвященных. Так, в распространенных в ту эпоху нравоучительных рассказах, которые включались в проповедь (эта глава и начинается с изложения такого повествования), повествуется о всякого рода происшествиях, подчас чудесных и занимательных. Многие из этих «примеров» сопровождаются «моральным толкованием»: в нем раскрывается высший смысл происшествия, и оказывается, что это только внешне в повествовании речь шла о каком-то грешнике и его судьбе, а в высшем смысле имеются в виду церковь и сам Христос.
По выражению современного историка, люди в Средние века жили в «лесу символов», любое явление могло быть истолковано ими как некий знак, означавший какое-либо моральное или религиозное качество.
В произведениях искусства можно увидеть, сколь неистощима была фантазия людей того времени. Достаточно перелистать украшенные рисунками религиозные книги. Разрисовывавшие их монахи вводят нас в причудливый мир, в котором звери и птицы ведут себя подобно людям: охотятся и пляшут, участвуют в похоронных процессиях и судебных заседаниях, играют на музыкальных инструментах и сражаются, проповедуют и пируют. Нельзя не заметить, что, изображая все эти сказочные существа, художники испытывают радость и удовлетворение. Рисунки свидетельствуют не только о богатстве воображения их создателей, — они в какой-то мере отражают взгляд средневековых людей на мир, в котором они жили. Нередко встречаются изображения странных существ — безголовых людей с глазами на груди, или полулюдей-полузверей. Человек спит, задрав ногу с огромной ступней, которой он как зонтом заслоняется от солнца. Что это за рисунки? Какая сила побуждала все вновь обращаться к сказочным образам и украшать поля рукописей вполне серьезного содержания такими странными и ни на что не похожими изображениями? Из каких источников питалась фантазия художников?

Монстры, живущие на краю света. Миниатюра XII в.
Жители Запада были знакомы лишь со странами, где они обитали. Остальной мир был им неведом, и страны за его пределами они представляли себе, исходя из случайных и разрозненных известий, по большей части совершенно баснословных. Их воображение рисовало эти земли не по образу и подобию стран, ими занимаемых, а по контрасту. В реальной жизни голодно, нужно трудиться и повиноваться законам государей и заповедям церкви, — воображаемые неведомые земли — это страны изобилия и неограниченной свободы. В сказочной стране Кокань (или Кокейн), царят изобилие и блаженное безделье, там вкусная еда валится прямо в рот, можно спать, сколько хочется, и не подчиняться никаким правилам. Такие страны, как тогда верили, расположены где-то далеко на Востоке. Индия — такая сказочно богатая страна, где полно золота, драгоценных камней, других сокровищ. Она населена странными людьми, наподобие тех, кого рисовали на листах старинных рукописей и вырезали из камня на капителях церковных колонн. В этой сказочной Индии водятся диковинные звери и птицы, ее населяют, помимо людей, всяческие фантастические существа. Там не ведают бедности, войн и раздоров между людьми, там нет законов и все дозволено.
Короче говоря, фантазия европейцев населяла далекие земли всем тем, чего не было и быть не могло в действительности. Воображаемый мир строился как полная противоположность миру реальному, как мир наизнанку. Мечты людей восполняли их суровую и убогую жизнь. При этом они верили, что такие счастливые страны — вовсе не плод их фантазии, что они где-то существуют и что до них даже возможно добраться.
В XII в. стало известно о «Послании священника Иоанна», который якобы правил в Индии. В то время между светской властью императоров и королей с одной стороны и духовной властью пап с другой продолжалась ожесточенная борьба за верховенство, а «священник Иоанн», как утверждалось в «послании», счастливо объединял в своих руках обе власти. «Послание», в котором перечисляются его несметные богатства, конечно, было подделкой. Но это одна из таких подделок, изучение которых, как уже раньше было сказано, помогает историку понять умонастроения людей той эпохи.
Характер фантазий, которые прививаются и распространяются в обществе, по-своему выражает заботы и надежды людей. Свои чаянья средневековые люди связывали не только с дальними землями, но и с будущим. Правда, как мы знаем, надежды переплетались со страхами. Ведь ожидали и установления тысячелетнего царства Божьего на земле, и Страшного суда, который воспоследует в «конце времен». Вместе с тем массы людей возлагали свои упования на доброго и справедливого монарха, который в будущем покончит с общественной несправедливостью. В народе была жива вера в то, что справедливый государь ждет своего часа, пребывая во сне в какой-то горе; в свой час он пробудится и установит порядок и благоденствие. В Германии так думали о Фридрихе Барбароссе, хотя при своей жизни, казалось бы, он не давал крестьянам никаких оснований для того, чтобы видеть в нем народного героя.
В разные эпохи люди видят неодинаковые сны и относятся к ним так, как диктует им их культура. В средневековой литературе упоминается огромное количество снов, их содержание разнообразно, но то, что их объединяет, и то ради чего они упоминаются, заключается в следующем: они вещие, и все увиденное во сне так или иначе сбывается. Как и в других культурах прошлого, сны — это одно из средств заглянуть в будущее. Другими средствами были гадания и предсказания. Люди верили во всякого рода приметы. АСТРОЛОГИ, наблюдавшие звездное небо и следившие за расположением светил, составляли гороскопы, в которых по сочетанию звезд и созвездий определяли судьбу человека.
В средневековых рукописях встречается изображение «колеса Фортуны». Древнеримская богиня теперь понималась как сила, подчиненная христианскому Богу. На рисунках она изображена в виде женщины, вращающей колесо, за которое уцепились человеческие фигуры: одну колесо вздымает вверх, другая уже достигла высшей точки, третью колесо стремительно увлекает к земле, а под колесом беспомощно распростерт человек, сброшенный неумолимой Фортуной...
Итак, согласно убеждениям той эпохи, человек не свободен, — его участь зависит от звезд, удачи, колдовства. Церковь противопоставляла этим верованиям принцип: судьба человека определяется одним только Творцом, но, поскольку он наделен свободой воли, то не должен пребывать в бездействии.
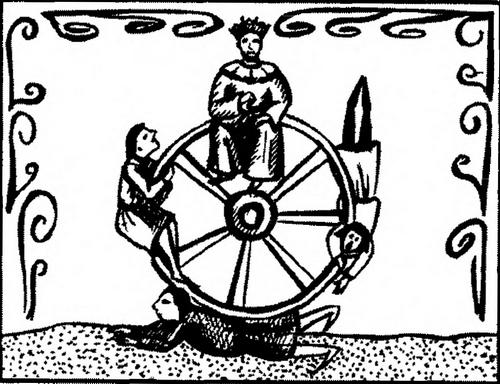
Колесо Фортуны. Миниатюра XV в.
Люди в Средние века, конечно, не жили в одном лишь мире воображения. Они пахали землю и корчевали леса, строили дома и корабли, изготовляли ремесленные изделия и торговали. Они создавали государства и воевали, издавали законы и судились друг с другом, фантазия включалась в их жизнь и деятельность в качестве ее неотъемлемой составной части. Для получения урожая нужно было перед вспашкой земли обойти деревенское поле в процессии. Для того чтобы добиться победы над врагом, оружие предварительно приносили в церковь, и священник благословлял его. Но в благословении нуждались и домашние животные, и орудия труда. Медицина в огромной степени состояла из магических действий и заклинаний, и целебные травы нужно было собирать, распевая молитвы. Как известно, средневековая техника была довольно примитивной, и в «житиях святых» многократно повествуется о чудесной помощи, которую святые оказывали работникам.
Чудо, верили тогда, не только могло способствовать трудовым усилиям, но и помогало отличить действия безнравственные и недопустимые от честного поведения.
Род хозяйственной деятельности, который был необходим в условиях развивавшегося рынка, но встречал осуждение церкви, — ссуда денег под проценты, ростовщичество. Существовало мнение, будто нажитые ростовщиком деньги обладают зловредными свойствами. Сохранился рассказ о том, как некий ростовщик отдал свои деньги на сохранение аббату монастыря, а тот спрятал их в сундук, в котором хранились монастырские деньги. И что же из этого вышло? Через некоторое время открыли сундук, и обнаружили одни лишь деньги ростовщика. Куда же подевались деньги, принадлежавшие монахам? Нет никакого сомнения: их пожрали деньги ростовщика!
В Древнем Риме было известно выражение, «деньги не пахнут», что значило: важны деньги сами по себе, каково бы ни было их происхождение. Иначе смотрели на деньги в Средние века. Когда на корабле с паломниками обезьяна украла у одного из пассажиров кошелек, она забралась на мачту и, развязав кошелек, принялась вынимать из него одну за другой монеты и каждую обнюхивать. Те монеты, которые были нажиты ростовщичеством, она с отвращением выбрасывала за борт, а остальные убрала назад в кошелек и возвратила владельцу. Оказывается, деньги пахнут, и некоторые пахнут грехом!
В числе определений, которые дают человеку ученые, — «человек разумный», «общественное существо», «человек трудящийся» — есть и такое: «человек играющий». Действительно, игра — неотъемлемый признак человека, и не одного лишь ребенка. Люди средневековой эпохи так же любили игры и развлечения, как и люди во все времена. Суровые условия жизни, тяжкий труд, систематическое недоедание сочетались с праздниками — народными, которые восходили к языческому прошлому, и церковными, отчасти опиравшимися на ту же языческую традицию, но преобразованную и приспособленную к требованиям церкви. Однако отношение церкви к народным, прежде всего крестьянским, празднествам было двойственным и противоречивым. С одной стороны, она была бессильна попросту запретить их, — народ упорно за них держался. Легче было сблизить народный праздник с церковным. С другой стороны, на протяжении всего Средневековья духовенство и монахи, ссылаясь на то, что «Христос никогда не смеялся», осуждали необузданное веселье, народные песни и пляски. Танцами, утверждали проповедники, незримо верховодит дьявол, и он увлекает веселящихся прямо в ад.
И тем не менее веселье и праздник были неискоренимы, и церкви приходилось с этим считаться. Рыцарские турниры, сколь косо ни смотрело на них духовенство, оставались излюбленным развлечением благородного сословия. К концу Средневековья в городах складывается карнавал — праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. Вместо того, чтобы безуспешно осуждать или запрещать карнавал, духовные лица предпочитали принимать в нем участие. На дни карнавала отменялись все запреты на веселье и высмеивались даже религиозные обряды. При этом участники карнавального шутовства понимали, что такая вседозволенность допустима исключительно в дни карнавала, по окончании которого безудержное веселье и все сопутствующие ему бесчинства прекратятся и жизнь возвратится в свое привычное русло.
Однако не раз бывало, что начавшись как веселый праздник, карнавал превращался в кровавое побоище между группами богатых купцов с одной стороны и ремесленников и городских низов с другой. Противоречия между ними, вызванные стремлением завладеть городским управлением и переложить на противников бремя налогов, приводили к тому, что участники карнавала забывали о празднике и старались расправиться с теми, кого они давно ненавидели.
На картинах нидерландского живописца XVI в. Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого) изображены народные праздники, игры и пляски. И он же рисует пиршества крестьян и горожан. Но ошибется тот, кто вообразит, будто средневековые простолюдины то и дело собирались за пиршественными столами. Жили впроголодь, и лишь после сбора урожая или по окончании церковного поста народ мог позволить себе пирушку. Встреча поста с масленицей (так называется одно из знаменитых полотен Брейгеля) происходила только раз в год.
1. Перечитайте в начале главы рассказ о бесовском «монастыре». Не нашли ли вы чего-нибудь необычного, с точки зрения средневековых людей, в поведении бесов-«монахов»?
2. Чем вызвана, на ваш взгляд, крайняя доверчивость средневековых людей к чудесам и всякого рода небылицам?
3. Как вы понимаете мысль об «удвоении мира» в сознании средневекового человека?
4. Как мы выяснили, вещие сны и пророчества играли огромную роль в средневековой жизни, и к ним относились в высшей степени серьезно. Каким образом эта вера в сны и прорицания связана с особым пониманием времени?
ГЛАВА 4.14. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Мы говорили выше, что люди Средневековья не замечали перемен и изображали героев Античности или святых времен раннего христианства одетыми в одежды или доспехи своих современников; древние Афины или Иерусалим выглядят на изображениях как средневековые города. Жизнь в Средние века двигалась медленно, и изменения не задерживали внимания.
Нам, живущим в период бурного технического творчества, трудно представить себе, сколь мало менялось в этой сфере в Средние века, да и самая суть перемен была иной, нежели ныне. Сегодня изделия, изготовляемые промышленностью, меняются вместе со способами их изготовления, с технологией. Не так было в Средние века. Тяжелые, с толстыми стенами романские соборы не похожи на соборы готические, представляющие собой «каменное кружево», но строились они теми же способами, практически вручную, без изменений в строительной технике.
Весьма значительными были перемены в вооружении. От раннего Средневековья до XI в. основным видом доспеха была кожаная рубаха с нашитыми на нее металлическими пластинами, сначала короткая, а с VIII—IX вв., с развитием кавалерии, — длинная. Голову воина прикрывал конический шлем со стрелкой-переносьем. С XII в. распространяется кольчужный доспех — рубаха с капюшоном, чулки; шлем становится сплошным цилиндрическим с прорезью для глаз. Уже позднее описываемого здесь времени, в XIV в. появляется шлем с забралом, а на исходе Средневековья, в XV в. — сплошной рыцарский доспех. Но эти важные изменения в оборонительном оружии происходили без перемен в технологии его изготовления — все это ковалось вручную.
Средневековье знало технические новшества, существенно, даже круто менявшие жизнь людей. В IX—X вв. впервые появился хомут и благодаря этому стало возможным запрягать в плуг лошадей, вместо быков, как это было раньше.
Одно из важнейших нововведений — появившееся с Востока в VIII в. стремя. Без этого приспособления конный воин не мог прочно держаться в седле, и кавалерия, в основном, представляла собой отряды конных лучников, не сталкивавшихся с противником в схватке на мечах или копьях. Применение стремени сделало возможным развитие тяжеловооруженной кавалерии — будущего рыцарства.
Не только стремя, но и многие другие нововведения западноевропейского Средневековья либо были заимствованы с Востока, либо унаследованы от римлян. Мы уже говорили о том, что в V—VI вв. известная еще римлянам водяная мельница распространяется по всей Европе. До XIV в. эти мельницы были нижнебойными, т.е. приводящимися в действие падающей водой на речных порогах или специальных запрудах. Ветряная мельница появилась в XII (или даже в XI) в., придя, видимо, из Ирана.

Ветряная и водяная мельницы. Миниатюра около 1275 г.
Не только технические новшества вызывали перемены в жизни людей, но и наоборот, изменение условий существования людей влекли за собой новшества. Водяные механизмы в XII—ХIII вв. стали использоваться не только для помола зерна, но и как устройства, приводящие в движение молоты для дробления руды или ковки и т.п. А это произошло в связи с развитием городского ремесла. Мы говорили выше о готических соборах, об огромных окнах в них. И вот стекло, давно известное в Европе, начинает делаться цветным, сначала, с XII в. — красным и синим, в ХIII в. оно уже многослойное, с прожилками, любых цветов и оттенков.
С развитием городов развивается и знание, увеличивается, как мы помним, число грамотных людей. Но книги дороги, причем дорог и материал для книг — пергамент, тонко выделанная телячья кожа. Лишь в XI в. появляется относительно дешевая бумага, завезенная с Востока, а с XIII в. она распространяется по всей Европе.
Открытия же, не находившие применения, не то, чтобы забываются, но не получают широкой известности. В XII в. в Европе, видимо из Китая через арабов, появился компас. Сначала это была магнитная игла, плававшая на кусочке дерева в чаше с водой, по окружности этой чаши были нанесены стороны света. К началу XIV в. компас приобрел современную форму. Однако до выхода европейцев в открытый океан в XV в. компас широкого распространения не получил.

Очки. Фрагмент картины Яна ван Эйка «Мадонна каноника ван дер Пале».
Развитие техники в Средние века было довольно медленным, и этому несколько причин. Во-первых, средневековые ремесленники не стремились к активному увеличению выпуска своей продукции. Производить слишком много считалось дурным, такой мастер сбивал цену на продукцию и снижал заработки своих собратьев по цеху. Во-вторых, в обществе, ориентированном на традицию, на прошлое, на то, что было всегда, новое встречалось с недоверием, внушало страх, казалось чем-то дьявольским. В конце ХIII в. во Франции появилось сочинение о магнитной игле, где сказано: «Ни один капитан не должен приобретать этого инструмента, если он не хочет подвергнуться подозрению в колдовстве». И из-за боязни остаться без заработка, и из-за страха перед адскими силами изобретательство не считалось достойной деятельностью. Первооткрыватели не пользовались уважением и мы о них практически ничего не знаем. Один проповедник в самом начале XIV в. рассказывал о новом изобретении, которое он весьма хвалил, — из этого мы можем сделать вывод о том, что к этому времени отношение к нововведениям стало меняться. Это изобретение — очки, ставшие нужными как раз в это время, ввиду роста грамотности (кстати сказать, это были очки от старческой дальнозоркости, очки от близорукости появились в середине XV в.). Так вот, этот проповедник много говорил о пользе очков и даже поведал своим слушателям о том, что лично знал лет за пятнадцать до этого того человека, который изобрел очки, — но имени этого человека он так и не назвал.
Выше мы говорили о том, что техника строительства практически не менялась на протяжении всего Средневековья. Что же касается жилья, то здесь перемены были лишь частичными. Замки, дворцы, городские дома весьма изменились за время Средневековья, но деревенское жилище не менялось с глубокой древности до XX в. Разнообразие видов жилища было весьма велико. В странах, богатых лесом, дома строили из дерева, в горных районах — из камня, кое-где они были глинобитными. В большинстве стран Европы камень был дорог и шел лишь на замки, соборы, дворцы; там, где камня недоставало, эти здания возводились из кирпича. Городские дома часто были деревянными и лишь оштукатуренными, потому в тесных средневековых городах столь частыми и столь опустошительными оказывались пожары.
Но все виды жилища, от королевского дворца до сельской хижины, имели одну общую черту — внутреннюю планировку. Мы привыкли к тому, что в наших жилищах бывает несколько комнат — отдельно столовая, отдельно спальня, отдельно (не всегда, но желательно) детская комната. Дети, родители, бабушки и дедушки если и не всегда, но довольно часто спят в разных комнатах. Не так было в Средние века. В деревенских домах нередко до XX в. была только одна комната: там спали, ели, даже готовили пищу. И подобное было характерно не только для деревень. В англосаксонской эпической поэме «Беовульф», созданной, видимо, в VIII в., описывается королевский дворец. Это, как и полагается в эпических сказаниях, огромное здание с золотой крышей и стенами из самоцветов. Но обширная зала этого дворца есть, в сущности, единственное помещение: там пируют король и его дружина и там же они спят. В XI—XIII вв. в городах в домах зажиточных горожан, у богатых крестьян, иногда в замках спальня отделяется от столовой-кухни, но эта новая комната примыкает к общей и зачастую не отделяется от нее даже дверью. В монастырях спальни обособлены от трапезной, но кроме помещения аббата все спальни общие. Во дворцах, замках и монастырях стали строить отдельные кухни. Там же было большее или меньшее число комнат, кроме основной, однако это были чуланы, кладовые и т.п., не пригодные для жилья. Даже дворцы, в которых было по многу спален и других комнат, планировались не так, как ныне. Эти комнаты и залы представляли собой анфиладу, т.е. вереницу смежных помещений, и чтобы перейти из одной части дворца в другую надо было идти через все жилые комнаты. В своем жилище человек Средневековья не мог уединиться, он все время находился на глазах других, живших с ним в том же доме, да и не испытывал присущей нашему времени потребности в уединении.

Богатый городской дом в Голландии. Картина XVII в. Видна анфилада комнат.
О том, что уединение было неведомо людям Средневековья, свидетельствует и история мебели. Кровати той эпохи делались очень широкими, на них могли спать по нескольку человек, и гости ложились в одну постель с хозяевами — это считалось проявлением гостеприимства. Впрочем, кровати — широкие, покрытые перинами, под балдахином, нужным для того, чтобы насекомые, которых хватало в домах того времени, не падали с потолка на спящих, — были распространены лишь в замках, дворцах, богатых домах, да и там ими пользовались не все, но, как правило, хозяева. Крестьяне, слуги, младшие члены семьи спали на лавках и сундуках. Сохранившиеся до сего дня красивые резные кресла применялись как парадные сидения для государей, епископов, глав семей в замках и богатых домах Длинные, украшенные резьбой скамьи со спинками и подлокотниками использовались в церквах (в католических храмах во время богослужения сидят). Обычно сидели на табуретах или лавках. Во время трапезы скамьи ставили вокруг стола, который представлял собой доски, положенные на козлы. Потом стол убирали и на ночь ложились на эти же скамьи. Не было в домах Средневековья привычных нам шкафов, буфетов и т.п. Одежда, посуда, другая утварь хранилась в больших сундуках, на которых тоже можно было сидеть и лежать. Шкафы с выдвижными ящиками появились в Италии в XII в., но в странах к северу от Альп нашли применение позднее, в Англии — только в XV в.
В богатых домах широко использовали ковры, иногда с вытканными на них орнаментальными или сюжетными картинами. Эти ковры не стелили на пол, а вешали на стены, чтобы защититься от исходивших от них холода и сырости. Пол в комнатах на нижних этажах был чаще всего земляной, на него клали соломенные подстилки, в дни приема гостей — охапки цветов и пахучих трав. Весьма редко — это было признаком крайней роскоши — пол покрывался небольшими разноцветными каменными плитками, с XIV в. — керамическими. В любом случае от пола тянуло холодом.
Вообще, в Средние века в помещении было весьма холодно. До XII в. единственным источником тепла был находившийся в общей комнате, она же — столовая-кухня, большой очаг, размещенный в центре и служивший для приготовления пищи. С ХII в. в замках и городских домах появились камины, дававшие, впрочем, немного тепла: у камина можно согреться, но с его помощью трудно отопить комнату. Только к началу XIV в. стали появляться заимствованные с севера и востока, из Венгрии и славянских земель, печи. Потому в холодное время спали чаще всего одетыми. В жилищах того времени было не только холодно, но и темно. Окна были маленькими. В Южной Европе окно представляло собой проем со ставнем. На севере, где холоднее, окна затягивали промасленным тряпьем или вставляли кусочки слюды, ибо стекло было дорогим. Там же, где оконное стекло применялось — во дворцах, богатых домах — оно было мутное, непрозрачное. Больших листов оконного стекла не умели тогда делать, потому оконные рамы представляли собой частые переплеты. Окна обычно не открывались, а вынимались на лето.
Свет в помещение проникал через окна, либо исходил от очага или камина, куда для большей яркости пламени подбрасывали солому. Те, кто побогаче, пользовались глиняными, реже металлическими или стеклянными лампами — плошками, в которых в масле плавал фитиль. Пользовались также свечами, делавшимися чаще всего из сала. Только очень богатые люди или церковь могли позволить себе восковые свечи. Все эти виды освещения давали много чада и мало света, поэтому, когда мы читаем у средневековых авторов о том, как некий зал «был освещен так, что от света было больно глазам», то надо помнить, что перед нами явное преувеличение.
В представлениях потомков, одним из самых важных действий в Средние века были пиры. Это и так, и не так. С одной стороны, в обществе со слаборазвитой экономикой, с явно недостаточными торговыми связями, плохими путями сообщения значительная часть продуктов не могла перемещаться по стране, а потому потреблялась на месте. Поэтому ели много. С другой стороны, неурожаи, голод — постоянные спутники Средневековья. Поэтому ели мало. Противоречие разрешается, если понять, что обильно питались нечасто и не все. Обычной была двухразовая трапеза — утром и вечером. Повседневной пищей большинства населения был хлеб, каши, вареные овощи, зерновые и овощные похлебки, приправленные травами, с луком и чесноком. На юге Европы в еду добавляли оливковое масло, на севере — говяжий или свиной жир, сливочное масло было известно, но употреблялось весьма редко. Мяса в народе ели мало, говядина была совсем редкой, свинина употреблялась чаще, а в горных районах — баранина. Почти везде, но далеко не каждый день, ели кур, уток, гусей, употребляли довольно много рыбы, потому что 166 дней в году приходилось на посты, когда есть мясо было запрещено. Из сладостей был известен только мед, сахар появился с Востока в XIII в., но был чрезвычайно дорог и считался не только редчайшим лакомством, но и лекарством.
В средневековой Европе много пили, на юге — вино, на севере — до XII в. брагу, позднее, после того, как открыли применение растения хмель — пиво. Следует отметить, что обильное употребление алкоголя объяснялось не только приверженностью к пьянству, но и необходимостью: обычная вода, которую не кипятили, ибо о болезнетворных микробах не было известно, вызывала желудочные заболевания. Спирт стал известен около 1000 г., но применялся только в медицине.
Постоянное недоедание компенсировалось сверхобильным угощением на праздниках, причем характер еды практически не менялся, готовили то же самое, что и каждый день (может быть, только давали больше мяса), но в больших количествах.
Не было принципиальных различий в еде бедных и богатых, если не считать, конечно, количества съедаемого. В замках ели больше мяса, притом не только домашней скотины, но и дичи, так как охота была любимым занятием и исключительной привилегией благородных, вместо кур и гусей на стол подавались лебеди или даже павлины. Хлеб был пшеничный, из тонкой муки, вина — выдержанные и дорогие. Еда была пресной, мясо иногда, из-за долгого хранения, — с душком, потому столь популярными являлись пряности, очень желанные и очень дорогие.
Количество и набор посуды были иными, нежели ныне. Супы и похлебки ели в крестьянской семье из общей миски, в замках ставили одну миску на двоих, и сидевшие рядом кавалер и дама ели из одной и даже пили вдвоем из общего кубка. Бокалов вообще было меньше, чем сотрапезников, и их передавали из рук в руки. Мясо клали на плоские хлебцы, выполнявшие роль тарелок, и эти «тарелки», пропитанные мясным соком и соусами, после трапезы отдавали нищим или собакам. Ели мясо руками, крупные куски отрезали ножом; вилки были известны только в Италии, да и там ими пользовались исключительно дамы, когда ели сочные фрукты.
Застольные манеры Средневековья показались бы нам странными, но они проистекали из особенностей тогдашних трапез. Руки мыли перед едой и, конечно, после еды, ибо пальцы оказывались сильно перепачканными; для мытья сотрапезников обносили чашами с водой прямо за столом. На пирах аристократии сигнал к началу трапезы назывался «трубить воду». Поскольку мясо ставилось на стол в больших блюдах, и каждый сам накладывал себе на тарелку-хлебец, то правила хорошего тона требовали, чтобы гости не хватали его помногу, не отталкивали соседей по столу. Передавать кубок другому надо было повернув иным краем, дабы тот пил из него так, чтобы не коснуться следов жирных губ предшественника. Кости не следовало бросать на стол, а руки можно было вытереть о край скатерти — носовых платков и салфеток тогда еще не существовало, — а не об одежду.

Тайная вечеря. Гобелен XV в. На столе нет вилок.
До XII—XIII вв. одежда была удивительно однообразной. Слабо различались по виду и покрою одеяния знати и простолюдинов, даже, в определенной мере, мужские и женские, исключая, разумеется качество тканей и наличие украшений. И мужчины, и женщины носили длинные, до колен, рубахи (такая рубаха называлась камиза), короткие штаны — брэ. Поверх камизы надевалась другая рубаха из более плотной ткани, спускавшаяся несколько ниже пояса — блио. В ХII—XIII вв. распространяются длинные чулки — шоссы. У мужчин рукава блио были длиннее и шире, чем у женщин. Верхней одеждой являлся плащ — простой кусок ткани, надевавшийся мужчинами через плечо, женщинами накидывавшийся на плечи, или пенула — плащ с капюшоном. На ногах и мужчины, и женщины носили остроконечные полусапожки, любопытно, что они не разделялись на левые и правые.

Пастухи. Рельеф XII в. На правом — шоссы и камиза, левый в пенуле.
В XII в. намечаются перемены в одежде. Только с этого времени вообще появляются первые признаки моды, т.е. относительно кратковременных изменений в представлениях о том, что следует носить. Появляются также различия в одежде знати, горожан и крестьян, что свидетельствует об обособлении сословий. Разграничение обозначается прежде всего цветом. Простонародье должно было носить одежды неярких цветов — серого, черного, коричневого, тогда как знать одевалась в зеленое, красное, синее. Края одежды стали украшать орнаментальной вышивкой, пояса из обязательной части одежды — карманов не было и все необходимое клалось в сумочки или кошели и подвязывалось к поясу — стали модным украшением. Мужская одежда у знати удлиняется, в ней не очень удобно двигаться, но это лишь подчеркивает праздность господствующих сословий, отсутствие необходимости трудиться. Женское блио доходит до пола и нижняя часть его, от бедер, делается из другой ткани, т.е. появляется нечто вроде юбки. Эти юбки могли быть очень длинными, со шлейфом до 6—8 метров. Служители церкви обрушивались на эти моды, проповедник начала XIII в. Цезарий Гейстербахский рассказывал, как люди видели, что за шлейф некой дамы цеплялись чертенята.
До XII в. одежды делались из домотканых тканей — шерсти или льна. В XII в. появился шелк с Востока и хлопчатобумажные ткани. Домотканой одежда оставалась только у крестьян.
В XIII в. на смену блио приходит обтягивающая шерстяная верхняя одежда — котта. С распространением земных ценностей появляется интерес к красоте тела, и новая одежда подчеркивает фигуру, особенно женщин. Поверх котты надевали сюрко — безрукавку с разрезом, отороченную мехом. Тогда же, в ХIII в., распространяются кружева. Богатые горожане того времени облачаются в сукно, практичный и теплый материал, пригодный для пребывания вне дома, для дальних путешествий.
Только в XIII в. возникают головные уборы — до того голову покрывали капюшоном плащей или головной повязкой. Теперь капюшон с длинным шлыком и пелериной до плеч становится особым головным убором. Появляются небольшие круглые шляпы с полями и береты, круглые и прямоугольные.
Все описанные одежды, кроме плащей, надевали через голову, ибо до XII в. пуговиц не знали. Части туалета скреплялись или завязками, или застежками типа брошей, зачастую драгоценными произведениями ювелирного искусства.
Средневековье, в наших представлениях, эпоха яркости и пышности. Это справедливо, если говорить об аристократии. Не только женщины, но и мужчины носили перстни, браслеты, ожерелья, другие украшения. Нередко эти украшения исполняли функции денег. Скандинавские конунги раздавали своим приближенным или скальдам не монеты, а золотые браслеты; целый браслет представлял немалую ценность, поэтому их ломали на части. Отсюда часто употребляемый в скандинавской поэзии эпитет вождя — «ломающий браслеты». Так же зачастую отрывали куски от золотых цепочек, чтобы расплатиться.
Мы говорили, что люди разных сословии носили разные одежды. Это было не просто обычаем, но законом. Цеховые уставы запрещали подмастерьям носить перстни. Королевские указы предписывали бюргерам ношение одежды из темных тканей, а их женам под страхом наказаний не дозволялось надевать шелковые платья, длинные шлейфы или меха. Но эти постановления не выполнялись, ибо тогда, как и сейчас, женщины шли на все, лишь бы казаться красивыми.

Блио. Начало XI в.

Котта и сюрко на пуговицах. Скульптура около 1360 г.
Люди Средневековья заботились о своей красоте не менее, чем мы теперь. Косметика с древности была в употреблении у женщин. Немало внимания уделялось и волосам. В раннем Средневековье мужчины носили короткие, стриженные под горшок волосы, усы и бороду. Длинные волосы были привилегией, как мы помним, франкских королей из династии Меровингов. С IX в. бороды стали брить, но в XII в. одновременно с удлинением одежды появилась мода на длинные волосы, нередко, несмотря на гнев проповедников, завитые, и длинные бороды. Впрочем, к концу ХII в., видимо в связи с распространением закрытого шлема, бороды стали сбривать, а волосы стричь коротко, оставляя спереди челку. Женщины заплетали косы. С ХIII в. девушки стали носить распущенные по плечам волосы, замужние дамы убирали их под головной убор, причем те волосы, которые могли выбиваться из-под шляпы или платка, сбривали.
Может быть из-за этого бритья волос обязательным признаком женской красоты являлись большие выпуклые лбы. Вообще, идеал женской красоты — блондинка с голубыми глазами (в рыцарских романах темноглазыми и темноволосыми могут быть только служанки, а не знатные дамы), стройная, с нежной белой кожей, легким румянцем и яркими губами. Стройным голубоглазым блондином должен был быть и красивый мужчина, причем ему полагалось быть сильным, хорошо сложенным — не забудем, что доспехи весили немало.
Красота должна была соседствовать с чистотой. Существует широко распространенное мнение, что в Средние века не мылись. Это неверно; хотя число общественных бань, по сравнению с Античностью, резко уменьшилось в раннее Средневековье, в XII в. они снова стали распространяться. Возможно, это связано с возрождением представлений о ценности земной красоты. Но и помимо таких бань мылись достаточно часто. В деревнях обычные сельские бани были всегда, в замках и городских домах мылись в больших деревянных бадьях в отдельной комнате-чулане либо в большой общей комнате.
Идеал человеческой красоты, о котором мы говорили выше — рыцарский идеал, не слишком распространенный в других сословиях. Точно так же привилегией рыцарства была и оставалась рыцарская любовь. Свод правил должного поведения рыцарства назывался КУРТУА́ЗИЕЙ. Любовь между членами аристократического сословия отличалась особыми, прямо-таки ритуальными правилами. Рыцарь должен был выполнять все приказы своей дамы, служить ей как вассал своему сеньору. Вообще, обычаи куртуазной любви сходны с феодальными обычаями. Когда рыцарь давал своей даме обет быть верным ей, то это было почти то же самое, что и присяга верности сеньору. Когда он брал ее за руку, это являлось не просто знаком нежности, но повторением жеста, сопровождавшего присягу — вложение вассалом рук в руки сеньора.
Рыцарская куртуазная любовь, любовь-поклонение не вполне соответствовала жизненной практике — мы помним, что рыцари нередко поколачивали своих жен, — но оставалась идеалом отношения к женщине. Однако подобные взаимоотношения мужчин и женщин считались обязательными только для аристократии. Автор XII в. Андрей Капеллан писал в своем трактате «О любви», что только знатнейшие и знатные имеют достаточно свободного времени и богатства, чтобы предаваться куртуазной любви, «плебеи» же — к ним Андрей Капеллан относил богатых горожан, купцов и патрициев — погружены в свои заботы, но у них может оставаться достаточно времени на любовь, исключительно, впрочем, в своем кругу. Все же остальные, занятые трудами, попросту не могут любить так, как это предписано рыцарскими законами.
1. Почему технический прогресс в Средние века был столь медленным?
2. Почему простолюдины должны были одеваться скромно и неярко?
3. Что общего между вассальными отношениями и куртуазной любовью?
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ