ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
О тибетско — монгольском словаре «Источник мудрецов»[1](Dag‑yig mkhas‑pa’i ’byung‑gnas)[2]
В биографии Чанкьи Лалитаваджры[3], написанной Тубтэном Ванчигом[4], указывается, что на пятом году царствования, в году Белой Курицы (1740), великий император Цянь — лун (1736–1795) присутствовал в одном из буддийских монастырей Пекина на чтении «Драгоценного Ганжура» и, восторгаясь по этому поводу, спросил своего министра: «У кого имеется такой Ганжур, есть ли ксилографические доски для печатания Ганжура и Данжура вообще»? Ему ответили, что этот Ганжур рукописный, а ксилографические доски для Ганжура и Данжура вырезаны еще в эпоху Цзонхавы и имеются на тибетском языке. На это император сказал: «Во имя распространения буддийского учения на благо всех живых существ необходимо перевести Данжур на монгольский язык».
После этого особым указом перевод Данжура был поручен двум ученым — Чанкье Ролпэ — Дорже Еше Тэнпэ — Донмэ Пэлсанпо[5], который по счету, принятому в научной литературе, именуется Вторым Чанкья — хутухтой (1717–1786), и Лобсану Тэнпи — Ниме[6], чье полное имя Тичен — тулку Лобсан Тэнпи — Нима[7].
Для того чтобы облегчить перевод Данжура с тибетского языка на монгольский, эти два переводчика предварительно составили большой терминологический тибетско — монгольский словарь, названный ими «Хэйпи Чжуннэ»[8]. В редактировании словаря приняли участие пандита Гушри Агван Тэнпэл[9] и лоцава (переводчик) Гушри Агван Чойпэл[10].
Согласно колофону словаря, к его составлению было приступлено в основном Чанкья — хутухтой в июне 1741 г. и закончен он был переводом с тибетского в ноябре — декабре 1742 г. Однако Г. Хут в переводе на немецкий «Хорчой чжуна»[11] в 1892 г.[12] указал на 1740–1741 гг. Причем эту дату он относит к переводу Данжура на монгольский язык, хотя автор «Хорчой чжуна» рассказывает не о переводе Данжура, а именно о составлении словаря «Даг — йиг Хэйпи Чжуннэ» [ «Источник мудрецов»]. Описание автора «Хорчой чжуна» полностью совпадает с колофоном словаря[13].
Это недоразумение вызвало путаницу у Б. Лауфера. Ссылаясь на Г. Хута, он говорит о переводе Данжура на монгольский язык в 1740–1741 гг., хотя совершенно правильно считает такое сообщение сомнительным[14]. Лишь в 1926 г. Б. Я. Владимирцов пояснил, что указанная дата «относится не к переводу Данжура на монгольский язык, а к составлению словаря „Хэйпи Чжуннэ“»[15].
Здесь Б. Я. Владимирцов, ссылаясь на принцип, выработанный П. Пеллио, указывает на правильную дату (1741–1742) составления словаря. Этот период относится к шестому и седьмому годам правления императора Цянь — луна, т. е. к году Железной Курицы (женщина) и году Водяной Собаки (мужчина).
Со времен монгольской династии Юань (1279–1368) монгольский язык имел большое значение в Китайской империи; при следующих династиях — Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) и до конца существования Китайской империи значение его также было немалое, хотя бы по одному тому, что требовались переводы эдиктов и законов на монгольский язык и ведение на нем делопроизводства.
До 1658 г. его преподавание в пекинской школе переводчиков занимало важное место[16].
В последующие годы императоры Канси и Цянь — лун очень покровительствовали монгольскому языку, по — видимому, в политических целях. Воюя, с одной стороны, с монгольскими ханами, они, с другой стороны, старались привлечь на свою сторону видных лиц из числа монгольского духовенства, в первую очередь Ургинского Первого Богдо — гэгэна (1636–1723). Безусловно, здесь шла игра на религиозных чувствах, на единстве вероисповедания с монголами. Цянь — лун, кроме того, вообще покровительствовал наукам, сам был образованным человеком, знал китайский, монгольский, маньчжурский и тибетский языки[17]. При нем было издано множество словарей, например, «Зерцало маньчжурского языка» с монгольскими и китайскими переводами в 24 томах; «Четырехъязычный словарь» в 10 томах, «Пятиязычный словарь» (в нынешнем китайском издании в трех больших томах) и «Большой четырехъязычный словарь» в 36 томах.
Один из основных составителей рассматриваемого словаря, то есть Чанкья — хутухта, по китайским сведениям был соавтором и «Пятиязычного словаря» (маньчжурско — тибетско — монгольско — уйгуро-китайского); при этом полагают, что он — основной создатель тибетской части словаря. Кроме тибетского и санскритского языков он еще хорошо знал китайский, монгольский и маньчжурский. Он же редактировал один из томов Ганжура и Сундуй[18] на четырех языках и читал лекции на китайском языке[19]. Известно также, что он был главным переводчиком и редактором монгольского Данжура.
Разбираемый словарь представляет собой огромную ценность не только как двуязычный тибетско — монгольский словарь, но и как краткое изложение всех разделов Данжура. Этот словарь вызвал всеобщее одобрение ученых лам в Лхасе и в амдоских монастырях, и его авторы получили почетные титулы и благодарности как от Цянь — луна, так и от Седьмого Далай — ламы Лобсана Галсана Гьяцо[20] (1708–1758). Словарь, как краткое изложение содержания Данжура с выделением терминологии, был написан на тибетском языке, а затем переведен на монгольский.
К изданию были привлечены ученые со всех сторон Монголии (из сорока девяти хошунов Внутренней Монголии, семи хошунов Халхи и из Чахара). Эти же переводчики впоследствии переводили и Данжур. Имена этих переводчиков в научной литературе до сих пор не упоминались. Б. Лауфер писал, что «об именах бесчисленных переводчиков мы до сих пор почти ничего не знаем; даты перевода, время жизни переводчиков и комментаторов, названия их монастырей и школ, само время издания должны быть установлены, различные издания сопоставлены, материал, накапливающийся до сих пор в библиотеках, систематически каталогизирован. Благодаря этому мы получили бы не только ценную главу по истории буддизма, но и интереснейший материал по истории книгопечатания и книжного дела»[21]. Пользуясь тем, что в колофоне приведены имена соавторов словаря, считаем нужным привести их:
1. ЛобсанТэнпи — Нима[22],
2. Шераб Гъяцо[23],
3. Директор школ тибетского языка, начиная от узумчинского тай — чжи Гонпокьяба[24],
4. Тэндзин Чойдар[25] — преподаватель тибетского языка,
5. Чойпэл Даргье[26] — гэлон, джасак — лама Западного Желтого храма,
6. Шераб Гьяцо[27] — профессор тибетского языка,
7. Сэцэн Рабчжампа Лобсан Сангье[28] — специалист по астрономии, приехавший из тибетской провинции Уй.
8. Мэрген Рабчжампа Шераб Тэндзин[29] — специалист — филолог,
9. Чжамьян Гьялцэн[30] — эмчи, специалист по медицине,
10. Агван Гьяцо[31] — ученый врач,
11. Агван Санпо Хубон[32] — ученый врач,
12. Лобсан Гьялцэн[33] — специалист по тантре, пандита из амдоского монастыря Дамчойлин[34],
13. Еше Цултим[35] — пандита из Брайбун (Дэпун) — гомана[36],
14–20. Агван Ринчен[37] с пятью философами — метафизиками (гарамба[38]),
21. Лобсан Ярпел, нойон — хутухта[39] — хубилган из Хорчина[40],
22. Ачиту Мэрген Чойчже Лобсан Чойдзин[41],
23. Тусату Чойчже Гушри Агван Тобдан[42],
24. Чойкьяб Тиянгчи — хутухта Эрдэни дархан Гушри Тэнпа Гьяцо[43],
25. Шрикету улемчи Биликту Эрдэни Гушри Чой — Гьяцо[44],
26. Агван Тэнпэл — гэлон[45],
27. Номчи — надсо Гушри Тагпа из монастыря Чжэцун Дампэгар[46]28. Биликту Гушри Тагпа[47],
29. Хурча Билигту Гушри Чойдорже[48],
30. Шидар нангсо Гушри Лобсан Гэлэг[49],
31–40. Десять Гушри — крупные знатоки тибетского языка во главе с уцумучин — лоцавой Гушри гэлоном Агваном Чойпэлом[50].
Как видим, всего участвовало в переводе сорок ученых.
Работа по переводу традиционных 225 томов Данжура, являющегося по существу дополнением — комментарием к Ганжуру, встретила гораздо большие затруднения, чем перевод самого Ганжура. В Данжуре собраны почти все сочинения индийских ученых буддистов весьма различных направлений с богато развитой специальной терминологией. Эта грандиозная задача, поставленная перед переводчиками, была в основном разрешена. В «Источнике мудрецов» собраны почти все термины, встречающиеся по разделам Данжура. Монгольский текст словаря оказывается в значительной степени подновленным по сравнению с рукописным Ганжуром времен Лэгдэн — хана Чахарского (1604–1635), экземпляр которого хранится в рукописном отделе Бурятского комплексного научно — исследовательского института.
Имена индийских ученых в словаре частично транскрибированы, например: Йигше[51] — Васумитра, Йигньен[52] — Васубандху, Чойдаг[53] — Дхармакирти, Лудуб[54] — Нагарджуна, а частично переведены на монгольский язык, например: Чогкьилан[55] — Дигнага, Тогмэ[56] — Асанга, Йонтэн — вё[57] — Гунапрабха.
Названия разделов Данжура и философских школ даются в транскрипции с санскрита, например: парчин[58] — парамита, бума[59] — мадхьямака, чойонпа[60] — абхидхарма, дулва[61] — виная и т. д. В некоторых случаях отдельные термины также транскрибированы с санскрита, например, юл[62] — вишая.
Словарь состоит из одиннадцати разделов.
I раздел — философия бумапа (мадхьямака) — 23 листа. Изложено учение школы шуньявадинов, названы труды представителей этой школы, имеющиеся в Данжуре. После этого перечислены термины.
II раздел — паргин (парамита) — 60 листов. В начале раздела, как бы в виде введения ко всему словарю, авторы подробно останавливаются на том, как нужно понимать и переводить то или иное слово с тибетского языка на монгольский. Дальше идет изложение сущности буддизма, легендарной истории буддизма в Индии и истории проникновения его в Тибет, а затем — перечисление легендарных буддийских деятелей и тибетских царей, история монгольских ханов от Бурточоно до Чингис — хана. Заканчивается введение историей распространения буддизма в Монголии до времен тумэтского Алтан — хана и чахарского Лэгдэн — хана. Затем следует перечисление терминов по парамите и разъяснение основных положений по парамите.
III раздел — чойонпа (абхидхарма) — 102 листа. Дана терминология трудов Васубандху — перечисление 75 элементов (дхарм), а также, согласно Асанге, перечисление 100 дхарм.
IV раздел — дулва (виная) — 96 листов, где представлен устав и правила поведения буддийской общины. Термины здесь взяты в основном из сочинений Асанги и Гунапрабхи, входящие в Данжур.
V раздел — дубтха кор[63]. «О различных философских взглядах» — 23 листа; здесь дан перечень буддийских и небуддийских философских школ. Из буддийских указаны две хинаянистические — вайбхашика и саутрантика, и две махаянистические — йогачара и мадхьямака. От них выделяются еще 18 направлений. Не — буддисты (в Индии) имеют 100 школ, которые и перечисляются.
VI раздел — aг[64] (тантра) — 29 листов — перечисление основных направлений тантрийской мистики, терминология.
VII раздел — тэнциг ригпа[65] (логика) — 26 листов. В основу терминологии положены труды Дигнаги и Дхармакирти, перечислено
7 трактатов, входящих в Данжур, приводится терминология.
VIII раздел — дакьи ригпа[66] (языкознание) — 38 листов. Перечислено 64 различных алфавита, дана грамматическая терминология.
IX раздел — соригпа[67] (прикладные науки) — 23 листа.
X раздел — сова ригпа[68] (медицина) — 30 листов; терминология взята в основном из Чжуд — ши.
XI раздел — дасар ньинги ко[69]. «О старых и новых словах», 25 листов. Дано различие между старыми и новыми тибетскими словами. Этот раздел, по — видимому, взят из известного словаря «Лиший гурхан»[70], который был переведен на монгольский язык в 1742 г.
Словарь «Источник мудрецов» был издан в Пекине, видимо, в 1742–1743 гг. В 1925 г., по заказу Монгольского Ученого комитета, бурятский Агинский дацан выпустил ксилографическое переиздание пекинского ксилографа[71].
Первые листы некоторых разделов пекинского издания снабжены миниатюрами: например, в первом разделе изображены слева Будда, справа — Манджушри.
Изучение и перевод трактатов, входящих в Данжур, в первую очередь «Абхидхармы» и «Логики», велись до сих пор, как правило, по тибетскому Данжуру различных изданий. Это относится полностью и к работам русских и советских ученых. Таким образом, монгольская терминология научных трактатов выпала из научного оборота и оставалась незаслуженно заброшенной. Между тем, сравнение этой терминологии с обработанной уже тибетско — санскритской представляло бы значительный интерес. Можно прямо сказать, что до тех пор, пока не будут составлены монголо — тибетско — санскритские указатели с переводом, разбор и перевод монгольского Данжура просто невозможны. Поэтому авторы настоящего сообщения решили в виде первого опыта дать небольшой указатель по разделу «Абхидхарма», тем более что они поставили своей задачей в ближайшее время составление такого многоязычного указателя с переводом на русский язык. В основу прилагаемого индекса положены таблицы «элементов», приведенные в трудах академика Ф. И. Щербатского и профессора О. О. Розенберга (см. список литературы).
Таблица 1
ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ

Оба названных ученых привели свои таблицы на санскрите, хотя Ф. И. Щербатской положил в основу тибетские источники, а О. О. Розенберг — японские и китайские. Санскритская терминология, с нашей точки зрения, очень важна, но имеет вспомогательный характер, если речь идет о произведениях, сохранившихся на тибетском и монгольских языках и лишь в отдельных случаях на санскрите. Поэтому основным, первым, языком в приводимых ниже таблицах нами дан тибетский язык, так как произведения на нем были до сих пор более доступны, за ним следует монгольский и последним — санскрит. Перевод на русский язык нами не дается. Это очень длительная и трудоемкая работа, предусматриваемая нами несколько позже, при составлении многоязычного указателя по разделам словаря. До сих пор в практике составления указателей перевод почему‑то исключался (ср. указатели, изданные в «Bibliotheca Buddhica», таблицы О. О. Розенберга, таблицы в «Central Conception…» Ф. И. Щербатского и т. п.). К сожалению, даже русские ученые пользовались в целях перевода английским языком. Это, может быть, было целесообразно в свое время, но никак не может быть признано таковым сейчас.
Таблица 2
ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ НА 12 БАЗ (āyatana, SKYE‑MCHED)
| 5 индрий (dbang‑po, «органы» чувств) +1 база | 5 вишья (yul, объективная сторона чувствования) + 1 база |
| (База) «орган зрения» | cakṣur-indriya — (āyatana) | mig‑gi dbang‑po | 1 дх. | Видимое (цвет и форма) | rūpa‑āyatana | gzugs‑kyi skye‑mched | 1 дх. |
| (База) «орган слуха» | śrotrendriya — (āyatana) | rna‑ba'i dbang‑po | 1 дх. | Слышимое | śabda‑āyatana | sgra’i skye‑mched | 1 дх. |
| (База) «орган обоняния» | ghrāṇendriya — (āyatana) | sna‑ba'i dbang‑po | 1 дх. | Обоняемое | gandha‑āyatana | dri’i skye‑mched | 1 дх. |
| (База) «орган вкуса» | jihvendriya — (āyatana) | lce’i dbang‑po | 1 дх. | Вкушаемое | rasa‑āyatana | ro’i skye‑mched | 1 дх. |
| (База) «орган осязания» | kāyendriya — (āyatana) | lus‑kyi dbang‑po | 1 дх. | Осязаемое | sparśa‑āyatana | reg‑bya skye‑mched | 1 дх. |
| (База) «способность интеллекта» | mana‑indriya — (āyatana) | yid‑kyi dbang‑po | 1 дх. | База нечувственного | dharma‑āyatana | chos‑kyi skye‑mched | 64 дх. |
Таблица 3
ДЕЛЕНИЕ 75 ДХАРМ НА 18 ЭЛЕМЕНТОВ (DHĀTU, KHAMS)
| 6 частей единого сознания | 6 «органов» восприятия (включая седьмую часть сознания) | 6 видов объектов воспринимаемого |
| Сознание видимого | cakṣur‑vijñāna‑dhātu | mig‑gi rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» зрения | cakṣur‑indriya‑dhātu | mig‑gi dbang‑pcn khams | 1 дх. | Видимое | rūpa‑dhātu | gzugs‑kyi khams | 1 дх. |
| Сознание слышимого | śrotra‑vijñāna‑dhātu | rna‑ba’i mam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» слуха | śrotrendriya‑dhātu | rna‑ba’i dbang‑po’i khams | 1 дх. | Слышимое | śabda‑dhātu | sgra’i khams 1 дх |
| Сознание обоняемого | ghrāṇa‑vijñāna‑dhātu | sna‑ba’i rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» обоняния | ghrāṇendriya‑dhātu | sna‑ba’i dbang‑po’i khams | 1 дх. | Обоняемое | gandha‑dhātu | dri’i khams | 1 дх. |
| Сознание вкушаемого | jihvā‑vijñāna‑dhātu | lce’i rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» вкуса | jihvendriya‑dhātu | lce’i dband‑po’i khams | 1 дх. | Вкушаемое | rasa‑dhātu | ro’i khams | 1 дх. |
| Сознание осязаемого| kāya‑vijñāna‑dhātu | lus‑kyi rnam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | «Орган» осязания | kāyendriya‑dhātu | lus‑kyi dbang‑po’i khams | 1 дх. | Осязаемое | sparśa‑dhātu | reg‑bya khams | 1 дх. |
| Сознание идейного | mano‑vijñāna‑dhātu | yid‑kyi mam‑par‑shes‑pa’i khams | 1/7 дх. | Способность интеллекта (сознание предыдущего момента) | mana‑indriya‑dhātu | yid‑kyi dbang‑pcn khams | 1 дх. | Нечувственное | dharma‑dhātu | chos‑kyi khams | 64 дх. |
Таблица 4
ПЯТЬ СКАНДХ (72 ДХАРМЫ)
I. РУПА — СКАНДХА (группа чувственного или формы) — 11 ДХАРМ (GZUGS‑KYI PHUNG‑PO)
| 5 индрий (dbang‑po) | 5 вишья (yul) |
| «Орган» зрения | cakṣur‑indriya | mig‑gi dbang‑po | 1 дх. | Видимое | rūpa | gzugs | 1 дх. |
| «Орган» слуха | śrotrendriya | rna‑ba’i dbang‑po | 1 дх. | Слышимое | śabda | sgra | 1 дх. |
| «Орган» обоняния | ghrāṇendriya | sna‑ba’i dbang‑po | 1 дх. | Обоняемое | gandha | dri | 1 дх. |
| «Орган» вкуса | jihvendriya | lce’i dbang‑po | 1 дх. | Вкушаемое | rasa | ro | 1 дх. |
| «Орган» осязания kāyendriya | lus‑kyi dbang‑po | 1 дх. | Осязаемое | sparṣṭavya | reg‑bya | 1 дх. |
| Необнаружимое avijñapti, mam‑par mi‑dmies — раг byed‑pa 1 дх. |
II. ВЕДАНА — СКАНДХА (группа ощущения) — 1 ДХАРМА (TSHOR‑BA’I PHUNG‑PO)
Ощущение, vedanā, tshor‑ba
1 дх.
III. САНДЖНЯ — СКАНДХА (группа различения) — 1 ДХАРМА (’DU‑SHES‑PA'I PHUNG‑PO)
Способность различения, saṁjna, ’du‑shes
1 дх.
IV. САМСКАРА — СКАНДХА (группа двигателей) — 58 ДХАРМ ('DU‑BYED‑GYI PHUNG‑PO)
См. табл. 5
58 дх.
V. ВИДЖНЯНА — СКАНДХА (группа сознания) — 1 ДХАРМА (RNAM‑PAR SHES‑PA’1 PHUNG‑PO)
Сознание без содержания, citta, sems
1 дх.
Таблица 5
САМСКАРА — СКАНДХА (ГРУППА ДВИГАТЕЛЕЙ) — 58 ДХАРМ ('DU‑BYED‑KYI PHUNG‑PO)
8 психических факторов (способностей) — 8 дхарм
Активность сознания, cetanā, sems‑pa
Соприкосновение, sparśa, reg‑pa
Желание, chanda, 'dun‑pa
Понимание, prajñā (rnam‑dpyod), mati (blo‑gros)
Память, smrti, dran‑pa
Внимание, (сознание идейного), manasikāra, yid‑la‑byed‑pa
Стремление (к освобождению), adhimukti, mos‑pa Сосредоточение, samādhi, ting‑ngc-’dzin
(Эти 8 дхарм вместе с веданой и санджней образуют группу 10 психических факторов — citta‑mahabhumika. sems‑kyi sa‑mang)
10 благоприятных психических сил — 10 дхарм
(kuśala‑mahābhūmika, dge‑ba'i sa‑mang)
Убежденность в воздаяние, чистота духа, обратная страстям, śraddhā, dad‑pa
Мужество, энергия в добрых делах, vīrya, brtson-’grus
Невозмутимость, безразличие, upekṣā, btang‑snyoms
Скромность, стыдливость, hrī, ngo‑tsha‑shes‑pa
Отвращение к предосудительному, совершаемому другими людьми, apatrapā, khrel‑yod‑pa
Бесстрастие, alobha, ma‑chags‑pa
Отсутствие ненависти, adveśa, zhe‑sdang med‑pa
Непричинение насилия, ahiṁsā, mam‑par mi-’tshc‑ba
Умственная ловкость (хитрость), prasrabdhi, shin‑tu sbyangs‑pa
Приобретение и сохранение хороших качеств, apramāda, bag‑yod‑pa
6 общих омраченных элементов — 6 дхарм
(kleśa‑mahābhūmika, nyon‑mongs chcn‑po’i sa‑mang)
Неведение, avidyā, ma‑rig‑pa Бесстыдство, pramādaḥ, bag‑mcd‑pa
Лень, kausīdya, le‑lo
Безверие (в воздаяние), aśraddhā, ma‑dad‑pa
Вялость, styāna, rmugs‑pa
Необузданность, возбужденность, auddhatya, rgod‑pa
2 общих отрицательных элемента — 2 дхармы
(akuśala‑mahābhūmika, mi‑dge‑baM sa‑mang)
Высокомерие, непочтительность, āhrīkya, ngo‑tsha‑med‑pa
Не чувствовать негодования, присутствуя при нанесении обиды другим, бесстыдство, anapatrāpya, khrel‑med‑pa
10 ограниченно встречающихся порочных элементов, не сочетающихся ни с одним из пяти видов сознания чувственного, ни с четырьмя элементами, исключающими друг друга (страсть, ненависть, гордость, сомнение) — 10 дхарм (upakleśa‑bhūmika, nyon‑mongs chung‑duM sa‑mang)
(Подавляются знанием, а не сосредоточением)
Злоба, насилие, krodha, khro‑ba
Лицемерие, mraksa, 'chab‑pa
Зависть, matsārya, ser‑sna
Ревность, īrṣyā, phrag‑dog
Одобрение предосудительного, pradasa, ’tshig‑pa
Причинение вреда, угроза, vihiṁsā, mam‑ṛāñ 'tshe‑ba
Злопамятность, upanāha, khon‑du, 'dzin‑pa
Обман, māyā, sgyu
Вероломство, śaṭhya, g.yo
Самодовольство, самолюбование, mada, rgyags‑pa
8 элементов, не имеющих самостоятельного места в приведенной выше системе, но способных входить в сочетание с другими элементами — 8 дхарм (aniyata‑bhūmika, ma‑nges‑pa'i mtshungs‑ldan)
Раскаяние, угрызение совести, kaukṛtya, 'gyod‑pa
Апатия, отсутствие реакций, nidrā, gnyid
Искательное состояние духа, vitarka, rtog‑pa
Обдумывание, vicāra, dpyod‑pa
Страсть, raga, 'dod‑chags
Гнев, pratigha, khong‑khro
Гордость, māna, nga‑rgyal
Сомнение, vicikitsā, the‑tshom
14 элементов (сил), не включенных ни в материальные, ни в психические элементы — 14 дхарм (citta‑viprayukta, mam‑par shes‑ldan‑pa ma‑yin‑pa)
Сила, контролирующая соединение элементов в индивидуальный поток бытия, prapti, dhob‑pa
Сила, случайно (время от времени) удерживающая в повиновении в индивидуальном потоке бытия, aprapti, ma‑dhob‑pa Сила, производящая общность или однородность, sambhāga, skal‑mnyam
Сила, автоматически (в результате прежних деяний) переносящая индивид в область бессознательного транса, (бессознательность), asaṁjñāna, 'du‑shcs med‑pa
Сила, останавливающая сознание и производящая бессознательный транс через усилие, asaṁjñāna‑samāpatti, 'du‑shcs med‑pa’i snyoms-’jug
Сила, останавливающая сознание и производящая смутный бессознательный транс, nirodha‑samāpatti, ’gog‑pa’i snyoms‑pa
Сила длительности жизни, jīvita, srog
Сила возникновения, jāti, skye‑ba
Сила существования, пребывания, sṭhiti. gnas‑pa
Сила, приводящая к упадку, jarā. rga‑ba
Сила, приводящая к угасанию, anitya, mi‑rtag‑pa
Сила, дающая значение словам, nāma‑kāya, ming‑gi‑tshogs
Сила, дающая значение предложениям, pada‑kāya, tshig‑gi‑tshogs
Сила, дающая значение членораздельным звукам (фонемам), vyañjana‑kāya, yi‑ge’i‑tshogs
Таблица 6
ДХАРМЫ, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ БЫТИЮ — 3 ДХАРМЫ (ASAṂSKṚTA, ’DUS‑MA‑BYAS)
Пустое пространство. ākāsa, nam‑mkha’
Подавление омрачающих элементов через понимание каждого в отдельности, pratisaṁkhyā‑nirodha, so‑sor‑brtags‑pa’i ’gog‑pa
Подавление омрачающих элементов без изучения каждого в отдельности, apratisaṁkhyā‑nirodha. so‑sor‑brtags min‑gyi ’gog‑pa
Таблица 7
ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ВСЕОБЩИХ ЭЛЕМЕНТА — 4 ДХАРМЫ (MAHABHUTA, 'BYUNG‑BA BZHI CHEN‑PO)
Земля (элемент, проявляющийся как твердость, отталкивание), pṛthivī‑dhātu. sa’i‑khams
Вода (элемент, проявляющий свойство текучести, притяжения, соединения), apas‑dhātu, chiTi‑khams
Огонь (элемент тепла, скачка), tejo‑dhātu, me’i‑khams Воздух (ветер; элемент движения), iraṇa‑dhātu, rlung‑gi‑khams
Литература
1. Dag‑yig mkghas‑pa’i ’byung‑gnas. Ксилограф пекинского издания, РО БКНИИ и рукопись в одном томе обычного книжного формата 21x32,732 с.
2. Chos‑mngon‑pa mdzod‑kyi tshig‑le’ur byas‑pa.
3. mDzod‑rang-’grel. Два ксилографа пекинского издания, Данжур, том 63, РО БКНИИ.
4. Gres‑rgon rgya‑rtsa brbya. Ксилограф агинского издания.
5. Gang‑zag‑gi bdag‑med. Рукопись.
6. Журнал «Melanges Astatique», 1856, vol. 2.
7. Л. С. Пучковский. Монгольские рукописи и ксилографы Института востоковедения АН СССР, Л., 1957.
8. G. Huth. Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, 2.
9. ’Jigs‑med nam‑mkh’a / hor‑chos-’byung. G. Huth, Strassburg, 1892.
10. Б. Лауфер. Очерк монгольской литературы. Перевод с немецкого Казакевича. Л, 1927.
11. Б. Я. Владимирцов. Монгольский Данжур. «Доклады АН СССР», март — апрель 1926.
12. F. Hirth. The Chinese Oriental College. Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. XXII, Shanhai, 1888.
13. lCang‑skya hu‑thug‑thu’i rnam‑thar. Ксилограф пекинского издания 1787 г.
14. Th. Stcherbatsky. Central Conteption of Buddhism and the Meaning of the Word «Dharma», London, 1923.
15. О. О. Розенберг. Проблемы буддийской философии. Пгд, 1918.
16. Bod‑hor‑kyi brda‑yig ming‑tshig don‑gsum gsal‑byed bzhugs. Словарь Р. Номтоева. Ксилограф Агинского издания, РО БКНИИ.
17. Buddhistische Triglotte. Sanskrit‑tibetish‑mongolisches Wiirter-verzeichnis, издал A. Schiefner, St — Р., 1859.
18. «Mahavyutpatti», Тибетско — санскритско — китайский указатель. Литографированное издание «in quarto» Academia Sinica. Составили проф. Ю. Доу — цюань и Ли Юнг — ньен в 1934 г.
19. dGe‑bshes chos‑kyi grags‑pas brtsams‑pa’i brda‑dag ming‑tshig gsal‑ba bzhugs‑so. Тибетско — тибетско — китайский толковый словарь. Пекин, 1957.
20. Пятиязычный словарь в трех томах. Пекин, 1956.
Из истории бурятских дацанов (Бурятская историческая хроника)[72]
В рукописном отделе БИОНа (Бурятский институт общественных наук, Улан — Удэ) СО АН СССР хранится историческая хроника на тибетском языке, представляющая краткую справку о строительстве дацанов и деятельности видных лам Бурятии в период с 1648 по 1852 гг.
Описание событий из истории распространения буддизма в Бурятии XVII‑XVIII вв., по — видимому, составлено на основании местных источников летописного характера, а события XIX в., вероятно, изложены в результате личного наблюдения анонимного автора. Автор хроники, принадлежа, очевидно, к ламаистскому духовенству, повествует об истории буддизма с хорошим знанием рассматриваемого предмета. Значение данной хроники состоит в том, что в ней содержатся интересные данные по строительству бурятских дацанов и о деятельности буддийского духовенства, отсутствующие в летописях и в архивных материалах. В хронике есть сведения о роли представителей правящего класса в распространении буддизма в Бурятии. Например, в хронике говорится, что тайша Хоринской степной думы Дамба Дугар Ринцеев, проявляя заботу о ламаистском духовенстве, наделял многих лам земельными участками и организовывал в их пользу богатые жертвоприношения [пожертвования].
Этот памятник бурятской историографии на тибетском языке, впервые обнаруженный нами в хранилище рукописного отдела, представляет большое источниковедческое значение. Размеры текста: длина 45 см., ширина 35,5 см. В каждом листе текста 25 строк, между строками имеется значительное количество вписок. Текст написан на русской бумаге, пожелтевшей от времени, химическим карандашом.
По — видимому, данный список представляет собой позднюю копию. Над текстом, где по — тибетски указаны даты событий, монгольскими цифрами даны даты по европейскому летосчислению. Между строками имеются отдельные пометки по — старомонгольски.
Намо гуру ратна дарьяя![73]
Шакьямуни, несравненный учитель, стоящий выше, чем небожители, создал в Индии свое высшее Учение, вызвавшее дождь нектара Трех Колесниц, и сочинил и размножил зерна спасения в Трех Мирах. Продолжатели его учения — пандиты, мудрецы, йогины и другие деятели, происходящие из высшего рода, заполнили тибетскую страну драгоценным учением буддизма — гинтамани. Затем на севере, в Монголии, появилось ясное солнце высокой веры, которое осветило темноту чуждых по взгляду. О, вы, слушайте это!
Расскажу я о том, как подлинно близкий и истинный путь (спасения), а также частица верного учения и свет высших добродетелей торжествовали в храмах Будды, построенных в (районах) восточной горы этой обширной местности, и о том, как многочисленный народ, именуемый хоринцами, вышел из (племени) солон — баргут (so Гоп раг kod) и небольшими группами (родами) кочевал (по территории, простирающейся от рек Нерчи и Онон[74] до (пределов) Северного моря[75]. Впоследствии, по русскому календарю в 1648 г.[76], вступили они в подданство русского царя[77]. Нынешние (хоринские) буряты являются потомками солон — баргутов.
Тогда они поклонялись главным образом различным духам — онгонам[78]. Именно в это время здравствовал Чжецюн Лобсан Данби Жалцан[79]. В связи с большой смутой, посеянной Бошокто — ханом в 1676 г., из Урги прибыли сюда[80] сто пятьдесят тибетских и монгольских гэлонов, которым народ начал поклоняться как представителям драгоценной и высокой религии. Ими же был создан в 1751 г. Цонгольский дацан[81].
Для распространения религиозного учения лама Чойджи Агван Пунцок[82], тибетец из Джонана, основал (должность) главы желтой религии[83] в монастыре Цонгол — брайбун (Tshon g’ol ’bras spungs) в стране русских. С того времени до настоящей поры эту должность продолжают занимать (ламы) с титулом Пандита — хамбы.
В это время добродетельный человек по имени Чантан — Дибатход (депутат, Chan than di ра th’ad) стал усердным поклонником религии. Он трижды посетил Петербург — столицу царя — по делам религии, а также был большим поклонником Дзая — хамбы[84]. При последнем посещении он привез разрешение на строительство монастыря. Впервые среди хоринцев было начато строительство дацана в год Воды — Змеи 13 рабчжуна[85], носящего название Рабдод[86] (1773 г.) на южном склоне горы Челсан[87] [восточнее Кижинги]. Оно было закончено в год Огня — Обезьяны (1776 г.). Этот дацан духовно освятил тибетский лама, который жил в Атаганском дацане. Дацан был назван Даши Лхумбулин[88]. Лама Дондуб[89], известный по прозвищу Монгольский высокий лам[90], стал настоятелем данного дацана. От этого ламы получили посвящение в монахи следующие люди: Дондуб Пунцог (Сондол — гэлон Ригдол)[91], которого называли настоятелем из Цаган — хунды, ибо его усадьба находилась в местности Цаган — хунды; Жамьян Сунраб — лама из Халхи[92]; Гэдун[93]. Это означало начало религиозного цикла среди хоринцев.
В год Земли — Собаки (1778) двадцать человек из тибетцев, монголов и хоринцев собрались в этом дацане и служили молебен в белом месяце[94]. В том же году дацан сгорел. В результате пожара погибло все, кроме посоха мирянина Чантана — депутата[95], последователя религии. Сей посох не сгорел благодаря тому, что в него было заложено чиндамани — драгоценный талисман. В то время настоятель дацана Лобсан Дондуб был в отъезде, находясь в Тугнуе (Thug nu).
После пожара были предприняты меры по перенесению монастыря в местность Кудун[96]. Здесь дацан построили в году Железа — Мыши (1780). Духовное освящение Кудунского дацана совершили монгольские ученые ламы во главе с Ендон — гэлоном[97], а лама Лобсан Шераб[98] стал настоятелем нового дацана. Там появились первые гебкуй[99] Дондуб Пунцог, умзат[100] Лобсан Шераб и другие.
Итак, людей, носящих красно — желтые одеяния, появилось много. От хоринского народа им стали приносить религиозные дары (жертвоприношения).
В 1786 г. был построен Тугнуйский дацан (Thug nu’i gra tshang). Согласно приказу русского царя[101], даже не дав времени для обдумывания, в двух указанных дацанах укомплектовали двадцать восемь лам (1791 г.)
В то время жил тайша Дамба Дуга[102], считавшийся сильным и усердным поклонником религии. Он захватил в свои руки лам, выделил им землю для посевов и сенокоса, а также организовал много богатых подношений. Когда заходил разговор о постройке дацанов, он указал места Моши[103], Талхата и правый берег Сулхары[104].
Настоятелем Кудунского дацана долгое время был лама Лобсан Дондуб Пунцог.
Для открытия нового места жертвоприношения — дацана — анинский тайша Дамба Дугар лично обещал половину средств (требуемых для постройки храма). (Кроме того) он пожертвовал в пользу дацана еще множество необходимых ценных товаров. Благодаря этому был построен Анинский дацан[105]. В этом дацане настоятелем недолго был Лобсан Дандар (Blo bsang bstan dar). Он происходил из рода хара — нохойских галзутов, населяющих долину реки Уды в Хоринском районе. Он был учеником монгольского настоятеля. Однажды, пятнадцатого числа белого месяца, этот настоятель прибыл в дацан для чтения молебна нгоба (bsngo ba) в нетрезвом виде и не смог совершить службу. После этого случая пригласили ламу Пунцога[106], который и стал настоятелем Кудунского и Анинского дацанов. После него настоятелем Кудунского дацана был лама Лобсан Содбо, мирское имя которого Дава Норанэ[107]. Настоятелем Анинского дацана стал лама Чоинпол[108], выходец из харганатского рода и местности Могсохон[109]. В те же годы было много людей, стремящихся поджечь дацан, и им удалось осуществить это намерение.
После пожара под руководством нойона[110] Галсана в Анинске в 1808 г. был построен новый дацан. Первый же умзат Лобсан Шераб стал настоятелем Кудунского дацана. А лама по имени Данзан Чойсан[111], приглашенный гэлоном Лобсаном Дагбой, стал шестым настоятелем Кудунского дацана. Благодаря стараниям Лобсана Содбо был переписан Ганжур и построен Красный дуган[112]. Тогда же заново был построен дацан в местности Курба[113], где первым настоятелем стал цолгинский Агван — умзат[114]. После него настоятелем этого дацана стал Балдан Нансо, мирское имя которого было Хурбин Цондол[115]. Вслед за ним настоятелем был Лобсан Чойдан[116]. Первый гебкуй из местности Улзуйто[117] по имени Лобсан Гунга[118] основал Чесанский дацан[119], в районе которого было много верующего народа. Тогда в Чесане еще был лама по имени Лобсан Лхундуб[120]. До приезда в Цугол он жил в местности Жебхэсэн[121]. Будучи шанзодбой[122] Чесанского дацана, он ушел на Онон, где основал Цугольский дацан Даши Чойпэллин[123], распространил много сутр и проповедовал тантрийское учение.
В те далекие времена, кроме молебствий, читаемых в период больших праздников, еще не проводилось ежедневного чтения проповедей и слушания их в соответствии со способностями воспринимающего разума. Однако благодаря авторитету высших лам рядовые ламы могли постепенно стать образованными. И, правда, появилось несметное количество лам: ученые, познавшие степени обычных путей спасения; великие йогины (отшельники), практикующие тантрийские пути; ученые, познавшие основы цанида[124] и овладевшие методами обдумывания и слушания проповедей; ламы, познавшие медицину, искусства и астрономию.
После смерти ламы Лобсана Содбо[125] был основан Агинский дацан[126] благодаря старанию выходцев из Тугнуя, откуда в Агу переехало много лам.
Нынешний настоятель Лобсан Тойндол[127] долгое время находился на этой должности. Во время его деятельности, точнее с года Воды — Мыши, носящего название Раб — ед[128], четырнадцатого рабчжуна (1852) начался перевод Кудунского дацана в Кижингу.
В год Огня — Овцы четырнадцатого рабчжуна (1847) многие ламы во главе с Пандита — хамбой Чойваном Дорже[129] и ламой Ринпоче Лобсаном Лхундубом[130] духовно освятили Кижингинский дацан, вызвав «море дождей высокого добродеяния». С этих пор он стал опорой разума, основой созерцания и источником высокой науки, создав твердую почву добродеяния.
Элементы зависимого происхождения по тибетским источникам[131]
Известно, что Четыре Благородные Истины буддизма суть: 1) мир круговорота полон страданий: 2) причина этих страданий:
3) возможность прекратить страдания и 4) путь, ведущий к прекращению страданий. Теоретическое обоснование второй и третьей истины разработано в угении о зависимом происхождении (санскр. pratltya‑samutpada, тиб. rten‑cing-'brel‑bar-’byung‑ba). В легенде говорится, что «…тогда Блаженный в течение первой стражи ночи остановил свой ум на цепи причинности, понимаемой в прямом и обратном порядке:
— из неведения возникают санскары (очертания):
— из санскар — сознание:
— из сознания возникают имя и форма:
— из имени и формы возникают шесть областей (области шести органов чувств: глаза, уха, носа, языка, тела, т. е. осязания, и ума):
— из шести областей возникает соприкосновение:
— из соприкосновения — ощущение:
— из ощущения — жажда (или желание):
— из жажды возникает привязанность:
— из привязанности — становление:
— из становления возникает рождение:
— из рождения возникают старость и смерть, скорбь, стенания, страдания, уныние и отчаяние»[132].
Это рассмотрение цепи причинности в прямом порядке отвечает на вопросы второй и третьей истины и лежит в основе буддийского понимания сансары. Далее следует рассмотрение цепи причинности
Таблица 1

Элементы, проистекающие Элементы, проистекающие из прошлой жизни из настоящей жизни в обратном порядке: «с уничтожением невежества посредством полного устранения вожделения уничтожаются санскары… и т. д.; с уничтожением рождения уничтожаются старость и смерть, скорбь, стенания, страдания, уныние и отчаяние. Тогда исчезает вся эта бездна страдания»[133]. Этот перечень, производимый в обратном порядке, обосновывает третью истину — о затухании страдания и утверждает необходимость разработки метода (пути), ведущего к прекращению страдания.
Учение о зависимом происхождении толкуется как в философском смысле, так и в более обыденном. Но в том и в другом случаях речь идет о потоке индивидуальной жизни. Точка зрения философского толкования, с которой рассматриваются этапы жизни индивидуума, существенно отличаются от обычного понимания. С точки зрения обеих интерпретаций, двенадцать звеньев цепи зависимого происхождения являются все‑таки описанием жизни сознательного существа, описанием, которое обнимает три жизни — прошлую, настоящую и будущую (табл. 1).
Первым членом зависимого происхождения является неведение (табл. 2). Оно имеет девять периодов (в пределах прошлой, настоящей и будущей жизни).
1. Данный конкретный индивидуум не успел подавить своих страстей и стремлений к жизни в прошлом и не понял, что он должен был сделать это; напротив, увлекся бытием, будучи всецело охвачен вихрем жизни. Это явление у буддистов называется неведением, или омраченностью.
2. Неведение вместе с некоторыми другими элементами переходит от прошлого в настоящую жизнь.
3. Если индивид не успевает подавить его и в этой жизни, то оно проходит в будущую жизнь.
4. Четвертым периодом неведения является неведение относительно элементов внутренних (т. е. сознания и психики). Оно, поскольку речь идет о жизни живых, сознательных существ, соответствует сознанию настоящей жизни.
5. Пятый период существует относительно внешних объектов, которым соответствует соприкосновение. Взаимодействие всех элементов начинается с соприкосновения, посредством которого сознание вступает в связь с органами чувств и внешними объектами.
6. Шестой период существует относительно шести органов чувств. При их развитии происходит мгновенное появление и взаимо — действие субъективного и объективного, посредством которого начинается познание вещей и явлений.
7. Седьмой период связан с деянием и относится ко времени пробуждения вожделения. В 16–17–летнем возрасте у человека начинает пробуждаться сексуальное чувство, а затем возникает и стремление к тем или иным целям.
8. Стремление относится к жизни взрослого, зрелого человека.
9. Последний период охватывает всю жизнь становления. В этот период новые элементы уже не проявляются, человек живет более интенсивно. На протяжении жизни, до момента смерти, он все глубже погружается в водоворот бытия, обволакивается мраком заблуждения, а этим укрепляет в себе энергию и волю к бытию.
Таблица 2

В «Абхидхармакоше» Васубандху перечисляет случаи заблуждения (неведения) относительно элементов, пробуждающих индивидуума от мрака неведения: т. е. заблуждения относительно Будды, дхармы и сангхи, заблуждения относительно страдания (sdug‑bsngal), источника возникновения мира круговорота (kun-’byung), прекращения страданий (’gog‑pa) и относительно пути (lam)[134], ведущего к прекращению страдания. Указанные виды заблуждения проявляются в период полной сознательности человека. Вообще самым основным считается заблуждение, где человек утверждает о существовании индивидуального Я и Я элементов (gan‑zag‑gi bdag-'dzin; chos‑kyi bdag-'dziri). Этот вид заблуждения заставляет предполагать действительным то, что на деле недействительно и этим самым пробуждает жажду к жизни.
Неведение является самым важным фактором, удерживающим индивидуума в колесе мира круговорота, создающим иллюзорное бытие и всецело охватывающим индивида вихрем жизни. Арьядэва говорит: «Как все тело индивида пронизано чувствительными нервами, так же все понимание вещей пронизано неведением. Можно уничтожить все виды морального осквернения путем уничтожения неведения. При подлинном познании учения о зависимом происхождении неведение исчезает. Поэтому следует приложить максимум старания, чтобы понять слово неведение».
Из вышеизложенного ясно, что вся жизнь индивидуума пронизана неведением; оно также является предшествующим условием всякого существования. А что является причиной возникновения неведения? На этот вопрос буддисты отвечают, что неведению ничто не предшествовало, что оно существует безначально, так же, как безначален мировой процесс. Его интенсивность, увеличение и уменьшение зависят от деяний самого индивидуума. Оно становится на первом месте в цепи причинности потому, что благодаря ему возбуждается хотение, а через хотение проявляется существование.
Вторым членом зависимого происхождения являются двигатели (табл. 3). Ученые по — разному определяют понятие двигатели. Наиболее приемлемым нам кажется определение проф. О. О. Розенберга: «Сознание, в смысле сознавания, как такового, абстрагированного от всего содержания, пусто; чувственные элементы (rupa‑dharma) являются ничем не связанными единицами. Для того, чтобы что‑то вообще происходило, необходимо действие еще других элементов, элементов — двигателей, которые заставляли бы сознание направляться и реагировать так или иначе на другие элементы, которые заставляли бы все дхармы вступать или не вступать в связь между собою в мгновенные комбинации и которые, наконец, побуждали бы дхармы — носители выплывать на момент в бытие и исчезать, т. е. которые поддерживали бы самый процесс бытия как такового. Эти элементы, являющиеся двигающим, или активным, началом и лежащие в основании того факта, что что‑то бывает или сбывается, совершается или происходит, объединяются в одну общую группу элементов — двигателей — санскару»[135].
Таблица 3

Двигатели как второй член зависимого происхождения имеют три периода. Первый период относится к добродетелям. Элементы — двигатели, или сила воли, направили сознание на добродетели. Второй период — греховное деяние, третий — деяние без колебания в какую‑либо сторону в смысле нравственной нормы, т. е. деяния безгрешные и недобродетельные. Действие двигателей полностью зависит от неведения; если индивидуум полностью погружен во мрак неведения, он жаждет жизни и наслаждения, и тогда элементы — двигатели направят сознание на грешное действие, и, наоборот, если индивид познал сущность Четырех Истин и вступил на путь, ведущий к прекращению страдания, то двигатели могут привести к уничтожению всех безнравственных элементов и к достижению мудрости и освобождения. Но, как уже было сказано, существуют и нравственно индифферентные действия двигателей.
Третьим членом зависимого происхождения является сознание (табл. 4.). Виджняна вообще — это абстрактное сознание, в смысле чистой формы сознания, или сознательности как таковой; оно является своего рода центром в общем вихре дхарм, и в этом смысле буддисты допускают возможность назвать его термином Я. Но это Я есть просто то, что сознает, сознательная сторона переживаний, а отнюдь не некое самостоятельное Я в обыденном смысле этого слова. Сознание рождается беспрерывно, но не бывает того, чтобы в один и тот же момент были два сознания[136]. Но сознание как третий член зависимого происхождения качественно отличается от чистой формы сознания. Здесь преобладает его значение как познавательной способности, действующей во времени и с определенным нравственным содержанием. Здесь же оно выполняет функцию души.
Таблица 4

Блаженный спрашивает: «Если сознание, Ананда, не вошло в чрево, возникли бы в чреве имя и форма?» — «Нет, господин». — «А если бы мальчик или девочка, Ананда, будучи еще маленькими, потеряли сознание, стали бы имя и форма расти, увеличиваться и двигаться вперед?» — «Нет, господин»[137].
Буддисты утверждают, что сознание как третий член зависимого происхождения действует даже с момента смерти до следующего (нового) перевоплощения. Но сознание и имя и форма взаимозависимы. От сознания возникают имя и форма.
Сознание как третий член зависимого происхождения имеет три основных и три побочных действия. Первый период сознания — время причины. Это — сознание предыдущего воплощения, являющееся причиной последующей жизни. Второй период — время следствия. Это — сознание следующего перевоплощения, зависящего полностью от деяния предыдущего сознания. Третий период — сознание, действующее в направлении праведности, греховности и индифферентности.
Два дополнительных действия сознания — это индифферентное действие, служащее причиной будущего помрачения, и индифферентное действие, не служащее причиной какого‑либо помрачения.
Четвертым членом зависимого происхождения являются имя и форма (табл. 5). Имя появляется через группировку элементов, т. е. через образование четырех групп. Они суть образования: 1) группы чувств; 2) группы различения; 3) группы двигателей; 4) группы сознания. Эти четыре группы вместе с формой создают сознательного, мыслящего индивидуума. А форма имеет шесть различных видов:
1) в виде семени; 2) в виде движения поверхности воды; 3) в виде движения потока жидкости; 4) в виде собранности в одну кучу; 5) в виде застывания; 6) в виде выпуклостей (выделение формы тела, ног и рук).
Таблица 5
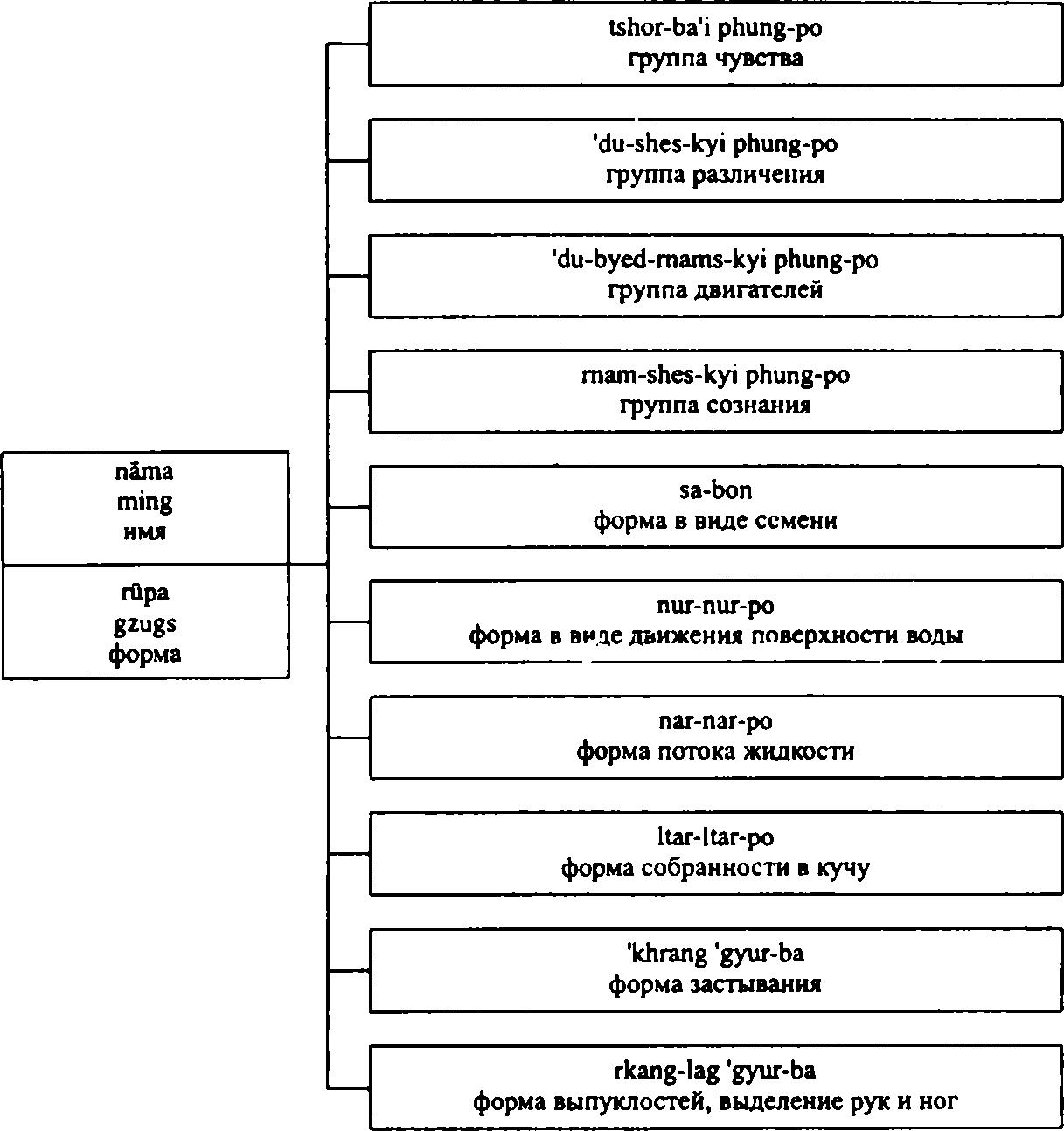
Четыре группы получаются путем выделения в качестве особо важных элементов — актов чувства, их различения и объединения в отдельные группы. Для сознательной личности, получившей определенное имя, элементы чувств и различения имеют особо важное значение. Чувство, одно из самых элементарных переживаний, имеет характер универсальный, т. к. оно постоянно сопровождает сознание. Столь же универсальными являются элементы различения, ибо действительно все эмпирическое познание основано на том, что одни элементы в сознании отличаются от других по форме и по другим свойствам. Четыре группы суть группы дхарм прошлых, настоящих и будущих. С точки зрения буддийской психологии, группы не разделяются на отдельные моменты потока сознания, а существуют как совокупность дхарм, образующих субстрат данной личности, живущей во времени. Под личностью следует понимать сознание со всем тем, что оно сознает. В более популярной буддийской литературе четыре группы — это группы элементов, образующих тела.
Пятым членом зависимого происхождения являются шесть органов чувств (табл. 6). Шесть органов чувств — это глаза, ухо, нос, язык, тело и ум. Из них образуются чувствительные нервы, необходимые для связи с объективным миром вещей, т. е. с формами, звуками, цветами, вкусами, предметом осязания и мыслями. Через эти органы актуализируются элементы чувства и различения. Органы чувств — это те элементы, на основании которых может появиться в данный момент сознание. Он относится к составу данного одного момента по отношению к следующему моменту. Ф. И. Щербатской определяет это так: «12 āyatana, или основы прирожденности, представляют собой все элементы бытия, распределенные в шести субъективных и в шести соответствующих объективных пунктах и являются синонимом все (sarvam). Когда проповедуется принцип: все существует, это означает, что имеется только 12 основ прирожденности и больше ничего»[138]. Что касается мысли, то, по мнению буддистов, она существует объективно, противостоя уму так же, как видимые тела противостоят органу зрения.
Но здесь шесть органов чувств как пятый член зависимого происхождения принимаются только как так называемые внутренние органы чувств (nang‑gi skye‑mched).
Таблица 6

Шестым членом зависимого происхождения является соприкосновение (табл. 7). В момент соприкосновения сознание вступает в связь с органами чувств и объективными элементами. Буддисты говорят, что живое существо в утробе матери начинает переживать нечто объективное, т. е. оно видит, слышит и т. д., но оно не осознает чувства приятного и неприятного, и всего, что связано с ним. По их мнению, такое состояние без эмоций бывает до тех пор, пока данное существо не родится на свет. «Момент цвета (rūpa), момент видимого ощущения материи (caksuh) и момент чистого сознания (citta) одновременно вступают в тесное соприкосновение и создают то, что называется ощущением, или чувственным соприкосновением, — sparsa»[139]. Это — начало взаимодействия всех элементов, из которых состоит индивид. Оно возникает в момент появления живого существа на свет. Посредством соприкосновения создается (обнаруживается) внешний предмет.
Соприкосновение как шестой член зависимого происхождения имеет 16 разновидностей:
1) соприкосновение с психическими элементами;
2) объект соприкосновения;
3) соприкосновение, показывающее случай контакта шести органов чувств с внешним объектом;
4) соприкосновение с препятствием;
5) соприкосновение посредством слов;
6) соприкосновение, извлекающее знание;
7) соприкосновение, не извлекающее знания;
8) соприкосновение без этих двух;
9) соприкосновение безгрешное;
10) соприкосновение, связанное с моральным осквернением;
11) три вида соприкосновения, оставляющие заблуждение на будущее перевоплощение;
12) соприкосновение, ведущее к проявлению страстей;
13) соприкосновение, вызывающее желание вредить ближнему;
14) соприкосновение, вызывающее наслаждение;
15) соприкосновение, вызывающее страдание;
16) соприкосновение нейтральное.
Таблица 7

Седьмым элементом зависимого происхождения является чувство (табл. 8).
Таблица 8

В момент появления соприкосновения индивид открывает для себя мир объектов и явлений, который действует на его сознание как приятное или неприятное. Здесь у индивида появляются эмоции, элементы чувства. Эмоциональные моменты фигурируют как переживание чувства приятного, неприятного и индифферентного. Они постоянно присутствуют в потоке сознательной жизни.
«Элементы в роде так называемой эмоции — ведана, различения (samjña), памяти (smṛti) и т. д., отнюдь не какие‑либо способности или силы сознания… По учению буддистов, имеются в виду те единичные и мгновенные явления или процессы эмоциональных переживаний, различения, воспоминания, хотения и т. д., которые могут быть усмотрены в моментах потока сознательной, так называемой внутренней жизни. Но все эти явления, хотя и оказываются связанными с сознанием, рассматриваются в абстракции от него, как корреляты сознания, а отнюдь не как признаки или функции его»[140].
Чувство в цепи зависимого происхождения имеет семь разновидностей проявления: 1) наслаждение; 2) страдание; 3) безразличие;
4) возбуждение чувств посредством восприятия объекта шестью органами чувств — зрением, слухом и т. д. (каждый орган вызывает определенное чувство; таким образом, возникают шесть чувств);
5) в чувствах сознания перечисляются 18 основных субстанций, которые все относят к помрачающим (грешным) чувствам; 6) если мы возьмем ранее перечисленные нами формы объектов, например форму движения поверхности воды или другие виды форм, то они являются характерными формами, присущими различным объектам; 7) а шесть органов чувств суть органы различения этих форм.
Различные формы объектов и органы различения являются обладателями познавательных признаков (de gnyis ni ’ongs spyod pa po dang). Соприкосновение есть обладатель объектов (reg pa yul gyi longs spyod), а чувство есть обладатель плодов — результатов действия (’tshor ba rnam smin gyi longs spyod do).
Восьмым членом зависимого происхождения является страсть, жажда (табл. 9). От чувства (ощущения) возникает жажда, или страсть к жизни, которая ведет индивида от рождения к рождению и задерживает его в мире круговорота. «Желание беспечно живущего человека растет, как малува. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод»[141]. Буддисты считают, что с затуханием жажды наступает освобождение, а привязанность к вещам (жизни) есть рабство.
Это звено цепи зависимого происхождения существует в шести разновидностях проявления: 1) проявление жажды в сфере стремления; 2) проявление жажды в сфере формы; 3) проявление жажды в сфере бесформенности; 4) жажда в сфере стремления; 5) жажда в сфере разрушения; 6) жажда в сфере бытия.
Таблица 9

Проявление жажды в сфере стремления, формы и бесформенности объясняется следующим образом: жажда, или страсть, распределяется по индивидуумам, находящимся в трех мирах, т. е. в мире стремления (санскр. kamadhātu, тиб. ’dod khams), в мире формы (санскр. rupadhātu, тиб. gzugs kham$) и в мире бесформенности (санскр. аruра-dhātu, тиб. gzugs med khams). Хотя в последних двух мирах жажда почти не существует, но волнение, которое поддерживает процесс бывания, сохраняется. Камадхату есть такой поток элементов, в котором еще не подавлены элементы стремления и жажды; рупадхату — такой поток, в котором желания и надежды уже успокоены и в объективном мире которого уже нет переживаний двух наиболее грубых и чувственных явлений — вкусовых и обонятельных, а следовательно, и соответствующего этим переживаниям сознания; арупадхату, наконец, — это такой поток сознания, в котором вовсе уже не принимают участия чувственные элементы, а только остальные дхармы.
Здесь жажду нужно принимать как восьмой член в цепи зависимого происхождения, который несколько отличается от гистой жажды.
В указанных двух высших ступенях на пути к спасению (rūpadhātu и ampadhātu) жажда существует только в виде волнения дхарм, которое поддерживает процесс бывания, поскольку он существует, но она совсем не похожа на обычную мирскую жажду или страсть.
Следующие три разновидности являются полными проявлениями жажды; это — стремление к любви, стремление к эфемерному богатству и наслаждению и стремление к бытию (жизни).
Девятым членом зависимого происхождения является привязанность (табл. 10). Буддисты утверждают, что пламя жажды связано с топливом привязанности. Только с прекращением привязанности прекращается грешное существование. Привязанность, говорят они, это не только причина страдания, но и цепь, держащая индивида в иллюзорном бытии.
Таблица 10

Этот член цепи зависимого происхождения имеет четыре разновидности проявления: 1) привязанность к стремлению; 2) привязанность к какому‑либо убеждению; 3) привязанность к нравственному обету; 4) привязанность к утверждению существования индивидуального Я.
Признание существования индивидуального Я у буддистов непосредственно связано с неведением, вызывающим появление существования индивидуальностей. А индивидуальности привязаны к иллюзорному бытию. От привязанности же к бытию происходит становление.
Десятым членом зависимого происхождения является становление (табл. 11). Некоторые представители школы мадхьямика, в частности Чандракирти, становление отождествляют с кармой, которая вызывает новое рождение. Становление есть результат предыдущей кармы и с первого момента своего проявления само создает карму.
Таблица 11
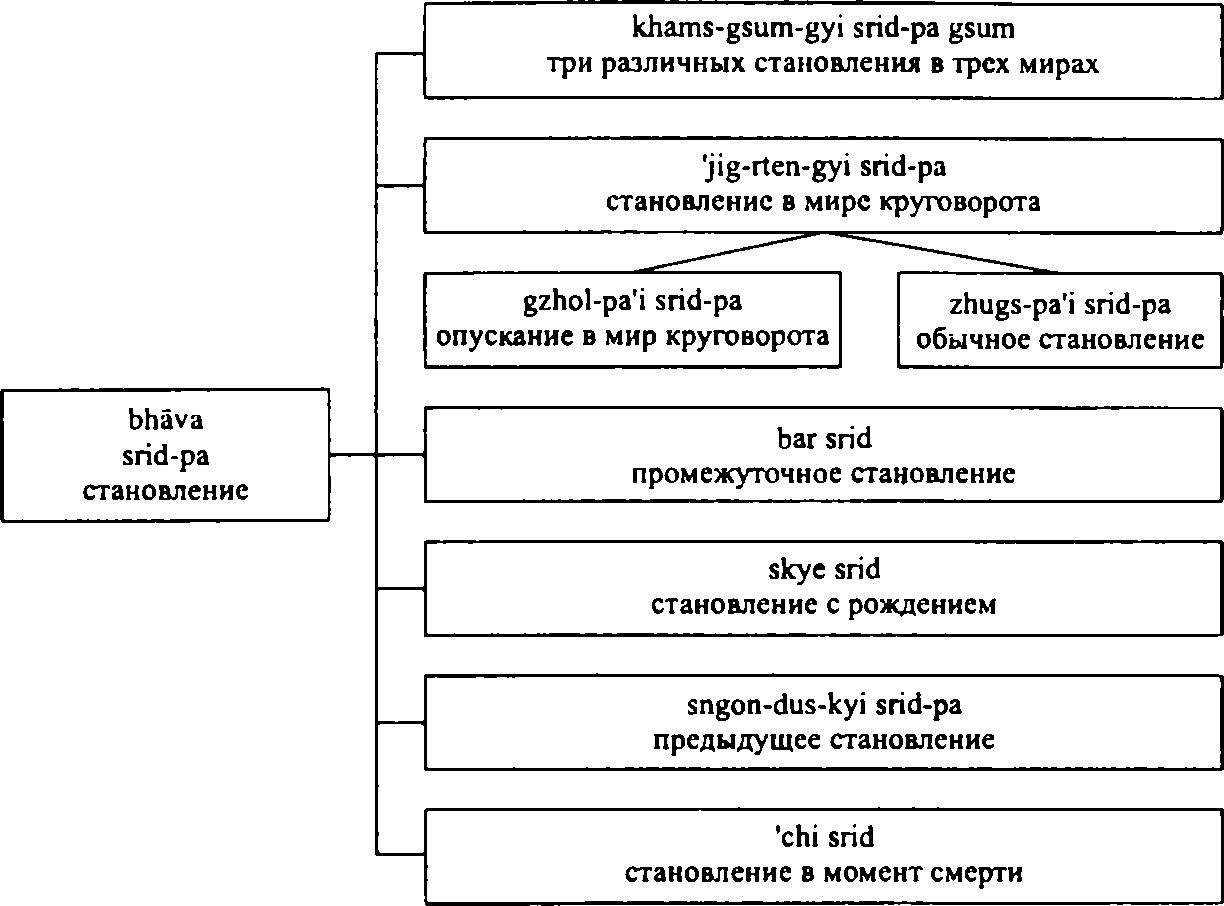
Становление имеет восемь различных проявлений: 1) три различных становления в трех мирах; 2) становление в мире круговорота с двумя проявлениями; 3) опускание в мир круговорота; 4) обычное становление в мире круговорота; 5) промежуточное становление (между смертью и новым рождением); 6) становление с рождением; 7) становление предыдущее; 8) становление в момент смерти.
От становления возникает рождение. Нечто сначала существует, потом рождается, т. е. от ничто не может родиться нечто.
Одиннадцатым членом зависимого происхождения является рождение (табл. 12). В рождении выявляются пять стадий проявления: 1) появление зародыша в утробе матери; 2) приобретение формы там же; 3) отделение младенца от лона матери; 4) соприкосновение с объективными элементами; 5) ясное определение личности (мужчина или женщина, человек или животное, и т. д.) в момент отделения от матери.
Таблица 12

Хотя личность определяется еще в момент зачатия, но здесь, при появлении в объективном мире, он выявляет себя как определенная личность, и здесь впервые личность вступает в соприкосновение с объективными элементами и обретает самостоятельную жизнь. В связи с рождением индивид приобретает группы (скандхи), элементы (дхату) и базы (аятана), каждый в отдельности. В момент появления в утробе матери создается группа тела и рождаются пять органов чувств.
Двенадцатым членом зависимого происхождения является старость и смерть (табл. 13).
В старении различают наступление старости с полным ослаблением всех сил и энергии и старость с сохранением всех сил (полноту жизни). Полное ослабление характеризуется семью моментами: 1) полное изменение формы тела; 2) полное ослабление физической силы; 3) ослабление разума; 4) изменение памяти; 5) изменение счастья, которым обладал индивид; 6) изменение органов чувств; 7) увеличение (изменение) возраста.
Смерть наступает двояким образом: как перемещение цепи причинности после наступления смерти и как перемещение цепи причинности в момент смерти. С точки зрения буддистов, в момент наступления смерти все вышеперечисленные элементы эмоции, различения, памяти, органов чувств и т. д. вместе с сознанием перемещаются в другую сферу — бесформенную, или промежуточную, между прошлым материальным воплощением и будущим. В этой промежуточной сфере из всех этих элементов продолжает действовать только сознание. Поэтому представители некоторых буддийских школ отождествляют виджняну (сознание) с душой.
Таблица 13

В легенде говорится: «Тогда Блаженный, закончив размышление над цепью причинности в прямом порядке, воскликнул: „Таково происхождение всей этой бездны страдания!“.
Буддийская теория индивидуального Я[142]
В своей работе „Теория души у буддистов“, представленной Академией наук СССР 6 ноября 1918 г. и напечатанной в „Азиатском сборнике“, академик Ф. И. Щербатской излагает эту теорию, известную под термином анатма и являющуюся одним из основных положений буддийской философской школы, вызывавшим горячие дискуссии как с представителями небуддийских философских школ, так и между самими буддийскими философами.
Ф. И. Щербатской использует труд известного буддийского философа Васубандху — „Абхидхармакошу“, вернее, добавление к последней, восьмой, главе этого труда, которое и характерно дискуссией между представителями различных школ, в первую очередь школы ватсипутриев — с самим Васубандху. Своих выводов в данном случае Ф. И. Щербатской не делает, ограничиваясь, в основном, переводом этого добавления, но вместе с тем он считает необходимым упомянуть, что это — „центральный пункт“ всей массы буддийского учения, и приводит, считая его совершенно правильным, мнение госпожи К. Рис Дэвиде о том, „как внимательно и добросовестно эта антисубстанционалистская позиция выпестовывалась и поддерживалась“[143].
Для нас, вводящих в научный оборот буддологии труды бурятских ученых — лам, представляет большой интерес их мнение в вопросах, в той или иной форме затрагивавшихся европейскими учеными, и поэтому, обнаружив в наших хранилищах две работы, относящиеся к данному „центральному пункту“, мы посчитали необходимым представить их к опубликованию. Речь идет о трудах: „О несуществовании индивидуального Я“[144] Генина Тыхеева из Кижингинского дацана и о пособии для проходящих начальный курс философии под названием „Путь к разуму, помощь для вновь поступивших в философскую школу дуйшун“[145] Гэлэга Чжамцо из Сартульского дацана. Дальнейшее будет изложением вышеназванных трудов.
Утверждение о несуществовании индивидуального Я действительно занимает в буддийской философии одно из центральных мест. Признание существования индивидуального Я буддисты связывают непосредственно с неведением (авидьей). Из этого неведения и возникает представление о существовании индивидуальности, которая, увлекаясь бытием, будучи всецело охвачена вихрем жизни, создает привязанность к существованию. Для того, чтобы твердо встать на путь спасения, буддист должен подавить привязанность к иллюзорному бытию, а это можно сделать лишь в том случае, если индивид подлинно познал нереальность существования индивидуального Я. По учению буддистов, понятие индивидуального Я человеческой личности, или живого существа, лишено постоянной сущности. Индивидуальность — это лишь комплекс связи причин и следствий, это только пространственно — временная конфигурация пяти скандх.
Но такая резкая и конкретная формулировка о несуществовании индивидуального Я, очевидно, была выдвинута учителями позднейших школ буддизма. Ранний буддизм еще не имел законченной формулировки по этому вопросу. Это видно из диалога Будды со странствующим монахом Ваччхаготтой. „Тогда странствующий монах Ваччхаготта обратился к Возвышенному, говоря: „Как обстоит дело, достопочтенный Готама, есть ли эго?“ Когда он сказал это, Возвышенный хранил молчание. „Значит, достопочтенный Готама, эго нет?“ И по — прежнему Возвышенный молчал. Тогда странствующий монах Ваччхаготта поднялся с места и ушел прочь. Достопочтенный Ананда сказал Возвышенному: „Почему же, о, господин, Возвышенный не дал ответа на вопросы, заданные странствующим монахом Ваччхаготтой?“ „Если бы я, Ананда, будучи спрошен странствующим монахом Ваччхаготтой "есть ли эго?", ответил: "эго есть", это, Ананда, подтвердило бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в постоянство. Если бы я, Ананда, когда странствующий монах Ваччхаготта спросил меня: "значит, эго нет?", ответил: "эго нет", этим, Ананда, я подтвердил бы учение тех саманов и брахманов, которые верят в уничтожение"[146].
Однако было бы ошибкой думать, что, согласно буддизму, совсем нет Я. Учителя раннего буддизма, несомненно, предполагали существование Я, но природу этого Я никто не описал. Они только полагали, что Я — это не то же самое, что скандхи и связь причин и следствий.
Более позднее толкование вышеупомянутого диалога, например толкование Нагасены, изложенное в беседе Нагасены с царем Милиндой[147], дает строгое логическое понимание философии становления. Здесь полностью отрицается существование индивидуального Я, оно целиком сводится к комплексу безначального вихря дхарм. Но существует трансцендентное Я, природа которого находится за пределами умозрительной философии. Таким Я у йогачаров является алая — виджняна. Естественно, что если Я есть только непостоянные связи причин и следствий, тела и духа, то когда они исчезнут, не будет ничего, что освобождается. Тогда самоубийство будет являться самым лучшим способом избавления от страданий. Свобода становится смертью. Однако, по учению буддистов, нирвана есть вневременное существование, и поэтому они должны были признать существование вневременного Я.
Позднейшие буддисты не отходили от логического принципа Нагасены; они рассматривали индивид прежде всего как комплекс скандх, в котором нельзя обнаружить никакого индивидуального и вневременного Я. Для доказательства этого положения они занимались подробным анализом личности человека, расчленяя ее на элементы (дхармы), и старались дать точную характеристику каждой группе элементов, распределяя их по категориям, т. е. классифицируя их на чувственное, на процессы и сознание. Этот способ анализа личности представляет для нас большой интерес не только с точки зрения истории развития человеческой мысли, но и как особый метод доказательства трансцендентальных идей, ибо таким же образом идет доказательство понятия шуньяты с утверждением, что несуществование Я дхарм и шуньята одно и то же[148]. Поэтому мы попытаемся здесь разобрать схему индивидуальности по трудам буддийских ученых.
Наше рассмотрение буддийской концепции индивидуального Я, как мы сказали выше, опирается на работы упомянутых двух бурятских ученых — лам. Индивидуальное Я рассматривается с точки зрения существования, т. е. перечисляются составные элементы индивидуума, и с точки зрения несуществования[149].
Если рассматривать индивид с точки зрения существования, то его образуют элементы бытия постоянные (неизменные) и бытующие (см. табл. 1). Под постоянством понимается пространство — акаша (асанскрита — дхарма), состоящее из единого неделимого элемента, но перечисляются четыре его качественных вида: а) безвременное постоянство, сюда входит мировое пространство (постоянство всех форм — акаша как таковая); б) постоянство в определенный период времени (постоянство случайное, временное); в) вечное постоянство (постоянство существования бытия, как у Будды); г) постоянство на каждый раз (непостоянство существования бытия, как у личности). Первые два вида по существу однозначны со вторыми двумя видами, различие лишь качественное. Свойство несоставного пространства (апаша) есть отсутствие возможности ощущать и соприкасаться с ним. Для понимания понятия временное постоянство приводится пример кувшина, занимающего определенное пространство до момента его разрушения[150]. Не указывается два других элемента постоянства — пратисанкхьяниродха и апратисанкхьяниродха, которые указаны как постоянные в "Абхидхармакоше"[151]. Элементы, не подверженные бытию (асанскрита), определяются еще как неразрушаемые и небытующие[152].
Таблица 1

Бытующие элементы проявляются в виде формы (вида), в виде (со)знания (к этим элементам относятся: сознание и психические элементы) и в виде так называемых чистых сил (непсихические процессы — випраюкта — санскара, создающие органические и неорганические соединения).
Таблица 2

Если мы будем рассматривать проявление этих элементов через призму пяти скандх[153], то получим следующую схему (см. табл. 2). Группа чувственного — рупа — скандха (или группа формы), группа ощущения, группа различения, группа (двигателей) сил и группа сознания. Первая группа выражает внешний вид, физическую сторону индивида. Группа ощущения (чувства) — это одно из самых элементарных переживаний и имеет универсальный характер, так как оно постоянно сопровождает сознание. Такими же универсальными являются и элементы различения, ибо, действительно, все эмпирическое познание основано на том, что одни элементы в сознании отличаются от других. Группы ощущения и различения являют собой первые два из числа психических элементов.
Чувственные элементы и другие в независимом своем существовании являются ничем не связанными элементами. Для того, чтобы произошло движение (вихрь дхарм), необходимы еще элементы — двигатели, которые направили бы сознание на внешние объекты, которые заставили бы элементы (дхармы) вступить в мгновенные комбинации между собой и этим самым возбудили бы их всплывать на мгновение в бытие и исчезать. Таким образом, эти элементы поддерживают процесс бытия как такового и поэтому являются активными началами.
Элементы — двигатели проявляются двояко: как непосредственно связанные с сознанием и как не связанные непосредственно с сознанием. Непосредственно связанные с сознанием определяются иначе — как психические элементы. Элементы — двигатели, не связанные непосредственно с сознанием, делятся на непсихические процессы, образующие индивид, и на непсихические процессы, не образующие индивид (см. табл. 2).
Элементы — двигатели интенсивно связанные с сознанием: "Было чувство, что различные умственные факты были более тесно связаны с сознанием, чем атомы материи друг с другом. Этот факт получил название сампраюкта (тиб. mtshungs‑ldan) — последствие и оболочка сознания при отсутствии умственных проявлений или второстепенных умственных элементов — гайтта (санскр. caitta)"[154]. Число психических элементов достигает 49, т. е. это все психические элементы, кроме веданы и санджни. В первой схеме мы указали, что одним из проявлений "бытования" индивида является его форма. Эта форма имеет, в свою очередь, внешнее и внутреннее проявления (см. табл. 3).
Внешнее проявление распадается на восемь баз (аятан)[155]. В теории элементов бытия мы имеем дело с анализом личности человека, ибо только в нем, а не в неодушевленных материальных объектах содержатся все элементы, т. е. и чувственное, и сознание, и процессы. Вместе с тем совершенно очевидно, что живое существо анализируется целиком, то есть не только его "материальное" тело и психическая жизнь, но и все то объективное, что оно переживает и называет внешним материальным миром. Восемь аятан, или баз внешних объектов, и являются проявлением всех качеств, при посредстве которых в данный определенный момент происходит восприятие (схватывание) сознанием всего объективного. Эти базы перечисляются в следующем порядке (см. табл. 3): база видимого, то есть формы, объема, цвета; база слышимого, то есть звука; база обоняемого, то есть запаха; база вкушаемого; база осязаемого; база сложной формы; база (простой) формы; база четырех великих элементов (земли, воды, огня и ветра).
Таблица 3
РУПА

Базируясь на вышеперечисленных проявлениях качеств внешних объектов, входящих в состав данного момента сознания, появляется следующий момент сознания, соответствующий воспринимаемому, то есть опять‑таки сознание видимого для формы и цвета, сознание слышимого для восприятия звуков и т. д. Поэтому классификация элементов бытия по базам есть отношение данного момента сознания к следующему моменту сознания. Виды сознания, возникающего на основе указанных восьми баз, будут рассмотрены в схеме внутреннего проявления чувственного (см. табл. 9).
Таблица 4
ЦВЕТА

База элементов чувственного (рупа — аятана) распадается на два основных вида: на пространственную форму и на цвета. Пространственная форма, в свою очередь, имеет восемь разновидностей: высокое, низкое, длинное, короткое, квадратное, круглое, многогранное и безграничное (см. табл. 3).
Имеются следующие основные и составные цвета. Основные: белый, красный, синий и желтый; составные: цвет облака, цвет дыма, цвет пыли, цвет тумана, цвет блеска, цвет мрака, цвет сумерек и цвет солнечных лучей (см. табл. 4).
В базе звука указывается восемь разновидностей: звуки, вызванные искусственно; звуки, возникшие естественно; звуки, произносимые живыми существами; звуки, не поддающиеся произношению; звуки, воспринимаемые живыми существами; звуки, не воспринимаемые живыми существами; звуки приятные и звуки неприятные[156] (см. табл. 5).
Таблица 5
ЗВУКИ

База обоняемого имеет четыре разновидности: природный запах, сложный запах, приятный и неприятный запахи (см. табл. 6).
Таблица 6
ЗАПАХИ

База вкуса подразделяется на шесть видов: сладкое, кислое, горькое, терпкое, острое и соленое (см. табл. 7).
Таблица 7
ВКУС

База осязаемого зависит от состояния живого существа, то есть оттого, находится ли живое существо в утробном состоянии или вышло из него. В первом случае его состояние — состояние без эмоций, то есть оно имеет все элементы в некомбинированном виде и по существу соприкасается лишь с четырьмя великими элементами. Во втором случае, связанном с выходом живого существа на свет и возникающими от этого изменениями организма, оно сталкивается с тяжестью, холодом, жарой, голодом и жаждой (см. табл. 8).
Таблица 8
ОСЯЗАНИЕ

Внутреннее проявление выражается проявлением пяти органов чувств (индрий): органа зрения, органа слуха, обоняния, вкуса и органа осязания (см. табл. 9).
Однако, по утверждению Васубандху, индрия не может быть назван способностью или органом в смысле "видящего глаза", "слышащего уха" и т. д., как указано в табл. 9. Это лишь ощущения или акты ощущения, то есть мгновенные акты "видения", "слышания" и т. д. Эмпирическое восприятие индивида есть цепь таких мгновенных актов — ощущений, связанных с сознанием и с другими элементами.
Таблица 9
ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Таблица 10а
(ПО)ЗНАНИЕ: ВИДЫ

Вторым, самым важным, проявлением реальности (бытия) индивида является факт знания. Это знание, по прилагаемой табл. 10а, имеет четыре разновидности: ошибочное, безошибочное, логическое и нелогическое. Логическое знание подразделяется на явное и вытекающее. Явное (ясное), в свою очередь, имеет четыре разновидности: выведенное на основе органов чувств, выведенное посредством размышления, выведенное на основе собственного опыта и выведенное на основе йогической практики.
Вытекающее знание имеет три разновидности: появившееся на основе известного, появившееся на основе интеллектуального познания и появившееся на основе совершенствования (на основе достижения сверхъестественных сил).
Ясность и знание суть свойства познания, новое и безошибочное знание суть свойство логики. Непосредственное познание при помощи подлинной логики суть признак выявления ясности в вещах и явлениях. Предельно ясное познание всех элементов в течение одного момента есть признак всезнания.
По второй схеме знание делится на два основных вида: шесть умственных процессов и семь умственных процессов (см. табл. 106).
В первом случае они следующие: сознание, психические процессы, исследовательский разум, неисследовательский разум, размышляющий интеллект, простой интеллект. Во втором случае: исследование, рассеянность, результативность, прерывность, ошибочность, сомнение и очевидность.
В третьей схеме (см. табл.10 в) показаны умственные процессы, не содержащие логики: безаналитический, неправильного анализа и сомнительный.
Таковы "составляющие" личности человека, то есть не только его тело и умственно — психические процессы (иными словами, дух), но и все объективное, что он воспринимает, что он называет внешним материальным миром. Этот внешний материальный мир для представленного в таком виде индивида не будет объективным миром, существующим независимо от его сознания. Это мгновенный акт проявления элементов бытия объективно — чувственного (вишая), субъективно — чувственного (индрия), элемента сознания и психических элементов[157]. При этом и рупа (вишая — индрия), и сознание с его психическими элементами не представляют собой никакого реально существующего Я.
Таблица 10б
(ПО)ЗНАНИЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Таблица 10в
ПОЗНАНИЕ: УМСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЛОГИКИ

Цзонхава утверждает, что "люди, животные и весь материальный мир есть ни что иное, как связка или совокупность различных частей скандх и перцепций, следующих друг за другом с огромной быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении. Если взять конкретный предмет и разложить на составные части, последовательно анализируя и разлагая все дальше и дальше, то мы в конечном итоге придем к понятию ничто (шуньята), но не найдем конкретного Я изучаемого предмета. Все, что мы воспринимаем от какого‑либо предмета в процессе анализа, — это его качества и свойства, но ничего конкретного. Значит, как бытие он отсутствует"[158].
В этих суждениях буддисты сходятся с субъективными идеалистами. Например. Юм говорит: "Когда я ищу свое Я или называю своим Я, то всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никогда не могу найти свое Я отдельно от перцепции"[159].
В то же время буддисты утверждают другое: "Нет объекта существующего, как нет объекта несуществующего. Познавший цепь условного существования проходит мимо них обоих" ("Лалитавистара", гл. XXV).
Когда буддийские философы говорят о конечности "круга феноменального бытия" (сансары), то высказывают следующее положение: "Он (круг бытия) конечен во времени, ибо все живое должно перейти от сансары к нирване. Нет ни одного живого существа, которое не обладало бы мудростью Татхагаты. И только по причине суетных мыслей и привязанностей все существа не осознают этого" ("Аватасакасутра"). Значит, индивидуальные души являются аспектами абсолюта и в конечном итоге должны с ним слиться, то есть сансара конечна.
Мудрость Татхагаты, будучи аспектом Абсолюта, не может быть обнаружена в комплексе скандх, ее природа трансцендентна, не поддается исследованию разумом и рациональной интуиции и только постулируется как откровение Будды. Эта мудрость Татхагаты и есть буддийское индивидуальное Я, его существование относительно, равно шунъя и похоже на кантовскую "вещь в себе"[160].
Логически это означает небытие в смысле отсутствия определенных признаков у предмета. Если предмет имеет признак А, то есть включает в себя бытие признака А, то тем самым он (предмет) является небытием всего того, что не А. Если признаки скандх обозначаются через А, то в мире первичной реальности (мудрость Татхагаты) мы не найдем ни одного признака скандх и тем самым утверждаем, что первичная реальность есть небытие всего того, что есть А.
Этот логический смысл несуществования индивидуального Я раскрывает необходимую диалектическую связь бытия и небытия в пределах мира конечных вещей, и им руководствовались не только буддийские философы, но и все идеалистические школы Запада.
Взгляды, подобные взглядам буддийских философов, появились в свое время у некоторых отцов восточной христианской церкви (Григорий Нисский и др.) и вошли в христианское учение под названием негативной теологии. Эти отцы церкви считали, что божество в силу своей бесконечности не сравнимо со всем конечным, и в этом смысле, то есть со стороны конечного бытия, бытие бога представляется как небытие. Кроме того, первичная реальность, как бытие вне пространства и времени, не позволяет конкретно установить ее местонахождение, она не имеет определенной формы, индивид может воспринять лишь ее проявления, но не ее самое. В этом смысле она есть небытие. Но это, по учению тех и других, не означает отсутствия бытия, а, напротив, основу всякого бытия как бесконечного вечного и единого начала. Таким образом, буддийская философия, как и всякая другая идеалистическая философия, допускает двойственность мира. С точки зрения буддийских философов получается, что по ту сторону телесного мира, принимаемого нами за действительный, существует другой мир, действительный в самом деле, — мир Татхагаты и его мудрости.
Рассмотренное позволяет сказать, что если в раннем буддизме мы можем проследить кое — какие корни стихийного материализма, выразившегося в частичном признании существования некой условной личности в виде "гансаг" — пудгала (см. табл. 1), то позднейший буддизм создал из этой личности относительное понятие — шуньяту.
Любопытно, что виджнянавадины — йогачары в своей монистической теории коррелят дхарм сводят на общий источник, на абсолютное сознание — алая — виджняну (kun‑gzhi rnam‑par‑shes‑pa). Каждый индивид имеет алая — виджняну, которая проявляется в виде умственного и психического процесса в восьми разновидностях. Они суть: виджняна зрительного восприятия (mig‑gi rnam‑par‑shes‑pa), слухового восприятия (rna‑ba’i rnam‑par‑shes‑pa), обонятельного (sna’i rnam‑par‑shes‑pa), вкусового восприятия (lce’i rnam‑par‑shes), осязательного (lus‑kyi rnam‑par‑shes‑pa), восприятия предыдущего момента (yid‑kyi rnam‑par‑shes‑pa), омраченного восприятия, или виджняна с клешей (mu‑tig‑gi mam‑par‑shes), и сама алая — виджняна. Причем сама алая — виджняна является зародышем всех элементов (chos‑thams‑cad‑kyi sa‑bon kun‑gzhi rnam‑par‑shes‑pa) и существует в своей идеальной форме[161].
Эту самую алая — виджняну йогачары принимают за Я индивидуума. Такая теория существует только у йогачаров.
51 психический элемент виджнянавадинов[162]
С точки зрения буддийской философии, вся совокупность дхарм (элементов), рассматриваемая как иллюзорное видение, существует только в названиях, но, однако, в сознании она представляется чем‑то цельным. В состав сознательного живого существа, или индивидуума, входят все разновидности элементов. По этой причине буддисты считают, что теория дхарм — элементов является анализом самого индивидуума, человека, ибо только в нем, а не в неодушевленных предметах объективного типа содержатся все элементы, т. е. чувственное, сознание и процессы. Однако по этой теории индивид анализируется целиком, т. е. не только материальное его тело, рупа и психическая жизнь, но и все объективное, что он переживает, т. е. весь внешний материальный мир. Эта теория постепенно перерастает целиком в теорию познания человеком самого себя в период анализа совершенствующих путей, где выявляются элементы морального осквернения (клеши) из общего состава всех психических элементов индивида, и они сознательно подавляются. В этом отношении философия Сократа подходит во многом близко к буддийской. Сократ больше других греческих мыслителей пренебрегал вопросами, связанными с космогонией и метафизикой, ибо он не видел в них пути для познания человеком самого себя.
Психические процессы, по учению буддистов, это те единичные и мгновенные явления или процессы эмоциональных переживаний, различения, чувства, воспоминания, желания и т. д., которые могут быть усмотрены в моментах сознательной жизни. Эти психические процессы близко связаны с сознанием, однако рассматриваются отдельно от него, как соотносительность сознания, но не как функция его. Ранняя буддийская школа вайбхашиков насчитывала 46 разновидностей психических элементов, а йогачары признают 51 элемент.
Познавательный процесс сознания является действием психических элементов в тесной связи с элементами сознания. Даже некоторые представители школы вайбхашиков утверждали, что различные познавательные факторы были более тесно связаны с сознанием, чем атомы материи друг с другом. Этот фактор получил название сампраюкта (mtshungs‑ldan), т. е. последствие, или обологка сознания при сопутствии умственных элементов чайтта. Не менее важным фактором в процессе познания является элемент самскара (’du‑byed). Термин самскара можно объяснить так: например, чувственные элементы (рупа — дхармы — chos‑kyi gzugs) в независимом своем существовании являются ничем не связанными элементами. Для того чтобы произошло движение, вихрь дхарм, который создает сансару, необходимы еще элементы — двигатели, или самскары, которые направили бы сознание на внешние объекты и этим самым заставили бы элементы вступить в мгновенную комбинацию между собою и, таким образом, заставили бы дхармы — носители всплывать на момент бытия и исчезать.
Одним словом, необходимы элементы — двигатели, которые поддерживают движение, процесс волнения дхарм, эти элементы — двигатели объединяются в одну группу под названием самскара. Интенсивная связь умственных факторов через элементы — двигатели с сознанием составляют психический процесс индивидуума.
Эта связь — сампраюкта самскара (mtshungs‑ldan ’du‑byed) — проявляется через пять групп элементов: 1) ведана — чувство (tshor‑ba), 2) санджня — различающее сознание (’du‑shes), 3) четана — активность сознания (sems‑pa), 4) намаскара — сознание идейного (yid‑la byed‑pa) и 5) спарша — соприкосновение (reg‑pa). Они выступают как вездесущие элементы (kun-’gro).
Если характеризовать их по отдельности, то ведана — это обычное чувство, которое возникает через соприкосновение с внешними объектами.
Санджня — процесс различения, или функция сознания, различающая вещи по их свойствам и форме (длинное, короткое, твердое или мягкое и т. д.). На присутствии этого элемента вообще основана возможность сознательной жизни, т. к. иначе все в природе казалось бы одинаковым.
Четана — активность сознания. Под активностью сознания, которая опять‑таки отвлечена от самого сознания, следует разуметь, по — видимому, творческое воображение, которое решает или задумывает совершить то или иное действие: телесное, словесное или мысленное. Идея конструктора, проектирующего какой‑либо сложный механизм, будет относиться к элементам гетана, т. е. к активности сознания.
Намаскара — сознание идейного. К этой группе элементов относится умственный процесс, здравый смысл человека в его повседневной жизни до глубоких идейных убеждений.
Спарша — соприкосновение. Это начало воздействия всех элементов, из которых состоит индивид. В настоящей жизни индивид проходит много этапов, или моментов, пока он не станет человеком, т. е. пока он не дойдет до расцвета жизни.
Таблица 1
ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ БЕЗ СВЯЗИ С НРАВСТВЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

Как утверждают буддисты, существо, будучи в эмбриональном состоянии, с момента зачатия имеет все элементы еще в некомбинированном виде. Первый момент новой жизни — пробуждение зачаточного сознания. Дальше идет момент чувственного и нечувственного возникновения шести баз (шад — аятана) и т. д. В момент соприкосновения (спарша) сознание вступает в связь с органами чувств и объективными элементами. Это значит, что живое существо в утробе матери начинает воспринимать объекты органами чувств, т. е. видит, слышит и т. д. Но оно еще не сознает чувства приятного и неприятного — всего, связанного с этим. По учению буддистов, такое состояние, т. е. состояние без эмоций, продолжается до тех пор, пока данное существо не родится на свет.
Соприкосновение, спарша, — это момент, когда дхармы — элементы впервые в новом вихре принимают то расположение, которое эмпирически переживается как сознание ощущения чего‑то объективного (reg‑pa dang yul sphyad pas gzugs su rung‑ba). Посредством соприкосновения и ощущения объектов обнаруживается рупа (gzugs). Ф. И. Щербатской пишет: "Момент цвета (rūpa), момент видимого ощущения материи (cakṣuḥ) и момент чистого сознания (citta), одновременно вступающие в тесное соприкосновение, создают то, что называется ощущением (или чувственным соприкосновением) — sparśa[163]. Спарша по своей универсальности может считаться элементом "вездесущим" (kun-’gro).
В момент одновременного действия всех пяти указанных элементов в интенсивной связи с сознанием происходит познавательный процесс. Это есть первый момент в процессе человеческого мышления без нравственных категорий.
Вторым моментом процесса мышления с включением нравственных категорий является момент действия других пяти элементов в интенсивной связи с сознанием. Эти элементы виджнянавадины называют пятью реальными психическими объектами (yul nges Inga). Здесь пять элементов: 1) ганда — желание (’dun‑pa), 2) адхимокша — внимание (mos‑pa), 3) смрити — память (dran‑pa), 4) самадхи — созерцание (ting‑nge-’dzin), 5) праджня — интуиция (shes‑rab).
В этом мыслительном процессе происходит не только интенсивная связь элементов с сознанием, но и превращение одних элементов в другие, по качеству высшие. Происходит диалектический переход количества в качество.
Если первый, или общий, момент процесса мышления относится к процессу сознания обычного человека в объективном мире, к обычному познавательному процессу индивидуума, то второй процесс мышления относится к сознанию человека, находящегося на пути махаянистического спасения. И все пять психических элементов, входящих в этот процесс, будут рассматриваться с точки зрения махаянистического и хинаянистического путей.
Таблица 2
ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ С УЧЕТОМ НРАВСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЙ (ПЯТЬ РЕАЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ - YUL-NGES LNGA)

1. Чанда, желание, — это активный элемент, который толкает сознание на путь к совершенствованию. Этот элемент обычно возникает и появляется в тот момент, когда индивид уверовал в Четыре Благородные Истины.
2. Адхимокша — внимание, которое постоянно сопровождает чанду во всех ее проявлениях, она (адхимокша) дисциплинирует и настораживает сознание.
3. Смрити, память, — элемент накопления или концентрации, который действует только во времени (прошедшем, настоящем и будущем).
4. Самадхи — сосредоточение ума. Этот элемент нарастает от простого внимания до полного сосредоточения ума на объекте мышления, и этим самым ум приходит к ясному пониманию данного объекта.
Это первый этап, который называется сампраджнята — самадхи. На втором этапе наступает момент, когда наблюдается прекращение всех умственных модификаций, т. е. полное отсутствие познания, в том числе и знания объекта размышления. Здесь происходит "переход от количества познавательного процесса в другое качество", кагество отсутствия познания, что выражается потерей объекта мышления; этот процесс называется асампраджнята — самадхи.
5. Праджня — интуиция, мгновенно постигающая запредельную истину, т. е. природу шуньи и абсолюта — нирвану. В момент постижения асампраджнята — самадхи индивид теряет в объекте мышления его форму и различия. Вместо созерцаемого объекта появляется "неопределенность", "бездна", нечто совершенно противоположное всему феноменальному, даже нельзя сказать, что "вместо созерцаемого объекта появляется что‑то бесформенное", и т. д. Но, утверждая, что "там теряется объект мышления", виджнянавадины имеют в виду потерю всех феноменальных качеств объекта.
Таким образом, теряя феноменальную природу объекта, индивид раскрывает ноуменальную реальность мира, т. е. природу шуньи. Процесс раскрытия ноуменальной реальности совершается интуицией — праджней (shes‑rab).
Сама же праджня раскрывается на махаянистическом пути просветления (mthong‑lam).
Четвертый элемент — самадхи способствует раскрытию пятого элемента. Поэтому в шести парамитах махаянистического пути элемент самадхи всегда непосредственно предшествует праджне.
Третий момент психического процесса. Элементов, вызывающих добродеяния, насчитывается одиннадцать (dge‑ba bcu‑gcig). Эти элементы тоже находятся в интенсивной связи с сознанием:
1) вера (dad‑pa), 2) чувство стыда, совесть (ngo‑tsha shes‑pa), 3) скромность (khrel‑yod‑pa), 4) бесстрастность (’chags‑med‑pa), 5) отсутствие гнева (zhe‑sdang med‑pa), 6) отсутствие неведения (gti‑mug med‑pa), 7) прилежание (brtson-’grus), 8) совершенствование знаний (shin‑tu sbyangs‑pa), 9) бдительное отношение ко всем живым существам (bag‑yod‑pa), 10) равное отношение ко всем живым существам (btang‑snyoms), 11) никому не вредить (rnam‑par mi-’tshe‑ba).
Таблица 3
ОДИННАДЦАТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ДОБРОДЕЯНИЯ (DGE-BA BCU-GCIG)

Сущность или основные характеристики вышеуказанных элементов добродеяния понятны. Но стоит остановиться на десятом элементе, т. е. на элементе, называемом "Равное отношение ко всем живым существам". Об этом элементе пишет известный тибетский ученый XIV в. Рендапа в книге "Комментарии к "Абхидхармасамуччае"": "Сознание, воспитанное на равном отношении ко всем живым существам, достигается при помощи дхьян в результате реализации плода анагамин. Индивид, подлинно познавший учение "Об отсутствии индивидуального Я обретает невозмутимость. В этот момент в нем открывается истина, что все живое несет в себе частицу Татхагаты, поэтому данное живое существо должно стать для меня одинаковым со всем остальным. Не может здесь быть близких и далеких, любимых и нелюбимых… Индивид должен концентрировать свою мысль на том, что все живые существа в беспредельных сансарных перерождениях были его матерями. Мы утверждаем, говорят буддисты, что сансара безначальна, и поэтому наши различные перевоплощения безначальны также. Если это так, то мы не можем сказать, что данное живое существо когда‑нибудь, в каком‑нибудь перевоплощении не было моей матерью. Поэтому мы должны иметь равное сострадание ко всем живым существам, как к своей матери"[164].
Для постижения такого результата требуется подавление клеши неведения (ma‑rig‑pa) и элемента различения (’du‑shes).
Следующий, одиннадцатый, элемент, ahimsa — никому не вредить — вытекает из убеждения, что каждое живое существо имеет частицу Татхагаты, и также, что каждое живое существо является "моей матерью". Поэтому нужно иметь равное сострадание ко всем живым существам. Естественно, анагамин, имеющий подобное убеждение, не может породить мысль вредить кому‑нибудь.
Указанные одиннадцать элементов добродеяния практикуются на махаянистическом и хинаянистическом путях.
Четвертым психическим процессом индивида виджнянавадины считают психический процесс, где участвуют оскверняющие элементы — клеши. Здесь все элементы, входящие в группу элементов клеша (nyon‑mongs), также имеют интенсивную связь с сознанием. Они подразделяются на основные и сопутствующие клеши.
Основных клеш шесть: 1) страсть (’dod‑chags), 2) гнев (khong-khro, pratighah), 3) гордость (nga‑rgyal, mana), 4) неведение (ma‑rig‑pa, avidyā), 5) сомнение (the‑tshoms, vicikitsā). 6) Шестой клешей являются пять различных небуддийских, стало быть, ложных воззрений (log‑lta lnga):
1) воззрение о разрушаемости всех вещей и явлений (satkāyadṛṣṭi — ’ji‑tshogs la lta‑ba). Представители этого взгляда придерживаются мнения, что все объективные вещи и явления состоят из различных частей, поэтому они без исключения подвержены разрушению. Вне, за пределами указанных объективных вещей и явлений, ничто не существует, стало быть, и не существует абсолютной реальности, называемой нирваной;
2) воззрение, признающее, что сансара имеет начало и конец (antagraha‑dṛṣṭi — mth’a ’dzin‑pa’i lta‑ba), сюда входят еще два воззрения:
а) rtag‑mthar lta‑ba — воззрение, утверждающее положение о вечности материи;
б) chad‑mthar lta‑ba — взгляд, отрицающий существование потустороннего мира, загробной жизни, морального закона причины и следствия (карма);
3) воззрение, признающее свой взгляд выше всех других взглядов (dṛṣṭiparamarsa — lta‑ba mchog ’dzin);
4) воззрение, признающее нравственный закон выше всего (śila-vrataparāmarśa - tshul-khrims brtul-zhugs mchog ’dzin). Во времена распространения буддизма в Индии были школы, считающие нравственное раскаяние самым высшим добродеянием, причем они признавали именно такую нравственность, которая противоречила буддийской: например, сюда относились те аскеты, которые занимались физическим истязанием своего тела и другими противонравственными, с точки зрения буддизма, поступками;
5) ложное воззрение (mithyadṛṣṭi — log‑lta).
Указанные пятьразлигных воззрений йогачары объединяют в одну группу элементов и называют шестым основным элементом из клеш.
Клеши (nyon‑mongs) — это элементы, возбуждающие отрицательные (грешные) поступки. Некоторые определяют клешу как первобытное страдание. По учению буддизма, волнение дхарм, или сансара, безначально: ’khor‑ba thogs‑ma‑med, поэтому клеши не есть результат грехопадения, они не грехи, которые можно искупить, а первобытное страдание, которое должно быть приостановлено. Грех может быть совершен в результате волнения элементов, т. е. в основе безначального волнения лежат элементы самскара — ’du‑byed. Они производят (обусловливают) нравственно положительные (dge‑ba) и отрицательные действия (mi‑dge‑ba). Нравственно отрицательные действия обусловлены клешами (nyon‑mongs).
Ф. И. Щербатской поясняет это положение так: "Элементы морального осквернения — клеша — всегда имеют место в нашей жизни — samtana (mtshan‑gzhi) в связанном (скрытом) состоянии. Здесь они имеют форму остатков — anusaya, они прикрепляются к другим элементам, загрязняют их, приводят их к столкновению и предотвращают от состояния покоя. Это влияние неспокойных элементов в жизни называется общей пригиной — sarvatraga‑hetu, так как оно действует на весь поток жизни — santana, все его элементы становятся загрязненными. Первостепенная причина этого неблагоприятного состояния — иллюзия, или невежество, — основной член в колесе жизни. Она продолжает существовать и проявлять свое влияние до тех пор, пока крутится колесо и постепенно нейтрализуется и, наконец, останавливается противодействием в форме превышающей ее мудрости — prajna‑mala"[165].
Страсть, гнев, гордость, неведение, сомнение — эти элементы входят в группу элементов клеша; как они действуют на сознание, нам известно. Среди них элемент неведение является самым основным. Благодаря неведению феноменальный мир познается индивидом так, что в нем присутствуют все условия для реализации страсти, гнева, гордости, сомнения и т. д. По утверждению буддистов, индивид, подавивший в себе клешу неведения, становится просветленным. Он смотрит на мир иными глазами, через призму мудрости. Тогда, по утверждению Чандракирти, там не остается ничего, кроме бездны — шуньяты, где нет места и условия для реализации страсти, гнева, гордости и т. д.
Пятым психическим процессом является процесс актуализации двадцати видов сопутствующих клеш (nye‑ba’i nyon‑mongs‑pa nyi‑shu)[166]. К ним относятся: 1) зло (khro‑ba), 2) страх (khon‑du-’dzin‑pa), 3) скрытность (’chab‑pa), 4) пламенеть душой (’tshig‑pa), 5) зависть (phrag‑dog), 6) жадность (ser‑sna), 7) мираж, ложное видение (sgyu), 8) ложь (g.yo), 9) горделивость (rgyags‑pa), 10) наведение страха (mam‑par ’tshe‑ba), 11) бесстыдство (nge‑tsha‑med‑pa), 12) нескромность (khrel‑med‑pa), 13) язвительность, терзание других (rmugs‑pa), 14) утомляемость (rgod‑pa), 15) неверие (ma‑dad‑pa), 16) невыдержанность, аморальность (lе-lо), 17) невнимательность, непредупредительность (bag‑med‑pa), 18) забывчивость (brjad‑nges‑pa), 19) непонятливость (shes‑bzhin ma‑yin‑pa), 20) приходить в смятение (mam‑par gyeng‑pa).
Таблица 5
ДВАДЦАТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С УЧАСТИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ОСКВЕРНЕНИЙ (20 МАЛЫХ КЛЕШ)

Вся буддийская хинаяниcтическая практика сводится к тому, как нужно индивиду освободиться от морального осквернения — от клеш. Для полного подавления всех клеш хинаянистический святой (архат) проходит два пути: путь накопления добродеяний (tshogs-lam) и путь творческий (sbyor‑lam).
Метод подавления клеш сводится к тому, что индивид должен обдумать каждую клешу в отдельности и после осознания ее должен практически, умышленно подавить ее в жизненном опыте. Этот опыт от простого смертного человека (prthagjana, so‑so‑skyes‑bu) до состояния архата имеет четыре плода.
По утверждению буддистов, когда ищущий обдумал все (четыре) Благородные Истины и пришел к выводу о необходимости освободиться от страдания, то этим самым он попадает в состояние, именуемое "вошедший в русло" буддийского учения (srota‑apanna, rgyun zhugs). Это и есть первый плод. Но до срота — апанна индивид проходит четыре стадии. На последней стадии (пути творческой практики — бхавана — марга) он и обретает состояние срота — апанна.
Второй плод — агамин (phyir-’ong). Индивид напряженно сосредоточивается на каждой клеше в отдельности и подавляет их. В этом состоянии (агамина) индивид полностью еще не освобождается от клеш, хотя у него воспитывается стоицизм, твердость духа и высшая бесстрастность. В этом состоянии индивид еще один раз рождается в сансаре.
Третий плод — анагамин (phyir‑mi-’ong). Так называется индивид, полностью очистившийся от клеш и тем самым больше не возвращающийся в сансару, то есть не подчиняющийся закону кармы. Он совершенствуется дальше и достигает последней ступени — архатства (dgra‑bcom‑pa). Архат — последний, четвертый плод совершенствующегося. Состояние архата — высшая святость хинаяны, где подавлены все основные и малые клеши. Для достижения состояния архата требуется реализация пяти элементов, перечисленных во втором моменте процесса мышления.
Последний, шестой, психический процесс называется "обратимым психическим процессом" (gzhan-’gyur‑bzhi), где участвуют четыре элемента: 1) сон (gnyid), 2) раскаяние (’gyod‑pa), 3) иллюзия (rtog‑pa), 4) исследование (dpyod‑pa). Эти четыре элемента не входят в состав клеш. Поэтому они не подавляются усилием воли, а сон может быть прекращен просто через напряженное сосредоточение. Остальные три элемента могут быть легко обращены на пользу совершенствования.
Таблица 6
ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ОБРАТИМОГО ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
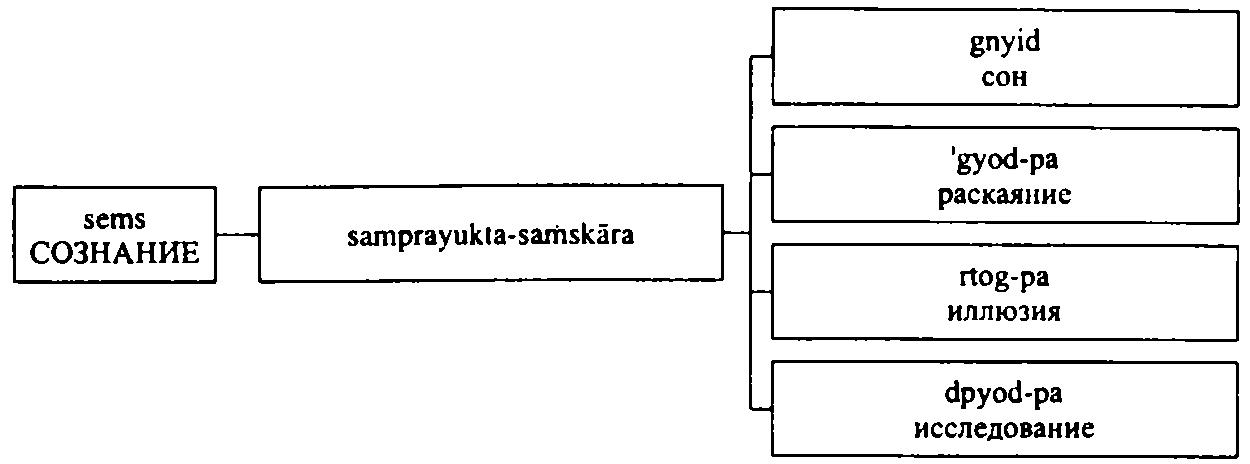
Васубандху утверждает, что полная реализация каждого элемента как психического процесса происходит в случае полного совпадения причины (rgyu) и условия (rkyen). Если присутствует причина процесса, но не будет при этом условия возбуждения, то не будет психического процесса раскаяния, или угрызения совести и т. п., и, наоборот, хотя есть условие для возбуждения, но не будет причины, то не произойдет самого процесса. Поэтому для прекращения такого нежелательного процесса, как сон при самадхи (сосредоточении), индивид усилием воли может разрушить совпадение причины и условия, т. е. отнимает один из компонентов — причину или условие. Вайбхашики говорят, что для ликвидации "сна" нарушение совпадения компонентов наступает при напряженном сосредоточении.
Таким образом, основатели школы виджнянавады, или йогагаров, Асанга и Васубандху (IV в. н. э.) признали указанные 51 элемент психическими процессами (sems‑byung lnga‑bcu‑gcig).
Постоянные элементы в буддийской философии[167]
В "Абхидхармакоше" Васубандху все вещи исчерпываются 75 элементами (санскр. dharma, тиб. chos), которые состоят из двух групп: самскрита (’dus byas) — 72 составных непостоянных элемента и асамскрита (’dus та byas) — 3 несоставных постоянных элемента.
В зарубежной исследовательской литературе по буддийской философии проводится основательный анализ всей первой группы из 72 элементов. Но сколько‑нибудь подробного изложения сущности второй группы из трех постоянных элементов почти отсутствует. Например, С. Радхакришнан, характеризуя 3 постоянных элемента, пишет: "Несоставных элементов три. Первый — акаша, который свободен от всех различий и ограничений. Это вечная, всеохватывающая, положительная субстанция. Она существует, хотя и не имеет формы (рупы), и не является материальной вещью (васту). Второй элемент — апратисанкхъяниродха (so sor brtags min gyi ’gog pa) — это невосприятие дхармы, вызванное отсутствием пратъяя, или условий, и невоспроизводимое с помощью знания. Это — напряженное сосредоточение на объекте, так, чтобы все другие влияния были устранены. Третий элемент — пратисанкхьяниродха (so sor brtags pa’i ’gog pa) — представляет собой положительное использование трансцендентального знания — высшего идеала сарвастивадинов"[168].
Несколько иное определение пратисанкхьяниродхи принадлежит нашему соотечественнику Ф. И. Щербатскому:. Пратисанкхьяниродха означает сознательное обдумывание и является типом ума, так как она обдумывает каждую из Четырех Благородных Истин. Достижение прекращения страданий, или ниродха, с помощью силы размышления называется поэтому пратъясанкхьяниродха, точно так же, как повозка, запряженная волами, называется воловьей повозкой и при этом средний термин исчезает"[169]. Такой же крупный буддолог, как наш соотечественник О. Розенберг, вообще не упоминает об этих постоянных элементах в своей работе "Проблемы буддийской философии".
Итак, мы имеем два определения для постоянных элементов двух разных исследователей — буддологов. Оставляя в стороне вопрос о правильности этих определений, можно сказать, что ни одно из них не дает ответа на вопрос, почему они оказались в ряду постоянных элементов наравне с третьим постоянным элементом — пространством (акашей), тем более, что они названы типами ума, или напряженным сосредотогением.
Из "Абхидхармы" известно, что разновидности умов, сознаний, или напряженное сосредоточение, — все это входит в категорию 72 непостоянных составных элементов. Между тем, только исчерпывающий анализ сущности этих двух элементов позволяет нам определенно судить, принадлежит ли буддизм к идеалистической философии или к материалистической. Ибо за последнее время среди некоторых индийских философов находит признание точка зрения на буддизм как на философию материалистическую. Так, М. Рой в работе "История индийской философии" пишет: "Когда они (вайбхашики) говорили о пратисанкхьяниродхе и апратисанкхьяниродхе, из краткого приложения, имеющегося в "Абхидхармакоше" Васубандху, трудно понять, какой смысл они вкладывают в эти термины. Работы "Махавибхаша" и "Абхидхармакошабхашья", принадлежащие перу Яшомитры, даже после больших усилий, затраченных на их изучение, остаются малодоступными… Несмотря на некоторые недостатки, философию вайбхашиков можно назвать диалектико — материалистической, ибо те три элемента, которые они считают вечными, являются материальными. Следовательно, нет никаких оснований называть их воззрение (дхарму) идеалистическим"[170].
Элементы, не подверженные безначальному волнению дхарм, являются постоянными, и их всего два, не включая пространство (акашу). Все остальные 72 элемента (входящие в личность), из которых состоит индивидуум, подвержены этому волнению и, стало быть, не постоянны. Они (ищущие) могут быть освобождены от него (волнения), погрузившись в нирвану, или в архатство, которое является высшей ступенью — святости, когда пламя страстей угасает и не действует больше закон кармы, связывающий личность с перерождениями, т. е. индивидуум освобождается от сансары.
Основной причиной, держащей индивидуум в сансаре, являются клеши — источник возникновения всех греховных деяний. Задачей совершенствующегося индивидуума является освобождение его от клеш. Основных клеш пять: неведение (санскр. avidya, тиб. та rig ра), страсть (санскр. raga, тиб. ’dod chags), гнев (санскр. dvesa, тиб. khro), гордость (санскр. mana, тиб. nga rgyal), зависть (санскр. malsarya, тиб. ser sna).
Далее пять клеш ветвятся на более мелкие, второстепеннные[171]. Центральной клешью, из которой рождаются другие клеши, является неведение (авидья).
Существует два метода освобождения от клеш.
Первый метод — сознательное обдумывание каждой клеши в отдельности и после осознания ее практическое (умышленное) подавление в жизненном опыте. Этот опыт от простого смертного человека (санскр. prthagjana, тиб. so so skye bu) до состояния архата имеет гетыре плода.
Первый плод. Когда ищущий обдумал все четыре благородные истины и пришел к выводу о необходимости освободиться от страданий, то этим самым он попадает в состояние, именуемое вхождением в русло буддийского учения (санскр. srota‑apana, тиб. rgyun zhugs).
Но индивид до состояния срота — апанна проходит четыре пути (стадии). На последнем пути (стадии) практики (бхавана — марга) он обретает состояние срота — апанна.
Второй плод — агамин (phyir ’ong ba). Индивидуум напряженно сосредоточивается на каждой клеше в отдельности и практически устраняет их. Полностью на этой ступени он не освобождается от клеш, хотя у него воспитывается стоицизм, твердость духа и высшая бесстрастность. Он не должен дрогнуть, встретив даже крушение мира, должен проявить при самых затруднительных обстоятельствах невозмутимую ясность духа, над которой не властны ни соблазн, ни угроза. В этом состоянии индивидуум еще один раз рождается в сансаре.
Третий плод — анагамин (phyir mi ’ong ba). Так называется индивидуум, очистившийся полностью от клеш и тем самым больше не возвращающийся в сансару, т. е. не подчиняющийся закону кармы.
Четвертый плод — индивидуум совершенствуется дальше и достигает состояния архата (dgra bcom ра) — высшей святости, когда ни один элемент больше не волнуется, т. е. на поверхности моря бытия наступает полный штиль. Это состояние является постоянным и называется пратисанкхьяниродха (so sor brtags pa’i ’gog), что означает — "подавивший клеши, изугая (познавая) каждую в отдельности".
Если рассматривать его с точки зрения схемы виджнянавадинов, то здесь индивид обретает состояние анупадхишеша — нирваны. Анупадхишеша — нирвана — это состояние, не имеющее остатков клеш и освобожденное от оков материальности, состояние гувствующего индивида, освободившегося от всех оков сансары (шринкала). Подробное изложение дается далее при рассмотрении постоянных элементов с точки зрения путей совершенствования идивидуума.
Второй метод освобождения от клеш[172]. Результат достигается тот же, что и при первом. Если в первом случае изучали каждую клешу и подавляли их в практических действиях повседневной жизни, то здесь нет индивидуального подхода к каждой клеше в отдельности. Способ подавления клеш — напряженное сосредоточение, тантрийское созерцание. Ищущий обдумывает всю совокупность клеш и подавляет их всех одновременно. Для большей наглядности он представляет каждую клешу в виде животного. Неведение в этом случае представляется как свинья, страсть — как петух, гнев — как змея, гордость — как лев, зависть — как обезьяна. Ищущий (йогин) углубляется в напряженное сосредоточение, при этом мысленно открывает центральный нервный ствол авандуди, который, по понятиям тантристов, имеется у всех живых существ, но бездействует у простых смертных. На этом стволе представляются пять узлов:
— первый — под корой головного мозга в виде белого колеса с 32 спицами;
— второй — на уровне горла в виде красного 16–лепесткового лотоса;
— четвертый — на два пальца ниже пупа в виде кувшина желтого цвета, состоящего из 64 нервных волокон;
— третий — на уровне сердца в виде синего 8–конечного ваджра;
— пятый — у полового органа: узел без определенной формы, зеленого цвета, состоит из 32 нервных волокон.
Затем ищущий на всех пяти узлах авандуди мысленно располагает пятерых животных. А именно: на голове — свинью, у горла — петуха, в области сердца — змею, под пупом — льва, у полового органа — обезьяну.
После этого он сосредоточивается на мысли о том, что созерцаемое нирванистическое существо (будда), пусть это будет Ваджрасаттва или Самантабхадра, своим телом блаженства — самбхогакаей в виде пятицветной радуги — проникает через темя в авандуди и гонит всех названных животных вниз. Как быстрая горная река на своем пути сметает и несет щепки, листья и высохшую траву и выбрасывает их в долине[173], точно так же самбхогакая будды в виде радуги уносит все клеши прочь из тела, из сознания ищущего индивидуума. Йогин сосредоточивает свое сознание на таком содержании в течение многих лет. Когда йогин интуитивно постигает достигнутый им результат своей конечной цели, он прекращает практику.
Здесь он обретает высшие сиддхи и махамудру, т. е. достигает малой нирваны[174]. Все дхармы в нем успокоены, ни одна из них уже не родится, бытие данного потока дхарм приостанавливается, эмпирическое бывание прекращается, сущность дхарм пребывает в вечном покое сверхбытия, который ничем уже не может быть нарушен. Вот это состояние и называют апратисанкхьяниродха, что означает "подавивший клеши, не изугая каждую в отдельности" (so sor brtags min gyu ’gog pa). И поэтому буддисты указанные два элемента причисляют вместе с пространством (акаша) к постоянным элементам.
Но некоторые тибетские комментаторы "Абхидхармы", я имею в виду лавранского ученого прошлого века Гунтан — Лодоя, говорят, что: "первый случай — пратисанкхьяниродха — более надежный способ уничтожения (ниродха) клеш. Это можно сравнить с тем, как человек выгоняет из дома вора (клеши) и затем закрывает дверь на крючок. Этим самым он окончательно расстается с клешами. А во втором случае — апратисанкхьяниродха — человек, выгоняя вора из дома, дверь не закрывает на крючок. Поэтому при благоприятных условиях клеши могут вновь просочиться в индивида"[175]. Этим самым автор хотел сказать, что нельзя останавливаться на достигнутом, т. е. в состоянии апратисанкхьяниродхи, что необходимо достичь следующего состояния — состояния пратисанкхьяниродхи.
Рассмотрим теперь эти элементы с точки зрения путей совершенствования. В "Абхисамаяламкаре" указаны пять путей. Первые два — путь накопления добродетелей (санскр. sambhara‑marga, тиб. tshogs lam) и вступление в созерцание, или путь тренировки (санскр. prayoga‑marga, тиб. sbyor lam) — являются путями простых смертных (тиб. so so skyes bu’i lam) (схема 1), три остальные являются путями святых, которые делятся на четыре категории (санскр. caturarya, тиб.
phags ра bzhi): 1) святой шравака (тиб. nyan thos ’phags ра), 2) святой пратьекабудда (тиб. rang rgyal ’phags ра), 3) святой бодхисаттва (тиб. byang sems ’phags ра) и 4) святой будда (тиб. sangs rgyas ’phags ра).
Схема 1

Для всех четырех категорий святых эти три пути следующие.
I. Даршана марга (тиб. mthong lam). На этом пути ищущий святой постигает подлинную сущность отсутствия Я в трех разных формах: а) отсутствие индивидуального Я и познание тонкой сущности его (отсутствие Я) (тиб. gang zag gi bdag med phra то), б) познание отсутствия Я элементов (дхарм) в его грубой форме (тиб. chos kyi bdag med rags ра), в) познание отсутствия Я элементов в его тонкой сущности (тиб. chos kyi bdag med phra то). Все это называется "путь подлинного познания отсутствия Я в тонких и грубых формах (тиб. bdag med phra rags gsum) или путь подлинного постижения шунъи" (тиб. mngon sum du rtogs pa’i lam).
II. Бхавана — марга — путь (глубокого) сосредоточения (санскр. bhavana‑marga, тиб. sgom lam). На этом пути ищущий сосредоточивает свой ум на тех достижениях, которые он обрел в предыдущих путях, т. е. он созерцает все десять ступеней бодхисаттвы (тиб. byang sems kyi sa bcu). На этом же пути в результате подавления всех клеш, препятствующих совершенствованию, появляется быстротечный беспрепятственный путь (тиб. bar chad med lam). Индивид здесь входит в состояние, которое именуется апратисанкхьяниродха (тиб. so sor brtags min gyi ’gog ра, то же самое, что bar chad med lam mo / rkun po 'phyung ba Ita bu’i / выгнали вора). Именно про это состояние в конце беспрепятственного пути Гунтан — Лодой и другие говорили как про состояние, в котором человек выгоняет из дома вора, но не закрывает за ним дверь на крючок.
III. Путь конечный, без^чебы (санскр. asaiksa‑marga, тиб. mi slob lam). Здесь святому учиться нечему, так как все знания по путям совершенствования приобретены. Они закрепляются в нем, т. е. после ухода вора из дома он закрывает дверь на крючок. На этом пути у индивида возникает состояние, именуемое "путем абсолютного освобождения" (тиб. mam grol lam), это и есть пратисанкхьяниродха (тиб. so sor brtags pai ’gog pa, то же смое, что rnam 'grol lam то — sgo phar bcod ba Ita bu’i — закрыта дверь на крючок; см.: Gung thang blo gros "Chos mngon rgya mtsho").
Схема 2

Из сказанного видно, что эти два постоянных элемента являются наиболее трудными для понимания, ибо клеши подвергаются подавлению в течение очень длительного периода времени, и при этом совершенствующийся сталкивается с целым рядом переходов элементов из одного состояния в другое. В конце концов количество совершенствующих тренировок переходит в качество, т. е. очищенные от клеш элементы индивида становятся качественно отличными (от сансарных) состояниями, причем все это может осуществиться в течение одной человеческой жизни. Эта схоластическая концепция буддистов вполне оправдывает их основную теорию о возможности и необходимости перехода индивида в нирвану. Поэтому не зря древние авторы "Абхидхармы" Васумитра, Яшумитра и Васубандху причисляли эти два элемента к лику постоянных (вечных) элементов. Об этом также до них говорил один из старейших и мудрейших учеников самого Будды Шакьямуни Кашьяпа.
Впоследствии, с рождением школы махаянистов, сочинение Арьясанги "Абхисамаяламкара", приписываемое бодхисаттве Майтрее, отводит особые места для двух постоянных элементов (bar chad med lam и rnam ’grol lam)[176] в высших путях святых (схема 2).
Общая схема совершенствования по пути мантраяны[177]
Цель данной работы — осветить коренные вопросы, касающиеся изучения одного из центральных направлений в буддизме, известного в философской литературе Востока и Запада как буддийский тантризм в его тибетской интерпретации. Тантрийское учение занимает очень существенное место в общей философской концепции буддизма. Без изучения тантризма по первоисточникам, которые сохранились преимущественно на тибетском языке, немыслимо изучение северного буддизма махаянистического толка, и приведенная ниже схема является элементарным введением в тантрийскую философию буддизма, без которой невозможно описание пути мантраяны и даже отдельных проблем и целей йогической практики, такой, как медитация и т. д. В научной литературе по буддийско — тантрийскому учению до сих пор не давалось общей схемы совершенствования по пути мантраяны. Существует множество работ по тантризму, но они в основном касаются чисто философской части учения и дают несистематическое описание отдельных йогических упражнений. Между тем существует общая схема совершенствования для всех четырех тантрийских систем, где даны задачи ищущего (йогина), следующего указанным выше путем. Здесь мы попытаемся осветить общие положения упомянутой схемы.
Центральной проблемой буддийского учения в любой из трех колесниц (ян) является уход из безначальной и многострадальной сансары к конечному идеалу — нирване. Метод, или путь, такого перехода в каждой яне свой, и даже само понятие нирваны в них различно. Махаянистическая теория нирваны сходится с тантрийской теорией, так как обе утверждают, что нирвана — это такое состояние, которое является трансцендентным, т. е. находится за пределами разумного познания. О нирване мы не можем сказать, возникла она или не возникла, и может ли она возникнуть; она не есть прошедшая, настоящая или будущая. Сам Будда не давал конкретного объяснения сущности нирваны. Будда не ставил прямо вопроса о природе нирваны. Он считал, что его миссия состоит не столько в том, чтобы раскрыть тайны блаженства, сколько в том, чтобы привлечь людей к его осуществлению[178].
Нирвана для махаянистов есть только разрушение пламени вожделения, ненависти и невежества, она отнюдь не означает абсолютного небытия; нирвана есть абсолютное совершенство бытия.
Буддийские мыслители, ученые объясняют: нирвана есть не что иное, как поток безупречно чистых состояний сознания и конечный результат духовного прогресса. Являясь завершением духовной борьбы, она представляет собой положительное блаженство. Это — цель совершенствования, а отнюдь не бездна уничтожения.
Путем разрушения всего, что есть в нас индивидуального, мы входим в общение со всей вселенной и становимся неотъемлемой частью некоего великого процесса.
Таким именно образом мыслители — буддисты приходят к выводу, что нирвана — это состояние, выходящее за рамки отношения субъект — объект. В нем отсутствует всякий след сознания индивидуального Я. Это состояние деятельности, не подчиненной причинно — следственному закону (карма), ибо оно есть безусловная свобода. В одном смысле это есть самоугасание, прекращение волнения элементов бытия (дхарм), в другом — абсолютная свобода от сансарных пут и условностей, но ни в коем случае не уничтожение; нирвана, шунья и махамудра — одно и то же, они находятся вне сферы познаваемости обычным человеческим интеллектом.
Говоря словами представителей школы мадхьямика — прасангика (dbu та thal ’gyur ра), нирвана то же самое, что и шунья, неописуема, невыразима словом, не поддается логическим законам мышления. Между тем они же утверждают тождество сансары и нирваны, ибо если снять условности сансары, то сансара и нирвана становятся одним и тем же. У прасангиков существуют две ступени достижения нирваны: первая — упадхишеша нирвана — состояние, в котором угасают только человеческие страсти и привязанности (клеши); вторая — анупадхишеша нирвана — состояние, в котором угасает всякое бытие. Согласно Чайлдерсу, первое есть состояние совершенного святого, у которого все еще наличествуют пять скандх. Во втором случае мы имеем прекращение всякого бытия, следующее за смертью святого. Когда говорят, что некто, например Миларэпа, достиг нирваны в этой жизни, то подразумевается упадхишеша нирвана.
Махапаринирваной именуется состояние бодхисаттвы, который исчез из мира преходящих вещей. Поскольку оно не есть уничтожение, а наоборот, являет собой абсолютно свободное и безупречно чистое сознание, которое иначе называют Адибуддой, постольку оно деятельно, и деятельность его направлена на спасение всех живых существ сансары. Реализовавшие состояние нирваны нирванистические существа используют для спасения сансары три божественных тела: (1) дхармакаю (chos sku), т. е. Космическое Тело Будды, существующее вне времени и пространства и ничем не обусловленное. Соответствующее безличному Абсолюту, оно не есть только тело угения, но безграничное бытие или закон всего существования. Когда дхармакая, будучи абсолютным началом, принимает форму пятицветной радуги и пребывает в абсолютном блаженстве, тогда она превращается в (2) самбхогакаю (longs sku), т. е. в субстанцию, которая, продолжая существовать, становится наслаждающимся субъектом. В данном случае категория наслаждения имеет существенно иное содержание, нежели то, которое вкладывают в нее земные существа. Это особого рода наслаждение, присущее только нирванистическим существам и бодхисаттвам самых высших ступеней. Когда во всемогущем Адибудде появляется желание спасти сансарных существ и он принимает имя и образ, тогда происходит превращение самбхогакаи в (3) нирманакаю (sprul sku). Здесь единая сущность Адибудды реализуется в аватарах, или воплощениях. Легендарные будды, появляющиеся в сансаре и проповедующие свое учение на благо сансарных существ, пребывают в состоянии нирманакаи.
Учение Будды было раскрыто последователями в двух аспектах: философская сущность учения (zab то Ita brgyud) и учение о великих путях (rgya chen spyod brgyud). Однако тантрийское учение объемлет оба эти направления, но способы достижения нирваны построены иначе.
Тантрийское учение проникает в массу двумя порядками. Риддхический порядок — это такой порядок, который потенциально заложен в самом тантрийском учении. Как говорят тантристы, любой ищущий, который кармически подходит к тантрийской системе и соблюдает все ее правила (заповеди), до достижения нирваны обязательно пройдет через все ступени риддхи и сиддхи. Риддхи — это сверхъестественные силы, стоящие выше, чем восемь обычных сиддхи[179]. Йогин, обретая риддхи, общается непосредственно с божеством.
Иной порядок проникновения учения — кармический. Карма — это моральный закон причины и следствия. Любой поступок, добрый или греховный, не пропадает бесследно, индивид не может избежать последствий своих прошлых деяний. Прошедшее действительно создает настоящее и будущее. "Именно вследствие различия в их кармах люди неодинаковы: некоторые долговечны, некоторые недолговечны, некоторые здоровы, некоторые болезненны".
История индивида начинается не тогда, когда он рождается, она осуществлялась уже в течение бесконечных рядов перерождений. Поэтому люди, равно как и все живые существа в сансаре, представляют собой временные звенья в длинной цепи причин и следствий, где нет ни одного звена, независимого от остальных. Таким образом, человек, который встречается в этой жизни с тантрийским Учителем и, получая от него посвящение, практикует йогу, по понятиям буддийских тантристов, несомненно встречался с этим учением в прошлых перерождениях или соответствующими деяниями создал карму, приведшую его к тантрийскому учению в настоящей жизни.
Тантрийское учение Будды считается исключительно редким явлением в сансаре. Легенда гласит, что существует тысяча будд "доброго времени", которые по очереди должны являться в сансаре и проповедовать буддийское учение, тем самым способствуя его распространению. Время пребывания одного будды в сансаре исчисляется несколькими тысячами лет. Четвертым в этом ряду является Будда Шакьямуни. Согласно легенде, именно он да еще Тринадцатый Будда (Крик Льва — seng ge’i nga го) и последний, Тысячный Будда, будут проповедовать тантрийское учение. Остальные 997 будд будут учить только хинаянистическим путям. Этой легендой тантрийские учителя убеждали своих слушателей в уникальности подобного явления. Они полагали, что любой индивид, принявший посвящение в этой жизни, обязательно является существом кармическим и пришедшим к тантрийскому учению, будучи уже давно подготовленным к этому.
Тантрийское учение преподавалось самим Бхагаваном Учителю или небесным девам (дакиням), от которых опять‑таки приходило к Учителю. Как гласит легенда, тантрийское учение Гухьясамаджи было преподано Бхагаваном царю Индрабодхе, а система Жедорже (санскр. Хеваджра, тиб. Куе rdo rje) — йогу Сарахе, системы Чакрасамвара (bDe mchog) и Ваджрабхайрава (rDo rje 'jigs byed) были доставлены на землю йогами Луивой и Лалитаваджрой из страны дакинь. В тантризме Учитель, традиционно — непрерывно передающий тайну тантры, имеет особое значение. По этому поводу Цзонхава говорит: "Солнечные лучи, какие бы сильные и горячие они ни были, без выпуклого стекла не дадут огня, так же учение Бхагавана без Учителя невозможно для освоения и практики".
Тантрийский Учитель для ученика является более, чем просто личностью, которой случилось стать наставником последнего. В определенном смысле Учитель — это взятая в целом личность ученика, призывающая его идти по пути тантрийского учения, хотя в то же время Учитель является отдельным историческим лицом. В диалоге Тилопы и Наропы[180] есть место, где Тилопа говорит следующее: "Даже когда ты встретил меня в виде прокаженной женщины, мы не были порознь, мы были, как тело и его тень. Различные твои видения — это загрязнения, плоды твоих дурных поступков, и поэтому ты не узнал меня"[181].
Более того, как максимум отношения "Учитель — ученик", существует правило: на Учителя никогда не следует смотреть, как на человека, ибо стремление преодолеть ординарные условия бытия ученика будет неизбежно парализовано, хотя и без ясного понимания этого последним. Поэтому Учителем случайная личность быть не может, так же как нельзя принять в ученики первого встречного. Ученик — кармическое существо, должен прийти с глубоко прочувствованной мыслью о необходимости наставлений. Учитель же должен осуществить в себе все то, чему он собирается учить. Только при этих условиях могут существовать полезные взаимоотношения, из которых возникает то, что будет иметь высочайшее значение для дальнейшей жизни индивида.
Ученик, принявший тантрийское учение, совершенствуется, углубляется в сосредоточении, при этом читает мантру, которая очищает его язык от всякой скверны. Весь процесс является практикой углубления мысли, или сосредотогением. Прежде всего, это простой факт направления своего внимания на что‑либо. Внимание как психический элемент есть простейший вид самоуглубления.
Путем специальных упражнений (в нашу задачу не входит их описание) обычная способность внимания может быть развита. В этом случае достигается совершенно особое состояние. Созерцаемый предмет или мысль, на которую усиленно направляется внимание, начинает занимать сознание целиком, вытесняя из него остальное содержание. Таким путем достигается устойчивость созерцаемого предмета в сознании — состояние транса, завершающееся иногда каталепсией.
Как мы уже говорили, реальность нирваны не может быть доказана логически, но может быть установлена с помощью созерцания и просветления. Погруженный в сосредоточенное созерцание йогин видит при помощи истинной природы своей алая — виджняны — индивидуального сознаниия, которое, подобно свету, делает ясной сущность нирваны. Учитель, достигший посредством йогической практики определенных результатов, может дать кармическому ученику, если тот окажется подходящим сосудом, посвящение в тантрийские тайны. Это тайное тантрийское учение есть ключ к секрету состояния нирваны, есть метод контроля и подавления необузданного сознания, руководство к достижению непосредственного интуитивного восприятия реальности.
Существует много различных методов йоги[182]. Наиболее характерные из них следующие: (1) тренировка в регулировании дыхания (пранаяма), заключающаяся в способности задерживать вдох и выдох, что способствует созерцанию; (2) отвлечение чувств от внешних объектов и полное подчинение их сознанию (пратьяхара); (3) фиксация внимания на образе тантрийского божества (дхьяна); (4) созерцание — непрерывное (без отвлечения) рассматривание объекта (дхарана); (5) глубочайшее сосредоточение ума, когда он утрачивает представление о себе, и в нем остается только объект созерцания (самадхи). Так йогин через сосредоточение и размышление может прийти к высшему состоянию сознания, в котором ему является мудрость — осознание недвойственности блаженства и шуньи (bde stong dbyer med kyi ye shes). Достижением такого состояния сознания ищущий снимает представление об относительности и условности сансары, и перед ним раскрывается тождественность нирваны и сансары.
Мы заключаем нашу статью схематическим описанием пути, которым следует ищущий в системе мантраяны.
Таким образом, посвящение (8) ведет к действию (7) в общем потоке (6), к достижению с помощью учения (4), данного в образе Учителя (5), состояния Будды (3), обладающего (2) сущностью закона (1).
Итак, в нашей схеме показан кармический порядок совершенствования индивида с момента получения посвящения от Учителя посредством повторения мантры (8) вслед за Учителем. После посвящения ищущий переходит к действию, т. е. к йогической практике (7), и практика эта, имея основанием тантрийское учение (4) и его реализацию в Учителе (5), приводит его к состоянию Будды (нирваны), обладающего Тремя Телами (1,2,3), которые олицетворяют собой сущность закона.
Данная схема составлена в результате чтения тантрийской литературы, в особенности сочинения Цзонхавы "Агрим" (sNgags rim chen ро).

Здесь: 1 - дхармакая; 2 - самбхогакая; 3 - нирманакая; 4 — Дхарма (учение); 5 - Учитель; 6 - Сангха (община); 7 - чарья (йога); 8 - мантра; —► кармический порядок; —► риддхический порядок; = знак равенства
Теория шуньи у мадхьямиков[183]
В проповеди Будды в Ганжуре имеется раздел "Праджняпарамита". Это учение о праджне, которая есть видение пустоты мира, или видение шуньяты. На эту сутру имеются многочисленные комментарии выдающихся философов древней Индии. Самым первым и самым фундаментальным комментарием ее являются комментарии Нагарджуны, которые называются "Муламадхьямикашастра", и два коротких конспекта: "Юктишаштика" и "Шуньятасаптати". "Муламадхьямикашастру", также называемую "Праджнямула", комментировали восемь выдающихся людей: сам Нагарджуна, Буддхапалита, Бхавья, Чандракирти, Девашарама, Гунарши, Гунамати, Стхирамати. Кроме того, ученик Нагарджуны Арьядэва с Цейлона составил независимый трактат об этой теории. Этот трактат был составлен в более систематическом порядке. Оба автора, видимо, жили во II в. н. э. Их деятельность на севере Индии развивалась в период наивысшего развития Кушанской империи. После них в течение двух столетий был застой: видимо, еще не пришла пора полному развитию махаяны. Лишь в V в. на севере Индии появились братья Асанга и Васубандху, которые организовали махаянистическую школу виджнянавадинов, или йогачаров. Это была школа несколько видоизмененного монизма, который получил в стенах этой школы идеалистическую интерпретацию. В VI в. вновь возрождается махаянистическая школа мадхьямиков; на этот раз она переместилась на юг. В этой южной школе мадхьямиков работали ученики Васубандху — Стхирамати и Дигнага, наряду с ними на юге появились две знаменитости: Буддхапалита, который жил и работал в Сурате, и Бхавья, или Бхававивека. Здесь началось могучее возрождение истинного бескомпромиссного релятивизма Нагарджуны. С этого момента махаянистический монизм более явственно раскалывается на идеалистическую школу йогачаров на севере и шуньявадинов на юге. Последняя снова разделилась на последователей Буддхапалиты и последователей Бхавьи.
Школа, которой руководил Буддхапалита, называлась мадхьямика — прасангика (dbu‑ma thal‑gyur‑pa); лейтмотивом школы было отрицание всякой логики для познания Абсолюта: она совершенно не допускала никакой логической аргументации для доказательства природы Абсолюта, реальностью которого они считали шуньяту (stong nyid). Школа последователей Бхавьи полагала, что необходимо дополнить правила Нагарджуны независимыми (svatantra) аргументами, составленными в соответствии с законами логики. Эта школа получила название мадхъямика — сватантрика (dbu‑ma rang-rgyud‑pa). Последняя школа имела успех и была вначале более многочисленна, чем школа прасангика, но в следующем, VII в. н. э., появился учитель Чандракирти. Он выступил сильным защитником чисто негативного метода, упрочивающего монизм. На многочисленных диспутах и через свои печатные труды он победил представителей сватантрики, затмил концепцию Бхававивеки и в конце концов установил ту форму мадхьямики, которая впоследствии распространилась в Тибете и Монголии.
Итак, с точки зрения прасангиков. Абсолют недоступен дискурсивному методу познания, а шуньята является реальностью Абсолюта, поэтому также находится за пределами действий человеческого разума. Но есть у каждого индивида праджня (shes rab) — это эмоционально — религиозная интуиция в потенциальном состоянии. Только она способна познать трансцендентные вещи, подобные шуньяте. Праджня раскрывается в момент просветления индивида путем добродетельных поступков и строгого соблюдения правил на путях бодхисаттвы. Как утверждает Чандракирти в "Мадхьямикаватаре" и других работах, эмоционально — мистическая интуиция направлена на внутренний духовный мир индивидуума. Она постигает вещь вне сознания, выше его и познает единство, недвойственность, т. е. природу Абсолюта — Адибудды и, стало быть, шуньяту.
Европейские ученые толковали шуньяту, исходя из буквального значения этого слова, как пустоту и из логических рассуждений, выводимых из понятия относительность[184], но ни одно из этих определений полностью не охватывает подлинных значений, которые содержит в себе этот емкий термин. Поэтому соответствующую реальность мы здесь будем называть просто шунъя. В "Муламадхьямикашастре" Нагарджуны приводится 18 способов описания пустоты — шуньяты, из них 16 подробно разъясняются Нагарджуной, Чандракирти и другими.
1. Истинность шести аятан (skye‑mched), начиная от глаза до сознания, есть шуньята, это является шуньятой внутренней (nang stong‑pa‑nyid).
2. Внешние рупы (формы) и подобные им в своей подлинности есть шунья, это является внешней шуньятой (phyi stong‑pa‑nyid).
3. То, что опора индрий похожа на внутренние органы, является результатом знания, собранного через традиционное понимание (shes‑rgyud), и оно не концентрировано индриями, а истинность их — шунья, это есть внешне — внутренняя шуньята (phyi‑nang stong‑pa‑nyid).
4. Истинность шуньяты есть сама шуньята, поэтому это является шуньятой шуньяты (stong‑pa‑nyid stong‑pa‑nyid).
5. Десять направлений света, или трехмерное пространство, по своей истинности есть шунья, это называется великой шуньятой (chen‑po stong‑pa‑nyid).
6. Истинность нирваны есть шунья, это называется шуньятой абсолютной истины (don‑dam‑pa stong‑pa‑nyid).
7. Три сферы сансары и все составные дхармы (санскрита — дхармы) по своей подлинности есть шунья, это называется шуньятой составных элементов (’dus‑byas stong‑pa‑nyid).
8. Небо, или мировое пространство" и другие несоставные элементы (асанскрита — дхармы) по своей подлинности есть шунья, это называется шуньятой несоставных дхарм (’dus та byas stong‑pa nyid).
9. Срединность (dbus — мадхьяма), которая не причастна ни к материалистическому постоянству, ни к идеалистической оторванности, по своей истинности есть шунья, это называется шуньятой, ушедшей за пределы (mth’a las ’das‑pa stong‑pa‑nyid).
10. Истинность сансары есть шунья, это называется шуньятой без нахала и конца (thog‑ma dang tha та med‑pa stong‑pa‑nyid).
11. Истинность сущности вещей есть шунья, это называется шуньятой природы вещей (de‑bzhin‑nyid bden stong rang‑bzhin stong-pa‑nyid).
12. Истинность того, что нельзя отбросить махаяну, есть шунья, это называется неутрагиваемой шуньятой (dor‑pa med‑pa stong-pa‑nyid).
1. Истинность формы (рупа) и элементов, имеющих возможность стать формой, элементов, имеющих предикатом ощущения, и элементов, обладающих обычными и необычными свойствами, есть шунья, это называется шунъятой собственных свойств (rang‑gi mtshan‑nyid stong‑pa‑nyid).
13. Истинность 18 дхату (khams bco‑brgyad) и всех других дхарм есть шунья, это называется шунъятой всех дхарм — элементов (chos thams‑cad stong‑pa‑nyid).
14. Истинность трех времен (прошедшего, настоящего и будущего) есть шунья, называемая шунъятой бесцельности (mi‑dmigs‑pa stong‑pa‑nyid).
15. Истинность совпадения причин и условий есть шунья, это называется шунъятой без реальной сущности (dngos‑po med‑pa’i ngo‑bo‑nyid stong‑pa‑nyid).
Вместе взятые — шестнадцать[185]. По утверждению теоретиков мадхьямики, все указанные выше шестнадцать разновидностей шуньяты в конечном итоге сводятся к четырем шуньятам; они суть:
— шуньята внутреннего (adhyatmasOnyata);
— шуньята внешнего (bahirdhasQnyata);
— шуньята внутренне — внешнего (adhyatma‑bahirdhBsQnyata);
— шуньята шуньяты (sOnyata‑sOnyata).
Шуньята внутреннего есть истинность аятаны, или "базы", ибо аятана — это те элементы, на основании которых может появиться в данный момент сознание, иначе их называют "базами", на которых зиждется сознание. К этой "базе" относится помимо шести объективных элементов также шесть органов: зрительный, слуховой, осязательный, обонятельный, вкусовой и "духовный орган", или "манас". По утверждению представителей школы прасангика, все шесть органов чувств — от глаза до сознания — существуют истинно, но их истинность является пустотой (шуньятой).
Шуньята внешнего относится к шуньяте познаваемых объектов вишаи, имеющих форму (рупа).
Определяя понятие "объективное бытие", утверждают представители махаяны, мы имеем в виду простую целостную субстанцию, не состоящую из комплекса составных частей. Все вещи, состоящие из комплекса составных частей, не имеют своего "я", а имеют лишь пустую форму (рупу) и свойства, не представляющие собой конкретное бытие. Мое "я", или "я" вещей, должно быть единичным бытием, конкретным впечатлением, но это "я" нельзя найти в вещах эмпирического мира отдельно от перцепции. Но когда мы самым интимным образом внимаем тому, что называем нашим "я" в качестве единичного, неделимого, простого бытия, то мы постоянно наталкиваемся на пустоту и неопределенность. Мы никогда не поймаем своего "я" отдельно от комплекса атомов и частей (скандх) нашего тела. Но комплекс атомов и скандх моего тела не есть мое конкретное "я". Вместо конкретного "я" мы постоянно обнаруживаем пустое название, или слово "я". Если взять конкретную вещь и разлагать ее на составные части, последовательно анализируя и разлагая дальше и дальше, мы в конечном итоге можем прийти к пустоте, к "ничто", но не найдем конкретного единичного "я" изучаемого предмета. Например, Уиллер, современный физик — теоретик, при комментировании идеи Эйнштейна "понять материю как возбужденное состояние вакуума" пишет[186]:
Таким образом, можно сформулировать эту программу изречением: всё есть ничто. В будущей теории нет материи, нет пространства — времени, нет времени. Есть первичный объект 3–геометрии [имеется в виду трехмерная геометрия в эйнштейновской геометродинамике], а время и закон движения вторичны.
Далее Уиллер сравнивает многообразие 3–геометрии с пеной. Он пишет:
Когда наблюдатель находится далеко, ему кажется, что поверхность гладкая. Когда он вглядывается пристальнее, он видит, что это — пена, состоящая из маленьких пузырьков.
Буддхапалита в комментарии к "Муламадхьямикакарике" пишет[187]:
Все, что мы воспринимаем от вещей в процессе анализа, это — качество, свойство, но ничего конкретного. Значит, как бытие оно отсутствует. Самой конкретной вещи нет нигде, она не возникает из самой себя, не возникает от других, не возникает ни от того, ни от другого, невозможно сказать, что она возникает от какого‑либо определенного корня. Все находится в постоянном изменении. Кто один раз родил, больше уже того же не рождает; кто родился, вновь не рождается. Если взять растение, то его возникновение найти невозможно. Если исследовать корни или семена растения, то они уходят в бесконечность, в бесконечный круговорот сансары. Все находится в постоянном потоке; одни исчезают, а другие возникают.
Таким образом, по мнению представителей мадхьямики, весь известный нам материальный мир сводится к постоянно изменяющимся качествам, но не к конкретным вещам. Когда они стали искать конкретные и неделимые вещи, они не могли их найти нигде. Из этого они делают вывод, что весь эмпирический мир сводится к качествам вещей в пустой форме. Эти качества определяют цвет, звук, запах, ощущение твердости и мягкости и т. д. Но как конкретные вещи они не существуют нигде. Чандракирти утверждае[188]:
Если исследовать конкретное материальное бытие (вишая, yul), то оно не может найти себе другого места, кроме как в телесных (рупа), материальных вещах, но так как эти материальные вещи сводятся только к пустым названиям, то нет смысла их анализировать.
Прасангики утверждают, что пустая форма и качество вещей отнюдь не суть продукты нашего субъективного сознания, как утверждают идеалисты виджнянавады. Эти пустые формы и качества вещей "существуют" объективно и независимо от нашего сознания, но они эфемерны, иллюзорны и поэтому — шунья. Вот это отсутствие конкретного "я" вещей за пустыми формами и свойствами представители мадхьямики называют шуньятой внешнего (bahirdhāśūnyatā).
Подтверждая насущность нравственного закона в нереальном мире, Чандракирти пишет:
Если учитель Нагарджуна сочинил этот трактат для того, чтобы доказать, что нет реальной причинности и что множественность элементов жизни — это просто иллюзия, тогда, если считать, что то, что является иллюзией, не существует реально, то отсюда будет следовать, что безнравственные поступки отсутствуют и не существует несчастной жизни, невозможны добродеяния, а без них не может быть никакой счастливой жизни. Без счастливой и несчастной жизни не будет существовать феноменальный мир (сансара), и поэтому все устремления к лучшей жизни будут бесполезными.
Мы отвечаем. Мы учили иллюзии бытия, как противоядию против упрямой веры обычных людей в реальность этого мира, мы учили истинности шуньяты. Но для святых в этом нет нужды. Они достигли цели. Они не задерживаются на множественности, ни на чем, что может быть иллюзией или не иллюзией, а когда человек совершенно постиг плюралистическую иллюзию всех отдельных сущностей, для него нет нравственного закона. Какие могут быть для него добродеяния или феноменальная жизнь? Вопрос, существует ли реальность или нет, никогда не будет занимать его.
Дальше Чандракирти цитирует Писание[189]:
Соответственно Будда заявил в "Ратнакуте": "О, Кашьяпа! Если мы ищем сознание, мы не находим его. То, что не может быть найдено, не может быть воспринято, что не может быть воспринято, то не есть ни прошедшее, ни будущее, ни настоящее, то не имеет отдельной реальности (svabhavatah). Что не имеет реальности, что не имеет причинности, то не может исчезнуть. Но обычный человек следует ложным взглядам. Он не понимает иллюзорного характера отдельных элементов. Он упорно думает, что условные сущности имеют свою собственную реальность. Направляемый глубоко вкоренившейся верой в реальность отдельных вещей (рассматривает дхармы как реальные), он предпринимает действия (карма) и, наконец, вследствие этого блуждает в этом феноменальном мире. Пока он упорствует в таком заблуждении, он не способен достичь нирваны. Но хотя реальность этих отдельных сущностей — иллюзия, они, тем не менее, могут производить моральное осквернение или очищение, как призрак красавицы внушает страсть тем, кто не понял ее природы, также и видения, вызванные Буддой — причина морального очищения тех, кто исследует корни добродетели".
…Следующее утверждение в Винае. Инженер (yantra‑karma) создал механическую куклу в виде красивой молодой женщины. Это была нереальная женщина, но мастерство инженера было так совершенно, что она казалась настоящей красавицей, и художник действительно влюбился в нее. Также и эти явления, не имея собственной отдельной реальности, тем не менее являются эффективными создателями или морального загрязнения, или морального очищения простых людей.
Шуньята внешне — внутреннего (phyi‑nang stong‑pa‑nyid) относится к шунье индрия (dpang‑po), познавательной способности индивида. Теоретики махаяны эту шуньяту определяют так: в буддийской теории познания рассматривается одновременность появления (возникновения) момента вишая (объект познания), момента органа чувства — индрия и момента чистого сознания. Ибо явление знания было сложным явлением в своем существовании. Будучи представляемы как моментальные вспышки, элементы не могли продвигаться один к другому, не могли входить в контакт, не могли воздействовать друг на друга, не могли быть "схватыванием" и "несхватыванием" объекта интеллектом. Но в соответствии с законами взаимосвязи, господствующими между ними, некоторые элементы неизменно появляются, сопровождаемые другими, возникающие в непосредственной близости от них. Например, момент цвета (rūpa), момент органа зрения (cakṣuḥ) и момент чистого сознания (citta), возникая одновременно, в непосредственной близости образуют то, что называется ощущением (sparsśa) цвета. Элемент сознания, согласно тем же законам, никогда не появляется один, но всегда поддерживается объектом (вишая) и воспринимающей способностью (индрия). В системе, в которой доказывается нереальность внешнего мира и отрицается существование личности, расщепляющей все на множество отдельных элементов, которые являются шуньятой, и не допускающей действительного взаимодействия между ними, нет возможности установить различие между внешним и внутренним миром. Последний не существует, все элементы внешни по отношению друг к другу. Все же привычка делать различие между внутренним и внешним, субъективным и объективным не могла быть совершенно отброшена в системе логики.
Дальше они рассуждают так: человеческое знание о внешнем мире начинается с ощущения, а ощущение и чувственное восприятие — это деятельность человеческого организма, деятельность, в связи с которой организм познает свойства окружающей среды и состояние своего тела. Окружающая среда в целом — это необъятно разнообразная и сложная система объектов и процессов. В чувственном восприятии организма некоторые из них выделяются из всей массы свойств. Но чувственное восприятие в целом является результатом взаимосвязанных данных, полученных отдельными органами чувств. Это взаимосвязывание достигается в результате интегрирующих процессов, происходящих в человеческом сознании "после того", как получены импульсы от различных органов чувств. Данные, получаемые каждым органом чувств, не входят в мое сознание изолированно. То, что я сознаю — это единое целое представление об окружающей меня среде, в котором данные различных сигналов смешиваются и не имеют отдельного существования. Этот взгляд разделяет современная умозрительная философия, а также гештальтпсихология и физиология нервной деятельности.
Значит, во — первых, чувственные восприятия, чувственные данные, рассматриваемые как объекты, являются ложными и не имеют реального существования. Во — вторых, чувственные восприятия и чувственные данные совершенно пассивны, или, как заявляет Беркли, "инертны", между ними нет какого‑либо взаимодействия. В них обнаруживается ряд совершенно нематериальных объектов, которые не оказывают никакого влияния или воздействия друг на друга.
Значит, чувственное восприятие не обладает способностью изменяться или изменять что‑либо, действовать или влиять на что‑либо.
Постулировав такой вид существования, учителя прасангики утверждают, что так как человеческому уму известны только такие объекты, то причинность и способность вещей взаимовлиять друг на друга явно должна быть признана иллюзией. Наоборот, поскольку чувственные впечатления или чувственные данные смертны и не способны изменяться, то именно они являются иллюзиями. Чувственные восприятия производятся посредством пяти органов чувств с участием сознания, но сами эти органы чувств суть шуньи; то, что видишь глазом, сам процесс зрения нельзя увидеть глазами, процесс слуха нельзя услышать ушами, и т. д.
Таким образом, эти шесть органов чувств, или восприятия, каждый в отдельности есть шуньята; они сами по себе не представляют конкретного бытия, которое можно было бы воспринять так, как воспринимают свойства материального объекта. Они не представляют собой инертные, неподвижные, неизменные, первичные истины, также они не располагают реальной силой, благодаря которой они могли бы перемещаться в пространстве и во времени.
Нагарджуна в "Муламадхьямикашастре" говорит[190]:
Все относительное или зависимое является нереальным, шуньей (свабхава — шунья). Реальное — это независимое беспричинное бытие. Мир опыта связан отношениями субъекта и объекта, субстанции и атрибута, действующего и действия, существования и несуществования, порождения, продолжительности и разрушения, единства и множественности, целого и части, зависимости и освобождения, отношениями времени, отношениями пространства.
Нагарджуна рассматривает каждое из этих отношений и вскрывает их противоречия. Если непротиворечивость служит критерием реальности, то мир опыта (сансара) нереален. Мир не является ни чистым бытием, ни чистым небытием.
Чистое бытие не есть существование, не есть процесс, чистое бытие не представляет собой действительного понятия, так как в противном случае абсолютное ничто было бы сущностью, и, следовательно, отрицание всякого существования стало бы существующим. Ничто не является вещью. Существование — это становление. Вещи мира находятся в процессе постоянного становления. Они не являются самостоятельно существующими и несуществующими, ибо они воспринимаются, вызывают действие и порождают действие[191].
Исходя из этих рассуждений, Ф. И. Щербатской называет шуньяту относительностью, но термин относительность можно принять для обозначения шуньи материального мира, сансарного объекта, и то не всегда. А в отношении шуньи нирваны (myang-’das bden stong don‑dam‑pa stong‑pa‑nyid) он совершенно неприемлем. Относительность может быть логически доказана. Понятие шуньята включает в себя значение трансцендентности. Поэтому лучше всего сохранить санскритские слова шунья и шуньята. В "Лалитавистаре" говорится: "Нет объекта существующего, как нет объекта несуществующего". Познавший цель условного существования проходит мимо их "обоих". Из всего этого мадхьямики делают вывод, что если кто‑нибудь спутает феноменальный мир с ноуменальной реальностью, как наш мир с антимиром, то это будет примером авидьи. Но они не могут понять трансцендентную реальность помимо мира опыта; они говорят: "Мы не можем достигнуть нирваны иначе, как поняв первичную реальность". По взгляду учителей — мадхьямиков, нирвана, которая является отличной от мира опыта, представляет собой абсолютную истину. В связи с этим интересно рассмотреть взгляды отцов восточной христианской церкви, Григория Нисского и др., которые вошли в христианское учение под названием негативной теологии. Они считали, что божество в силу своей бесконечности несравнимо со всем конечным, и в этом смысле, т. е. со стороны конечного бытия, бесконечное бытие Бога представляется как небытие. Но тут же они предупреждают, что это небытие вовсе не означает отсутствие бытия, а напротив, есть основа всякого бытия как бесконечное, вечное, единое начало.
Из среды западных философов Платон один из первых допустил двойственность мира. Он утверждал, что по ту сторону телесного мира, принимаемого обыкновенным рассудком за действительный, существует другой мир, в самом деле действительный, мир идей. Телесные вещи, эти отдельные деревья и люди не могут быть в самом деле действительными; они постоянно находятся в состоянии возникновения и исчезновения, следовательно, они не обладают бытием. Можно также сказать: действительный мир таков, каков он для рассудка; мир, как он представляется чувствам, есть только явление, преходящее отражение чистой сущности. Таким образом, получается различение вещей на чувственные и мыслимые, на чувственный и умопостигаемый мир по Канту. Фридрих Паульсен говорит по поводу кантовской "вещи в себе"[192]:
Мы можем назвать "вещь в себе" рассудочною сущностью (ens intelligibile). Это понятие не имеет, собственно, положительного значения, это не есть вещь, сущность которой познается рассудком, она есть лишь нечто, противопоставляемое рассудком явлению как иное бытие. Так как человеческое мышление приобретает содержание только путем чувственной интуиции, то понятие "вещи в себе", собственно, не имеет содержания, оно — пустая форма бытия, чистое икс, которое рассудок противопоставляет эмпирическому предмету (явлению) как трансцендентальный предмет. Положительное значение "вещь в себе" может иметь только для интуитивного рассудка, не нуждающегося в материале, доставляемом чувственностью.
Доказательство того, что "весь мир подобен ему", составляет душу кантовской философии. Если интеллект не способен объяснить опыт, ибо он обнаруживает в нем безнадежное противоречие, то не следует ожидать, что его действие в отношении первичной реальности окажется более успешным. Первое также непостижимо, как и второе, и Нагарджуна применяет один и тот же термин — шунья — к истинностям обоих. Истина — это молчание, которое не является ни утверждением, ни отрицанием. Теоретики ваджраяны утверждают, что шуньята является реальностью дхармакаи. Дхармакая, как Космическое Тело Будды, разлита повсюду, она присутствует везде: как в нирване, так и во всем разнообразии феноменальной сансары. Поэтому истинность сансары и нирваны есть шуньята. Рациональный путь познания первичной реальности, говорят мадхьямики, может идти, по нашему убеждению, только через отрицание всех атрибутов, присущих конечным вещам и существам. Эти атрибуты суть причины и условия. Нагарджуна, настаивая на том, что нет различия между Абсолютом и феноменом, нирваной и сансарой, исходит из следующих логических выводов: во — первых, если нирвану истолковать как прекращение земного существования, то она становится относительным понятием, зависимым от причин. Во — вторых, если мир существовал до нирваны и прекратит свое существование после нее, то концепция мышления Нагарджуны приводит его к антиномии.
1. Мир бесконечен во времени и неограничен в пространстве.
2. Нирвана как абсолютная реальность независима от причин. Если нирвана есть прекращение земного существования, то она зависима от причин.
3. Мир конечен во времени, ибо все живое должно перейти от сансары к нирване. "Не существует ни одного живого существа, которое не обладало бы мудростью Татхагаты. И только по причине суетных мыслей и привязанностей все существа не сознают этого" ("Аватансакасутра"). Индивидуальные "души" — мано — виджняны — являются аспектами Абсолюта, стало быть, они в конечном итоге должны слиться воедино с Абсолютом.
Рациональная логика Нагарджуны пыталась эти проблемы объяснить путем чистого мышления. При этом, однако, он понял, что разум путается в неразрешимых противоречиях, созданных им самим. Вместо одного решения он находит два, противоречащих друг другу, и для каждого, по — видимому, можно было привести одинаково сильные доводы. Причину этих антиномий Нагарджуна объясняет ограниченностью человеческого разума, трансцендентностью сущности двух миров, ибо истинностью их обоих является шуньята. Арьядэва утверждает, что "шуньята как абсолютная реальность не может быть постигнута разумом или описана словами".
Учителя — мадхьямики пытались найти решение этих антиномий и так же. как потом Кант, приходили к выводу, что феноменальный мир (пространство и время, тела и их движения, а также причинный ряд) не есть что‑то абсолютно существующее. Они суть только явления. А за явлением остается непостижимая рассудком шуньята. Сами явления не суть абсолютная реальность, ибо в них нет ничего постоянного. Нагарджуна пишет[193]:
Рассматривая причины и условия, мы называем этот мир феноменальным. Но этот же самый мир, когда снимаются причины и условия, называется Абсолютом.
Действительно, если допустить на одно мгновение, что из феноменального мира изъяты движение, причины и условия, то что же там остается? Даже если допустить, что во всей Вселенной когда‑нибудь наступит "тепловая смерть" — энтропия, и тогда, наверное, останется что‑то: угли, зола от бывших планет, но в данном случае там не останется ничего феноменального. Мадхьямики говорят: тогда будет совсем иное, т. е. Абсолют — прямая противоположность всему условному.
Только через шуньяту мадхьямики и тантристы разрешают проблему сансары и нирваны, т. е. мира абсолютной реальности. Но подходят они к шуньяте с разных точек зрения. С одной стороны, это — явление феноменального мира, эфемерное, иллюзорное, не может быть приписано миру подлинной реальности, и поэтому оно не обладает постоянным (не созданным, не подверженным разрушению, вечным, не уходящим и неподразумеваемым) бытием, и поэтому оно является шуньей.
С другой стороны, за явлением мира опыта вырисовывается неуловимая умопостигаемая первичная реальность. Эта первичная реальность противопоставлена всем эмпирическим качествам и поэтому находится за пределом познаваемости рассудочной логикой, по этой причине она является шуньей.
Не поняв этого смысла шуньи, объяснить метафизику Нагарджуны невозможно.
Буддийская доктрина шуньи до сих пор остается ареной споров среди европейских ученых — ориенталистов. Споры возникают исключительно от непонимания смысла шуньяты. Например, комментируя знаменитый диалог Будды со странствующим монахом Ваччхаготтой, Г. Ольденберг замечает[194]:
Если Будда не хочет отвергать существование эго, это он делает для того, чтобы не расстроить малодушного слушателя. За его уклончивостью по вопросу о существовании или несуществовании эго мы слышим ответ, к которому ведут предпосылки буддийского учения, а именно, что эго не существует.
Против этого возражает Радхакришнан[195]:
Мы не можем согласиться с тем взглядом, что Будда намеренно скрыл истину. Если бы Ольденберг был прав, тогда нирвана означала бы уничтожение, а это Будда отвергает. Нирвана — это не падение в пустоту, но только отрицание потока явлений и положительное возвращение "я" в самого себя. Логический вывод из этого таков, что существует нечто, хотя это и не эмпирическое "я". Это находится также в согласии с утверждением Будды, что "я" — это не то же самое, что скандха, но и не целиком отлично от них. Это не просто сочетание духа и тела, но это и не вечная субстанция, изъятая из превратностей изменения.
Существует тантрийский путь — сахаджаяна, который тесно примыкает к мантраяне. Буквальное значение сахаджа (sahaja) — быть рожденным вместе (lhan‑gcig skyes‑bu).
Дагпа Ринпоче, один из наиболее одаренных учеников Миларэпы, объясняет, что высшая умопостигаемость, или дхармакая, и высшая явленность, или свет дхармакаи, нераздельно рождены вместе. Это означает, что реальность и явление не отделены друг от друга непроходимой бездной, но тождественны. Реальность Абсолюта едина и неделима и произвольно расщепляется на ряд противоположностей только аналитическими методами и техническими приемами авидьи.
Ищущий, находящийся на пути сахаджаяны, должен ясно представить слова Нагарджуны о том, что, "рассматривая причины и условия, мы называем этот мир феноменальным. Но этот же самый мир, когда снимаются причины и условия, называется Абсолютом"[196]… Он должен знать, что абсолютная реальность и феноменальные причинность и условность вместерожденны, и истинностью обоих является шуньята. Феноменальность появляется для тех "частиц" Абсолюта, которые не познали, благодаря авидье, свою собственную сущность, свое "лицо". Тогда ищущему индивиду остается просветлить вместерожденную авидью, тогда беспрерывная актуальность мудрости снимает причины и условия с феноменального мира и наступает полное тождество, нераздельность (gnyis‑su‑med-ра) сансары и нирваны для данного индивида. Для этого процесса сахаджаяна предлагает целую развитую систему созерцания, основанную на непосредственном опыте и учитывающую тот факт, что интеллектуальные акты неотделимы от сопровождающих эмоций. Создающая дихотомию активность ума сопровождается и даже поддерживается конфликтующими эмоциями (клешами), она оказывает омрачающее (moha) влияние. Это возмущенное состояние ума, необходимое для определенного момента йогической практики, успокаивается созерцательной практикой. Спокойствие, что должно возникнуть в уме и которое достигается не подавлением, а пониманием психологических процессов, является первым проблеском того, что создает прочную основу для будущего духовного развития или такую точку зрения, от которой определенно возможно дальнейшее продвижение. Эта точка зрения определяется как блаженство, ясность и не создающая дихотомии мысль. Здесь почти бесплодное философствование махаянистов о тождестве сансары и нирваны и о тождестве эмоциональности (клеши) и просветления приобретает подлинное значение. Причем индивид, практикующий сахаджаяну, постоянно, на любом повороте мысли должен знать о шуньяте. Сам он и все, что он практикует на этом пути, есть шуньята и возникает из шуньяты. Прежде чем углубиться в созерцание, он обязательно произносит фразу:
Все превращается в шунью, и из шуньевого пространства возникают созерцаемые объекты (stong‑pa‑nyid du 'gyur / stong‑pa’i ngang las).
То, чему учит сахаджаяна, является не интеллектуальной системой, а строгой дисциплиной, которую следует практиковать, чтобы понять ее.
Для мадхьямиков как абсолютная реальность — нирвана, так и мир явлений суть шуньи, поэтому для перехода от одного мира к другому не требуется дополнительных, посредствующих начал, подобно "геометрическому бытию" Платона, которое является посредствующим началом между его двумя мирами: миром идей и миром явлений.
Шуньята шуньяты (stong‑pa‑nyid stong‑pa‑nyid). Истинность шуньи есть сама шунья. Она имеет трансцендентную природу, поэтому она — величина вне пространства и вне времени, не подвержена ни увеличению, ни сокращению, ни становлению, ни уничтожению. Шуньята, воспринимаемая телом, языком и мыслью, не есть частица от общей шуньяты. Она суть та же самая шуньята, истинность которой есть сама шуньята. Чандракирти говорит[197]:
Если спросят, где та шунья, которую вы называете шуньятой, то нужно ответить, что шунья находится в самой шуньяте.
Последователи ваджраяны интерпретируют шунью несколько иначе. Они говорят, что абсолютная истина (don‑dam) не есть шунья. Шунья — это то, что имеет феноменальную природу, т. е. сансара. Нельзя сказать, что в абсолютной истине имеются сущность и предикаты, она сама является сущностью и предикатом. Она не подчинена элементам различения (’du shes), ибо у нее нет различий, нет условий и причин. Поэтому ее нельзя определить как шунью, также нельзя сказать, что она — не шунья. Теоретик ваджраяны Нацог — Рандол в своем сочинении "Карнатантра"[198] приводит следующие слова Будды:
То, что вышло за предел песчинок реки Ганг, не есть шунья. Так проповедано Буддой. Если это так, то нет "некоего" нигде, этот "некий" есть шунья… Абсолютно неразличимые, трансцендентно — имманентные дхармы знания не есть шунья. Это потому, что они имеют сущность асамскриты (несоставных элементов), никогда не уничтожаются и не изменяются.
Дальше он пишет[199]:
По учению мадхьямики, все дхармы суть шуньи (chos thams‑cad stong-pa‑nyid). Тиртики признают существование индивидуального Я, шраваки и пратьекабудды признают существование Я дхарм. Бодхисаттвы, имеющие изначальную карму для того, чтобы притягивать к учению истинной шуньяты тех, которые действительно жаждут реальности и признают ее превыше всего, проповедовали о шуньяте, подобной небу (stong‑pa‑nyid nam‑mkh’a lta‑bu). Основа мышления есть сущность сознания, или исконный Ясный Свет (’od gsal), вот это принимают за шунью абсолютной истины (don dam stong pa nyid). Специальная необходимость для спасения живых существ была направлена на освобождение их от признания вещей самостоятельными, существующими по отдельности. Для того, чтобы не повредить убеждению, признающему реальность, утверждают, что дхармы, не имеющие ничего выше себя и обладающие неразличимыми предикатами, не являются шуньей.
Таким образом, для мадхьямиков, и особенно для ваджраяны, теория шуньяты служит средством для спасения живых существ. В ваджраяне она вырастает в тщательно разработанный йогический метод тренировки ума для успокоения необузданных эмоций.
Содержание известной мантры ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ[200]
Мистическая формула, или мантра, ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ является мантрой бодхисаттвы Авалокитешвары. Она стала известна в Европе еще в XIV в. через знаменитого путешественника, монаха — миссионера Рубрука[201], который познакомился с ней во время своего пребывания в Монголии в 1254 г. Сейчас она известна многим и уже успела стать модной темой псевдонаучных дискуссий[202]. Однако тантрийская сущность ее едва ли известна даже тем, кто усвоил ее историческое и филологическое значение. В настоящей статье мы пытаемся, опираясь главным образом на тибетские источники, раскрыть смысл этой мантры, тот смысл, который придают ей сами буддисты.
Как мы уже говорили, ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ является мантрой бодхисаттвы Авалокитешвары, которого буддисты почитают как воплощение сострадательной мысли всех будд трех времен. По методу, который бодхисаттвы применяют для спасения живых существ из круговорота сансары, они подразделяются буддистами на три группы. Бодхисаттвы первой группы утверждают, что ради спасения сансары необходимо совершенствоваться до полного слияния с нирваной, ибо, будучи нирванистическим существом и обладая божественной мудростью, можно легко и эффективно осуществить дело спасения сансарных существ. Они являют собой мысль бодхи, подобную царю, и наибольшее внимание уделяют самосовершенствованию. Бодхисаттвы второй группы являются воплощением мысли бодхи, подобной лодогнику. Они утверждают, что должны вступить в нирвану со всей сансарой вместе, словно лодочник, отправляющийся на другой берег реки со всем своим имуществом. Третья группа бодхисаттвы является воплощением мысли бодхи, подобной пастуху — бодхисаттвы этой группы считают своим долгом уйти в нирвану самыми последними, как пастух, идущий на отдых лишь после того, как загонит свое стадо на скотный двор. Представителем этой последней группы бодхисаттв и является Авалокитешвара.
Шесть слогов мантры Авалокитешвары произносятся, как утверждают тантристы, ради блага и во спасение шести видов живых существ, которые обитают в одной из областей сансары, известной под названием камадхату (’dod khams), т. е. в области, где господствуют желания и страсти. В буддийской мифологии эта область представлена шестью странами с их обитателями:
— страна асуров (полунебожителей), проводящих все свое время в войнах;
— страна 33 небожителей, управляемая царем Индрой;
— страна живых существ, называемых людьми, — единственное место, где возможно совершенствование до нирваны;
— страна животных, высших и низших;
— страна претов, или, по определению профессора Розенберга, вечно голодных демонов;
— страна 18 различных адов.
Простое повторение мантры, по убеждению тантристов, не дает максимального результата, хотя и приносит известную пользу. Как они утверждают, при таком повторении необходимо последовательное йогическое созерцание слогов — символов и размышление над их значением. В данной статье мы считаем возможным поместить метод такого созерцания.
При чтении мантры йогин должен созерцать следующее.
Буква ОМ создает во внутреннем видении тело бодхисаттвы Авалокитешвары белого цвета, очищающего все греховные остатки йогина, и тот обретает силу увести страну 33 небожителей во главе с царем Индрой в нирвану.
Буква МА создает во внутреннем видении тело Будды Вайрочаны[203] синего цвета, очищающего грехи, совершенные языком, и йогин обретает силу увести страну асуров в нирвану.
Буква НИ создает тело Будды Ваджрасаттвы[204] белого цвета, очищающего грехи, собранные сознанием, и йогин получает силу увести страну людей в нирвану.
Буква ПАД создает тело Будды Ратнасамбхавы[205] желтого цвета, очищающего грехи, собранные через антибуддийские знания, и йогину предоставляется возможность освободить страну животных.
Буква МЭ создает тело Будды Амитабхи[206] красного цвета, который уничтожает клеши как источник всех грехов, и йогин обретает право на избавление от мук страну претов (голодных демонов).
Буква ХУМ создает тело Будды Амогхасиддхи[207] зеленого цвета, полностью уничтожающего ошибки и грехи, проникающие через знания и вообще все кармические грехи, и йогин обретает право ликвидировать все застенки 18 адов. Он становится праведником среди родственников и друзей.
На таких мыслях должен сосредоточиться йогин, читая мантру, и, таким образом, практикуя углубление мысли, должен дойти до состояния самадхи, когда мысль, на которую усиленно направляется внимание, начинает занимать все сознание, вытесняя из него остальное содержание[208].
Мантра ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ — древнейшая из мистических формул буддийского тантризма. Факт ее появления связан непосредственно с проповедями самого Будды, и то, что она имеется в особом разделе Ганжура, известном под названием Жуд (rgyud), лишний раз убеждает в этом. Известно, что у ранних махасангхиков было особое собрание мантрических формул в их "Дхарани — питаке"; также и "Манджушримулакальпа", появившаяся, по мнению некоторых авторитетных ученых, в I в. н. э., содержит мантры и дхарани, а также многочисленные мандалы и мудры. К этому же периоду, вероятно, относится дхарани ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ, однако, трудно сказать, насколько она была разработана в то время в философско — мистическом плане. Во всяком случае, как считают специалисты, буддийская тантрийская система выкристаллизовалась в определенную форму к концу III в. н. э., как это видно по хорошо известной тантре Гухьясамаджи (gSang ba’i ’dus ра), которая относится к самой высшей из четырех систем буддийского тантризма. Но тантра Авалокитешвары с мантрой ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ относится ко второй системе снизу (spyod rgyud). Если предположить, что первоначально были созданы более простые тантры, то следует признать, что тантра Авалокитешвары была разработана даже раньше, чем тантра Гухьясамаджи. То, что она впервые проникла в Тибет вместе с возникновением тибетского алфавита, подтверждается множеством исторических сочинений. Например, в легендарной истории царя Сонцэн — гампо, жившего в VII в. н. э., утверждается, что святой царь Сонцэн — гампо был воплощением Авалокитешвары, и в волосах его скрывалась голова одного из дхьянибудд — Амитабхи, которым, кстати, также завершается пирамида многоголового Авалокитешвары[209].
Этот деятельный царь активно покровительствовал распространению учения Авалокитешвары и его тантры. Он же выдвинул и осуществил идею создания мельницы — мани в Тибете[210]. Эти мельницы до сих пор сохранились в народной традиции в качестве религиозного атрибута. Из Тибета мантра проникла в Монголию, где в 1254 г. с ней познакомился Вильгельм Рубрук.
Что касается теории Адибудды, проявлением которого являются пять дхьянибудд, мы должны заметить следующее: эта теория является неотъемлемой частью всех буддийских тантрийских систем и считается коренным признаком, отличающим буддийский тантризм от индуистских и шиваитских тантр, в частности, от кундалини — йоги. Без глубокого понимания и тщательного научного анализа этой теории, непосредственно связанной с практикой йоги, немыслимо сколько‑нибудь серьезное изучение буддийского тантризма. Между тем европейские ученые с самого начала относились к буддийским тантрам с определенным пренебрежением, ошибочно считая, что они являются производными от упадочных форм позднейшей индуистской традиции и порочной практики, разрекламированной невеждами. Пожалуй, первым европейским ученым, который сделал попытку реабилитации тантризма вообще, был Артур Авалон, но и он не смог освободиться от влияния индийской (шиваитской и индуистской) ортодоксии и находился под впечатлением того, что буддийские тантры являются лишь ответвлением индуистских тантр. Впрочем, позднее он несколько изменил свое мнение.
Действительно, основные положения буддийского тантризма разрабатывались в Индии между VII и XI в. н. э. такими великими буддийскими йогинами, как Луива, Тилопа, Мидрэва, Наропа и другими представителями ваджраяны. Их многочисленные мистические, философские и поэтические произведения были почти полностью уничтожены в то время, когда северная Индия подверглась нашествию мусульман. Однако уже в то время большинство тантрийских сочинений было переведено на тибетский язык и бережно хранилось в живой йогической традиции, из поколения в поколение передаваясь от учителя к ученику. Те немногие отрывочные тексты, которые случайно попадали в руки европейским ученым, разумеется, не могли дать хоть сколько‑нибудь полного представления о системе в целом. Тем более, что, как мы уже говорили, теоретическая разработка в буддийском тантризме неразрывно связана с практикой йоги: получением посвящения и последовательным восхождением внутри системы. Вне системы, без йогического созерцательного опыта изучение философских положений буддийского тантризма весьма трудно, без правильного понимания этой системы невозможен никакой ее критический или позитивный анализ с позиций современной науки.
Итак, в нашей небольшой статье мы попытались изложить некоторые сведения, касающиеся проблем буддийского тантризма в целом и, в частности, ее древнейшей тантры бодхисаттвы Авалокитешвары и его мантры ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ. Помещая в печать статью на столь, казалось бы, специальную тему, как тантрийское значение древней мантры ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ, мы руководствовались следующими общими соображениями. В отличие от развитых европейских культур, где общечеловеческие ценности, развиваясь, имеют тенденцию дифференцироваться настолько, что подчас трудно отыскать корни того или иного жизненного явления, рост восточных культур всегда проходил в едином русле, и этим руслом была религия. Ярчайшим тому примером является тибетская культура, в которой духовные и даже материальные элементы были обусловлены религиозной жизнью. Современная наука в ее стремлении исследовать тибетскую культуру не должна упускать из виду указанной ее особенности, ибо без анализа проблем, касающихся религиозной стороны жизни тибетцев, невозможны плодотворные исследования в частных областях тибетологии. Мы, со своей стороны, надеемся, что настоящая статья, основанием которой послужили первоисточники по философии буддийского тантризма, проложит начало более глубокой разработке вопросов, касающихся религиозного элемента культуры Тибета.
В заключение нам хотелось бы обратить внимание читателя еще на одну деталь, обычно ускользающую от внимания исследователя. Почти во всех работах современных европейских и индийских ученых, в той или иной степени затрагивающих махаянскую или тантрийскую теорию пяти дхьянибудд (dhyani‑buddhah), последние постоянно и упорно отождествляются с пятью скандхами (phung ро lnga). Между тем такого отождествления не существует ни в древних, ни в средневековых трактатах по "Абхидхарме" (Васумитры и Васубандху). В средневековых трактатах как индийских, так и тибетских авторов, особенно в системе "Калачакра — тантры" (Dus ’khor rgyud), есть материалы из "Абхидхармы", но отождествления дхьянибудд с пятью скандхами мы тоже там не нашли; и вообще такого отождествления быть не может.
Налинакша Датта в статье "Buddhism in Nepal"[211] пишет: "Адибудда — саморожденный, и потому непальцы почитают его как Svayambhu. Он всегда в нирване и развит из шуньяты. Через его созерцание появляются пять дхьянибудд, представляющих проявление (pravṛitti), а именно: Вайрочана, Акшобхья, Ратнасамбхава, Амитабха и Амогхасиддхи, являющиеся символами пяти элементов (скандх): rūpa, vedanā, samjña, sanskāra и vijñāna. Они, в свою очередь, своим знанием и созерцанием создали пять дхьянибодхисаттв — соответственно Самантабхадру, Ваджрапани, Ратнапани, Авалокитешвару, или Падмапани, и Вишвапани. Бодхисаттвы считаются творцами изменяющейся вселенной…".
Другой индийский ученый — Б. Бхаттачарья в своем предисловии к изданию "Гухьясамаджа — тантры" прямо пишет, что "пять дхьянибудд — это не что иное, как пять скандх"[212].
Буддизм рассматривает индивида — человека — как относительную, непрерывно меняющуюся и не имеющую постоянной сущности (основы) единицу сансарного бытия, т. е. обусловленную единицу, состоящую из конфигурации пяти групп элементов бытия (скандх), куда входят:
Чувственные (форма) — gzugs kyi phung ро (санскр. ruра-skandha);
Ощущения — tshor ba’i phung ро — (санскр. vedana‑skandha;
Представление (различение) — ’du shes kyi phung ро (санскр. samjna‑skandha);
Волевые акты и другие способности, т. е. психические элементы и прочие (элементы — движители) — ’du byed kyi phung ро (санскр. samskara‑skandha);
Чистый контакт, или общее понятие сознания (без содержания) — rnam shes phung ро (санскр. vijñāna‑skandha).
Физические элементы личности, включая ее внешний мир, внешние объекты, представлены в этой классификации одной статьей — гувственное. Нечувственные распределены среди других четырех. Но наиболее обычным делением всех элементов будет деление на чувственное (форма и др.) — rūpa, сознание — психика (дух — caitta — citta) и силы (samskāra), включающие в себя психические способности и общие силы. Психические способности распределены по всем психическим группам и подведены под категорию духа (сознания); общие силы, или энергии, стоят на отдельном месте (cittaviprayukta‑samskāra)[213].
У каждого сансарного несовершенного индивидуума имеется пять клеш (kleśa)[214], которые являются источником всех греховных деяний человека. Индивид, действующий в сансаре, в борьбе за существование актуализирует свои клеши через пять скандх. Все они (kleśa) содержатся в самом последнем, т. е. пятом, элементе — в сознании (vijñāna). Йогин в тантрийской практике посредством созерцательного процесса сосредоточивается на внутреннем видении. Он видит, слышит посредством чистого сознания: в это время как бы выключаются остальные четыре скандхи, но как вспомогательный элемент действует волевой акт. Посредством этой медитации индивид очищает свое сознание от указанных клеш, а место их занимают пять трансцендентных мудростей, или пять дхьянибудд. Индивид носит в себе божественную частицу в виде vijñāna, благодаря которой он постоянно (бессознательно) стремится от низшего к высшему, т. е. от сансары к нирване. Как утверждают буддийские тантристы, посредством йогической практики (медитации) ищущий очищается от клеш, которые он носил в себе от безначального времени, а в очищенное сознание свое водворяет на место клеш пять цветов самбхогакаи, или пятицветную радугу трансцендентальной мудрости Адибудды, т. е. пять дхьянибудд, и тогда он достигает просветления, и мир объективный и субъективный он видит без сансарных условностей, в его сознании отсутствует двойственность вещей. Таким образом, пять дхьянибудд не являются символом не только пяти элементов, но и символами пяти клеш они также не являются.
В той же статье Налинакша Датта говорит, что "настоящий мир является творением Авалокитешвары". Видимо, он написал эту фразу под влиянием брахманской космологии и принял Авалокитешвару за Ишвару или Брахму. Ни в одном буддийском тексте нет упоминания о начале мирового процесса, везде и всюду твердят о безначальном волнении дхарм. Споры между различными направлениями школы вайшешиков были только о конечности или бесконечности безначального волнения дхарм, т. е. сансары.
Далее он пишет: "Будда в человеческом облике, Шакьямуни, появился как его, т. е. Будды Амитабхи, посланец (instructor)". Возможно, в непальском буддизме и имеется такое грубое определение Будды в человеческом облике, написанное для профанов, но в общей концепции Трех Тел Будды (дхармакая — chos sku, самбхогакая — longs sku и нирманакая — sprul sku) Будда в человеческом облике (Шакьямуни) является нирманакаей, т. е. явленным буддой, обладающим (sambhoga) сущностью закона (dharmakaya).
Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма[215]
Цель настоящей работы: осветить один из принципиальных вопросов буддийского тантризма — махамудру. Для правильного подхода к вопросу мне представилось необходимым раскрыть прежде всего содержание махамудры, поскольку такой подход дает понимание и ее природы, и ее роли в системе.
Учитывая необычайную сложность проблемы и будучи ограничен рамками журнальной статьи, я решил изложить основные теоретические положения махамудры так, как их представляют сами буддисты, и воздержаться от каких бы то ни было комментариев; это — дело будущего. Во всяком случае такой подход позволяет даже сейчас сделать существенный вывод: цели и задачи буддийского тантризма, основой и объединяющим принципом которого является махамудра, не имеют ничего общего с целями и задачами шиваитского тантризма. Считать поэтому буддийский тантризм производным от шиваитского мистицизма, подобно Г. Ц. Цыбикову, О. Уодделю и др., крайне неправильно. Именно подобные взгляды порождали предвзятость, которая была направлена против всего тантрийского. Поэтому многие ученые отказывались от какого‑либо изучения его или же к изучению тантризма относились долгое время с пренебрежением.
Первым осмелился опубликовать серию работ по тантрийским текстам и философии Артур Авалон (Джон Вудроф), который писал в предисловии к "Шричакрасамбхаратантре": "Невежды… дают столько пищи для ложных суждений, что они (суждения) с готовностью подхватываются, и именно они большей частью служат материалом для религиозной полемики. Тем не менее, я повторяю, что мы должны привлечь наш разум и чувство справедливости к тому, чтобы постараться понять всякую религию в ее высшем и чистейшем проявлении"[216].
Но сам Авалон, однако, не был вполне свободным от той "предвзятости", что буддийские тантры были лишь ответвлением индуистских тантр. Это мнение господствовало до тех пор, пока тибетские тантрийские тексты не стали более или менее доступными ученому миру. Анагарика Говинда пишет по этому поводу в статье "Principies of Tantric Buddhism" следующее: "Против этой точки зрения свидетельствует большая древность и содержательное развитие тантрийских тенденций в буддизме. Уже у ранних махасангиков было особое собрание мантрических формул в их "Дхарани — питаке", также в "Манджушримулакальпе", появившейся, согласно некоторым авторитетам, в I в. н. э. Они содержат не только мантры и дхарани, но и многочисленные мандалы и мудры. Даже если датировка "Манджушримулакальпы" не совсем точна, выглядит вероятным, что буддийская тантрийская система выкристаллизовалась в определенную форму к концу III в. н. э., как видно по хорошо известной тантре Гухьясамаджи. Заявлять, что буддийский тантризм есть ответвление шиваизма, могут только те, кто не имеет представления о первоисточниках тантрийской литературы. Сравнение индуистских тантр с буддийскими, которые сохранились преимущественно в Тибете и, следовательно, долгое время оставались не замеченными индологами, не только показывает удивительное несходство в методах и целях, вопреки внешнему сходству, но и доказывает религиозное и историческое старшинство и оригинальность буддийского тантризма.
Шанкара — ачарья, великий индуистский философ IX в. н. э., чьи работы составляют основу всей шиваитской философии, использовал идеи Нагарджуны и его последователей до такой степени, что правоверные индуисты считали его тайным приверженцем буддизма. Подобным же образом индуистские тантры тоже приняли методы и принципы буддийского тантризма и приспособили их для достижения своих целей"[217].
Еще раз хочу подчеркнуть, что без исследования содержания махамудры цели и природа буддийского тантризма (ваджраяны) останутся нераскрытыми. Поэтому я и счел возможным сделать первую попытку подхода к махамудре в чисто информативном плане. Необходимость такой попытки диктуется самой природой махамудры: тем, что она является вершиной и кульминационной точкой развития индо — тибетской философской мысли. Она является завершающим этапом буддийской тантрийской практики, и, как таковая, объемлет все звенья этой практики. Именно к ней обращали свой пристальный взгляд многие буддийские мыслители древней Индии — Сараха, Нагарджуна, Тилопа, Наропа, Майтрипа и др. Именно к ней обращались и тибетские буддисты — Миларэпа, Дагпо Ринпоче, Гампопа и др. Живейший интерес махамудра как основа, на которой зиждется вся ваджраяна, вызывает у западных исследователей — буддологов. Настоящая статья — попытка восполнить этот пробел в отечественной буддологии.
Махамудра (phyag rgya) является сердцем и объединяющим принципом мантраяны, а сама мантраяна является вершиной буддийской духовной культуры. Махамудра — это постепенный процесс, что видно из ее деления на криятантру, чарьятантру, йогатантру и ануттарайогатантру.
Мантраяна, по определению теоретиков этой системы, является путем, определяющимся конечной структурой духовно — интеллектуального, как оно оформляется в активном состоянии Будды, которое является венчающим результатом процесса трансформации, скрытого для глаза постороннего наблюдателя. Подтверждая это, Цзонхава пишет: "Так как она является скрытой и запечатанной и не является предметом для тех, кто не подходит для нее, она есть тайна (gsang ba)"[218].
Кратчайший анализ значения слова мантраяна такой: ман указывает на сознание реальности как она есть, а тра — на сострадание, охраняющее живых существ. Колесница — яна — есть достижение цели или результат и приближение к ней, а так как существует движение по направлению к цели, говорят о колеснице. Иначе ее называют ваджраяной (rdo rje theg ра). Вималапрабха определяет ее так: "Ваджр означает высшую недвойственность и неразрушимость, а так как это составляет природу пути, говорят о ваджрности"[219].
Другими словами, ваджраяна представляет собой нераздельность причины или метода парамит и следствия, или метода мантры. Первым, всеобщим символом ваджраяны является Будда Ваджрадхара, скрестивший ваджр и колокол.
Колокол — сознание пустоты (шуньяты), есть причина, ваджр — ощущение неизменного блаженства, есть следствие. Нераздельность пустоты и блаженства известна как просветление ума.
Здесь нераздельность сознания, интуитивно раскрывающего природу шуньяты (stong nyid rtogs pa’i blo), с неизменностью высшего блаженства (bde chen) рассматривается состоящей из двух феноменов: приближения к цели и достижения ее. Такая интерпретация ваджраяны предполагает только ануттарайогатантру, а не три низшие — криятантру, чарьятантру, йогатантру. Это неизменное, высшее блаженство возникает благодаря медитационным приемам, и оно устанавливается лишь после того, как реализовано сосредоточение блаженства — пустоты. Эти факторы не присутствуют во всей полноте в низших тантрах. Поэтому, если это и верно в отношении общей идеи ваджраяны, то это не так для различения на пути причинной ситуации или на пути предчувствия цели. Таинство ваджраяны тантристы объясняют тем, что всякий процесс развития есть нечто, происходящее в сокровенных глубинах человеческого существа и требующее тщательной защиты от всего того, что может повредить ему. Это достигается тем, что ученик, реализующий ваджраяну, пребывает в осознании реальности, то есть каждая стадия неизменно сопровождается созерцанием шуньяты, ибо шуньята есть природа абсолютной реальности. Как только такое осознание теряется, человек соскальзывает в неуверенность и впадает в заблуждение.
Ошибка в буддизме представляет собой отпадение, уход от начальной ясности и богатства опыта. Необходимая защита от подобного рода заблуждений даруется мантрой, которая превозносится верой в то, что она обладает оккультными силами. Тантристы утверждают, что мантра открывает новую магистраль мысли, которая становится все более истинной.
Будучи путем превращения и преображения, в котором цель определяет средства, мантраяна в каждом акте мышления преобразует вас и приближает к самому себе. Цель здесь обычно обозначается выражением состояние Будды, и она никогда не бывает фиксированной определенной сущностью, но это есть всегда целокупное видение мира. Существует богатство связей как акта поклонения и, наконец, развертывание, разыгрывание состояния Будды, превращение и преображение себя и мира созиданием новой структуры, более перспективной и удовлетворительной. Так как человек здесь действует, стремясь к еще не реализованной цели, эту дисциплину называют путем, который делает цель своим основанием.
Градация опытного процесса в направлении вершины не ограничивается ни пределами буддийского пути, ни разделением на четыре тантры и является существенной характеристикой ануттарайогатантры с ее двумя стадиями: стадией развития (bskyed rim) и стадией завершения (rdzogs rim). Стадия развития подчеркивает творческий процесс и является необходимым подготовительным переживанием. Стадия завершения знаменует возникновение и опознание нового процесса с его оценочным пониманием самоорганизующегося и свободно возникающего феномена. Процесс, описанный двумя стадиями, служит для того, чтобы осуществить новую ориентацию, основанную на внутренней гармонии.
Целью стадии развития, как подготовительной к такой ориентации, является прежде всего разрыв всех связей с обычным миром явлений и разрыв всех привязанностей к нему. Для этого созерцается пустота и отсутствие веры в Я. Поэтому, если человек не обладает различающей способностью понимания несуществования ума, что дает возможность пресечь органическую силу веры в Я, то он не будет в состоянии освободиться от сансары, даже если бы была остановлена энергия силы подвижности (rlung). Вера в Я и в ЭТО не является эмоциональным явлением вроде клеш (nyon mongs). Она представляет собой умственное построение под влиянием неведения, или процесс явления вследствие неведения, в то время как фактически нет ничего, что бы явилось. Что касается эмоционально окрашенных реакций под названием клеша, они являются как бы агентами, которые приносят внешнее зло и возбуждают его изнутри. Их сила есть власть. Под влиянием этих мыслей человек становится жертвой клеш — эмоций, известных как пять ядов, и тем самым погружается в кармическую деятельность и многообразие форм страдания. Клеши необходимо полностью победить. Это означает, что индивид полностью устранил их потенции, что достигается через знание, интуитивно постигающее реальность как таковую.
Учитель, который открывает ученику такую возможность понять ее, сам является этой реальностью. Тантрийский учитель — видимая форма подлинной реальности человека, которая не подвержена никакому определению. Когда индивид не понимает и не хочет понять этого положения и размышляет об учителе в обычном плане, он подчинен страданиям сансары, тогда же как воспринимая учителя источником своего бытия, он находится вне страдания. Постоянное ощущение источника своего бытия — одно из определений настоящего учителя. Практика созерцания пустоты, мгновенное понимание того факта, что ничто не существует в действительности, которая своей иллюзорностью постоянно мешает свободной активности духовного в человеке, должна наличествовать при каждом шаге на стадии развития.
О второй стадии, стадии завершения, Цзонхава пишет: "Если кто‑либо, кто желает наслаждаться обедом на другой стороне реки, не может это исполнить, потому что ему мешает река, он может сесть в лодку и переехать на другую сторону. Аналогично, если кто‑либо хочет наслаждаться богатствами стадии завершения и не может этого сделать, потому что он отрезан рекой обычного мира явлений и влечения к нему, он может ступить в ладью стадии развития и перейти на другой берег, где обычный мир явлений и привязанности к нему остаются позади. Как пересечение реки в лодке является одним вопросом, а наслаждение обедом — другим, так и стадия развития является процессом, который подготавливает наш ум для рождения стадии завершения"[220].
Вот эта стадия, или процесс Великого Завершения (дзогрим, rdzogs rim), и есть махамудра. Методы завершения этого творческого процесса, видимо, бывают различными для ряда людей с разными способностями. По этому поводу Шан Ринпоче указывает: "Сущность махамудры не выявляется посредством анализа словесных, логических определений и простых проверок. Индивиды со слабыми способностями стараются совершенствоваться по коренному пути, средние осуществляют систему методов действия (праны) по нервно — психическим каналам. Индивиды с высшими способностями созерцают вместерожденное единство и махамудру. Вместерожденное единство через мудрость разрушает сомнение и неуверенность, превращает сознание в дхармакаю"[221].
Исторически данное учение восходит к Будде Шакьямуни, ибо в Ганжуре в отделе Тантра — Жуд (rgyud) — имеются диалоги Будды с девой — небожительницей и диалоги с Ваджрапани. Также до нас дошли древние тексты — "Песни Сарахи" и трактаты Нагарджуны, ученика Сарахи.
Существует перечень живых традиций, донесших это учение до первых учителей тибетской школы кагью, чьим лейтмотивом является махамудра. В биографии Наропы сказано, что он получил наставление махамудры от учителя Тилопы[222], последний — непосредственно от Ваджрадхары. Что касается Марпы, основателя школы каржуд, то он получил все наставления от Наропы и других индийских учителей, куда входят такие известные личности, как Кукурива и Майтрипа. От Марпы — к Миларэпе, от последнего к его ученикам — Райчину и Дагпо Ринпоче. Райчин при жизни своего учителя Миларэпы ходил в Индию и учился этой проблеме у индийского Ваджрапани. Кроме того, он, видимо, получил от него дополнительные наставления, помимо традиции Тилопы и Наропы.
Наставление о запредельной мудрости, озаряющей махамудру, даваемое великими йогами, состоит из трех частей.
1. Через последующее насущное знание познать непрекращающееся, или махамудру пути.
2. Познать сущность глубокой (сущей в себе) махамудры через мистическое озарение.
3. Через парное вхождение и совпадение в единстве (zung jug) осуществить невыразимое, или махамудру цели (плода).
I. Сама махамудра находится за пределами словесного определения и возможности восприятия, поэтому некоторые говорят, что это равносильно старанию задеть пальцем луну. Но, однако, посредством словесных манипуляций можно выявить подлинное содержание ее. Это равносильно тому, что, опираясь на относительный (опытный) метод, можно познать абсолютность джняны (уе shes). Таким образом, существует утверждение, что, "не опираясь на относительный метод, невозможно познать сущность высшего, запредельного".
"Содержание махамудры, — по определению Дагпо Ринпоче, — находится за пределом рождения, роста и становления, не поддается воображению; основа ее, самовозникшая, не появившаяся в результате анализа, находится за пределами словесного определения и чувственного воображения. Махамудра находится за пределом четырех определений, как‑то: все и ничто, пусто и не пусто, не имеет никаких пространственных и временных ограничений, находится в постоянном течении во времени или в процессе чистой длительности, но над процессом трех фаз времени (прошедшего, настоящего и будущего). В ней нет ни хорошего, ни плохого, она вездесуща и всеохватывающа. Невозможно о ней сказать, что она есть или что ее нет. Она — невидимая и невоспринимаемая шуньята. Она не подвержена двум ошибкам: ошибке, утверждающей, что все существует, и ошибке, утверждающей, что нигто не существует. Не имеет свойства подвергаться. Ее не создал бог и не исправят живые существа. Ушедшая от всяких ошибок, она не имеет местопребывания в пространстве, не меняет цвета, ибо она его не имеет; не смешиваются ее формы, ибо она не имеет их. При созерцании ее самовозникает самадхи, сами очищаются грехи и самовозникает абсолютное знание. Сами возникают Три Тела Будды, которые не имеют ни предела, ни происхождения. Махамудра наполнена возможностью отвергать и абсолютно познавать. Она есть причина и закон возникновения материальных элементов и всего феноменального мира, и даже относительно не отчуждается от сансары и нирваны, не подвержена действиям разума. Нельзя найти ее относительное местопребывание. Проявление ее пустотное (шунья), пустотное имеет она проявление. Каковы бы ни были ее проявления, ни одно из них не осуществляется по — сансарному. Все ее проявления присущи всем элементам сансары и нирваны. Недвойственная мудрость присуща ей постоянно. Дхармовое пространство и сами дхармы в ней — как чистое небо. Она — шуньята, не имеющая сравнения и происхождения. Тождество блаженства и шуньяты — ее природа. Абсолютная, невидимая ее форма полна высшей мудрости. Ей как необходимость постоянно присуща шуньята. Она является высшим, абсолютным пространством всех познающих и всех дхарм — элементов. Все это и называется махамудрой!"[223].
Определив махамудру как абсолютную категорию, он наделяет ее одним божественным предикатом: "Махамудра есть Ясный Свет (’od gsal) интуитивного понимания через мистическое озарение, который, не касаясь конкретного объекта, является состраданием ради блага заблудших существ"[224].
Достигается она после низшей стадии через постижение отсутствия чего бы то ни было, пребывающего в покое. В медитативной практике происходит процесс перехода от сампраджнята — самадхи к асампраджнята — самадхи, когда созерцающий теряет в объекте мышления его форму и различия. Вместо созерцаемого объекта появляется неопределенность, бездна, нечто совершенно противоположное всему феноменальному. В этот момент, теряя феноменальную природу объекта, индивид раскрывает в себе ноуменальную реальность мира. Через совпадение блаженства и шуньяты (пустоты) он обнаруживает вместерожденную мудрость (джняну).
Краткий анализ слова махамудра (phyag rgya chen ро) таков: phyag (рука) символизирует приобретение недвойственного знания, rgya (знак) — символ блаженства, наступающего тогда, когда распутывается запутанный клубок сансары, chen ро (великое) — означает подлинное бытие (дхармакаю), свободное само в себе и являющееся горящим светильником совпадения в единстве.
Это определение, хотя оно и краткое, охватывает все три момента махамудры, т. е. махамудру основания, махамудру пути, махамудру результата. На основании вышесказанного Нацог — Рандол утверждает, что "причина ясной реализации недвойственного разума Будды бодхисаттвами и индивидуумами, после освоения его ими, порождает в трех мирах сансары законы их существования. Все элементы всего познаваемого в сансаре существуют и развиваются по своим строгим законам. Вместерожденная мудрость полна всех сущностей во всей сансаре — от невидимых насекомых до существ ниже Будды. У нее не существуют свойства хорошее и плохое, большое и маленькое, красивое и безобразное, в этом заключается ее недвойственность. Сущность ее абсолютно чиста. Признак ее есть признак пребывания дхармакаи, которая раздваивается на познающего и не познающего ее. От этого признака единое раздвоилось на сансару и нирвану. Те, которые познали сущность дхармакаи, остались в нирване, а те, которые благодаря присутствию авидьи не сумели познать ее, ушли в сансару. В момент познания, или приобретения недвойственной мудрости, прекращается исконное распространение сущности дхарм в сансаре. Все познаваемое развивается по закону и создает сансару и нирвану. Некоторые деяния, не вышедшие за пределы указанных законов, не могут преодолеть карму. Те действия, которые находятся в пределах закона кармы, называются мудрами. Искать выше этой недвойственной мудрости еще дхармакаю не нужно, и поэтому ее назвали великой[225].
Когда раскрывается в человеке недвойственная мудрость, он познает сущность сансары, сущность заблудшего духа, которого мадхьямики называют мано — виджняной, а йогачары — алая — виджняной.
Махамудра — емкий термин, куда входит мано — виджняна в чистом виде, как дхармакая, и она же — загрязненная авидьей. Термин махамудра, как мы видели, включает в себя основание (мано — виджняну), путь к раскрытию в себе чистой мано — виджняны через мистическое озарение и достижение результата через совпадение в единстве, ибо мано — виджняна в чистом виде есть недвойственный разум Будды, или дхармакая. К махамудре чистой и загрязненной авидьей относятся следующие слова Падма — Карпо: "Бытие как таковое неизменно, является само причиной чистоты, его созидательность и проявления выражают основу и источник чистого и нечистого, потому что оно способно превратиться во всё и вся. Благодаря этой изменчивости оно становится нечистым в присутствии неведения. Поэтому Жалва Яндагпа делает различие между реальной махамудрой и обманчивой (нереальной), где "первая есть основа без заблуждения, а последняя — преходящесть и обманчивость во времени, потерявшем целостность"[226]. Задача пути махамудры заключается в том, чтобы приостановить изменчивость и этим уничтожить потенцию неведения.
Это достигается на стадии реализации великой ценности в единстве или совпадении посредством практики вместерожденного объединения или йоги (lhan cig skye sbyor). Умопостигаемое бытие (дхармакая) — это волшебно действующая йогиня (sbyor та), ее невозможно сравнить ни с чем. Ее нельзя продемонстрировать при помощи сравнений, силлогизмов и жестов. Это приравнивание умопостигаемого бытия к волшебно действующей йогине очень важно. Оно указывает на то, что каким бы абстрактным ни казалось умопостигаемое бытие, когда оно аккумулируется и переживается, оно далеко от холодной абстракции, которую можно созерцать в отрешенности. Оно должно быть в общении с другими. Это общение выражается сексуальными символами, в которых не содержится ничего от обычной сексуальности. Таким образом, умопостигаемое бытие, или дхармакая, является источником временных манифестаций, конкретного существования в мире и связи с ним. Состояние Будды в качестве категории существования находится в нашем уме, это и есть мано — виджняна, она находится там с безначального времени и возобновляется при благоприятных условиях. И так как целью является ум, этот ум называют настоящей йогиней. Так как все живые неразлучны с нею, каждый аспект состояния Будды известен как внутренне связанный с умом (в его эмпирической фазе). Поэтому ум (yid) является проявлением внутреннего Будды (мано — виджняны), присущего каждому эмпирическому индивиду. Высшая умопостигаемость (chos sku), дхармакая, — одна из трех норм существования, и притом первостепенной важности. Она функционирует и выражает себя посредством более "конкретных" и чувственных норм взаимодействия с его богатством всевозможных значений (longs sku — самбхогакаей) и проявляется на феноменальном уровне как внешняя форма чистой реальности (sprul sku — нирманакая). При обсуждении этих норм буддийские мистики занимаются не конкретными свойствами того, что рассматривается, а тем, как они функционируют, и что позволяет этим нормам осуществиться в нас. Как образы жизни, эти экзистенциальные нормы активны и динамичны, поэтому мистики стремятся сохранить их в течение всей жизни.
II. Умопостигаемость, или умопостигаемое бытие, как мы сказали, постоянно присутствует в уме (сознании), ее раскрывают посредством практики методов (thabs). Для этого необходимо объединить через связи все раздробленные элементы добродетелей (tshogs lam). Здесь включается путь объединения (sbyor lam), раскрывающийся через практику йогини. Путь йогини — путь объединения всех элементов совершенствования для раскрытия Ясного Света (’od gsal). Ясный Свет, имеющий природу дхармакаи, или махамудры, раскрывается через двоякое совпадение в единстве (zung ’jug).
а. Совпадение в единстве блаженства и шуньяты, т. е. блаженство и пустота становятся тождественны, без какого‑либо различия между собой (bde‑stong dbyer med gyi zung ’jug).
б. Совпадение в единстве двух истин (bden gnyis dbyer med kyi zung jug), т. e. совпадение в единстве абсолютной и относительной истины, или, иначе говоря, совпадение в единстве Иллюзорного Тела (sgyu lus) и Ясного Света. Здесь речь идет о совпадении в единстве сансары и нирваны. Это есть конечная реализация природы Адибудды. Когда умопостигаемость раскрыта, "человек не будет относиться к сансаре, как к тому, что следует отвергать, и поэтому не будет ее избегать, что, как говорят, ведет к просветлению. Он также не будет относиться к нирване, как к чему‑то успокоительному, и поэтому не будет полагаться на то, что считается немирским, не будет предаваться ни соблазнительным мечтам, ни отчаянию по отношению к выходу"[227].
Умопостигаемая реальность имеет только единую сущность. Как бы подражая ей, различные анализы чувственного восприятия в феноменальном мире подчеркивают единство опыта. Важно заметить, что это единство не означает чувства единства с той или иной реальностью. Единство относится к особенности момента, к самому познаваемому событию, а не к его интерпретации. Единство есть не союз, а недвойственность двух ценностей. При этом шуньята относится к необъективному, несоотносительному событию, а блаженство — к чувству чистой интенсивности, а не к процессу непостоянных дифференциаций. Эта шуньята, тем не менее, не является новой независимой категорией, от которой зависит субъект, объект и различные чувства. Поэтому ее причисляют к категории трансцендентности, которая подтверждает невыразимость ее природы. А через понятие невыразимость (anirvacaniya) нигто (шуньята) не отлигимо от мгновенного события. Само событие здесь рассматривается как мгновенность, ибо оно не может пережить себя и стать существующим фактом. Событие может быть описано только как момент энергии в том смысле, что событие есть сама энергия, а не субстанция, обладающая специфическим качеством, своей энергией, и служащая причиной для последующих событий в пульсирующей модели. Карма Принлэйпа утверждает, что особенность момента (chos nyid), или абсолютная истина, является единственным мгновением (de kho na nyid gcig pu), лишенным всех суждений. Актуальность (gdangs) этого момента, или бесконечное творчество (rtsal), является источником всех вещей. Буддийская доктрина мгновенного озарения, как она описывается в текстах: "В одно мгновение развертывается множественность, в одно мгновение завершено состояние Будды", подтверждается единством познаваемого события и мгновенностью его проявления. Блаженство, приобретенное в процессе логической практики, есть мысль бодхисаттвы (byang chub gyi sems); она наступает тогда, когда индивид освободился от органической веры в Я и от пяти основных клеш. Чувство сострадания, или бодхисаттвовская мысль, исконно заложена в сущности мано — виджняны как неотъемлемая ее природа, поэтому ее называют вместерожденным блаженством. Но она находилась в потенции в силу активности отрицательных сил (вера в Я и клеша неведение). Поэтому сама йогическая практика есть процесс подавления указанных отрицательных сил. А нигто, или шуньята, есть природа самой умопостигаемой реальности. Умопостигаемая реальность является неизменной. Изменяется только то, что определимо, и оно заключено в некоем неизменном, которое является шуньятой. Она служит фоном, на котором все выделяется в своей изменяемости. Когда блаженство и ничто в одно мгновение совпадают в единстве, в тот же момент вспыхивает свет трансцендентальной мудрости (джняны) так же, как в момент совпадения электрона и позитрона появляется фотон. Под блаженством имеется в виду чувство чистой интенсивности сострадания, неизменное состояние сознания до тех пор, пока существует сансара. Вера в реальность вещей уничтожается в переживании недвойственности блаженства и ничто. Ум, полный наслаждений, предлагаемых объектами, будь то тело или ум, оставляет представление о страсти и бесстрастности, потому что все представления собираются в (чувство) блаженства и становятся чистым переживанием нарастающего блаженства. Именно между чувствами страсти и бесстрастности ум входит в естественную, спонтанно вместерожденную радость (блаженство). Когда тем самым успокаивается беспокойство умственных процессов, когда отсутствует конкретизация чего бы то ни было, появляется йогиня (sbyor ma), реальное априорное знание.
В определении Дагпо Ринпоче указывается, что махамудра "не имеет никаких пространственных и временных ограничений, находится в постоянном течении, или в процессе чистой длительности". Разбирая эту особенность махамудры, Гюнтер пишет, что "…особенно же важным является определение махамудры как простирающейся через все время. Махамудра — не событие во времени, она, скорее, есть время, не ограниченное драгоценным сейгас, но включающее прошедшее и будущее, о которых мы обычно думаем как о несуществующих"[228].
Во всех определениях махамудра находится вне времени и пространства. Она не имеет начала во времени и не имеет также и конца, ибо она существует вечно, "ее не создал бог", т. е. не создал никто. Она находится в чистой длительности, не ограниченной тремя фазами времени, поэтому она относится к абсолютной категории — дхармакае. Нельзя говорить, что "она есть время", так как этим отнимается у нее абсолютность, ибо время — величина зависимая. На основании современной теории относительности или согласно преобразованию Лоренца время зависит от скорости движения. Если мы говорим, что чистая махамудра находится над временем и пространством, в состоянии чистой длительности, мы не противоречим высказыванию Жемед Дечена, который утверждает: "Простирающаяся герез все время означает, что махамудра не есть нечто, оторванное или несуществующее, подобно заячьим рогам или ребенку бесплодной женщины. Махамудра существует как нераздельность ничто (stong nyid) и сострадания (snying rje) для всего времени"[229]. Наоборот, находясь в процессе чистой длительности, она может присутствовать в событиях, происходящих во всех трех временах. Это необходимо в махамудре пути, когда происходит процесс очищения загрязненной авидьей мано — виджняны, где, как опыт прошлого, используются результаты, достигнутые в стадии развития и осуществления, а драгоценное сейгас является путем махамудры, как необходимый творческий процесс полного очищения мано — виджняны.
Ранжун Дорже утверждает: "Самопоявление взгляда без принуждения в соответственном уме есть убеждение. Анализ и освоение метода и теории без причины на то есть практическая деятельность. Приобретение убеждения и деятельность есть единое вхождение в путь совершенствующего движения. Нахождение в процессе этого движения без колебания и сомнения есть созерцание — медитация. Если обнаружить в содержании анализа собственную мысль, то это есть убеждение. Если созерцать указанное без помех, то это — самадхи. Если не терять все это в своих действиях, то это есть совершенствующее движение. Если практически реализовать их, то это есть плод"[230].
Плод — результат реализации состояния Будды, или полного очищения мано — виджняны от веры в Я и от клеш — эмоций, которое достигается совпадением в единстве блаженства и шуньяты. А достижение этого плода относится к будущему времени. Незагрязненная махамудра присутствует во всех этих процессах как невыразимость, сама находясь в процессе чистой длительности.
Постоянно утверждается, что вся реальность — явление вместерожденной мудрости (lhan gcig skye уе shes). По поводу вместерожденности в "Махамудрабиндатантре" сказано следующее: "Выслушай махамудру, дева — небожительница! Великий секрет махамудры не выходит за пределы неописуемости, не возникает, не рождается. Все, имеющие форму, свободны от формы, не имеют формы. Но они, как вершина хозяев формы, являясь формообразующей причиной, свободны от понятий толстый и тонкий и являются сущностью беспредельности. Вместерожденное единство означает соединение двух вещей в единство, но такое соединение происходит без стремления к нему. Такие объекты имеют единую сущность, им присущи три качества. Вместерожденность — соединение различных качеств в одну сущность. Например, золото имеет единую сущность — сущность золота, но в нем собраны различные качества: цвет — желтый, вес — тяжелый, при плавлении не меняется основное качество. Из этих качеств, собранных воедино, кроме желтизны, ни одно не меняется при воздействии на него температуры. В желтом цвете отсутствуют вышеуказанные два свойства. Если взять отдельно те три свойства, то ни в одном из них, отдельно взятом, не найдется золота как такового. Когда все три свойства рождаются вместе, возникает особый металл под названием золото".
В основе бодхисаттвовской мысли лежат: 1) подлинная мысль, 2) сущность шуньяты, 3) свойства проявления ясности. Эти три вместе появились в бодхисаттвовской мысли. В ней нет особой мысли и ясности, кроме пустоты. И нет, кроме ясности, другой мысли и пустоты. Подлинная мысль находится в своем единстве, от этого единства появляется пустота (шуньята), сознание и ясность. Все они являются вместерожденными элементами, ибо шуньята, сознание и ясность родились вместе, в единстве. Сознание как таковое родилось в шуньяте и в ясности, ясность как таковая родилась в шуньяте и в сознании. Поэтому ясность, сознание и шуньята, собравшись, вместе родились. Это называется вместерожденностью. Все формы, собираясь вместе, дают единство. Концентрируя их в основе сознания, получаем вместерожденное единство. Таким образом, начиная с всевышнего Будды и кончая примитивными живыми существами, все плохое и хорошее, большое и малое, все в сансаре и нирване входит во вместерожденное единство. Все указанные живые существа, каждое из них в отдельности имеют свою виджняну (mam shes); в тот момент, когда эти виджняны начнут проявляться, они будут называться вместерожденными мудростями. Когда еще не познано их происхождение, их называют мано — виджняной[231].
Поздние комментаторы, начиная от великого брахмана Сарахи, рассматривали это положение, разделив его на три особенности: вместерожденность внешняя, внутренняя и мистическая.
Внешняя вместерожденность означает, что все вещи и явления воспринимаются через индрии, т. е. вишая и индрия вместерождены с Ясным Светом и шуньятой и что Ясный Свет (конечная реальность) и шуньята вместерождены с объектами и явлениями. Между всеми вместерожденными нет разницы во времени, и они не дифференцируются на хорошие и плохие сущности. Они просто рождены вместе, как те три качества золота. Сараха говорит: "Поймите, что многое имеет только одну ценность, поймите, что сущности вместерождены". Разнообразие внешних объектов существует до тех пор, пока не будет понята вместерожденность. Подлинное познание вместерожденности, благодаря своей истинности, является вместерожденной мудростью. На языке современной физики это означает, что нет в природе ничего разнообразного, кроме искривления пространства: интуиция, познавшая это, называется вместерожденной мудростьюк потому что она интуитивно постигает подлинную реальность в ее проявлении.
Вера в Я, созданная умом, вместерождена с Ясным Светом и шуньятой, а духовность (Ясный Свет) и шуньята вместерождены с умом, создавшим веру в Я. Но между ними нет разницы во времени, и они не дифференцируются на хорошие и плохие сущности, они просто рождены вместе. Пока это не будет понято, будет существовать вера в Я. Интуиция, познавшая это, называется вместерожденной мудростью.
Также Сараха сказал: "Дихотомия — это наивысшая мудрость, пять ядов эмоциональности являются (своим собственным) лекарством, объективные и субъективные поля — это Ваджрадхара".
Ум, который разрушает все пятна, положительные и отрицательные, вместерожден с подлинной реальностью. Пока это не понято, будут существовать пятна. Но если это понято, подкреплено мудростью, которая является завершающей, дихотомия ощущения становится чистой. Эта нераздельность конечной реальности и мудрости называется мудростью, которая познает реальность такой, как она есть, или недвойственной мудростью, (gnyis su med pa’i ye shes). Благодаря ей или через нее снимаются эмоциональное непостоянство и примитивное верование.
III. Лхажетонпа утверждает, что "когда человек вступает на путь махамудры, он перестает заниматься принятием полезного и отвержением вредного, ибо для него процесс остается позади. Если человек, будучи полностью в пути, может заниматься принятием, отвержением, будет отвлекаться от объекта созерцания и блуждать в неуверенности, то он похож на муху, попавшую в паутину. Нужно научиться узнавать в своем сознании достижение плода созерцания. Плода, который не может быть найден в своем сознании, не нужно искать где‑то в сознании других людей, ибо это похоже на прыжок лягушки в небесные просторы"[232]. Достижение плода махамудры ищущий должен обнаружить только в своем сознании. Буддисты утверждают, что когда ищущий совершенствуется по путям, продиктованным Буддой, его основа (махамудра — мано — виджняна) освобождается от основ эмоциональной изменчивости (клеш), от веры в Я и становится чистой и ясной. Когда исчерпываются кармические результаты (грехи), тормозящие движение на путях, ищущий реализует конечный плод. Он перестает перерождаться в виде живых существ, наделенных скандхами. Собственная сущность пуста. Принцип существования пустоты находится во всех видимых и невидимых элементах, ни один элемент не может существовать вне этого принципа. В пустоте, которая пребывает непрерывно в сознании, возникает чистое ощущение, не выразимое словами, которое сверкает и все же не является ничем, лишенное трех условий (конкретизации, которые суть — явления, символы и возможности опыта); оно за пределом четырех видов блаженства, и даже выше радужного света, полностью трансцендентно, вырастает как ничто, которому внутренне присуще сострадание на благо живых существ. Оно реализуется тогда, когда ищущий достигает стадии великой ценности и совпадения в единстве. В момент реализации конечного результата, или чистого ощущения, ищущий освобождается от органически двойственного взгляда на объект и субъект. Когда познание приходит к плоду, тогда полностью познается сущность чистой махамудры, наполненной силами и бесстрашием.
Если ищущий решил овладеть возможностями, простирающимися перед ним, и претворить их в решительное действие, которое сопровождается чувством сострадания, он должен выйти за пределы обыденности и достичь состояния, которое с обычной точки зрения есть ничто, но которое из‑за того, что оно есть ничто, действительно предохраняет людей оттого, чтобы их умы наполнялись сомнительными идеями или поступками. Таким образом, полностью раскрывшись, ищущий связывает бесконечные возможности будущего перед собою с бесконечными возможностями, которыми он обладал в прошлом, в полное смысла единство.
Годцанпа говорит: "Познание того, что нет различия между сансарой и нирваной, есть убеждение. Если убеждение, опирающееся на шесть собраний, охватывает различные явления, то оно соединяется с мыслью о подлинной связи и зависимости. Это есть созерцание, оно является правилом единого вкушения всех наслаждений и мук. Безмятежное, ровное становление мысли без помех шального сознания есть чистый плод, подобный небу. Если собрать воедино мировоззрение, созерцание, путь и плод, то они неотличимы от чистого плода, подобного небу". Дальше указано, что "когда человек доходит до состояния понимания иллюзорности всех вещей, он, глядя на вещи, не видит там ничего реального. Это есть убеждение. Когда не обнаруживается в видениях и мыслях реальности вещей, тогда наступает самадхи. Если соединить воедино блаженство и пустоту, то наступает подлинный анализ. Когда наступает освобождение от начала и конца, тогда начинается путь. Если подавить сомнение, непостоянство и рассеянность, то является плод.
Все вышеуказанное есть наставление Учителя, поэтому прошу воспринять это в глубине своего ума. Нужно воспринимать убеждение без различения, путь без исправления, сострадание без пространственного ограничения, самадхи без отвлечения, тогда знание приходит непрерывным потоком. Убеждение, освобожденное от правильности и неправильности, не ограниченное пределами изучения и освоения, — это наставление Учителя. Безошибочное созерцание без ослабления; путь без страстей, не подверженный ошибкам; клятва, не допускающая отклонения, вызывают плод, желаемый небожителями, подобно тому, как основной состав лекарства, пропорционально сконцентрированный, дает лекарство высшего качества".
Знание, текущее непрерывным потоком, является одним из основных условий для достижения результата. Для этого требуется творческий процесс и необходимое подготовительное переживание — опыт, который завершается в стадии развития (bskyed rim). Дагпо Ринпоче говорит: "В результате раскрытия махамудры ищущий идет по пути самотеком, не опираясь ни на что, до полной реализации дхармакаи. Это похоже на то, как ночная птица — сова делает взлет, она опирается крыльями и хвостом о землю, в воздухе она знает цель, куда лететь, и в полете, пока летит к цели, она не машет крыльями, а спокойно планирует в воздухе".
Это положение махамудры пути сравнивается с путем без угебы (mi bslob lam) бодхисаттвовского пути. Под знанием, текущим непрерывным потоком, имеется в виду не поток состояний отдельно взятых махамудры основы, махамудры пути или махамудры плода, а имеется в виду сплошной поток интенсивно связанных трех моментов, или фаз махамудры. Сам термин махамудра также включает все три фазы. Поэтому Шан Ринпоче утверждает, что "…она нескончаема. Например, серебряная руда. От нее отделяется серебро, и из чистого серебра можно изваять художественные формы. Таким же образом, не отделяясь друг от друга, непрерывным потоком вытекают махамудры основы, пути и плода".
На той стадии развития, когда ищущий созерцает махамудру, цель и путь самореализуются, и они находятся за пределом желающей мысли и отчаяния. Здесь цель означает дхармакаю, самореализуется означает достижение понимания того, что вся реальность никогда не возникала и является дхармакаей, и означает также интуитивное понимание недвойственности сансары и нирваны. Выражение "они находятся за пределом желающей мысли и отчаяния" означает, что благодаря пониманию того, что нирвана — это сансара, не может быть никакой желающей мысли относительно достижения нирваны в стороне от сансары и благодаря пониманию того, что нирвана — это сансара, не может быть никакого отчаяния по отношению к падению в сансару, как к чему‑то дурному. Гампопа пишет: "Прийти к этому убеждению означает, что все пятна разрушаются изнутри и что из глубины собственного бытия рождается уверенность в отношении реальности. Поэтому не может быть никакой желающей мысли или отчаяния по отношению к сансаре и нирване, будь она даже величиной с кунжутное зерно"[233].
Под словом пятна понимается сомнение и неуверенность в дхармакае. Интуиция, подлинно познавшая эти пятна, которые необходимо подавить, раскрывается на стадии развития и осуществления. Метод, который разрывает сомнение и другие клеши внутри сознания, как говорят тантристы, является наставлением Учителя. Воззрений реалистических и идеалистических, высокомерных и других существует великое множество, но они заменяются в тантризме срединным воззрением (dbu та) — мадхъямикой.
Дагпо Ринпоче определяет его как воззрение, не выразимое словами и не вообразимое умом, являющееся запредельным наставлением. Анализ и завершение учения о сансаре и спасении от страданий в самом сознании называется стадией дзоггена, стадией Великого Завершения (rdzogs chen). Сомнение, хорошее и плохое, не осуществляется в сознании, поэтому эта стадия называется махамудрой. Для подавления страдания нужно осуществить блаженство. Метод использования сомнения и других клеш для совершенствующего пути является сокровенной тантрой. Сознание, сомнение и дхармакая в самом начале родились вместе, поэтому соединение их в единство через наставления называют вместерожденным единением. Для подавления мары и других черных духов Будда продиктовал мантру (дхарани). Как мы уже упоминали выше, умопостигаемое бытие есть дхармакая, это одна из трех экзистенциальных норм, и притом первостепенной важности. Сущность ее есть шуньята (пустота). По причине того что шуньята никогда не расстается с истинной ясностью (телом Адибудды), она собственную форму (рупу) превращает в пятицветную радугу. Этим она выражает себя посредством более конкретных и чувственных норм коммуникаций с их богатством всевозможных значений — самбхогакаей. Пятицветная радуга суть пять мудростей, наделенных знанием и деянием, через эту коммуникацию абстрактная дхармакая приближается к конкретным личностям сансары. Оржанпа пишет: "Шуньята есть ясная Мудрость дхармового пространства и она же есть Зерцалоподобная мудрость. То, что эти две мудрости пребывают ровно, без колебания, есть Мудрость равного содержания. То, что указанные две мудрости не смешиваются, а пребывают каждая в отдельности, есть Мудрость, познающая по отдельности. Все указанные мудрости не подвержены изменению и самовозникают, поэтому являются Мудростью, совершающей деяние. Шуньята есть: 1)Тело Будды; то, что она ясна, есть 2) Проповедь; она недвойственна, поэтому она — 3) Мысль ровная, без колебания".
Существование в мире различных феноменов, как внешней формы чистой реальности, есть нирманакая. Экзистенциальная активность, или проявление нирманакаи, суть Тело (sku), Проповедь (gsung) и Мысль (thugs); иначе говоря, она является определителем тела, речи и ума. Пока определитель бездействует, реальность пребывает в своей сфере и ценности, но даже в этом случае реальность не есть нечто статичное. Она вполне активна. В этом смысле она обладает тремя аспектами.
Если рассматривать реальность как основу, это значит, что ее потенциальная энергия не рождена и что из нее возникает неустанно присутствующая непрерывная актуальность (gdangs) и динамика ее существования (rtsal), которая представляет собой проявление многообразия феноменального. Если рассматривать ее как цель, это реальность в своей сфере; это встреча реальности с собой, когда ее потенциальная энергия, присутствующая активность и динамика существования выражают себя в нормах умопостигаемого, коммуникативного и подлинного бытия. Коммуникативная актуальность самбхогакаи выражается через пятицветную радугу, или пять мудростей. Они так же самовозникшие и вместерожденные с пятью эмоционально окрашенными реакциями, или пятью клешами. То, что они самовозникшие, выражается термином лхундуб (lhun grub). Этот термин выражает присутствие сущности дхармакаи в скандхе (в теле) самого индивида, т. е. относится к обнаружению мано — виджняны в нашем собственном существовании. Поэтому некоторые западные теоретики называют его трансцендентальной имманентностью. Это значит, что трансцендентность есть ничто без имманентности, когда речь идет об обнаружении в нашем ограниченном (пространственно — временном) существовании бесконечной сущности дхармакаи. Поскольку основание нашего бытия не совпадает с нашим бытием, оно трансцендентно, а поскольку оно находится в нашем бытии и с нашим бытием, оно имманентно, отделить трансцендентность от имманентности невозможно. Поэтому это парадоксальное явление тибетцы называют термином самовозникшее (lhun grub). Слово само предполагает трансцендентность, возникновение — имманентность.
Гампопа говорит: "Трансцендентальная имманентность (lhun grub) представляет собой ощутимое знание или познание (rtogs) всего того, что можно видеть и слышать, как являющееся сущностью подлинной умопостигаемости, которая не есть нечто, превращающееся в конкретное существование. Это есть реализация сансары и нирваны как недвойственности".
Мы уже упоминали, что когда блаженство и ничто в одно мгновение совпадают в единстве, тогда вспыхивает вместерожденная мудрость, как сущность Будды. Она трансформируется на пять мудростей, и они разрушают основу пяти клеш и веру в Я. Эти пять мудростей суть пять дхьянибудд. Когда корень эмоционально окрашенных реакций и вера в Я сгорают в пламени пяти мудростей, тогда ищущий обретает подлинное тело, которое не подвержено рождению и смерти, и, таким образом, оно у него становится тайной бытия. Он обладает подлинной речью, которая есть то, что невозможно выразить словами, она является тайной коммуникаций. Он обладает подлинным умом, который не постигается мыслью, и, таким образом, является тайной духовностью. Для этих трех тайн ядовитая феноменальность, которая создает ошибку относительно того, что обычно является непосредственным видением, не существует. Здесь торжествует аксиома школы мадхьямиков, утверждающая, что бытие, которое по своей истинной природе никогда не локализовано, самоприсуще, совпадающе и недвойственно, является интеллектуальным актом в самом себе. Техника преобразования при реализации осуществляется под руководством Учителя, строго по тайному методу, который является скрытым и запечатанным для тех, кто не подходит для него. Поэтому здесь обязательно требуется посвятительное уполномачивание. Это уполномачивание открывает процесс опыта, который должен охраняться строжайшей самодисциплиной.
Теперь еще раз хочу остановиться на принципиальных различиях между целью буддийского тантризма и шиваитского. Ибо в своих работах отдельные западные буддологи упорно отождествляют методы и цели буддийского тантризма с шиваитским. Такое отождествление в корне неправильно и может повести будущего исследователя по ложному пути.
В шиваитском тантризме существенный интерес представляет концепция шакти — божественной энергии, творческого женского аспекта верховного бога (Шивы) или его эманации как активного начала. Соединение с шакти символизирует овладение творческой энергией, или соединение с силами Вселенной. "Соединившись с шакти, будь полон энергии, — сказано в тантре "Кула — чинтамани", — из союза Шивы и шакти возникает мир". Сексуальные символы буддийского тантризма на иконографических изображениях действительно сходны с шиваитскими изображениями. Но смысл их совершенно противоположный. Юм (yum) буддийской тантры — это не шакти, она подчеркивает духовно — интеллектуальную, оценивающую сторону йогического опыта, или, иначе, она есть интуиция, непосредственно постигающая природу шуньи (yum ni stong nyid rtogs pa’i blo). Буддийские тантристы шакти определяют как майю, ту самую силу, которая создает иллюзию, поэтому она является продуктом эмоции неведения (та rig ра). Шакти, или майя, беспрерывно напоминает нашему уму о существовании эго. Поэтому она является основой сансары и только она удерживает всех живых существ в болоте сансары с безначального времени. Юм же — это праджня (shes rab), раскрывающая сущность шуньи, которая есть противоположность майи. Как нам известно, соединение в единстве блаженства и шуньяты раскрывает в нас вместерожденную мудрость (джняну), которая избавляет живые существа от власти майи. Так как майя (шакти) вместерождена с джняной, то она не отрицается, не уничтожается, а превращается в силу, отрицающую самое себя. Задача буддийского тантризма заключается в том, чтобы она стала силой просветления, которая не служила бы дальнейшей дифференциации, а текла бы в обратном направлении к единству и завершенности.
Утверждение о том, что "из союза Шивы и шакти возникает мир", означает, что этот союз создает феноменальный мир, который буддисты называют сансарой. Как мы видели выше. Нацог — Рандол пишет: "Признак (махамудры) есть признак пребывания дхармакаи.
которая разделяется на познающего и не познающего ее. От этого признака единое раздвоилось на сансару и нирвану. Те, которые познали сущность дхармакаи, остались в нирване, а те, которые благодаря присутствию авидьи не сумели познать ее, ушли в сансару". Напрашивается вывод, что союз Шивы и шакти есть творческий процесс авидьи, т. е. неведения; а все буддийские пути спасения — хинаяна, махаяна, мантраяна — сводятся к тому, чтобы устранить неведение (авидью) и реализовать высшую мудрость — Просветление.
Соединение Шивы и шакти — процесс феноменальный, а соединение яб (yab) и юм (yum) — процесс трансцендентный, ведущий к прекращению всего феноменального.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ