НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ УРАГАНОВА
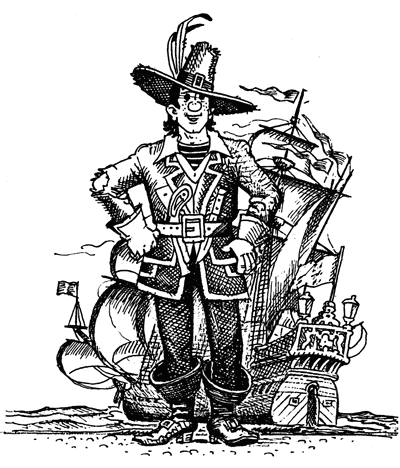
Ураганов наотрез отказался самолично записывать свои истории. «Мое дело — жить! — его любимое изречение. — Другие — пусть пишут». Судя по всему, на него жестко подействовала мягкая критика его банных друзей. В истории «Таинственная станция», к примеру, он кое-где ударился, дескать, в красивости. Валерий резко возражал, утверждая, что все, связанное с детством, невольно вызывает в душе даже такого «неотесанного» человека, как он, волшебную сказку. Что касается якобы несвойственной ему начитанности, то это, мол, злостная неправда, и подчеркнул, что только за какие-то последние полгода он прочитал пять толстых книг. И вообще ему поневоле приходится быть книголюбом, поскольку в недавно купленный мебельный гарнитур входит и книжный шкаф.
Упрекали его и в том, что сразу видно: «кто-то» ему помогал писать свои истории. Водолазу, мол, слабо даже заявление в РЭУ о ремонте чугунной ванны написать, а не то что рассказ о живых и неживых людях. Ну, тут они ошибаются. Каюсь, была некоторая моя чисто редакторская правка, да и то в основном знаков препинания, — Валерий почему-то обожает многоточие и точку с запятой. Про многоточие он заявил: оно тем хорошо, что в нем можно смело сказать все, что угодно. А про точку с запятой — что это исчезающий знак препинания и поэтому его жаль, надо вставлять его к месту и не к месту, пока к нему снова не привыкнут; в личных письмах этот выразительнейший знак уже исчез вовсе!
…Итак, перед Вами, любезный читатель, вновь достоверный пересказ историй, поведанных водолазом Валерием Урагановым избранному кругу приятелей в московских «Можайских банях». Следует добавить, что, придирчиво прочитав потом месяца за три эти истории и безошибочно вычеркнув красным фломастером не более двух сотен самых удачных фраз, он размашисто наложил резолюцию: «С подлинным верно. Не знаю, как насчет литературных достоинств, но жизненная правда есть. Ураганов». А в частной беседе обронил: «И все-таки «Фауст» Гете — штука посильнее». Будто и сам не знаю. Тоже мне Белинский!.. В конце концов, что рассказано, то и написано.
САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАМЕНЬ
Так уж получилось, что в ГДР мы побывали позже, чем в ФРГ, в 1984 году, хотя именно на гэдээровской судоверфи в Ростоке наш «Богатырь» и построен. Росток — главный порт ГДР на Балтийском море. Впрочем, других морей у них нет и не предвидится. Это мы настолько богаты, что можем запросто списать в расход то же Аральское море, поставив на очередь Каспийское и «славное море» Байкал.
В Ростоке, так сказать, на своей родине, «Богатырь» должен был пройти профилактический осмотр, и наш местком раскошелился на двухдневную поездку в Берлин для научных сотрудников и матросов. Был заказан автобус типа «Икарус» и забронированы места в гостинице «Штадт Берлин». Понятно, всех желающих не пустили, взяли только самых лучших. Стоит ли упоминать, что и меня не обошли. Хотели, конечно, забыть мою кандидатуру, да я тактично напомнил:
— Как под воду, так Ураганов! А как в Берлин, так общество «Память» приходится вспоминать!
Рассмеялись, но в список включили. Потом, правда, неудобно стало: зачем я так сказал. Я ко всем одинаково отношусь, были бы люди хорошие.
Но, доложу вам, оставшиеся в Ростоке не прогадали. Старинный красивый город! А Берлин-то — почти весь новый, из крупнопанельных коробок, вроде наших московских «Черемушек». Но именно в нем я пережил одно из своих самых захватывающих приключений — мне на роду было написано туда попасть.
Доехали мы до столицы быстро, по отличному автобану, — всего за несколько часов. Разместились в небоскребе гостиницы на Александер-плац в самом центре города, рядом с телебашней. И, как везде за границей, в отеле удивлялись, что наших мужиков почему-то всегда селят по двое в семейных номерах с двуспальной кроватью. Тьфу на них! Не понимают, что так дешевле. А еще говорят, за рубежом умеют каждую копейку считать.
Водили нас и в знаменитый Трептов-парк, и по музейному острову, что на реке Шпрее. И у Бранденбургских ворот были, любовались знаменитой Берлинской Стеной — здесь ее толщина аж 3,5 метра — с объявлением большими черными буквами на английском, немецком и русском языках: «Стойте!..», «Запрещено!..», «Нельзя!..». Точный текст не помню, но за смысл ручаюсь. Даже близко подходить к Стене не рекомендуется. Есть и специальные пропускные пункты для тех, кто достоин пройти. Даже в метро — «Стена»: едешь, едешь, стоп, вылезай, дальше другие поедут, кому положено. И тоже предупреждение висит: вы, мол, покидаете такой-то сектор и въезжаете в сектор такой-то, приготовьте документы! Сплошная геометрия. Ну, так уж история распорядилась.
Не подумайте только, что Стена тянется по Берлину непрерывно, сплошняком. Кое-где так оно и есть, петляет себе и петляет. А в Потсдаме нас возили в замок Цицилианхоф, где подписано Потсдамское Соглашение, — по середине большого озера идет металлическая сетка, и пограничники носятся на быстрых катерах. В другом же месте я видел такую умопомрачительную картину: со стороны улицы между глухими торцами двух высоких домов — колючая проволока, за ней — бетонная дорожка, и снова — проволока, а дальше — река Шпрея, тоже с сеткой посредине. Расстояние между торцами тех домов, по-немецки брандмауэрами, — метров семьдесят. Так вот, по той короткой бетонной дорожке, в коридоре из колючей проволоки, ездят на мотоцикле двое пограничников: один за рулем, другой на заднем сиденье с автоматом. Медленно подъедут к одному дому и поворачивают назад, к другому. И так все время на полном серьезе катаются, пока их не сменят.
Есть и такие улицы, где дома восточного Берлина стоят на границе с западным. Входишь в дом из одного города, а окна глядят на другой — там, на той стороне улочки, уже Западный Берлин. Нам рассказывали, что бывали такие отсталые граждане, которые приходили в эти дома в гости, а затем выпрыгивали из окон на ту сторону, где уже стояли западные родственники с натянутым одеялом. Вероятно, они предварительно созванивались между собой и говорили намеками, чтоб не подслушали. Или сообщали какому-нибудь западногерманскому туристу открытым текстом: пусть, дескать, бабушка с дедушкой приходят тогда-то и туда-то, не забыв прихватить с собой дюжих племянников и одеяло покрепче, желательно и пошире, — не промахнешься. Прыгать можно было только с четвертого этажа, потому что первые три были выселены, а окна заколочены. Затем, правда, и все верхние этажи выселили, когда жилищный голод в столице поутих. А потом и подчистую такие дома снесли, даже известнейшую гостиницу «Андлон», где когда-то останавливался Есенин. Ему вообще с гостиницами, я смотрю, не везет: в Ленинграде тоже «Англетер» снесли. Любопытно, что и та и эта начинаются с «Ан». К чему бы?..
Не подумайте, что я зациклился на Берлинской Стене. Если б ее тогда не было, то не было бы и моего рассказа. Вся суть именно в ней. Из-за той Стены меня могли и к стенке поставить. Ну, не поставить — а вот пулю на лету словить мог.
Однако немцы любят порядок, потому и мы с вами, пока у них, так сказать, в гостях, будем придерживаться порядка хотя бы в изложении событий. (Я уже упоминал, что Ураганов подчас бывал велеречивым.) Вы же меня знаете, не люблю я ходить на привязи. Когда нам дали свободное время и по пятьдесят марок — по-нашему, рублей шестнадцать, — мы с боцманом Нестерчуком откололись от всех и пошли гулять на пару, хотя, как обычно, предупреждали, что лучше ходить втроем: вдруг двое под машину попадут, тогда третий может сообщить в посольство — нам и телефон дали, звонить туда можно круглосуточно. И лучше всего, мол, вернуться в гостиницу загодя — в 23.00 будет перекличка, ее проведет замполит по внутреннему телефону. И в том и в другом случае, решил я, можно в городе тормознуться. Пока он 50 человек до меня прозвонит, минимум час уйдет — по алфавиту последний.
В конце концов я и боцмана покинул, он в каждый магазин сворачивал, прицениваясь, как бы свои «шестнадцать рублей» превратить хотя бы в сто, по нашенским ценам. Пусть сам в посольство звонит, если под машину попадет!
Разговорившись с одним нашим офицером — он вел семью в зоопарк, — я узнал, что самый старый, наиболее уцелевший район Берлина — это Панков. Туда и «эсбан» ходит, городская железная дорога, своего рода и «надземка» и метро.
Я и поехал. Чего мне на крупнопанельники глазеть. В моем Матвеевском, в Москве, они не хуже. Разве что стыки между панелями шире. Да у нас все больше!
Могут законно спросить: резко ли отличалось ГДР от ФРГ. Отвечу: в Гамбурге я домов из панелей не видел, а отличие в том, что в ФРГ современные дома — современней, а в ГДР старые дома — старей. Конечно, в Западной Германии и модных шмоток, и всякой электроники куда как больше, но за них-то там надо платить настоящей валютой, в то время как здесь можно расплачиваться неконвертируемой — улавливаете разницу! А так и там и тут — немцы, никакого отличия, даже язык одинаковый. Ну, машины, понятно, другие: «мерседес» с «трабантом» не спутаешь. Если же глобально смотреть, то гэдээровцы социально лучше защищены. Совсем, как у нас. Тверже глядели в будущее.
Впрочем, все это было до известных событий. Не мне судить, что они приобрели и что потеряли. Сами разберутся. Лично я считаю, от Запада надо брать только хорошее: их вещи, например. А от социализма — наш совершенно свободный труд. Что хотим, то и делаем!
Но что мне особенно понравилось в ГДР — это их замечательное и дешевое пиво. Всякие «гастштете», «бирштубе», «бирхалле» буквально на каждом углу. Никаких очередей, везде найдешь свободные чистенькие столики с клеенками в красную или синюю клетку. Обслуживание мгновенное, можешь и шнапса пару рюмочек опрокинуть. «Гросс», по-ихнему, большая, пол-литровая кружка пива стоит одну марку — то есть тридцать копеек. А бокал, «кляйне», соответственно, полмарки.
К чему я об этом? Все мы любим пиво и странно, если бы я пропустил такое живое дело.
Приехав в Панков уже вечером и побродив среди небольших кирх и серых двух-, четырехэтажных домов с высокими черепичными крышами, я надумал пешком возвратиться в гостиницу. Заблудиться было трудно — вдали в свете прожекторов сияла телебашня на Александер-плац. Я прикинул, что туда никак не более трех часов ходу, даже если заглядывать по пути на минутку в полюбившееся мне «гастштете». Не во все подряд, конечно. Иначе бы моих марок не хватило. И брать в каждой, решил, только по «кляйне» — не больше. И увижу много, время славно проведу, и на перекличку не опоздаю.
В путь! По началу все пошло, как задумано. Осушил для старта «кляйне» в ближайшей пивной, стряхнул пену с губ, вышел, свернул за угол — Стена. Та самая, Берлинская. С грозными надписями. По верху лампы горят. Пришлось обходить…
Хоть и говорят, что берлинские улицы, как и питерские, строго под прямым углом спроектированы, очевидно, Панков — действительно самый старый район. То на месте кружишь, то в какой-то тупик попадаешь, то опять на злополучную Стену выходишь. Ко мне уже и часовые вроде бы присматриваться стали. Может, им другие по телефону мои приметы передавали, как эстафету?..
Ошибаясь в намеченном пути, я не ошибался только в гостеприимных пивных, выходя на них прямо-таки с полуоборота. Да и не мудрено, что я плутал. Телебашню можно увидеть только с открытого пространства, с какой-нибудь площади, а в узких улочках здания закрывали горизонт, да еще, если все время сворачиваешь то туда, то сюда, — и подавно потеряешь всякую ориентацию. Когда я в четвертый или в пятый раз вновь вышел на Берлинскую Стену, невольно подумал: «А может, пиво подействовало? Надо же, дороги не найду!» Да нет, если сложить пять моих «кляйне», то получится две с половиной нормальные кружки — «гросс». Это далеко не та доза, после которой люди сбиваются с правильного пути.
Я стоял в раздумье на углу улочки, напротив Стены на другой стороне, прикуривая и делая вид, что не замечаю, как сверлит меня взглядом бдительный часовой. И тут лампы на Стене вдруг разом погасли, из подворотни метнулась к ней какая-то расплывчатая фигура, послушались стук, будто били молотком по зубилу, отрывистое «Хальт!» часового, выстрел в воздух, затем сверкнул новый выстрел вдоль стены, и раздался топот ног — прямо ко мне. Ну, думаю, неизвестный со всех ног мчит сюда, а за ним — пограничники. Либо в суматохе подстрелят, либо потом не отбрешешься. Кто, что, зачем?! Все-таки заграница. И советское подданство не выручит. Мало ли что ты «наш», «наши» тоже за кордон мотают, любо-дорого.
Я дунул прочь. Сработал инстинкт! Бросался во дворы, перелезал через ограды, снова несся — топот позади не стихал. Когда я уже выдохся и собирался сдаться, впереди во дворе вдруг увидел освещенный одинокой лампой овальный вход с металлической короткой лестничкой. «Туалет!» — мелькнула спасительная мысль. Поднажал из последних сил, с налету распахнул звонкую дверь, машинально отметив, что на ней не было букв — ни «H» ни «F» (Herren» — мужской, «Frauen» — женский), и… сознание провалилось в темноту.
Очнулся я, наверное, быстро, потому что мой преследователь — очевидно, это и был он — высился надо мной, все еще тяжело дыша и сжимая в руках молоток и зубило, — как видите, я не ошибся, когда услышал стук у Стены. По-видимому, он вовсе и не преследовал меня, а тоже спасался бегством. Кто же виноват, что наши пути совпали! Странно не это. У рослого незнакомца, одетого в ничем не примечательный комбинезон, было… три глаза. Мы находились в глухом металлическом отсеке, как бы в прихожей, с рядами заклепок по овальным стенам; дальше вела другая дверь-люк.
«Уж не на летающую ли тарелку я угодил?» — усмехнулся я про себя.
«Верно, — послышался в мозгу спокойный ответ. — Так у вас называется то, где ты сейчас находишься».
«Телепатия?» — мысленно ахнул я.
«Опять — верно», — подмигнул мне трехглазый левым крайним и занялся своей раной. Только сейчас я заметил, что он ранен. На правом плече была дырка в крови. Достукался!
«Больно?»
«Не очень», — он достал какой-то белый пакет и, морщась, ловко перевязал плечо — вместе с комбинезоном.
«В вашем воздухе микробов много», — пояснил он мне.
«Слышь, — осмелел я, стараясь говорить про себя, — а что ты у Стены делал?»
Трехглазый вынул из кармана кусочек бетона с будто запаянной внутри галечкой.
«Сувенир» — сострил я.
«Еще какой! Самый ценный камень на Земле! А пулю я дома выну и буду на цепочке носить». «А где ваш дом?»
«И далеко и близко, ты не поймешь».
«А правда, вы появляетесь там, где должны произойти важные события?»
«Да и нет. В сегодняшнем случае — да», — последовал мысленный ответ.
«И что же здесь будет?»
«Прочитай лет через шесть в газетах, — он усмехнулся. — Ну, пока. Спешу».
Я замялся, но он первым протянул мне свою раненую руку на прощание:
«Уже не больно».
Я вышел. На всякий случай отбежал к воротам и оглянулся. Ступеньки втянулись внутрь сфероида — теперь-то я хоть смутно, но различал, что это сфероид, — лампа погасла, послышалось тихое жужжание, и словно мелькнул на звездном небе огромный литой жук.
Я огляделся. Кругом стояли темные заколоченные дома…
Через минуту-другую я уже шагал по ярко освещенной улице, с трамваями и автобусами, в направлении сияющей вдали телебашни. Нет, сначала я зашел в ближайшее «гастштете» и хлопнул «гросс» кружку за незнакомца — за его успешное плавание: «Лети с Богом!»
К перекличке я поспел вовремя.
…Ровно через шесть лет я прочитал в газетах, что та Берлинская Стена приказала долго жить, а ее осколки пошли на сувениры. И мне стало понятно, почему незнакомец назвал тот кусочек бетона самым ценным на Земле камнем. Что ему лунный камень? Они, верно, по всем планетам шастают. А вот камень из стены, разделявшей один народ-Камень, который с души сняли…
Забыв про пиво, мы сидели в предбаннике. (Подчеркнем, все это было нам рассказано за два года до объединения с ФРГ!)
— Ну, ладно, — очнулся толстяк Федор. — А зачем он под пули лез? Не мог, что ль, дождаться, когда стену — ну, допустим — разрушат!
— Значит, не мог. Сказал же, спешит, — рассердился Ураганов.
— Пусть, — кивнул Федор. — А пуля ему зачем?
— Зачем-зачем! — подал голос кучерявый детина Глеб. — На память.
— Я так полагаю, — потер усы Ураганов, — со временем та пуля тоже будет бесценна. Представьте себе, пуля пограничника несуществующего государства! Да еще с другой планеты! Для них это похлеще, чем для нас стрелы воина, допустим, потонувшей Атлантиды.
— Хм… — озадачился Федор. — Выходит, не врали, когда напечатали, что в Воронеже пацаны не раз видели высоких трехглазых пришельцев?
— Конечно! — горячо воскликнул Валерий. — Воронежцы не могут врать хотя бы потому, что Воронеж по соседству с моим родным Курском. В наших краях не врут! Это тебе не Москва.
Он умолк, затем сказал:
— А вы говорили, зачем я все про Стену да про Стену…
ТРИ ЖЕЛАНИЯ, ИЛИ ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
Будь моя воля да родись я лет двести назад, плавал бы только на парусных кораблях! Они какие-то настоящие, искусные, а не искусственные. Между прежними и нынешними такая же разница, как, к примеру, между живой елкой и синтетической. Конечно, современные корабли прочнее и быстрее, но… не то. Они лишь средство передвижения. А те — обвораживают, ранят душу. Как в стихах:
Когда волна колышет сушу
И на весь мир ревет прибой,
Давно забытым ранит душу
О том, что не было с тобой…
Но умолкаю. Не то опять недоброжелатели затрубят: вновь красивости! Ураганов уже стихи читает! Скоро запоет!
Ну и что? Я люблю и стихи читать, и песни петь — только не с чужого голоса. Даже пьяные поют. А я нормальный русский моряк. Что хочу, то и делаю, если начальство не запрещает. Да и то столько приказов, указов, инструкций и распоряжений в своей жизни нарушил — не счесть! Но если бы я их не нарушал, пожалуй, мало чего любопытного со мной бы случилось. Так уж мы устроены, грешные.
Почему-то у меня сейчас такое настроение, как в ту ночь, когда мы, изучая течения, дрейфовали на «Богатыре» в Атлантике где-то между Кубой и Испанией.
Давным-давно этим путем наощупь пробирался великий Христофор Колумб, волнуясь, переживая, боясь. И вот где-то здесь стоял тогда в полной безопасности я, Ураганов, и преспокойно покуривал сигареты «Ява». Пожалуйста: экзотическое название, над которым мы совершенно не задумываемся у себя дома, совсем по-другому звучит в иной обстановке. Конечно же, тут более подходит: Куба, Испания, Ява, Колумб. А не Ураганов.
Я сказал: в полной безопасности. Запомните — безопасность никогда не бывает полной. А может, и вообще нет никакой. Мы сидим себе сейчас спокойненько в «Можайских банях», и вдруг — кррах! — перекрытие на голову, то ли от случайного землетрясения, то ли крановщик дядя Вася бетонную плиту на авось положил. Но уж от немецкого дяди Ганса — наше судно, сами знаете, в ГДР построено — я никакой халтуры не ожидал, когда оперся грудью на бортовой поручень на корме. Тут включили двигатели, внизу запенилась вода, «Богатырь» дернуло. Так вместе со вставкой поручня, от стойки до стойки — жаль, не с самим дядей Гансом, — я и полетел головой вперед в бурлящую за кормой воду. Да еще как нырнул! Словно одним махом хотел вынырнуть за тысячу миль где-нибудь у набережной Малекон в Гаване.
Никто не заметил моего лихого прыжка. Вахтенный, как и положено, дежурил на носу корабля. А мой жалобный крик, говоря красиво, затерялся среди резких криков чаек. Впрочем, никаких чаек, кажется, не было. Ни чаек, ни альбатросов — и где они спят по ночам? Некоторые — на самом корабле, а остальные?.. Мгновение — и меня здорово отнесло от судна. Вернее, не отнесло, а как бы враз проложило черное пространство воды между мной и светящимся «Богатырем» — как только я вынырнул.
Я и плыл и кричал вдогонку, напрасно — шум от «Богатыря» был сильнее…
Слава Богу, океан не штормило. Неправдоподобно спокойно, как темный, блестящий под луной лед, он простирался от меня к удаляющемуся кораблю, который уже казался не больше спичечного коробка. Между прочим, такое сказочно спокойное состояние моря в Одессе называют бунацией.
Мне было плевать на всякую бунацию, и я продолжал плыть, скинув туфли, за «Богатырем», пока он не превратился в точечный огонек и не смешался со звездами на горизонте… Да-а, жаль было новых французских «мокасин» из натуральной кожи. Будь я министром гражданского морского флота, издал бы приказ: по ночам на палубу выходить только в тапочках. А курить — только в отведенных местах! Хотя, виноват, последняя инструкция имеется.
Не помню, кто из великих сказал: люди делятся на титанов и чайников. Под титанами наверняка имелись в виду здоровенные баки с кипятком. На них даже так и написано: «титан». А на мне, если попристальней вглядеться, красуется: «чайник». Я ведь мог преспокойно покуривать, опираясь грудью хотя бы на спасательный круг, который висел на корме справа от меня. Или в одной из спасательных шлюпок, подвешенных за бортами, вместе с веслами и с «НЗ». Всегда и во всем надо выбирать местечко поосмотрительней. Плыл бы сейчас на шлюпке, если бы она вдруг сорвалась, да палил бы себе из ракетницы в Большую Медведицу или в Гончих Псов. Сразу б меня хватились!
Задним умом все мы — впередсмотрящие.
Уже и уставать стал. Зря думают, что моряки могут целыми сутками плавать. Одно дело — плавать, другое — жить в воде. Мне надо было жить. Плыви не плыви, никуда не приплывешь. К чему силы тратить, только время могло мне помочь. Я лег на спину, раскинув руки. Пока хватятся, пока разберутся, пока начнут искать… Лишь бы погодка не подкачала, иначе кранты.
Дети вспомнились… Жена не вспоминалась. Вероятно, потому, что всегда была против работы на «Богатыре» из-за моего долгого отсутствия дома. Видали фильм «Столь долгое отсутствие» (производство Франции)? Там один муж так долго где-то во время войны пропадал, что потом жена никак не могла признать: он это или не он. Моя жена, москвичка Ира, тоже сообщила в последней радиограмме, что уже забывать меня стала. Ничего, скоро вспомнит!..
Мерзнуть начал… Хоть и лето, и вроде тепло, а все-таки не в кубрике под одеялом. Угораздило… Позор! У нас еще такого никогда не было, чтобы опытный профессионал водолаз за борт выпал. Под водой-то его могли бы забыть — такое, говорят, случается. Но чтобы сам по себе… И во сне не привидится. Если спасут, засмеют на весь флот. Такая ржачка подымется — от Атлантики до Тихого! Кстати, Тихий океан по-английски — «Пасифик оушн». Отсюда, наверное, и возникло слово «пацифист». Тихоня, значит.
Теперь сами видите, какие дурацкие мысли лезут в голову, даже когда я лишь только вспоминаю о том происшествии. А тогда — каково?.. Это все байки, что перед угрозой неминуемой смерти человек невольно вспоминает всю свою жизнь, как стремительное кино. Лично я хотел спать, пить и есть — одновременно, и никакого кино судьба мне не показывала. Я так полагаю: раз я сейчас перед вами, то мое положение было не таким уж безвыходным. Потому, верно, и картины моей непутевой жизни перед мысленным взором не развернулись.
Внезапно я услышал какой-то тихий размеренный плеск. Неужели волна начала разгуливаться? Только этого мне не хватало.
Не переворачиваясь, я скосил глаза в сторону. Если бы я носил очки и если бы они были на мне, я бы их обязательно протер. Слева от меня, метрах в двух, резал воздух и воду нос какого-то корабля. Далеко вперед торчал бугшприт с косыми темными парусами, закрывающими россыпи звезд, а прямо под ним, на носу, угадывалась аллегорическая женская фигура. Она нахально выставляла грудь вперед, а верхушка фок-мачты перечеркивала луну. Такие парусники я раньше жадно рассматривал только на иллюстрациях в книгах и на картинах.
Я мгновенно оказался у борта, он вздымался своим выгнутым деревянным боком высоко вверх к пушечным портам. Я все ногти обломал о ребристые доски, пытаясь хоть как-то зацепиться за них. Артель «Напрасный труд»!.. Странно, что я не закричал. Парусный корабль неумолимо скользил мимо меня и мне не хватало немыслимых рук, чтобы обнять его весь и задержать.
И только, когда меня протащило вдоль всего парусника и я в отчаянии хрипло вскрикнул, сверху, разматываясь на лету, вдруг полетела бухта каната. Я мигом обвязался вокруг пояса, проволокся немного в кильватере от натяжения брошенного мне конца, и стал подтягиваться.
Я подтянулся впритык к корме, а затем еще — метра на полтора вверх. Взобраться же на самую верхотуру у меня просто не было сил. Я висел, беспомощно задрав голову. Тут только я заметил, что канат исчезал меж полуоткрытыми створками нижнего кормового окна. Не так уж и высоко было карабкаться, а все равно не мог.
Окно тускло осветилось изнутри каюты, в проеме показались две костлявые руки и принялись ловко подтягивать меня. Намертво вцепившись в канат, я поднимался, как ватный тюк, задевая плечами резные завитки кормы. Свободный провис каната цеплялся за выступы, и мне приходилось, из последних сил держась одной рукой, подбирать его слабину другой, как старинной даме — шлейф своего платья. Наконец показался подоконник, и я с трудом перевалился через него.
Передо мной в большой каюте, обставленной старинной вычурной мебелью, при зажженных свечах, стоял человек — человек ли? — в парике и в камзоле. У него было лицо мумии, высохшей по меньшей мере лет 200–250 тому назад, с неподвижными, застывшими глазами. Казалось, они были сделаны из пластмассы, как у куклы.
«Из воды да в огонь!» — мелькнуло у меня в голове. Выбирать не приходилось, второе в моем случае было все же получше.
— Гуд ивнин, — сказал я по-английски и поклонился. — Тэнк ю вэри мач фор сэйв май лайф! — Что означало: «Добрый вечер. Благодарю за спасение моей жизни!»
И, развязывая затянувшиеся узлы каната, машинально добавил по-русски:
— Моряк моряка видит издалека.
— Русиш? — прошамкала мумия, еле заметно шевеля выцветшими губами. Это было первый и последний раз, когда спаситель невольно поинтересовался моей персоной.
— Совьет русиш, — уточнил я.
На что он пробурчал, что таких-де не знает. А вот просто с русскими он, мол, был знаком в свое время.
Интересно, где то «время» осталось?
Мумия, помолчав, продолжила свои показания. Мы, мол, находимся не на английском, а на голландском корабле. Очень-очень старом. Можно сказать, бессмертном корабле.
Я спросил: в прямом или переносном смысле?
Он ответил: в переносном, потому что фрегат, мол, переносится из океана в океан черт его знает сколько, а может, и больше, лет. А сам он — бессменный капитан.
— Ввот зэ нэйм оф ер шип, тэл ми, плиз, кэптэн? — вежливо полюбопытствовал я. «Какое название у вашего корабля, скажите мне, пожалуйста, капитан?»
Он вяло махнул рукой и ответил, что название корабля для меня пустой звук, давно уж и медные буквы его отвалились и ушли на дно, но всему свету более известен сам капитан под звучным именем — «Летучий голландец».
— Как же, знаю! — оживился я, невольно перейдя на русский. — Слышал. Читал. Говорили.
По правде, знал я не больше, чем любой моряк. То есть почти ничего. Ну, корабль-призрак, с капитаном по прозвищу Летучий голландец и с мертвой командой, вечно носится по морям-океанам. И все.
Капитан, хоть и не понял, что я сказал, но оценил мои эмоции по поводу «Летучего голландца» и беззубо осклабился.
Я сразу хотел попросить его разыскать мой «Богатырь». Да было неудобно, человека только спасли, а он: хочу домой!.. Странно? Нет, я не о нашей встрече. Я уже давно привык почти ни чему не удивляться. Тут другое — совсем недавно мечтал: ах, лишь бы спастись, хоть как угодно! А спасли, еще что-то подавай. Желания рождают желания. Я решил выждать, поосмотреться, а там видно будет. Не хватало еще, чтоб я заявился к своим прямо на этом фрегате с командой жмуриков на борту. Представляю, какой бы переполох поднялся на «Богатыре»!
Капитан внезапно резко хлопнул в ладоши, словно прибил комара. Дверь открылась, и, скрипя костями, вошел — скелет. Я вздрогнул, к капитану я уже как-то привык. Клянусь, это был самый что ни на есть настоящий скелет, правда, в высоких дырявых сапогах. Сквозь него я мог различать блеклую позолоту узоров на панелях каюты.
Капитан что-то приказал ему на незнакомом языке. Очевидно, на голландском. Скелет послушно исчез за дверью. Летучий голландец любезно пояснил мне по-английски, что это был стюард. Ну, конечно, кто ж еще?
Забыл одну деталь: фигуры и капитана, и стюарда все время, с самого начала, казались как бы размытыми по краям, словно смотришь на них, вынырнув из воды.
Стюард проворно вернулся, неся поднос. На нем дымился кофейник с треснутым носиком, стояла чашка с отбитой ручкой и лежали горкой каменного вида сухари.
Капитан сказал мне, что кофе — старинный бразильский, а сухари — старо-амстердамские, их даже молоток не берет, можно только сосать. Сам он ничего не ест и не пьет, а команда и подавно, — тут он кивнул на стюарда. А для редких гостей у них всегда, мол, найдется запасец какой-нибудь завалящей провизии. Забирают кое-что с потерпевших крушение, брошенных судов.
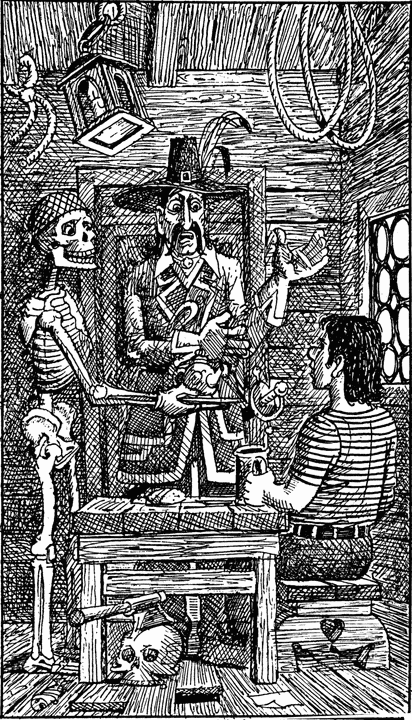
Я пил кофе — не знаю, бразильский ли, но по вкусу вполне желудевый, настолько старинный, — безуспешно пытался откусить хоть крошку от вечного сухаря, и кивал, внимая своему собеседнику. Он мне напомнил моего лэрда из шотландского замка, но этот старик был старей. Лэрд, тот был куда живее, в нем еще кипели страсти, бушевал протест против всего нового, правда, переходящий в заурядное стариковское брюзжание. А Летучему голландцу, по-моему, на все было начхать уже давно. Он и говорил-то скучным, монотонным голосом без всякого всплеска.
Хотя… Хотя иногда в голосе у него проскальзывала затаенная грусть, когда он перечислял достоинства своего фрегата: узловую скорость, парусное вооружение и суммарную мощность орудийных батарей: кормовой, двух бортовых и носовой дальнобойной пушки. Команда его состояла из пятнадцати скелетов, а ведь когда-то было тридцать два молодца! Но после известного события, — тут он смешался, — семнадцать матросов исчезли навсегда. Вместе с пассажиром.
Какого события?! С каким пассажиром?!
Он отрешенно ответил, что и сам не может раскрыть тайну. Она связана с каким-то преступлением… Эту так и нераскрытую тайну он, наверное, унесет в могилу, если вообще умрет и если примет его могила. И он и оставшиеся моряки обречены на бессмертие…
Такого бессмертия я бы и даром не взял!
Капитан продолжал бормотать:
— А пассажир… Пассажир был сущим дьяволом. С тех пор, как… И нас осталось пятнадцать. А пассажир уплыл на своей шлюпке, хохоча над нами. С тех пор мы ничего не едим и не пьем… Над нами проклятье… Если мы поймем, кто этот пассажир и куда подевались семнадцать матросов, проклятье снимется. Мы тогда уйдем на вечный покой от вечных скитаний…
В его сумбурном рассказе для меня стало что-то проясняться.
— Где вы этого пассажира подцепили?
— Мы подцепили его шлюпку в открытом море и подняли на борт… Говорил о кораблекрушении… Один только он спасся.
Вот тебе и средневековый юмор. «Подцепили» — понимает буквально.
— А что потом?
— Потом мы сбились с курса. Сломался компас. Три месяца — полный штиль… Кончилась еда… Хорошо, что исчезли семнадцать матросов, всем бы еды не хватило…
— Они исчезли до того, как кончилась еда, или после?
— После, — сказал капитан.
Тут в моем сознании вообще забрезжил рассвет. Правильно говорил великий Ломоносов: «…и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Быстроту разума у меня не отнимешь. Надо было только удостовериться в своих догадках.
— Сколько лет было тому пассажиру?
— На вид все пятьдесят. Может, пятьдесят один…
— Как он выглядел?
— Лысый, хромой, угрюмый…
— Но вы говорили, что он хохотал. До того, как исчезли семнадцать матросов, или после?
— После, — повторил капитан.
— А за что высадили пассажира вместе со шлюпкой опять в море?
— Мы не могли выдержать его сатанинского хохота.
— Сатанинского? — не поверил я своим ушам, мои догадки стремительно подтверждались. — Вы еще назвали его — сущим дьяволом?
— Ну, да. Я и своих матросов по-всячески обзываю. Я…
— И вы говорите, — непочтительно перебил я его, — что ваши мытарства начались после того, как взяли на борт пассажира: штиль, голод? После?..
— После, — прозвучало в третий раз.
— Ну, пусть эти семнадцать матросов умерли с голоду, погибли, исчезли, упали за борт, как я. Но ведь пятнадцать уцелело! Значит, вы что-то ели?!
— Что-то… — провел капитан сухой рукой по неподвижным глазам.
— Что???
— Не помню… Он хохотал над нами. Сущий дьявол…
— Да он же и был Дьяволом, кэп, — устало произнес я. — Самим Дьяволом. Без подделок. Лыс, хром, угрюм, сатанинский смех, — загибал я пальцы. — Он вам все это и устроил: и штиль, и голод.
Глаза Летучего голландца впервые шевельнулись в пергаментных орбитах.
— А где же те семнадцать?.. — тихо спросил он.
— Вы уже сами поняли, капитан… Вы их съели. Поэтому вы и выжили — для этой, — повел я рукой вокруг, — жизни.
С палубы послышался жуткий треск и грохот. В каюту влетел другой скелет, без сапог, зато в ветхой матросской шапочке, и заклацкал зубами над ухом капитана. Тот что-то приказал ему, и матрос заковылял прочь.
— Упала грот-мачта, — за спокойствием капитана чувствовалось неизъяснимое волнение. — Корабль разрушается. Такого еще никогда не было, это добрый знак. Видимо, вы оказались правы, черт побери!
— Только, пожалуйста, без чертей, — запротестовал я, выставив ладони вперед. Только их мне еще не хватало!
— Это меня, верно, и подвело. Проклятая привычка к ругани! Обзываешь, кого попало, дьяволом, чертом, сатаной, не понимая, что, может, именно с кем-то из них и столкнула тебя судьба, — он как-то ожил, если можно применить к нему это слово.
С палубы по-прежнему доносился зловещий треск.
— Значит, дьявол все-таки существует… — пробормотал капитан. — Тогда, конечно, и Бог есть?..
— Если уж есть Летучий голландец, то почему бы не быть и… — не договорил я. — Неверие вас и погубило, капитан.
— Зато вера меня спасет. — Капитан торжественно встал.
Я тоже встал. Треск и грохот за дверью каюты усилились, заколыхались ветхие бархатные драпировки. Больше всего на свете мне хотелось сейчас драпануть на палубу, схватить какую-нибудь надежную доску и кинуться в море, пока не поздно. Но это было бы не к лицу русскому моряку перед древним собратом — голландским моряком!
— Да поможет нам Бог, — прошептал капитан. Я выжидающе смотрел на него.
— Чего вы ждете? — вдруг резко спросил он.
— Вашего приказания, капитан.
— Сейчас…
За дверью каюты наступило затишье, которое показалось мне зловещим.
— Сколько ж мы плавали?.. Забыл спросить, какой сейчас век? — сказал капитан.
— Двадцатый заканчивается…
Он принял этот удар мужественно, пробормотав только, что с начала семнадцатого века довольно-таки немало воды утекло. И это, мол, лишнее подтверждение тому, что Высшие силы не выдуманы. Человек-де не может столько времени жить, и тем более — плавать.
Общение со скелетами, очевидно, не напомнило ему о том, что Высшие силы не дремлют. За триста лет он попривык к своей команде, она «старилась» у него на глазах. Так и мы привыкаем к своему каждодневно умирающему в зеркале лицу.
— Войны еще есть?.. Впрочем, видел во время скитаний, — отмахнулся он. — Выходит, дьявол все еще жив. А раз так, то сдержит свое слово. Когда он, хохоча и бешено работая веслами, кружил на прощание вокруг нашего обреченного корабля… Да, именно тогда он сказал, что у того, Кто раскроет нашу тайну, исполнятся три желания. Любые! Ну?
Вновь донесся треск — на этот раз снизу, из трюма. Раздумывать было некогда, надо было спешить.
— А вам я не могу ничего пожелать?
— Нет, — сурово ответил Летучий голландец. Была — не была!
— Первое — чтоб я благополучно попал на свое судно. Второе — чтоб там никто не знал или забыл, что я выпал за борт. Третье — чтоб я всегда сухим из воды выходил!
И не успел я прикусить язык, вспомнив, что Летучий голландец все понимает буквально, как оказался на том же самом месте, откуда свалился в море, — на корме «Богатыря».
Стояла ночь, светила луна, мерцали звезды.
Вставка поручня, с которой я выпал за борт, была на месте. Я даже подергал ее — держится крепко. Но на всякий случай отошел поближе к спасательному кругу.
— Люблю я тихую украинскую ночь… — послышалось за моей спиной.
Я обернулся:
— Это ты?..
Позади стоял, потягиваясь, боцман Нестерчук. В шлепанцах. Молодец!
— Гоголь, — зевая, ответил Нестерчук. — Это Гоголь сказал.
— Какая ж она украинская?
— Теплая, — вздохнул он. — Тут тебя искали что-то, хотели спросить… Не помню.
«Вот и второе желание сбылось», — подумал я. И все-таки грызло сомнение, вдруг мне «такое-этакое» только причудилось в эту тихую украинскую ночь.
— А чего ты так вырядился? — внезапно уставился на меня боцман.
Я недоуменно оглядел себя. Батюшки! Да я же еще на паруснике, по любезному предложению капитана, переоделся в сухое платье: на мне был залатанный камзол с рыжими медными пуговицами и штаны, с подвязками, до колен.
Я промямлил что-то о репетиции корабельного драмкружка. Забыл переодеться, что — не бывает?
— Бывает, — снова зевнул Нестерчук и ушел.
Я поскорее разделся до трусов и швырнул одежку в океан. Антикварную одежду XVII века! Если б я ее, дурень, сохранил и в Большой театр предложил для оперы Вагнера «Летучий голландец», наверняка бы вернул необходимую сумму для покупки навеки утраченных французских туфель, которые ко мне так и не вернулись.
Откуда я знаю про Вагнера? Утром в «БСЭ», Большой Советской Энциклопедии, прочитал. Пошел в корабельную библиотеку и просветился. Ну, что там сказано?.. «Летучий голландец — легендарный образ капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю, никогда не приставая к берегу…» Наизусть запомнил. Там еще говорится, что капитан был осужден (кем?..) за безбожие. Корни легенды восходят аж к XV веку, а в XVII веке летучими голландцами, мол, называли некоторых знаменитых голландских мореходов, пропавших без вести.
В общем туманная информация. Да и что говорить? Сам капитан толком ничего не знал, пока я до истины не докопался и глаза ему не раскрыл. Что касается путаницы в веках: то XV, то XVII век — несущественно, в мире все повторяется. Ту же Америку, например, еще раньше Колумба, утверждают, открыл какой-то варяг-скандинав.
Жаль, понятно, что я невольно поспособствовал кончине легендарного парусника — теперь его днем с огнем не найдешь, осиротели океаны. А капитана с командой не жаль? Три века мучались! И если б не я, конца бы их странствиям не видать.
Я чувствую, вас томит любопытство, как там с третьим желанием. Я всерьез опасался: вздумаю искупаться, а потом пристанут с назойливыми вопросами, почему сухим из воды вышел. Пришлось тайную проверку устроить. Ан нет, все, как у людей, оказалось. Мокрый! Значит, Летучий голландец не таким уж был простаком и далеко не все понимал буквально.
Думаете, почему мне всегда везет — в любой переделке?
Вы, конечно, можете возразить: мне, мол, и раньше везло. Так ведь это давняя история. С нее, может быть, и следовало бы начать рассказ о всех моих похождениях. Но мне не до хронологии, я не летописец. Что вспомню, о том и говорю.
И еще — когда меня бабушка в церкви крестила, то сказывала потом моей возмущенной маме-атеистке:
— Бог не выдаст, свинья не съест.
СТОЛОВАЯ НА МОХОВОЙ
Человек еще мало себя знает. Вернее, совсем плохо знает. Поэтому и поражается чудесам так называемых экстрасенсов. Вернее, тех, кто себя за них выдает. Один англичанин Геллер якобы усилием воли часы Биг Бен на лондонской башне парламента остановил. И подтверждение тому имеется: он, дескать, давно какому-то приятелю в письме написал, что собирается это сделать. Правда, ни день ни год не уточнял. А когда часы вдруг стали — не вечные же они! — заявил: моя работа. Потом еще, выступая по телевизору, попросил всех зрителей взять старые, давно не идущие часы, завести их, а он скомандует, чтоб они шли. Ну, и, конечно же, из миллионов, казалось бы, сломанных часов и пошли тысячи. Так и должно быть — недаром же он говорил, чтобы их завели. А те, что на батарейках, ручаюсь, ни одна не заработала.
У меня у самого как-то собралось штук пять молчащих механических часов, года три валялись без дела. Когда они, наконец, попались мне на глаза, я их завел, и пара из них бойко затикала. Причем без помощи Геллера, мы тогда о нем слыхом не слышали.
Или вот наши медицинские кудесники, что лечат весь народ по телеку, а потом зачитывают письма и телеграммы о том, как они здорово помогли безнадежным больным. Стыдно смотреть — дурачат. Есть же закон больших чисел: из сотен тысяч больных каждый день — подчеркиваю, каждый день, а то и час! — десятки людей обязательно выздоравливают, лечились ли они, или нет. Но сотни же и умирают. Так было всегда, во все времена, когда еще и телевидения на свете не было. Врачи-кудесники заслугу в выздоровлении кого-то себе присваивают. А покойников на чей счет отнести?!
Явное надувательство, да простят мне те, кто в это верит. Верьте себе на здоровье! Вера всегда помогает. Я хочу сказать о другом: в каждом из нас скрыты такие возможности совершать Удивительное, что мы даже и не подозреваем. К счастью или не к счастью, мы не можем произвольно — я, мол, так хочу! — использовать этот необыкновенный дар. Но иногда он вдруг так ярко проявляется, что мы потом сами диву даемся: неужели подобное возможно?..
Однако для этого необходимы исключительные условия. Не только внешние обстоятельства — они тоже очень важны! — но, главное, и наше внутреннее состояние, особый настрой. Потому-то искренняя вера и творит подчас чудеса. Хотя история, о которой я расскажу, к проблеме веры не имеет отношения.
В моем случае главную роль сыграли именно мой душевный настрой и внешние обстоятельства. И уж, скорее, я не верил, чем верил, в то, что могло произойти. Меня вдруг подхватило и понесло, когда как бы совпали и настроение, и погода, и само место, и… и… Всего не перечислишь.
Лет пятнадцать назад, когда я еще жил и работал в Курске, то ездил, бывало, в Москву на субботу и воскресенье. Одна ночь поездом — и в столице. Собственно, я и жил-то каждые пять дней недели только для того, чтобы провести выходные в Москве. Ну, правильно. Конечно же, я ездил из-за девушки! А вы думали, в музей Революции?
Поскольку я хорошо зарабатывал, как вы уже знаете, в фотоателье на кладбище, приятелей у меня в Москве была тьма. С ночлегом никаких проблем, никогда в гостинице не останавливался. Всегда временные друзья приютят, тем более я не избалованный, могу даже под кроватью спать или в передней на коврике с каким-нибудь Полканом в обнимку. Одно время с «бомжами» ночевал на чердаке, тогда их называли проще — бродягами. Почему не в гостинице?.. Время дорого. Пока устроишься, день пролетит. Да и на лапу давать не умею, с души воротит. Вдобавок у меня самого натура бродяжья.
Так вот, с некоторых пор я стал завтракать, обедать и ужинать только в одном месте — в студенческой столовой на Моховой. Рядом с главным входом в старый университет, в правом крыле. Блеск — столовая! Дешево и вкусно кормили, а, может, моложе был — оттого и аппетит отменный. И пиво всегда в буфете было. Не какое-то простецкое «Жигулевское», а «Рижское», «Мартовское» и даже «Двойное золотое» — в коричневых и витых, как купола Василия Блаженного, бутылочках по 0,33 л. Сейчас названия этих марок пива звучат лишь погребальным звоном по былому.
Почему я завтракал, обедал и ужинал именно там? Да уж не потому, что зациклился на дешевом трехразовом питании. Просто рассчитывал встретить… Ясно, кого. Однажды увидал ее, а подойти не осмелился. Так и не познакомился. Думал, снова застану там. Решил, что она в МГУ учится или работает где-то рядом.
Попал я тогда в столовую на Моховой случайно. И не знал раньше, что в самом центре Москвы есть такое замечательное заведение. Пускали туда по студенческим билетам, если верить строгому объявлению за стеклом двери, но на деле пропуском служил лишь возраст приходящих. Молодой — значит, свой. Сейчас бы меня туда, наверное, не пустили. Шлагбаум возраста!
Где-где?.. Неужели не знаете? Если идти со стороны улицы Горького… Дай Бог памяти! Университет начинается, боковое крыло выходит прямо на тротуар, а дальше тянется кованая ограда, за ней скверик, в глубине скверика — главное здание с белыми колоннами. Ну?.. Если свернуть за воротами в ограде вправо, там и вход в столовую.
Закрою глаза: прохладное солнце, октябрь срывает и лепит желтые листья к ярко-желтому фасаду. И Она — в желтом же плаще, туго перехваченном в талии. Лет семнадцати — сероглазая, курносая, конопушки, косы, шарфик, пуговки, туфельки, — замри на месте. Я и замер, глядя сквозь решетку ограды, как она идет к двери столовой… Затем я очнулся, свернул в ворота и последовал за ней.
Почему я оказался около старого МГУ? Просто бесцельно гулял по Москве.
В столовой я машинально занял очередь за пивом в буфет. Она сидела одна, позади шумной компании студентов, у самой стены, перекинув свой плащ через спинку стула. Может, она кого-то ждала? Ведь это была столовая самообслуживания. Я глупо продвигался по очереди и никак не решался подойти к девушке. Мы встретились глазами, и я, как заколдованный, не смог отвести взгляда. Тогда она, забавно махнув косами, пересела ко мне спиной. Верно, ее смутила моя назойливость.
Я так и не подошел. И у выхода ждать не стал. «В другой раз», — успокаивал сам себя, уходя прочь.
Вот ведь, и женат, и двое детей, а до сих пор забыть не могу. И не хочу. Не желаю. Столовая на Моховой стала для меня как бы символом моей юности. Точнее, молодости: ни моей, ни твоей, ни его — ничьей. Просто молодости. Словно она осталась только там — с белозубыми улыбками, смехом без причины, спорами, хохмами, зверским аппетитом. Почему — там?.. На Моховой все мы были молоды, до единого, а в обычной жизни все возрасты вперемежку; Мне возразят: а школа, а институт или техникум?.. Отвечу: у вас, что ли, школа вызывает такое чувство? Школа — это обязаловка. Ну, а в институте я не учился, техникум окончил заочно, а про службу на флоте лучше не говорить. Так что моя молодость осталась в той студенческой столовке. Студентом не был, но с барского стола ел.
Я ходил в ту столовую на Моховой, оцените мое упорство, чуть ли не целый год, каждую субботу. По воскресеньям она не работала. Понятно, я заходил туда уже не три раза в день, но хоть разок улучал забежать. Но моей незнакомки, увы, и след простыл.
Мы еще вернемся к этому «следу». Я над всем этим долго думал. Трудно выразить подсознательное, потому что для определения того, что мы только нащупываем, нет еще слов…
Девушка больше не появлялась. Может, она приходила в другое время? Так ведь и я целый год заходил в разное время, то утром, то днем, то к вечеру. Наши пути обязательно бы пересеклись. Оставалось лишь сделать вывод: она, как и я, приезжая. Она тогда была без подруг, одна, — значит, не университетская. Хорошо одета, так сказать, во всем выходном; студенты выглядят попроще. Да и москвичи обычно не обедают в столовках, они на маминых харчах.
Нет, явно приезжая. Взгляните как-нибудь на провинциальных девушек, когда они, цокая копытцами, выходят на перрон из поездов дальнего следования. Словно на танцы нарядились. Приезжих девушек в Москве отличить легко: либо с иголочки одеты, либо — как беженцы. Ну, тут еще зависит, откуда приехала, из города или деревни, большого города или маленького, столичного — все-таки у нас пока пятнадцать республик — или рядового. Я говорю только о девушках. Москвичек — тех другое отличает. Какой бы модницей она ни была, но обязательно небольшой штрих выдаст ее с головой. Либо сумочка потертая, либо каблучки поцарапанные, либо на драгоценной дубленке разошедшийся шовчик самодельно зашит нитками. Москвички — у себя дома, а дома мелочами пренебрегают. По тому же принципу легко отличить наших от местных и за границей — там сами москвички становятся как бы приехавшими из провинции в столицу: все на них безупречно.
Почему меня занимают эти мелочи… Для меня они не были мелочами. От этого зависело — ходить ли по-прежнему в столовую на Моховой, или, может быть, шататься по всем московским вокзалам, надеясь на авось. Помните старый фильм «Девушка без адреса»? Там артист Рыбников высчитывал, сколько лет понадобится, чтобы обойти все московские квартиры подряд в поисках незнакомки. Мне и это не светило, в таком случае мне надо было бы обойти подряд все квартиры всей страны.
Через год я рассуждал так: что мы имеем? Определенно, она не студентка МГУ. Если б не в столовой, то в скверике перед университетом я б ее обязательно встретил. Со мною уже начали здороваться, настолько я примелькался. Девяносто девять процентов против одного, что она и не москвичка. Как я уже говорил, москвички по случайным столовым не ходят. Вот оно — «случайным»! Куда и откуда она могла идти по Моховой?.. Из «Националя»? Отпадает. В Библиотеку имени Ленина? Глупо, туда с утра ходят, а не в обед. И потом, там — впритык, как говорится, одноименное метро, проще на нем добраться. В соседнее университету здание — в «Приемную Верховного Совета» с какой-нибудь жалобой мамы-папы? От метро у библиотеки и туда тоже ближе. А вдруг не в «Приемную…», а из «Приемной…», скажем, в сторону улицы Горького?.. Нет, с жалобами ходят, чтобы разжалобить, и одеваются победнее, а не как в театр. Уж родители бы проследили, продумали все детально. Когда у меня отчим в тюрьму сел, я в ту «Приемную…» не то чтобы в бабкиных галошах на босу ногу ходил, но и не в хрустальных туфлях.
Я сказал: не в театр. Так, театры, концерты, выставки… Прямое попадание — Манеж! Стоит наискосок от столовой. Как сказал бы кретин полковник Шнейдер из бессмертного «Швейка» (недавно, наконец, прочитал): Центральный выставочный зал потому и называется выставочным, что в нем проводятся выставки. Выставки, а не спортивные лотереи, дубина!
Ну и что теперь мы имеем?.. Она побывала на выставке, увидела столовую напротив и зашла. Итак, искомый центр найден. Москвичка не москвичка, а все они на выставки ходят. Побывала на одной, придет на другую, на третью… По вокзалам мне бродить не надо, уже легче.
Теперь вероятность встречи была больше, можно было даже высчитать. Достаточно одной знаменитой выставки, и действовать в первое же воскресенье. Прийти загодя к открытию кассы и инспектировать очередь с утра до вечера. Проще пареного. Пара пустяков.
Это сейчас кажется, что пара пустяков. А я до этого год своим умом доходил.
Все равно ничего не вышло…
Так продолжалось еще с год. Я изучил — снаружи! — все выставки, какие были, начиная со всесоюзной живописи и кончая художниками Подмосковья. А на выставке чешского стекла даже побывал, но дальше чешского бара, сразу за входом на втором этаже, не пошел — выдохся, мотаясь по очереди на площади. Стекло, правда, впечатляет, там подавали крепкие коктейли в небольших разноцветных рюмках и слабые пунши в высоких красивых фужерах. Я того и другого из любопытства, с горя, испробовал изрядно. Чех-официант даже заинтересовался мной: сколько ж в меня может влезть, — он, мол, готов угощать за свой счет. После восьми крепких он передумал и поспешно со мной распрощался. «Приходите еще», — приглашал он, явно кривя душой. Я был трезв, как стеклышко. Не брало.
С тех пор прошло пятнадцать лет. Женился, жил в Москве, дети росли… И вот однажды днем, в октябре, случайно оказался у входа в Манеж. Было воскресенье, ходил к приятелю художнику в мастерскую на Калининском, не застал, захотелось побродить по старой Москве.
Стоял я у Манежа и смотрел на университетский скверик, на вход в столовую… Я стоял на теневой, холодной стороне и ощущение зябкости усиливалось, оттого что там, напротив, все заливало солнцем… Срывались желтые листья и лепились к желтому фасаду… Доносились молодые голоса, смех…
И все прошлое вдруг вновь возникло во мне. У меня было такое состояние, что вот сейчас, сейчас, сейчас… Я качнулся. За кованой оградой мелькнул желтый девичий плащ… И я побежал.
Желтый плащ скрылся в столовой. Я влетел туда, бабка не остановила меня на входе.
Все вспоминается как-то отрывисто…
Она!.. Плащ переброшен через спинку стула.
Я!.. В короткой куртке нараспашку.
Мы!.. Умоляю: «Дайте мне свой телефон!»
Она!.. Растерянно моргает, даже оглядывается. И вот, держа тонкими пальцами шариковую ручку в отставленной руке, пишет цифры на непослушной салфетке.
Я! — Замечаю, что номер семизначный. Московский.
Она! — «Оля».
Я! — «Валерий! Валерий!» — как глухой. Мы! — «Очень приятно… Очень приятно…» Кто-то! — «Эй, в курточке, — кричат от буфета. — Твоя очередь!»
Расталкивая всех, зачем-то кидаюсь туда, за что-то плачу, оглядываюсь.
Она, не вставая, высоко поднимает руку, то ли приглашает меня за свой столик, то ли прощается со мной, но не насовсем, а до новой встречи, что ли…
Что она хотела сказать этим жестом?
Почему я иду к выходу? В треснувшем стекле внутренней двери отражается мое молодое щенячье лицо с моими первыми, модными еще когда-то, усиками шнурочком.
Все обрывается.
…Я стоял у входа в столовую, в своем длинном сером плаще, и глядел на телефонный номер на салфетке. — Батя, где брали?
Спрашивает баском юный студентик, спрашивает у меня. Я перевел взгляд на другую руку. В ней — выкрутасного вида бутылочка «Двойного золотого».
— Это пиво, да? Где брали? Здесь? — начинал сердиться студентик.
— Такое давно не выпускают, внучек, — придя в себя, ответил я с высоты своего 35-летнего возраста.
Я присел на скамейку. Все вокруг, казалось, было по-прежнему, но чувствовалось, что все не так, как несколько минут назад. Я откупорил бутылку и медленно вылил пиво на газон. Словно боялся, что, ощутив «Двойное золотое» на губах, вдруг снова вернусь в прошлое.
Затем скомкал салфетку и бросил в зеленую урну.
— Если бы ты так упорно не искал ее целых два года, — кашлянув, сказал толстяк Федор, — вы бы не встретились, да?..
— И если б не был октябрь и если бы мне не было зябко в тени от одного лишь вида, что на той стороне солнце… — задумчиво пробормотал Ураганов.
— Напрасно не позвонил, — покачал головой кучерявый детина Глеб. — Иные женщины и в тридцать с лишним не слабо смотрятся.
Валерий ничего не ответил. По-моему, он досадовал на свою болтливость.
— А может, она в самой столовой работала… — внезапно сам себе тихо сказал он.
Ураганов продолжал свои поиски.
МЫСЛИ — НА РАССТОЯНИЕ
Лежал я как-то в больнице… Не буду называть, в какой. А то потом прочитают и еще обидятся. Вон показывали по телевидению, как даже Председатель Совета Министров на одного депутата обиделся. А что тот сказал? Да ничего такого, причем корректно и лишь слегка не взвешенно. Медики же — исключительно обидчивый народ. Особенно им не нравится, что смертность у нас на высоком уровне. Ладно, на высоком, многие народы мы тут опередили, — соглашаются медики, — но зачем раскрывать? Чего ж вы еще, мол, хотите при бесплатном лечении?!
Это ведь у нас родилась пословица: чтобы лечиться, надо иметь хорошее здоровье. Ну, в нашей-то палате подобрались люди не безнадежные, крепкие, включая и одного старикана. С виду гриб-мухомор, а на самом деле жилистый, как телефонный кабель в свинцовой оболочке, — по сто раз может от пола руками отжаться. Но пока не хочет. «Пока, — говорит, — гланды не удалят». У нас все на удаление гланд лежали. Я тоже решил от них избавиться, ангины вдруг от сырой работы измучали. Корабельный врач Гайдукевич так и заявил: не вырежешь, ревмокардит схлопочешь, а тогда прости-прощай водолазная служба!
Нетушки, дураков нет любимое дело зазря терять.
Компания у нас собралась небольшая — четверо: тот гриб-мухомор, один спившийся ханыга, студент-физик и я, конечно. Сами знаете, в больнице о чем только не травят со скуки. Особенно воображение больных занимает, понятно, медицинская тема: кто лечит, что, где и за сколько. А уж если спор зайдет, крик как на толкучке.
Переплюнул всех гриб-мухомор, он одному знахарю за удаление гланд нехирургическим путем, по таиландскому методу, кругленькую сумму отвалил, а потом целый год, разинув рот, в зеркало смотрел: исчезают ли?.. Так и остался при своих, разиня. А того знахаря за другие дела уже посадить успели.
Ну, Бог с ними, с болезнями! Другим, более интересным занятием у больных были рассказы про удивительные случаи, приключившиеся с ними ли самими, или с их знакомыми, или услышанные в долгой электричке, на рыбалке, на пьянках…
Гриб-мухомор, тот «оченно» (его словечко) любил заправлять о потусторонних силах. Сам он был родом из Полесья и, если верить его словам, то еще с пеленок водил дружбу с ведьмами, лешими, домовыми. И даже с вурдалаками — те шастали челноком из-за кордона. Русского языка они не знали, объяснялись почему-то знаками. Вся эта нечисть вечно обманывала, надувала, обмишуривала и оставляла на бобах нашего старикана в любом его возрасте. Судя по разорительному знакомству с недавним знахарем, этому можно поверить.
Я соседей не обижал, у меня-то есть что порассказать, больше слушал.
Ну, студент-физик, сопляк еще, в основном на научное нажимал: какие необыкновенные открытия он сделал, делает и сделает. Формулами сыпал, миражи расцвечивал, туманы напускал. Хвастался, что в Штаты его по студобмену посылают учиться — сами американцы, дескать, прослышав о его научных заслугах, приглашают поработать в области радиоастрономии, чтобы побыстрее нащупать во Вселенной голоса внеземных цивилизаций.
— Во-во, — хмыкал ханыга, — я и без всякой твоей астрономии такие голоса с похмелья слышу, что и не выключишь — подлые!
До того его студент своей похвальбой распалил, что ханыга однажды не выдержал и вскинулся на кровати:
— Нет, не могу больше молчать! Слушайте, раз такие умные… Сам я сварщик высшего разряда, до сих пор в тресте помнят, каким замечательным специалистом я был. Но после смерти жены стал зашибать и пошел себе под уклон. Наутро руки трясутся, не могу ровный шов положить. Уволился… А как уволился, так и давай отовсюду увольняться, где б ни устроился, пока не докатился до грузчика в винном магазине, там и сейчас трублю. В больницы не раз попадал, понаоткрывали во мне кучу болезней, но главное, что обнаружили во мне в одной из больниц, это…
Он замолчал, а потом снова решился.
— Ну, так слушайте! — повторил он. — Небось не выдадите, да и дело это прошлое, не посадят за разглашение, — туманно успокаивал он сам себя.
— Времена не те, — поддакнул я.
— Во-во! — расхрабрился он. — Нынче закрытых тем нету. Вовсю копают. Глядишь, и меня раскопают.
— На кладбище, — хихикнул гриб-мухомор.
— Тебя быстрее зароют!
— Еще чего! — обиделся старикан. — Да я вам всем назло еще больше от пола отжиматься буду, я вас всех переживу!
— Живи-живи, дедуля, — успокоил его я.
— Живи и давай жить другим, — внушительно произнес бывший сварщик. — Вари шов вкрутую, как яйцо, и заваривай крепко, как чай.
— А ты мой чай пил? — вновь оскорбился гриб-мухомор. — Я всегда крепко завариваю, аж сердце у бабки колотится.
Еле мы их примирили. И ханыга, поломавшись для виду, продолжил свой рассказ.
Значит, так. Одно время он совсем не работал — злостно тунеядствовал. Гулял вовсю, жил, как хотел, пока все нажитое не спустил. С новоселья и началось. Выселили его из комнаты в старом доме под снос на Каляевской и дали отдельную малогабаритку в Теплом Стане, зато без телефона. И даже автоматов на улицах нет — во всем микрорайоне. Ждите, говорят. Всех дружков-соседей тоже расселили по разным бестелефонным районам. А по утрам голова трещит, хорошо бы с корешками созвониться, встретиться в родных краях на Каляевской, скинуться, достать чего-нибудь, дернуть и потрепаться всласть. А как тут дашь им знать?..
И однажды, с утра пораньше, стал он их мысленно созывать: «Колька, Сашка, давай встретимся сегодня в девять у нашей пивнушки на Каляевской!» Ну, в той самой, знаете, что почти на углу Каляевской и Садового была? Тоже вскоре снесли.
И что же? Оба дружка еще раньше него пришли к пивной и чин чинарем заняли очередь перед открытием. Обрадовались, друг дружку по плечу хлопают! Вот так нечаянная встреча!..
Наш сварщик, разумеется, и думать забыл, что на встречу их «вызывал». Мало ли чего человек сдуру пожелает, а затем вдруг — нате вам — и сбывается. У кого такое не бывало?..
Повеселились на славу. Не помнит, как домой вернулся. И на утро запамятовал: где же они сегодня встречу намечали и во сколько. Но человеческая память особо устроена: можешь с ходу забыть, что вчера вечером было, зато отлично помнишь то, чему лет двадцать прошло. Сварщик неожиданно припомнил, что вчера утром он им, так сказать, мысленным телеграфом сообщил — когда и где встретиться. А что если та встреча вышла вовсе не случайной! Может, опять попробовать?..
На сей раз он «назначил» дружкам явку в отдаленном, малоупотребляемом объекте, в так называемых «Рогах и клыках». В этой, тоже стоячей, пивнушке, возле метро «Новокузнецкая», где на стенах висели оленьи рога и кабанья голова с желтыми от никотина клыками.
И будьте любезны! Оба дружка, Колька и Сашка, поджидали его в «условленном» месте в «назначенный» час. Он осторожненько повыпытывал у них: может, и впрямь они здесь встретиться договаривались? Ведь мысль о «Рогах и клыках» возникла у него неспроста: сам себя проверял. Но дружки ответственно заявили, что на сегодня они вообще не договаривались о встрече.
— Так чего ж вы пришли сюда? — вскричал он.
— Да я подумал… — замялся Сашка.
— Я тоже, — кивнул Колька, — подумал.
— Что подумали? — настаивал сварщик.
— Что хорошо бы здесь… Тут пиво не балованное! — сказали дружки.
Слово за слово, и сварщик таки выяснил, что примерно часиков в семь утра каждый из них получил от него «сигнал не сигнал», а как бы весточку в мозгу: давай, мол, во столько-то встретимся там-то. Они еще удивились, что в «Рогах и клыках», да они тут вечность не были — месяца два. Каляевская-то привычней.
Потом сварщик не раз свою неожиданную способность проверял, пока не привык. Дружки всегда являлись вовремя, куда он хотел. Никто никогда не опаздывал, это тебе не на работу.
Через месяц загула попал сварщик в психиатричку. Ну, порядки там, известно, тюремные. И тоже телефона нет. Зато психиатров, как милиции в Кремле.
Попался сварщику молодой врач. Как сейчас помнит, Геннадий Васильевич. Он диссертацию готовил и поэтому любил с пациентами по душам поговорить.
— Нет, ты выложи мне самое потаенное, — требовал он. — Ты мне наизнанку вывернись. Душу свою покажи. Все, что от нее осталось!
Устал он вскоре от мрачной души сварщика и сказал:
— Ну, хорошо. Подлечим мы тебя, выпишем. Как жить станешь? Будешь ли жить по-новому?
Сварщик горячо заверил его, что жить по-новому будет, что станет теперь своих дружков, Сашку и Кольку, мысленно вызывать не в пивную, а в театры, в кинотеатры…
— В Театр-студию на досках, — вспомнил он рекламу.
— Почему — на досках? — механически спросил Геннадий Васильевич, хотя задумался совсем о другом.
— На деревянном полу, значит. Не на мраморном, — нашелся сварщик.
— Вот вы сказали, что будете мысленно, — подчеркнул врач, — дружков вызывать… Расскажите поподробней.
Сварщик и рассказал. Так, мол, и так. Все начистоту выложил.
— Выходит, вы можете мысли на расстояние передавать? Я вас правильно понял?
— Поняли правильно, — четко, по-космонавтски ответил сварщик. — Слышу вас хорошо.
— Чего-чего?
— Это я так, — смутился он.
Если бы сварщик угодил на опытного врача, ничем бы дело не кончилось. Но молодой Геннадий Васильевич вдруг горячо заинтересовался и решил устроить проверку. Он потребовал назначить дружкам встречу на завтра в десять у пивного бара в Новогиреево, где жил сам и где ни сварщик, ни Сашка с Колькой, по клятвенному заверению пациента, никогда не бывали.
— А вот в люберецком баре мы были, — оживился сварщик. — Про люберов слышали?.. Приносит нам официант литровые длинные кружки. Я из таких никогда раньше не пил! Сидим, пьем. А официант опять к нам: чего, кричит, из кувшинов хлещите? Трудно дождаться, пока стаканы принесу!
Геннадий Васильевич его прервал:
— Так ты назначишь им встречу, как я велел?
— А вы отпустите меня туда на часок, а?
— Отпущу, отпущу. Ну?
Сварщик наморщил лоб.
— Ну? — нетерпеливо повторил врач.
— А! — отмахнулся сварщик. — Каждому сообщил по отдельности, — и загадочно пояснил: — Думать — не трудно. Трудно — не думать.
Врач попросил его описать внешность дружков, Сашки с Колькой, и, грубо нарушив обещание, временно посадил своего подопечного в изолятор для чистоты эксперимента: чтоб наш мыслитель никоим образом не мог передать на волю сообщение.
Геннадий Васильевич, вероятно, рассуждал так: хотя телефонов у дружков, возможно, и нет, но адреса обязательно есть. Вдруг подопытный накатает им письмецо и кинет в окно любому прохожему. Впрочем, на окнах — железные сетки, да и конверт нужен. Но сварщик может его у кого-нибудь выпросить и даже передать письмо с кем-то из служащих. Однако, это запрещено. А если кто-то нарушит?.. Или пациент вдруг прокричит сообщение сквозь сетку за форточкой кому-нибудь на улице, чтобы передали дальше по телефону, если тот все-таки есть, или по адресу. А вот в изоляторе он ничего этого сделать не сможет! — так, наверное, успокаивал себя врач, досадуя на то, что отправил спокойного больного в «камеру» для буйных. Ведь Геннадий Васильевич, судя по рассказу сварщика, был мягкий, добрый человек.
Стоит ли говорить о том, что на следующий день врач легко нашел по приметам дружков пациента у пивного бара в Новогирееве. Пришлось даже передать привет от сварщика. Они, конечно, рвались навестить его, но врач строго предупредил о запрете свиданий и наотрез отказался передать гостинец. Известно, какой.
— Когда его ждать? — спросил Сашка.
— Скоро выйдет.
— А точнее? — крикнул вдогонку грубый Колька.
— Он сообщит, — машинально откликнулся врач.
Из того изолятора он освободил сварщика тут же, как вернулся. Передал приветы, выслушал восторженное: «А вы не верили!», и надолго задумался. Действительно, все сошлось. Никакого сговора не было и не могло быть. Точку и время встречи выбрал он сам. Так что и речи нет о том, что именно новогиреевский пивбар — излюбленное место, где дружки сварщика гужуются постоянно, изо дня в день.
Что делать? Открытие важнейшее! Способности выдающиеся! Но ни к теме диссертации, ни вообще к медицине никаким боком этого сварщика приставить невозможно. Разве что нейрохирургия могла бы заняться им, да и то после смерти, чтобы покопаться в мозгу и проследить, как там соединяются цепи нейронов. (Ураганов признался, что иногда почитывает журнал «Здоровье», который выписывает жена напополам с подругой.) Можно, конечно, использовать этот неожиданный талант в цирке, в военной области… Стоп!
Геннадий Васильевич подумал, да и брякнул военным. Его внимательно выслушали, попросили написать обо всем в трех экземплярах и хранить молчание. Он сделал, о чем просили. Написал. Хранил.
Военные молчали с неделю. А потом разом нагрянули, как обвал, и куда-то увезли мыслителя. Видать, врач хранил молчание плохо, иначе откуда сварщик знает, что тот делал.
Сварщика увезли в… Он три подписки дал о секретности. Первая — что не запомнил то место, куда его привезли с завязанными глазами. Вторая — что не «выдаст» званий и должностей тех людей в штатском, которые с ним проводили эксперименты. И третья — что он забыл название того океана, который ему указали на карте (заграничный океан, не наш!), чтобы он мысленно послал сообщение на подводную лодку. Тут одной подпиской о неразглашении никак не обойтись.
Но еще, до того сообщения на подлодку, немало погоняли дружков, Сашку с Колькой, по всей Москве. По всем пивным залам. Единственной наградой, которую они себе выговорили, было право проходить без очереди: об этом позаботились.
А вот когда дело дошло до подводной лодки, и вышла осечка. Напрасно показывали сварщику точку в океане, фотографии самой субмарины и того человека на ней, которому надо мысленно передать хотя бы пару теплых слов.
Мыслитель морщил лоб и никак не мог уразуметь:
— Куда же я его вызову?.. И как он пойдет затем пиво пить?
Наконец, самый дошлый эксперт усек суть проблемы.
— Передайте ему: пусть держит курс на Владик. Владивосток, — уточнил он. — И пусть ждет вас в субботу в девять у пивбара «Якорь». Мы вас туда доставим самолетом.
— Я мигом, — воспрянул духом мыслитель. Неизвестно, что подумал капитан, или кто-то там, на подлодке, получив такое сообщение от московского «дружка». Известно только, что все-таки получил. Эксперты ликовали!
Но тот же самый дошлый охладил страсти.
— Бесполезный дар. Его можно использовать только тогда, когда корабль надо направить к берегу — и то лишь к какому-нибудь населенному пункту. Верно говорю? — взглянул он на мыслителя.
— Верно. Разве ж это мысля? Где в открытом море чего купишь?.. — беспомощно развел тот руками.
А ведь интересная затем появилась идея: тем, кто принимает мыслеграмму, отсекать всякие «пивные бары» и «винные магазины», оставляя лишь координаты и срок выполнения приказа. Но если не было реальной возможности удовлетворить желание самого мыслителя — выпить или похмелиться, — то у него ничего не получалось. Мозг сам по себе бастовал и не отправлял нужную мыслеграмму. Не уверишь же, что в искомой точке системы координат будет ждать шлюпка либо корабль с горячительными напитками и что вдобавок туда непременно подбросят и его самого.
И Геннадий Васильевич, и другие экспериментаторы поначалу забыли о том, что всякий раз, назначая встречу с дружками или с тем же «капитаном» подлодки, они обманывали доверчивого мыслителя, обещая отпустить либо доставить его на место хотя бы на часок.
Помучались еще и еще, а потом махнули рукой. Перевели в госпиталь, затем и совсем отпустили домой со странной медицинской справкой для представления в райполиклинику: «Дана такому-то. Состояние его здоровья не вызывает сомнений». Видимо, хотели написать: «опасений».
Он действительно крепко подлечился и с полгода не пил. А затем начал по-новой. Вернулся «на круги своя».
… — А в той больнице, где я лежал, — продолжил Ураганов, — ему гланды так и не вырезали. Выгнали за нарушение режима: ночью он у дежурной сестры пять пузырьков корвалола увел и вылакал — на спирту же лекарство!
Живет, наверное, по-прежнему и по утрам рассылает дружкам-приятелям мыслеграммы: жду там-то во столько-то, приходите. Если только телефон не поставили.
Судьба самородка на Руси…
— Какие способности! — закончил Ураганов. — И какие мысли.
Кстати, Ураганову самому пришлось проверить на себе этот необыкновенный дар. Как-то утром он получил мыслеграмму. И из любопытства поехал туда, куда позвали. В наш «Сайгон», возле «Можайских бань».
Там его, ухмыляясь, ожидал мыслитель с дружками:
— А ты не верил?!
С гландами у него был полный порядок. Все прошло само собой. Вовремя из больницы выгнали.
РАСПУТАВШИЕСЯ ПУТАНКИ
Иногда простейшая математика может творить чудеса.
Давайте поспорим о нравственности. Я имею в виду не идеалы, не культуру поведения и даже не отношение к делу, а только секс. Может ли юная девушка продавать свое тело за деньги? Вернее, имеет ли она право, если это, конечно, ее тело, а не соседки по парте? Да-да, я говорю о школьницах. Для испытанных моралистов готов (я-то готов, а готова ли жизнь?) сделать исключение: пусть предметом нашего спора станут исключительно старшеклассницы. Выпускницы. А не какие-то там соплячки.
Мое мнение: девушка может продаваться за деньги! Но…
Сначала послушайте одну не очень давнюю нравоучительную историю. Возможно, любой случай в своей сути нравоучителен, так этот — особенно. Здесь мораль прямо прет наружу, как нынешняя акселератская девичья грудь из тесного лифчика конотопского производства, сшитого из сэкономленных остатков мешковины. Французский попробуй купи! Даже венгерский может ухватить лишь невеста по специальному приглашению в магазине «Гименей» для молодоженов после подачи заявления о браке в районный загс. Правда, всякие мазилки для макияжа теперь можно свободно купить. А сколько они стоят? Больше сотни! И вообще, чтоб прилично одеться современной девушке с головы до ног одноразово, включая шапку и пальто, потребуется не менее десяти тысяч рублей. И то, если ужаться и иметь блат. А это средняя зарплата далеко не всякой молодой женщины за два года, без вычетов, разных взносов и обязательного гриппа — раз в год все болеют, — а по бюллетеню молодым, известно, платят меньше.
История самая обыкновенная. В одной московской средней школе вдруг появились путанки. Для тех, кто не знает, — от слова «путаться». То есть появились не вдруг. По-моему, они были всегда. Но не столь массово. А тут прямо чуть ли не батальон в сапогах. Повальное явление. Валялись с кем попало из-за жалких заграничных презентов в виде пары пачек «Мальборо», зажигалки, модного беретика или еще какой-нибудь чепухи вроде фирменной аудиокассеты со шлягерами.
Дело в том, что напротив школы, за пустырем, было общежитие для иностранных студентов всех континентов, вероисповеданий и рас.
На том, заросшем кустами пустыре, как стемнеет, и начиналась бойкая купля-продажа, так сказать, натуральный обмен: ты мне, я тебе.
Когда я об этом случайно узнал, спать не мог. Кровь во мне кипела. От возмущения. Нет, думаю, придется заняться проблемой вплотную. Тем более меня записали в народную дружину. Патрулировать, бороться, воспитывать. Ну, думаю, покажу я вам красивую жизнь!
Не тут-то было. С иностранцами свяжешься, тебе же боком выходит. Скандалы, жалобы, протесты!.. Да и с девицами легкого поведения нелегко: одного только визгу до небес, до далекой Полярной звезды, а уж царапаются, как… Как макаки. Домой жене потом лучше не показывайся. А уж если на какой-нибудь где-нибудь чего-нибудь вдруг нечаянно порвешь, под статью залететь можно. Ну, как тут кого-то задержать, чтобы что-то не треснуло. Они ж, старшеклассницы, вырываются прямо с дьявольской силой. Бычьей!.. А тихонькие, они тоже опасные. Доставил как-то одну преспокойненько в отделение, она и заявляет, что я пытался ее насиловать. Еле разобрались, а то бы… Оказывается, она имела в виду: применил насилие при задержании. Небось по литературе пятерку имеет, судя по очкам, а русского языка не знает. Трудный, ограниченный контингент!..
Я и беседы проводил с ними на месте. Не действует, только хихикают. А иные своих подружек, тех, кто поздоровей, прямо-таки на меня натравливают:
— Галка! Мэри! Дай ему разок!
Сначала я думал, что физической расправой угрожают, а потом, когда дошло, со стыда готов был провалиться.
— Я вместо того чтобы сейчас дома с женой спать, — говорю, — за вами по кустам гоняюсь!
А они:
— Можешь и здесь спать. — Опять хихикают. — С нами. Только не спать, а пере!..
Смелые они в темноте-то своей.
А негров — тех во тьме вообще не застукать. Думаешь, вот он, а это бревно. Считаешь, бревно, а это он. Сплошные джунгли!
И на дом к иным девицам ходил. Либо мать — разведенная пьянь, либо отец — вдовый алкаш. Либо оба — трезвые, а дурные, не верят, да еще в суд грозятся подать за клевету! А лучше бы задрали дочке юбчонку — она впопыхах домой в мужских плавках пришла. В импортных. Или в новых колготках, а уходила гулять в штопаных чулках.
Как школьниц спасти? Можно, конечно, как у Льва Толстого. Кажется, в «Воскресении» (видели фильм?) какой-то князь решил жениться на когда-то соблазненной им девушке, которая потом пошла под уклон кривыми путями по скользкой дорожке, и вывести ее на единственно правильный путь. Можно подобрать энтузиастов для этого, есть еще у нас душевно чистые парни, готовые временно пострадать. Ведь даже из закоренелых проституток, судя по литературе, получаются самые верные любящие жены, потому что уже нагулялись и сыты по горло прежней неправедной жизнью. Толстовский князь, конечно, нам не указ, это по его вине девушка пустилась во все тяжкие. Но идея все-таки заманчивая. Хотя и нереальная. Тут надо самому первым подать пример, а я, увы, женат. И потом, душевно чистым парням на того князя не сошлешься. Они могут возразить: не мы, мол, их до этого довели, не нам их и спасать. Они правы и не правы. Ведь если б они спасли хоть тех, которых сами наверняка довели до подобной жизни, процент так называемых «жриц любви» резко бы упал по всей необъятной стране.
Но чего за всю страну говорить, надо пусть на своем, маленьком еще участке навести порядок — тут надо конкретным школьницам помочь.
Ну, можно, конечно, провести в школе пионерский… Тьфу, комсомольский сбор вкупе с правоохранительными органами и врачами-венерологами, показать спидовские слайды через проектор на стене. Да только подействует ли? Каждая ведь думает: только не я, а я, мол, везучая!
И неожиданно пришла мне в голову мысль. Бесподобная, честно. Поделился я своим замыслом с Любовью Петровной, она заведовала детской комнатой милиции.
Любовь Петровна, сама бывшая путанка, одобрила мой план. Разослали самым отпетым девицам приглашения — приходите, мол, пожалуйста, на лекцию с показом эротического видеофильма «Греческая смоковница». Я даже свой плэйер и кассету принес, а телевизор в милиции имелся — в конференц-зале.
Все пришли. Некоторые даже подруг привели.
— Почему бы не посмотреть на халяву? — щебечут. Пташки ясноглазые.
Хорошо, что там, в зале, школьная доска была. И мел.
— Здравствуйте, девочки! — поздоровался я.
— Приве-е-ет! — прокатилось по рядам.
На первом, как на подбор, самые фасонистые сидят, все в мини, все нога на ногу — в одну, левую сторону, у всех голая полоска выше чулок сверкает. Спасибо еще не курят. В милиции стесняются.
Пишу мелом на доске:
1 × 6,40 =
— Сколько? — спрашиваю.
— Шесть сорок! — кричат.
— Правильно.
Пишу ответ:
1 × 6,40 = 6,40.
Продолжаю столбиком:
50 × 6,40 =
— Сколько теперь?
Отвечают не сразу, кумекают:
— Триста двадцать.
Так, дописываю:
50 × 6,40 = 320.
Снова:
100 × 6,40 =
Сразу хором в ответ:
— Шестьсот сорок!
Оживились. Интересно же. Теперь пишу справа столбец:
1 × 20 =
— Двадцать! — вопят. Затем новый пример:
50 × 20 =
— Тысяча! — Да дружно как — завелись. Потом пишу:
100 × 20 =
— Две тысячи! — орут. Первый ряд от возбуждения разом слева направо ногу на ногу перекинул.
На всеобщий ор даже начальник милиции прибежал. Увидал, что математические примеры решаем, одобрительно кивнул:
— Продолжайте. — А сам остался, сел у стеночки рядом с Любовью Петровной.
— Что мы видим в левом столбце? Молчание.
— Цифирки, — пропищал кто-то. Все прыснули со смеху.
— Я моряк загранплавания, — заявил я. — Можете мне верить. Цены на мировом рынке знаю.
Все заинтересованно притихли. Лишь одна вылезла с репликой:
— А он, девочки, ничего!
Но на нее зашикали, и она стушевалась.
— В левом столбце мы видим наш официальный туристский курс доллара по отношению к рублю нынешнего 1984 года, — продолжил я. — Обычная такса уличной девицы 20–25 лет на Западе — 50 американских долларов или 320 рублей.
По рядам прокатился гул.
— Цена юного поколения вроде вашего — минимум 100 долларов за встречу, значит — 640 рублей. Это у полупрофессионалок, которые путаются с кем попало. А на любительниц цена куда больше! Школьницы, гимназистки румяные, лицеистки всякие идут по самой высшей таксе. А вы губы раскатали! Да вы взгляните на себя, вы же прелесть. Ну, чисто куколки. А что себе позволяете — отдаетесь по уценке, да еще не своим соотечественникам, а иностранцам. Да раньше б вас за космополитизм на Соловки отправили.
Гул усилился.
— А что мы видим в правом столбце? То же самое, но по валютному курсу теневой экономики на черном рынке. Ваш брат идет, значит, по…
— А мы за губную помаду… — чуть не всхлипнула одна краля в заднем ряду.
— … 2000 рублей за одну встречу, — сообщил я.
— Так что ж вы, дешевки такие, делаете?! — взвившись, прогремел начальник милиции. — За мелочовку позоритесь?!
Его понесло. Так и не дал мне сделать оргвыводы. Сам все подытожил. Причем правильно.
Скромно одергивая юбочки, девушки в гробовом молчании, не глядя друг на друга, повалили из зала. Даже на эротический фильм, которым мы их сюда заманили, не остались. Стыдно стало.
— Вот что значит настоящая гласность плюс наглядная агитация! — сказала мне Любовь Петровна. И пригласила к себе на чай. Побеседовать о здоровом образе жизни.
С тех пор никаких скандальных происшествий на пустыре не замечалось. Словно и не было ничего.
Лишь однажды, для профилактики меряя шагами пустырь в темноте, я услышал некий торг.
— Нет, ты мне 2000 рублей дашь? — сказал девичий голос.
— С ума сошел! — с иностранным акцентом ответил мужской.
— Или 100 долларов!
— Ты глупый!
— Ах, глупая? Я была глупая, да поумнела. Себе цену знаю! А ну, проваливай, халявник!!
Что и требовалось доказать. Лишь тогда можно гордым быть, когда цену себе знаешь. Поэтому и на чай к Любови Петровне я тогда не пошел… От себя добавим, что с 4.XI.91 туристский курс: 1 ам. доллар — 47 рублей. Биржевой же курс — 110 рублей. А дальше?!..
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Есть рэкетиры. А есть ли рэкет против самих рэкетиров? Это перекликается с вопросом, заданным моей дочкой:
— А у микробов микробы есть?
— Ищут, — ответил я. Правильно она вопрос поставила. Недаром народная мудрость говорит: паразит — на паразите. Так и должно быть — закон природы.
И еще она спросила:
— Вот бывают сильные из сильных, львы из львов, а носороги из носорогов бывают?
Еще как! Подрастет, узнает. С кем только ни сталкиваешься. Ослы из ослов, шакалы из шакалов, а уж носорогов из носорогов — вообще навалом. Не надо и в Африку плавать.
Ведь почему появилось определение: человек — царь зверей. Значит, он как бы один, а вокруг него множество зверей. Вокруг каждого человека. А теперь?.. Наоборот. Зверь, а кругом людей невпроворот. Вот и звереют люди. Чуть какая-нибудь заваруха — война иль стихийное бедствие — тут и вылезает его нутро. Правда, двоякое. Одни — сущие черти, а другие — все-таки чистые ангелы. Так что не все потеряно. Надежда имеется.
А бывают и середняки: ни черти, ни ангелы. Вроде меня. Чего только во мне не понамешано. Но я свято храню главную заповедь русского морского флота: никогда, даже самому сильному противнику, не показывать корму!
У меня через стенку сосед живет, Никифор Петрович. Замечательный врач-ветеринар, интеллигентный человек лет пятидесяти пяти. Любую зверушку вылечить может, но в основном специалист по собакам. Они на него не рычат, даже когда он им внутривенные уколы делает. Каково!.. Он и моего спаниеля Тимку лечил — помните Тимку? — пока тот от нас не подался куда-то, но о нем разговор особый. Да и меня самого при любой хвори Никифор Петрович быстро излечивал.
Так что бравый солдат Швейк правильно заявлял врачебной комиссии, что его уже осматривал ветеринар. Не буду даже уточнять, насколько знающий. Они не хуже других врачей, а то и получше. Обычный участковый терапевт, возможно, больного человека и поставит на ноги, а вот сенбернара — слабо. Вдобавок ветеринары — многопрофильные врачи, по всем болезням, а уж про хирургию и говорить нечего. Да и в конце-то концов они тоже институты заканчивали. А самые крупнейшие ученые на ком свои эксперименты ставят, прежде чем людям помочь? На собаках, обезьянах и крысах. Выходит, тоже по-своему ветеринары.
Когда мы с Никифором Петровичем познакомились, он улыбнулся, узнав о моей профессии.
— Водолазов я тоже лечил.
— Правда? — купился я.
— Псов-водолазов! — захохотал он. Остроумнейший человек. Мне такие по душе.
И вот случилась у моего соседа Петровича беда. Там у них при ветстанции создали кооператив. Полезное дело: выезжают на дом, помогают братьям нашим меньшим. Причем за вполне умеренную плату. Раньше-то им больше совали в конверте после визита. Зато теперь все законно, можно спокойно спать. Ан нет! Где уж тут заснуть, если вдруг и к ним самим начались визиты. Другие.
Заявились однажды четверо здоровенных лбов-рэкетиров и потребовали: гони деньгу, по две тысячи рэ в квартал, а не то… Сгорит лечебница, и привет!
Действовали они нахально, но как бы под благовидным предлогом, обещая свое «покровительство». Они-де станут надежной защитой от всяких вымогателей, хулиганья и прочих «люберов», которые любят, мол, доить кооперативы. А не хотите, пеняйте на себя. Подумайте пока, говорят.
Тогда еще и закона никакого против рэкета не было. Петрович им поначалу милицией пригрозил. А рэкетиры в ответ: не такие, мол, дураки, чтоб засыпаться. А если уж схватят, то ваша ветстанция тотчас полыхнет. У нас же, будьте любезны, железное алиби: мы в это время в милиции сидели. Что ль, дружков нет — спичку к вашей развалюхе поднести?.. Ветстанция и правда была старая, бревенчатая, и стояла на отшибе от жилмассива за неказистой оградкой. Даже ребенку по силам ту избу в дым превратить.
Труднейшее положение. Или платить, или кооператив закрывать — третьего не дано, как сказали мне однажды в столовке. В милицию, конечно, пожаловались. Те на первых порах под наблюдение ветстанцию взяли, а потом плюнули и пост сняли. Не райком партии, чтоб круглый год день и ночь охранять.
А рэкетиры опять тут как тут.
— Ну что, сынку, — смеются они над Петровичем, — помогли тебе твои ляхи?
Образованные, в школе учились. Кажется, с такими словами обратился Тарас Бульба к старшему сыну-изменнику перед тем, как его пристрелить. Намек понятен?..
Вот Петрович и пришел ко мне посоветоваться. Знает, что я человек бывалый. По адресу обратился — я именно тот, кто бы охотно им взялся помочь. Причем за так, бесплатно. Ненавижу несправедливость.
— Какой срок дали? — спрашиваю.
— Их еще не задержали, — растерялся он.
— Вам какой срок они дали?
— А, платить?..
— Когда первый взнос?
— Через месяц. Нет, уже два дня прошло.
— Не волнуйся, Петрович. Четыре недели за глаза хватит!!
А у самого пока ни одной светлой идеи.
Не знаю, поверил ли он мне, но ушел с обнадеженным блеском в глазах, хоть и недоверчиво покачивая умной головой.
Зря он все-таки сомневался. Если я за что-то берусь, то с того конца, с какого надо. У меня еще ни разу ведро в колодце не пропадало. Как в той байке: брось, говорят, ведро в колодец, тот и бросил; а привязал? — спрашивают; а мне говорили? — отвечает. У меня промашки не будет, не на того нарвались.
Первым делом я одному другу, тоже водолазу, позвонил, мы с ним тогда вместе в Южном порту работали. Витюне по прозвищу Кирпич. Лицо у него всегда красное от загара, да еще носит в тон ему пожарный свитер. Я попросил его быть с машиной наготове через двадцать восемь дней, у него своя старая «Нива». Как понимаете, нужная идея у меня уже возникла.
А затем, не откладывая, зашел к старому приятелю — Гене. Он жил один в силу своих опасных деликатных занятий, о которых пока умолчу. Да и кто ж с ним, обормотом, уживется. Больно рисковый: сегодня жив, завтра нет. Он и в мой приход сидел на кухне и смешивал деревянной расписной ложкой в суповой миске дымный и бездымный порох.
— Не кури, — предупредил он, вернувшись к прерванному занятию. — Может, туда еще и динамитику чуток накрошить? — вслух размышлял он, морща низкий упрямый лоб. Головастый мужик!
Я с ходу перешел к делу:
— Нужны трое крепких ребят.
— Когда? — Гена надежный парень. Понимает, что на темное дело я не пойду.
— Через двадцать восемь дней. Возможно, через двадцать девять.
Продолжая подсыпать и помешивать, он взглянул на старый, еще с портретом Черненко, настенный календарь. Известно, что через какое-то время все календари, как говорится, повторяются. (Я имею в виду дни недели.) Гена был бережливым человеком.
— Будут. Хорошо, что заранее предупредил. Не люблю экспромты. В городе или за городом? — спросил он.
— Не знаю. Фифти фифти. — Пополам напополам.
— Транспорт твой.
— Тогда двух ребят. — Подумал, что хватит.
— Еще легче.
— А оружие?
— Какое?.. Базуки, «стингеры»? — усмехнулся он.
— Достаточно и четырех «Калашниковых». Хорошо бы и ручной пулемет…
— Ну! — запротестовал он. — Где я тебе столько патронов наберу?
— Хорошо. Остановимся на четырех автоматах, — говорю, — и еще: четыре каски и четыре комплекта обмундирования для десантников, — вошел я в раж.
— Это труднее.
— Черт с ней, с формой! — Я покладистый. — А каски?
— Обеспечу.
— Ну, пока. Позвоню.
И мы расстались. Я постарался не задерживаться, уж очень лихо перемешивал он порох.
Теперь я был застрахован от всяких случайностей. Если вдруг не понадобится столь внушительный арсенал, тем лучше. Справимся голыми руками. Рэкетиры тоже бывают разными: одни вооружены до зубов, другие обходятся ножами, третьи — дубинками и кулаками. Но лучше не рисковать и все предусмотреть заблаговременно.
Четыре недели прошли в трудах праведных в Южном порту столицы. С Кирпичом мы встречались на службе каждый день, я ему все рассказал. Он одобрил. С ним хоть в огонь, хоть под воду!
Заскочил и второй раз к Гене — на всякий случай сообщил о своем замысле, хотя он и не спрашивал, относясь ко мне с полнейшим доверием. Но в конце концов он рисковал больше всех, поэтому я посчитал, что ему все-таки необходимо знать.
— Раз нужно, значит, нужно. За правое дело хоть на каторгу!
Романтик он, Гена. Как я.
Несколько раз ко мне приходил Петрович и, нервничая, интересовался, не передумал ли я и что именно не передумал.
— Чем меньше знаешь, тем легче жить. На это он лишь вздохнул:
— А может, не надо?
— Чего не надо.
— Ничего. Вдруг это опасно!
— Все хорошее в жизни — опасно. Даже с девушками гулять.
— Это понятно, — неправильно понял он меня. — СПИД.
Вот уж не ожидал от него. Интеллигент, личность!
— Жене могут донести, — рассмеялся я.
Он покраснел:
— Все шутите. А мне вот не до шуток. Не знаю, что конкретно вы задумали, а лучше — бросьте. Жизнь дороже денег!
— А принципы еще дороже.
Я его предупредил, что, возможно, в назначенный день ОНИ не явятся, а позвонят по телефону. Пусть тогда спокойно едет в любое место, которое назначат. В любое! Отдаст деньги, а дальше…
— А дальше? — затаил он дыхание.
— Дальше заговорят орудия главного калибра, Петрович.
Он задумался. А потом говорит:
— Если вам удастся вернуть деньги и эти разбойники от нас, наконец, отвяжутся, можете оставить деньги себе.
— Петрович, за кого ты нас принимаешь!
— Нет-нет-нет! — замахал он руками. — Уговор! Иначе я не согласен.
И побыстрей ушел, чтоб я не успел его сломить своим благородством. Тогда-то я и подумал: а что если создать организацию, можно и кооперативную, против рэкетиров. И название подходящее сразу нашлось: «Антирэкет». Подбираю здоровенных ребят, сидим, ждем клиентов. Все по таксе. Налоги и прочее. И процент с награбленного, хотя бы по тарифу для кладонаходчиков!..
А что касается тех двух тысяч, то Петрович не очень уж не прав. Лично мне ничего не надо, а двум парням Гены подкинуть бы надо, да и Витюне — на бензин. Любой труд должен быть вознагражден. По справедливости. Петрович — мой сосед, а не их. Он их не лечил.
Ну, там видно будет. Плохая примета — еще незаработанное делить. И о кооперативе «Антирэкет» еще будет время подумать. Посмотрим, как пройдет первая операция. Если удачно, наша четверка и составит костяк будущего кооператива. Вон хозрасчетные же, индивидуальные сыскные агентства разрешены?.. Молодчина ты, моя голова. Я тебе бороду отпущу!
Я внутренне расхваливал сам себя, практически еще ничего не сделав. Но был уверен, что сделаю. Где наша не пропадала! Я везучий — тьфу, тьфу, тьфу. Мне бы не водолазом быть — заметьте, я считаю это самой лучшей для меня профессией, — а мушкетером, авантюристом, благородным пиратом, наконец. Я родился не там и не вовремя, хотя — именно там и абсолютно вовремя. «В жизни всегда есть место подвигам» — помните темы наших школьных сочинений? Очень неглупая тема. Только мы почему-то катали страницу за страницей о молодогвардейцах или о строителях БАМа, а не о своих же пацанах, которые вдруг вступались в подворотне за того, кому скопом били морду. А потом оказывалось, что били по делу, за донос иль другую подлянку. Но подвиг-то все равно был, раз кто-то не стерпел, что втроем-вчетвером метелят одного!
Нет, я себя к героям не причисляю. Надо быть просто самим собой, а не притворяться и подыгрывать.
Однако продолжим историю. Иначе надолго застрянем на месте, как корабль на мели. На мелком месте всегда разводят большую философию. И я не исключение.
Назначенный день приближался. Мне могут сказать, что я заранее шел на нарушение закона. Ну и что? А если закон не может защитить кого-то! Впрочем, я уже говорил, что тогда и закона против рэкета не было. Если удавалось, их наказывали по другим статьям. Ну, а я готовился защитить слабого. На моей стороне были не какие-то законодательные права, а моральное право. И потом, мы же с вами не на суде. Кто меня осудит?.. Где доказательства?.. Свидетели?.. Где истец?.. Где потерпевшие?.. Так-то.
В тот день я уже с утра сидел в очереди в приемной ветстанции с бездомным котом на коленях, пойманным накануне для конспирации. Пришлось скормить ему с молоком безвредную дозу снотворного, выданную Петровичем. Кот попался мне боевой, злющий, кусался, как собака, и царапался. Из опасения, что он может сорвать начало операции, я его и нейтрализовал на время. Теперь он дрых без задних ног.
Витюня с двумя молодцами, вызванными Геной, ожидали меня в машине за углом. Заказанный арсенал находился там же. Гена не подвел. Стоит ли уточнять, что на этот день мы с Кирпичом взяли отгул.
Посетители, иные тоже со своими мурлыками, сочувственно посматривали на моего неподвижного котяру.
— Он всегда такой? — проникновенно спросил кто-то.
— А может… преставился? — ахнула сердобольная старушка.
— Не знаю, — обреченно ответил я.
— Товарищи! — вскочила старушка. — Пропустим гражданина без очереди!
Это не входило в мои планы. Наоборот, я сам собирался пропускать всех без очереди, когда дойдет до меня. Может, мне здесь весь день сидеть.
— Ничего-ничего, — отмахнулся я. — Ему уже все равно.
Но очередь все же стала вяло настаивать, надеясь, что я еще раз откажусь и вопрос будет закрыт. Я не обманул их надежд.
— Пусть поспит, три месяца не спал.
— Это бывает — перед случкой, — пробасил мужчина в полотняном берете. — Сам знаю.
И от меня отстали.
Очередь между тем помаленьку продвигалась.
Мужчина в берете придерживал ногами кошелку, застегнутую на молнию вплоть до торчащей на божий свет облезлой кошачьей башки. Она хрипло мяукала.
— Тсс… — цыкал он на нее, устроившись у самой врачебной двери, и прислушивался, будто за ней творилось невесть что интересное. Встречаются такие любознательные типы.
За дверью послышался звонок телефона. Буквально через несколько секунд она внезапно распахнулась, чуть не оторвав голову у Берета, который почти прилипал к ней ухом, и Петрович стремительно вышел в коридор.
Незаметно мне подмигнув, он направился к выходу, торопливо снимая белый халат. Я засеменил за ним, не выпуская кота:
— Доктор, у меня…
Он вроде бы нетерпеливо склонился, стоя ко всем спиной, над моим питомцем и быстро прошептал:
— Еду в Дорохово электричкой. У «Хозяйственного» в двенадцать! — И громко: — Покой! Прописываю полный покой, и все. Не горячитесь, берегите свое здоровье! — Не удержавшись, намекнул он.
Бросил халат на свободный стул, и уже у выхода обернулся к очереди:
— Прием будет продолжать ветврач Сергуткин в соседнем кабинете.
— Какой заботливый, — умилилась старушка.
На улице Петрович свернул в одну сторону, а я в другую. За углом переулка я бережно положил разомлевшего кота подальше в густую траву, а затем украдкой выглянул на улицу.
Наши предосторожности не оказались излишними. За Петровичем, независимо держась в сторонке и очень торопясь, шагал тот мужчина в полотняном берете, из очереди, с кошелкой. Почему он не остался на прием?.. Так и есть, он, озираясь, мимоходом выбросил котофея на обочину — тот задал стрекача.
В общем, я предполагал, что у них тут могут быть свои глаза и уши. Недаром Берет прислушивался у двери. Все было рассчитано заранее. Он знал, во сколько позвонят, и следил, не позвонит ли затем Петрович куда-то, не сообщит ли что-то медсестре или кому-то в приемной. Одного я не мог предположить: что их соглядатай так же прихватит для маскировки кота.
Теперь Берет будет вести Петровича до самого Дорохова и продолжать слежку, будет ли тот звонить по пути из телефонной будки, или, может быть, встретится с кем-то подозрительным.
Спросите, почему они раньше-то приходили безбоязненно. Так тогда они ничем не рисковали. Не пойман, не вор. Они же являлись не за деньгами, отлично понимая, что такой суммы у Петровича при себе тогда быть не могло. А теперь дело шло на полном серьезе, и надо было все предусмотреть. В шнурок они не сморкались. Я лишний раз убедился, что всегда нужно рассчитывать на серьезного противника. Видать, не напрасно была подготовлена моя боевая группа.
— По коням, — сказал я, залезая в «Ниву» и скомандовал Кирпичу. — В Дорохове! По Минке.
— А я-то думал, по Варшавке, — не остался он в долгу. Я тоже хорош, нашел кого учить. Просто вырвалось. Примерно через час мы подъехали к хозяйственному магазину на станции Дорохово. Еще на шоссе я выставил в приоткрытое окно концы, предусмотрительно захваченных складных удочек. Хорошее прикрытие. За городом везде годится.
У магазина мы тоже не остались белой вороной. Здесь стояло несколько машин, одна с целым пуком удилищ на багажнике крыши. Все нам благоприятствовало.
Мы прибыли раньше срока и поэтому потолкались в магазине. Кирпичу повезло, он купил дверной замок — исключительно тот, который давно высматривал.
Сейчас, когда прошло время, я понимаю, что они были не глупее нас. Серьезно все продумали наперед, предполагая даже, что телефон Петровича в тот день мог стоять на прослушке, если он загодя опять обратился в милицию. Разумеется, рэкетиры могли позвонить ему и в другой день, но где гарантия, что у него вновь будут с собой деньги. Снова договариваться?..
Они исходили из того, что он все же в милицию не ходил, а, значит, телефон чист. Если же он на них настучал и номер прослушивается, то московская милиция за восемьдесят километров в Дорохово не поедет — не тот случай. А попросту звякнет прямо туда, чтоб местные блюстители порядка проследили за Петровичем (точные приметы) прямо у «Хозяйственного» в двенадцать дня.
Потому-то, когда, наконец, прибыла последняя, перед дневным перерывом, электричка, — Берет, сопровождавший Петровича, и направился сразу к плотному парню с носорожьей шеей, загоравшему у входа в местную милицию, напротив хозяйственного магазина. Они о чем-то пошептались. О чем? Берет, очевидно, сказал, что хвоста нет и поднадзорный никуда по пути не звонил. А здоровяк, вероятно, в свою очередь, тоже поделился соображениями: и в милиции, и около нее ничего подозрительного не наблюдалось. К магазину, мол, никто, ни в форме, ни в штатском, из отделения не выходил. Полный порядок!.. Лишь вдали, за привокзальной площадью, виднелся одиночный милиционер, да и он вскоре куда-то ушел.
Дальше все свершилось быстро. Здоровяк, Берет и еще пятеро амбалов с разных концов площади подошли к Петровичу, увели его за трансформаторную будку; потом он вышел, направляясь обратно к станции, а они двинулись в нашу сторону. Вид у них был довольный, посмеивались, выгорело-таки. Теперь, мол, будем доить клиента без конца.
Я не опасался, что они разойдутся и отправятся потом, допустим, поодиночке в Москву на следующей иль позаследующей электричке. Смогу уж кого-нибудь выследить. Что у меня, ног нет? Кирпич с ребятами поедут назад сами по себе и будут ждать в условленном месте. Ходов было хоть отбавляй, что у них, что у нас.
Но чутье подсказывало: сразу расходиться они не будут. Не те люди. Дележка предстоит. Надолго откладывать не станут. А, значит, возвращением в Москву и не пахнет. Тем более следующая электричка пойдет после перерыва, не раньше, чем через час. В людном месте делить деньги они не решатся. Это нам на руку. Наверное, и само Дорохове выбрали неспроста. Может, кто-то из них живет здесь или поблизости.
Они прошли мимо нас в винный магазин, нагрузились и сели в рейсовый автобус, по-моему, «Дорохове — Новая Руза».
В общем, они вылезли километров за двадцать от станции, где располагалось чье-то садоводческое товарищество. Тут еще строились: там и сям виднелись времянки, хибары, но красовались и новехонькие, готовые уже коттеджи, как правило, на самых лучших местах — по Сеньке и шапка. День был будний, народу почти никого…
Делая вид, что остановились помыть у ручейка машину, мы проследили издали за компанией наших мазуриков. Они, по-прежнему весело гомоня, прошли до самого дальнего, у выступа леса, островерхого терема и там исчезли.
Темноты мы решили не ждать. Загнали машину в лес и стали снаряжаться. Ребята прихватили с собой грим, и мы щедро разрисовали друг друга так, что наши лица превратились в какие-то зверские хари. Без жути не взглянешь!
А вот если бы кто-то нам встретился, когда мы пробирались к терему лесом, ему, очевидно, было бы не до смеху. Каски и оружие мы несли завернутыми в брезентовые плащи. Их нам тоже Гена добыл.
Мы уже прикинули, что те разбойнички тяпнули для почину, расслабились, а теперь, пересчитав деньги, с азартом их делят на принципах идеального социализма: каждому — по труду. В таком случае львиная доля должна была достаться Берету, он больше всех старался.
Когда мы в стремительном броске с ходу вышибли в тереме два окна и наставили оружие, шайка была настолько потрясена, что не оказала ни малейшего сопротивления. И соседи на шум не сбежались, их не было. Да и скорее бы всего не сбежались, а разбежались, завидев разрисованных «молодчиков» в касках, плащах, с автоматами! А вот нашим голубчикам драпать было некуда.
Не пришлось для острастки даже пальнуть в воздух. А вообще-то руки чесались выпустить очередь хотя бы поверх их жадных голов.
По первому же требованию рэкетиры, выворачивая карманы, безропотно вернули все деньги и выдали припрятанное здесь же оружие: три обреза из дробовиков, малокалиберную винтовку и шесть ножей. Они сразу поняли, что мы не милиция и не солдаты: те не стали бы гримироваться. И это было для них еще страшнее. Закон джунглей суровей законов правопорядка.

На прощание — они не верили своему счастью, что мы уходим бескровно! — я произнес спич.
— Запомните, мерзавцы! Если вы еще хоть раз сунетесь на ветстанцию, дачка эта сгорит синим пламенем, а вы получите, — внушительно постучал я по магазину автомата, — вот эти пули в лоб. Вы стали поперек пути могущественной гильдии, берегитесь! Отныне и навсегда вы прекращаете свои дебильные вымогательства вообще и в частности. Ни в Москве, ни в Подмосковье — нигде!
— Всех конкурентов — к стенке, — многозначительно сказал Кирпич.
Они клятвенно заверили, что никогда больше, так сказать, ни словом, ни помыслом… Сами, мол, увидите!
— Посмотрим, — процедил я.
— А может, вступить в эту вашу… гильдию? — робко спросил Берет.
— Рылом не вышел.
Уходя, для пущего эффекта я грохнул одиночным выстрелом в небо. И мы не спеша скрылись в лесу.
Как только деревья заслонили нас, мы помчались к машине, на ходу снимая каски, сдирая плащи, пряча в них оружие, и стирая грим.
В Москву вернулись без происшествий. По пути кинули в болото захваченные трофеи: обрезы, мелкашку и ножи.
— Деньги я отнесу врачу, — сказал я своей команде, поблагодарив всех за личное мужество. — А если не примет, — пожалуйста, в кассу.
— Животных жалко, а то б не взялись. Мы не за деньги старались, — обиделся один из парней.
— Мы такие, — кивнул второй. Хорошие ребята. Из «Гильдии каскадеров»!
— Я тоже не такой, — сказал Кирпич. — Но… — и кивнул на машину, — ремонту много.
Петрович потом при мне позвонил куда-то в «Автосервис» не последнему из начальников, у которого лечил любимого курцхаара, и нашу «Ниву» мигом привели в порядок: любо-дорого посмотреть! Нам «любо», им «дорого» — за ремонт расплатился ветеринарный кооператив. Этого им не запретишь.
Как Петрович ни отнекивался, а деньги я ему вручил — иначе дружба врозь — и попросил посчитать.
Сюрприз… Оказалось две тысячи триста пятьдесят два рубля! Выходит, мазурики свои добавили. Выгребли из карманов все, что имелось. К нашему налету они уже успели закончить дележ.
Не возвращать же теперь!
Лишние деньги я отдал на опыты Гене. Вероятно, вы догадались, кем он был. Одним из обычных киностудийных пиротехников. Кстати, на картине пиротехник отвечает за оружие, которое раздает при выезде на натуру массовке. Представляете, сколько у него всего!.. Понятно, что как боевое оно вовсе никуда не годится. Но те же автоматы, винтовки и пистолеты хлопают холостыми патронами — будь здоров!
Чем он рисковал? Выгнали бы с работы — вот чем. Отчаянный парень.
Про тех двух ребят я уже сказал, что они каскадеры. Видал их потом в фильме, на котором работал и Гена. По-моему, с ними можно было бы смело ехать и без оружия. Но в моем плане было и свое преимущество: зато никакой драки с членовредительством!
А вообще-то мы все, наверное, могли схватить срок — пусть даже и условный — за самоуправство. Судьба миловала.
Под конец хочу добавить: на ветстанцию рэкетиры больше не являлись и не звонили. Думаю, ведут себя тихо. Такое потрясение — на всю жизнь!
А кооператив «Антирэкет» открыть не разрешили. Заявили категорически, что не могут поощрять костоломство и мордобитие, без коих в этом темном деле явно не обойтись. Для этого, мол, милиция есть.
Круг замкнулся.
ЖУТКИЙ ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК
— Канада — сказал Ураганов, — вторая по площади страна после нашей. А так почти одинакова, если не считать Прибалтики. В Канаде, кстати, много украинцев. К ним мы еще вернемся. Ну, значит, о просторах. На каждого канадца приходится по сорок гектаров, а у нас на каждого — только по четыре гектара: ведь нас в одиннадцать раз больше. Говорят, очень похожая на Россию страна. Не по дорогам и магазинам, конечно, а по природе. Да что там автострады и супермаркеты — их можно построить, а вот природу не построишь, ее можно только разрушить. Так что насчет площади природы у нас с ними полный порядок. Собственно, я-то дальше Виктории не бывал. Это портовый город на Тихом океане, известный своим судостроением и деревообработкой. По количеству населения вдвое меньше моего Курска.
— Райцентр, — хмыкнул толстяк Федор.
— Чья б мычала, — мягко возразил Валерий. — О городе надо судить не по количеству населения, а хотя бы по жилому фонду, то есть по числу зданий. А то ведь в один барак можно и тысячу человек набить при желании.
— Если ты на мой барак намекаешь, — обиделся кучерявый детина Глеб, — то у нас там не тысяча, а всего триста два человека. А, кроме того, он последний в Марьиной роще остался — скоро снесут.
— Лет через пять! — захохотал толстяк Федор, да так, что аж прослезился.
— Чего ржешь-то попусту! Отольются тебе твои лошадиные слезы! — вконец разобиделся Глеб.
— А почему мне? — вскипел Федор.
Еле мы их уняли. Жилищный вопрос — острый. Тут надо быть деликатным. Ураганов тоже хорош, вылез со своим бараком. Если уж сравниваешь, то подумай вначале. В конце концов тем же канадцам все их благополучие не с неба свалилось, сами же строили, да еще им украинцы помогали. Французы тоже старались. Никто ничего не растаскивал по своим национальным углам. И потом, им, канадцам, нетронутая природа досталась, а у нас цари до революции понастроили черт-те чего! Сносить не успеваем. А у них? Любому ж известно, что на голом месте строить значительно легче.
— Так будете слушать или нет?.. — сказал Валерий. — Я вам про одного канадца украинского происхождения хочу рассказать…
Тарас — так звали того канадского украинца — держал небольшой магазин, точнее — лавку рыболовных снастей на припортовой улочке. Там мы и познакомились. Его предки переселились в Канаду еще до революции. Впрочем, они из Западной Украины перебрались. В отличие от них фермером Тарас не стал, пошел по торговой части. Ясно, что английский язык он знал, как родной, а родной, украинский, — как я английский. Было ему лет тридцать пять. Бездетный холостяк.
Рыболовные магазины — это, пожалуй, единственные торговые точки, мимо которых я не могу равнодушно пройти, будь то у нас дома или за границей. Для меня такой магазин — все равно что для женщины обувной. Обязательно загляну. А уж у Тараса было на что посмотреть: спиннинги «Дайва», безынерционные катушки, жилки всех диаметров и любого цвета, блесны, мушки, крючки и так далее. Кстати, я у него леску на поводки купил — 0,18. Разрывная прочность — 2,5 кэгэ. Даже не купил, он так подарил, узнав, что я русский. Земляк земляка… Сами понимаете. Да и русские в городе Виктория редко бывают, как и покупатели — в лавке Тараса. Конкуренция.
Ну, и пошли тут с ним разговоры за кофейком. Он сам кофе смолол. Они почему-то растворимый не признают.
У них, на Западе, не принято спрашивать, сколько кто зарабатывает. Зато у наших они всегда бесцеремонно спрашивают и про зарплату, и про цены. Тарас тоже не был исключением из международных правил. Поинтересовался.
Но я стреляный воробей. «У советских собственная гордость», — как говорил поэт, очевидно подразумевая тем самым, что это единственный вид собственности, которым мы располагаем. У меня на каверзные вопросы всегда наготове наезженный ответ: зарплату называю в старом исчислении (ну, когда еще рубль десяткой был), а цены — сегодняшние.
— Почти как у нас, — удивленно сказал мой канадский украинец.
Все они так удивляются. Как говорится, беспроигрышная лотерея. А если попадется знаток, можно и выкрутиться с легкостью необыкновенной: «Ах, пардон, невольно спутал! Привычка, понимаете ли». Советую взять на вооружение всем, выезжающим за рубеж.
На стене лавки висел портрет симпатичной девушки.
— Милая акварелька, — сказал я, — случайно не ваша родственница? Или, поздравляю, невеста?
Он рассмеялся.
— Этой «невесте» сейчас было бы 175 лет! Лора Секорд — национальная героиня. В 1813 году она пробежала 30 километров лесом, чтоб сообщить англоканадскому ополчению о вторжении американских войск!
На это я скромно заметил, что однажды, с рюкзаком и удочками, пробежал 50 километров тайгой, чтоб предупредить о надвигающемся пожаре. Но никто национальным героем меня не объявил. Причем мне было труднее, чем канадской героине. Она-то могла хоть секунду передохнуть, а я — нет. Огонь буквально наступал на пятки, и я прибежал в поселок одновременно с пожаром.
Тарас тоже вспомнил про один пожар. Необычайная у него вышла история…
Я все не перестаю себя спрашивать, почему мне первые встречные порой самое сокровенное рассказывают?.. Наверное, потому, что я не глазливый. Этот не сглазит, — правильно считают они. А если потом вдруг и растрезвонит, то, мол, по-доброму. Да и кто ему — мне — поверит?.. Правда?
Продолжаю. Тарас тоже, как ни странно, любил рыбачить. Почему — странно? Да ведь так уж устроено: почти все бармены не пьют, многие врачи не принимают никаких таблеток, кондитеры не едят пирожных — примеры можно приводить без конца. Отчего же владельцы рыболовных лавок должны от них отставать?.. Работа и увлечение редко совпадают. Иначе не было бы никаких хобби.
Тарас был человеком одиноким, и рыбачить любил в одиночестве. В тот год он забрался аж на приток горной реки Фрейзер — Нечако. Это если от городишка Принс-Джордж взять налево, на запад. Вообще Фрейзер — самая дикая река в Канаде, а потому и самая красивая. Желтые бурлящие, ревущие воды, водопады, каньоны, каменные нагромождения, снежные пики скалистых гор — такое первозданное великолепие может только во сне присниться, и то не в каждом сне и не каждому. Если уж Фрейзер — река-дикарь, то Нечако — и подавно. Я имею в виду, что эта речка еще безлюдней. А так, по нраву, она поспокойней необузданного Фрейзера, тот уж больно свиреп. Многие золотоискатели сложили свои головы в его мрачных ущельях.
Главная рыбацкая добыча и на Фрейзере, и на его притоках — лосось. Когда идет нерест, мелкие притоки приобретают кровавый оттенок, а медведи обжираются лососиной так, что лежат по берегам, подставив пузо солнцу, чтобы быстрее все переварилось и можно было бы потрапезничать вновь. Ну, и другой рыбы там полным-полно. А вообще-то, если говорить о нерестовом лососе, то в устье Фрейзера он вкусней; пока дойдет до верховий, загнется — в прямом и переносном смысле. Загибаются челюсти, меняется окраска, худеет — и, отметав икру, выпустив молоки, гибнет.
У Тараса на Нечако есть свое долбленое индейское каноэ. После двухнедельной рыбалки он, уходя, обычно ставит его вверх дном под пихтами и закрывает полиэтиленовой пленкой. Так оно и ждет нового вояжа до следующего сезона: что с ним сделается?.. Но при вылазках в последние два года он стал замечать, что кто-то пользуется его лодкой, хотя и ставит затем на место. Ну, и ладно. Подумаешь!..
И вот, уже возвращаясь оттуда домой, Тарас заблудился в этот раз в тумане и очутился на краю какого-то ущелья. Как он не свернул себе шею, сам не знает. То есть, на языке акционеров, держал курс на понижение, и вдруг под ногами — пустота…
К счастью, пролетев несколько метров, сумел ухватиться за толстые ветки дикого винограда. Цепляясь за них, он стал спускаться вниз. Не полез вверх, благоразумно полагая, что сверху падать почему-то больнее. И все в густом тумане, почти наощупь. Ниже пошли склоны утесов, и стало легче. Здесь он нащупал ногами вытоптанную индейскую тропу — да-да, прямо в скалах. Я потом поинтересовался этим явлением и специально прочитал у путешественника Саймона Фрейзера: «… в тех местах проложена тропа, вернее, не проложена, она словно выдавлена в скалах ногами частых путников». Это ж сколько поколений индейцев ее вытаптывали из года в год! Века?..
Ну, спустился он, наконец, куда-то в низину. И видит — невдалеке огонек мерцает, так сказать, более светлое, дрожащее в тумане пятно. Да и запахом дымка потянуло.
Пошел туда. Человек у костра сидит. Фигура такая — в обвисшей черной шляпе. Поздоровались…
— Откуда принесло? — спросил незнакомец. Голос показался Тарасу смутно знакомым. Да тут вообще все было смутным. Туман…
Тарас ответил, что и как.
— Повезло, — сказал незнакомец. Нет, но голос-то, голос!..
— Еще б, не повезло. Запросто мог шею сломать.
— Да я не про то. Запросто мог изжариться. Там, куда ты шел, сейчас пожар бушует. Слышишь, трещит?
И правда, теперь Тарас различил отдаленный, с подвыванием, треск.
— А нас не…
— Стороной пройдет, — успокоил его незнакомец. — Вверху на краю деревьев нет, а не то жди на свою голову головешки.
Он подбросил сучьев в огонь. Теперь Тарас мог кое-как различить его лицо. Хотя тот и был бородат, но тоже ведь — черт возьми! — что-то знакомое проглядывало. Сбоку от незнакомца на большом рюкзаке виднелся приклад ружья и комель удочки.
— Охотитесь, рыбачите? Незнакомец, казалось, улыбнулся.
— Да вот уже пару лет, что хочу, то и делаю.
— Позавидуешь! — искренне сказал Тарас.
— А чего завидовать? Брось все, и живи!
— Легко сказать…
— Если тянуть да тянуть, никогда не решишься.
— Бродяжничать тоже не сахар… Извините, — спохватился Тарас.
— Для кого-то — бродяга, а для себя — вольный человек. Господи, как глупо я жил раньше! Дурак дураком. Жизнь-то одна…
— Одна, — думая о своем, откликнулся Тарас, — будь она неладна.
— Ну уж тут все от самого человека зависит. Конечно, что-то вроде и теряешь, а на самом деле — нет. Я вот недавно семгу поймал — на 34 килограмма. А!
— Где? — ахнул Тарас.
— На нижних плесах Фрейзера, недалеко от Мистона.
— Завидую, — повторил Тарас.
— Что, жалко свою рыболовную лавку бросить? Продался Мамоне?
Тут Тарас так бы и сел, если бы уже не сидел.
— Откуда…
— Откуда, говоришь, знаю? Знаю.
— Мы что, знакомы, да?..
— Не стану отрицать, — загадочно ответил незнакомец.
— Нет, правда?..
— Правда-правда.
— А-а, вы, наверное, из наших краев? Из Манитобы? Там меня все фермеры знают. Каждый год к родителям езжу. Но я вас что-то…
— Не ври. Девять лет не ездишь, только раз в год по телефону звонишь.
— Ну, знаете ли!.. — вспылил было Тарас и осекся. Вот так встреча! Кто же это?..
Помолчали… Затем стали ужин готовить. А у Тараса в рюкзаке был небольшой магнитофончик, любил иной раз перед сном после рыбалки любимые мелодии тихонько послушать. Ну, и включил его незаметно на запись, пока харчи доставал. Рюкзак оставил открытым.
— Что, заинтриговал я тебя? Ты чего же, хохол, — так и сказал незнакомец, — против своей души идешь? Разве ты об этом в детстве мечтал — в лавке штаны протирать?!
Ничего ему не ответил Тарас. Что верно, то верно. Не попрешь. Да и то сказать, лавка-то его — как бы муляж той жизни, о какой он мечтал. Один обман. Все эти удочки и рыболовецкие снасти — словно блеклая фотография чего-то взаправдашнего, настоящего, истинного, которое бывает с ним только две недели в году. Но ведь боязно что-то прочное на изменчивое менять. Не всякий решится. Все-таки какой-никакой, а делец, не то что бродяга, как этот чертов провидец!..
Поужинали… И так же молча спать улеглись. «Ладно, — решил Тарас, — утром допытаюсь, где тут собака зарыта!..» Магнитофон-то он еще раньше выключил.
А утром, как, верно, догадываетесь, когда сгинул туман, незнакомца и след простыл. Раньше встал и тихо ушел. Да еще новенький телескопический спиннинг из Тарасова рюкзака увел. А магнитофон не тронул.
Только дома прослушал Тарас магнитофонную запись. Кроме той последней фразы незнакомца, больше никаких слов не было.
Тарас прокрутил мне ее:
— Что, заинтриговал я тебя? «Ты чего же, хохол, против своей души идешь? Разве ты об этом в детстве мечтал — в лавке штаны протирать?!»
Клянусь, это был голос — самого Тараса. Только теперь я обратил внимание на то, что он не брит.
— Во-во, бороду отращиваю, — заметив мой взгляд, засмеялся он. — Аренда помещения кончается, распродам по дешевке товар и… Разве я об этом в детстве мечтал — в лавке штаны протирать!
— Неужели он сам себя тогда встретил? — наморщил лоб толстяк Федор.
— В прошлом — себя будущего?.. — задумчиво спросил кучерявый детина Глеб.
— Наверное… — ответил Ураганов. — Когда мы прощались, он сказал: «Одно жутко, вдруг мы снова встретимся? — А потом: — Интересно, поймаю ли я 34-килограммовую семгу на нижних плесах, неподалеку от Мистона?..»
ФЮНФ
Помню, еще дед говаривал, что всякий нормальный человек хотя бы раз в жизни ищет клад. А вот мой дядя Вова, мамин брат, многих посрамил: он искал клад почти полжизни.
Про дядю Вову — толстого жизнерадостного человека — я и расскажу, потому что в завершающих его приключениях с кладом принимал самое непосредственное участие. Это, видать, у нас фамильная черта характера: не накапливать, а искать.
Дядя Вова жил в маленьком бедном российском городке, где один-единственный асфальтовый тротуар шел только от крыльца первого райкомовского секретаря ровно до подъезда самого райкома.
В юности я ездил к дяде как-то летом на месяц — он вдруг позвал меня к себе, заинтересовав неожиданным письмом. Примерно такого содержания, без запятых: «Дорогой племяш перебрал я всех своих глупых родственников и понял. Никто мне с них не поможет разве ж ты! Из нашей автобазы тоже никому не горазд доверить. Я сейчас беру отпуск и опять начинаю искать а я верю что клад близко а не дается. Приезжай дорогой Валерик твои деньги на поезд я заплачу бери так и быть плацкарту. Дядя Вова». Если б не промелькнуло слово «клад», я б не поехал.
Дяде Вове было лет пятьдесят. Его небольшой домик под тростниковой крышей стоял в тупике крутой улочки над рекой. На автобазе он работал сторожем, хотя когда-то и шоферил. Три грузовика на своем полувеку вдребезги разбил, четвертый не дали, перевели в сторожа. И то, повезло. Ведь сам мог трижды разбиться с теми грузовиками!..
Дядя Вова мне понравился. Как всякий крупный человек он ходил быстро, размашисто, говорил приятным голосом и, главное, был добрым. Со мной вел себя по-приятельски, не командовал. То есть командовал, а не начальствовал, да и то за вроде сверстника-вожака.
К примеру:
— Чего лежишь читаешь? — Он и говорил без запятых. — Сходи за водой в колодец вчера я ходил!
Уважал я его за справедливость. Действительно, ходил он вчера. Теперь моя очередь воды принести. С моей матушкой так бы не вышло. Она или сама буквально все сделает, или меня с отчимом заставит. Нет у нее четкого подхода. А на дядю Вову разве обидишься?
— Сейчас я картошку чищу зато завтра ты за хлебом сходишь не споря, — говорит. Вполне логично!
У дяди Вовы, как ни удивительно, была довольно большая библиотека. Досталась в наследство от инженера маслозавода Сидороффа, по паспорту — немца. Почему он завещал ее дяде Вове? Тот считал: наверное, за помощь по хозяйству — каждый раз дрова ему привозил, огород вскапывал, забор чинил. А библиотеку ту — одни научные книги на немецком языке — отписал ему в наследство с намеком, как полагал дядя Вова. Не горюй, дескать, что мой большой кирпичный дом отошел к интернату инвалидов по соседству, — я тебе другое богатство припас. До этого докумекал сам дядя Вова, лет 20 назад, привычно вырывая однажды страницы из технического тома для растопки печи. Неожиданно выпал пожелтевший листок, а на нем что-то нарисовано и написано дореволюционными буквами.
В общем, дядя Вова сумел прочитать и даже кое в чем разобраться. Тут надо было не ученым человеком быть, а просто местным жителем.
Он показал мне этот листок. Раздвоенным с нажимом пером, порыжелыми выцветшими чернилами было написано (орфографию даю современную): «Закопано на юго-востоке. Ищи на телячьей пустоши, от граба сто шагов к щучьему. Рыть на 23 дюйма. Там найдешь коробку с монпасье. В ней — план, где искать далее». И год стоит — «1914». На другой стороне загадочная схема, этакие кроки — условная карта от руки, без масштаба.
Гадал я, вертел те кроки, разглядывал, перечитывал, пока не признался:
— Если это ваши края, тут только местный может понять. Какой-нибудь старик.
— Или старуха! — вскричал дядя Вова. — Нашел я такой божий одуванчик. Сразу чувствами излилась ах Телячья пустошь ах Телячья пустошь ах! Название такое было давно туда телят гоняли пастись. А что может щучьим быть спрашиваю? Бумагу не показываю не то сама пойдет искать больной прикидывается. Глаза у нее горят! Щучье говорит это озеро Пионерское раньше Щучьим прозывалось пока пионеров не было, а щуки были. Там правда один пионер потонул хотел дно измерить.
— Так, так… — встрепенулся я. — Два ориентира на местности уже есть!
— Есть! — просиял дядя Вова. — А что такое «от граба» спрашиваю а сам думаю может «от гроба» или «отграбил» слово?..
— Ага, — усмехнулся я. — А если б «от вяза» было, ты б подумал: «отвязал»? Граб — это дерево такое, южное.
— Правильно я тебя вызвал! — восторженно хлопнул он себя по обширным коленям. — Еле мы с ней докопались. Так и сказала «грабь» это южное дерево было посадил кто-то не помню хорошо росло в большие морозы засохло в одночасье. А пень остался.
— И?.. — вытянул я шею.
— А «дюйма» что говорю? Дюма переспрашивает она. Да не Дюма говорю а дюйма?
— Ну, ты даешь. Дюйм — это единица измерения.
— Вот дошлый! — восхитился дядя Вова. — Мы с ней тоже не сразу разобрались. Потом она вспомнила что материю на ярды покупала а оттуда и к дюймам подобрались.
— Пошли! — вскочил я.
— Куда?
— Туда, копать. Где лопата?
— Выкопал я, — вздохнул дядя Вова. — Коробку монпасье, — тщательно выговорил он трудное слово. — Леденцы значит.
— В коробке?
— Тьфу ты! Леденцы были теперь новая бумага лежит.
— Где она??
— На. Соображай ты головастый. — Он достал из внутреннего кармана пиджака паспорт, а из паспорта вынул другой старый листок.
Как и на прежнем, на одной стороне было что-то написано, на другой нарисован план.
— Читай вслух не торопись думай, — потребовал дядя Вова.
— «Накладбисчи»… Наклад бисчи, — пробовал понять я первое слово. — На клад би счи… На клад?.. На кладбисчи… «На кладбище!» — наконец, воскликнул я. — Грамотей вроде тебя писал.
— На кладбище? — схватился за голову дядя Вова. — Его бы самого на кладбище!
— И без тебя давно там лежит, — успокоил я.
— Теперь мне понятно где я промахнулся, — взволнованно зашагал по комнате дядя Вова. — У меня один только «клад» на уме вертелся эх если б я тебя сразу вызвал эх! Сколько потеряно времени так и быть если чего найдем тебе третья часть.
— Я слышал, государству идет семьдесят пять процентов, а тому, кто нашел, двадцать пять.
— А тебе, — подчеркнул дядя Вова, — третья часть. Остальное так и быть мне.
— Но ведь государство…
— При чем тут государство? — удивленно перебил он меня. — Оно что закапывало раскапывало прятало находило? Кто найдет? Мы! Чие будет? Наше! Чего сидишь молчишь читай дальше. Погоди. Скажи чего мы такие жадные стали?
— Какие жадные?
— Раньше на улицах большие огрызки яблок бросали с балбешками по концам навроде больших катушек от ниток. А сейчас одни яблочные хвостики кидают а ты говоришь. Жаднее стали.
Он меня прямо в тупик поставил. Я и раньше насчет этих огрызков замечал. Ну, думал, не часто нам яблочко доводится пожевать, потому и съедаем вчистую. Так здесь же яблочные края, у каждого свой сад, а картина та же, как в моем Курске. Теперь жуют до самого хвостика.
А дядя Вова не так-то прост, оказывается.
— Я и сам думаю к чему мне напрасный клад, — продолжал он, — а хочу. И чтобы большой был подороже. У меня все есть чтоб не умереть питаюсь хорошо даже самогонка так и быть признаюсь своя. Куда мне клад? Ну читай, — махнул он рукой и туманно добавил: — Наверное сам организм знает что время к нам спешит тяжкое.
— Я сегодня эту бумагу читаю, — поддел я его, — а завтра ты компот из яблок сделаешь.
Он серьезно кивнул в знак согласия.
— Итак. «Накладбисчи…»
— Заладил одно и то ж ты понятно грамотно читай со смыслом.
— Нет, вначале надо, как оно есть, прочитать, — твердо сказал я. — А потом уж смысл поищем.
Я начал снова:
— «Накладбисчи найти фюнф, отступить справа от пятой буквы насажень». И все, — я перевернул листок.
На другой стороне был рисунок со множеством маленьких крестиков рядами, один — обведен кружком. Среди них отдельно выделялся большой крест.
— Ну-у… — попытался я хоть за что-то зацепиться, — «фюнф» — это «пять» по-немецки.
— Знаю в школе учил.
— Сколько классов окончил?
— Пять.
— Отчего так мало?
— От хорошей жизни.
— Ну, извини. Если ты не в духе…
— Я в духе в духе! Почему «фюнф»? Где шестая буква с ума сойду сдвинусь!
— Насажень… Насажень, — бормотал я.
— Насажен? На что насажен скажи пожалуйста?
— На нашу голову! — зарычал я.
— Попался бы он мне темной ночью в темном переулке я бы ему… — Дядя Вова замер. — Говоришь отступить?
— Ну, да. Написано: «отступить»…
— На сколько?
— Чего — на сколько?
— Отступать! На метр на два на три?… Теперь я схватился за голову:
— На сажень!
— То-то грамотей вроде тебя, — не остался в долгу дядя Вова. — Значит «отступить справа от пятой буквы на сажень». Это больше метра?
— Не знаю.
— Ты сколько классов кончил?
— Десять.
— И чему тебя только учили! — мстительно произнес он.
— Клады искать нас не учили!
— А зря. Что на плане имеем видим?
— На плане-то, ясно, могилы с крестами.
— Сам знаю.
— Та, что с кружочком… Нет, она не пятая ни с какого края.
— А большой крест что означает показывает?
— Что на этом пора поставить крест! — вскипел я. — Учти, если ты свихнуться собираешься, я в желтый дом не спешу. Да, а ты заметил, что обе бумаги написаны разными людьми? И почерк вроде разный, — стал сравнивать я, все-таки опять завело на клад, — и первый поученей, пограмотней. В дюймах меряет, а этот в саженях.
— Может на пару работали? Для нас это чепуха на постном масле. Завтра не забудь подсолнечное масло купить на рынке рыбу жарить и мурцовку поливать, — вспомнил он. Мурцовкой у него назывался наперченный салат из помидоров, огурцов и репчатого лука. Вкуснятина!
— Ладно. А где у вас кладбище?
— У нас их трое. В городе в Лучаковке и около Троицкого.
— С церквями? — вдруг у меня забилось в висках.
— Только на городском была давно снесли. Я сунул ему под нос листок:
— Завтра сам за маслом пойдешь. Видишь большой крест?
— Не слепой, — напряженно ответил он.
— Церковь! Понял?
— Схожу на рынок за маслом так и быть! — обрадовался дядя Вова. И озабоченно забормотал: — Фюнф… фюнф… в слове «пять» четыре буквы а не пять.
— Зато в слове «фюнфъ», с твердым знаком, пять букв! Гляди, — я снова сунул ему листок. — И застыл с раскрытым ртом. — Надо, — медленно и раздельно начал я, — отступить… справа… от… пятой., буквы… Значит, там должно быть написано слово. На чем? На чем, спрашиваю?
— На памятнике, — вымолвил дядя Вова.
— А раз эта буква в слове?..
— Получается надпись надгробная.
— Какая надпись?
— «Фюнфъ» с твердым знаком.
— А почему «Фюнф», глянь, написано с большой буквы?
— Неужели такие фамилии бывают?! — ахнул дядя Вова.
— Что и требовалось доказать, — небрежно заметил я. — Готовь лопаты, чувал побольше, и пошли рыть, где указано.
— Сначала на разведку, — встрепенулся он. — Зря я всю школу кончить не успел был бы таким умным как ты завгаром бы стал!
Мы чуть ли не бегом припустили на кладбище. На обратном пути молча купили на рынке постного масла, налитого в водочную бутылку с тряпочной затычкой. Уже вечерело, на реку упала тень…
— Я не хотел тебя сильно расстраивать, но я не раз туда ходил. Все до одной могилы разглядывал если бы я заметил какой-нибудь «Фюнф» я бы запомнил.
— Тогда зачем зря тащились? Почему сразу не сказал?
— Так ты бы все равно пошел и сам я надеялся а вдруг!
— Что-то у вас вообще маловато доисторических памятников и плит.
— Да ведь самые лучшие свезли в… — он осекся. Когда он договорил, мы пошли в Детский парк. На его краю, на огороженном пятачке, стояли надгробья из полированного гранита и мрамора незабвенным жертвам-революционерам с высеченными и плохо позолоченными фамилиями и именами. На месте, видимо, отбитых крестов или религиозных скульптур были вставлены железные штыри с жестяными звездами. Собственно, остались лишь цоколи надгробных памятников. «Фюнфа» мы отыскали сразу. На задней, а когда-то передней, стороне всех надгробий были стесаны зубилом прежние рельефные буквы и даты. Но все равно можно было легко прочитать, кто и что.
И мы прочитали: «…купец первой гильдии Карл Карлович Фюнф…» и т. д.
— А ведь нехорошо, — внезапно сказал дядя Вова, — свои не сделали чужие позаимствовали.
— Там разберутся, — показал я на небо. — Теоретически, по архивным данным, можно, конечно, определить место, где был захоронен Фюнф. Жаль, я не корреспондент. А так — кто мне будет выяснять?..
— Никто. План показывать нельзя понимаешь.
— Какие ж мы обормоты! — прошипел я. — Где план? Мы достали схему и уставились на нее.
— Вот она, могила, — указал я на крестик, обведенный кружком. — Место ее можно высчитать по другим крестикам-могилам в нужном ряду. А надгробие Фюнфа — вот же оно! Отмеряй от пятой могилы сажень.
— А я откуда знаю какая она? — огрызнулся дядя Вова.
— Сначала давай замерим расстояние от пятой буквы до края надгробия.
— Правильно, — дядя Вова вынул из кармана складной метр.
Получилось тридцать пять сантиметров.
— Будем рыть… ну, примерно на расстоянии полуметра — метра от места погребения справа.
— Если оно сохранилось, — буркнул напарник. — Может там теперь кто другой похоронен лежит.
— От него и будем мерить. Застолбим точку и станем копать влево и вправо, вперед и назад, — зажегся я. — И…
— И вверх и вниз, — засмеялся дядя Вова. — Вверх не надо а вниз само собой. Умен шельмец весь в меня! Рыть будем ночью?
— Ночью с фонарем.
— А не страшно на кладбище-то?
— Страшно, — признался я. — А что делать? Если застукают, скажем, что выползков копаем для рыбалки.
— Я не милиции боюсь. Тебе хорошо ты уедешь а я местный останусь.
— Ах, вон ты о чем.
— О том о том. Жмурики привяжутся будут в гости зазывать!
— Ты это серьезно?
— Может ты один сходишь а я всю неделю буду ходить за водой? — взмолился он.
— Вдруг не дотащу, — буркнул я. Идти одному ночью на кладбище мне не улыбалось.
— Чего не дотащишь гроб что ли смеешься?
— Сундук с сокровищами. Сун-дук!
— Я тебе тачку дам хорошая тачка новая.
— Нет, — отрезал я. — Или вдвоем, или никто. Ну?
— Вдвоем, — вздохнул он.
Мы опять пошли на кладбище. Высчитали по плану, сверяясь с реальностью, местоположение могилы Фюнфа. К счастью, там никто не был захоронен по-новой. Лишь проступал среди бурьяна кирпичный фундамент, на котором когда-то и высился тот надгробный памятник.
Затем отправились домой за лопатами и фонариком. Вместо тачки решили взять два мешка, один — про запас.
Дорого бы я дал, чтоб взглянуть со стороны, как мы при свете карманного фонаря остервенело копали ночью яму на кладбище!
Вскоре я понял, почему фонарик называется карманным, — им бы только карман освещать. Затем догадался, отчего штыковую лопату окрестили именно штыковой. С ней бы только в бой ходить, колоть, а не рыть, — все время гнется, натыкаясь на камешки. Потом усек, зачем совковую лопату наименовали грабаркой. Ей, верно, удобней оглушать и грабить запоздалых путников на большой дороге, а не землю загребать, — ничего не ухватишь. Вероятно, если б мы взяли еще и лом, то, по моему мнению, он годился бы только на сдачу лома черных металлов во «Вторсырье».
Может быть, я потому разворчался, что больше всего на свете не люблю земляные работы. Однажды я месяц копал в деревне когаты — землехранилища для картофеля, — когда наш класс бросили в помощь колхозу «Заря коммунизма». Я там радикулит схватил, копая от зари до зари. Человек тридцать гавриков вроде меня целыми днями орудовали лопатами. Один бульдозер выполнил бы всю нашу работу за день. Китайский труд.
Мы рыли с дядей Вовой то левее, то правее, и все бесполезно. Та «сажень» нам надолго запомнилась. До сих пор не знаю, каков ее размер в точности.
Мы столько вырыли, что через месяц могильщики — достоверно знаю — добрым словом поминали неизвестных помощников, хороня в той яме очередного уважаемого покойника. Если б нас тогда ночью застукала милиция, мы б наверняка не смогли оправдаться тем, что якобы добываем выползков лично для своей рыбалки. Здесь был виден размах целой червячной артели, вознамерившейся обеспечить свежей насадкой широкие слои рыболовной общественности.
В довершение всего дядя Вова вдруг прекратил свое землеройство и сказал ледяным тоном, от которого у меня кровь застыла в жилах:
— А с какой стороны мы роем копаем? Если памятник стоял к нам лицом нужно справа если спиной нужно слева.
Ясно… Судя по результатам, отсутствующий памятник проигнорировал нас своей задней частью. Попросту — обратной стороной. Надо было менять дислокацию и начинать все сначала. Я аж застонал.
— Подсади меня выбраться не могу, — попросил дядя Вова.
Я с размаху воткнул лопату в дно ямы, собираясь помочь содельщику, иначе он сам бы отсюда никогда не вылез. Разве что до утра рыл бы себе ступеньки в стене. И вот, когда я, значит, со злостью вонзил в дно лопату, раздался металлический звон. Дядя Вова упал на колени и принялся по-собачьи бешено разгребать землю пальцами.
— Свети сюда…
Фонарик осветил кованый угол. Гроба?.. Ящика?.. Сундука?..
Мы заработали, как подстегнутые. Причем не кнутом, а по меньшей мере бичом работорговца.
Это был ящик. Дубовый и довольно тяжелый. С навесным, на петлях, замком. Открывать его на месте, конечно, даже не пытались.
Как мы с ним добрались домой, в горячке подзабыл. Помнится, что дядя Вова кряхтя тащил ящик в мешке на своем горбу. А я в другом мешке нес лопаты.
И еще:
— Может завтра и с другой стороны покопаем посмотрим? Может все-таки памятник не так стоял? — вошел в раж дядя Вова. Вконец обалдел!
Дома мы закрылись на ключ, зашторили окна, застелили обеденный стол скатертью, как на празднестве, поставили в центре наш ящик и сначала полюбовались на него. Пожалуй, я назвал его ящиком только из-за размеров, скорее, это был сундучок. Впрочем, у сундучка крышка должна быть выпуклой, а наша была плоской. Так что все-таки ящик.
Мы немного поспорили об этом, затем дядя Вова принес инструменты и, растягивая удовольствие, разложил, как перед хирургической операцией, на столе всякие клещи, стамески, отвертки и разнокалиберные молотки.
— А ты мне не верил думал дядя из ума выжил? — подмигнул он. — Прощаю тебя так и быть по молодости зеленой.
— Потом прощать будешь.
Я даже зубами заскрипел от нетерпения. Что значит азарт!
— Начинаю.
Дядя Вова потянулся было к стамеске… Схватил большущий молоток величиной с маленькую кувалду и одним махом ухарски снес замок у ящика.
Мы распахнули крышку. Под ней был, плотно прилегающий к стенкам, брезентовый чехол. Дядя Вова с хрустом вскрыл его, как консервы, лихим ножом — от и до, начисто.
Не знаю, что предполагал он увидеть, но я чуть не зажмурился в ожидании сияния драгоценностей, как в фильме «Граф Монте-Кристо» (производство Франции).
Увы, в ящике не оказалось даже завалящего золотого колечка.
Только деньги. Сверху донизу рядами лежали пачки немецких 100-марковых купюр, выпущенных в 1912 году. Каждая пачка была аккуратно завернута в странички из каких-то старых русских книг. Владелец клада — видать, тот еще обрусевший немец! — свято верил в свой бывший «фатерланд». Нет бы поместить капитал в американские доллары!
Что заставило его закопать деньги? Война с Германией? Может, он каким-то образом работал на немцев и опасался ареста?.. Или тогда, в 1914-м, когда и была спрятана первая записка меж страниц технического тома, а вторая — в коробке из-под монпасье, наши соотечественники в порыве патриотизма громили немецкие конторы, магазины и лавки — все подряд?.. Для кого и почему он избрал столь усложненный путь? Для наследников? Не для себя же!.. Или, может, начитавшись авантюрных романов, потирал ладошки, предвкушая, как потомки, если вдруг не удастся забрать клад самому, попотеют, поломают голову, побегают и покопают? Во всяком случае, с нами это ему вполне удалось провернуть.
Вероятно, тот инженер Сидорофф, который завещал дяде Вове свою техническую библиотеку, был дальним родственником неизвестного владельца клада, а тот в свою очередь — потомком К. К. Фюнфа. На кладбище до революции могли приобретаться целые фамильные участки, где по соседству со своим усопшим предком кто-то и закопал клад. А то свободное место волею случая так и оставалось свободным до нынешней поры. Вернее, до того времени, пока туда не явился я со своим дядей. Не только в маленьких городках встречаются, так сказать, незаселенные промежутки между могилами на погостах. Таких участков и на самых известных московских кладбищах полно. Их, как правило, держат для начальства разного ранга.
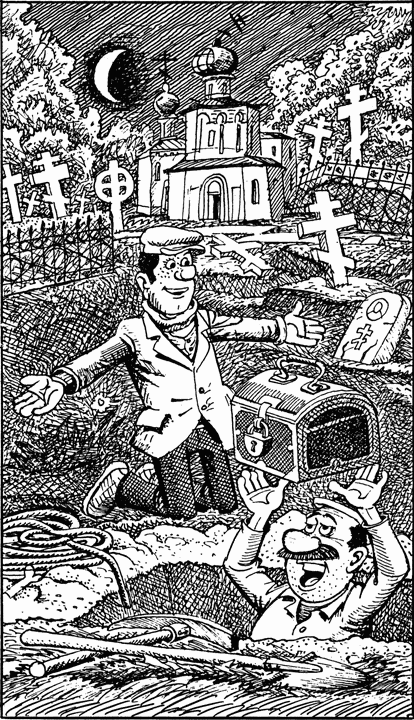
Короче, зачем, для чего и для кого был закопан клад, почему две записки писали явно два человека — не знаю и не хочу знать! А как попала записка в ту книгу — и подавно!
Дядя Вова в сердцах сказал: этими деньгами, мол, только кухни оклеивать. Что через неделю и сделал. Вышло красиво. Не кухня — картинка!.. Знакомые наперебой спрашивали, где такие оригинальные обои достал. Дядя Вова, не моргнув глазом, отвечал, что импортные, немецкие.
— С того света, — и неопределенно показывал рукой.
— А-а, — сразу догадывались гости, — из Москвы. Племяш проездом купил?..
Обои обоями, а ценности в том ящике все-таки были.
И какие!
Те страницы, в которые были завернуты пачки марок, дядя Вова, естественно, хотел выбросить. Но я вдруг ими заинтересовался. Собрал и разложил по нумерации и по смыслу, потому что здесь оказалось целых три прижизненных издания — ни страницы не пропало — Александра Сергеевича Пушкина! Откуда знаю, что прижизненных?.. Вас что, в школе не учили? В каком году Пушкин погиб — в 1836-м. Тогда помалкивайте, эти книжки были изданы еще раньше. Судите сами: «Кавказский пленник», Санктпетербург, 1822»; «Бахчисарайский фонтан», Москва, 1824»; «Евгений Онегин» (первая глава), Санктпетербург, 1825».
Хозяин клада их разброшюровал — видать, брал первые попавшиеся под руку, — чтобы обернуть деньги. Немец — что с него взять! Как говорил поэт: «Не мог понять он нашей славы… на что он руку поднимал», — мы еще в школе наизусть учили.
Дома, в Курске, я отдал эти страницы красиво переплести, потом повез книги в Москву и предложил в букинистический. Так там переполох поднялся! Мало того что прижизненными — те книги оказались самыми первыми изданиями! Вот этого я уж точно не знал.
Получил я за них очень прилично. Меня еще и заверили, что они прямым ходом в «Ленинку» пойдут.
Согласно уговору с дядей Вовой о дележе клада, я оставил себе только треть — на сей раз настоящих, ходовых купюр, — а другие две трети отослал ему.
Он мне сколько-то там обратно переслал, подчеркнув, что те обои на его кухне тоже денег стоят. «Так и быть а ты не верил что клад», — написал он в письме.
Это я не верил?!
РЕССУ, ТАССУ!
— Вот говорят — Финляндия!.. — сказал Ураганов. — Не секрет, что в ней свыше 60 000 озер. Причем больших, средних и малых. Видели у меня дома картину? — неожиданно спросил он. — Ну, такой спокойный пейзаж — лес, озеро, причал на бочках, рыболов с удочкой и собакой?
— А ты нас домой приглашал? — хмыкнул толстяк Федор.
— Разве нет! — озадачился Валерий. — Тогда пока так поверьте. С той картиной связана любопытная история. Не знаю, что и думать… Картину дед еще с финской войны привез. Единственный трофей, не считая контрабандного осколка под плечом. Он нам ее на десятую годовщину свадьбы подарил. Сказал, для мирного настроения в семье. Сначала та картина у нас на кухне висела, в углу, а теперь — в большой комнате, на самом видном месте. Почему? Терпение…
Однажды мне с моей Ирой пофартило съездить в Финляндию по приглашению. Нам его — на целый месяц! — прислал финский капитан сухогруза — бородатый Матти, я с ним как-то в хельсинском порту познакомился. Ну, мы с Ирой не сразу собрались. Надо было пристроить детей у тещи, дождаться ее отпуска. Другие неотложные дела-делишки…
Тронулись в путь лишь осенью 89-го, когда на частные поездки вместо трехсот рублей стали менять только двести. И то повезло. Вернулись, а уже новое правило: за ту же сумму финских марок сдирают две тысячи рублей! В десять раз валюта подорожала! Кто-кто, а государство гребет деньги лопатой. Вовремя мы съездили в Суоми. Теперь отъездились… Сами подумайте, за сто марок надо выложить сто пятьдесят три рубля! Во сколько ж тебе там все влетать будет? Несчастный билетик в городском автобусе — десять марок, значит, пятнадцать рублей. Чашка кофе — пять марок, считай семь с полтиной. А вдвоем по салату и по несчастной пицце в любой забегаловке съесть — минимум сотню марок отвали, то есть полторы сотни рубликов. Наши специально такой обменный курс ввели, чтоб поменьше ездили и не сравнивали жизнь у них и у нас. Финнам-то что, средняя зарплата — семь-восемь тысяч марок. Я тоже не прочь пятерку за чашку кофе отстегнуть, если получать тысяч восемь в месяц. Ну, Бог с ними!..
Главное, съездили. Ехали шикарно, в «СВ», просто других билетов не сумел достать. Я первый раз пересекал границу сухопутным путем, всегда — только морским, поэтому кое-что мне было в новинку. Вроде бы одна и та же земля — впрочем, когда-то и там и тут финская, — но по нашу сторону — бурьян, а по их — подстриженный газон. В ресторане на заграничной станции пиво продают: хочешь, бутылочное, хочешь, баночное. Для меня так называемая «проблема пива» — всегда показатель цивилизации.
Меня все спрашивают, как там у них с сухим законом. По-моему, это у нас был сухой закон, а не у них. Тогда в Союзе спиртные напитки продавали с двух часов дня, а в Финляндии — в специализированных магазинах «Алко» — с десяти утра. Ну, а пиво можно купить в любом продуктовом в любое время. В городе Куовала, где нам надо было сделать пересадку на Куопио, я взял в «Алко» проспект с перечислением разных водок, вин и марок пива. Названий тех водок и вин я потом скуки ради, уже в местном поезде, насчитал около ста, а пива — почти семьдесят. Каких только стран не было! Так что «сухой закон» в Финляндии заключается лишь в одном — цены гораздо выше, чем в других странах. И тем не менее за всю среднемесячную зарплату можно купить бутылок семьдесят самой дорогой водки. Попробуй у нас!.. Правда, за ту же всю зарплату можно приобрести и три-четыре новеньких японских видеомагнитофона или два-два с половиной подержанных автомобиля «Лада».
На этом про цены хватит, не мужская тема. Мы ехали не покупать, а отдыхать. Я во всяком случае точно. У моей-то москвички Иры, впервые попавшей в капстрану, — она нигде не бывала, кроме Болгарии, — глаза-то, конечно, разгорелись. Хотя на наши общие 2700 марок не очень разгуляешься, разве что с ходу старую «Ладу» купить — и сразу домой. А на бензин занять у капитана Матти.
Наш капитан встретил нас на вокзале в Куопио — втором по величине финском городе, расположенном на берегу озера Каллавеси. Тысяч семьдесят жителей. А в Хельсинки — миллион, одна пятая населения всей страны. Это как если б в Москве жило целых шестьдесят миллионов человек. Попробуй рассели и накорми такую ораву!..
На темно-голубом, почти черном, «рено» Матти повез нас в далекую деревушку с трудным названием. Он жил там среди дикой природы у большого озера, протянувшегося километров на тридцать, а шириной где пять — где шесть километров. Оно соединяется каналами с другими озерами и оттуда можно доплыть до самого Куопио. Раньше у Матти была квартира в Хельсинки, но потом потянуло прочь из суетливой столицы, и он — не помню — то ли купил, то ли построил дом на природе, у чистой воды в еловом лесу.
По дороге мы с ним болтали на английском, и время от времени я переводил жене примерно так:
— Я счастлив от нашей встречи! Я рад видеть вас! Как хорошо, что я в отпуске! Вы молодцы, что заранее позвонили из Москвы! Я вас заждался! Жена сейчас тоже в отпуске, она уехала к сестре в Штаты! Вы сами немножко виноваты, что она вас не дождалась!.. Вам у нас понравится! У меня моторная лодка! Собака! Два дома, один — летний! Мои сын и дочь учатся в Хельсинки, они студенты, они живут там в общежитии! — И вновь: — Я очень рад видеть вас!
Каюсь, добрые три четверти восклицаний я прибавлял в переводе от себя. Все-таки Матти был финном, а не итальянцем.
А моя жена смущенно бормотала в ответ:
— Спасибо… Спасибо… Спасибо… — И в свою очередь приглашала его с супругой и детьми к нам в гости.
— Благодарю. Как-нибудь, обязательно, — отвечал он и тоже: — Спасибо… Спасибо…
Если раньше мы собирались погостить у него дней двадцать, то теперь решили не очень-то его утруждать, тем более без хозяйки, и ограничиться максимум двумя неделями.
— И то много, — беспокоилась Ира.
Мы разговаривали на русском, не осторожничая, но как бы между прочим, вроде бы обмениваясь впечатлениями. Русского языка он не знал.
За окном проносились ельники и сосняки, то и дело бесконечно мелькали озера. По краям отличной асфальтовой дороги торчали какие-то шесты. Зимой много снега, и они отмечают обочину, — так объяснил Матти. Навстречу выскакивали хутора и одинокие деревянные дома, в основном покрашенные красно-коричневой краской. Их островерхие крыши покрыты гонтом и чем-то вроде толстого, антрацитного цвета рубероида, уложенного наподобие плоской черепицы.
Мы обратили внимание, что все машины едут с зажженными фарами — причем днем. Я спросил у Матти.
— Такой закон, — ответил он. — Так безопаснее.
Ну-ну. Верно, у них нет проблем с аккумуляторами.
Иногда попадались небольшие, скромные протестантские церкви… Но больше всего было бензоколонок, каждая — с ремонтной мастерской, магазином и закусочной.
При одной из них, где мы остановились выпить кофе, оказался еще и музей колоколов разных стран. Большие, многопудовые русские, тяжелые немецкие и английские, среднего размера финские, а так же всевозможные маленькие колокола висели под навесами на массивных деревянных опорах рядом с бензоколонкой. Можно было позвонить в каждый колокол за веревку, а уж сам хозяин, когда ему вздумается, мог, не выходя из дому, трезвонить во все колокола разом, заставляя болтаться их языки с помощью электродвижка. Тут же в магазинчике было полным-полно бронзовых, хрустальных, фарфоровых, стеклянных, керамических колокольчиков-сувениров. Очевидно, хозяин приятно тронулся на этой почве.
Странно, но когда я позвонил в колокол с древне-русской вязью на корпусе, вдруг повеяло чем-то родным. Самовнушение? Такой чудный звон…
Я потому подробно рассказываю о своих впечатлениях, чтоб ввести вас в саму атмосферу. Без нее ничего не получится. Иначе все сведется к известному изречению: «Пришел, увидел, победил». Куда пришел? Что увидел? Кого победил? На первые два вопроса я уже пытаюсь ответить.
Часа через полтора мы были на месте. Перед тем, как свернуть с асфальта к себе, Матти забрал свою почту. Здесь, на пересечении шоссе и каменистой проселочной дороги, теснились рядком на стойках почтовые ящики. Они не запирались. Да и сами дома в округе никто из фермеров не закрывал на ключ, и моторки на озере никто не держал на цепи с замком. Двери гаражей, мастерских, коровников, конюшен и бревенчатых домиков-саун открывались простым поворотом щеколды. А ведь у того же Матти было две машины: «рено» и еще «судзуки», а в доме, помимо всего, было полно всякой электроники, начиная с видеотехники и кончая персональным компьютером.
На мой осторожный вопрос насчет возможных мазуриков Матти беззаботно ответил:
— Девять лет здесь живу, нигде вокруг ничего не пропадало. Даже пиво из кладовой!
Он, как и другие, был оптимистом. Через неделю у него угнали моторную лодку, да и пиво заодно выпили. К этому мы еще вернемся.
Ну, что сказать про «поместье» Матти? Его неогороженный, как у всех, лесистый участок, примерно гектара полтора, начинался метрах в двухстах от шоссе. Большой шестикомнатный дом со всеми удобствами, второй этаж — под скатами крыши; в отдельном строении, как бы разделенном на секции, — кладовая, дровяник, гараж; а на втором этаже, так же прямо под крышей, — летние комнаты дочери и сына. Там, на мой взгляд, можно жить и зимой, но тогда пришлось бы круглосуточно включать электрокамины. Что еще? Погреб со входом, похожий на дот. И, конечно же, гордость любого финна — бревенчатая сауна на самом берегу озера. К кому бы мы ни приходили в гости, первым делом ведут показать сауну. Они самые разные, расположены и в подвалах, и на этажах, по соседству с ванной комнатой, и такие, как у Матти. Тут само озеро обязывало.
Да! На участке был еще один деревянный домик — собачья конура, в тон «господскому» дому темно-красного цвета с белой отделкой. Над входом надпись из прибитых деревянных же букв: «Ressu». Собаку звали — Рессу. Это был умный, серьезный, но добрый желтый пес лет шести-семи, чуть меньше среднего размера, с заломленными на концах гладкими ушками и с закрученным половинкой буквы «о» хвостом. Его резиденция располагалась в самом центре владений около высокого флагштока — обязательной принадлежности каждого отдельного финского дома, — на котором каждый хозяин по праздникам, государственным ли, религиозным, или семейным, торжественно поднимает национальный флаг.
Что?.. Поподробней о саунах, раз мы сейчас в бане?.. Пожалуйста! Только лишь в городах, в многоэтажках — электрические сауны, а в сельской местности — металлический бак-печка дровяного отопления, наполненный сверху раскаленными камнями, куда, сняв крышку, плещут деревянным половником воду. И, конечно, полок. Вся сауна изнутри обшита, понятно, деревом. В общем-то, напоминает нашу русскую каменку. И хлещутся тоже березовыми вениками, и, распарившись докрасна, с душераздирающим криком кидаются в холодное родниковое озеро. А потом, обернувшись большими полотенцами, как и мы, дуют в прохладном предбаннике пиво. На троих свободно уходит ящик. В парилку делают по четыре-пять ходок, причем никаких шапочек не надевают, но лысых, пожалуй, меньше, чем у нас.
Так… Сруб еще у него на участке стоит, лапландский, из вековых серых бревен, — куплен про запас. Пригодится. Подручный материал на случай ремонта дома. Небольшой огород имеется — под картошку и всякую зелень, без химии. И крохотный парничок под пленкой. Все остальное — высокие ели, березняк, кустарник, валуны, трава — словом, дикий лес. А у озера — дощатый причал, укрепленный на пустых заякоренных бочках. Рядом, носами на берегу, стоят две лодки: пластиковая бабаечная — ну, весельная — и деревянная разлапистая моторка с подвесным «Меркурием» в семь лошадей.
Вроде бы ничего не пропустил… Все это играет важную роль в моей истории.
Эх, мне бы такую жизнь на родной природе! Да кишка тонка…
Быт у нас был нормальный. Матти выделил нам комнату сына — не ту, летнюю, а в большом доме. Готовили в гостиной-кухне высотой во все два этажа, до конька крыши, на электроплите — напротив огромной беленой деревенской печи. Собственно, там вдоль широченного бокового окна и вытянулся кухонный комбайн: плита, электрические мойка и сушилка посуды, и просто мойка из нержавейки. Если не считать кофе, масла и сыра на завтрак, то у нас каждый день был рыбным. Ставили сети, — у них любителям разрешается хоть с километр длиной! — отмечая верхний шнур пустыми пластиковыми канистрами на веревках. Вернее, лишь разом поставили две сети — одну с мелкой и другую с крупной ячеей, метров по сто каждую, — а затем вечерами только ездили проверять на моторке. Вынимали налимов, сигов, щук, очень редко семгу-одиночку, а главным образом рыбешку, которая у финнов называется — «муйкку», вкусную, с маленькой, как манка, красной икрой.
Эту муйкку мы брали с глубины метров пятнадцати — двадцати, мелкая сеть приносила нам килограммов шесть-семь. А икры, которую потом слабо солили, получалось с полкило. Рыбу мы коптили в большом котле во дворе, созывали по телефону гостей. Из всех рыб пес Рессу признавал только муйкку, он ел ее даже сырой.
На спиннинг нам попадались «ахвены» — окуни, но щука почему-то ни разу не врубилась.
А «сарки» — плотва брала настолько жадно, что за час можно было надергать на червя добрую сотню. Приличная, с ладонь. Но финны плотву за рыбу не признают.
— Только для Чаплина, — морщился Матти, упоминая пропущенного мною в рассказе еще одного небезызвестного жителя своего поместья — черно-белого котяру по кличке Чаплин из-за черного квадратика шерсти под самым носом. И мы меняли место ловли.
По ночам, прихватив с собой фару, аккумулятор и остроотточенную острогу-шестизубку, мы отправлялись на лодке лучить щук. По-фински этот, когда-то не называвшийся и у нас браконьерством, вид ночной охоты на рыбу с острогой называется — «туласта». У финнов, я смотрю, наверное, запрещается разве что только глушить рыбу динамитом. Они справедливо полагают, что отдельные люди природе урона не нанесут. Зато любые предприятия за выброс неочищенных стоков штрафуют нещадно, а то и закрывают вовсе.
Как вы понимаете, нам с Матти, страстным рыболовам, скучать было некогда, зато моей жене, москвичке Ире, надоедала эта робинзонова житуха. Тогда мы отмывались, отскребывались от рыбьей чешуи и ехали в ближайший городок, а то и в сам Куопио — шлялись по магазинам или ходили даже в театр. Ярких впечатлений ей хватало дня на два, и она опять тосковала по шумной городской жизни, когда мы по вечерам устраивались в высоченной гостиной перед видео и потягивали коктейли с итальянским вермутом «Кампари» и соком, бренча ледяными кубиками в высоких бокалах, а Рессу дремал у наших ног, изредка почесываясь и гоняясь зубами за блохами.
А! Как я завернул! Это красота, болваны, а не красивость. Уж на что я — простой водолаз, и то понимаю.
— Рессу, тассу! — говорили мы.
Пес нехотя вставал и подавал лапу. Безошибочно — правую.
Я же сказал, умный пес. По утрам он нас будил. С разбегу распахнув дверь, подбегал к кровати и лаял — как бы зовя пить кофе, аромат которого уже разносился по всему дому. Матти — ранняя пташка.
Только раз Ира заинтересовалась рыбалкой, когда я примитивной ореховой удочкой — другой не было, одни спиннинги, — выудил на вульгарного червяка полуторакилограммового благородного лосося — семгу! А лесочка-то была — 0,16.
— Не может быть! Ну, не может!.. — повторяла она, вмиг научившись снимать хозяйской видеокамерой и запечатлевая меня с редкостным трофеем. Рыба так и переливалась, пестря темными крапинками!
— Это первый лосось в нашей жизни, — с достоинством объясняла она потом подругам в Москве, показывая ту кассету по видеоплэйеру — другому финскому «трофею». — Пойман на обыкновенную палку.
Даже Матти был поражен. Ни разу в жизни он не поймал лосося обычной удочкой, тем более здесь, у дома, зато лавливал куда больших спиннингом на мушку: исключительно на заветной быстрой реке Тана, разделяющей Финляндию с Норвегией.
— Вероятно, на червяка клюнула сарки, а ее и схватил лосось! — предполагал он.
Теперь, представляя своим знакомым, он называл меня не иначе как: «Фишинг кинг» — Рыболовный король. Нет, правда, он мной гордился еще больше, чем моя жена.
Мы, наконец, подходим к той краже моторки, о которой я уже упоминал. Кажется, в тот день мы ездили покупать видеоплэйер, не везти же финские марки назад. Купили, вернулись, моторной лодки нет. Матти сразу озаботился — это все равно что ковбоя оставить без лошади — и на всякий случай прошелся по комнатам: остальное было на месте. А разиня Рессу под ногами путается, хвостом мотает. Хорош сторож! Хотя какой он сторож, просто друг.
Загадочная история. На столе в гостиной — две пустые бутылки из-под пива и два стакана. Не наших рук и глоток дело, не беспамятные. Матти сообщил в полицию, затем мы взяли соседскую моторку и поехали нашу искать. Да разве найдешь на озере… Я же говорил, какое оно здоровенное. Больше всего Матти опасался, что, может, какие-то мальчишки взяли ее погонять, потом затопили где-то от греха подальше. Как говорится, концы в воду.
Вернулись мы затемно. Прикончили с горя бутылку «Сибирской», которую еще я привез. Тут взыграла во мне кровь, ударил себя кулаком в грудь.
— Я тебе моторку найду, — говорю, — вот увидишь! Такая у меня уверенность была.
— Трепач, — усмехнулась моя Ира, тоже расстроенная. И Матти ударил себя в грудь кулаком.
— Если найдешь, тебе после Нового года такой сюрприз сделаю!.. — Мол, закачаешься!
— А почему после Нового года? — заинтересовалась Ира.
— Да я родился в двенадцать ночи тридцать первого декабря, — говорит. — Примета такая: что пожелаю, то и сбудется! Не глобальное что-то, конечно, а в разумных пределах. Проверено.
Хотел я было ляпнуть: а что если пожелать, чтоб лодка нашлась?.. Так это полгода ждать, а на кой ему ляд моторка зимой!
Рано утром — не захотел он меня будить — вновь уплыл на соседской моторной лодке. А тут после завтрака и сам сосед зашел, разговорились — тоже на английском, он и предложил нам поехать с ним посмотреть международный центр лыжного спорта. Хоть и осень, а все равно интересно. Он, мол, там в зимний сезон на слаломной трассе работает, все знает, покажет.
Ира обрадовалась, как-никак разнообразие. И мы, оставив Матти записку и прихватив Рессу, покатили на «опель-кадете» соседа.
По пути сосед рассказывал нам, что место, куда мы едем, находится на берегу нашего озера. По воде туда километров семь, а по шоссе все тридцать.
У меня было какое-то доброе предчувствие. Оно меня редко обманывало. Я вообще, как вам известно, очень суеверный человек. А тут как раз мы проезжали мимо той, помните, бензоколонки с «колокольным музеем». Я попросил остановиться, выскочил, тихонько позвонил в старинный русский колокол и вернулся.
— Загадал? — рассмеялась Ира.
— Смейся-смейся, — сказал я.
А сосед, ничего не понимая, только улыбался. Приехали. Осмотрели гостевые домики, ресторан с танцплощадкой, поглазели на слаломные трассы и трамплин на той стороне озера. И вижу я вдруг с бугра длинный причал на нашей стороне со многими лодками.
— Ну-ка, Рессу, ищи, — приказал я собаке и побежал к берегу.
Рессу обогнал меня и с разбегу прыгнул в одну из лодок. Это была моторка Матти!
Все на месте: и мотор с бензиновым баком, и спиннинги, и весла, и даже финка, которой мы концы с канистрами обрезали, когда доставали сети.
— Рессу, тассу! — сказал я. И мы пожали друг другу, так сказать, лапы.
— Наша лодочка. Хорошая, славная лодочка, — ворковала Ира, поглаживая ее борта, и вдруг: — Это не ты нашел, а Рессу!
— Может, Рессу и в колокол звонил? — хмыкнул я. — И первым ее с бугра увидал?..
Мы тут же брякнули по телефону и порадовали Матти — он уже успел, не солоно хлебавши, вернуться домой. Когда мы пригнали моторку, я сказал Матти:
— А может, кто-то на ней на танцы в ресторан ездил?.. Ответа мы так и не нашли, и похититель не объявился.
— Ну так как, новогодний сюрприз остается в силе? — спросил я.
— Не волнуйся, Фишинг кинг, — сиял капитан Матти, вновь обретший свою посудину. — Ты еще сам мне после Нового года позвонишь и скажешь, был сюрприз или нет.
Очень уверенно сказал, без капли сомнения.
А теперь пора переходить к самому главному. К той картине, что привез мой дед с финской войны. С нее-то я и начал эту историю.
Когда мы вернулись в Москву… Кстати, ту видеокассету с моей семгой, которую Ира засняла, таможенница на границе изъяла, заявив, что осуществляет «политконтроль», и, просмотрев, вернула часа через полтора.
— Понравилось? — поддел я ее.
— Очень профессионально снято, — кивнула она, дура. Ира надулась от гордости.
Так вот, когда мы вернулись в Москву, Ира вдруг вспомнила про финскую картину. Ей непременно захотелось перевесить ее из кухни в большую комнату.
— Хороший вид, — говорила она. — Будет нам напоминать о поездке.
Но ни она, ни я не знали — еще как будет напоминать!
Наступил Новый год. После тостов за здоровье детей, семьи, родных и близких, я предложил выпить за день рождения нашего далекого друга Матти. Я потянулся чокнуться бокалом с Ирой, но… она изумленно смотрела куда-то мимо меня. Я обернулся и тоже замер.
Позади на стене висела та самая картина с финским пейзажем. Пейзаж-то пейзажем… Ну, как и было, озеро, лес, валуны, но вот причала, человека с удочкой и собакой на нем — раньше не было! И не только этого!
Кто ж знал, что озеро окажется именно тем, где мы были. Что причал — тот, где мы не раз стояли. Что бородатый человек с удочкой — вылитый Матти. Что пес — это… Сказать вам его имя?
А дом на заднем плане? Флагшток? Лапландский сруб? Домик — конура? Жаль только, буковки на ней нельзя прочитать, даже с лупой. А Рессу-то!.. На картине он протягивает лапу, словно по команде: «Рессу, тассу!»
… Как и заведено у нас с письмами из-за границы, поздравление от Матти пришло с опозданием на месяц. Плохо работает финская почта. В нем была приписка: «Ну, как? Я пожелал в 12 ночи! Но ничего конкретного. Пусть, мол, будет для вас просто сюрприз».
И все.
Мы потом видели дома у Валерия ту картину. Она почти в точности совпадала с цветным снимком, который он недавно сделал с отснятой в Финляндии пленки. Один и тот же ракурс.
Фотография нас совсем доконала.
— А может, ты кого-то попросил с фото нарисовать картину? — сомневался толстяк Федор.
— Ага, — кивнул кучерявый детина Глеб.
— Вы что, не можете старую картину от нового снимка отличить? — обиделась Ира — жена Валерия.
Действительно. Против фактов не пойдешь.
— Когда я смотрю на картину, мне почему-то слышится отдаленный перезвон тех международных колоколов — с той далекой бензоколонки… — сказал Ураганов.
ТРЕПАЧ НЕСУСВЕТНЫЙ
Ах, Ялта, Ялта… Живая и грустная. В Ялте почему-то всегда грустно, как бы весело тебе не было. И ведь у каждого города есть свое главное настроение: Москва и Берлин — деловые, Одесса и Рим — веселые, Питер и Гамбург — тоскливые, а Ялта и Венеция — грустные…
Чудный Ялта город. Чудный и чудной. В нем я, помните, пережил одно из своих самых незабываемых приключений, когда сподобился побывать в облике «рукастого человека». А вот, пожалуйста, другая необычная быль.
«Богатырь» стоял в ялтинском порту. Я на берег не пошел вместе с другими, уже и стемнело, чего там толкаться на шумной набережной, где народу, как семечек в мешке.
Облокотясь на предварительно проверенный поручень, я стоял у борта на нижней палубе, покуривал и стряхивал пепел в большое ведро с песком.
— У вас тут пиво чешское есть? — внезапно раздался за спиной чей-то быстрый мужской голос.
Я резко обернулся. Что за шуточки!
Передо мной стоял незнакомый высокий худой человек лет двадцати семи заурядного курортного обличия, в линялых джинсах и кроссовках. Как он проник на корабль? Наверное, вахтенный зазевался. Но вид у незнакомца был мирный, трезвый, лицо открытое, улыбка добрая, и я не стал сразу его прогонять. Не на боцмана Нестерчука он нарвался. Тот бы показал ему пиво, тем более чешское.
Вероятно, и у меня был вполне миролюбивый вид, он проникся ко мне доверием.
— Я здесь в санатории отдыхаю, — показал он куда-то в сторону Нижней Ореанды. — Мы там заспорили, ну и я проспорил. А парни сказали: слетай-ка, если ты такой умный, в порт за чешским пивом. Тут на любом лайнере, говорят, можно в барах достать. Но лишь своим пассажирам продают, — он доверчиво глядел на меня, — и не на валюту.
— Я не пассажир. Да и какой же это лайнер? Не можешь научно-исследовательское судно отличить?
— Значит, ошибся, — смутился он, — я на музыку летел.
У нас и правда в радиорубке громко наяривал джаз. Профессиональный радист Николай по духу из тех ребят, что любят слушать музыку вместе с улицей.
— Со всех ног? — уточнил я.
— Что?..
— Со всех ног, говорю, летел? — Наш возраст предлагал общение только на «ты».
— Да уж не крыльев, — засмеялся он. — Сказанул! Нет, приятный мужик. Мне нравятся те, до кого мой тонкий юмор доходит.
— Устал, спешил очень… Можно я тут немного постою?
— Присаживайся, в ногах правды нет, — откинул я бортовую скамейку.
— В головах — тоже нет. Я усмехнулся.
— Куришь? — И сел рядом.
— Бросил. Дыхание сбивает, — неопределенно ответил он.
— И у меня. Я теперь себя на голодном пайке держу — не больше пяти сигарет в день.
— А ты почему? — спросил он.
Чудак. Я ведь тоже не знал, почему ему куренье мешает.
— Водолаз.
— А я учитель пения.
— В школе? Он кивнул:
— В поселке городского типа — в Березовке. Гродненская область. У нас знаменитый стекольный завод «Неман»! Неужели не слышал? — заволновался он. — Анатолий, — спохватившись, протянул он руку.
— Валерий, — пожал я. — Про завод слышал.
— Вот! — обрадовался он. — У меня там жена работает. Тоже поет.
— А я в школе всегда с пения сбегал.
— У меня бы не сбежал. Такой хор!.. Я и сам пою.
— Теперь понятно, отчего ты курить бросил.
— Да вообще-то не потому… — он замялся. — Ну, пусть… Я еще никому свою тайну не раскрывал, даже своей малой.
— Кому?
— Маленькой дочке. Малая, по-нашему по-белорусски. А у меня от нее, поверь, никаких секретов нет.
— Верю. Не дылда напудренная, не разболтает. У самого дочка растет, есть пока с кем посоветоваться, — признался я.
Это еще больше расположило его ко мне.
— Не знаю, с чего начать…
Я не стал советовать, что — с начала. Кто знает, где оно и в чем. Сам разберется. Бывает, все самое важное начинается не с поступка, а, допустим, с погоды. Дунул ветер, сорвал с тебя кепку, ты погнался за ней и нечаянно сбил в канаву свою будущую жену, мать твоих будущих детей. Или того хлеще — с разбегу повалил усатого начальника областного УВД где-нибудь в Грузии. Со мной это было, в другой раз расскажу.
— Начну с Артека, — неожиданно сказал он.
Я малость испугался. Внешность обманчива: вдруг начнет со своего детства отличника-активиста. По-моему, обычные ребята в Артек не попадают. Со свиным рылом, как известно, в калашный ряд не пролезешь.
Слава Богу, первое хорошее впечатление меня не обмануло. Просто его детский хор за певческие заслуги возили год назад выступать в пионерскую столицу, а заодно разрешили и пожить там пару деньков. Вместе с руководителем Анатолием, конечно.
Ну, выступили они успешно на каком-то торжественном сборе. А потом своей, как бы отдельной группой отдыхали, купались, в горы ходили — и все под надзором Анатолия. Сам детей привез, сам за них отвечай. Кормили, ясно, бесплатно. И спать где нашлось — у них для гостей всегда место есть. Ну, это лишние подробности. Вообще он странно рассказывал, то очень подробно, то кратко, вдруг перескакивал на другое, затем возвращался к прежнему… Очень уж он волновался и страсть как хотелось выговориться.
Ни с того ни с сего поведал о своем соседе в санатории. Мол, в цирке работает, шпаги глотает, огонь изрыгает и так далее. Возвращались они как-то поздно из Ялты, одни шли по темному пустому проулку. Впереди появился запоздалый прохожий и кричит еще издали:
— Ребята, огоньку не найдется? — Понятно, обрадовался, прикурить хотел.
— Пожалуйста, — ответил шпагоглотатель.
Мигом что-то там сделал, и как пустит изо рта ему навстречу огненную ревущую струю. Прямо дракон огнедышащий! Еще чуток, и брови бы прохожему спалил.
Но тут был точный расчет, профессионал: знает доскональный предел.
Подходят. Прохожий молча стоит, в губах сигарета зажата, и щеками дергает, машинально раскуривая, — уже и огонек появился. Прошли они мимо без единого слова, а он каменно повернулся и смотрит им вслед.
Возможно, до сих пор стоит. Дали ему прикурить!
Я бы на его месте сразу рванул прочь без оглядки. Страшное дело.
— Так на чем мы остановились? — спросил меня Анатолий.
— На Артеке, — сказал я. — Купались, в горы ходили…
— Сдуру повел, упросили. В горах и случилось, — нахмурился он.
Мальчонка там у них, первый тенор, оступился и со скалы сорвался. Вгорячах Анатолий мгновенно прыгнул за ним, настиг — он же тяжелее, — схватил, и они мягко опустились на землю. Глянули вверх — обоих затрясло. Оказалось, метров пятнадцать летели.
— Я не случайно сказал, что «мягко опустились» и «летели», а не падали, — подчеркнул Анатолий. — Так именно и было. Иначе бы мы с ходу разбились!
Ребята были здорово напуганы, но в Артеке ничего про этот случай не сказали. А уже дома кое-кто из хора проболтался, так сказать, напел родителям: с тако-ой высоты, чудом уцеле-ели!..
Анатолий отбоярился: мол, метра полтора лишь было. Дети, известно, всё преувеличивают.
А сам думал и думал над тем, что случилось. Как только обхватил он мальчонку, падение замедлилось, и они словно спланировали вниз. Нет, ветер им никакой не помог. Напротив, в ущелье было безветренное застойное марево, будто в парилке, без малейшего сквознячка. Когда они падали, он неожиданно почувствовал, что в нем как бы включилась какая-то неведомая упругая тяга, преодолевающая падение. И если б не тяжесть мальчика, он бы, наверное, неудержимо поплыл ввысь. Такое было чувство… легкости, невесомости. Причем не какого-то бездуховного воздушного шара, а управляемого по желанию полета. Он ведь и место приземления невольно выбрал «помягче», кругом были одни камни.
Он припоминал все до мельчайших подробностей, и то неведомое чувство точно эхо откликалось в нем… Ему неудержимо хотелось испытать его вновь, как говорится, воочию. Но, уговаривал он сам себя, в их поселке нет гор. Не прыгать же, в самом деле, с балкона собственного дома, даже ночью. Вот потеха будет, если он вдруг, в лучшем случае, сломает ногу! Скажут, а еще учитель — с ума сошел или того хуже: «бимбера» (самогонки, на польском) налакался!.. Так и не решился.
А зимой вдруг появилась идея. В Раубичах есть лыжный трамплин. Лыжник он так себе, с трамплина никогда в жизни не прыгал, но все-таки… Если и случится несчастье, никто потом позорить не будет. Желание испытать себя становилось все навязчивей. Разок бы попробовать, а там хоть трава не расти. Трава травой, а вот соломки бы подстелить под трамплином побольше!..
Ладно, это все впереди. Еще осенью, разбирая всякие бумаги, он обнаружил письма покойных бабушки и дедушки.
Немного истории. Про голод и разруху после революции известно. Жили они тогда в Орше. Кирпичный завод, на котором работал дед, встал. Безработица, нищета… Бабушка устроилась через родственницу на какой-то суконной фабричке в далеком Петрограде. А дед здесь остался, был он замечательным мастером и все надеялся, что завод нет-нет да и вновь откроют. Напрасные ожидания… Бабушка ему весточку прислала: срочно, мол, лети ко мне, я тебе место кочегара схлопочу. А он ей ответное письмо: еще погожу недельки две, продержусь как-нибудь из последнего, и, если с заводом ничего не решится, такого-то числа вылетаю ночью, а под утро уже буду в Питере. Жди, мол.
Чуете, какие письма?.. Что это, совпадение: она ему — «лети», а он ей — «вылетаю»! Образные выражения? Не похоже. И потом такая, прямо скажем, нахальная дедова уверенность: «буду», «жди». Тогда и поезда-то ходили, когда и куда им заблагорассудится. Мечта МПС.
Можно было принять на веру только одно: дедушка мог летать, и бабушка знала об этом. Разумеется, они скрывали такое, но в годину бедствий не до скрытности. Да и кто чего бы понял, даже если бы и заглянул в те письма строгим революционным глазом. И сам бы Анатолий не докумекал, не случись с ним та история в горах и не почувствуй он в себе загадочную подспудную силу.
После тех писем он, наконец, и решился прыгнуть на лыжах с трамплина в Раубичах. Правда, ночью. Тут были свои «за» и «против». Если он совершит прыжок днем и все удастся, вдруг «установит» прилюдно невольный мировой рекорд? Если же прыгнет ночью и потерпит крах, то кто ему потом вызовет «скорую»?.. По-научному, дилемма.
…Я слушал его и думал: «Складно заливает! А закончит рассказ, попроси я его сделать хоть небольшой кружок над акваторией, непременно откажется: раньше мог, а теперь, дескать, не могу. Такому трепачу, чей приятель из своей луженой глотки огнеметом дает прикурить, пара пустяков на ходу выдумать случай, после которого он якобы вмиг разучился летать».
Вы, конечно, можете возразить: а как же та встреча со Степанишной? (См. рассказ «Степанишна».) Там я сам все видел. Видел, а не слышал!
Я уже предчувствовал, что прыжок Анатолия с трамплина пройдет успешно. Правда, то, что он, как оказалось, летел по воздуху метров двести на лыжах вверх ногами, этого я все-таки не ожидал. И лишний раз восхитился: вот брехло летучее! Недаром он мне сразу понравился, с первого взгляда произвел приятное впечатление. Ври, ври дальше, голубчик!.. С трамплина он приземлился нормально — повиснув на дереве. «Скорую» вызывать не пришлось, сам слез.
В общем, трамплин и помог ему стать на ноги, точнее — на «крыло». Начал с долгих прыжков на лыжах, а закончил тем, что мог летать и без них хоть откуда и куда угодно. Но делал это лишь только по ночам, как и покойный дедушка-летун. Точнее — левитант, я запомнил.
С ним еще много всяких случаев было, все не перескажешь. Так, однажды он по незнанию пролетел где-то над запретной зоной и его обстреляли. «Неудачно», — как он выразился.
В другой раз его чуть не сбили и не съели охотники. Парил он ночью над озером — вверху звезды, внизу звезды. Как между двумя небесами. Ошеломительная красота!.. И неожиданно услышал голоса. От воды они сильно отражаются.
— Глянь, какая огромная птица кружит!
— В супце она станет поменьше, — пробасил второй. — Уварится.
И давай палить!.. Из кожаной куртки потом мелкая бекасная дробь дома сыпалась.
Летал Анатолий всегда медленно и невысоко. Ночью все внизу сплошным мраком расстилается, а так что-то и разглядеть можно. Особенно если летаешь по лесным просекам — будто в загадочном, таинственном коридоре.
Главная опасность ночных полетов — высоковольтки и всякие другие оголенные провода. Тут надо смотреть в оба. То и дело видел он трескучие вспышки — это ночные пернатые нарывались.
Анатолий не только в родном, отечественном небе шастал. Бесконтрольно летал — радары низкую цель не берут — в Польшу: к дальним родственникам. У них в Березовке вообще «Лига наций»: белорусы, русские, поляки, литовцы, евреи, украинцы… Сам он наполовину белорус, наполовину поляк, наполовину русский. Так он вгорячах заявил, не заметив, что вышло вместо одного полтора человека. А жена его — полька. Тоже высокая, а уж горда-а-я! Он иногда укоряет ее словами Пушкина: и долго ль буду я пред гордою полячкой унижаться? За точность слов не ручаюсь, привожу по памяти.
Научился и с тяжестями летать. С багажом. Во второй свой полет в Польшу прихватил заказанный цветной телевизор, а назад беспошлинно доставил южнокорейский видеомагнитофон «Голдстар». Себе.
Признаюсь, такого от скромного учителя пения я не ожидал. Хотя польская кровь — она сказывается. В торговых операциях они не видят ничего зазорного — обычное дело. Не то что мы, пеньки-с-ушами. Но в последние годы и мы стали шагать в ногу со временем. Сейчас даже наши бабуси лихо торгуют на югославских и польских барахолках чем попало! Видали по телевизору?
Собственно, чего я раскипятился. Он же про все загибал. Сам же признавался, что никто его тайну не знает: ни жена, ни его любимица «малая». Спрашивается, а как же он мимо гордых глаз жены сумел купить и вынести телевизор? И как объяснил он появление в доме нежданного видика?.. Такие дела в тайне не провернешь. А хотя можно. Сказать, что телек обменял на видик у приезжих поляков, и нате вам!
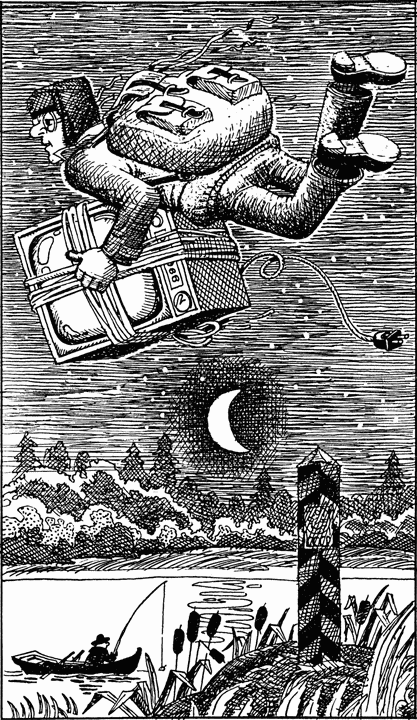
Когда Анатолий, подустав, закончил свой треп, я стал с ним прощаться:
— Я тебя до трапа провожу, а то вахтенный забазарит. Он странно посмотрел на меня:
— А почему вы… ты не просишь, чтоб я полетал?
— Так ты ж ответишь, что вдруг разучился. И даже докажешь, почему.
— Но я действительно разучился, — чуть ли не обиделся он. — Ты что, догадывался об этом?
— Честно? Догадывался.
— Значит, я здесь трепался, а ты со стыдом за меня, что ли, ждал, когда я замолкну?..
— Ну, не совсем. Хорошо заливаешь! Жаль, конечно, что так вышло. Обычно первое впечатление никогда не обманывало.
— Оно всегда обманчиво, — съязвил он.
— Но только не у меня. Это в первый и последний раз. Даже в полутьме было заметно, как он побелел. Не в моих правилах, но я его добил:
— Ладно уж, признайся, что все это выдумал.
— Понимаешь, если я полечу, ты кому-то расскажешь, и меня…
— … затаскают, — продолжил я. — Лучше пусть считают, что все это выдумка. Верно?
— Ты прав.
— Ну пока, — поторопил я его. — Вон лайнер подходит, — и указал в море на дальние растущие огни, — а не то чешское пиво купить не успеешь.
Он вдруг странно подпрыгнул, на миг завис в воздухе и, заложив крутую дугу, исчез во тьме. Издали донесся и растаял обрывок песни:
…И смертный лист, сверкая, спускается с небес.
Чтоб сообщить о рае, который не исчез…
Петь он тоже умел.
— А теперь вам честно скажу, я ему с самого начала верил, лишь подначивал потом. Правда, и вас слегка разыграл, но его — специально, чтоб самому все увидеть. Почему я ему верил? Во-первых, я доверчивый. Во-вторых, таких деталей, которых он наворочал, не придумаешь — я бы не смог. В-третьих, надо было видеть и слышать, как он рассказывал. А самое главное, первое впечатление, повторяю, никогда меня не обманывает. Его, вероятно, — тоже. Мне и он поверил. Так что и имя, и название поселка, и все-все мало-мальски конкретное, географическое я переиначил. Так сказать, перенес действие в другие места. Зачем его подводить?..
Так-то… Степанишна от своих сказок — вековой народной мудрости — летать научилась. А у него, оказывается, наследственное вдруг пробудилось. В деда пошел.
Не деловой я человек. Можно было бы с ним таких дел натворить…
Интересно, достал ли он чешское пиво?
ГРОТ
Многие, конечно, знают, что старое название черноморского поселка Планерское, километрах в тридцати от Феодосии, — Коктебель. Типично курортное место, знаменитое одноименным Домом творчества писателей, музеем поэта Волошина, а главное, потухшим вулканом — Карадаг.
Коктебель… Скалистые профили горного массива, ветреное солнце, мягкий блеск моря, перечеркнутого зелеными и голубыми языками течений, россыпи крупной гальки, похожей на фасолины-великаны. Камень, глина, высокие пуки сухой травы и низкая редкая зеленая травка…
Был я там всего раз, в юности, — снимал комнатушку в частном доме за базаром. Точнее, не в доме, а в летнем сарае, разделенном на три односпальных бокса с оконцем в каждой двери. А мне большего и не нужно — кровать, столик с лампой, вешалка и, самое важное, свой ключ. Тем более брали недорого.
Соседями у меня были двое тоже молодых ребят. Имена их забыл, помню прозвища — Литтл и Миддл. По-английски, Маленький и Средний. Оба из Москвы, студенты иняза: один — второкурсник, другой — дипломник.
В самом доме снимал комнату четвертый участник, если считать и меня, этой истории. Тридцатилетний, длинный и жилистый, Степан — ювелир из Ростова.
Я познакомился со студентами еще в поезде, мы ехали в соседних купе. Да и в Коктебеле расположились почти так же, только здесь «купе» было на каждого.
На все случаи жизни у Литтла и Миддла был бесшабашный ответ:
— Не надо парить!
Где они его подцепили… «Не надо парить!» — наперебой неслось с нашего дворика, будто из прачечной.
Жизнь у нас шла молодая, веселая, разгульная. Я только что вырвался из армии, Миддл уже собирался на волю из института, а Литтл, наконец, оторвался от мамы. Судя по тому, с каким упоением он куролесил, была она кремень-женщина.
Иногда к нам присоединялся и ювелир Степа, которому вообще было море по колено, он только что развелся с любимой женой.
— Адюльтер! — поднимая палец, важно говорил он.
— Изменила, — переводил мне Миддл.
— Наставила рога, — уточнял Литтл, — и адью, хрен!
Степа оставил ей все, прихватив лишь горсть витиеватых золотых перстней собственной работы, и прокучивал их со страшной силой.
— Гори все огнем! — кричал он, возвращаясь поздно ночью, и затем до утра молча скрежетал ключом, пока не засыпал на пороге, сломленный упорством двери. Хозяйка не высовывалась, а нам надоело.
Мы уходили на весь день в далекие бухты у подножия Карадага, по пути заправляя трехлитровый чайник рислингом из винных автоматов, точь-в-точь как газировочные. Только вместо трех копеек надо опускать двадцать.
Загорали, ловили рыбу, купались, приставая в воде к девушкам. Я еще нигде не встречал такого, никем не охваченного, количества юных особ. Дикие девичьи стайки можно было встретить повсюду. Попадались и целые табуны без объездчиков — страшно даже подойти. Почему-то сильный пол тогда в Коктебеле был в явном меньшинстве.
Впрочем, я отвлекаюсь. Моя история — на другую, не менее важную тему. А не то собьюсь с пути истинного.
Любые источники склонны пересыхать. От безалаберной жизни деньги у нас подходили к концу. Звонить и просить у предков — напрасное дело. Они бы могли выручить лишь в одном случае: прислать на обратный билет. Но то-то и оно, что он имелся у каждого. Взят еще в Москве. Видать, не только у Литтла была кремень-матушка.
До отъезда оставалось с полмесяца, а мы уже прочно сидели на мели. Пришлось умерить аппетиты, вести себя достойно, сдержанно и не разевать рот на чужой каравай. Никаких гулянок с подружками, воздержание, сухой закон. Килограмм дешевой ливерной колбасы и буханка хлеба — на троих в день. Солнце, море и потухший вулкан Карадаг — бесплатно. А на танцы в пансионат «Голубой залив» мы и раньше не ходили, там одни «дамские» объявляют — никакого тебе выбора.
Аристократичный Литтл, в джинсах с редчайшим лейблом «Доллар», опустился до того, что стал собирать и сдавать бутылки. Сбор по ночам, сдача — по утрам. Мы бы тоже снизошли до этого презренного занятия — улов бывал рекордным! — но принимали порожнюю посуду крайне редко, а на обмен вообще нигде не брали.
И тут в роли нашего благодетеля выступил ювелир Степа.
— Чего приуныли, детки? — как-то спросил он.
— Куцать хоца, кай-кай, — загундосил Литтл.
— Нет, тебе не кушать хочется, — усмехнулся Степа. — И не «кай-кай», а «пей-пей»! Смотрю я на тебя и дивлюсь: кто тебя пьянствовать научил? Дома-то небось не позволял.
— Ты бы лучше вчера на себя подивился, — вступился за друга Миддл, — когда на луну лаял.
— Не было этого. Заливает, да? — подмигнул мне ювелир. — Такого раньше никогда за мной не наблюдалось. А привычки — запомни, юноша, — устойчивы.
— Количество переходит в качество, — заметил я.
— У нас в стране никогда не перейдет!.. Ладно, квиты, — свернул он спор. — У меня для вас нашлось дело.
— На мокрое я не согласен, — сразу заявил Литтл, — кишка тонка. Плохо питаюсь.
— Да ну вас, оглоеды! Я серьезно. Можете бабки получить, не обижу.
— Тогда послушаем. Прошу сесть, — Миддл услужливо пододвинул ювелиру пень, на котором хозяйка оттяпывала головы своим курам.
— Плохая примета, — покосился Степа. — Значит, так…
Дело показалось нам на первый взгляд простым. А почему бы и нет — бродить с молотком по Карадагу и отбивать в скалах полудрагоценные камни: светлозеленые халцедоны, слоистые, разводистые агаты, пятнистую яшму и, главное, ярко-красные сердолики. Этот камень больше ценится.
Ищите, мол, братцы, как говорится, верхним и нижним чутьем, приносите, а он, знаток Степа, отберет лучшее для шлифовки.
— А где шлифовать будешь? — спросил Литтл.
— У меня ж мастерская в Ростове.
— Так ты все жене оставил, — рассмеялся Миддл.
— Кроме мастерской, — подчеркнул Степа. — Ну как, согласны? Заодно и загорать можете!
Мы согласились. Попытка не пытка. Попробуем.
В Коктебеле вообще все отдыхающие помешаны на камнях. Целыми днями роют гальку на пляжах. И кое-что находят, чаще всего — обточенные морем халцедоны, реже — сердолики. Самые отъявленные любители, стремясь опередить других, уже ранним утром журавлями выхаживали вдоль морской кромки. В горы забирались разве только одиночки профессионалы, без шлифовки даже отличный камень — не камень. У почты была ювелирная мастерская, где продавали недорогие перстеньки с местными, правда, не лучшими, камешками. А из-под полы предлагали красивейшие отполированные агаты и сердолики, тоже тогда не совсем по грабительским ценам: рублей за пятьдесят. Сейчас-то цены наверняка подскочили, тем более что Карадаг закрыт для всех. Объявлен заповедником строжайшего режима. И слава Богу. Туда, говорят, даже орлы теперь вернулись.
Я плохой ходок в горы, особенно по солнцепеку. Когда мы первый раз по крутой тропе, за бывшей каменоломней, поднялись на седловину, у меня был язык до пояса, как у московской сторожевой. Всю воду, взятую в дорогу, возможно, я выпил сам.
Зато отсюда, с перевала, открылся потрясный вид на все четыре стороны. С одной — длинный берег, опутанный таким же длинным канатиком прибоя, и бескрайнее живое море, а с трех других — внушительная чащоба скал, словно продравшихся сквозь землю. Да они и впрямь вылезли наружу — на то и вулкан — черт знает из каких глубин. Искореженные, пропеченные — черные, темно-серые, пятнистые… Они торчали голо и стремительно. Лишь сам перевал был кое-где припорошен землей с чахлым колючим кустарником и с низкорослыми деревцами-кизилами.
Если идти по перевалу дальше, что однажды и сделали пытливые Миддл с Литтлом, можно спуститься в соседний поселок, известный своим дельфинарием. На дельфинье представление они не попали, но пива выпили.
Мы свернули с тропы влево, к подножию скал, что, громоздясь высоким взъерошенным валом, падали затем отвесным каменным водопадом в море.
В рюкзаке Литтл нес хозяйкин молоток и удачно найденную по пути еще в самом Коктебеле, ржавую кирку, у которой мы укоротили ручку. Повсюду встречались следы исступленной деятельности «пришельцев»: изрубленные халцедоновые жилы и узкие агатовые жилки… А на недосягаемой высоте красовались аршинные буквы масляной краской, гордо сообщавшие о том, кто и когда туда залез.
— Это ж сколько банок с краской, — поражался Литтл, — надо было переть на себе!
— Ради славы чего не сделаешь, — сказал я.
— Работа титанов, — коротко определил Миддл. От него-то я впервые и услышал о разнице между титанами и чайниками. Титаны — крупнее!
Даже у неприступной верхушки знаменитого «Чертова пальца», грозящего ввысь, было намалевано белым: «Камбеш лысый! Сухуми!» Подобная надпись врезается в память на всю жизнь.
— Камбеш… — пробормотал Литтл. — Камень бешеный?.. А знаете, как переводится на русский название города Херсон? — внезапно спросил он, и сам себе ответил: — Бессонница.
Повсюду разевали иззубренные пасти консервные банки и вспыхивало битое стекло.
— Мамай прошел, — сказал Миддл.
— Мамай или бабай? — поинтересовался Литтл. — Я их путаю.
— Оба.
— А все-таки? — настаивал Литтл.
— Про Мамая говорят — прошел, а про бабая — пришел. Детей пугают, чтоб не плакали: «Молчи, бабай придет!»
— Значит, мы бабай, — Литтл снял рюкзак. — Мы пришли.
И достал кирку. Как он углядел в расщелине скал эту нетронутую халцедоновую жилу?.. Ее извилистый ход там и сям прикрывал лишайник, и она шла как бы пунктиром.
Часть этого «пунктира», килограммов двадцать, мы и притащили в рюкзаке под вечер во двор. А кирку оставили в укромном местечке на Карадаге, не носить же ее туда всякий раз. Сейчас-то можно обозвать нас любыми словами за варварство, но тогда нам это и в голову не приходило. Когда в доме разгром, лишняя пара выбитых стекол уже не выглядит преступно.
— Куда столько? — обалдел Степа.
— Забирай и шлифуй, — посоветовал Литтл.
— Дешевый он, халцедон-то… — копался Степа в груде отбитых камешков. — Дешевый, как и нефрит… В Сибири нефрита — тонны!
— А у нас — килограммы, — сказал Миддл.
— Целиковые колечки вытачивать — возни много… Разве что на бусы, а? — поднял голову ювелир.
— В самый раз на бусы, — кивнул я.
— Ерунда. Ладно, немножко возьму. — И выдал нам пятерку. — Только в виде поощрения, — предупредил он.
— Говорил, не обижу… Обижаешь, начальник, — проворчал Литтл. — Пуп надорвали.
— А вы больше эти килотонны не таскайте. Сердолик ищите!
С тем и ушел. Не помню, взял ли Степа хоть что-то из кучи. Правда, к нашему отъезду потом она заметно уменьшилась. Может, мальчишки растащили.
Наши мечты про пир на весь мир рухнули. С пятеркой не разгуляешься. Втроем за целый-то день мы б куда больше заработали у соседей на стройке дома, но это не приходило нам в голову. Искали легкие деньги.
Наловчившись, мы стали приносить Степану и сердолики. Но, помнится, никогда больше десятки на всех троих мы ни разу не сподобились получить за усердные труды. Измученные, исцарапанные, обгорелые — насчет загара Степан не ошибся, — мы камнем — лучше словечка не подберешь — падали спать.
— Вот если бы вы сердоликовый оникс принесли!.. — наказывал нам Степа, как будто мы в магазин ходили.
— А какой он из себя? — спросил Литтл.
— Сердоликовый оникс состоит из чередующихся слоев ярко-красной или красно-желтой и молочно-белой окрасок, — заученно пробубнил Степа и мечтательно улыбнулся. — Красавец, ребятки.
— И сколько б ты отвалил за килограмм? — прищурился Литтл. После первого похода в горы он все мерил на вес.
— Чего? — оторопел Степа.
— Того! Оникса.
— Рублей… пятьсот не пожалел бы, — вымолвил Степа, и засмеялся. — Где его вам найти… Килограмм — скажет тоже!
Как в колодец глядел. Нигде нам этот оникс не попадался.
В конце концов мы бросили рабский труд. Надоело ишачить. Тем паче, что дурацкие деньги по-дурацки и тратились.
Как ни уговаривал Степа, обещая повысить таксу, мы не соглашались.
Мы были вновь свободны как ветер. Голодны и свободны. Сытость с волей несовместимы. Снова ходили в далекие бухты, купались, ныряли, ловили рыбу, собирали мидии и пекли тут же на костре. У меня все-таки морская душа, не горная. Горные выси к себе не манят. Потому-то я и стал впоследствии водолазом.
А тем временем Неожиданное терпеливо подстерегало меня. Ныряя в маске с трубкой за крабами, я вдруг обнаружил в отвесном подножии Карадага, метрах в четырех под водой, темное большеватое отверстие. По краям оно заросло водорослями, И, если б туда не шмыгнула вспугнутая мною зеленуха, я б не заметил. Был я тогда худощавым и сразу прикинул, что вполне смогу в него пролезть.
Меня всегда притягивала опасность. Вынырнув, я отдышался, набрал побольше воздуха и снова нырнул. Прошел я в то отверстие без труда, лаз оказался примерно двухметровой длины, а затем резко обрывался… По-прежнему под водой, цепляясь за стену пальцами, я стал подниматься, со страхом ожидая, что стукнусь головой о каменный свод…
Но не ударился, голова свободно прошла водную поверхность — и я очутился внутри горы, я мог дышать! Высоко вверху светилась в горной толще какая-то щелочка, а внизу подо мной, в темной воде, угадывалось более светлое пятно того самого прохода. Я несмело крикнул, стены откликнулись эхом. Судя по всему, это был довольно большой грот.
Я снова нырнул и благополучно выбрался обратно.
Ни Миддлу, ни Литтлу я пока ничего не сказал. А дома вставил в свой испытанный фонарик свежую батарейку, положил в полиэтиленовый пакет и завязал его. Сначала, конечно, проверил, не протекает ли.
Пакет не подвел, фонарь — тоже. На другой день, в следующий свой проныр, я посветил на стены — и чуть не пошел на дно от восхищения. По стенам, сходясь и расходясь, тянулись ярко-красные сердоликовые жилы, словно поддерживая высокий свод с трещинкой далекого света в толще горы! Вспыхивали вкрапления и целые гнезда красно-молочно-белых ониксов, пестрила в глаза зернистая яшма желтым, зеленым и серым цветом, таинственно поблескивали другие камни, названий которых не знаю. Грот сверкал и переливался.
Я вылез на выступ и прошелся по бровке пещеры. Вода, будто дыша, чуть оседала и поднималась как бы в каменном бассейне.
…Не сказать, что мои коктебельские друзья чувствовали себя подобно мне рыбой в воде, но плавать они умели. Этого у них не отнимешь, у них вообще трудно чего-нибудь отнять, особенно у Литтла. Вслед за мной они решились-таки проникнуть в грот.
Когда они наохались и наахались, Литтл вдруг сказал:
— Да тут на тысячи…
— Не надо парить, — тихо прервал его Миддл.
— Тут на сотни тысяч, — хмыкнул я.
— Степа тут же пятьсот отвалит, не моргнув, и… — зачастил было Литтл и осекся.
Мы постояли в молчании, любуясь первозданной красотой.
— Давай назад, по-одному, — сказал я. Проследил, как они поочередно пронырнули обратно, и последовал за ними.
Затем стал поднимать со дна моря камни и закрывать проход. Миддл и Литтл принялись помогать… Мы трудились так часа три, пока не заделали его почти на всю глубину.
Теперь там наверняка все заросло водорослями и даже мне не найти то место, где когда-то темнел проход.
Я тогда оставил в гроте фонарик, а вместе с ним в завязанном пакете дюралевый портсигар, купленный на последнюю нашу трешку.
В портсигаре лежала записка: «Руками не трогать. Охраняется человеком». Хотел было написать: «человечеством», — но решил, что за всех говорить не берусь. Если туда вдруг когда-нибудь и попадет человек, он сначала подумает. Конечно, батарейка в фонарике давно уже села. Но зато будет понятно, что кто-то хорошо видел всё.
Через два дня мы катили, без постелей, домой.
ОТРАЗИМЫЙ
Про какие только страны я вам ни рассказывал, разве что Штаты пока обошел стороной. Наверное, потому, что о них все чего только не знают — столько понаписано и напоказано! Но то, о чем знаю я, известно, пожалуй, лишь высшим органам власти США и, соответственно, руководству спецслужб. В печать эти сведения, по-моему, не просачивались. Пять лет прошло, и я могу нарушить молчание. Именно такой срок помалкивать в тряпочку обещал я тогда одному человеку в Сан-Диего, в порту на пирсе, о который с грохотом разбивался Тихий океан…
Сан-Диего… Вероятно, на такое название этого американского города повлияла близость Мексики. А может, североамериканцы когда-то захватили его у нее со всей Калифорнией впридачу — точно не знаю. В зарубежной истории у меня обширные пробелы, ярко-белые пятна. Да мы и в своей-то истории никак разобраться не можем, каждый год — новые учебники, даже экзамены по ней в школах порой отменяют.
Хорош Сан-Диего! Большой красивый город. С пригородами — два миллиона жителей. Сверхсовременная судоверфь, университет, а так — сплошняком курорт. Девицы в бикини, узких купальничках, по улицам бродят под видом отдыхающих. Нас на бикини не проведешь.
Мы завернули в Сан-Диего как бы с визитом вежливости: научный руководитель «Богатыря» академик Сикоморский вполне корректно прочитал несколько лекций в местном университете. Давно его приглашали, но все недосуг, а тут пристали как с ножом к горлу со своими радиограммами, когда узнали, что наш «Богатырь» бороздит Тихий океан поблизости. Мы запросили Москву, она дала «добро», затем заупрямился поначалу госдепартамент, будто мы сами навязывались, но в конце концов разрешили-таки бросить на неделю якорь в Сан-Диегском порту.
На берег нас отпускали — конечно, не каждый день — с торжественным наказом: высоко нести честь, достоинство, и так далее. Признаюсь, некоторые несли наказ только до ближайшего припортового «шопа», магазина, и, честно сторговав самый дешевый магнитофон, тут же с достоинством возвращались обратно. Меня же прельщала возможность побольше увидеть и услышать, поэтому я использовал строго отведенное время до миллисекунд, а то и прихватывал секунды две-три лишние.
В своих, подчас одиноких, странствиях по городу я и познакомился с… Назову его просто — Джеймс. Он перепробовал миллион профессий — в Америке любят считать на миллионы! — пока не стал изобретателем. Когда-то он учился в Гарварде, занимался электроникой, биологией, еще чем-то, затем бросил учебу, подался в хиппи, бродяжничал, брался за любую работу, потом пристроился напарником к одному изобретателю-одиночке, сам начал кое-что изобретать, а теперь скрывался от полиции всех Штатов, соединенных разве лишь для того, чтобы его поймать.
Ничего себе, а? Он так и сказал, когда вдруг со мной разболтался.
А привязался он ко мне сам, угадав, что я русский. У него была цель — связать его напрямую с официальным советским представителем. Хочет, мол, попросить убежища, но нигде никуда, ни в посольство, ни в консульство, сунуться не может — перехватят. А он-де может принести нам огромную пользу!
Нервный весь, задерганный, усталый.
Я ему твердо заявил: пока он мне все не выложит начистоту, я никому о нем докладывать не собираюсь. Пусть, если хочет, сначала мне откроется, а там, мол, видно будет.
Верно, ему деваться и впрямь было некуда. Рассказал… Одно меня смущало, почему он рискнул к советскому человеку подойти. Неужели у них такая хваленая свобода, что за всеми нами еще в порту слежку не установили? Или у них настолько служба поставлена, что она про любого нашего все наперед знает?.. Был и другой допустимый вариант, но после рассказа Джеймса он враз отпал: специально подосланным Джеймс, ну, никак не мог быть!
Судите сами…
Мы сидели — впрочем, он-то лежал — на чистеньком газоне в тенистом парке, и Джеймс тихо рассказывал, чуть смежив глаза и отрешенно глядя в небо. Он ни разу не посмотрел на меня, и, если бы я вдруг украдкой ушел, он бы, верно, не заметил. Но я не из тех, кто сматывает удочки ни с того ни с сего, и вдобавок его похождения всерьез захватили меня.
Я уже сказал, что он занимался электроникой, а точнее — электричеством применительно к биологии. В общем, в физике, как и в истории, я не силен, а уж в биологии и тем более, но четко помню, что даже отрезанная лягушачья лапка дергается под током. Это, вероятно, и называется физикой плюс биологией.
Короче говоря, Джеймс пришел к выводу, что теоретически человек может аккумулировать в себе — безнаказанно! — невероятное количество электроэнергии, полученной извне. Подзаряжаться, к примеру, от любой электророзетки, а затем мысленно расходовать энергию по своему усмотрению. Допустим, протянуть руку и послать молнию в кого следует. Или, наоборот, создать вокруг себя такое защитное поле, что от «тебя» даже снаряды отскочат, — не то что пули. Улавливаете?
Однако от теории до практики — путь большой. Чаще всего, бывает, и не дойдешь. Тот ученый, с которым они работали в лаборатории, устроенной в обширном подвале дома, — например, не дошел. После очередной аварии лаборатория так и осталась для него конечным пунктом в этой жизни. Электричество — коварная штука.
Джеймс тоже мог успешно отправиться по его стопам, как говорится, проторенной дорожкой, но ему повезло. Всю словесную мешанину научно-технического порядка — и на русском-то ничего бы не понял — я пропускал мимо ушей. Скажу одно: в конце концов Джеймс добился того, чего хотел.
Было это в Нью-Йорке, в городе желтого дьявола. Перво-наперво, чисто по-американски, он направился с пистолетом в ближайшее отделение банка, потому что в последнее время здорово поиздержался со своими опытами. Там он взял, мелкими купюрами — их номера никогда не записывают — столько, сколько смогло вместиться в большую сумку. Пули полиции, не доходя до него на какой-то сантиметр, отскакивали, как от невидимой стальной оболочки. Рикошетом разбило дорогую хрустальную люстру и вышибло зубы глуховатому управляющему, который, высунувшись на шум, раскрыл рот, собираясь спросить, что здесь, собственно, происходит.
Джеймс ушел невредимым. Да и сам он никому не навредил, так сказать, физически. Зубы управляющего всего-навсего побочный эффект. Если б не стреляли, были б целы. Во всяком случае — никто не погиб. К слову сказать, Джеймс и в будущем — теперь уже в прошлом — лично никого не убил и не ранил, а пистолет носил только для устрашения. Его похождения и в дальнейшем сопровождались лишь побочными, хотя подчас и трагическими, эффектами.
У банка он тогда сел в заранее угнанную машину и укатил. От погони тоже удалось уйти. Бросил машину возле какого-то универмага и быстро затерялся среди покупателей. В нашей толчее он затерялся б еще быстрее.
Вечером он уже смотрел по одной из программ нью-йоркского телевидения снятое банковскими телекамерами ограбление. Оказывается, он был настолько галантен, что помог встать сбитой с ног в суматохе пожилой даме. Диктор окрестил его «налетчиком-джентльменом». Джеймс не запомнил в горячке этого благородного поступка и впредь решил оставить свои вузовские замашки; в таком тонком деле, как ограбление банка, время решало все.
Если бы Джеймса там вдруг надолго заблокировали, он бы не знал, сколько будет действовать поглощенная им электроэнергия. Хотя розетки есть везде!.. На экране он себя не узнал, лишь почувствовал что-то смутно знакомое в облике грабителя — с наклеенными густыми усами и в парике.
Полиция считала, что налетчик был в каком-то новейшем, удивительно гибком, защитном жилете. На самом же деле Джеймс был в рубашке защитного цвета навыпуск. Впрочем, с «жилетом» они не очень ошиблись, если б могли уточнить его форму и длину. Джеймс был закрыт пуленепробиваемой оболочкой силового поля с головы до пяток. Он даже и ходил семеняще, словно отталкиваясь, — электрополе было и под ступнями. Журналисты дали ему и второе прозвище — Прыгунок.
Итак, джентльмен Прыгунок, избавившись от особых примет, парика и усов, в ближайшем туалете, взял напрокат скромную, неприметную машину, снял номер в мотеле за городом — и, наконец-то, сосчитал деньги, которые, как известно, счет любят. Оказалось около пятидесяти тысяч долларов наличными. Неплохо за день работы. Но он шел к этому дню несколько лет, а его напарник вообще угодил на небо. Вероятно, сейчас он радовался, глядя оттуда, и безмолвно шевелил губами, тоже подсчитывая купюры.
На следующий день Джеймс уже держал путь во Флориду, на юг. У нас преступники тоже любят на юг ездить.
Но полиция в Америке недаром получает зарплату. То есть заработную плату, а не оклад и не жалованье. Через неделю-другую его уже высчитали. Он был начинающим грабителем, а не профессионалом, и не мог знать, что, получив его живое изображение, полиция располагала буквально сотней специфических примет, помимо дурацких усов и парика. А уж убрать их на фотографии и взглянуть на то, что останется, — для специалиста пара пустяков. Или того меньше — пустяк. А дальше — обычная рутинная работа: опросы, проверки, компьютеры и все прочее. Это теперь Джеймс такой умный, а тогда он считал, что полиции до него не добраться и что денег, при его скромных запросах, ему хватит на целый год.
Но «недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал!» — как поется в известной блатной песне. Сейчас это изысканно называется: городской фольклор. В Сент-Питерсберге — неудивительно, что я запомнил название, — полиция вышла на его след. А он так безмятежно жил. Завтракал у Макдональдса без всяких очередей. Свободно плавал в стратегическом Мексиканском заливе. Посещал ночные рестораны, где не допытывались, откуда у него свободно конвертируемая валюта. А уж это не помешало бы спросить.
В ночном кабаке его и попытались взять, но он вперед, заре навстречу, проложил путь себе на улицу. Достаточно было слегка увеличить силовое поле, чтобы дюжих молодцов отшвырнуло от него, как от локомотива.
Недаром Джеймс накануне основательно зарядился от электросети Сент-Питерсберга; в городе на минуту даже упал накал ламп. Для быстроты подзарядки он успешно использовал уединенно стоящую трансформаторную будку. Как? Взломал дверцу и сунул пальцы в высоковольтную розетку — как-как! Откуда я знаю?.. А вот для чего — известно. Девочки там с большими запросами, а деньги подходили к концу, и он собирался с утра пораньше провести ревизию наличности в одном из местных банков.
Про банк пришлось забыть. Хорошо, что опять удалось уйти.
Но полиция крепко села на хвост. Фараоны уже кое-что понимали. Они, очевидно, считали, что у Джеймса при себе какой-то, доселе неизвестный, компактный прибор, создающий вокруг него защитное силовое поле. Но даже и предположить не могли, что этим «компактным прибором» был он сам. И, конечно же, не знали, насколько мощно его поле.
Когда за соседним городом Тампа, надеясь, что все худшее позади, Джеймс вылез из машины справить нужду — нашел время! — пришлось мысленно отключить защиту, иначе б пострадали последние брюки. Но он вовремя успел включить ее вновь и даже невольно усилить в сторону медленно подъезжавшего подозрительного пикапа.
Тут-то в него и саданули из базуки. Видимо, преследователи решили не рисковать. Они, так сказать, положили с прибором на тот предполагаемый чертов защитный прибор, который им наверняка приказывали сохранить в целости и доставить, куда следует.
Джеймса даже не качнуло от разрыва снаряда, наткнувшегося, метрах в пятнадцати от него и в метре от преследователей, на невидимую стену защиты. Можно представить, что произошло с пикапом при взрыве в воздухе чуть ли не перед самым носом. Тем более вся взрывная волна ударила назад!..
… — А может, у него и взаправду был какой-то особый прибор? — спросил Ураганова толстяк Федор.
— Честно — кто его знает, — пожал Валерий плечами.
…После Флориды полиция с ним больше не связывалась. Судя по всему, Джеймсом занялись спецслужбы. Он чувствовал, что его пасут. Но не трогают, видимо опасаясь роковых случайностей со многими жертвами. Ведь теперь Джеймс не покидал большого города ни на шаг. Для постоянного местожительства, без всякой прописки, он выбрал Индианаполис. Один из крупных центров авиационного моторостроения на севере США.
С ним пытались вступить в контакт. Как-то в гостинице он получил у портье письмо на свое подлинное имя, в котором назначалась встреча; оно было не подписано. Он не пошел.
Затем посыльный вручил ему пухлый конверт с тремя тысячами долларов, тоже от неизвестных лиц. Деньги он взял.
Расценил как намек на то, чтоб не грабил банки. Он не стал.
Гостиницы высшего разряда или низшего пошиба, где не спрашивают никаких документов, менял каждый день. Однажды его чуть не одурманили, пустив ночью в номер какой-то газ, — надо было все время быть настороже.
Питался только тем, что покупал сам в супермаркетах. Как он ел, как пил? Не знаю. Возможно, урывками. Отключал защиту, и ел-пил. Ведь он мог включить ее в любой миг. И потом, те, кто за ним следил, возможно, полагали, что «прибор» работает бесперебойно. Была, правда, и пара снайперских покушений. Но лишний раз убедились, что бесполезно. Он всегда оставлял в себе «неприкосновенный запасец» энергии — даже перед тем, как подзарядиться вновь.
Вы лучше спросите, как он дышал. Вероятней всего, электрополе пропускало воздух. Не сплошная стена защиты, а как бы микроскопическая сетка. Ионизированным же воздухом, говорят, дышать полезно.
Однако здоровье у Джеймса стало сдавать. Он все чаще чувствовал слабость, головокружение, боль в висках… Еще бы, в постоянном напряжении! Необходима была разрядка, а где ее взять? Всегда начеку.
Бессонными ночами на него наплывали мечтания. Какие возможности! Он мог бы пойти походом на Вашингтон, запросто пробиться в Белый дом и захватить Президента, совладав с любой вооруженной до зубов охраной. Стать всемирным диктатором, наконец!.. Характер не тот… Хотя в мечтах все выглядело очень заманчиво.
Почему он добровольно не сдался властям… Выжмут, как грейпфрут в камнедробилке, и устранят, чтоб больше никому не проболтался. Да и гибель тех переодетых полицейских с базукой — на его совести. Такое не прощается. Припомнят!
Невыносимо… Тогда-то и пришла ему мысль обратиться к русским. Он ценный товар. Уж они-то создадут ему защиту более надежную, чем собственная. Да и никаких грехов перед русскими у него нет.
Джеймс думал так только потому, что был загнан в угол. Он чуял: это долго продолжаться не будет. Его оставляют в покое до поры до времени. Вооруженное перемирие обязательно закончится боем, последним и решительным.
Агентов вокруг него было много, причем весьма опытных. От них не уйдешь. Подчас они даже и не скрывали слежку. Передавали Джеймса один другому не то чтобы с рук на руки, а с глаз на глаза. Тот его детский приемчик с универмагом, после ограбления банка, у них явно не котировался. Конечно, он мог бы и сам начать на них охоту, и довольно удачливую, но — черный юморок — что делать с добычей? Чисто спортивной, бессмысленной охотой он никогда не увлекался. Это ничего не дало бы. Они бы по-прежнему упорно висели на хвосте, наверняка их бы стало даже больше. Нет, ему необходимо было улизнуть незаметно, без всякого шума и горы трупов.
Неожиданно Джеймс получил передышку. Как всегда, помог случай. При помощи одной знакомой — он не хочет ее называть — ему удалось ускользнуть-таки из-под бдительного ока спецслужб. Подробности излишни: подобно Керенскому, переодетому в женское платье, — на санитарном автомобиле. Не зря же говорят, что история повторяется дважды.
И вот он в Сан-Диего. Слежки пока нет, но… Крайний шаг — надежда на русское судно. Безусловно, он может захватить его и сам, без спросу, но не хочет сразу омрачать будущие отношения с советской стороной. Лучше пусть наши как-то свяжутся с посольством в Вашингтоне или с самой Москвой, а уж как ему потом втайне проникнуть к нам на корабль — его дело. Лишь бы согласились.
Да, он действительно был загнан в угол, если про все не наврал. Были кое-какие сомнения…
Тут Джеймс повернулся ко мне и легко прочитал на лице мои мысли. Я вообще открытый человек.
— Электроэнергии у меня пока вволю, сколько влезет.
Он навел палец на ветку перечного дерева, нависающую над нами. Сверкнула искорка, и ветка упала мне на колени.
— Да жизненная энергия убывает, вот беда, — продолжал он. — А они теперь со мной церемониться не будут. Первый пробный этап прошел. Заблокируют где-нибудь в доме, отрежут проводку…
— А если опять газ пустят? — прервал его я, не сводя глаз с лежавшей у меня на коленях ветки. Ее узкие светлые листья подрагивали от легкого ветра.
— Я в пустых домах не живу. Других людей не подставят — слишком большой скандал!
— Других не тронут. Вас запрут, пустят газ, и все.
— В окно выскочу, я всегда выбираю только первый этаж! — запальчиво сказал он.
— Окно стальным щитом закроют.
— Разнесу!
— Особый газ пустят — вмиг загнетесь.
— С этим они опоздали. После той газовой атаки я кой-куда телеграмму отправил: если хоть на мгновенье такое повторится, мне того мига вполне хватит, чтоб вместе с собой полрайона разнести И, кроме того, моя внезапная смерть — от чего угодно! — приведет к тем же результатам. Разовое высвобождение гигантской энергии — это мощный взрыв! И подписался полным именем.
Джеймс продолжил, вернувшись к прерванному:
— … Заблокируют где-нибудь в доме, отрежут проводку, я пойду на прорыв, а они будут гнать и гнать меня, пока не загонят куда-нибудь в пустыню, в прерии или в горы, подальше от высоковольток и всяких там электросетей. Найдут способ расправиться!.. Куда податься? На Кубу? Слишком близко. Только в вашем Союзе можно спастись от их длинных рук.
Ну, в этом-то я не сомневался. Я сомневался в другом: плохо он, брат, наших гавриков знает. Так сверхсекретно запрячут его и начнут на нем пахать, что электрический стул в покинутой Америке покажется ему раем. Впрочем, электростул ему не грозил. Это все равно что щуку бросить в реку.
Я ему ничего твердо не обещал. Завтра, если выпустят на берег, встретимся здесь же. «На том же месте, в тот же час», — как в песне.
Для меня сбитая Джеймсом ветка была бесспорным доказательством того, что он ничего не присочинил. Но станет ли она таким же аргументом для замполита?
Не стала.
Он выкинул ее в иллюминатор, не поверив не единому слову.
— Вас провели! — возмущался он. — Это типичная провокация!
— Не типичная.
— Ну пусть… — озадачился он, и вновь завелся: — Вас вообще нельзя на берег выпускать!
— Конечно. На берег нельзя, а под воду можно, — привычно ответил я.
— Сказал бы ему: официальные представители отказываются наотрез.
— Почему?.. Он спросил бы — почему?
— Да хотя бы потому, что вы вообще обязаны сообщить о нем в полицию.
— Если обязан, почему не сообщил? Он поморщился.
— Вы, Ураганов, почему-то понимаете все буквально. Обязаны — в фигуральном смысле. То есть были бы обязаны, но этого не сделали, потому что не обязаны… — вконец запутался он.
— Значит, не обязан.
— Все это бред, — отмахнулся он. — Я запрещаю вам вновь встречаться. Да чего я тут с вами?.. Прикажу, чтоб не выпускали!
— А вот захватит он вдруг корабль и заставит нас повернуть к родным берегам, тогда увидим, какой это бред, — проворчал я.
Замполит тоже хорош. После моих слов он забегал по каюте, как соболь в клетке. Наконец остановился.
— Он что, предупреждал?..
— Открытым текстом.
— С вами никогда не знаешь, наказывать ли вас, или благодарить?!
— Ясно, благодарить. Кто предупрежден, тот вооружен. Пословица.
— В таком случае…
— В таком случае, если не верите, лучше подождать, пока он сам на «Богатырь» не заявится. А так оно и будет, если он меня завтра не встретит.
— Есть и другой выход.
Часа через два после совещания у капитана, в присутствии академика Сикоморского — меня вызвали, я все повторил, — «Богатырь» досрочно вышел в море.
— А говорили — бред, — только и сказал я замполиту.
— Я и сейчас так считаю. Но корабль должен быть застрахован от любых случайностей.
Вот тут он прав. Хорошо, хоть Сикоморский успел свои лекции в университете прочитать.
Мне было малость неудобно перед Джеймсом. Но я думаю, он сам же увидел, что корабль покинул порт внезапно, раньше времени. Это было веским подтверждением тому, что просьбу его я передал.
Я все думал, почему он сразу же наш корабль не захватил. Мог не знать, что мы пришли? С натяжкой допустимо. А потом?.. Ждал результатов моих переговоров, не решаясь пойти на крайние меры?.. Но все-таки я склоняюсь к мысли, что Джеймс лично меня не хотел подводить. Я ему чем-то понравился, он ко мне проникся, в фигуральном смысле, симпатией. Все хотел сделать по-джентльменски, а не прыгунком.
Несчастный он, конечно, запутавшийся человек… Каково ему было, когда он увидел, что наш «Богатырь» снялся с якоря!..
Прочитав вскоре в газетах — помните сенсационное сообщение, — что на всем западном побережье США по неизвестным причинам вдруг вырубился ток и все города погрузились во тьму, — я подумал: «А, может, Джеймс все-таки решился пойти…»
… — В банк, — подхватил толстяк Федор.
— Ва-банк! — отрезал Ураганов.
… «Может, все-таки решился пойти на Вашингтон? Может, перед ним вновь неотразимо замаячил Белый дом?!» И, как видите, не сумел. Он же вскользь упоминал, что способен аккумулировать в себе немыслимое количество энергии. К какой электростанции он подключился? Вероятно, к нескольким сразу!
Не рассчитал и хватил лишнего…
— У меня серьезное замечание. Ты же говорил вначале, что ваш прощальный разговор был на пирсе, в порту… Тихий океан еще у тебя с грохотом бушевал! — строго сказал памятливый Федор.
— Это я загнул для красного словца, — смутился Ураганов. — Прошу прощения.
Помолчав, он нашарил в кармане своего висящего в предбаннике пиджака газетную вырезку.
— А, может, Джеймс тогда и остался жив?.. Мне теперь в любом сообщении из Америки о причудах электричества кажется, что они каким-то образом связаны с ним. Вот заметка, напечатанная в «Известиях» 30 января 1990 года: «… объект прочертил ночное небо над восточным побережьем США. Это был огненный шар, светящийся голубым и желтым огнем. В Нью-Йорке в полиции непрерывно звонили телефоны, люди спрашивали, что это за феномен. В ответ власти могли сообщить с полной уверенностью только следующее: этот объект не принадлежит к числу аппаратов, запущенных человеком…» И тэ дэ.
Может, Джеймс тогда уцелел, рванул на восток, и только потом…
Думайте, что хотите.
ГИПСОВАЯ КУЛЬТУРА
— Конечно, не только я, — многие могут порассказать самые странные и удивительные истории. Чего только с нами в жизни не случается!
Ураганов уставился на газету, в которую была завернута таранка. Крупными буквами выделялся заголовок «НЛО в районе Нальчика».
— Опять пожаловали… В последнее время им почему-то полюбились Воронеж и Нальчик. Впрочем, Нальчик у них издавна на особом счету. Помните старую песню «На Дерибасовской»? Так еще в ней, между прочим, сказано о том, что какой-то мальчик «ездил побираться в город Нальчик, и возвращался на машине марки «Форд», и шил костюмы элегантно, как у лорда». Интересно, у кого это он смог выклянчить — да еще в Нальчике — «Форд»?! Только у пришельцев, — безапелляционно сказал Ураганов, — больше никто бы не дал! Эх, жаль, я тогда в Берлине не попросил на НЛО у гуманоида уловистую блесну для спиннинга… А вы замечали, что с каждым годом неопознанных летающих объектов становится все больше и больше?.. Вот, пожалуйста, что сообщает директор Всесоюзного межотраслевого научно-координационного центра уфологии товарищ Ажажа, — и Валерий зачитал из газеты с таранкой: — «За последние десять лет мировая уфология зафиксировала 15 миллионов случаев контактов с НЛО. Какой процент брака ни назови, все равно «летающих тарелок» останется великое множество». Ясно? Свежая газета!
Я вам расскажу про один поучительный случай, который произошел со мной, когда мы еще жили у родителей моей Иры в 1-м Мосфильмовском переулке. Ныне улица Пырьева, кинорежиссера. В свое время он поставил выдающийся фильм «Свинарка и пастух» и Сталинскую премию за него получил. Видели по «Иллюзиону»? Про любовь грузинского пастуха к русской свинарке. Веселая музыкальная сказка.
Так я вам еще не ту сказку поведаю, тоже из сталинских времен, если разобраться.
Мы поудобней уселись в предбаннике и развесили уши, как слоны на водопое. Излюбленное выражение Ураганова.
Хоть я и жил тогда в 1-м Мосфильмовском, история эта началась не в Москве, а в Курске. Тогда я каждое лето непременно, пусть всего на неделю, ездил к матушке в отпуск.
Приезжал-то я к родным, а все время проводил у друзей. Такое всем знакомо. Не будешь же целыми днями дома сидеть и без конца рассказывать, как ты замечательно ладишь с новой родней.
Мой лучший курский друг, Петя, бывший напарник по работе в кладбищенском фотоателье, жил почти что за городом около так называемых генеральских домов. Там издавна, еще с «послевойны», давали большие участки отставникам, в чине не ниже полковника, под застройку и сад. Добротные каменные дома со всеми удобствами, высокие кирпичные заборы — генералы и полковники устраивались здесь жить надолго, если не навсегда. У одного старого генерала, помню, даже конюшня была — правда, с одной лошадью, — и он, каждый раз верхом, объезжал вечерами свои владения, бдительно неся службу по охране обливных яблонь и груш. Над забором важно проплывала расшитая золотом фуражка.
В тот свой приезд, вспоминая наши набеги на окрестные сады, я спросил о чудаке генерале.
— Сейчас он не на коне — стар, — ответил Петя. — А ходить ходит, с палочкой. У него там теперь такое!.. Сам поглядишь.
И мы поглядели с крыши Петиного барака. У других отставников мало чего изменилось, разве что сады погуще разрослись. У нашего же генерала-ковбоя почти все яблони и груши были вырублены, а вместо них стояли белые статуи. И впрямь музей! Глаза разбегаются: памятники Ленину, Сталину, Дзержинскому, Свердлову, Жданову — среди воинов с винтовками, пионеров с горнами и барабанами, доярок с телятами, свинарок с поросятами, шахтеров с отбойными молотками, пограничников с овчарками, спортсменов с веслами, десантников с парашютами, геологов с теодолитами… — кого только нет. А уж всяких бюстов не сосчитать. И все сплошной свежепобеленный гипс.
— Отовсюду свозил, — пояснил Петя. — Из детского парка, из привокзального сквера, из ДКА, из домов отдыха… Что уцелело — к себе!
В сторонке выделялась особая группа, очевидно отобранная для реставрации: увечные памятники без ног или без рук, чьи-то огромные сапоги на постаменте и отдельная загадочная голова, торчащая к нам затылком, на голой железной арматуре шеи. Рядом были аккуратно сложены обломки торсов, коленей и локтей.
— Каково! — восхищался Петя коллекцией соседа. — Гигант!
Действительно, гигант. Одна только могучая кучка с отдельно стоящими гипсовыми сапогами потрясала до слез. Исторический травмопункт.
— Зачем ему все это? — спросил я Петю.
— Кто знает… Возможно, хобби.
— Дорогое удовольствие.
— Не очень. Бесплатно отдавали, лишь бы избавиться.
— А привезти, разгрузить, расставить, отремонтировать?.. А сад какой вырубил!
— Вообще-то в копеечку влетело, — согласился Петя, задумчиво почесывая подбородок. — Я как-то не задумывался…
— Может, надеется, что старые времена вернутся, а? Тогда он опять на коне: для потомков сохранил!
— Не такой он дурак, — возразил Петя. — И скуп до крайности, его надо знать. Верке, внучке, наотрез отказался джинсы купить по госцене, а на своих истуканов — ты прав — средств не жалеет. Если только не чокнулся на тоталитарном пунктике, то тут и взаправду что-то загадочное. Я теперь не засну, — засмеялся он. — Прямо хоть к нему иди и спрашивай.
— Айда, — сказал я.
— Шутишь?
— Нисколько. Так и скажем: проклятое любопытство замучило. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов, как земляк землякам.
— Была не была! Пошли. Так и пошли.
Петя по-соседски представил меня как своего друга, недавно отслужившего на флоте.
— Я, правда, не моряк, — подобрел генерал. — Я военный строитель. Но к морякам отношусь с уважением.
Мы застали его одного. Он принял нас в китайском халате на застекленной террасе и угостил чаем. Маленький сухонький такой человек, похожий на старого Суворова из одноименного кинофильма.

— С чем пожаловали? — полюбопытствовал он.
— Это у вас… будущий музей? — показал Петя на обломки, поеживаясь под буравящим взглядом военного строителя.
— Допустим, — сдержанно ответил тот. — А что?
Петя промолчал.
— А что? — повторил генерал.
— Ничего, — пожал я плечами. — Все головы ломают: чего, зачем, почему? А оказался и правда музей.
— А вам он нравится? — сощурился генерал.
— Ну, музей есть музей. Память обязательно хранить надо, — осторожно заметил я. — Вон в Москве, говорят, был «Музей подарков Сталину». Нужно было оставить пусть смотрят. Музей прошлого.
— Верно! — привскочил хозяин на стуле. — И не только прошлого, но и будущего! Рад слышать от молодого поколения.
— Извините, не докончил, — сказал я, не обращая внимания на предостерегающие знаки Пети.
Меня понесло:
— «Музей подарков Сталину» надо было сохранить лишь для того, чтобы другим неповадно стало, чтоб свою дурь увидели, чтоб…
— Вооон! — проревел хозяин, наливаясь кровью, как клоп. Откуда только такая сирена в нем прорезалась?.. Вооооон!
Мы пошли к выходу. Я уходил достойно, не торопясь, позади Пети. А сам невольно ожидал, что старичок вот-вот и огреет меня чем-нибудь по затылку.
— Стойте! — приказал хозяин. Мы обернулись.
— А знаете ли вы, сопляки, с чьим именем на устах мы строили и умирали?
— Но вы же не умерли, — не сдержался я.
— За Родину и за Сталина! — не слушая, пробубнил он.
— За Родину — да, а уж за Сталина — нет.
— Я своими ушами слышал! — грозно затопал он ногами в шлепанцах.
Это было б смешно, если б не было страшно, — как говорят древние греки. А, может, еще кто-то. Все равно в точку.
— Я недавно в Батуми отдыхал, — неожиданно сказал Петя. — Там на улице бюстики Сталина продавались. Железные, никелированные, тяжеленькие. И продавец пристал к приезжей даме: купи да купи! А она ни в какую. Тогда я говорю: беру, сколько с меня? А он: даром отдаю, даром! Все смотрите, какой умный русский молодой человек! И вкрадчиво спрашивает: а зачем он тебе? Предвкушал, я ему сейчас отвечу, что в красный угол бюстик поставлю и день-ночь любоваться либо молиться стану. А я прикинул вес бюстика на руке и сказал: им хорошо орехи колоть. Так меня чуть не убили, прямо на улице. И если уж тогда я в штаны не наложил, то вас-то и подавно не боюсь.
Хозяин даже за сердце схватился. Жаль его, конечно, сердечного. А сам, забывшись, все продолжает тихонько ножками топать.
Мы вышли.
— Прорвало? Меня сдерживал, а у самого шлюзы слабые, — попенял я.
— Да ну его!.. — выругался Петя.
Вечерело… Он пошел провожать меня на остановку.
И тут к нам пристроился какой-то человек странного вида. Огромные запавшие глаза на испитом лице, темная шляпа, черный плащ, несмотря на теплую и даже душную погоду. Под мышкой у него торчал зонт.
— Сейчас дождь будет, — внезапно сообщил он. — Пойдемте под дерево.
Только мы его невольно послушались, как сыпануло первыми крупными каплями. Где-то в стороне громыхнуло, стало темно.
— Погодка у вас, — пробормотал неизвестный и вдруг спросил: — Извините, вы наши конкуренты?
— Кто? — опешил Петя.
— А разве вы не по поводу… гм… музея заходили? Он вас, правда, выгнал? Кто вы такие? Ваши цели? Планы? Намерения?
— Полегче на поворотах, — строго сказал и без того заведенный Петя. — Вы что, с неба упали?
— А вы? — не остался он в долгу. Мы переглянулись.
— Тогда спрошу по-другому, — вскипел Петя. — С луны свалились?
— А вы? — повторил неизвестный. — Где ваша база.
Дождь уже шумел вовсю, и дерево мало спасало. Неизвестный поднял воротник плаща и, вытянув руку, раскрыл над всеми нами свой обширный зонт.
— Какая база?! — запоздало взорвался Петя. — Чего вы нам голову морочите? — И демонстративно повернулся ко мне. — Вот псих!.. Анекдот слышал? Приезжает инспектор на ракетный полигон. А одной из ракет нету. На ее месте объявление висит: «Ушла на базу».
— Так у вас, как и здесь, все еще ракеты? — вновь встрял, забеспокоившись, неизвестный. — Вы конкретно откуда? Оттуда?..
И ткнул пальцем куда-то вверх.
— Попал пальцем в небо, — съязвил Петя.
— Значит, угадал? Верно? — вконец разволновался неизвестный. — Нет-нет, вы не имеете права! Мы первые его обнаружили! В конце концов у нас с ним договор!
Он полез за пазуху и зашелестел какой-то бумагой:
— Как здесь говорят, договор дороже денег. Ну, конечно, деньги — это бумага. Мы обещали химически чистым золотом заплатить. Мы первые, — повторил он, — вы не имеете права! — Он чуть не плакал.
Искра просветления, наконец, сверкнула в моей непутевой голове. Не может быть! Неужели он…
Я перебежал улицу к телефону-автомату и позвонил домой: погода, мол, нелетная, заночую у Петьки, не беспокойтесь. Дал отбой и как раз вовремя вернулся назад. Петька с неизвестным уже схватились за грудки. Еле я их успокоил.
— Поговорим под крышей, — прокричал я им, словно глухим.
Дождь усилился, и мы втроем помчались по лужам в Петькин сарай. Москва кое в чем отстала от провинции: тут парни давно живут летом в дворовых сараях, переоборудованных на скорую руку под временное жилье.
— Хорошо устроились, — сдержанно одобрил незнакомец дощатую халупу. — Поближе к объекту?
Петя, по-прежнему ничего не понимая, опять начал накаляться. Я прошептал ему несколько слов на ухо, и он прямо-таки вытаращил глаза.
— Так вы… — начал было он.
— Что — я! — Неизвестный, наконец, вытащил из-за пазухи лист бумаги и сунул нам под нос.
Это был договор на двух языках, русском и втором, совершенно непонятном: иероглифы не иероглифы, крючки не крючки, рисунки не рисунки… Мы обратились к русскому тексту, из которого следовал лишь один вывод: «…владелец музея гипсовых фигур такой-то уступает их за пуд (16 кг) золота другой договаривающейся стороне, вместе с запчастями, вплоть до права вывоза с планеты Земля на своем транспорте в любое удобное время. Число, подписи».
— Вы что же, на самом деле пришельцы? — свистящим шепотом спросил Петя.
— А вы — нет? Вас здесь иначе называют? — съязвил неизвестный.
— Здесь нас называют людьми, — отрезал Петя.
— И нас. Мы так же свободно можем принимать любой облик, как и вы, — подчеркнул незнакомец.
— Да пойми ты, Петенька, — встряхнул я его. — Он считает нас тоже пришельцами, только не своими, а совсем из других миров. Он думает, мы хотим перехватить у них добычу!
— А разве не так? — гордо скрестил руки на груди неизвестный. — Я честный космический торгаш… Торговец, — поправился он, — у меня контракт! Я жду корабль, чтоб забрать свой груз.
— Космический корабль?..
— Не парусный же.
— А про какие запчасти упоминается в договоре? — продолжал выпытывать Петя.
— Ну, гипсовые руки, ноги, животы — все, что есть в наличии.
— Сами не можете сделать? — недоверчиво сказал Петя.
— Вы странные торгаши… торговцы. Это же доподлинные предметы массовой культуры определенной эпохи конкретной страны, самой большой на Земле!
— И за это барахло пуд золота?.. Вот ханыга генерал! Кричал там: за Родину, за Сталина! А нашу славу боевую и трудовую на презренный металл разменял?!
— Из идейных соображений, — непреклонно заявил неизвестный. — Он хочет, чтобы Музей Его Времени сохранился навечно — где угодно. Хоть у черта на куличках! — как он выразился. Кстати, приблизительно так и переводится название нашей далекой планеты на русский язык. Я был неимоверно поражен таким совпадением. Это лишний раз подтверждает то, что сама судьба за нас, а не за вас.
— Да мне этот ваш музей и даром не нужен! — отмахнулся Петя.
— Благодарю вас! — ловко перехватил его руку и восторженно затряс ее обеими руками незнакомец.
— А как вы его убедили, что вы — это вы? — не сдавался Петя. Все еще одолевали сомнения.
— Не верил, поверил.
— Вот вы говорили, что можете принимать облик любого земного существа. Докажите! Что?.. Ага!
Но неизвестный тут же превратился в лохматую рыжую дворнягу и резво обежал вокруг стола. Затем встал на задние лапы и неожиданно лизнул Петю в нос. Это его совсем доконало, он чуть не хлопнулся в обморок.
В сарай заглянула грозная Петина мать.
— Осторожней с курением, сгорите, — предупредила она, и тут ее взгляд упал на рыжего пса.
Он умильно глядел на нее и мотал хвостом, поднимая пыль.
— Не приваживай, — строго сказала она сыну, — а то собачников вызову.
— Только не собачников! — вмиг превратился в человека наш дворпес.
Она-то уж точно упала в обморок, мы с Петей еле успели ее подхватить.
Только теперь я начинаю понимать, кем был мой удивительный кот-спаниель Тимка. Тоже, видать, из «космических торгашей-торговцев» и так же, наверное, к чему-то приглядывался и приценивался в нашей Матвеевке. Не к старым ли автомобилям? Помнится, еще будучи котом, он любил полеживать на капотах «Побед» и «Москвичей» первого выпуска. Интерес к «ретро»? А как он тоже боялся собачников!
Петина мать быстро пришла в чувство. Огляделась — за это время неизвестный успел стать мотыльком — и удалилась, недоуменно потирая лоб.
— Жаль, конечно, что такой поучительный музей истуканов и идолов уплывет из нашей страны, — сказал я. — Все хорошее — иностранцам! А что поделаешь?.. Мы сами еще не доросли до мысли, что надо хранить любую память. Из нашей истории гипсовую культуру не вычеркнешь.
— Что я слышу? — опять возник неизвестный. — Выходит, как у вас говорят, я лопухнулся? — Он был очень расстроен. — Значит, не вник в человеческий образ по Станиславскому! Пять лет земной жизни коту под хвост?.. Теперь-то я четко вижу, что вы — самые настоящие люди. А все проклятое волнение… конкуренция… дефицит…
Он тяжко вздохнул.
— Прощайте, — и полосатым котярой шмыгнул в полуоткрытую дверь.
— Не-ет, — мечтательно протянул Петя, — я на этого военного строителя обязательно настучу.
— Не поверят.
— Что я, кретин? Я только про золото черкану. В органы!
— Запомни, Петя, нынче к генералу, даже бывшему, с обыском не придут.
— А он еще по прежним временам плачется. Враз бы его тогда замели, голубчика!
Именно через день после этой встречи в газетах напечатали сообщение о «летающей тарелке», чуть ли не впервые замеченной в курском небе. Но никто, кроме меня с Петей и, пожалуй, военного строителя, не связал появление НЛО с внезапным исчезновением «гипсового музея истуканов».
На вопросы соседей старичок, скрепя сердце, отвечал, что вывез все на свалку. А Петю стал трусливо избегать после того, как на людях тот мстительно крикнул:
— Культуру продаешь! Кто больше, да?
На этом история не окончилась. Мне довелось еще раз встретиться с тем неизвестным.
Я уже говорил, что жил в 1-м Мосфильмовском переулке. Метрах в трехстах от нашего дома петляет в овраге мутная речушка Сетунь. Кажется, я упоминал: не речка, а чистейшей воды химреактив. По-моему, по ночам в ней можно фотографии проявлять. И закреплять в ней же — одновременно. Мертвая вода. Ни головастиков, ни комаров… А ведь я еще помню живописную Сетунь, когда по ее берегам кое-где стояли частные дома, а на мостках женщины стирали половики. По той стороне тянулись луга, там пасся мелкий рогатый скот. Помню, как один мужик кряхтя переносил на плечах козла по длинной, наращенной доске, перекинутой через речонку в самом узком месте. Чуткое животное орало в голос, глядя на бегущую внизу воду. А тогда она была куда чище, чем теперь. Сейчас бы любой козел заорал еще громче!..
Прихотливо извиваясь, Сетунь мирно несет свои изумрудные воды, в которых змеями мелькает бракованная пленка с «Кинокопировалки», величаво плывут — откуда столько? — белоснежные куски пенопласта и раздутые трупы собак и кошек в непередаваемых малахитовых разводах. Вольно ж было великому Гоголю подтрунивать над своими потомками — школьниками: «Чуден Днепр при тихой погоде…». Он Сетуни не видел. При любой погоде.
В пойме реки там и сям разбросаны какие-то мастерские и забытые Богом склады за большими кособокими заборами. Они были в таком запущении, что среди диких пустырей, чахлых рощиц и свалок казались порождением данной природы. Однажды вечером, возвращаясь из магазина и проходя мимо такого склада, я из любопытства взобрался на забор и глянул: батюшки мои!..
Здоровенный двор был сплошь заставлен гипсовыми статуями Ленина во весь «его» двухметровый рост. Иные из них по-отечески взирали на меня, другие стояли, гордо отвернувшись. Их тут была целая чаща! Стояли здесь Ленины и поменьше, они казались его детьми.
— Опять — вы?? — послышался позади чей-то голос.
Я спрыгнул обратно. Это был… тот самый курский неизвестный:
— И после этого вы осмелитесь утверждать, что вы все-таки туземец?
— Кто-о?
— Вы сколько лет на Земле?
— С рождения, — не совсем понял я.
— С рождения можно было б и выучить, что туземец, туземец, — разделил он слово, — житель этой земли, местности. Я же в своем вопросе имел в виду не просто землю, а планету Земля.
— Снова вы за свое! — оскорбился я. — Сейчас опять начнете про конкуренцию?
— А чего ж вы хотите — факты налицо. По всей стране мы пока обнаружили лишь два богатых, можно сказать, «месторождения» доподлинных гипсовых фигур — и вот снова наталкиваемся на вас. Какой бы вы сделали оргвывод?.. Впрочем, коммерческая честность превыше всего. На это хранилище у нас договора нет. Вы первый пришли и застолбили, — он указал на бетонный столбик-пасынок, на который я становился, влезая на забор.
— Это не мой, — честно отказался я.
— Однако он излучает ваши следы.
— В таком случае, что излучаю я сам — весь? Человек я или кто?
— А пес вас знает! Ни одна собака не определит, хотя собачий нюх — тончайший индикатор. Перевоплощение любого так называемого пришельца в человека бывает полным или никаким.
— Ну, хватит. Надоело. Уступаю вам права. Берите все! — широко повел я рукой на забор.
— Все не потянем, — с сожалением заметил он, тем не менее явно обрадованный моей нежданной щедростью. — Договорник?
Я не глядя подмахнул бумагу, привычно появившуюся из-за пазухи неизвестного, его же дешевенькой шариковой ручкой.
Он молча поклонился мне и пошел вдоль забора к воротам, над которыми тихо жужжала лампочка.
— А вознаграждение? Комиссионные, призовые, отступные? — жадность все-таки взыграла во мне.
— В договоре об этом ничего не сказано, — хихикнув, откликнулся он. — Вы уступили право первооткрывателя даром. Задарма и дуриком.
Так…
— А зачем же вам договор? Ну и брали бы себе задарма и дуриком.
— Договор удостоверяет подлинность приобретаемого. И вдобавок, по-вашему, честь торгаша… торговца ничего не стоит?
— Вы хоть сторожа-то, если он есть, не обижайте, — крикнул я.
— Не обидим…
Рано утром я не поленился, сходил на склад. Сторож был. Не обидели — пьяный в стельку. А «хранилище» заметно поредело.
Нет, что ни говори, а мой знакомый неизвестный — все-таки торгаш, а не торговец, пусть и космический. Как ни уточняй. Я настоящий житель Земли и хорошо знаю разницу между, казалось бы, сходными словами.
А ведь и я мог вернуться домой на машине марки «Форд», как в песне поется. Совершенно свободно.
ПУЛЯ
Пожалуй, это моя самая поразительная история. Такого, что приключилось во Фритауне, со мной еще не было и, твердо надеюсь, не будет. Фритаун — столица африканской республики Сьерра-Леоне, важный порт на побережье Атлантики. Переводится с английского как «Свободный город». У них вообще государственный язык — английский.
Помнится, мой неразлучный спутник боцман Нестерчук, очутившись на берегу, пошел прицениваться к знаменитым местным алмазам, имея всего пару долларов за душой, а я благоразумно решил истратить ту же сумму на культурные цели и направился в известный Национальный музей.
Про музей я вам подробно рассказывать не стану. А вот про другое… Там я познакомился с одним экскурсоводом. Как выяснилось, бывшим колдуном небольшого племени, живущего у самых отрогов массива Фута-Джаллон и в основном занимающегося охотой в высокотравной саванне.
По-моему, кроме меня, других посетителей в музее особо и не было. И колдун, показав мне всякие экзотические экспонаты, привел в какой-то прохладный тихий зальчик поболтать о жизни. Мной-то он заинтересовался тоже как музейной редкостью — русского человека он видел впервые. Но оказался таким разговорчивым, что слова не давал вставить. Сам спрашивал, сам же отвечал, и все такое прочее. Я плюнул на самолюбие и, рассеянно слушая, стал рассматривать коллекцию разнообразного оружия: от копий и кремневых ружий до современных винтовок.
Колдун мне попался сердитый.
— Вы меня совсем не слушаете, — визгливо обиделся он. — Учтите, я могу вас за это наказать.
— Да пожалуйста, — благодушно ответил я. Принимал за шутку, а напрасно.
— Вы что, такой смелый? — усмехнулся он.
— Не очень пугливый, — кивнул я.
— Это хорошо. — Он потер сухие ладошки о свои морщинистые пятки, торчащие из этаких здоровенных сабо. — А то иные совсем пропадают: бац — и туда!..
— Куда?
— Кто — куда, — туманно ответил он. — Слишком нервные.
— Ну, у меня нервы — стальные, — небрежно заметил я. — Из них можно якорные цепи клепать.
— А вот поглядим, — раздраженно сказал колдун. Мое бахвальство все больше выводило его из себя.
— Многие глядели. После этого у них зрение улучшалось.
Уши у колдуна даже побагровели от злости:
— Мания величия!
На что я бодро ответил:
— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Или пылью — точно не помню.
— Пылью — точнее, — многозначительно сказал он. — Не заноситесь.
— Живы будем, не помрем.
Колдун угрюмо посмотрел на меня и вдруг, завыв гортанную песню, пустился в какой-то ритуальный танец вокруг меня. Ну уж теперь-то я сразу забыл про всякое оружие. И тоже напрасно.
Движения его становились все стремительней. У меня двоилось в глазах. Под конец он закружился волчком, резко остановился и длинными указательными пальцами, похожими на заточенные карандаши, ткнул в меня и в дуло потертого карабина, лежавшего на высокой подставке.
Тут-то все и началось… Мое сознание меркло — так постепенно гаснет люстра в кинозале. Затем наступил мрак — с дырочкой света вдали, словно в тоннеле. Я с ужасом почувствовал, что стал — пулей!
Я находился в стволе карабина, и тот светлый кружочек сиял в конце дула. Ужас быстро исчез, уступив место безмятежной детской наивности и неудержимому любопытству. Я уже не был русским водолазом, простейшим советским человеком, — я был просто пулей, туго сидящей в патроне. И как всякой пуле мне было интересно увидеть: а что же там, снаружи, за дулом?.. О будущей жизни я, пуля, вроде бы знала и не знала. Словно спала наяву…
И вдруг — огонь, грохот! Ура, я лечу!.. Нет, я, пуля, вылетела не в музее, как можно было бы теперь предположить.
Тот же карабин, но в пятнах ржавчины, лежал на бруствере заросшего окопчика. То ли он выстрелил сам — от старости внезапно сработал ударный механизм, — то ли какая-то зверушка, копошась в траве, нечаянно сдвинула спусковой крючок. Кто, когда и почему оставил здесь свое оружие — не знаю. Может, сам колдун?.. Война ли была, или охота — тоже неизвестно.
Вспоминая, я вижу все словно во сне…
Сделав круг над окопчиком, я устремилась вдаль. Подо мной простиралась зеленая саванна с плешинами краснозема и редкими зонтичными акациями.
Радость жизни переполняла, опьяняла меня. Мне трудно объяснить свое состояние: я одновременно и наблюдал себя, как пулю, со стороны, и был той пулей, которая видела все сама по себе.
Заглядевшись на свое летящее серебристое отражение в небольшом озере, я врезалась в дерево на островке. Отчаянно дергаясь, я, наконец, вывинтилась на волю и полетела дальше. Теперь я была осмотрительней, осторожней… Зависла над водой и расстроилась, внимательно разглядывая себя, как в зеркале: мой острый носик стал некрасивым, сплюснутым.
Увидев камень на берегу, я несколько раз с налета чиркнула о него, поточив нос. Снова посмотрелась в озеро, просияла, довольная, и опять полетела неизвестно куда.
Я мчалась, весело посвистывая, а все звери и птицы, заслышав и завидев меня, в страхе уносились прочь. Очень обидно! Ведь я, пуля, такая красивая, такая маленькая. Чего бояться?!
Скучно мне было одной. Никто не хотел со мной водиться, никто не желал со мной играть. Даже бабочки не принимали меня в свой хоровод, испуганно разлетаясь по сторонам.
И вот, заметив красавицу антилопу со штопором закрученными рогами, я погналась за нею. Мне так по-детски захотелось посостязаться наперегонки. Я летела то рядом с антилопой, задорно подмигивая и отражаясь в ее дрожащем глазу, то обгоняла, то кружила меж рогов. Вовсю нажимала антилопа, а я, играя, отставала, вновь нагоняла, опять отставала — интере-е-сно!..
Внезапно антилопа, как вкопанная, остановилась над речным обрывом. Увлекшись, не сдержав полет, я ударила ее в шею и легко прошла насквозь. Антилопа рухнула с обрыва в быструю воду и исчезла. Трава на обрыве была забрызгана такой же липкой кровью, как и я сама.
А ведь все было так хорошо, так весело, и чем закончилось! Что я наделала!..
Медленно полетела я над извилистой бурой рекой. Мне было тяжко, мне не хотелось жить… Мир оказался совсем не таким, каким я его себе смутно представляла.
В отчаянии я бросилась в реку и, поблескивая, пошла ко дну. Но тут сверху устремился ко мне чей-то длинный клюв. Это была цапля. Она резво проглотила меня, приняв за рыбешку. Затем, ошалело дергаясь, задрала голову и выплюнула добычу. Я, кувыркаясь, взлетела в небо.
Снова стала кружить, лететь неведомо куда… И вдруг увидала внизу на краю старого заросшего окопчика тот самый ржавый карабин. С яростным нарастающим свистом я спикировала на него, влетела в дуло, мгновение — взрыв! Ружейный ствол расщепился, как угрюмый стальной цветок.
…Я очнулся. Национальный музей Фритауна… Разбитое окно… Карабин с расщепленным стволом и со сломанной подставкой валялся на каменном полу…
Я поспешно ощупал себя. Так и есть, весь в царапинах и ссадинах. Невыносимо болела переносица, будто я и впрямь налетел на дерево носом, а затем поточил его о камень. И вообще я чувствовал себя так, словно побывал в желудке у цапли.
Музейный колдун высунулся из-за массивной колонны, глядя на меня с явным испугом. На лбу у него сиял кровоподтек, своим очертанием напоминающий форму винтовочного приклада.
«И тебе досталось!» — подумал я удовлетворенно.
— Ну как, может, еще поколдуем? — мрачно сказал я. — Готов к труду и обороне? Мы за мир, да?
— Вам что-то причудилось? — придя в себя, ехидно спросил он.
— Но не это же, — показал я на расщепленный ствол карабина.
— Магазинная коробка оказалась с патронами, — пробормотал колдун. — Я сам чудом уцелел…
— Что тут случилось, а?
— Вам лучше знать, — странно взглянул он. — Кто же мог подумать, что вы вернетесь!
— Выходит, мне еще и повезло?!
В зал ввалился толстый представительный человек, по всему видать — из начальства.
— Опять принялись за старое? — набросился он на колдуна. — Что вы себе позволяете? Я больше терпеть не намерен!
И так же стремительно вышел.
— Чего он хочет? — спросил я.
— Больше он ничего не захочет, — процедил колдун и покосился в угол зальчика.
Я сразу заторопился на судно.
Честно скажу, боюсь я за Национальный музей Фритауна. Там, в углу того зальчика, стоял миномет.
Так я был пулей. С тех пор никогда не охочусь. Нет, правда, не могу…
— А твой боцман алмаз-то купил? — заерзал кучерявый детина Глеб на лавке в предбаннике.
— Что? — оторопел Ураганов. — А-а, купил — ровно за два доллара.
— Большой?
— Очень! Нестерчук вначале даже опасался, что наша таможня отберет.
— Отобрали?
— Оставили. В ювелирной лавке прямо при нем тем алмазом стекло строгали, а на корабле — ни в какую.
— Одно слово — «Сьерра-Леоне»… — мечтательно подал голос толстяк Федор.
— Два, — возразил Глеб.
НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ…
Откуда я его знаю? Да мало ли с кем все мы знакомы!.. Жил в поселке горняков, далеко за Уралом, Василий Лопухов — взрывник лет тридцати. В общем-то, по своему характеру он вполне отвечал своей фамилии. Когда его с бригадой однажды послали на картошку, он пытался мелкими зарядами тротила взрыхлять картофельное поле. То есть лопух лопухом, но все-таки немножко и изобретатель.
Однако не это главное. Главное, пожалуй, в том, что был он удивительно везучим человеком. Хотя вот в личной жизни ему не везло. Была у него невеста, Анюта, — кассирша с пристани. Типичная женщина-вамп! Ну, красотка вроде Мэрилин Монро из фильма «В джазе только девушки» (производство США). И лишь он один не знал, что с той «невестой» путается чуть ли не весь поселок.
И Вася и Анюта жили в чужом частном доме, снимали каждый по комнатушке. А Васе как передовику и как человеку опасной профессии, отработавшему уже десять лет и все еще живому, обещали дать однокомнатную квартиру. Когда, мол, дадут, тогда и распишемся, — полагала расчетливая Анюта. Двухкомнатная все равно не светила, даже и женатому.
Дали. А он, лопух, возьми и отдай эту квартиру одной нормировщице, Маше, матери-одиночке, тоже лет тридцати, с девятилетним сыном. Уж очень она маялась без жилья! Ей, дескать, нужнее, — решил он.
Ну, конечно, скандал — Анюта порывает с ним, «пеньком-с-ушами», и в ярости кричит, что у нее мужиков настоящих, не то что он, пруд-пруди!
Вася был поражен неимоверно. По простоте душевной он ожидал, что невеста Анюта похвалит его за благородство, за помощь несчастной нормировщице. В конце концов его же из жилочереди не выкинули, на следующий год другую квартиру дадут: начальство железно обещало. А то, что невеста Анюта изменяла ему, — нет, наговаривает она вгорячах на себя!..
Но друзья из бригады, войдя в его безвыходное положение, утешают: все так оно и есть. И слава Богу, что ты, дурачина, от нее избавился. Теперь-то можно тебе об этом открыто сказать, раз все так хорошо получилось!..
Собственно, только теперь и начинается самое поразительное.
После этих событий на работе у Васи должен был состояться очередной взрыв. Но вначале для несведущих надо рассказать, как происходят на «поле», выражаясь языком горняков, вскрышные работы. Понятно, они производятся для рыхления, чтобы обнажить полезные ископаемые и жадно черпать их затем экскаваторами. Представьте себе то поле деятельности бригады Василия в тот роковой день. Полигон — примерно 100 на 200 метров. Из укрытия ведет огнепроводящий шнур к патрону со взрывателем, тот соединен с детонирующим шнуром, а этот — со всеми зарядами: 6 метров один от другого, закопанных каждый на глубине 7 метров.
Так — подожгли огнепроводящий. Длина его — 1 метр; 2 сантиметра шнура — 1 секунда горения. Затаились в укрытии… Хвать, нет Василия! Заметим, теперь уже шнур не загасить. Высунулись, а Вася стоит себе посредине холмистого «поля» во весь рост и кричит: прощайте, мол, жить надоело, раз так вышло с Анютой!
Последние десять секунд орали ему наперебой, уговаривали. Куда там! Только опять спрятались — взрыв!!!
Можно опять подбавить цифр: на 50 метров поднялось облако пыли, а в 6 метрах над землей летали «чемоданы» породы, ну и осколки свистели!.. Наконец, утихло все, рассеялась мгла.
Василий Лопухов остался жив. Ни царапинки. Оглушен, правда, малость. И растерян. Глаза кулаками вытирает, будто спросонья встал.
На всякий случай отвезли его в райбольницу. А там — от него, верно, — все хитрые медицинские электроприборы зашкаливает!..
Анюта, понятно, Васю не навещала. Навещала бригада. И та женщина проведывала — Маша, которой он квартиру отдал. Тут тоже есть кое-что загадочное. Он ей и говорит: я, мол, где-то вас видел. Ну, раньше, еще до поселка. А Маша гордо в ответ: ну, раз вы меня не узнаете, то и я вас раньше, до поселка, не знала. Нет, явно какие-то загадочные отношения. Видать, что-то было раньше.
Ладно. Тут события поважнее. У Васи после того взрыва внезапно открылись необыкновенные способности! Начинают вдруг исполняться его разные желания.
Как обычно, началось, казалось бы, с пустяка. Трест «Энск-недра» опубликовал объявление: 1000 рублей тому, кто «наведет» на любое месторождение. Что, не бывает? Да та же «Якут-природа» регулярно дает такие объявления!.. Дружки подшучивали над Васей: с тебя-де причитается — чудом спасся при взрыве. А где денег взять на целую ораву? Дружки втайне вылили бочку солярки в одно дальнее озеро, а Лопухова на полном серьезе послали туда набрать бутылку воды. Вася, что с него взять, набрал и отдал ту воду на анализ в лабораторию треста. Проверили — не поверили. Сами взяли пробы. И…
На озеро мгновенно гонят земснаряд, намывают остров, ставят вышку, бурят — пошла нефть!..
Друзья Василия, прогулявшие с ним тысячу премиальных, потрясены. А вся штука в том, что Вася, узнав про обман и жалея народные деньги, от души пожелал, чтоб там нефть нашли. Ну, а его парни вообще о той тысяче рублей не горюнились: сколько раз им за ночные смены не доплачивали! Так что та премия «законно», считали, заработана, даже если бы и нефть не нашлась.
Кассирша-вамп, Анюта, узнав, как Вася бездарно распорядился тысячью наградных, — пришла в ярость: правильно я его, кретина, бросила!
А Васе-то хоть бы хны. Выйдя из больницы, он о коварной Анюте и напрочь забыл. Теперь он тайком ходил в гости к Маше. К той, с девятилетним сыном. Открыто заявляться вроде бы неудобно. Еще соседи подумают: выжига — пользуется, мол, тем, что ордер ей на квартиру уступил. Он пил у нее по вечерам чай, а она загадочно улыбалась. Странные вопросы задавала, на что-то намекала. Тут и правда какая-то тайна.
Сама она была сиротой. Иные ее чуть ли не за юродивую считали. Не от мира сего: честная, добрая, бескорыстная, все для других старается, о себе не думает, ну прямо-таки человек отдаленного светлого будущего — дура дурой!.. А к Васе она, верно, была все-таки неравнодушна. Почему-то расстроилась, когда посочувствовала ему насчет Анюты, а он заявил:
— Без нее обойдусь! У меня теперь выбор большой. Захочу, на дочке секретаря райкома женюсь.
С тем секретарем он случайно познакомился. В последнее время всякие расследования пошли — гласность! — и тот срочно приехал к нему сам.
— Я насчет дачи…
— Что, дачу хотите? — впрямую спросил Вася.
— Нет, наоборот. Я слышал, вы специалист хороший по взрывному делу.
— Самый лучший, — кивнул Вася.
— А нельзя ли ее… — нерешительно начал секретарь.
— Можно!
И пустил на воздух его дачку в заповедном бору — даже пыли не осталось. Профессионал!.. Тогда-то и пообещал секретарь с дочкой познакомить. Впрочем, к нашей истории это не имеет никакого отношения.
Так вот о необычайных способностях… Лично для себя Вася ничего не делал. Только на справедливые цели и для хороших людей его желания сбывались. Вон для одной старушки пожелал, чтобы ей крышу новую сделали: и — пожалуйста. Поселковый совет вмиг строителей прислал!
А вот Васиному дружку не повезло. Возмечтал он мотоцикл с коляской нашармака по лотерее выиграть, но ничего не вышло.
— Старушке помог, а мне?.. — обижался дружок.
— А ты подумай, может, что-то плохое в жизни сделал? Попытайся исправить, — посоветовал Вася.
Тот подумал, вспомнил о чем-то: пошел, перед продавщицей извинился — так, мол, и так, я тебя в прошлом году обидел, извиняюсь!
Опять ничего по лотерее не выиграл.
— Мало, — сказал Вася.
Снова пошел дружок исправлять свои неправедные поступки. В конце концов отхватил по лотерейному билету выигрыш — 15 рублей. Большего не заслужил!..
В общем, всем по заслугам воздавалось: кому открытка на телевизор, кому талоны на мыло, кому сенца для коровы, а кому-то, как говорится, шиш с маслом.
В конторе взрывучастка — филиале облтреста — тоже заинтересовались необычайными способностями Васи. Начальник взрывучастка, необразованный выдвиженец, вызвал Васю и говорит:
— Ну… пусть мне сейчас сам министр позвонит! Вася отнекивался, но уломали-таки, довели.
— И я того же хочу, — сказал, — уж слишком у нас беспорядку много!
Мгновенно влетела секретарша:
— Министр звонит!
Ошеломленный начальник недоверчиво снял трубку. Министр тут же дал ему свирепую выволочку за какие-то дела и вызвал к себе на ковер в Москву.
Перепуганный начальник поспешно выписал две командировки, себе и Васе, в столицу, чтоб оправдаться перед высшим руководством и заодно средства выбить на благоустройство поселка.
Ну, Москва — трудный город. Ни в гостиницу не могли попасть, ни на прием — даже к замминистра. Видать, министр-то в своей круговерти забыл, что сам начальника взрывучастка вызывал.
Понятное дело, тот хитрым образом добился, наконец, чтобы Вася «пожелал» удачи. Теперь все получилось: и с гостиницей, и с приемом у руководства, и с покупками в ГУМе.
Но это, так сказать, легко сказать. А вот в первый день, ночуя на вокзале, выпили они потихоньку с горя. Милиция и забрала их в КПЗ. А они возьми и стань прямо в камере — иностранцами. Причем их внешность строго соответствовала представлению Васиного начальника, как должны выглядеть настоящие иностранцы. Конец света!
Кричат по-английски, вмиг «выучились»:
— Год дэм! Требуем такого-то посла или, трам-тарарам, такого-то консула! — То ли США, то ли Сингапура — не помню. А уж если Сингапура, то глазки у них должны были стать узкими.
Международный скандал!.. Накладочка-ошибочка! Биг пардон! Пожалуйте на волю — плиз!
Устроились в интеротеле «Космос». Мордастый швейцар им ладошку насчет чаевых — начальник взрывучастка ему пепел туда с гаванской сигары стряхнул.
Живут не тужат…
Вызвали на прием к министру. А тот, видите ли, в это время с японцами переговоры заканчивал о подряде на строительство у нас вредных для них химзаводов. Вася, сразу горячо ввязавшись в обоюдный бизнес, эту сделку века, по наивности, хоть и не провалил, но цену сбавил. Как только сказал: «А рыбалка у нас какая? А охота?» — так тут же японцы, запрашивавшие с нас 2 млрд., сбросили цену до 1,8 млрд. долларов. Выходит, 200 млн. навару!.. Потом, когда японцы упрекали главу своей торговой делегации за столь крупную скидку, он лишь руками развел: сам, мол, не понимаю, какая-то чертовщина!
Ну, пусть. А как в инвалютной гостинице за постой расплачиваться? Все-таки 250 долларов в сутки за номер на двоих.
— Не знаю, какие они, доллары-то, — сказал Вася.
— И я ни разу не видел, — признался начальник.
Спустился Вася вниз, посмотрел в кассе. Сотворил доллары, не отличишь, один к одному — у каждого тот же номер. Опять скандал!.. Спас их министр, которому 200 млн. сэкономили. Дескать, таким людям не жалко выделить какую-то несчастную тысячу за проживание в гостинице.
Домой возвращались с триумфом. И пользу всей стране принесли, и родной поселок не забыли — средства на благоустройство тоже выбили.
А поселковые жители опять к Васе с просьбами. То худые резиновые сапоги завулканизировать, то сахарку в магазин подкинуть, то выездное «фотоателье» прислать…
И пошло, поехало, завертелось!.. Что любопытно, руководство поселка решило: про нашего Васю — молчок, наверх ни в коем случае не докладывать, а то его у них обязательно отберут. Все желания исполнять только в поселковом масштабе. Планово и организованно. Телевизор, крышу, сенца? Чепуха! Нужно пустить Васины способности по общественной линии!
И правда, что ж горняцкий поселок асфальта не заслужил? Хорошей дороги в райцентр — прямо к райкому? Или нового общежития для малодетных?.. Председатель поссовета втайне размечтался о том, что после «достигнутых небывалых успехов» его непременно переведут на высокую должность в областной центр, а то и, страшно подумать, затем даже в правительство возьмут! Ведь имея такого Васю, можно ничего не делать.
Но тут как раз подошли выборы в местные советы. Все избиратели, понятно, хотят видеть во главе поселка Васю — и выдвигают своим кандидатом. Причем безо всякой альтернативы и без консенсуса, чтобы взвешенно не дестабилизировать вероятный прогресс. «Без амбиций, товарищи! — призывали выборщики. — Наш единственный кандидат — Василий Лопухов!»
А Вася ни в какую, скромный, отказывается. И тут в его бескорыстную душу хитрой змеей, так сказать, вполз начальник взрывучастка. (Вспомнил, его тоже Глебом звали!) Начал он как бы издалека:
— Может, ты хочешь быть секретарем обкома, Вася?
— Нет.
— Райкома?
— Нет.
— А поселкового совета? Вот непыльная должность!
— Не, хлопотно…
— Тогда, так уж и быть, меня выдвини, — предложил Глеб. — Я человек серьезный, не легкомысленный. Не улыбаюсь.
Он все рассчитал: юридически, мол, будет править он, а фактически — Вася. Ему, Глебу, — все хлопоты по должности: заседания, собрания, бумаги… А на самом деле станет он при Васе главным советчиком. Ну, какие, мол, у тебя желания?.. Бутылку? Телек соседу? Это не размах! А вдвоем они таких дел натворят! И все ради простых людей.
— А если когда-нибудь с твоей помощью вдруг Председателем Верховного Совета стану, ты у меня первым замом будешь. Тогда держись вся страна!
Уговорил-таки Васю. Наворотил потом Глеб гору обещаний на выборах и при Васиной поддержке получил власть в поселке.
Вася приносит удачу в делах: выбивает фонды, премии, дефицит. Мыло и сахар в продаже появились — не по талонам. Вася пока не материализовывал свои желания, а лишь ускорял бюрократический ход свыше. Дорогу из райцентра вести начали, фонари в поселке поставили, тротуары асфальтировать принялись, общежитие заложили.
И вот Глеб стал подталкивать Васю и к совсем уж невероятным чудесам. Поначалу план набросал на пятилетку: каждой семье — по коттеджу или по отдельной квартире, по машине, по видеосистеме…
— Так, — деловито сказал Глеб, — теперь попробуем. Поставь-ка для почину сарай посреди поля.
— Зачем? — спросил Вася.
— Ну, для разного необходимого инвентаря.
— А-а, это нужно.
Выглянули в окно из поссовета. Возник сарай в поле.
— Теперь убери сарай.
— А зачем?
— Пахоте будет мешать.
— А-а, это верно. Исчез сарай.
— Зачем же мы его сотворили? — сказал Вася.
— Способности твои проверяем: что ты можешь, а чего — нет. И вообще неизвестно, на сколько тебе твой дар отпущен, на какой срок?.. А теперь вот сделай Ивану Никифоровичу «рафик», — показал Глеб на соседний двор.
— Зачем?
— Он инвалид, семья большая.
— Правильно.
И на соседнем дворе появился «рафик».
— Нет, — вздохнул Глеб, — придется убрать.
— Но почему?
— Ты вот ему машину поставил, а ты себя на его место поставь. Завтра придут к нему: откуда взял? «Рафики» у нас продают только за валюту на аукционах! Начнут расследовать, затаскают!
Исчез «рафик».
— Может, ему обычные «Жигули»?..
— Откуда деньги взял — спросят. Где купил?
— Что ж, я не могу даже никакой бедной бабке и стиральную машину сделать?
— Правильно рассуждаешь. Скажут, украла! Надо, чтоб все получалось как бы естественным путем, — призадумался Глеб. — Вот если б я был Председателем не Поссовета, а Верховного Совета, тогда любые чудеса возможны. Пожелал — выполнили. На блюдечке любому бы поднесли. Каждому — по счастью!
— Так за чем же дело стало? — встрепенулся Вася.
— Ох… Поразмышлял я, там работать ой как надо! Заседания с утра до вечера, некорректность, споры… Ездить по всему свету, со всеми встречаться!
— Да-а…
— Ну, здесь-то у нас я все заседания ликвидировал и дал всем полную самостоятельность, чтоб меня не тревожили. Только общей идеологией руковожу.
— Жалеешь себя?
— Ты лучше себя пожалей. Тут, на месте, тоже опасно чересчур стараться. Прослышат вдруг про твои способности, понаедут генералы из Москвы и пошлют тебя шпионом в Пентагон. Или в подвал засадят, и будешь ты их желания исполнять!
— А я пожелаю, чтоб в подвале не держали! — вскипел Вася.
— Тогда — в Бутырки. Найдут — куда. Секретных мест, что ли, мало?.. Ну, пусть назначат тебя главным кудесником в правительстве — помогать перестройке. Одних министров — четыреста, а с республиками?.. И всем помогать?.. А избирателям? Их по Союзу — сто двадцать миллионов!
— Что же делать? — вконец растерялся Вася.
— Ну-ка, сделай поллитра, раз такое безысходное положение.
— Справедливо говоришь. И впрямь безысходное, — пригорюнился Вася.
На столе появилась бутылка «Русской».
— Нет, ты какую получше!
— А какую?
— Я однажды в Москве в «Интуристе» видел. «Посольскую», с винтом!
Вместо «Русской» возникла «Посольская» — со штампом «Интуриста».
— Прямо из кармана официанта, — пояснил Вася. — Все равно сворованная, для страны пропащая.
Сидят, выпивают помаленьку.
— А ведь какая у меня заветная мечта была! — вздыхал Глеб. — Чтоб все само собой из недр добывалось, чтоб на полях все само собой сажалось, росло, колосилось, убиралось и вывозилось — вовремя!
— Разбежался! Давай-ка чего-нибудь попроще придумаем. Что если лимиты выбить и маленький такой санаторий для наших горняков возвести на берегу Черного моря — прямо в Сочи? Скажешь, не справедливо? Не заслужили?
— Да все уже для начальства позастроено.
— Поглядеть надо.
Ну, слетали они, конечно — и без самолета, — в Сочи присмотреть справедливый участок для горняцкого санатория, но… сразу попали там в милицию, выпимши-то. Второй раз, если считать и московский случай.
— Видишь? — сказал Глеб. — С чудесами нужно поосторожней. Срочно желай, чтоб мы дома были!
Вернулись назад, допили свою бутылку. Чего же бы такого справедливого пожелать?.. Хотя бы погоду улучшить!
Позвали к себе из окна сына Маши, мальчика-отличника, и спросили: что нужно для этого сделать? Тот ответил: надо, мол, пушками тучи разгонять.
Нет, не годится, — решили они, — потом опять осенью — дождь, зимой — холод.
— Ну, если насовсем лето хотите, то нужно положение земной оси изменить, — хмыкнул отличник, неодобрительно поглядел на бутылку и ушел восвояси.
— Во! — обрадовался Глеб. — Тогда у нас всегда будет тепло, а у них, — показал пальцем в пол, — холодно.
— Несправедливо…
— Мы ведь жили в холоде, пусть и они поживут!
— Справедливо. Пожелал Вася.
Стало тепло. Радость по всему поселку!..
— Сколько там? — спросил разомленно Глеб, кивнул на термометр.
— Плюс тридцать!
— Тепло. Хорошо…
— Сорок!.. Сорок пять!
— Пятьдесят — в тени!
Суматоха в поселке началась. Кто-то полез от жары в колодец.
— Помираю… — простонал Глеб. — Давай обратно: загибай ось на место!
Похолодало, задождило…
— Вот теперь лучше. Слышь, Вася, а почему вечером солнце заходит?
— Земля вращается.
— А ты ее останови. И пусть все время солнышко будет!
— Конечно… Особенно утречком хорошо, — размечтался Вася. — Солнце над лесом. Самый клев! И было б вечно у нас — семь утра.
— Очень даже справедливо, — кивнул Глеб.
Вновь пожелал Вася. И ничего не случилось. Вернее — случилось, но что! Исчезли асфальт, фонари, недостроенное общежитие… Поселок вернулся, как говорится, в первозданный вид. Стал таким, каким и был прежде. Но не совсем. Новая крыша так и осталась на избе-развалюхе у той старушки.
Смотрит на блестящую крышу Вася, трет лоб: было это или не было?.. А, может, и правда весь запас исполняемых желаний исчерпался?.. Или уж слишком круто загнул он про вечные семь утра? Разве такая чушь останется безнаказанной!..
А как же теперь личная жизнь? Вася внезапно понял, что по уши влюблен в Машу. В ту, что с девятилетним сыном.
Тогда-то Иван и захотел самого Немыслимого, поклявшись себе, что это будет последнее чудесное желание, а там хоть трава не расти. «Хочу, чтоб Маша за меня замуж вышла и чтоб ее сын был моим родным сыном! — И уточнил: — Десять лет назад ездил я на картошку. Как-то… я у одной девушки ночевал. Ну и… Почему бы и нет? А вдруг она Машей была! Хорошо бы».
И вот вошла к нему домой в обеденный перерыв Маша и призналась, что она и была той самой деревенской девушкой.
Впрочем, все так и было на самом деле. А не говорила она раньше об этом из гордости, раз Василий ее не узнавал. Забыл! Конечно же, за десять-то лет она внешне изменилась, прическа другая, и так далее. Да и сам Василий был ошибочно ослеплен роковой страстью к женщине-вамп Анюте. А потом еще взрыв — тоже влияет на память.
Василий и верит и не верит, что она — это она. Маша и говорит:
— Там сын у крыльца стоит, отведи его подстричься. Он послушно повел. Когда мальца стригли, Василий за мастером, напротив зеркала, стоял — руководил. И внезапно увидел: он с ее сыном — вылитые. Нос вздернутый, бровь правая треугольничком, уши оттопыренные. Бесспорно, сын его собственный! Вернулись они.
— Иди за меня замуж, — робко сказал Василий. — Работать будем, все своими руками делать. Как люди жить.
— Я согласная, — говорит. — Я давно этого жду…
— А меня спросили? — пробурчал сын. — Ладно. Так и быть… Только никогда не выпивай.
— Не буду, — пообещал Василий.
ДВОЕ НА ОСТРОВЕ
В свое время я опубликовал рассказ «Часовой». По вполне понятным причинам пришлось сделать не только ряд сокращений, но и само действие перенести аж в Бразилию и в Северную Ирландию, хотя все происходило гораздо ближе — в Карелии.
Теперь перед Вами доподлинный рассказ Ураганова, без всяких маскарадных штук с переодеваниями, перелицованными именами и судьбами. Впрочем, иные проницательные читатели и тогда разгадали мой маневр. Как правду ни таи, она все равно вылезет. И тем не менее лучше уж обойтись без камуфляжа. Да и сам Ураганов настаивает на том, чтобы вернуть рассказу первобытный вид, так как ранее в нем даже не упоминалось его славное имя.
— Запад есть Запад, а Восток есть Восток, — как любит он повторять. — Крути штурвал обратно.
Все это приключилось с моим отчимом, когда он сам еще был молодым, да он и сейчас не старый. А когда-то, в детстве, все, кому за тридцать, мне казались уже стариками…
Было тогда Ивану, отчиму моему, лет двадцать пять. Работал он рядовым инженером в какой-то строительной конторе, как говорится, в упор ее не видя и мечтая о другом будущем. Не то чтобы он плохо работал, — наоборот, нормально, — но считал стройконтору и не трамплином даже, а чем-то случайным, временным. Как птица летит куда-то, сядет на случайную ветку оглядеться — так и он. Потом уж, после тюрьмы, он вспоминал свою работу, как рай небесный, враз оценив простые земные радости. И когда вышел на волю, вернулся домой в свой Курск, то никуда уже дальше не полетел: от добра добра не ищут. Весь смысл жизни, оказывается, у каждого человека под носом. Даже ближе — в самом себе. А не где-то далеко, в Москве или в Ленинграде…
Тогда, в свои двадцать пять, Иван был отчаянным рыболовом. Каждое лето или осень, как отпуск дадут, он уезжал поудить с приятелями то на Волгу, то на Селигер, а то и на Енисей выбирался. Зиму не любил. «Зимой — холодно, — говорит, — и все вокруг черное да белое». А ему разноцветье подавай: голубое небо, зеленые деревья и прозрачную воду, где все краски играют.
В то лето они поехали в Карелию. Не помню точный маршрут, но там, в какой-то глухомани, надо было прыгать на ходу с местного поезда, чтобы не пропустить нужную тропу через лес.
Озер в Карелии тьма-тьмущая, выбирай любое для рыбалки — не прогадаешь, лишь бы от жилья подальше. Однако один из их троицы уже бывал здесь, у него были свои заветные места. С поезда спрыгнули удачно, никто себе шею не сломал, благо поезд не спешил — куда здесь особенно торопиться.
Вышли на лесную тропу, петляющую меж елями и валунами. Поклажа была приличная, у каждого — упакованная резиновая лодка, рюкзак с припасами да еще удочки — поэтому шли быстро, зато чаще отдыхали. Меньше всех, пожалуй, был груз у Ивана — он смог вырваться только на неделю, не то что другие на весь отпуск.
Палатку с собою не брали. Там, расписывал их проводник, повсюду на лесистых островах — вполне справные брошенные избы. Словно мор прошел, как и в России. Хотя здесь-то жилье еще от финнов осталось, тех, что на исконную родину подались, — потому-то шестнадцатую союзную республику и упразднили еще в 1956 году. Вместо Карело-финской союзной стала Карельская автономная. Анекдот ходил: в республике осталось лишь два финна — фининспектор и Финкельман.
До озера добрались засветло. Накачали лодки, погрузились и гуськом поплыли к ближнему, километра за два, острову. Для начала. А уж затем — кочевать от острова к острову, потягивать окуней и плотву, да сигов, если повезет. Сиги на удочку не ловятся, но у них сеточка была припасена, скромная, метров на тридцать.
Еще издали заметив у берега острова чью-то плоскодонку, они огорчились: кто-то опередил. А ведь до сих пор, от самой железной дороги, они не встретили ни одного человека. Из трубы избенки курился дымок. Было уже поздно. Плыть дальше и искать себе пристанища на других островах им, как говорится, не светило.
Жилец — он был один — попался свойский. Мужик лет пятидесяти, могучий, как медведь, и веселый, как тот же.
— Зовите меня Джеком, — сказал он и пояснил: — Бабка такое имечко мне сварганила. В честь Джека Лондона, любимого писателя Ильича. Время такое было — оттуда всякие Эдмонды, Гаррики и Джоны пошли. Про борьбу с космополитизмом слыхали? Не довел ее Иосиф Виссарионович, царство ему небесное, до конца. Вот и мыкаемся с такими кликухами, как безродные!
Нет, правда, свойский. Кто над собой подтрунить способен, тот нормально устроен.
Джек был тоже не местный. Сказал, из Питера. Тоже рыболов, да еще и охотник. С ружьем. А лодку ту нашел на озере, бесхозную, и подлатал.
Выпили, конечно, за прибытие и за приятное знакомство. Сблизились.
Джек с ними затем четыре дня плавал. Каждый вечер их дичью баловал, приговаривая:
— Ешьте утей, сынки. Сил набирайтесь. Они подружились и стали с ним на «ты».
Время пролетело быстро, как праздник. Для Ивана настала пора прощаться. А тут и Джек внезапно заторопился домой.
— Спускай пары, — говорит, — из своей резиновой, и в мою лодку садись. Вместе поплывем.
Иван обрадовался попутчику. До леса полдня пилить на этой надувной, а на плоскодонке — куда быстрей. Да и вдвоем веселее, тем более что в свой Курск все равно нужно через Ленинград кругаля давать. Надо ж, как повезло!
— А не жалко будет лодку бросать? — спросил Иван, когда они гребли на сменках.
— Да я припрячу. До лучших времен, — подмигнул Джек.
И то! В тех краях можно слона спрятать, да так, что потом и сам не найдешь. Глухие места. Озера и озерца, соединенные полузаросшими протоками, острова и островки, заброшенные хутора и мызы, болота и речушки с ручейками. Раздолье для рыбацкого сердца… Будет чем и в Курске своих попотчевать — Иван прихватил с собой несколько копченых сигов. Вернее, сижат-сырков, граммов по четыреста. Много не унесешь. Да много и не попадалось, даже в сетку, даже в этих диких местах. Скудеет природа-Ивану показалось, что Джек, сменивший его снова на веслах, гребет вроде бы не туда. Но спутник лишь усмехнулся:
— Поплавал бы здесь с мое, не ошибся бы. Тут срезать можно — чую.
Иван доверился его чутью и, удобно откинувшись на тюк с резиновой лодкой, незаметно уснул под плеск весел.
Проснулся он уже в слабых сумерках. Джек озабоченно сказал:
— По-моему, мы заблудились… Черт! Не хотел тебя будить — уж больно ты сладко спал, — и странно, или только почудилось, улыбнулся.
Ну, что ж… Иван промолчал. Так на так бы ночь потеряли, не пошли б ведь впотьмах к железной дороге. Да и чувствовал себя виноватым, он-то кемарил, а тот греб.
— Где наша не пропадала! — сказал Иван. Джек одобрительно кивнул.
— Мне нравятся смелые, рисковые люди, как ты. Я с ними имел дело, — опять с какой-то странностью произнес он.
Иван, встав во весь рост, спросонья оглядывался по сторонам. Все вокруг было и похоже, и незнакомо. Водный простор, лесистый островок неподалеку… Надвигался вечер. Плыть, да еще не зная дороги, бесполезно.
— Давай к берегу, — растерянно сказал он.
— И я так думаю. Утром разберемся.
Они пристали к островку, и вдруг увидали в глубине его какое-то бревенчатое строение, похожее то ли на охотничью заимку, то ли на сарай. Сошли на берег и втащили нос лодки под дерево, нависающее над водой.
Иван подошел поближе к одинокому жилищу. Низкая крыша была сложена из крупной замшелой дранки. Сквозь узкое пустое оконце, напоминавшее бойницу, он заглянул внутрь. Здесь, очевидно, все же бывали охотники. На дощатом столе валялась патронная гильза.
Джек открыл дверь, плотно сбитую из жердей, и они вошли.
— Не беда, — весело потер он руки. — Переночуем по-человечески, под крышей. Не нужно палатку ставить.
Кстати, у него была палатка. Зачем он ее брал, если знал, что повсюду при желании можно отыскать жилье? Уж скорее б он взял с собой резиновую лодку, не рассчитывая на случай.
Неизвестно почему Иваном вдруг овладело беспокойство. И, пожалуйста, нате вам!
— Гляди… — тревожно удивился он.
В дальнем углу свисала с ржавого штыря тонкая цепь с прикованными на конце железными кольцами.
— Наручники? — воскликнул он, приблизившись.
— Они, — загадочный огонек мелькнул в глазах Джека. — Да… — поднял он их, рассматривая, и со звоном бросил. — Обыкновенные карцерные. Для задержания применяют облегченные, двуручные.
«Откуда такие познания?» — невольно подумал Иван, но расспрашивать почему-то не стал.
— Хорошее местечко, — безо всякой иронии заметил Джек.
— Еще бы… — хмыкнул Иван.
— Да тут, говорят, где-то лагерь был. Там, наверное, этого добра… Ну, ужинать пора, — сам себя оборвал Джек, направляясь к выходу. — Отметим это дело.
— Какое дело?
— Запросто могли куда-нибудь в болото врубиться, пришлось бы тогда в лодке ночевать. — Он вышел.
Оставшись один, Иван вновь огляделся. Больше ничего примечательного, кроме того стола и еще двух грубых табуреток, тут не было. Касаясь рукой стены — уже и стемнело, — он двинулся вдоль нее, чиркнув зажигалкой. Неясная тревога не покидала его, томило какое-то предчувствие. В робком свете появлялись под ногами то ветхое тряпье, то ржавые консервные банки.
Внезапно Иван коснулся пальцами неглубоких бороздок на бревне стены, на ощупь похожих на буквы. Он поднес зажигалку — на мягкой древесине выделялись процарапанные цифры и слова: «8.7.1975. Умираю, меня сюда…» Дальше надпись обрывалась. Иван посветил на пол — там блеснул крохотный, с ноготь, осколочек стекла. Он машинально поднял его.
Джек все не возвращался. Иван вышел наружу, не загасив зажигалку, ее язычок шевелился на слабеньком ветру… Отсвет упал на покосившийся кладбищенский крест, выступающий над густым низкорослым кустарником. Раньше, когда проходили, он этот крест не заметил.
— Эй! — испуганно крикнул Иван.
— Сейчас, — откликнулся с берега невидимый Джек. — Иду!
Ивану стало спокойней — не один здесь, в глуши. Он смело продрался к кресту, на нем оказались те же, но выжженные цифры: «8.7.1975». Ни имени, ни фамилии…
«Больше года прошло…» — невольно подумал Иван. Из-за бревенчатого угла вырвался свет. Джек шагал с фонарем, согнувшись под тяжестью поклажи.
— Ты где? — поводил он лучом, обнаружил спутника и попросил: — Помоги.
Он тащил рюкзак, весла и ружье.
Иван взял все, а оружие Джек почему-то не дал и ушел снова к лодке.
«Тоже боится», — усмехнулся про себя Иван.
Во второй свой заход Джек принес брезентовый мешок с палаткой и пухлый баул. Теперь только Иван запоздало поразился: как же это Джек допер из Ленинграда на озера — один! — столько барахла. Джек вынул из баула пару тонких одеял, затем осторожно поставил на стол керосиновую лампу с дутым стеклом.
— Весла-то зачем?.. — спросил Иван, хотя хотел спросить о другом.
— Мало ли что…
— Основательно устраиваешься.
Джек ничего не ответил, деловито выкладывая разные припасы.
— Надолго? — сострил Иван.
— Навсегда, — в тон ему ответил Джек.
Он был возбужден и все поглядывал на Ивана, зажигая лампу и прикуривая от нее. Суетливо достал из рюкзака две оловянные миски, две ложки, вынул было вилки, но сунул обратно. Руки у него подрагивали… Открыл банку тушенки. А потом, подумав, выудил из рюкзака большую, ноль семь, бутылку «Старки» и нашарил два стаканчика.
— Сохранил на обратный путь, — он потер ладони. Опять подумал и достал банку ананасового компота. — Хороший сегодня вечерок, хороший… — приговаривал он.
Иван изумленно смотрел на приготовления.
— День рождения у тебя, что ли?
— В точку попал, сынок. В точку… — пробормотал тот. — Словно заново родился… Отличный вечерок. Погудим сейчас. Живи одним днем! — воскликнул он, наливая водку в стаканы и гостеприимно приглашая к столу. — Кто знает, что будет завтра! Садись, чего стоишь?..
Мощными лапами он схватил его за плечи и резко усадил на табуретку:
— Ешь, пей, веселись!
— А ты?.. — струхнул Иван, стараясь не показать и виду.
— И я! — плюхнулся Джек на другую табуретку.
Он ни секунды не находил себе покоя. Двигал предметы на столе, перекладывал с места на место… «Наверняка в лодке у него еще бутылочка припрятана. Видать, здорово приложился, пока вещи собирал», — ободренно подумал Иван и, не ожидая нового приглашения, накинулся на еду, не забыв и про стаканчик.
Джек встал и, снова поглядывая на него, в приподнятом настроении расхаживал по сараю, бормоча:
— Сегодня твой день, веселись…
«Точно, — опять подумал Иван, — набрался, старый хрыч!»
— А ты чего ж? — вновь сказал, спохватившись, Иван.
— И я, — повторил Джек. Подскочил к столу и осушил свой стакан. — За тебя! — быстро налил и поднял снова. — Чтоб тебе легше жилось! Жизнь — она трудная.
— За тебя! — тоже поднял стакан Иван.
— И за меня, за меня… Как же без меня? — рассмеялся Джек. — У меня жизнь потрудней твоей будет! Тебе что, лежи себе полеживай, а мне… — он не договорил.
Под выпивку его поведение уже не казалось странным.
Джек, окосев, обнял Ивана за шею и прошептал на ухо:
— Тебе на меня жаловаться не придется. Я свое дело прочно знаю, большой стаж, но только ни-ни!.. — приложил он палец к губам и обернулся.
Ивана разбирал смех. Здоровяк, а забурел — с одной-то бутылки на двоих. Эк, разобрало!
За первой бутылкой последовала вторая…
Иван уже не удивлялся тому, что Джек, встав на цыпочки, вдруг вытащил из чердачного проема дюралевую раскладушку с плотным парусиновым низом. Он мог бы оттуда вынуть хоть цветной телевизор, Иван уже мало чему поражался.
Помнит он о том, что все-таки спрашивал: чья это, интересно, надпись на стене? И кто у входа похоронен, скажите на милость?.. «Тсс, — шипел спутник. — Умер, бедолага, умер. С тоски зачах, да еще воспаление легких… Смелый был человек, гордый вроде тебя. Пришлось его, чтоб не мучился… Тс-с!..»
Помнит еще Иван, как вознамерился было лечь на раскладушку, но этот бугай стащил за ноги и постелил ему одеяло у стены. «Теперь здесь будешь спать. Привыкай», — так, кажется, приказал он.
Проснулся Иван от солнечного луча, падавшего сквозь «бойницу» прямо на лицо. Отчего-то болели кисти рук. Он хотел поднять левую руку с часами, чтобы узнать время, но она оказалась на удивление тяжелой, и что-то зазвенело. Кисти были окольцованы наручниками!
Иван вскочил, цепь отбросила его к стене, одеяло путалось под ногами.
— Джек, — закричал он.
Дверь распахнулась и появился его спутник. За плечами висело ружье.
— Твоя работа? — сердито хохотнув, побренчал наручниками Иван; голова ныла болью от вчерашнего. — Что за шутки?!
Джек сурово посмотрел на него:
— В чем дело? Какие у вас жалобы? Завтрак… Обед в тринадцать ноль-ноль, — и захлопнул за собой дверь.
Снаружи скрежетнул засов. Еще вчера Иван мельком отметил, что засов почему-то там, а не изнутри, и подумал тогда: «Может, от зверья закрывают, когда уходят…»
— Джек! — в отчаянии прокричал он, мгновенно вспомнив прошлый вечер, надпись, выцарапанную на стене, покосившийся крест, туманные намеки спутника. — Пошутил, и хватит!
На его лицо упала тень, в бойнице показалось темное лицо Джека.
— С караульным разговаривать запрещено, — безучастным голосом произнес он и исчез.
В тишине раздавались шаги, он размеренно ходил вдоль стены у входа.
И потянулись дни и ночи, похожие одни на другие… Часы охранник отобрал.
— Пост по охране врагов народа сдан! — Пост по охране врагов народа принят! — слышался по утрам его голос за дверью.
Он удостаивал заключенного лишь короткими фразами по поводу завтрака, обеда и ужина, прогулок, утреннего туалета — приносил воду в тазике, — и «отправления естественных надобностей», как он выражался. В заключенном он не признавал никакого приятеля, знакомого — причем совершенно искренне. А однажды в сердцах случайно проговорился, что он никакой не Джек — что за чушь! — а Петр. Память о недавнем прошлом совершенно покинула его, и он обращался к пленнику на «вы», с равнодушием, в котором, однако, проскальзывала издевка.
Погода посвежела, он выдал заключенному его собственную телогрейку; без нее Иван, при любой погоде, никогда не ездил на рыбалку. Ватничек по ночам незаменим; так сказочный гусь: на одно крыло ложится, другим укрывается.
Петр теперь появлялся в туго подпоясанном солдатским ремнем военном бушлате, а то и в прорезиненном плаще поверх него. Лишь сапоги остались неизменными, он и прежде их носил. Где он хранил раньше свою амуницию? Возможно, где-то на острове или на том же чердаке, откуда достал раскладушку. Она не причудилась тогда Ивану, теперь он мог видеть ее всякий раз, когда Петр открывал дверь. Раскладушка стояла у кустов за входом. На ней охранник и спал под открытым небом, выматываясь от бессменных дежурств. Потом временами начало моросить, и он поставил палатку.
Когда, отомкнув оковы специальным ключом, охранник выводил Ивана под дулом ружья на прогулку, то твердо предупреждал:
— В случае побега — стреляю. Первый выстрел — в воздух.
Кормил жидким супом из концентратов, хлебом собственной выпечки из грубой муки, давал слабый несладкий чай, а уж воды вволю из озера — ставил у стены ведро, в нем плавала пластмассовая кружка.
Иван устал доказывать, кто он и как они сюда попали. К его словам, мольбам и даже плачу охранник относился недоверчиво-презрительно.
— Все вы так говорите, — отвечал он.
— Ну в чем, в чем я виноват?! — до хрипоты орал Иван.
— Сами знаете, — следовал ответ. — Невиновные сюда не попадают. — И, вспоминая, что находится на посту, резко добавлял: — Разговоры запрещены.
— А что еще запрещено? — разъярился как-то пленник.
Через полчаса неумолимый охранник приколол на стене написанный от руки лист со множеством пунктов. Запрещалось буквально все: нет необходимости перечислять… Особенно, до горьких слез, рассмешил Ивана пункт, воспрещающий встречу с родными, близкими и друзьями — до особого разрешения.
— Когда меня выпустят? — спрашивал пленник.
— Решит начальство.
— А когда оно решит?
— Когда придет.
— А когда придет? — настойчиво выпытывал Иван.
— Неизвестно, — коротко отвечал охранник и заканчивал привычными словами: — Разговоры запрещены.
Постепенно он сделал заключенному послабление: освободил одну руку и чуть удлинил цепь — теперь Иван вместо трех шагов у стены мог сделать побольше.
Что он только не предпринимал, лишь бы освободиться! Безуспешно пытался напасть на охранника и придушить цепью — тот был предельно начеку, физически гораздо сильнее и всегда вооружен.
Незаметно хотел раскачать железный болт, к которому прикована цепь, и выдернуть из стены — Петр заметил его тщетные потуги.
— Болт проходит бревно насквозь, с той стороны — гайка, — официальным тоном сообщил он.
Цепь же порвать было невозможно, легче оторвать саму руку.
После второго нападения с цепью на Петра, тот жестоко избил пленника, с придыханием говоря:
— Мразь… Скотина… Подонок, а туда же!
— Садист! Гестаповец!.. — кричал Иван.
— Все вы так говорите, — стандартно отвечал часовой, явно сошедший с ума.
Какие бы планы ни вынашивал томительными днями, вечерами и по ночам в беспокойном сне Иван, они лопались, как мыльные пузыри — столь же радужные и неуловимые.
Несмолкающие шаги за стеной теперь все чаще прерывались отдыхом часового днем в палатке — начал уставать, — но ни подкоп, ни побег через крышу прикованный пленник не мог устроить.
Никакой возможности. Никакой!..
Одна только мысль теперь настойчиво терзала заключенного: убежать во время прогулки, броситься в воду, уплыть… От пули, может, и уйдешь, а от лодки?.. А если — удрать именно на лодке? Но весел-то в ней нет… Ну, резко оттолкнуться, лечь на дно, украдкой грести руками, пока не отплывет подальше. В одежде, с ружьем, охранник за ним в воду не кинется… А затем выломать поперечную доску — вот тебе и весло!.. Интересно, чем заряжено ружье: дробью или жаканом?..
Прогулка представляла собой получасовое хождение без наручников под конвоем вокруг «темницы», минут пять побродить — еще ничего, а потом от однообразного мелькания бревенчатых стен начинает кружиться голова: стена — угол — поворот, стена — угол — поворот, стена — угол — поворот, стена — угол — … Нырнуть в заросли вместо поворота, и будь что будет! Охранник сразу не среагирует, мозги у него хоть на пару секунд должны быть заняты новым поворотом за угол. Пока вскинет оружие — кустарник укроет беглеца. Да, а первый выстрел в воздух, о котором предупреждали? Этот «ходячий механизм», надеялся Иван, не забудет про свою воображаемую инструкцию!..
Так и произошло. Утром — вместо восьмидесятого поворота за угол — Иван метнулся в кусты. Секунды через две прозвучал ожидаемый выстрел, суматошно закружились в воздухе галки, еще три секунды — новый выстрел: боль пронзила ногу беглеца, и он повис на колючих зарослях. Не очень-то глупым оказался полоумный часовой, придумав прогулки вокруг сарая, — больше тут ходить было негде. Только отчаяние позволило Ивану вгорячах прорваться сквозь ежевичные кусты у сарая, и без погони он сам бы надежно застрял в колючей непролазной чащобе, как рыба в сети.
Часовой, к счастью, стрелял не жаканом, но и не дробью — картечью. Он приволок стонущего пленника в палатку, уложил на свою койку, примотал к ней веревками и без всякой анестезии, несмотря на непрерывные вопли раненого, извлек из бедра свинцовую картечину при помощи обыкновенного острого ножа, раскаленного на огне, и дезинфекции раны водкой. Затем зашил рану суровыми нитками, забинтовал и перенес обессиленного Ивана в сарай на одеяло. Приковывать пленника на сей раз он не стал. По-прежнему не говоря ни слова, ушел и закрыл дверь на засов.
Теперь положение Ивана стало еще тяжелее. Надеяться на то, что, допустим, он сумеет как-то чудом незаметно вырваться, доковылять на больной ноге до лодки и удрать на ней — бесполезно. Чуть станет ему лучше, снова посадят на цепь. Перед такой безысходностью даже немыслимая боль раны забывалась. Он бредил, его мучали кошмары…
В минуты просветления Иван видел, как охранник терпеливо ухаживает за ним: меняет повязку, поит водой и бульоном из мясных кубиков (их вкус ни с чем не спутаешь), все так же молча и безучастно.
Только раз он угрюмо бросил:
— Влетит мне за вас, но я предупреждал.
— Палач… — шевельнул губами пленник.
— Я действовал по инструкции.
Иван уже давно понимал, какая судьба постигла того неизвестного 8.7.1975. Вероятно, Петр заманил его сюда и охранял до самой смерти. Да и тюрьму эту, наверное, выстроил он сам. Или заставил кого-то строить под конвоем…
Последняя надежда оставалась на то, что караульный в один прекрасный день очнется, станет прежним — пусть угрюмо ухмыляющимся — Джеком и удивленно спросит: «Чего мы здесь делаем, а? Что с тобой, сынок?» Ведь был же он вполне нормальным недели две — три? — назад.
Со дня смерти неизвестного — 8.7.1975 — прошло более года… А что если Петр (Джек?) превратится в нормального лишь после… смерти пленника?! Может, только это встряхнет его психику, и тогда он вновь станет обычным здравым человеком. И будет снова спокойно жить, пока не накатит очередная волна безумия в подходящий момент, когда он останется один на один с будущей жертвой в этих краях.
Иван отчетливо представлял себе новый крест над новой могилой с новой датой — конца своей жизни… «Но ведь ребята скоро вернутся в Курск! — неожиданно воспрянул он духом. — Их спросят про меня. Они ответят, что я уехал намного раньше. Родные забеспокоятся, заявят в милицию. Его, и Джека тоже, примутся искать! — И опять впал в уныние. — Разве быстро найдешь?.. Да и найдут ли? Наверняка и того погибшего неизвестного тоже искали! И, кроме того, почему должны считать, что он пропал именно здесь? Путь отсюда до Курска — далек. Что угодно могло по дороге случиться!.. А местные озера — лишь отправная точка. Тут и вертолет бесполезен, кругом — чаща. Да и каждый заброшенный сарай проверять не станут. И лодку разве увидишь под густым деревом? А, возможно, часовой и вообще ее в кустарник выволок…»
Оставалось покориться судьбе… Но рана постепенно заживала, опасность заражения и нагноения миновала, видимо, оттого, что часовой не забывал менять повязки и поливать их спиртным. А вместе со здоровьем возвращалось и стремление выжить любой ценой, потому что вконец беспомощному человеку и надеяться нечего.
«Кто тебе поможет, если ты сам себе не поможешь?» — вспоминал он слова матери, терпеливой женщины, работавшей в прачечной и буквально своими руками поставившей на ноги троих детей.
Друзья!.. Какие у него друзья? Рыбачить да водку пить. Настоящие друзья — это… Ну, те, кто пойдет за тебя и в огонь и в воду. А он бы за них пошел? В воду-то еще может быть. Но вот в огонь — три раза подумал бы. Они его даже искать не поедут, раз милиция уже занялась. Милиция-то уж, конечно… Недаром даже на спичечных коробках печатают портреты детей, пропавших несколько лет назад.
За «бойницей», расхаживая взад и вперед, мелькал караульный, разговаривающий сам с собой; в последнее время у него появилась привычка размышлять вслух. Доносились обрывистые невнятные слова, когда он шагал мимо оконца:
— Никакого порядка… где колючая проволока?., колько ждать смены… орожевых вышек нет… одам рапорт… одовольствие конча…
В очередной раз меняя повязку, он неожиданно взглянул на пленника более ясными, чем обычно, глазами.
— Ты же мне друг, — прочувствованно сказал он. — Я так ждал, что я… — И снова нашло затмение. — Разговаривать запрещено.
Жаль, нечем было стукнуть его по башке, да и слишком ослабел Иван.
Иногда охранник совсем заговаривался:
— Ты подарки всем дари, сам себя благодари. Стихи… Писаки у меня тоже были, — хихикнул он. — Кто-то вот в поповскую собаку камнем кинул: хотел узнать, Бог есть или нет. А корреспондент ему сказал: ты б еще камнем в обком бросил, чтоб узнать: а Карл Маркс есть? И готово!.. Склочные люди. Пи-са-ки!
— Где? Здесь? Журналисты?
— Разговаривать запрещено, — караульный опомнился, если применить это слово навыворот.
В пустых карманах Иван нащупал осколочек стекла, найденный в первый вечер под странной надписью. И теперь, лежа у той же стены, принялся незаметно выцарапывать на нижнем бревне: «Я, Иван Степанов из Курска, захвачен Петром (Джеком) и нахожусь здесь…»
Увы, он, Иван Степанов, не знал, ни какое сегодня число, ни месяц. Сколько он здесь находится?.. Неизвестно… Счет времени он уже потерял… Вечность!
«… С августа 1976 года». Слава Богу, он хоть не забыл, когда отправился с приятелями рыбачить.
Точно так же, верно, тот неизвестный, выцарапывая свою надпись, мучительно вспоминал, сколько прошло дней и ночей, недель… месяцев?..
Сделав из палочек решетку, часовой приколотил ее снаружи на оконце. Теперь по ночам казалось, что весь звездный мир посажен в камеру.
И вот случилось необычайное! То, чего никогда не предусмотришь и не ждешь. Иван уже кое-как ковылял по сараю и часто, насколько хватало сил, стоял у «бойницы», глядя на недосягаемую свободу.
Донесся рокот мотора, громче, громче, и справа от их островка внезапно показалась большая моторная лодка с самодельной каюткой рулевого и непромокаемым тентом над кормовой частью. Человек шесть мужчин и женщин, по обличью райцентровских или поселковых (не деревенских) жителей, выпивали и закусывали на ходу; смеялись, кто-то включил транзистор, загремела музыка. Катер проходил уже мимо островка.
У Ивана перехватило дыхание.
— Сюда! — слабо крикнул он, не слыша собственного голоса. — Сюда! Помогите! — завопил он. — Все на палубу!
Его услышали. Катер медленно повернул и пристал к берегу.
— Помогите! Спасите! — ликовал Иван, выбив кулаком деревянную решеточку.
Но тут на берег вышел, улыбаясь, караульный без ружья. И начал громко объяснять, показывая на ошалевшее лицо пленника в оконце.
— Дружок мой. У него белая горячка. Грозился меня застрелить, чуть сам себя в ногу не ранил, еле ружье отобрал! Пусть посидит, очухается, ему полезно. До того допился, бедолага, все время кричит, что я его запер и караулю, как в тюрьме. Тронутый!
Напрасно Иван, плача и перебивая его, орал всю правду. Фактически он повторял слова находчивого караульного: «Выпили… запер!., караулит!., ранил!., тюрьма!., сумасшедший!..» А его прежний радостный крик: «Все на палубу!» — вообще ни в какие ворота не лез. Несомненно, безумец.
Впрочем, его бы приняли за безумного и без того крика. Объяснение охранника было вполне разумным. Недаром говорят, что иные сумасшедшие бывают дьявольски хитрыми и изобретательными. Да и сама внешность заросшего пленника с воспаленными глазами, наверное, показалась зверской.
Те, кто сошел на берег, посмеялись и вернулись на катер.
— Пить надо меньше! — крикнул кто-то, снова прикладываясь к бутылке.
Застучал мотор, и уплыли, как ни вопил и ни тянул к ним Иван руку из оконца.
— Не вышло? — с хитрым видом сказал часовой поникшему пленнику. — Не удалось вашим переодетым сообщникам вас спасти?!
И, достав спрятанное в кустах ружье, деловито зашагал вдоль стен тюрьмы.
«Может, вернувшись, они расскажут про меня, ну, как анекдот, как забавный случай. И если меня искали или ищут, вдруг кто-то догадается сюда заглянуть и все проверить?..» — стиснув зубы, успокаивал себя Иван.
Не удержавшись, он мстительно сказал об этом караульному. Тот, недолго думая, загадочно ответил:
— Узнают. Конечно, узнают. И будете сидеть лет десять там, где давно пора.
— Все лучше, чем так жить, — сдавленно рассмеялся Иван. Доказывать, что он ни в чем не виновен, давно перестал.
— Разговоры запрещены, — сухо заметил караульный. И устало добавил: — Мне самому надоело — одному.
— А если я покончу самоубийством? — выкрикнул Иван.
Угроза озадачила охранника:
— Вы этого не сделаете. Мне будут неприятности.
— Сделаю!
— Придется связать.
— Не буду, клянусь! — испугался Иван. Тогда прости-прощай любая попытка к бегству.
— А как насчет голодовки? Не объявите?
— Нет…
— Верю. Правильно решили. Лишние хлопоты обоим. Пришлось бы насильно кормить. — Внезапно караульный приложил ладонь к козырьку фуражки. — Так точно, товарищ старший лейтенант! Повторить приказание?.. Не спускать глаз! — отчеканил он воображаемому начальнику.
Неожиданно Ивана осенило. Дурацкое прямо-таки озарение! Почему он не додумался раньше? Но сейчас самый подходящий момент. Отодвинувшись от оконца, он гаркнул измененным начальственным голосом:
— Смирно! Слушай мою команду! — не очень-то разбираясь в точности распоряжений, а следуя наитию и еще помня что-то из своей армейской службы. — Немедленно освободить заключенного и доставить в ближайший населенный пункт! Выполняйте приказание!
— Есть, товарищ старший лейтенант! — мгновенно послышалось за окном. — С вещами?
— С вещами! — рявкнул Иван, добавив про себя: «Идиот».
Протяжно заскрипел засов, раскрылась дверь, в проеме возник Петр.
— Приказано доставить в поселок. Вы пока свободны. Иван поспешно заковылял к выходу.
— С вещами, — указал на одеяло караульный. Схватив одеяло, «освобожденный» заторопился к лодке.
Охранник заботливо поддерживал его.
Наконец они отплыли. Ненавистный островок удалялся, крыша тюрьмы скрылась за кустарником…
Петр греб, Иван расположился на корме, ружье лежало между ними на рюкзаке. Петр иногда оборачивался, проверяя, правильно ли держит курс. Воспользовавшись этим, Иван незаметно, на всякий случай, подтянул ружье за ремень поближе к себе.
Петр вдруг остановился.
— Забыли палатку. Мы мигом, — он повернул плоскодонку обратно.
Иван схватил и направил на него ружье.
— Разворачивайся — и в поселок. Живо! Охранник застыл, напряженно задумавшись.
— Побег!.. — шепотом вскричал и бросился к нему. Иван нажал на спусковой крючок. Выстрел отбросил охранника к носу лодки.
— … Что со мной… сынок? — пробормотал он, когда Иван склонился над ним. — Где мы? — Он глядел на него ясными глазами, зажав ладонью рану под сердцем. — А твои ребята… где?
Это были последние слова.
Иван похоронил его рядом с тем неизвестным. Подумав, сколотил крест и вырезал на перекладине ножом только год смерти. Документов при нем не оказалось.
На этом можно было бы и окончить. Дальше, вплоть до «новой» тюрьмы за «превышение необходимого предела обороны, повлекшее за собой…», шло следствие. А ведь Иван вообще мог промолчать обо всем, скрыть, а ружье утопить в озере. В конце-то концов?! Сейчас бы он так и сделал. Тогда молод был.
Кто был неизвестный, похороненный на островке 8.7.1975, установить не удалось. Эксгумация трупа и баллистическая экспертиза показали, что он убит из другого оружия. Но, может, у охранника год назад было другое?.. Ведь и это ружье оказалось не зарегистрированным на его имя. По милицейским данным, оно было похищено три года назад в городе Юхнове «путем взлома багажника» частной машины. Личность человека, которого Иван убил, как вы поняли, выяснили. Его все-таки звали Петр, Петр Алексеевич Н., в последнее время работавший сторожем на …ской товарной станции.
Любопытным было сообщение, полученное на запрос суда, из правоохранительных органов города, где он ранее жил: «…15 лет служил в звании старшины в ВОХР п/я (номер) Главного управления лагерей МВД СССР. По имеющейся характеристике, нес службу добросовестно, иногда проявляя несдержанность. В таком-то году в силу массовой реабилитации п/я (номер) был закрыт. В таком-то году был судим …ским нарсудом за самовольное задержание прохожего (фамилия, имя, отчество, год рождения), которого незаконно содержал под стражей в подвале собственного дома. Осужден на три года изоляции (статья, режим), выпущен досрочно по заключению медкомиссии вследствие психических причин. В последние годы ни в чем предосудительном замечен не был. На работе характеризуется положительно, в трудовой книжке — 12 поощрений, после лечения по месту жительства — не опасен для окружающих…»
И так далее.
НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА — ВОЛЬНАЯ ПТИЦА
Не понимаю я наших ученых! Они все на свете хотят объяснить физическими, химическими, биологическими законами, а надо на все смотреть проще. А главное, разучились они удивляться. И потом, раз такие законы все-таки существуют, значит, их кто-то выдумал и провел в жизнь. Сами по себе законы не бывают. Любые, даже самые лучшие, законы нуждаются в совершенствовании, поправках и уточнениях. Поэтому загадочное поведение так называемой Материи, ставящее подчас ученых в тупик, всего лишь на-всего очередная поправка во времени, проведенная на самом Высшем Уровне. Ничего незыблемого нет: сегодня — одно, завтра — другое, если понимать под этим достаточно продолжительный срок.
Вот говорят: природа меняется, погода ведет себя кое-как и так далее. А все это — лишь очередная поправка, принятая Наверху, на нашу человеческую вредную деятельность. И никаких тут чудес нет. Когда мы говорим, что открыт какой-то природный закон, то это и означает, что он именно открыт, а не нами придуман. И если он вдруг стал видоизменяться, то вполне возможно: тут-то уже дело наших рук, а не ума. К примеру, перекрыли плотинами Волгу, и Каспийское море стало мелеть, отступать от своих привычных берегов. Закон нарушен. Но ведь нарушение закона квалифицируется как преступление. Вот и выходит, что всем нам приходится расплачиваться. Так что природные законы, хотим мы того или нет, соблюдаются строго. Они действительно неотвратимы. Природный суд не дремлет, нарушил закон — получай наказание. Все продумано. Мы вообще можем получить вместо Земли-матушки всеобщую Землю-тюрягу с пожизненным заключением, а там уже недалеко и до высшей меры наказания для последующих поколений. Что из того, что они невинны?! Что сотворил для себя, то и детям достанется. Какова жизнь, таково и наследство.
Я малость ушел в сторону. Но так уж водится: одно слово тянет другое, и пошло-поехало. Есть у меня такой недостаток. Не самый крупный, конечно.
А теперь ближе к моей сути. Всякие природные изменения не могут сразу проявиться везде, тем более на такой махине, как наша Земля. Где-то они проявляются резко, наглядно, а где-то еще только зреют, накапливаются. Злополучный Бермудский треугольник, таинственный район морских и воздушных катастроф, о котором столько написано, и есть одно из тех мест, где уже творится черт знает что благодаря нашей самоотверженной работе по отниманию милостей у природы. Нам-то кажется, что здесь все загадочно, а ничего загадочного-то нет. Откуда-то и должно начинаться. Что посеешь, то и пожнешь, как говорила моя покойная бабушка, воруя колоски с колхозного поля. А ученые хотят досконально все распознать.
В Бермудском треугольнике наблюдается много странных, казалось бы, ненаучных явлений. Пилоты утверждают, что стрелка компаса вдруг начинает бешено вращаться вокруг оси, искажаются радиосигналы, показания гироскопов, на приборной доске возникает свечение. Иные серьезные ученые говорят, что в Бермудском треугольнике случается искривление пространства, и пропавшие корабли попадают в четвертое измерение. Один из них даже предсказал, что когда-нибудь они выберутся из него и вернутся со своими погибшими экипажами. Другие же верят, что все члены этих экипажей живы, а возраст их не изменится и за сотни лет. Много гипотез!
Короче, наш «Богатырь» однажды направили в Атлантику, в тот самый район — между Азорскими островами, Бермудами и Восточным побережьем США. Именно здесь при таинственных обстоятельствах в разное время пропало много судов и самолетов. Этот Бермудский треугольник окрестили также Адовым кругом, Морем грез и Колдовским морем. Ну, буржуазная наука каких только теорий не выдвигала: тут и пришельцы, и нечистая сила, и даже террористы. Наша наука ничего путного пока не выдвинула. Удивляясь нашим ученым, я и пытаюсь заполнить этот пробел.
На главный вопрос я уже ответил выше, так сказать, теоретически обосновав все безобразия, творившиеся в Бермудском треугольнике. Но ведь и личные, человеческие истории представляют несомненный интерес для тех, кому хоть что-то любопытно. Это я о том, что лес рубят — щепки летят. Одной такой щепкой и задело нашего боцмана Нестерчука.
Дело в том, что у его жены, Настасьи Филипповны, два года назад вдруг оказалась родственница в США. Она-то и пригласила Настасью Филипповну погостить у нее, а заодно и приодеться, не без этого. Та и вылетела к ней, не раздумывая и не слушая уговоров боцмана. Он боялся, что она там вдруг останется, позарившись на местное изобилие, несмотря на солидный партийный стаж. Ее еле выпустили, потому что она работала паспортисткой в РЭУ и знала много секретов. Но она убедила всех и его, что непременно вернется, как только успешно потратит полагающиеся 200 долларов. Не исключено, что прямо в день прилета рванет назад прямо из тамошнего аэропорта, если там есть приличный магазин. Смотреть ей, мол, там, в США, нечего. Как говорил поэт: «У советских собственная гордость». Купит что-нибудь, чтобы дорогу оправдать, и сразу назад.
Однако ее патриотические планы потерпели провал. Родственница встретила ее в аэропорту и уговорила остаться еще на денек-другой и увезла в свой коттедж, который находился как раз на восточном побережье страны. А там она сдуру согласилась покататься на личном катере той родни. И, будьте любезны, так они и сгинули в том Бермудском треугольнике, вместе с теми 200 долларами, за которые боцман отвалил 2000 рублей, сняв их с семейной сберкнижки, где бы они и по сей день благополучно лежали. Так ко многим загадкам Колдовского моря добавилась еще одна. Катер исчез бесследно.
Не знаю, лелеял ли какие-то мечты наш боцман узнать хоть что-то о пропавшей супруге, когда «Богатырь» направился в Бермудский треугольник. Наверное, да. Он целыми днями торчал на палубе, обозревая окрестности в мощный бинокль. Его понять можно. Мало ли что мы невольно делаем!..
Да и, вероятно, хоть слабая надежда на какую-нибудь весточку не покидала его. Правда, два года прошло, но все же… Может, носит тот полузатопленный штормами катер по морю до сих пор — кто знает.
Бороздили мы тот «Треугольник» в хорошую, как по заказу, погоду. Однако на душе неспокойно было от дурной славы здешних мест.
Даже я чувствовал себя не в своей тарелке. Бывает, и у кота на сердце кошки скребут.
— Переживаешь? — понимающе сказал я Нестерчуку.
— А то! — Боцман опустил бинокль.
— Не переживай, на молодой женишься, — приободрил я его.
— Не разрешат, — вздохнул он, — она считается как бы пропавшей без вести.
И вдруг вскинулся:
— Откуда ты знаешь, о чем я думаю?!
— Трудно догадаться!
— Глуп ты, Ураганов, как пробка от шампанского. — Это он мне-то. — От «Вдовы Клико»! — Поднабрался культуры за границей.
— Между прочим, пробки — плавают. Конечно, если твоя женушка умна, то нечего ее и высматривать, — не остался я в долгу.
— Вообще-то, — замялся он, — не очень. Не очень умна, — пояснил он. Не хотелось ему терять надежду.
— Даже если она глупее меня, — добил я его, — и то не сможет два года плавать.
В таких жизненных вопросах надо быть жестким, а то ведь вконец изведет себя человек.
— Да, может, она не вплавь плавает, а ее на катере носит, — не сдавался он.
— Два года? — повторил я. — А кушать, извиняюсь, что?
— А энзэ? На морских катерах энзэ положен!
— Кем положен?
— Американцами! — взорвался он. — Ихний энзэ, думаю, поболе нашего! Хотя… не на два же года, — пробормотал он. — Ты не знаешь, на сколько он у них?
— Ну, слишком большим он быть не может, — осторожно заметил я. — Америке приходится много продовольствия нам поставлять и в Африку.
Это его озадачило.
— А аппетит у нее хороший? — спросил я. Он мрачно кивнул.
— Вот видишь.
— Они могли морской рыбой питаться…
— Чтобы рыбой питаться, надо ее поймать. Снасти-то на катере были?
— Не знаю. Она и без всяких снастей что хочешь поймает, — несколько оживился он. — Раз у нее море под боком, а в нем что-то имеется, она непременно достанет! Ты ее не знаешь.
— Как это не знаю! — оскорбился я. — Разве я у вас на днях рождения не бывал!
— Ты ее не знаешь так, как я, — выкрутился он.
— А где им воду пресную брать? — насел я на него. — «Пепси-кола» у них давно кончилась.
— Чепуха, — отмахнулся он. — Ты про дожди забыл. Разложи одежонку, а потом в любые емкости выжимай.
— Ну, хорошо. А чего ж их со спутников не нашли?
— А ты на небо глянь. Здесь все время тучи, — на все у него был ответ. — Академик Сикоморский говорит, что они почти никогда не расходятся.
И все-таки проблема питания «пропавших без вести» по-прежнему тревожила его.
— Жаль, медуз есть нельзя, — пробормотал он, глядя за борт.
— Слушай, — обрадовался я. — Ты о потерпевших кораблекрушение что-нибудь читал? Так они выбирали самого толстого и… Соображаешь? Кто толще, Настасья Филипповна или ее американская родственница? — впрямую спросил я.
— Настасья Филипповна, — ошеломленно вымолвил он. Такое ему и в голову не приходило.
— Все ясно, — успокоил его я. — Съела ее американская родственница. У них там человек человеку — волк. Волчара, — уточнил я. — Ты им можешь теперь иск предъявить.
— Какой иск? — вскричал он.
— За съеденную жену. И не забудь обязательно прибавить те 200 долларов по обмену.
— Да ты в своем уме!!
Гляжу, ожил человек. Румянец на щеки вернулся, глаза горят, волосы дыбом. А раньше был весь какой-то потухший. Что и требовалось доказать. Расшевелил-таки я его. А то ведь он мог от своих мрачных дум за борт броситься. Здесь любые средства хороши, лишь бы человека из обреченного состояния вывести. Вот есть у меня дружок Коля, он санитаром в «скорой» работает. Когда к запойному вдруг вызывают, Коля сразу знает, что делать. Тут же отстраняет врача и бьет алкашу в челюсть. Тот, когда очнется, сразу боговать: за что? Не имеешь права! Да так оживет, любо-дорого посмотреть. А ведь перед этим на них, как мешок муки, прямо с того света глядел. Клин выбивают клином.
Наш боцман не только ожил, но и побежал к замполиту на меня жаловаться.
Ну, вызвали меня. И давай песочить!
— Что же вы над своим товарищем издеваетесь? Утверждаете, что его жену родственница съела?!
— Смотря какая родственница, — обиделся я. — Американская!
А было это, подчеркну, еще до войны с Хусейном. Мы тогда с Америкой не дружили.
— От них, кроме хлеба за наши же денежки, ничего хорошего ждать не приходится, — говорю. — Да и зачем, спрашивается, она на приглашение из США клюнула? Сама виновата! — разошелся я. — Не поехала бы, не съели бы. Кто ж виноват, что она толще?! Вот я — живой и невредимый, я ж в Америку не езжу!
Еле он меня успокоил. А затем одобрил мое поведение и сказал:
— Хоть вы и правы в принципе, все же выражайте впредь свои правильные воззрения в более мягкой форме.
Интересно, как это в мягкой форме можно выразить тот возможный факт, что чью-то жену американцы съели!
— Ладно, — буркнул я. — Скажу, что утонула. Замполит поморщился.
— Безболезненно утонула, — подчеркнул я.
— Другое дело, — обрадовался он и, встав на цыпочки, по-отечески похлопал меня по плечу.
На этом история, конечно, не закончилась. Две недели мы плавали в этом треклятом «Треугольнике». И если кто-нибудь ожидает от меня описания каких-то чудовищных катаклизмов, то напрасно. Ни тебе ураганов, ни циклонов, смерчей, ни воронок с провалом морского дна. Пришельцев тоже не было. А была спокойная, тихая погода с мелкой волной, так сказать, под ногами и обложными тучами над головой. Иногда шел мелкий ровный дождь от горизонта до горизонта, вдали он казался темнее, вблизи — серее, как в нашей степи под моим Курском.
А вот одно происшествие все-таки было. «Ищущий да обрящет!» — не помню, но где-то читал. Верно сказано, на века.
Произошло это ночью, когда боцману Нестерчуку выпало нести вахту. Утром он вернулся сам не свой, оставался таким весь день — даже не спал, — а под новый вечер сказался больным. А, впрочем, его и впрямь затемпературило, залихорадило и даже задергало. Корабельный врач Гайдулевич с радостью положил его в свою амбулаторию. Он изнывал от скуки, ведь никто не болел. Всех перед отплытием медики так проверяли, что в плаванье уходили только стопроцентные здоровяки.
Я навестил больного боцмана и принес ему бумажный цветок, сам сделал из цветной бумаги и проволоки.
Нестерчук поставил цветок в стакан, сказал:
— Спасибо, друг. — И отвернулся к стене.
Если бы я стал его о чем-нибудь расспрашивать, он бы отмолчался. Но я настырный и поэтому тоже молчал. Ясно, боцман не выдержал. Он вдруг повернулся ко мне и лихорадочно зашептал:
— Как, по-твоему, похож я на сумасшедшего?
По моему мнению, именно на него он и был похож. Я ответил неопределенно:
— Трудно сказать…
— А все-таки? — вперился он в меня.
— Ну, умом тебя Бог не очень обидел. Простоват ты малость, — честно признал я.
Он благодарно пожал обеими руками мою ладонь.
— Спасибо, — просиял он. — Именно таких слов я и ждал от тебя. Я всегда был простым человеком. Без всяких там загогулин. И когда читал в газетах: «Простые люди ясно понимают…» и так далее, — всегда чувствовал, что речь идет обо мне. Я простой человек, — повторил он, — и значит, ничего такого мне в голову не придет сногсшибательного. Ты это замечал за мной? — требовательно спросил он.
— Замечал, — честно ответил я. — И не раз.
— Спасибо, — снова сказал он.
— На одном «спасибо» далеко не уедешь, — туманно заметил я. И решился, поняв, что время пришло. — Выкладывай, что стряслось. Не стесняйся, тут все свои, — и широко повел рукой по пустой амбулатории, где, кроме нас, был только корабельный кот Гавриил. Да и тот спал на свободной койке напротив, прямо на подушке.
Наконец, решившись, поведал мне боцман такую историю.
Дежурит, значит, он. Кругом спокойствие. Луна в прореху туч выглянула. Сине-желто-зеленая ночь… В такие ночи тянет на размышления, фантазии в голове бродят, что-то чудится в далеких просторах моря — по себе знаю.
Думаю, и Нестерчук этого не избежал, хотя и на свою простоту ссылался. Прибедняется. Человек не может быть простым, потому что он внутри сложный.
А думал он в ту ночь о вечном. Вспоминалась лекция академика Сикоморского о том, что за последние полтора столетия в Бермудском треугольнике бесследно исчезли свыше сорока судов и более двадцати самолетов, унеся с собой около тысячи человеческих жизней. Это приблизительный подсчет, так как останки погибших ни разу не были найдены.
Естественно, вспоминал он и свою жену, Настасью Филипповну, пропавшую без вести вместе с американской родственницей. В официальной бумаге, полученной из США, сообщалось, что такая-то и такая-то, уйдя в море на катере от Майами-Бич, через несколько часов сообщили по рации на базу морской береговой охраны, что не могут запустить двигатель, — ни с того ни с сего погнулся винт. И попросили отбуксировать их обратно в порт. Когда буксир береговой охраны прибыл на место аварии, моторки «Уичкрафт» (Колдовство») там уже не было. Она бесследно исчезла, оправдав свое дурацкое название. Про «дурацкое» боцман уже добавил от себя.
Действительно, несерьезное название! У них вообще глупые имена судов любого водоизмещения. «Любовь», «Надежда», «Улыбка» или там «Королева». То ли у нас: «Грозный», «Яростный», «Отважный»! Когда идет какой-нибудь наш «Гремящий», его на весь океан слышно от рева двигателей либо от грохота посуды, которую моют на камбузе!.. Туго у них с названиями. Но и одно достоинство имеется: никогда не переименовывают. Если уж назвали посудину «Клим Ворошилов», то хоть окажись он распоследним гангстером, — святое имя оставят. Они даже городам названия никогда не меняют. Вон свой Сент-Петерсберг (по-русски, Санкт-Петербург), где знаменитый Марк Твен когда-то жил, в Ленинград не переименовали! И звучное имя Марк-твенск тоже городу не присобачили.
Я сказал: достоинство. А, с другой стороны, и они не правы. Скучно живут. Без ошибок — нельзя. Раз десять ошибешься, зато потом никаких сомнений.
Ну, Бог с ними. У них свое, у нас свое. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетного лося, — как говорил поэт. Вернемся к нашему боцману.
Горюет он потихоньку у борта на нижней палубе. На глазах слезы и мерцанье от светящихся тропических медуз. И неожиданно слышит он какой-то мерный плеск. Похоже, кто-то веслами лихо наворачивает. Глядит боцман — шлюпка показалась.
Как только шлюпка попала в свет бортовых огней корабля, боцман обомлел. На веслах была… Настасья Филипповна, его пропавшая жена. Похудевшая, помолодевшая, загорелая и обветренная. Почти такая же, как в девичестве, когда они познакомились. В красной косынке, в тельняшке, напевает что-то морское.
— Я знала, что ты меня искать будешь, — говорит. — Я теперь вольная птица. Не ищи меня больше!
И не успел он и слова вымолвить, как шлюпка мгновенно повернула и исчезла в наползающем тумане.
— Когда домой-то вернешься? — только и успел он крикнуть ей вслед.
Только и донесся ее отдаленный смех в ответ. Вроде как: нашел, мол, о чем спрашивать.
Долго стоял Нестерчук сам не свой на палубе, до боли вглядываясь в ту сторону, где растворилась шлюпка. Ничего… Лишь мокрые клочья тумана, соленого на вкус.
— Я так понял, — тихо сказал мне боцман, — ушла в дальнее бессрочное плавание. Ты не знаешь: ведь она в юности мореходку кончила. Столько насмешек от ребят выдержала! А после первого же плавания уволилась. Девушка на корабле, представляешь? Все пристают, лезут. Вот она и протрубила почитай всю жизнь паспортисткой в конторе, куда ее тесть приткнул. А сама небось все о море мечтала, меня всегда жадно расспрашивала и книги покупала исключительно морские…
— Ты только успокойся, — посочувствовал я ему. — Ну, почудилось — столько об этом думал.
— А это почудилось? — И показывает мне две сотни долларов. — После вахты у себя под подушкой нашел. У нее перед поездкой ровно 200 было!
— Не заливай, — рассердился я. — Мог сам накопить.
— И это мне тоже почудилось?! — вскипел он, протягивая мне новенький красный заграничный паспорт.
Я взял и машинально раскрыл. Это был документ на имя его жены с фотографией, с американской визой!..
Я остолбенел. Не могла же Настасья Филипповна, при всех ее пробивных способностях, пересечь две границы без паспорта: в СССР и США!
— Под своей подушкой и обнаружил, — устало сказал боцман, — а деньги внутри вложены.
Да уж, против паспорта не поспоришь. Выходит, и впрямь ничего не присочинил Нестерчук, простой человек.
Вот так иногда мечты-то сбываются, терпит кто-то, терпит, наступает на горло собственной песне, а потом как вдруг запоет! И как!!
Счастливого тебе плавания, вольная птица…
Интересно, куда тот катер делся? И где она ту шлюпку нашла? И что с ее спутницей стало?..
Дурацкое все же название у катера — «Уичкрафт». По-нашему, «Колдовство».
1984, 1991
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ