ТРАВЫ ЛУГОВЫЕ

Говорят, что раньше на лугах была «трава выше лошади». Именно так переводится слово «Кулунда», богатый лугами край в Западной Сибири. Давно уж нет тех лугов. А травы такой высоты остались, пожалуй, только в горах Алтая и Кавказа.
На месте диких трав сеем культурные: клевер, люцерну, эспарцет. А на отвалах пустой породы, на месте старых рудников — донник. Он закрепляет грунт и создает первую почву. Все это — бобовые травы. И как бы хороши они ни были, однообразие всегда нежелательно. Поэтому луговоды сеют и злаки (особенно модна сейчас в мире ежа). К ней добавляют тимофеевку, овсяницу и райграс.
Сеяный луг — сооружение сложное. В нем, как на шахматной доске, несколько фигур. Несколько видов трав. Чаще три-четыре, а немцы высевают и по восемь. Конечно, на природном лугу видов больше. Там бывает по сорок и по пятьдесят. Но современные луговоды пока не решаются на такое. И с восемью трудно управиться. У каждого вида свои требования к окружающему миру. Свой предельный возраст. Свой темп размножения.
Создавать луг из одной травы, конечно, проще. Но он не так надежен. В засуху может выгореть, бесснежной зимой вымерзнуть, в дождливую пору вымокнуть. В нем больше болезней. Корм получается не такой экономный.
На одном бобовом рационе у животных вздуваются животы, на одном злаковом другая болезнь — травяная тетания. Смешанный корм безопасен. В нем микроэлементы, витамины и прочее добро. В наши дни все больше примешивают разнотравья: маралий корень из сложноцветных, борщевики — из зонтичных.
Клевер
Что за роскошные луга на Вологодчине! Букет душистых трав здесь так разнообразен, а зелень так сочна, что масло получалось особое, вологодское. Когда его резали ножом, на срезе выступала «слеза». У масла был ореховый привкус и неправдоподобный аромат. Мир единодушно признал его лучшим из лучших.
Вологодские крестьяне очень гордились своими лугами. Но вдобавок они еще сеяли клевер. Они даже вывели такой сорт клевера, который рос на одном месте четырнадцать лет. Раз посей, полтора десятилетия коси сено. Их соседям — ярославцам тоже хотелось вывести такой сорт. Вывели. И неплохой. Только больше шести лет он на лугу не сохранялся и выпадал.
Особенно не везло с клевером луговодам из Даниловского уезда Ярославской губернии. В конце концов им надоело с ним возиться, и они постановили: больше не сеять никогда! И даже на стороне клевер не покупать. Пропади он пропадом!
Это было в 1911 году. В то время в России выходил журнал «Северный хозяин». Его корреспондент поспешил к даниловским луговодам выяснить, в чем причина столь подчеркнутого невнимания к лучшей луговой траве? Первый же встречный сказал так: «Никакой косой его не возьмешь. Стебли — чисто проволока! Да и скот плохо ест. Солома и та мягче». Когда же корреспондент поближе сошелся с крестьянами, то выяснил следующее. Даниловцы пытались взять с сеяных лугов максимум прибыли. Косить попозже, чтобы наросло больше зелени.
Вот расцвели красные головки соцветий. Даниловцы ждут. Трава вытянулась выше пояса. Головки побурели. Ждут. Наконец приступили к сенокосу. Однако перезревший клевер быстро менялся. Еще не успели пожелтеть листья, а стебли огрубели так, что и впрямь стали походить на проволоку. Коса их резала с хрустом и скрежетом, как мелкий кустарник.
Поняв свою ошибку, на следующий раз крестьяне начали сенокос пораньше. Скосить скосили, а высушить оказалось трудней, чем скосить. Обычная трава на лугу сохла быстро. Ее давно собрали в копны. Клевер же продолжали ворошить. То сгребали в кучи, то снова разгребали. Перевертывали еще и еще, как ватное стеганое одеяло, которое намочил дождь. Несмотря на жаркую погоду, сочная зелень клевера лишь подвяливалась. Наконец высушили. Но что осталось от пышных кустов? Одни грубые бодылья. Нежные тройчатые листочки превратились в труху.
Нельзя сказать, что не везло только одним даниловцам. Клевер приводил в отчаяние луговодов в разных странах во все времена. В старые годы, когда англичане обживали Австралию, они привезли с собою клевер. Он рос неплохо, но семян не давал. Оказалось, что недостает шмелей, которые ведут опыление клевера. Пришлось завозить шмелей из метрополии, из Европы.
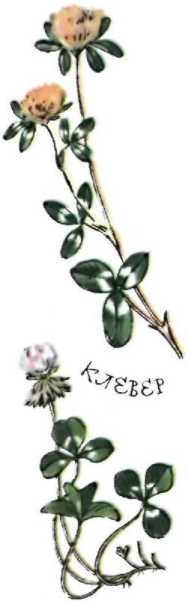
Однако впоследствии, когда Европу распахали, шмелей стало мало и там, потому что живут они только в земле целинной, непаханой. И семян клеверных стало не хватать. Этим сразу же воспользовались ловкие люди и стали выдавать за клеверные семена совсем других растений.
Академик В. Вильямс, который еще до революции контролировал семена красного клевера, поражался, сколько разных растений выдавали за красный клевер. Тут был и язвенник, и хмелевидная люцерна, и полусорные, хотя в общем неплохие растения — донники, и многолетний заячий клевер.
И вот в это смутное время, когда мир стонал от невозможности обладания лучшей из кормовых трав, когда фальсификаторы нажились, продавая семена сорняков, совершенно неожиданно появился источник великолепных клеверных семян. Их вырастили пермские крестьяне. В 1908 году пермяки впервые двинули свой товар на мировой рынок, чем вызвали удивление, радость и великий переполох во всем мире. За шесть лет они отправили за рубеж, на экспорт тысячу вагонов семян красного клевера. И только первая мировая война оборвала порыв пермяков. Как удалось пермякам преодолеть все трудные препятствия, связанные с клеверными семенами, до сих пор остается загадкой.
Препятствий этих несколько. И первое — недостаток шмелей. Без них в некоторых хозяйствах с гектара собирают не вагон и не полвагона семян, как можно бы, а горсть, которая может уместиться в кармане. Правда, шмелей могли бы заменить пчелы. Иногда и заменяют.
В конце прошлого века жил известный на всю Россию агроном И. Клинген. Клевер был его любимым детищем, но семян в достатке не мог получить и он. Русская пчела не могла опылить красные цветки клевера, потому что эту работу клевер ей оплатить не мог. Цветочная трубка, где копился нектар, оказалась слишком длинной, а хоботок у пчелы короткий. Он не дотягивался до нектара.
Клинген вывез с Кавказа пчел с длинным хоботком. Но они в Средней России простужались и болели. Были вороваты. А потом быстро смешивались со среднерусскими, и тогда уж и сам Клинген не мог разобрать, где какая пчела. Тогда он решил, что горю помочь можно двумя путями. Либо вывести русскую пчелу с длинным хоботком, либо же создать сорт клевера с короткой трубкой. Увы, осуществить свою мечту он не успел.

Головки красного клевера далеко видны. И нектара в них достаточно. А пчел приходится заманивать сладкой водой, настоянной на цветках клевера. Виновата конструкция цветков либо пчелиных хоботков.
Современные агрономы не забыли завещание Клингена. В наши дни клеверные семена нужны еще больше, чем в старину. Раньше считалось, что клевер тем ценнее, чем дольше живет на поле. Теперь же стараются, чтобы эта трава давала как можно больше зелени. А поскольку наибольший урожай зеленой массы собирают в первые два-три года, то в передовых хозяйствах не держат клевер даже три-четыре года. Сеют снова. Понятно, что семян нужна уйма.
Стали выводить сорта с короткой трубкой и вот что обнаружили. Если год выдался дождливый, то цветочная трубка вытягивается, становится длинней. Значит, в такой год пчеле еще трудней добывать нектар. Чем пышней растет клеверный куст, тем длинней становится трубка.
Вывели короткотрубочные сорта в ГДР и Норвегии, в Венгрии и в Швейцарии. Что же оказалось? Оказалось, что они дают гораздо меньше сена, меньше зелени, чем сорта с обычными трубками. А канадские и американские ученые обнаружили еще более печальный результат. Их короткотрубочные сорта давали и меньше семян. А ведь именно из-за семян такие сорта и выводили!
Специалисты погоревали и обнародовали предупреждение всем агрономам, что проблему семян не решить ни укорачиванием трубки с нектаром, ни отбором пчел с длинными хоботками.
И агрономы попытались решить проблему другим способом. Не один же красный клевер на свете. Есть другой неплохой вид этого рода — клевер розовый. У того нектарная трубка короткая. Пчелы его посещают охотно и часто. Посеяли вместе красный с розовым. Расчет такой: прилетят пчелы на розовый и заодно опылят и красный. Вышло же не лучше, а хуже. Пчелы в смешанном посеве выбирали только розовый клевер. Красный не трогали. Шмели вообще проигнорировали это поле. Им нужен был красный клевер в чистом виде.
А калининский агроном В. Гроловский придумал другой маневр. Он сообразил, что помочь пчеле можно, не только укоротив длину нектарной трубки, но и подняв уровень нектара. Если нектар поднимается выше, пчела, может быть, и дотянется до него. Уровень нектара зависит от того, сколько тепла и света получает клевер. Он стал делать опыты и выяснил, что лучше всего работают пчелы, если на одном гектаре будет не больше сотни кустов. Тогда каждый из них получит столько солнца, сколько ему требуется. На каждом кусте появится по пять или десять соцветий. Чтобы достичь такого идеала, нужно уменьшить обычную норму высева и сеять два килограмма семян на гектар. А не пять и не десять, как у других агрономов.
Гроловский этим не ограничился. Он еще привез с Карпат пчелу с длинным хоботком и окружил свои поля пасеками. С тех пор у него столько семян, что хватает и себе, и соседним хозяйствам. Может быть, так же поступали и пермские крестьяне в стародавние времена, когда завалили Европу клеверными семенами?
Что еще сказать о клевере? До сих пор не удалось разобраться, почему утомляется почва, если долгое время клевер растет на одном месте. Приходится делать долгие перерывы. Иной раз возвращать это растение на старое место только лет через пять или семь.

Кроме клевера, есть и другие ценные бобовые травы: донник, люцерна и петушиный гребешок — эспарцет. Донник — крупная трава с длинными кистями крохотных белых и желтых цветков. Он дает корм скоту и бочку меда. Улучшает обедненные почвы. Люцерна хороша, но не для Севера. Ей лучше живется в Крыму и Средней Азии.


Самая же выдающаяся из бобовых трав — эспарцет. Как представить себе это существо? Высотой — в пояс человеку. Соцветие — пикой, как у иван-чая, только втрое меньше и нежнее окрашенное, словно сияющее нежным розовым светом. Соцветие тяжелое и оттого поникает. И становится похожим на петушиный гребень. Знающие доярки, когда хотят повысить надои молока, всеми силами стараются разыскать эспарцет. Он еще и тем хорош, что даже объевшиеся буренки не болеют тимпанитом — обычной бедой бобовых кормов.

Лошади едят огрубевший эспарцет, несмотря на жесткие стебли. А ветеринары до сих пор недоумевают, каким образом семена петушиного гребешка перевариваются без остатка в желудках лошадей и кур вместе с крепчайшими оболочками, которыми славятся бобовые?
К сожалению, дикий предок культурного эспарцета сохранился только в горах Швейцарии. Зато у нас в Сибири по Енисею иной раз на удивление всем вдруг встретится поляна розовоцветной травы, годной в культуру для всей Нечерноземной полосы.
«Обмануть тимофеевку…»
История гласит, что много-много лет назад молодой фермер из штата Нью-Гемпшир Тимофей Хэнсон отправился по делам во Францию, в город Бордо.
В ожидании обратного корабля он бродил от нечего делать по окрестностям порта, где сделал два приобретения. Во-первых, высмотрел себе очаровательную невесту. А во-вторых, гуляя с ней по полям, наткнулся на траву, которая прежде ему не попадалась. Это был злак, непохожий на все другие. На его соломинах торчали не обычные ершистые колосья и не развесистые метелки, а плотные и узкие, как бы прилизанные султаны. По современным понятиям, они походили на половинку карандаша или на бенгальские огни, которые покупают в магазине к елке.

Местные коровы охотно ели эту траву. Хэнсон тотчас же собрал целую шапку семян, распотрошив несколько султанов. Вернувшись в родные края, он посеял семена на огороде, а потом на лугу. Сена собрал столько, что обеспечил с лихвой свой скот, прежде постоянно недоедавший. Через несколько лет молодожены уже вовсю торговали семенами. Они обеспечили сеном свой штат. Постепенно «трава Тимофея» стала ведущей кормовой травой. Столетие спустя она давала главную массу сена в Америке. До сих пор в ней не разочаровались.
Как вы, очевидно, догадались, «трава Тимофея» — это наша современная тимофеевка, одна из лучших трав мира. Но история ее начинается не с той поры, когда пара влюбленных увезла ее из Бордо за океан. Она начинается с вологодских лугов.
Вологодские крестьяне еще в XVIII веке заметили на лесных порубках необычную траву. Ее султаны сидели на соломинах, как маленькие тонкие палочки. За это траву звали «палочником», а по-местному — «палошником». Впрочем, некоторые считают, что это название происходит от слова «пал» (пожар, пробегающий по вырубкам).
В отличие от всех других злаков на вырубках у палочника семена в султанах сидели плотно и не рассыпались созревая. Их было удобно собирать и легко сеять. Надо было только соблюсти одно обязательное условие: не содрать с семян наружные пленки. Пленки сверкали серебром, и за это тимофеевка удостоилась еще одного названия — серебрянка. Без пленок зерно принимало совершенно будничный, уныло-землистый цвет. А самое главное, без них оно быстро теряло всхожесть и для посева не годилось.
И хотя тимофеевка была не так питательна, как зелень клевера или ржи, ее охотно косили. Сено сохло легко и быстро, что в сырых северных вологодских краях было очень важно.
Очень скоро новая кормовая трава разошлась по соседним северным странам, проникла в Финляндию, Швецию и Англию, а оттуда, видимо, и во Францию, в город Бордо. А затем совершила кругосветное путешествие и разошлась по иным материкам. Когда слава тимофеевки утвердилась окончательно и бесповоротно, все сразу же захотели ее сеять. Естественно, что семена стали дефицитным товаром.
Американские селекционеры сообразили: нужно вывести такие сорта, чтобы давали семян вдвое, втрое, вдесятеро больше. И вывели. У новых, модных сортов султан соцветия оставил далеко позади вологодскую тимофеевку. У той по-прежнему соцветие напоминало палочку. У американских сортов вытянулось на двадцать пять сантиметров и скорее походило теперь на початок кукурузы.
Однако в погоне за числом семян селекционеры забыли о важном правиле агрономов. Оно гласит: чем больше семян, тем меньше зелени, тем короче жизнь. Новые сорта давали совсем мало сена. А жизненный путь их вместо обычных семи лет укладывался уже в два года. Стоило ли огород городить?
Европейцы, которым заокеанские фирмы поставляли семена, очень скоро уяснили эту истину. Многие государства запретили ввоз обманчивой продукции. Другие не запретили, но установили обязательное правило: окрашивать американские семена в ярко-красный цвет безвредной краской — фуксином. Дабы все знали, где свои, доморощенные семена, а где — иностранные.
Немало проблем возникало и при посеве хороших, местных семян. Некоторые агрономы разочаровывались, говорили, что в первый год после посева тимофеевка дает маленький урожай и выгоды от нее никакой нет.
Академик В. Вильямс, слыша это, посмеивался и говорил, что весь секрет в том, чтобы «обмануть тимофеевку». Надо посеять ее вместе с озимой рожью. В первый год она и действительно даст небольшой урожай травы. Это и хорошо, потому что не помешает ржи. Зато после уборки ржи, на второй год, сена удастся собрать очень много.
Случалось, что и тимофеевка обманывала людей, если они вели дело не очень грамотно. Хлеборобы из Дмитровского района Московской области рассказывали об одной своей ошибке. Они выкашивали тимофеевку на сено, а через месяц сеяли озимую пшеницу. На следующий год получался засоренный посев — пшеница пополам с кормовой травой. В то время еще пололи вручную. Приходили на поле полольщики, но уходили с пустыми руками. До цветения эти два злака отличить они не могли. А осенью получался большой недобор хлеба.
В пору тимофеечного бума эту траву продвинули далеко на юг. Стали сеять в черноземных степях. И тут она снова обманула крестьян. В первый же засушливый год выпадала начисто. Если же у кого и удавалась, то только по низинам. И это понятно, потому что родом тимофеевка из Вологодчины, где климат совсем не засушливый, а сырой. Ей больше подходит север.
Однако и север неодинаков. Есть Полярный круг. Есть Заполярье — зона рискованного земледелия. Когда попытались утвердить вологодскую траву в Заполярье, снова столкнулись с препятствиями. В Мурманской области, где зимы снежные и мягкие, наша знакомая в первую же весну, выйдя из-под снега, желтела и погибала. Большой слой снега приносил ей не пользу, а вред. Под ним температура никогда не понижалась ниже нуля. Растение активно дышало и тратило запасенные с лета продукты.
Мурманцам удалось, правда, вывести местный сорт Хибинская, который меньше страдал от подснежных катастроф. Но и у него нашлись недочеты. Сильно поддавался болезням. Очень туго отрастал после укоса.
Тогда за дело взялись ленинградские ботаники из ВИРа. Они бродили по таежным тропам Псковской и Новгородской областей, по озерному Карельскому перешейку, по горам Алтая. Проверяли чуть ли не каждую лесную поляну и старую вырубку. Собирали образцы. Добывали культурные сорта из Финляндии, Венгрии и даже из Канады.
Нужно не только застраховать тимофеевку от невзгод севера, но придать ей и другие ценные свойства. Сделать так, чтобы давала не один-два укоса, а три. Чтобы отрастала быстро и не болела. До сих пор нет ни одного образца, который имел бы иммунитет к болезням. Нашлись, однако, такие, что, переболев, отрастали снова.
И еще один штрих. Академик Вильямс, кажется, любил тимофеевку больше других трав. Он советовал сеять ее на лугах и на полях. На лугах — на сено. А на полях, чтобы создать хорошую структуру почвы. Он считал, что ни одна трава так хорошо не скрепляет почву в комочки, как тимофеевка. Но тимофеевка, как и всякое растение, бывает разная. Одна может исправлять почву быстрее, другая форма ее — медленнее. Эти формы еще плохо известны. Вот еще одна задача для будущих исследований.
Одна против всех
Русские крестьяне, переселявшиеся на Алтай в начале века, слышали о великом богатстве этого края. В особенности их соблазняли рассказы об одной траве, которая разрастается на вырубках. Она дает самое лучшее сено. И что ни год, то больше и больше.
Прибыв на место, крестьяне рубили лес. Они не очень верили рассказам об алтайской траве. И поначалу на вырубках действительно ничего ценного не вырастало. Молодой луг горел всеми красками радуги. Пронзительно сияли оранжевые купальницы-жарки, пестрели северные орхидеи: то кумачовые башмачки, то розовые ятрышники. Но корм вся эта разноцветная братия давала плохой.
Однако вскоре стали замечать, что на лесном лугу появился злак, который быстро и энергично стал теснить все прочие травы. Он был невелик ростом, около метра, с широкими листьями, сложенными вдоль лодочкой, и совершенно необычными колосками. Колоски сидели на концах тонких, длинных веточек тугими крупными пучками, похожими не то на пуховки весенней вербы, не то на крошечных ершистых ежиков.
Колоски были такими толстыми и тяжелыми, что вся метелка свешивалась набок и выглядела однобокой и несимметричной.
Некоторые крестьяне, прибывшие из-под Петербурга, встречали иногда этот злак у себя по лесным дорогам и называли ежой за внешний вид колосков. Большинство же из них, прибывших из-под Пскова или Твери, и понятия об этой траве не имели.
В полном соответствии с рассказами ежа на алтайских вырубках с Каждым годом множила свои ряды. Под ее напором редели и отступали не только слабосильные лесные травы, но и крепкие солнцелюбивые луговые злаки, вместе с ежой захватившие освободившуюся от леса территорию. Ежа одна теснила всех своих соседей.

После покоса ежа быстро отрастала. Крестьяне, привыкшие к однократной косьбе, теперь косили дважды в лето. А рискнувшие удобрять лесные луга в награду получали еще и третий укос.
Чудеса на алтайских вырубках, однако, длились не бесконечно. Чем дальше уходило время от года рубки, тем медленнее расширяла свои позиции ежа. Потом наступательный порыв ее иссяк. И даже принял обратное направление, что привело новоселов в смятение. Казалось непонятным, почему такая энергичная и сильная трава, освободившаяся от плена лесной стихии, чувствует себя на свободе хорошо и привольно только несколько лет, а потом начинает слабеть и уступает захваченные позиции? Допустим, что в лесу еже вредна тень, а на лугу — свет. Что же ей тогда нужно?
Вопрос этот озадачивал и ботаников. Эти люди привыкли работать для целей практических. Узнав о том, какие сюрпризы устраивает ежа на Алтае, они стали решать эту проблему широко. И прежде всего провели инвентаризацию запасов новообретенного кормового злака. Вытащили из шкафов все свои записи, все полевые наблюдения и начали искать ежу в списках растений. В те годы больше изучали европейский Север нашей страны. Естественно, что и большая часть описаний касалась этого давным-давно освоенного человеком района. Но к общему удивлению, ежи ни в лесах, ни на лугах не оказалось. Ее приходилось выуживать из полевых дневников, как зернышки золота в речном песке.
Знаменитый ботаник А. Бронзов, пешком прошедший по реке Мологе, нигде о еже не упомянул. Другой специалист, профессор Н. Степанов, обшарил сенокосы вокруг Ильмень-озера и широкую пойму реки Волхова, и ежа ему тоже не попалась. Профессор А. Ильинский, лучший знаток растений земного шара, выбрал себе верховья Волги. Но ежи не оказалось и здесь. Он-то уж бы обязательно ее заметил.
В Ленинградской области, правда, удалось обнаружить неуловимое растение, но и то не везде. Лишь изредка, и тоже не в лесу и не на лугу, а кое-где по лесным полянам да по обочинам лесных дорог.
Вначале это озадачило ботаников. Но потом они сообразили, что не случайно ежа находит пристанище на таких необычных местах. В лесу еже мешает слишком сильная тень. На полянах и обочинах тень поменьше, а света побольше. Однако, рассуждая так, логически можно прийти к выводу, что чем больше света, тем лучше. А значит, еще лучше для ежи расти на лугу. На самом открытом месте.
На поверку же оказывается, что на открытом месте для ежи хуже. И вроде бы ей нужен полусвет-полутень.
Впрочем, и это не совсем верно. Точнее, не всегда верно. На открытых вырубках ежа в первое время так бурно разрастается, что легко теснит, как уже упоминалось, другие светолюбивые злаки. Но потом натиск ее слабеет и угасает, хотя света по-прежнему довольно.
Столь странное поведение ежи объяснили тем, что в первые годы после рубки деревьев в лесу она получает массу дарового удобрения от лесного хлама, от той массы хвороста, старой пожелтевшей хвои, шишек и прочего древесного мусора, который бурно разлагается и снабжает ежу всем необходимым. Но годы идут. Весь хворост уже сгнил, а новый не прибывает. Ежа оказывается на полуголодном пайке. Позиции ее слабеют. Другие злаки берут верх над ежой. Правда, в виде отдельных былинок она сохраняется еще много лет. Ученые очень ценят эти былинки и, обнаружив их, судят о том, что некогда здесь рос лес.
Итак, ежа требует постоянной подкормки. Если дать ей достаточно удобрений, она отзывается на них, как никакая другая луговая трава.
Клинские луговоды испытали ежу у себя в Подмосковье. Они проделали такой опыт. Посеяли ее вперемежку с разными травами. То с луговой овсяницей, то с белым клевером, то с мятликом или райграсом. Всего тринадцать вариантов. Хорошо подкормили и стали ждать, что будет? На четвертый-пятый год ежа вытеснила всех своих конкурентов. На их долю не осталось и десятой части площади. По всем клинским лугам колыхались теперь однобокие ершистые метелки ежи с колосками, как пуховки у вербы.
Клинские луговоды были очень довольны, что ежа вышла на первое место. Этот злак был им особенно нужен. Он не полегал в любое ненастье. Толстая соломина гарантировала от полегания. И тут, когда луговеды убедились, что ежа — трава плодородных богатых почв, произошло событие, вновь поколебавшее все представления об этом злаке.
Событие это произошло далеко от Клина и от Алтая. Далеко вообще от всей лесной зоны. На юге, в степном Крыму. Точнее, на Керченском полуострове, во владениях Камыш-Бурунского железорудного комбината. Комбинат заслуженный. Ветеран. Лучшие земли, годные под сельское хозяйство, давно отошли под карьеры, где добывали руду. Сеять корм для скота стало негде. Пришлось восстанавливать те земли, которые уже вышли из работы, рекультивировать их.
Как ни старались горняки, передавая земли агрономам, все же насыпная почва оказалась хуже природной, степной. Посеяли озимые, подсолнух, кукурузу. Увы, урожай получили впятеро меньший, чем обычно. Но не пустовать же земле. Посеяли ежу. И на том же самом месте, где не удавались ни кукуруза, ни подсолнух, ежа принесла отличный урожай.
На этом достоинства ежи не кончаются. Она способна уживаться с некоторыми сорняками. И не только не страдать, но иной раз даже получать некоторую выгоду. Не так давно канадцы заметили в посевах ежи золотые корзинки одуванчиков. Они немедленно обработали луга гербицидами, втайне надеясь, что такая мера позволит повысить урожай ежи и сделает ее более здоровой.
После обработки одуванчики исчезли. Однако здоровья еже это не прибавило. Напротив, она стала более чувствительной к холоду. Что же касается урожая, то каким он был, таким и остался.
Расхваливая ежу, агрономы попытались сравнить ее с тимофеевкой. И ту и другую высевают для корма скоту. Какая же лучше? Выгнали скот на пастбище. Животные съели траву. Потом она стала отрастать. Ежа восстановила зелень в семь раз быстрей тимофеевки. Казалось бы, все ясно. Рекорд по скорости за ежой.
Но это справедливо лишь в том случае, если пасутся коровы. Если же овцы, то последствия оказываются для ежи плачевными. Овцы слишком низко объедают растения. Они ухитряются так чисто сбривать всю зелень, что не остается ни одного миллиметра. Съедают и корневую шейку, и даже корешки прихватывают. Неопытный агроном пытается потом поливать пастбище и сыплет удобрение, но все впустую. Отрастать нечему. Ежа погибла.
Агрономы советуют: лучше использовать ежу на сено. Но и с сенокосом у ежи обстоит дело не совсем просто. Широкий лист ее, свернутый лодочкой, несет по краю мелкие шипики. Сено из таких листьев для коровы не страшно, но у мелких животных раздражает кишечник. Вот первая проблема для ботаников: вывести сорта ежи без шипиков.
Вторая — не менее важная. В отличие от других злаковых трав боковые побеги у ежи два года растут как нежная зеленая травка и не дают жестких, толстых стеблей. Англичанам удалось продлить этот юношеский срок еще на один год. У них ежа пребывает в стадии травки три года. Но три года — это тоже мало, ежели учесть, что ежа среди трав — долгожитель. Тимофеевка дает корм десять лет, а ежа — двадцать. Хорошо бы заставить ее давать зеленую травку хотя бы половину этого срока.
А теперь еще раз вспомним то, с чего начался этот рассказ. С того факта, что ежа в природе благоденствует не в густом лесу и не на открытом поле, а там, где деревья есть, но их не слишком много: на полянах и по лесным дорогам.
Именно такая обстановка складывается в городских парках. Поэтому городские озеленители серьезно рассчитывают на ежу и уже сеют ее в городах. А в последнее время стало принято сеять ее и в садах. И уже совершенно серьезно зовут ежу «садовой травой». Если же луговодам удастся вывести сорта типа «зеленой травки», то они пригодятся и в парках и в садах.
Постоянство костра
Славная Диканька, та, что в Полтавской губернии, прославилась не только благодаря повестям Гоголя. Она стала стартовой площадкой, где впервые в России стали сеять новую кормовую траву — костер безостый. Костер сам просился в культуру. Он рос в изобилии по заливным лугам и на Полтавщине, и на Дону, и в других местах. Сено костра считалось нежным и душистым. В старину кормили этим сеном овец в немецком городе Ашерслебене возле Лейпцига, и овцы давали там особенно вкусную баранину. За нею приезжали со всех концов Европы.

Местный пастор Нимрод тогда еще ратовал за посевы костра, но, видимо, в ту пору у немцев хватало природных заливных лугов, и к голосу пастора никто не прислушался.
В 1871 году первой подала пример Диканька. Ухватились за костер и донские казаки. Им душистая трава так понравилась, что с каждым годом расширяли посевы, а потом стали уверять, что это они были первыми и сеяли костер с незапамятных времен. Дело, конечно, не в том, кто был первым, а в том, что новая культура удивляла своим могучим видом и в Диканьке и на Дону. Трава вырастала выше косарей. Они совершенно терялись в костровых зарослях. Каждый взмах косы давался с трудом. Махнув десяток раз, косари останавливались, чтобы отдышаться и перевести дух.
Густота зарослей имела свое объяснение. Под землей у костра расходятся по всем направлениям длинные, ветвистые корневища. Ботаники пытались их раскапывать, и если доводили дело до конца, то взорам их представлялась поразительная картина. Сложная система корневищ походила на гигантские канделябры, на концах которых вместо свечей торчали крепкие, высокие стебли.
С каждым годом корневищ становилось все больше. Умножалось и число стеблей. Самые злостные бурьяны: осоты и будяки — не могли выжить в тесном единении костровых стеблей. Они засыхали там так же окончательно и бесповоротно, как исчезают солнцелюбивые луговые травы в тени ельника, поднимающегося на старой вырубке.

Костер привлекал к себе луговодов еще и тем, что считался очень надежной травой. Жил долго, лет пятнадцать, и каждый год, невзирая на погоду, давал хозяину сено. Завидное постоянство! На это растение можно было вполне положиться и не бояться случайностей. Костер не подводил луговодов никогда и не оставлял скотину без корма. В этом ему помогала длинная и сложная сеть подземных корневищ.
Единственное, что смущало: наивысшую продуктивность костер показывал лет шести или восьми, а затем стебли его начинали уменьшаться в росте.
Правда, стройная трава по-прежнему привлекала своей яркой внешностью. Так же красочно блестели на солнце оранжевые пыльники цветков, у других злаков невзрачные и малозаметные. Так же клонились по осени к земле тяжелые метелки с длинными, как у овса, колосками, отливающими фиолетовым блеском. Этот блеск напоминал сиянье закаленной стали. Но что-то уже менялось в облике травы, и донские казаки первыми заметили это.
Все дело оказалось в тех самых подземных корневищах, которые обеспечивали столь высокие урожаи и выдающееся постоянство костра. Корневищ стало слишком много, а побегов, стеблей на них еще больше. Теснота! Где уж тут набраться сил и питания, чтобы расти выше и краше! Корневища, вознесшие костер на пьедестал самой урожайной травы, теперь оборачивались для него бедой, грозившей близкой и печальной старостью. Лишь на заливных лугах по Дону костер не думал стареть. Он там и в пятнадцать лет оставался таким же, как в шесть и в восемь. Но объяснения столь заманчивому явлению найти не могли.

В это время на Дону появился известнейший ученый-агрохимик П. Костычев, соратник великого В. Докучаева. Он-то и разгадал загадку донских заливных лугов.
Когда Дон приносил очередную порцию ила, он покрывал почву сплошным ковром и заглушал некоторые почки костровых корневищ. Они уже не могли дать новых стеблей. В результате часть будущих стеблей выбывала из строя, и общее число их оставалось примерно таким, каким было в прошлом, и позапрошлом, и во все предыдущие годы. Оно не умножалось с такой скоростью, как на возвышенных суходолах, а сохранялось в самой удачной пропорции. Перегрузки не происходило. Поэтому и жил костер в пойме Дона долгие годы.
Когда земледельцы ввели костер в севооборот, они стали опасаться, не принесет ли он вреда следующей за ним пшенице. Не станут ли оставшиеся в почве корневища душить ее?
Опасения их были ненапрасны. Бывало, что среди молодых, еще не окрепших всходов пшеницы вдруг появлялись крепкие стебли костра. Они шли от уцелевших в почве корневищ. Костер сразу же принимался теснить незваную гостью, а та отвечала ему тем же. В результате у хозяина не оказывалось ни хлеба, ни сена. А ведь стоило лишь повнимательней провести вспашку и поглубже запахать костер. Он бы тогда не смог отрасти вновь.
После таких неудачных опытов многие стали считать костер сорняком и отказываться от него. Особенно усердствовал ученый агроном И. Кабештов. В конце прошлого века он выпустил книгу для крестьян. Практическое руководство, советы, как разводить кормовые травы.
Все травы он хвалил и лишь о костре отозвался неодобрительно. «Вероятно, каждый из нас, — писал Кабештов, — отмечал на хороших, несбитых пастбищах одиночные кусты и даже целые куртины великолепного зеленого костра, тогда как вся трава вокруг съедена дочиста. Нужно ли искать более ясный признак непитательности костра?»
Усомнился в ценности костра уже знакомый нам агрохимик П. Костычев. Он собрал снопик этой травы и отнес в лабораторию. Там определили, сколько в зелени белка, золы и клетчатки. Полученные цифры он сравнил с анализом обычного лугового сена. Результат оказался не в пользу костра. По всем показателям он отставал даже от плохого лугового сена!
Правда, Костычев предупредил, что снопик был всего один и надо еще и еще раз проверить, но агрономы пропустили замечание мимо ушей и охладели к новому растению. Они стали сеять его меньше, а местами костер и вообще был забыт. Гнушались даже костровой соломы. Старались не употреблять ее и на подстилку скоту. Опасались, что потом подстилка попадет на поля и, если в ней уцелеют костровые семена, засорит хлебные нивы.
Впрочем, не все земледельцы оказались пессимистами. Практики-хлеборобы проверили советы Кабештова и нашли, что костер не нравится скоту, лишь когда перезреет. Если же пускать его на корм вовремя, то и лошади, и коровы, и овцы едят с удовольствием и сено получается высшего класса.
А те пучки зеленой травы, которые обнаружил Кабештов на стравленных, объеденных лугах, оказались там не по той причине, что животные забраковали костер и обошли его стороной, а потому, что он уже успел отрасти после пастьбы, а другие злаки не успели.
Но еще важней для нас, пожалуй, то обстоятельство, что костер не боится ни жары, ни засухи, ни мороза. Сравните со злаковыми травами: ежой и тимофеевкой. Тимофеевка хороша на севере, а на юге не годится. Ежа хороша на юге, а на севере начинает страдать. Костер одинаково хорошо работает и в Заполярье, в Мурманском крае, и на крайнем юге, в сухих степях возле Черного моря.
Не так давно понадобились хорошие многолетние травы для заповедника Аскания-Нова. Привозили семена из других мест, но ни одна трава не подошла. Стали искать внутри заповедника и обнаружили свой, местный костер. Он и выручил.
Особенно понравился костер мелиораторам. Если где стали размываться склоны балок, лучшего средства, чем костер, не найти. Недаром же недавно журнал «Земледелие» высказался так: «Вчера — эродированная балка, сегодня — высокопродуктивное угодье!» Это после посева костра.
А теперь о самом главном. О будущем. В прежние годы считали, что в примитивном и слабом крестьянском хозяйстве только на костер и можно рассчитывать. Он не требует особо жирной почвы. Растет почти на любой, лишь бы не солончак и не торфяник. Ухода большого тоже не требует. Сам борется с сорняками. Мороза и засухи не боится.
Агрономы до сих пор помнят, как выручил их костер в первые послевоенные годы. Тогда появился карантинный сорняк «расстилуха». Миллиарды его мелких семян застряли в почве на многие годы вперед. Надежных гербицидов еще не выпускали. Тут и выручил костер. Его посеяли густо. На каждом квадратном метре поднялось по семьсот стеблей. Непобедимая «расстилуха» не успела дать всходов. Если некоторое количество их и появилось, то вскоре они погибли, не дав ни одного стебля. Костер заглушил их. В наши дни, когда земледелие стало передовым, интенсивным, костер сохраняет свои позиции.
Земляная груша
Ужасной была весна 1906 года для земледельцев Донецкого округа. С середины апреля до конца мая не выпало ни капли дождя. Солнце словно приблизилось к земле и теперь сжигало ее деловито и методично. Изредка налетали ветры. Но они не приносили прохлады. Пыль клубилась, как черный туман, лезла в уши и скрипела на зубах.
Всходы хлебов имели совершенно жалкий вид. С конца мая начались дожди. Но они пришли слишком поздно. Исправить положение было уже нельзя. Хлеба погибли. Высохли на целинных землях даже дикие травы.
И только возле станции Чертково Юго-Восточной железной дороги участок агронома Н. Филиппова сохранял совершенно свежий вид. Словно не висело над ним горячее солнце и не проносились сухие ветры. Филиппов не выращивал ни рожь, ни пшеницу. Он посадил земляную грушу — топинамбур.

К настоящей груше земляная не имеет никакого отношения. Она даже не принадлежит к семейству розоцветных, к которому относится груша настоящая. Ее ближайший родич — подсолнух. А грушей назвали за то, что ее клубни по форме отдаленно напоминают груши. Осенью их выкапывают как картофель.
В те годы шли яростные споры. Одни превозносили достоинства земляной груши, другие подчеркивали недостатки. Те, что были за, рассказывали о том, как отлично драпирует это растение участки земли, испорченные человеком. Овраги, крутые склоны со смытой почвой, придорожные откосы быстро покрываются густой чащей топинамбура и сохраняются от дальнейшего разрушения.

Особенно любили сторонники земляной груши вспоминать о том, как это растение защищает их поля и огороды от набегов четвероногих. Они огораживали свои владения барьером топинамбура, после чего ни один заяц, ни одна косуля или лось не могли проникнуть внутрь. Четвероногие чутьем определяли, что в земле спрятаны вкуснейшие клубни. Они начинали выкапывать клубни и, когда добирались до них, теряли всякую охоту искать что-либо более аппетитное. Сравниться с земляной грушей ни капуста, ни овес, ни сладкая кора яблоневых деревьев не могли.
Противники земляной груши приводили свои доводы. Стоит посадить это растение, как его потом не выживешь. Можно выбирать клубни из земли каждый год, но все равно где-то останется мелочь. Она тотчас же даст новые стебли и новые клубни. На вид хорошее растение, а на деле — сорняк!
В то же время если постараться и выбрать все клубни до одного, то сохранить в подвале, как картофель, невозможно. Очень скоро они начнут вянуть, станут дряблыми, сморщатся. И придется выбрасывать их на помойку.
Филиппов решил сам убедиться в достоинствах топинамбура и той злополучной весной посадил растение у себя на поле. Засуха, конечно, притормозила рост топинамбура. Однако чуть только ливни смочили землю, стебли его начали подниматься. В конце июня он обогнал подсолнух, а к началу сентября достиг высоты в два человеческих роста. Стебли стояли густо, покачивая маленькими золотыми корзинками. Корзинки были как у подсолнуха, только уменьшенными в десять раз. В чаще стеблей прятались от хозяина филипповские коровы. Уже в нескольких метрах их невозможно было обнаружить.
Осень принесла новые испытания агроному. Дожди не кончались и лили до самых холодов. Мокрый с головы до пят, Филиппов косил гигантские стебли. Он резал их на мелкие кусочки и давал скоту. Больше кормить было нечем.
К его великой радости, коровы, хоть листья земляной груши уже тронул мороз, зелень ели с охотой. Лошади вначале заупрямились, но потом вошли во вкус и не отставали от своих рогатых собратьев.
Филиппов успел скосить только половину поля, как наступил конец октября. Тут он сообразил, что пора копать клубни. Он вышел с лопатой на плантацию, но… повалил густой снег. Он шел весь день и еще сутки. А в начале ноября ударил такой мороз, что мечту о копке пришлось оставить.
Некошеные стебли почернели и поникли. Но Филиппов продолжал их косить. Каждый день он привозил по две арбы корма и с тревогой посматривал на животных — едят ли? Ели не хуже, чем раньше. К концу ноября вся зелень была убрана. Клубни же пришлось оставить в земле до весны. Впрочем, часть их он выкопал зимою во время оттепелей. Клубни, оставшиеся незамеченными, на следующий год дали новые ростки, и плантация продолжала работать, не требуя почти никакого ухода. Не будь земляной груши, пришлось бы агроному распродавать своих коров и лошадей.
Все это было давно. Дальнейшая судьба земляной груши складывалась по-разному. В обычные годы о ней забывали. В трудное военное время вспоминали, и даже люди начинали с уважением относиться к обитательнице пустырей и оврагов. В особенности нужна оказалась земляная груша для диабетиков. Вместо крахмала в ней содержится другой углевод — инулин. При распаде он не дает глюкозы, избыток которой вреден диабетикам.
В наши дни снова много пишут о земляной груше. Особенно увлекаются ею звероводы. Кормят нутрий и кроликов. А ближайшее будущее кажется совсем фантастическим. Ученые подсчитали, что из всех растений топинамбур — самый дешевый источник спирта. Это новый источник энергии. Неиссякаемый и легко возобновимый. Ведь пустырей, на которых растет топинамбур, становится все больше.
К сожалению, это растение до сих пор еще мало кому знакомо.

А ведь оно легко дичает и живет само по себе на Северном Кавказе, в Донбассе или на севере Верхневолжья. В городе Калинине громоздится по речным откосам, достигая такой же внушительной, как в Донбассе, высоты. А зацветает тогда, когда уже на исходе октябрь и все местные травы давно отцвели и засохли. Это происходит потому, что топинамбур — родом из тропиков (из Южной Америки), где день короток. И, произрастая в Подмосковье, растение сохраняет свой обычный тропический южноамериканский ритм.
Мятлики
Мятлик некрасив. Нет у него ни ярких цветков, ни широких глянцевых листьев. Вместо этого метелка, как серенькая елочка, а в ней комочки неряшливо слепленных колосков, точно клочки запыленного войлока.
Мятлик невысок. Трава его едва закроет ботинок. Он не дает такой уймы зелени, как кукуруза. А между тем именно его подсевают на пастбище, если хотят улучшить его как следует. А знатоки-луговоды считают мятлик самым интересным, самым выдающимся кормовым растением мира.
Мятлик агрессивен. Если создать ему условия, он вытеснит соседей и останется один на десятки лет. И хотя надежность природных систем зиждется на разнообразии и люди осознали это, все же для мятлика они делают исключение и выращивают его в одиночестве или в небольшой компании, создавая идеальные условия.
В природе мятлик встречается всюду, от запада до востока, но редок. Эстонские ботаники на своих лугах с трудом его отыскали. И то отдельные экземпляры на плодородных почвах.
Теперь уже трудно сказать, кто первым обнаружил в мятлике особые качества, которые вывели этот малозаметный злак в ранг первейших культурных растений земли. Возможно, это были животноводы или ландшафтные архитекторы. Но скорее всего люди, обеспечивающие качество футбольных полей.
Стадион всегда требовал прочного, зеленого дерна. Под бутсами футболистов очень быстро пропадают травы. Поле как бы «лысеет», протирается. Мятлик признали одним из немногих растений, которое держится дольше других. Он растет одинаково хорошо на футбольных полях и у нас, и в Америке, и в Австралии. Для него как бы не существует природных зон и поясов. Разве что на Крайнем Севере. Там мятлик дает зелень только в разгар лета.
Северяне, устроившие городской стадион в заполярной Воркуте, досадовали, что футбольный сезон у них слишком короток. Полтора месяца. Уже и снега нет, а мятлик не растет. Почва холодна. Чтобы разогреть ее, воркутинцы проложили под корнями мятлика стальные провода и подключили к трансформатору. Стало теплее на два градуса. Этого оказалось достаточно, чтобы мятлик тронулся в рост сразу же после схода снега. Футбольный сезон увеличился вдвое.

В чем сила и устойчивость мятлика? Пожалуй, в массовости его бесчисленных былинок. Эта трава растет густо, тесно: 17 тысяч побегов на одном квадратном метре, на площадке, где едва уместится один футболист. Триста стеблей под каждой его подошвой. Щетка! Не сломаешь и не сомнешь. На нее можно встать без боязни, что раздавится.
Такую уйму побегов обеспечивают мятлику подземные корневища. Их сеть огромна и растет очень быстро. Однажды в Москве ремонтировали футбольное поле и рассадили маленькие кусочки дернины на полшага друг от друга. Не прошло и двух месяцев, как мятлик сплошь заплел все поле. Промежутков между дернинами не осталось.
Прославившись на спортивных аренах, мятлик привлек к себе внимание и городских озеленителей. Он давал отличные газоны в партерах перед зданиями, в парках и скверах. Научные работники Главного ботанического сада в Москве сравнили мятлик с другими растениями, которые используют для газонов. Они взяли 112 видов. Две тысячи образцов. Мятлик оказался лучше всех.
Вот уже двадцать лет он бессменно украшает партер ботанического сада, зеленеет у Кремлевской стены и возле Мавзолея. Он признан лучшим и на юге, в партерах Никитского ботанического сада в Крыму, и в партерах Новосибирска. А в США мятликом засеяно две трети всех газонов. Там считают его самой надежной травой.

Есть, однако, у мятлика свои требования к человеку. Чтобы газон хорошо работал, нужно, чтобы трава не перерастала. Ее необходимо часто стричь. Спортивный газон стригут два раза в неделю. Чем ниже, тем прочнее зеленая щетка под ногами футболистов. Надо, чтобы над землей щетина мятлика торчала только на три сантиметра. Самое большее — на четыре. А лучше — на два!
И тут выяснилось, что наш луговой мятлик начинает страдать при слишком короткой стрижке. Московские ботаники погоревали и отправились по стадионам столицы на поиски новых разновидностей. Втайне они надеялись, что может отыскаться нужная форма, годная для короткой стрижки. И случилось невероятное. Нашлась!
В 1970 году на одном из стадионов заметили небольшую дерновинку, которая выглядела не совсем так, как обычный луговой мятлик. Стебли торчали не вверх, а изгибались дугой и касались почвы. Когда нога футболиста прижимала их к земле, они давали корешки, а от корневой шейки рос новый побег, и дуга его снова клонилась к земле.
Необычная форма мятлика сразу же заинтересовала специалистов. И через год попробовали посадить ползучий мятлик на игровом поле Центрального стадиона имени Ленина. Сравнили с обычным мятликом на штрафной площадке, где вспыхивают самые яростные баталии. Обычный мятлик здесь не выдерживает. Заросли его начинают редеть. Ползучий сохраняет сомкнутость рядов. Да и корешки его проникают в почву на глубину, в два раза большую, чем у лугового.
Ползучий не боится уплотнения почвы. И не требует особого плодородия почвы. А самое главное — стричь его можно не только до трех сантиметров, но даже до двух! Почти под корень. Это выгодно не только для стадионов. Для пастбищ тоже. Ведь иной раз и животные выедают траву под самый корешок.
Итак, можно считать, что московским ботаникам повезло. Захотели и нашли. Но надеяться на случай рискованно. Гораздо надежнее вывести сорт. И газонные сорта уже существуют. Причем есть эстонский сорт Эсто, который можно стричь даже не до двух, а до полутора сантиметров высоты! Есть свои сорта и в Главном ботаническом саду Москвы, которые названы по имени сада: ГБС-1 и ГБС-2. Есть очень хороший сорт у сибиряков — Обский в честь реки Оби.
Потребуются сорта мятлика и для окраин нашей страны. Камчатские ботаники выяснили, что с помощью этого злака можно отвоевывать у тундры бесплодные земли и превращать их в луговины. В девственных тундрах мятлик встречается отдельными былинками, но чем больше пасется скота, тем скорее выпадают другие травы и тем больше становится мятлика.
Камчатские ботаники удобрили участок тундры. Мятлик отреагировал немедленно и вытеснил даже такое высокое и крепкое растение, как вейник. Обгрызания скотом он не очень боится. Ведь, по сути дела, это та же самая стрижка, что и на стадионе, а копыта животных уплотняют почву не сильнее, чем бутсы футболистов. Если, конечно, скота пасется не чересчур много.
Может, правда, случиться и так, что мятлик вытопчут и съедят. Но он очень быстро расселяется и семенами. Московские ботаники как-то бросили одно-единственное семечко на пустырь, где росли сорняки. Вырос крошечный всход, один среди огромных сорняков. А через три года здесь обнаружили куртину величиной с клумбу таких размеров, что через нее оказалось трудно перешагнуть.
Одного не переносит наш луговой мятлик — сильных засух. В южных наших пустынях он с трудом держится на поливе. Но там его великолепно заменяет мятлик луковичный. Семена у него созревают редко. Вместо них вырастают луковички, которые имеют гораздо больше шансов уцелеть в пекле и зное. И в дернине у него вырастают тоже луковички. От одной, материнской, вырастает десяток новых, дочерних.
В пустынях их очень любят суслики. Еще бы. На каждом гектаре луковичек созревает по четыре больших мешка! Восхищался мятликом славный наш луговед академик И. Ларин, главный знаток кормовых трав. Он прочил луковичному мятлику блестящее будущее.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ