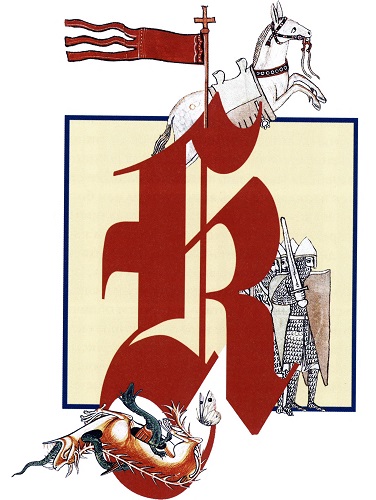
Книги
Благовещение. Дева Мария, не смея поднять взор на архангела Гавриила, придерживает рукой богато украшенную рукопись, которая лежит перед ней, — золоченый обрез, текст в две колонки с киноварными заголовками, миниатюра в лист с изображением молящегося царя Давида. Эта книга похожа на Псалтирь или на Часослов, по какому в позднесредневековой Европе так часто молились аристократы или богатые горожане, а чаще их жены и дочери. Современная практика и современный предмет переносятся воображением в новозаветную сцену. Глядя на Богоматерь-читательницу, итальянцы, французы или фламандцы, жившие в XIV–XV вв., получали урок благочестия. Их призывали не только молиться Деве Марии, но и молиться, как она. Книга — в древнем обличье свитка или в привычной для нас форме кодекса — одна из вещей, которые чаще всего изображались в средневековой иконографии. Это одновременно и реальный предмет, и богословская метафора. В Откровении Иоанна Богослова (5:1), которое на протяжении многих столетий питало христианское воображение, упоминалась книга, «написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями». Сидящий на престоле Бог-Отец передал ее Агнцу — Богу-Сыну, который своей крестной смертью искупил первородный грех, довлевший над человечеством. Кодекс, который держит Христос, символизирует Слово Божье, которое было даровано человечеству в Ветхом и Новом заветах. Одновременно книга в руках Бога-Сына обозначает его самого.

Ведь в Евангелии от Иоанна (1:14) он был назван Словом, которое облеклось плотью. Книга — не только атрибут Бога. На бессчетных средневековых образах евангелисты держат в руках свои Евангелия, богословы — написанные ими трактаты, а основатели монашеских орденов — созданные ими уставы… Но чаще книга в руках святого — это не конкретное сочинение, а знак его духовного авторитета, права толковать священные тексты и наставлять паству. Помимо священных книг, средневековые мастера изображали и те, что считались пагубными: ложные писания еретиков, сочинения иноверцев или колдовские гримуары. Сцены, в которых мы видим такие книги, почти всегда создавались для обличения религиозных девиаций, поэтому в иконографии подобные книги обычно кидают в костер или рвут на куски. У Иеронима Босха в «Искушении св. Антония» среди множества демонов, которые осаждали пустынника, есть бес-священник. Он водит пальцем по страницам синей книги — пародии на богослужебные рукописи. Нa многих изображениях книг можно разобрать текст. Когда кодекс, нарисованный на фреске или книжной миниатюре, был слишком мелок или находился слишком далеко, чтобы его разобрать, либо если суть послания была не важна, средневековые мастера рисовали ряды завитков и черт, имитирующих строки. А представляя пагубные книги иноверцев, они порой копировали настоящее еврейское или арабское письмо, но чаще лишь стилизовали под них псевдобуквы.

От свитков к «бабблам»
Как изображение говорит со зрителем
 тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
 11 Псалтирь. Оксфорд, 1190–1220 гг. Lodon. British Libiry. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7v.
11 Псалтирь. Оксфорд, 1190–1220 гг. Lodon. British Libiry. Ms. Royal 1 D X. Fol. 7v.
И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24:30-32). Хотя в евангельском тексте нет ни слова о том, что Христос в Эммаусе вознесся на небеса, его исчезновение на этой миниатюре предстает именно как вознесение. А разговор апостолов между собой — как скрещение пергаменных лент, которые, словно не зная о силе тяжести, устремляются вверх. Здесь они оставлены пустыми. Однако на тысячах других средневековых изображений на таких лентах (по-английски их принято называть speech scrolls, по-французски — phylactères или banderoles, а по-немецки — Spruchband) приводятся короткие, а порой и пространные реплики. Благодаря им персонажи обращаются друг к другу, а в конечном счете к их главному собеседнику — зрителю.
Святой изгоняет демонов
Этот прием нам сегодня прекрасно знаком. В современных комиксах и графических романах персонажи переговариваются друг с другом с помощью реплик, записанных в «облачках» («бабблах», «баллонах») разных форм. Обычно они исходят из уст говорящих и парят в воздухе рядом с ними. С помощью таких «облачков» можно передать не только речь, но и внутренний монолог персонажей. Глядя на белые контуры, заполненные буквами, зритель тотчас же понимает, что перед ним не какой-то реальный предмет, существующий в изображенном мире, а условный знак — своего рода доска для записи. Иcтoрия «бабблов» начинается в Средневековье, когда образ и текст, видимо, переплетались теснее, чем в искусстве Античности или Возрождения. На средневековых мозаиках, фресках, алтарных панелях и особенно книжных миниатюрах в визуальное пространство встраивается множество разных подписей. Одни слова плывут по фону вокруг персонажей, другие начертаны на различных предметах: страницах книг, развернутых свитках, нимбах святых, полах одежд, — которые изображены в кадре. Буквы вплетаются в образ, но и образы часто помещают внутрь букв. Инициалы заключают фигуры (от ветхозаветных пророков и христианских святых до звероподобных демонов и фантастических гибридов) и целые сцены, а порой сами буквы складываются из сплетенных или гротескно изогнутых человеческих или звериных тел[14]. Тексты, вписанные внутрь изображения, играли много разных ролей. Самый простой пример — это подписи, которые принято называть tituli: «святой Мартин», «Вельзевул», «слоны», «огонь с небес». Они идентифицировали персонажей и значимые для сюжета предметы либо кратко описывали происходящее — «святой изгоняет демонов» или «он убегает» [12,13].
 12 Петр Ломбардский. Комментарий к Псалтири. Бамберг, ок. 1180 г. Bamberg. Staatsbibliothek. Msc. Bibi. 59. Fol. 4v.
Смерть Авессалома, сына царя Давида. Он поднял против отца мятеж, был разбит и, когда пытался спастись, запутался длинными волосами в ветвях дуба, и его закололи (2 Цар. 18:9–16). Сверху, над рамкой, идет нравоучительный комментарий к этой истории: «Qui mala moliris cautela sit hic tibifinis» — «Замышляющий такую подлость, берегись — вот конец, который тебя ожидает». А внутри миниатюры зрителю разъясняют, кто перед ним: «Иоав», «принц Авессалом», «мул Авессалома».
12 Петр Ломбардский. Комментарий к Псалтири. Бамберг, ок. 1180 г. Bamberg. Staatsbibliothek. Msc. Bibi. 59. Fol. 4v.
Смерть Авессалома, сына царя Давида. Он поднял против отца мятеж, был разбит и, когда пытался спастись, запутался длинными волосами в ветвях дуба, и его закололи (2 Цар. 18:9–16). Сверху, над рамкой, идет нравоучительный комментарий к этой истории: «Qui mala moliris cautela sit hic tibifinis» — «Замышляющий такую подлость, берегись — вот конец, который тебя ожидает». А внутри миниатюры зрителю разъясняют, кто перед ним: «Иоав», «принц Авессалом», «мул Авессалома».
Часто без них, действительно, трудно понять, кто и что перед нами. В отсутствие подписей многих ветхозаветных праотцов или христианских святых было не отличить друг от друга, а сложные богословские схемы явно требовали разъяснения даже для искушенного клирика. Однако нередко подписи лишь дублировали визуальное послание и были на практике бесполезны. Грамотный, то есть подкованный в книжной премудрости, читатель/зритель и так мог понять, что перед ним, скажем, «осел» или «дьявол», а неграмотный — без помощи наставника и переводчика с латыни — был не в состоянии прочесть tituli[15]. Подписи, идентифицировавшие персонажей, были особо важны на иллюстрациях к сакральным сюжетам (ведь святых не должно путать с обычными людьми и тем более с грешниками) и на различных культовых образах. Стремясь обезопасить свою паству от идолопоклонства, суеверий, ересей и прочих духовных опасностей, клирики настаивали на том, что верующие должны твердо знать, к кому обращают свои молитвы, а образы, которые надлежит почитать, должны быть четко отделены от тех, которые не имеют на это права[16]. конце VIII в. епископ Теодульф Орлеанский, придворный франкского короля Карла Великого, составил трактат, известный как «Каролингские книги». В эпоху, когда в Византийской империи кипели споры о культе икон, Теодульф стремился проложить средний путь между иконопочитанием и иконоборчеством.
 13 Зерцало человеческого спасения. Базель, XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 512. Fol. 18.
Древние евреи жарят пасхального агнца, который, как сказано над фигурами, означает Христа. На миниатюре подписаны и «сыны Израилевы», и сам «агнец пасхальный». В тексте «Зерцала» эта сцена предстает как один из ветхозаветных прообразов Тайной вечери — пасхальной трапезы, в ходе которой Иисус установил таинство евхаристии.
13 Зерцало человеческого спасения. Базель, XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 512. Fol. 18.
Древние евреи жарят пасхального агнца, который, как сказано над фигурами, означает Христа. На миниатюре подписаны и «сыны Израилевы», и сам «агнец пасхальный». В тексте «Зерцала» эта сцена предстает как один из ветхозаветных прообразов Тайной вечери — пасхальной трапезы, в ходе которой Иисус установил таинство евхаристии.
Он признавал пользу сакральных образов, но — риторически сгущая краски — предостерегал, что изображение может легко ввести в заблуждение. Если под фигурой прекрасной женщины нет подписи, то как понять, кто это: Богоматерь или Венера? Увидев скульптуру девицы, держащей на руках младенца, как без помощи текста определить, кто имеется в виду: Мария с Иисусом, Сара с Исааком, Ревекка с Иаковом, Елисавета с Иоанном, либо Венера с Энеем, Алкмена с Гераклом или Андромаха с Астианактом?[17] Tituli компенсировали опасную неопределенность, заложенную в саму природу визуального, и должны были гарантировать, что молитва, устремленная к христианскому образу, на деле не отправится к языческому божеству или какому-то ангелу с загадочным именем, который на деле окажется бесом. Нередко подписи не просто описывали изображение, а указывали, как его следует толковать. На фасаде маленькой церкви в Пон-л'Аббе-д'Арну (XI в.) на юго-западе Франции рядом с фигурой агнца вырезаны слова: «Здесь мистический агнец означает великого Господа». На тимпане церкви Сан-Мигель в Эстелье (Наварра, Испания) и на множестве других средневековых изображений повторялась формула, принадлежащая французскому агиографу и хронисту Бальдерику из Бургёя (ум. в 1130 г.): «NecDeus est пес homo presens quam cemis imago set Deus est et homo quem sacra figurât imago» («Образ, который ты зришь, не Бог и не человек, но сей священный образ означает Бога и человека»). Эти слова напоминали о том, что образ (скажем, фигуру Христа) не следует отождествлять с его прообразом (самим Христом), и что молиться подобает не самим статуям или иконам (ведь это было бы идолопоклонство), а тем небесным персонам, которых они олицетворяют[18]. Многие изображения с помощью подписей обращались к зрителю, например, призывая его к покаянию. Так, над вратами аббатства Сент-Фуа в Конке (Франция) в начале XII в. была вырезана колоссальная сцена Страшного суда. По ее нижнему краю идет длинная надпись, адресованная к тем, кто под ней входил в церковь: «О, грешники, если вы не исправите свои нравы, в будущем ждет вас жестокий суд»[19].
Свитки и кодексы
В средневековой иконографии множество персонажей держит в руках развернутые свитки либо открытые или закрытые кодексы. При этом свиток — древняя форма книги, которая в постантичные времена почти ушла в прошлое, — чаще всего ассоциировался с древним еврейским законом, а кодекс, привычная нам форма книги из сшитых тетрадей пергамена, — с новым христианским учением. Потому со свитками привыкли изображать ветхозаветных пророков, а с кодексами — апостолов, евангелистов или отцов церкви [14–16]. В руках Исайи, Иеремии или Иезекииля свитки олицетворяли сам текст Писания.
 14 Мастер алтаря св. Варфоломея. Нидерланды, ок. 1480 г. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. № 96. PB. 16.
Запутавшиеся в свитках. Три волхва, Каспар, Мельхиор и Бальтазар, которые, по средневековым преданиям, прибыли с трех сторон света (Европы, Азии и Африки) дабы почтить новорожденного Мессию, собираются вместе, чтобы отправиться в Вифлеем. Слева в скалах сидит царь Давид — на его свитке написаны строки 71-го псалма, которые в христианской традиции толковали как пророчество о поклонении волхвов: «Цари Фарсиса и островов поднесут Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары…» А справа пророк Исайя держит свое пророчество: «И придут к Тебе с покорностью сыновья угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя» (Ис. 60:14).
14 Мастер алтаря св. Варфоломея. Нидерланды, ок. 1480 г. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. № 96. PB. 16.
Запутавшиеся в свитках. Три волхва, Каспар, Мельхиор и Бальтазар, которые, по средневековым преданиям, прибыли с трех сторон света (Европы, Азии и Африки) дабы почтить новорожденного Мессию, собираются вместе, чтобы отправиться в Вифлеем. Слева в скалах сидит царь Давид — на его свитке написаны строки 71-го псалма, которые в христианской традиции толковали как пророчество о поклонении волхвов: «Цари Фарсиса и островов поднесут Ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары…» А справа пророк Исайя держит свое пророчество: «И придут к Тебе с покорностью сыновья угнетавших Тебя, и падут к стопам ног Твоих все, презиравшие Тебя» (Ис. 60:14).
Обычно на них записывали несколько слов или строк, которые напоминали о сути пророчеств и отсылали к остальному тексту. Но часто свитки оставляли пустыми. Увидев бородатого мужа с пергаменной лентой в руках, зритель и так мог понять, что перед ним человек, через которого говорит сам Господь [17]. В конце XIII в. Гильом Дюран, автор колоссального трактата по литургике и церковной символике под названием «Rationale divinorum officiorum», объяснял, что свитки символизируют несовершенное знание — ведь во времена ветхозаветных пророков, до воплощения Христа, откровение было неполным.
 15 Иероним Стридонский. Комментарий к Книге пророка Иеремии. Юго-западная Франция, первая половина XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 1822. Fol. 42.
Перед иудейским царем Седекией, который восседает на троне с львиными лапами и головами, стоит пророк Иеремия. В отличие от большинства средневековых изображений, на свитке начертан не какой-то фрагмент из латинского перевода его пророчеств, а что-то на древнееврейском. Но это не связный текст, а алфавит, хотя и сильно искаженный.
15 Иероним Стридонский. Комментарий к Книге пророка Иеремии. Юго-западная Франция, первая половина XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 1822. Fol. 42.
Перед иудейским царем Седекией, который восседает на троне с львиными лапами и головами, стоит пророк Иеремия. В отличие от большинства средневековых изображений, на свитке начертан не какой-то фрагмент из латинского перевода его пророчеств, а что-то на древнееврейском. Но это не связный текст, а алфавит, хотя и сильно искаженный.
 16 Библия. Шампань, ок. 1170–1180 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 16744. Fol. 81.
Глас Господень. В инициале «Е». Бог — мы видим его как указующую длань в небесах — приказывает Иезекиилю: «Съешь, что перед тобою, съешь этот свиток (volumen), и иди, говори дому Израилеву» (Иез. 3:1). И тем разверзает его уста для пророчества. Хотя слово volumen, которое использовалось в латинском переводе Ветхого Завета, означает «свиток» или «хартию», на миниатюре Иезекииль съедает кодекс, а на свитке, развернутом в его сторону, приводятся слова Бога.
16 Библия. Шампань, ок. 1170–1180 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 16744. Fol. 81.
Глас Господень. В инициале «Е». Бог — мы видим его как указующую длань в небесах — приказывает Иезекиилю: «Съешь, что перед тобою, съешь этот свиток (volumen), и иди, говори дому Израилеву» (Иез. 3:1). И тем разверзает его уста для пророчества. Хотя слово volumen, которое использовалось в латинском переводе Ветхого Завета, означает «свиток» или «хартию», на миниатюре Иезекииль съедает кодекс, а на свитке, развернутом в его сторону, приводятся слова Бога.
 17 Петр Ломбардский. Сентенции. Париж (?), конец XII в. Dijon. Bibliothèque municipale. Ms. 198. Fol. 3v.
Персонификации Церкви (с евхаристической чашей) и Синагоги (со скрижалями завета). В отличие от множества других версий этого сюжета, где Церковь изображалась как торжествующая избранница Христова, а отвергнутая Синагога скорбно стояла в стороне, здесь они предстают как равноправные сестры — олицетворение Ветхого и Нового заветов. А их пустые свитки устремлены друг к другу.
17 Петр Ломбардский. Сентенции. Париж (?), конец XII в. Dijon. Bibliothèque municipale. Ms. 198. Fol. 3v.
Персонификации Церкви (с евхаристической чашей) и Синагоги (со скрижалями завета). В отличие от множества других версий этого сюжета, где Церковь изображалась как торжествующая избранница Христова, а отвергнутая Синагога скорбно стояла в стороне, здесь они предстают как равноправные сестры — олицетворение Ветхого и Нового заветов. А их пустые свитки устремлены друг к другу.
Тех апостолов, которые, подобно Павлу, Петру, Иакову и Иуде Фаддею, оставили после себя сочинения, признаные Церковью как подлинные, он предписывал изображать с кодексами — символом совершенного учения. А тех, кто свидетельствовал о Христе, но не запечатлел своих слов в текстах, — со свитками, в напоминание об их проповеди[20]. В толковании Гильома Дюрана свиток ассоциируется с неполнотой Ветхого Завета, а кодекс — с совершенством Нового. Но одновременно кодекс означает письменный текст, а свиток — устное слово. Это хорошо видно на многих изображениях евангелистов, где Слово Божье, которое звучит с небес, запечатлевается на страницах. Матфей, Марк, Лука и Иоанн записывают в книгу то, что им диктует их символ (человек или ангел, лев, телец и орел), держащий в руках или лапах свиток[21] [18].
 Библия. Энгельберг, 1143–1178 гг. Engelberg. Stiftsbibliothek. Cod. 5. Fol. 181.
Передача Слова Божьего. Иоанн, готовясь записать текст в раскрытую перед ним рукопись, держит второй конец свитка, который приносит с небес его символ — орел.
Библия. Энгельберг, 1143–1178 гг. Engelberg. Stiftsbibliothek. Cod. 5. Fol. 181.
Передача Слова Божьего. Иоанн, готовясь записать текст в раскрытую перед ним рукопись, держит второй конец свитка, который приносит с небес его символ — орел.
Говорящие ленты
Cвитки, которые держали в руках Исайя, Иеремия или Иезекииль, олицетворяли ветхозаветный текст, в котором были запечатлены их предсказания. Если на одной миниатюре стояло несколько пророков с пергаменными лентами, вряд ли кто-то подразумевал, что они обращают эти слова друг к другу — только к зрителю.
 19 Псалтирь. Юго-Восточная Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Arundel 157. Fol. 6.
Второе искушение Христа в пустыне. Хотя и Сатана, и Христос изображены с закрытыми ртами, то, что они спорят, видно по ораторским жестам — оба поднимают вверх указательный палец. А содержание разговора приведено на свитках: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз». — «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).
19 Псалтирь. Юго-Восточная Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Arundel 157. Fol. 6.
Второе искушение Христа в пустыне. Хотя и Сатана, и Христос изображены с закрытыми ртами, то, что они спорят, видно по ораторским жестам — оба поднимают вверх указательный палец. А содержание разговора приведено на свитках: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз». — «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).
Однако в какой-то момент в западной иконографии появились изображения, на которых точно такие же свитки, а порой и кодексы стали использовать для того, чтобы передать взаимодействие персонажей и их устную речь. В этом случае свиток — уже не изображение книги, а условный знак, позволяющий зрителю услышать, что говорится в кадре. Конечно, такие реплики тоже часто заимствовались из Священного Писания. Однако speech scrolls могли появиться утех персонажей, которые не писали никаких книг, или в сюжетах, где книги явно не подразумевались [19]. Когда именно появились такие «говорящие» свитки, сказать сложно. Но один из древнейших примеров можно увидеть в «Изложении Шестикнижия» — древнеанглийском переложении первых шести книг Ветхого Завета, выполненном под руководством Эльфрика Грамматика (ум. ок. 1010 г.)[22] [20].
 20 Эльфрик Грамматик. Изложение Шестикнижия. Кентербери, вторая четверть XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В IV. Fol. 29.
Господь заключает завет с Авраамом. В его левой руке свиток с надписью «Я Господь, Бог твой». В отличие от пустых и провисших под своей тяжестью лент, которые держат парящие ангелы, свиток с текстом, обращенным к Аврааму, словно ожив, устремляется вверх.
20 Эльфрик Грамматик. Изложение Шестикнижия. Кентербери, вторая четверть XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В IV. Fol. 29.
Господь заключает завет с Авраамом. В его левой руке свиток с надписью «Я Господь, Бог твой». В отличие от пустых и провисших под своей тяжестью лент, которые держат парящие ангелы, свиток с текстом, обращенным к Аврааму, словно ожив, устремляется вверх.
Первые средневековые «бабблы» обычно выглядят как настоящие свитки — их требуется держать в руках, они накручиваются на центральный валик и под силой тяжести прогибаются вниз [21, 22]. Однако позже художники стали все чаще отходить от физического правдоподобия — это позволяло сразу же показать, что перед нами не реальный предмет, а форма для записи речи.
 21 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton MS Nero С IV. Fol. 11.
Во второй главе Евангелия от Луки рассказывается о том, как ангел Господень, представ перед вифлеемскими пастухами, возвестил им о рождении Спасителя. В средневековой иконографии это послание передается с помощью жестов (например, ангел с небес указывает в их сторону пальцем) либо вдобавок как текст на свитке. Здесь принесенная свыше весть разделена на две части. У ангела справа написано «Ныне родился нам Спаситель», а у другого по центру — «который есть Христос Господь, в городе Давидовом». Третий вестник, которому не хватило реплик, остался без свитка.
21 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton MS Nero С IV. Fol. 11.
Во второй главе Евангелия от Луки рассказывается о том, как ангел Господень, представ перед вифлеемскими пастухами, возвестил им о рождении Спасителя. В средневековой иконографии это послание передается с помощью жестов (например, ангел с небес указывает в их сторону пальцем) либо вдобавок как текст на свитке. Здесь принесенная свыше весть разделена на две части. У ангела справа написано «Ныне родился нам Спаситель», а у другого по центру — «который есть Христос Господь, в городе Давидовом». Третий вестник, которому не хватило реплик, остался без свитка.
Они рисовали свитки, которые, словно забыв о своей материальности, устремлялись из рук говорящего не вниз, а вверх или к тому, кто должен был услышать записанные на них реплики; как в современном комиксе исходили из уст оратора или закручивались в сложный узор над его головой [23, 24]. Порой вместо свитков реплики записывались в прямоугольниках, квадратах или каких-то еще геометрических рамках, словно приклеенных к фону рядом с фигурой говорящего, и уже совсем не похожих на книги. Свитки материализуют речь и в то же время сами оказываются материальны. Например, стремясь показать коммуникацию между двумя персонажами, средневековые мастера порой рисовали, как слушатель держит кончик свитка, который тянется от говорящего. Точно так же в сцене, где, например, граф или герцог передает монастырю в дар какие-то земли, можно увидеть, как из его рук в руки аббата разворачивается дарственная хартия[23].
 22 Августин. О Граде Божьем. Франция, середина XII в. Boulogne-sur-Mer. Bibliothèque municipale. Ms. 53. Fol. 73.
Страшный суд. Христос в правой руке держит свиток с текстом, обращенным к праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего [наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира]» (Мф. 25:34). В левой руке у него слова, адресованные грешникам, к которым Он повернулся спиной: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом текст на обоих свитках развернут в одну сторону — к избранным. Чтобы повернуть слова «идите от Меня» к проклятым, пришлось бы их написать снизу вверх, а мастер, вероятно, стремился, чтобы они исходили от фигуры Христа, который их произносит (кроме того, если пустить текст снизу, читателю будет труднее его разобрать).
22 Августин. О Граде Божьем. Франция, середина XII в. Boulogne-sur-Mer. Bibliothèque municipale. Ms. 53. Fol. 73.
Страшный суд. Христос в правой руке держит свиток с текстом, обращенным к праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего [наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира]» (Мф. 25:34). В левой руке у него слова, адресованные грешникам, к которым Он повернулся спиной: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом текст на обоих свитках развернут в одну сторону — к избранным. Чтобы повернуть слова «идите от Меня» к проклятым, пришлось бы их написать снизу вверх, а мастер, вероятно, стремился, чтобы они исходили от фигуры Христа, который их произносит (кроме того, если пустить текст снизу, читателю будет труднее его разобрать).
 23 Часослов Бедфорда. Париж, ок. 1410–1430 гг. London. British Library. Ms. Additional 18850. Fol. 240.
Распятие. В семи свитках, расходящихся от головы Христа, приводятся фрагменты реплик, которые он, по свидетельству евангелистов, произнес, прежде чем умереть на кресте: «се, Матерь твоя!» (Ин. 19:27); «Жено, се, сын Твой» (Ин. 19:26); «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42–43); «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46); «Жажду» (Ин. 19:28); «Или, Или! лама савахфани?» (Мф. 27:46, Мк. 15:34); «Совершилось!» (Ин. 19:30). Большинство свитков развернуто в сторону тех, к кому обращены запечатленные на них слова. Например, «се, Матерь твоя!» и «Жено, се, сын Твой» — к Иоанну Евангелисту и Деве Марии, стоящим под крестом, а «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» — в небеса, к Богу-Отцу.
23 Часослов Бедфорда. Париж, ок. 1410–1430 гг. London. British Library. Ms. Additional 18850. Fol. 240.
Распятие. В семи свитках, расходящихся от головы Христа, приводятся фрагменты реплик, которые он, по свидетельству евангелистов, произнес, прежде чем умереть на кресте: «се, Матерь твоя!» (Ин. 19:27); «Жено, се, сын Твой» (Ин. 19:26); «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42–43); «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46); «Жажду» (Ин. 19:28); «Или, Или! лама савахфани?» (Мф. 27:46, Мк. 15:34); «Совершилось!» (Ин. 19:30). Большинство свитков развернуто в сторону тех, к кому обращены запечатленные на них слова. Например, «се, Матерь твоя!» и «Жено, се, сын Твой» — к Иоанну Евангелисту и Деве Марии, стоящим под крестом, а «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» — в небеса, к Богу-Отцу.
 24 Часослов семьи Спинола. Брюгге или Гент, ок. 1510–1520 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 18. Fоl. 22.
Диалог богача и праотца Авраама, который принимает души праведников в своем «лоне». Немилостивый богач, не пожалевший нищего Лазаря, после смерти попал в огонь преисподней и молит Авраама о милосердии: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:24). Эти слова устремлены вверх на белом свитке. Однако Авраам ему отказывает — его ответ спускается вниз на синем свитке с бордовой оборотной стороной: «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:25).
24 Часослов семьи Спинола. Брюгге или Гент, ок. 1510–1520 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig IX 18. Fоl. 22.
Диалог богача и праотца Авраама, который принимает души праведников в своем «лоне». Немилостивый богач, не пожалевший нищего Лазаря, после смерти попал в огонь преисподней и молит Авраама о милосердии: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:24). Эти слова устремлены вверх на белом свитке. Однако Авраам ему отказывает — его ответ спускается вниз на синем свитке с бордовой оборотной стороной: «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:25).
 25 Оттобойренский коллектар. Южная Германия, последняя четверть XII в. London. British Library. Ms. Yates Thompson 2. Fol. 31.
Диалог между Христом и апостолом Петром разворачивается не на двух, а на одном закрученном (в форме рыбы?) свитке, который они держат за два конца. На внешней стороне написан вопрос Христа «Петр, любишь ли ты Меня?», а на внутренней — ответ апостола: «Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).
25 Оттобойренский коллектар. Южная Германия, последняя четверть XII в. London. British Library. Ms. Yates Thompson 2. Fol. 31.
Диалог между Христом и апостолом Петром разворачивается не на двух, а на одном закрученном (в форме рыбы?) свитке, который они держат за два конца. На внешней стороне написан вопрос Христа «Петр, любишь ли ты Меня?», а на внутренней — ответ апостола: «Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:15).
 26 Часослов Жоффруа д'Аспремона. Лотарингия, конец XIII — начало XIV в. Melbourne. National Gallery of Victoria. Ms. Felton 2. Fol. 111.
Помимо Псалтири, Жоффруа д'Аспремон также заказал и Часослов. На одном из его листов голова без тела, которая вырастает из декоративного побега, взывает к Богу: «le pri Deu que merci me fasse» («Молю, да помилует меня Господь»). Возможно, что это своего рода автопортрет того мастера Николя, который работал над украшением обеих рукописей.
26 Часослов Жоффруа д'Аспремона. Лотарингия, конец XIII — начало XIV в. Melbourne. National Gallery of Victoria. Ms. Felton 2. Fol. 111.
Помимо Псалтири, Жоффруа д'Аспремон также заказал и Часослов. На одном из его листов голова без тела, которая вырастает из декоративного побега, взывает к Богу: «le pri Deu que merci me fasse» («Молю, да помилует меня Господь»). Возможно, что это своего рода автопортрет того мастера Николя, который работал над украшением обеих рукописей.
В первом случае лента означает устную речь, во втором — документ на пергамене, но изображаются они одинаково. Во время диалога или спора свитки его участников часто перекрещиваются или несколько раз переплетаются в воздухе, а порой их реплики вовсе записываются на разных сторонах одной ленты[24] [25]. Порой адресат сообщения даже дописывает его, тем самым откликаясь на обращение. В Часослове, созданном в конце XIV в. для герцогини Маргариты Клевской, заказчица стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях Младенца. Из сложенных ладоней герцогини к юному Спасителю разворачивается свиток, на котором записан фрагмент молитвы «Отче наш»: «Да приидет царствие Твое». А Младенец на конце свитка дописывает следующее слово fiat — «да будет»[25]. На speech scrolls, конечно, писались не только реплики, обращенные одним персонажем к другому, но и послания, прямо адресованные зрителю. В Псалтири, изготовленной в конце XIII в. для французского сеньора Жоффруа д'Аспремона, на полях нарисован калека. Он держит в руках длинную ленту со словами: «Nicholaus теfecit qui illuminât librum» («Меня создал Николя, который иллюминировал эту книгу»)[26] [26].
 27 Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Англия, конец XIII — начало XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 49. Fol. 220.
На полях «Золотой легенды», огромного сборника житий святых, кто-то нарисовал путников — на их поясах и посохах висят ботинки, корзины и горшки, которые они захватили с собой в дорогу. Текст жития св. Цецилии, под которым они притулились, написан на латыни, но они переговариваются друг с другом на среднеанглийском. Их реплики записаны не на свитках, а рядом с фигурами и соединены с их устами тонкими линиями. Персонаж слева жалуется: «Они умирают от жары, они умирают от жары». Двое юношей справа от него — видимо, обращаясь к своему отцу, который идет за ними, — тоже сетуют на тяготы пути: «Сэр, мы умираем от холода!» Отец, несущий на плечах ребенка, приказывает им оставить нытье: «Смотрите, ваш младший брат одет в один капюшон». Ребенок на плечах плачет: «Уа, уа» (Wa, we). А двое детей, плетущихся позади, спорят о том, кому из них тяжелее: «Сэр, я несу слишком тяжелый груз». — «Самый тяжелый груз вовсе не у них».
27 Иаков Ворагинский. Золотая легенда. Англия, конец XIII — начало XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 49. Fol. 220.
На полях «Золотой легенды», огромного сборника житий святых, кто-то нарисовал путников — на их поясах и посохах висят ботинки, корзины и горшки, которые они захватили с собой в дорогу. Текст жития св. Цецилии, под которым они притулились, написан на латыни, но они переговариваются друг с другом на среднеанглийском. Их реплики записаны не на свитках, а рядом с фигурами и соединены с их устами тонкими линиями. Персонаж слева жалуется: «Они умирают от жары, они умирают от жары». Двое юношей справа от него — видимо, обращаясь к своему отцу, который идет за ними, — тоже сетуют на тяготы пути: «Сэр, мы умираем от холода!» Отец, несущий на плечах ребенка, приказывает им оставить нытье: «Смотрите, ваш младший брат одет в один капюшон». Ребенок на плечах плачет: «Уа, уа» (Wa, we). А двое детей, плетущихся позади, спорят о том, кому из них тяжелее: «Сэр, я несу слишком тяжелый груз». — «Самый тяжелый груз вовсе не у них».
Свитки придавали речи торжественность. Однако и в комичных зарисовках на полях рукописей [27], и на «инфографических» иллюстрациях, где рядом с фигурами требовалось уместить большие объемы текста [28], а порой и в сакральных сюжетах реплики могли пускать по фону, без всякого обрамления — как было принято в византийском искусстве[27]. В Апокалипсисе с толкованием францисканца Александра Бременского (ум. в 1271 г.) реплики персонажей, заимствованные из самого текста Откровения, приводятся на свитках, а краткие tituli и комментарии, раскрывающие значение апокалиптических образов, даются по фону.
 28 Тома Ле Миезье. Компиляция сочинений Раймунда Луллия. Северная Франция (?), ок. 1321 г. Karlsruhe. Badische Landesbibliothek. St Peter Perg. 92. Fol. 11v.
Философ и теолог Раймунд Луллий полемизирует со своим учеником Тома Ле Миезье о том, насколько точно тот резюмировал его учение. Луллий (слева) указывает на перечень основных принципов своего «искусства», которые выстроены у него за спиной и над головой. Тома (справа) отвечает учителю и указывает на девять томов Луллия, на основе которых он сделал свою компиляцию. Аргументы обоих ученых, написанные коричневыми чернилами и киноварью, изгибаясь, парят по листу, без каких-либо свитков или рамок. Реплики начинаются с выступающей вперед строки, и большинство из них исходит из уст или от ладоней участников диспута (ведь текст дополняет жесты). Для того, чтобы читатель мог сориентироваться в порядке доводов, они выстроены по буквам: a, b, с, d… Киноварные реплики изгибаются и устремляются в направлении тех книг или философских положений, которым они посвящены.
28 Тома Ле Миезье. Компиляция сочинений Раймунда Луллия. Северная Франция (?), ок. 1321 г. Karlsruhe. Badische Landesbibliothek. St Peter Perg. 92. Fol. 11v.
Философ и теолог Раймунд Луллий полемизирует со своим учеником Тома Ле Миезье о том, насколько точно тот резюмировал его учение. Луллий (слева) указывает на перечень основных принципов своего «искусства», которые выстроены у него за спиной и над головой. Тома (справа) отвечает учителю и указывает на девять томов Луллия, на основе которых он сделал свою компиляцию. Аргументы обоих ученых, написанные коричневыми чернилами и киноварью, изгибаясь, парят по листу, без каких-либо свитков или рамок. Реплики начинаются с выступающей вперед строки, и большинство из них исходит из уст или от ладоней участников диспута (ведь текст дополняет жесты). Для того, чтобы читатель мог сориентироваться в порядке доводов, они выстроены по буквам: a, b, с, d… Киноварные реплики изгибаются и устремляются в направлении тех книг или философских положений, которым они посвящены.
На одной из иллюстраций к 13-й главе Откровения над изображением двурогого зверя подписано «зверь, выходящий из земли и имеющий рога, подобные агнчим, — это Магомет», а справа от руки одного из воинов, который готовится отрубить голову человеку, идет свиток с цитатой: «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15)[28].
Диалог с архангелом
Наверное, слова, которые чаще всего «звучали» в христианской иконографии, — это краткий диалог между Девой Марией и архангелом Гавриилом, который приводится в Евангелии от Луки (1:28–38). Прилетев в ее дом, чтобы возвестить, что она станет Матерью Бога, небесный вестник начал с приветствия: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» — «Ave gratia plena, Dominus tecum, beneâicta tu in mulieribus» (эти слова открывают одну из важнейших католических молитв — Ave Maria).
 29 Псалтирь Генриха Льва. Хельмарсхаузен, ок. 1168–1189 гг. London. British Library. Ms. Lansdowne 381. Fol. 7v.
Приветствие архангела Гавриила («Радуйся, Мария, благодатная») и ответ Марии («Се, раба Господня») приводятся на двух сторонах одного свитка, свернутого буквой V (от слова Virgo — «Дева»?).
29 Псалтирь Генриха Льва. Хельмарсхаузен, ок. 1168–1189 гг. London. British Library. Ms. Lansdowne 381. Fol. 7v.
Приветствие архангела Гавриила («Радуйся, Мария, благодатная») и ответ Марии («Се, раба Господня») приводятся на двух сторонах одного свитка, свернутого буквой V (от слова Virgo — «Дева»?).
Затем Гавриил изложил ей суть своего послания: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца».
 30 Благовещение. Валенсия, ок. 1410–1430 гг. Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya. № 004511-000.
Слова Гавриила устремляются по свитку не от его рук, а сверху, с небес — ведь архангел лишь вестник, передающий Марии слова Бога. При этом свиток изогнут так, что мы видим лишь часть текста: «Радуйся, Благодатная… с Тобою», а от слова «Господь» осталось лишь самое начало. Видимо, его «замещает» летящая на том же уровне фигура голубя, символизирующая Святого Духа.
30 Благовещение. Валенсия, ок. 1410–1430 гг. Barcelona. Museu Nacional d'Art de Catalunya. № 004511-000.
Слова Гавриила устремляются по свитку не от его рук, а сверху, с небес — ведь архангел лишь вестник, передающий Марии слова Бога. При этом свиток изогнут так, что мы видим лишь часть текста: «Радуйся, Благодатная… с Тобою», а от слова «Господь» осталось лишь самое начало. Видимо, его «замещает» летящая на том же уровне фигура голубя, символизирующая Святого Духа.
Выслушав слова архангела, Мария смиренно приняла оказанную ей честь: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» («Ессе ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»). Многие христианские богословы полагали, что непорочное зачатие произошло как раз в тот момент, когда архангел, войдя в дом Марии, произнес приветствие «Радуйся, благодатная…», или когда она приняла возложенную на нее миссию: «Да будет Мне по слову твоему»[29].
 31 Благовещение (панель Страстного алтаря из Картузианского монастыря в Кёльне), ок. 1464 г. Nürnberg. Germanische Nationalmuseum. № Gm 22.
Текст приветствия, написанный золотыми буквами, летит от уст архангела Гавриила в сторону Девы Марии поверх фона. За ним видны улицы Назарета в облике средневекового городка с готической церковью, стражник (?) с копьем и две собаки.
31 Благовещение (панель Страстного алтаря из Картузианского монастыря в Кёльне), ок. 1464 г. Nürnberg. Germanische Nationalmuseum. № Gm 22.
Текст приветствия, написанный золотыми буквами, летит от уст архангела Гавриила в сторону Девы Марии поверх фона. За ним видны улицы Назарета в облике средневекового городка с готической церковью, стражник (?) с копьем и две собаки.
В этот миг предвечное Слово, вторая ипостась Троицы, «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:1, 14). Нa многих средневековых изображениях Благовещения слова Гавриила, а порой и ответ Марии приводятся на свитках, которые разворачиваются из их рук или уст. При этом иногда, чтобы показать роль архангельских слов в «механизме» боговоплощения, его лента прикасается к Деве Марии или встречается в воздухе с голубем — Святым Духом, от которого она зачала [29, 30]. в XIV–XV вв. у итальянских, а позже фламандских и других северных художников эти реплики, без всяких свитков, часто пишутся прямо по фону.

32 Часослов. Лангр, ок. 1465 г. New York. The Morgan Library & Museum. Ms. G.55. Fol. 36v.
Приветствие архангела Гавриила написано на свитке, который он держит в руке, а ответ Девы Марии («се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему») «вышит» на завесе, висящей над алтарем у нее за спиной.

 33 а, б Ян ван Эйк. Благовещение (фрагмент), ок. 1434–1436 гг. Washington. National Gallery of Art. № 1937.1.39.
Слова архангела «Радуйся, Благодатная» написаны слева направо, а ответ Марии «Се, Раба Господня» — справа налево, поскольку исходит из ее уст, а она стоит справа. Буквы вдобавок перевернуты по вертикальной оси и смотрят вверх — в сторону Святого Духа, который спускается к ней из окна в золотых лучах. Дева Мария встречает архангела не у себя дома, а в церкви, которая символизирует Церковь — Невесту Христову. Выше, под сводами, ван Эйк изобразил две поблекшие фрески. Они изображают дочь фараона, которой рабыня принесла выловленную в Ниле корзину с младенцем Моисеем, и взрослого Моисея, стоящего перед Богом. Они выполнены в стиле ХII–ХIII вв., который в эпоху ван Эйка воспринимался как архаичный. Потому и служанка, и Моисей, на старинный манер, держат в руках свитки: со словами принцессы «это из еврейских детей» (Исх. 2:6) и с третьей заповедью «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7; Втор. 5:11).
33 а, б Ян ван Эйк. Благовещение (фрагмент), ок. 1434–1436 гг. Washington. National Gallery of Art. № 1937.1.39.
Слова архангела «Радуйся, Благодатная» написаны слева направо, а ответ Марии «Се, Раба Господня» — справа налево, поскольку исходит из ее уст, а она стоит справа. Буквы вдобавок перевернуты по вертикальной оси и смотрят вверх — в сторону Святого Духа, который спускается к ней из окна в золотых лучах. Дева Мария встречает архангела не у себя дома, а в церкви, которая символизирует Церковь — Невесту Христову. Выше, под сводами, ван Эйк изобразил две поблекшие фрески. Они изображают дочь фараона, которой рабыня принесла выловленную в Ниле корзину с младенцем Моисеем, и взрослого Моисея, стоящего перед Богом. Они выполнены в стиле ХII–ХIII вв., который в эпоху ван Эйка воспринимался как архаичный. Потому и служанка, и Моисей, на старинный манер, держат в руках свитки: со словами принцессы «это из еврейских детей» (Исх. 2:6) и с третьей заповедью «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7; Втор. 5:11).
 34 Фра Беато Анджелико. Благовещение, ок. 1435 г. Cortona. Museo Diocesano.
Между архангелом Гавриилом и Девой Марией по фону идут золотые буквы, которые «прерываются» колонной, расположенной на равном расстоянии от обеих фигур. Слова Гавриила «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35) разделены на две строки, которые читаются слева направо. А между ними помещен ответ Девы: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Как и у ван Эйка, он написан справа налево и перевернут по вертикальной оси — к Святому Духу, который парит над головой Марии, и к фигуре Бога-Отца, изображенной (как рельеф) над колонной.
34 Фра Беато Анджелико. Благовещение, ок. 1435 г. Cortona. Museo Diocesano.
Между архангелом Гавриилом и Девой Марией по фону идут золотые буквы, которые «прерываются» колонной, расположенной на равном расстоянии от обеих фигур. Слова Гавриила «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35) разделены на две строки, которые читаются слева направо. А между ними помещен ответ Девы: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Как и у ван Эйка, он написан справа налево и перевернут по вертикальной оси — к Святому Духу, который парит над головой Марии, и к фигуре Бога-Отца, изображенной (как рельеф) над колонной.
Золотые буквы, летящие в сторону Девы, напоминают лучи, в которых на тех же изображениях к ней спускается Святой Дух, а порой и крошечный младенец, символизирующий душу Иисуса. (В середине XV в. архиепископ Флоренции Антонин Пьероцци раскритиковал Благовещения, где к Марии устремляется человеческая фигурка, за то, что они якобы ставят под сомнение догмат о боговоплощении.
 35 Николай де Лира. Буквальный комментарий на книги Иеремии, Даниила, Маккавеев и Иудифи. Фрайбург-им-Брайсгау, 1393 г. Basel. Universitätsbibliothek. Ms. АII 5. Fol. 3.
Господь повелевает пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо» (Иер. 27:2). Надпись для зрителя перевернута, поскольку обращена не к нему, а к пророку.
35 Николай де Лира. Буквальный комментарий на книги Иеремии, Даниила, Маккавеев и Иудифи. Фрайбург-им-Брайсгау, 1393 г. Basel. Universitätsbibliothek. Ms. АII 5. Fol. 3.
Господь повелевает пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо» (Иер. 27:2). Надпись для зрителя перевернута, поскольку обращена не к нему, а к пророку.
Ведь в соответствии с католической доктриной, Иисус был зачат непорочно, но развивался в утробе матери как обычный ребенок, а, глядя на такой образ, можно было решить, что он прилетел к Марии в «готовом» виде, а не сформировался в ее утробе)[30] [31]. [Дорой реплики Гавриила и Девы Марии запечатлевали на различных предметах (книгах, нимбах, одеяниях, табличках), которые изображались в кадре [32]. На «Благовещении», написанном Амброджо Лоренцетти в 1344 г., слова архангела «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37) устремлены по золоту фона от его уст. А смиренный ответ Марии «се, раба Господня» (Лк. 1:38) начертан на ее нимбе[31]. На «Благовещении» (1333) Симоне Мартини первые слова архангельского приветствия тоже устремлены по фону к Марии, а продолжение «вышито» на золотой кайме его одеяния[32]. На другом его изображении (1342) Иосиф и Мария находят двенадцатилетнего Иисуса, который потерялся, когда они пришли в Иерусалим на Пасху, и как потом оказалось, поразил еврейских учителей в храме своей мудростью. Слова обеспокоенной матери «Чадо! что Ты сделал с нами?» (Лк. 2:48) написаны на страницах раскрытой книги, которая лежит у нее на коленях[33]. Историки давно обратили внимание на необычную деталь: на некоторых образах Благовещения — например, у Яна ван Эйка [33 а, б] и фра Беато Анджелико [34] — ответ Девы Марии написан не слева направо, а справа налево. Более того, буквы перевернуты по вертикальной оси[34]. А потому зрителю, чтобы их нормально прочитать, пришлось бы невозможным образом вывернуть голову. Скорее всего, разворачивая слова вверх, художники напоминали о том, что те были обращены в небеса, к Богу, который избрал Марию своей невестой и отправил к ней вестника — Гавриила. Однако это не какое-то уникальное решение, специально придуманное для того, чтобы показать разговор человека и Бога. В средневековой иконографии реплики часто бывают повернуты не к зрителю, а к тому персонажу, который должен их услышать/прочесть [35]. Просто здесь адресат находится на небесах.
«Вещь, выдуманная шутки ради»
Свитки с репликами — несложный прием, позволявший персонажам обрести голос. Он требовался для того, чтобы разъяснить зрителю смысл той сцены, которая разворачивается на его глазах, и как можно яснее донести заложенное в нее послание. Чем дидактичнее образ, тем больше он нуждается в тексте. Потому, к примеру, в Позднее Средневековье на изображениях Страшного суда, которые были призваны через страх адских мук привести к покаянию и выстроить перед взором верующих четкую классификацию пороков и положенных за них наказаний, грехи почти всегда подписаны: «гордецы», «алчные», «прелюбодеи», «еретики» и т. д.[35] В религиозной иконографии такие «этикетки» и реплики персонажей были вездесущи. Тем не менее в XIV–XV вв., как мы только что видели, некоторые итальянские и северные, прежде всего фламандские, художники начали отказываться от свитков, заменяя их на полупрозрачный текст, бегущий прямо по фону. А со временем и вовсе перестали «озвучивать» своих персонажей. К XVI в. реплики, записанные внутри образа, стали восприниматься как нечто архаичное и несовместимое с задачами подлинного искусства, у которого для передачи мыслей, чувств и слов, как считалось, есть свой язык — мимика, позы и жесты. Щадим слово Джорджо Вазари — живописцу, архитектору и, главное, одному из «отцов» ново-европейской истории искусства. В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (первое издание вышло в 1550 г.) он ошибочно приписал изобретение свитков с репликами флорентийскому живописцу Чимабуэ (ок. 1240–1302). По словам Вазари, «в церкви св. Франциска в Пизе… рукой Чимабуэ выполнен во дворе в углу возле двери, ведущей в церковь, небольшой образ, на котором изображен темперой Христос на кресте, окруженный несколькими ангелами, которые, плача, держат в руках несколько слов, написанных вокруг головы Христа, и подносят их к ушам плачущей Богоматери, стоящей с правой стороны, а с другой стороны св. Иоанну евангелисту, который стоит слева полный скорби. А к Богоматери обращены следующие слова: Mutier, ессеfiliustuus [«Жено, се Сын Твой»], а к св. Иоанну: irre mater tua [«Се, Матерь твоя»], слова же, которые держит в руках еще один ангел, стоящий в стороне, гласят: Ex ilia horn accepit earn discipulus in mam [«С того часа принял его своим учеником»]. При этом следует заметить, что Чимабуэ первым осветил и открыл путь для этого изобретения, помогающего искусству словами для выражения смысла, что несомненно было вещью замысловатой и новой»[36]. Однако в биографии другого художника, Буонамико Буффальмакко (ок. 1262–1340), Вазари раскритиковал свитки с репликами как низкопробный прием, не достойный истинного мастера.
Расписывая стены аббатства Сан-Паоло-а-Рипа-д'Арно в Пизе, Буффальмакко изобразил мученичество св. Анастасии и «очень хорошо выразил на лицах страх смерти, горе и ужас тех, которые видят, как она мучается и умирает, привязанная к дереву над огнем. Сотоварищем Буонамико в этой работе был живописец Бруно ди Джованни, именуемый так в старой книге Сообщества; Бруно этот, прославленный тем же Боккаччо как человек веселый, закончил на стенах названные истории и написал в той же церкви алтарный образ св. Урсулы, сопровождаемой девами… Выполняя эту работу, Бруно жаловался на то, что его фигуры не были такими живыми, как фигуры Буонамико; Буонамико же, будучи шутником, обещал научить его сделать фигуры не только живыми, но даже говорящими и велел ему написать несколько слов, выходящих из уст женщины, предающейся покровительству святой, а также и ответ святой, как Буонамико видел это в работах Чимабуэ, выполненных в том же городе. Это понравилось и Бруно, и другим глупым людям того времени, нравится также и теперь некоторым простакам, которых обслуживают художники из простонародья, откуда они и сами происходят. И поистине кажется удивительным делом, что отсюда повелась и вошла в обычай такая вещь, выдуманная шутки ради, а не для чего-либо иного; впрочем, и большая часть Кампо Санто, расписанного прославленными мастерами, полна таких глупостей»[37]. Само собой, реплики персонажей появились в средневековом искусстве задолго до Чимабуэ и Буффальмако — тут Вазари заблуждается или идет на поводу у красивого анекдота. Но для нас важно не это, а то, почему в его времена свитки уже казались такой архаикой. Чтобы объяснить, почему это произошло, нужно отступить на несколько шагов назад и поговорить о том, как был устроен средневековый образ. Средневековое искусство было многолико, и, когда мы говорим о нем в единственном числе, — это, конечно, уже колоссальное упрощение. Ирландские или англосаксонские Евангелия, украшенные хитрыми плетеными орнаментами и хищными монстрами, совсем не похожи на испанские Апокалипсисы с их контрастными цветными полосами и агрессивным экспрессионизмом фигур, а те — на торжественные Евангелия с золотыми страницами, создававшиеся на рубеже X–XI вв. для императоров из германской династии Оттонов. Изысканно-манерный стиль парижских мастеров, трудившихся в XIV в. на королевских заказах, очень далек от суровой, часто примитивной, простоты, отличавшей творения художников откуда-нибудь из альпийских долин или северных скандинавских окраин. Однако если забыть о деталях и сравнить большинство изображений, созданных до XIII в., скажем, с помпейскими фресками, мы быстро поймем, в чем состоит различие. Порвав с античным наследием, средневековые художники постепенно отказались от иллюзионистского подражания природе, трехмерного пространства, светотеневой моделировки фигур и других приемов, призванных передать на плоскости живой визуальный опыт[38]. Вместо пейзажа или интерьера действие часто переносится на условный (одноцветный или орнаментальный) фон, на котором «парят» персонажи. Различные сцены распределяются по разноцветным полосам, геометрическим или архитектурным рамкам, так что изображение порой напоминает сложную диаграмму. Размер фигур во многих случаях зависит не от их естественных габаритов или от того, расположены ли они ближе или дальше от зрителя, а от их положения в иерархии: более значимые персонажи изображаются намного выше второстепенных… Если формулировать предельно кратко, средневековые художники — прежде всего, в сакральных сюжетах — не ставили перед собой цели изобразить вещи такими, как они предстают перед взором. Их главная миссия состояла в том, чтобы зафиксировать их символическое значение, место в земной и божественной иерархии или роль в истории спасения. Образ должен был наставлять в вере или морали и стремился к дидактической ясности. Для этого в иконографии применялось множество метаэлементов, которые указывали на статус персонажей и разъясняли смысл происходящего. Некоторые из них существовали только для зрителя, а персонажи на изображении их как будто не замечали. Самый простой пример — нимбы, знак святости, который позволял отделить фигуры, которым следует молиться, от всех остальных. Таким же метаэлементом были и свитки, которые материализовали речь. Глядя на изображение, где Гавриил с нимбом протягивает Деве Марии свиток, средневековый зритель, вероятно, должен был понимать, что сияние славы не обязательно выглядит как золотой диск и что приветствие архангела вовсе не было ей предъявлено в письменном виде. В XIV–XV вв. итальянские, а потом и северные (французские, фламандские, немецкие) художники-новаторы стали уходить от средневековой концепции образа-схемы и возвращаться к иллюзионизму, трехмерности и представлению об образе как окне, в которое глядит зритель. И многие из метаэлементов, которые уже столько столетий применялись в церковной иконографии, стали восприниматься как досадная помеха. Они заслоняли часть пейзажа или интерьера и вообще были слишком искусственны. Конечно, даже самые радикальные новаторы XV в., фламандцы, полностью не отказались от свитков. Например, на «Гентском алтаре» Яна ван Эйка над головами пророков Захарии и Михея, а также Кумской и Эритрейской сивилл, которые изображены над сценой Благовещения, в воздухе парят тяжелые пергаменные ленты с их пророчествами о Боговоплощении. Однако важно, что еврейские пророки и языческие предсказательницы предстают не в каком-то реалистичном пространстве, где свитки могли показаться уже неуместными, а в тесных нишах — словно раскрашенные статуи, изображения внутри изображения[39]. И ван Эйк, и другие фламандские художники продолжали «озвучивать» своих персонажей. Однако стали делать это намного реже — особенно по сравнению с немецкими мастерами, которые еще долго хранили верность средневековым приемам. На своих алтарных панелях фламандцы порой применяли реплики, но только там, где они имели особое религиозное значение, как слова архангела и Марии в сцене Благовещения или слова Христа-Судии на изображениях Страшного суда [36]. и обычно они пытались написать их так, чтобы те не отвлекали зрителя от самих фигур и не заслоняли пространство позади них. Кроме того, фламандцы часто стремились дать подписям-репликам какое-то реалистическое «обоснование», записывая их на различных предметах (книгах, одеяниях, табличках), помещенных в кадр. Наконец, на многих образах текст, который их комментирует или разъясняет, вытеснен на раму — вне изображенного внутри мира. Как фламандцы обходились с подписями там, где они требовались в дидактических целях, хорошо видно на полиптихе Страшного суда, созданном Рогиром ван дер Вейденом в 1445–1450 гг. Он был заказан для госпиталя, основанного в Боне бургундским канцлером Николя Роленом. На центральной панели от фигуры Судии расходятся две изогнутые надписи. По его правую руку белыми буквами начертано обращение к праведникам: «…приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). По левую темно-красным выведено проклятие, адресованное грешникам: «…идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом слова «приидите, благословенные…», хотя и принадлежат Христу, написаны слева направо и поднимаются к нему вверх, а «идите… проклятые», напротив, нисходят вниз в сторону самих грешников, которых он отправляет в ад. На плащах Судии и Иоанна Крестителя по кайме псевдоеврейскими буквами «вышиты» нечитаемые псевдотексты, а на плаще апостола Павла — латинские фразы, которые похожи на Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…»[40]. В «высоком» искусстве XVI в. реплики персонажей, записанные на свитках или бегущие по фону, почти вышли из оборота. В Италии они исчезли раньше, в Германии позже, какие-то художники время от времени возвращались к этому средневековому приему, но в целом на него смотрели свысока и стали считать отжившей архаикой.
 36 Рогир ван дер Вейден. Алтарь семи таинств, ок. 1440–1445 гг. Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone Künsten. № 393-395.
Богословская «инфографика» — ангелы с парящими свитками. На правой панели триптиха изображены три из семи католических таинств. Слева епископ рукополагает в священники, в центре заключается брак, а справа происходит елеосвящение тяжело больного или умирающего.
36 Рогир ван дер Вейден. Алтарь семи таинств, ок. 1440–1445 гг. Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone Künsten. № 393-395.
Богословская «инфографика» — ангелы с парящими свитками. На правой панели триптиха изображены три из семи католических таинств. Слева епископ рукополагает в священники, в центре заключается брак, а справа происходит елеосвящение тяжело больного или умирающего.
 37 Александр Воет. Портрет Марка д'Авиано, 1681 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1909-4571.
37 Александр Воет. Портрет Марка д'Авиано, 1681 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1909-4571.
Однако в более прикладных и, главное, дидактичных жанрах — например, наблагочестивых гравюрах, наставлявших паству, во что ей следует верить и как подобает жить, подписи никуда не исчезли. Например, на гравюре, выпущенной в 1681 г. в Антверпене, мы видим итальянского монаха-капуцина Марко д'Авиано, молящегося перед распятием. В лучах, которые идут от его уст к лику Христа, запечатлено его обращение к Спасителю и Его Матери: «Iesus Maria»[41] [37]. Реплики и подписи, идентифицировавшие персонажей, были вездесущи на иллюстрациях к полемическим памфлетам и на сатирических летучих листках[42]. В эпоху религиозного противостояния между протестантами и католиками обе стороны активно использовали карикатуру для изобличения противника. И без «звучащих текстов» там было не обойтись. В визуальной сатире Раннего Нового времени тяжелые, словно пергаменные, свитки, какие применяли в Средневековье, постепенно были заменены на парящие ленты, эфемерные облачка и другие фигуры [38]. Они вовсе не напоминали реальный предмет и сразу же говорили зрителю, что перед ним лишь условная рамка для текста. Оттуда «бабблы» со временем перекочевали в газетную карикатуру и на страницы комиксов, какими мы их знаем сегодня.
 38 Джеймс Гилрей. Хромой дьявол везет Джона Булля в Землю обетованную, 1806 г. London. British Museum. № 1868,0808,7414.
Перед нами карикатура на новое правительство Британии, которое было сформировано в 1806 г. Министр иностранных дел Чарльз Джеймс Фокс в облике черта обещает Джону Буллю, собирательному образу англичанина, привести его в Землю обетованную. Фокс, известный своими симпатиями к Французской революции, изображен во фригийском колпаке, выкрашенном в триколор. За его плащ с надписью «верность, независимость и общественное благо» уцепился толстяк Булль. Реплики персонажей написаны в двух «облачках», исходящих из их уст: «Давай, Джонни! Цепляйся покрепче к моему плащу, и я отнесу тебя в Землю молока и меда»; «Да, я буду держаться, но чертовски боюсь, что твой плащ может оторваться до того, как мы туда доберемся, а я сломаю себе шею».
38 Джеймс Гилрей. Хромой дьявол везет Джона Булля в Землю обетованную, 1806 г. London. British Museum. № 1868,0808,7414.
Перед нами карикатура на новое правительство Британии, которое было сформировано в 1806 г. Министр иностранных дел Чарльз Джеймс Фокс в облике черта обещает Джону Буллю, собирательному образу англичанина, привести его в Землю обетованную. Фокс, известный своими симпатиями к Французской революции, изображен во фригийском колпаке, выкрашенном в триколор. За его плащ с надписью «верность, независимость и общественное благо» уцепился толстяк Булль. Реплики персонажей написаны в двух «облачках», исходящих из их уст: «Давай, Джонни! Цепляйся покрепче к моему плащу, и я отнесу тебя в Землю молока и меда»; «Да, я буду держаться, но чертовски боюсь, что твой плащ может оторваться до того, как мы туда доберемся, а я сломаю себе шею».
 тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
тол. За ним двое апостолов, которые указывают вверх на фигуру Христа, исчезающего в облаке. Между ними в воздухе скрестились белые свитки [11]. Это иллюстрация к евангельской истории о том, как воскресший Христос предстал перед двумя учениками по дороге в селение Эммаус, но они его не узнали. Дело было к вечеру, и они позвали его переночевать на том же постоялом дворе, где собирались остановиться. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание (Лк. 24:30-32). Хотя в евангельском тексте нет ни слова о том, что Христос в Эммаусе вознесся на небеса, его исчезновение на этой миниатюре предстает именно как вознесение. А разговор апостолов между собой — как скрещение пергаменных лент, которые, словно не зная о силе тяжести, устремляются вверх. Здесь они оставлены пустыми. Однако на тысячах других средневековых изображений на таких лентах (по-английски их принято называть speech scrolls, по-французски — phylactères или banderoles, а по-немецки — Spruchband) приводятся короткие, а порой и пространные реплики. Благодаря им персонажи обращаются друг к другу, а в конечном счете к их главному собеседнику — зрителю.
Святой изгоняет демонов
Этот прием нам сегодня прекрасно знаком. В современных комиксах и графических романах персонажи переговариваются друг с другом с помощью реплик, записанных в «облачках» («бабблах», «баллонах») разных форм. Обычно они исходят из уст говорящих и парят в воздухе рядом с ними. С помощью таких «облачков» можно передать не только речь, но и внутренний монолог персонажей. Глядя на белые контуры, заполненные буквами, зритель тотчас же понимает, что перед ним не какой-то реальный предмет, существующий в изображенном мире, а условный знак — своего рода доска для записи. Иcтoрия «бабблов» начинается в Средневековье, когда образ и текст, видимо, переплетались теснее, чем в искусстве Античности или Возрождения. На средневековых мозаиках, фресках, алтарных панелях и особенно книжных миниатюрах в визуальное пространство встраивается множество разных подписей. Одни слова плывут по фону вокруг персонажей, другие начертаны на различных предметах: страницах книг, развернутых свитках, нимбах святых, полах одежд, — которые изображены в кадре. Буквы вплетаются в образ, но и образы часто помещают внутрь букв. Инициалы заключают фигуры (от ветхозаветных пророков и христианских святых до звероподобных демонов и фантастических гибридов) и целые сцены, а порой сами буквы складываются из сплетенных или гротескно изогнутых человеческих или звериных тел[14]. Тексты, вписанные внутрь изображения, играли много разных ролей. Самый простой пример — это подписи, которые принято называть tituli: «святой Мартин», «Вельзевул», «слоны», «огонь с небес». Они идентифицировали персонажей и значимые для сюжета предметы либо кратко описывали происходящее — «святой изгоняет демонов» или «он убегает» [12,13].

Часто без них, действительно, трудно понять, кто и что перед нами. В отсутствие подписей многих ветхозаветных праотцов или христианских святых было не отличить друг от друга, а сложные богословские схемы явно требовали разъяснения даже для искушенного клирика. Однако нередко подписи лишь дублировали визуальное послание и были на практике бесполезны. Грамотный, то есть подкованный в книжной премудрости, читатель/зритель и так мог понять, что перед ним, скажем, «осел» или «дьявол», а неграмотный — без помощи наставника и переводчика с латыни — был не в состоянии прочесть tituli[15]. Подписи, идентифицировавшие персонажей, были особо важны на иллюстрациях к сакральным сюжетам (ведь святых не должно путать с обычными людьми и тем более с грешниками) и на различных культовых образах. Стремясь обезопасить свою паству от идолопоклонства, суеверий, ересей и прочих духовных опасностей, клирики настаивали на том, что верующие должны твердо знать, к кому обращают свои молитвы, а образы, которые надлежит почитать, должны быть четко отделены от тех, которые не имеют на это права[16]. конце VIII в. епископ Теодульф Орлеанский, придворный франкского короля Карла Великого, составил трактат, известный как «Каролингские книги». В эпоху, когда в Византийской империи кипели споры о культе икон, Теодульф стремился проложить средний путь между иконопочитанием и иконоборчеством.

Он признавал пользу сакральных образов, но — риторически сгущая краски — предостерегал, что изображение может легко ввести в заблуждение. Если под фигурой прекрасной женщины нет подписи, то как понять, кто это: Богоматерь или Венера? Увидев скульптуру девицы, держащей на руках младенца, как без помощи текста определить, кто имеется в виду: Мария с Иисусом, Сара с Исааком, Ревекка с Иаковом, Елисавета с Иоанном, либо Венера с Энеем, Алкмена с Гераклом или Андромаха с Астианактом?[17] Tituli компенсировали опасную неопределенность, заложенную в саму природу визуального, и должны были гарантировать, что молитва, устремленная к христианскому образу, на деле не отправится к языческому божеству или какому-то ангелу с загадочным именем, который на деле окажется бесом. Нередко подписи не просто описывали изображение, а указывали, как его следует толковать. На фасаде маленькой церкви в Пон-л'Аббе-д'Арну (XI в.) на юго-западе Франции рядом с фигурой агнца вырезаны слова: «Здесь мистический агнец означает великого Господа». На тимпане церкви Сан-Мигель в Эстелье (Наварра, Испания) и на множестве других средневековых изображений повторялась формула, принадлежащая французскому агиографу и хронисту Бальдерику из Бургёя (ум. в 1130 г.): «NecDeus est пес homo presens quam cemis imago set Deus est et homo quem sacra figurât imago» («Образ, который ты зришь, не Бог и не человек, но сей священный образ означает Бога и человека»). Эти слова напоминали о том, что образ (скажем, фигуру Христа) не следует отождествлять с его прообразом (самим Христом), и что молиться подобает не самим статуям или иконам (ведь это было бы идолопоклонство), а тем небесным персонам, которых они олицетворяют[18]. Многие изображения с помощью подписей обращались к зрителю, например, призывая его к покаянию. Так, над вратами аббатства Сент-Фуа в Конке (Франция) в начале XII в. была вырезана колоссальная сцена Страшного суда. По ее нижнему краю идет длинная надпись, адресованная к тем, кто под ней входил в церковь: «О, грешники, если вы не исправите свои нравы, в будущем ждет вас жестокий суд»[19].
Свитки и кодексы
В средневековой иконографии множество персонажей держит в руках развернутые свитки либо открытые или закрытые кодексы. При этом свиток — древняя форма книги, которая в постантичные времена почти ушла в прошлое, — чаще всего ассоциировался с древним еврейским законом, а кодекс, привычная нам форма книги из сшитых тетрадей пергамена, — с новым христианским учением. Потому со свитками привыкли изображать ветхозаветных пророков, а с кодексами — апостолов, евангелистов или отцов церкви [14–16]. В руках Исайи, Иеремии или Иезекииля свитки олицетворяли сам текст Писания.

Обычно на них записывали несколько слов или строк, которые напоминали о сути пророчеств и отсылали к остальному тексту. Но часто свитки оставляли пустыми. Увидев бородатого мужа с пергаменной лентой в руках, зритель и так мог понять, что перед ним человек, через которого говорит сам Господь [17]. В конце XIII в. Гильом Дюран, автор колоссального трактата по литургике и церковной символике под названием «Rationale divinorum officiorum», объяснял, что свитки символизируют несовершенное знание — ведь во времена ветхозаветных пророков, до воплощения Христа, откровение было неполным.



Тех апостолов, которые, подобно Павлу, Петру, Иакову и Иуде Фаддею, оставили после себя сочинения, признаные Церковью как подлинные, он предписывал изображать с кодексами — символом совершенного учения. А тех, кто свидетельствовал о Христе, но не запечатлел своих слов в текстах, — со свитками, в напоминание об их проповеди[20]. В толковании Гильома Дюрана свиток ассоциируется с неполнотой Ветхого Завета, а кодекс — с совершенством Нового. Но одновременно кодекс означает письменный текст, а свиток — устное слово. Это хорошо видно на многих изображениях евангелистов, где Слово Божье, которое звучит с небес, запечатлевается на страницах. Матфей, Марк, Лука и Иоанн записывают в книгу то, что им диктует их символ (человек или ангел, лев, телец и орел), держащий в руках или лапах свиток[21] [18].

Говорящие ленты
Cвитки, которые держали в руках Исайя, Иеремия или Иезекииль, олицетворяли ветхозаветный текст, в котором были запечатлены их предсказания. Если на одной миниатюре стояло несколько пророков с пергаменными лентами, вряд ли кто-то подразумевал, что они обращают эти слова друг к другу — только к зрителю.

Однако в какой-то момент в западной иконографии появились изображения, на которых точно такие же свитки, а порой и кодексы стали использовать для того, чтобы передать взаимодействие персонажей и их устную речь. В этом случае свиток — уже не изображение книги, а условный знак, позволяющий зрителю услышать, что говорится в кадре. Конечно, такие реплики тоже часто заимствовались из Священного Писания. Однако speech scrolls могли появиться утех персонажей, которые не писали никаких книг, или в сюжетах, где книги явно не подразумевались [19]. Когда именно появились такие «говорящие» свитки, сказать сложно. Но один из древнейших примеров можно увидеть в «Изложении Шестикнижия» — древнеанглийском переложении первых шести книг Ветхого Завета, выполненном под руководством Эльфрика Грамматика (ум. ок. 1010 г.)[22] [20].

Первые средневековые «бабблы» обычно выглядят как настоящие свитки — их требуется держать в руках, они накручиваются на центральный валик и под силой тяжести прогибаются вниз [21, 22]. Однако позже художники стали все чаще отходить от физического правдоподобия — это позволяло сразу же показать, что перед нами не реальный предмет, а форма для записи речи.

Они рисовали свитки, которые, словно забыв о своей материальности, устремлялись из рук говорящего не вниз, а вверх или к тому, кто должен был услышать записанные на них реплики; как в современном комиксе исходили из уст оратора или закручивались в сложный узор над его головой [23, 24]. Порой вместо свитков реплики записывались в прямоугольниках, квадратах или каких-то еще геометрических рамках, словно приклеенных к фону рядом с фигурой говорящего, и уже совсем не похожих на книги. Свитки материализуют речь и в то же время сами оказываются материальны. Например, стремясь показать коммуникацию между двумя персонажами, средневековые мастера порой рисовали, как слушатель держит кончик свитка, который тянется от говорящего. Точно так же в сцене, где, например, граф или герцог передает монастырю в дар какие-то земли, можно увидеть, как из его рук в руки аббата разворачивается дарственная хартия[23].





В первом случае лента означает устную речь, во втором — документ на пергамене, но изображаются они одинаково. Во время диалога или спора свитки его участников часто перекрещиваются или несколько раз переплетаются в воздухе, а порой их реплики вовсе записываются на разных сторонах одной ленты[24] [25]. Порой адресат сообщения даже дописывает его, тем самым откликаясь на обращение. В Часослове, созданном в конце XIV в. для герцогини Маргариты Клевской, заказчица стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях Младенца. Из сложенных ладоней герцогини к юному Спасителю разворачивается свиток, на котором записан фрагмент молитвы «Отче наш»: «Да приидет царствие Твое». А Младенец на конце свитка дописывает следующее слово fiat — «да будет»[25]. На speech scrolls, конечно, писались не только реплики, обращенные одним персонажем к другому, но и послания, прямо адресованные зрителю. В Псалтири, изготовленной в конце XIII в. для французского сеньора Жоффруа д'Аспремона, на полях нарисован калека. Он держит в руках длинную ленту со словами: «Nicholaus теfecit qui illuminât librum» («Меня создал Николя, который иллюминировал эту книгу»)[26] [26].

Свитки придавали речи торжественность. Однако и в комичных зарисовках на полях рукописей [27], и на «инфографических» иллюстрациях, где рядом с фигурами требовалось уместить большие объемы текста [28], а порой и в сакральных сюжетах реплики могли пускать по фону, без всякого обрамления — как было принято в византийском искусстве[27]. В Апокалипсисе с толкованием францисканца Александра Бременского (ум. в 1271 г.) реплики персонажей, заимствованные из самого текста Откровения, приводятся на свитках, а краткие tituli и комментарии, раскрывающие значение апокалиптических образов, даются по фону.

На одной из иллюстраций к 13-й главе Откровения над изображением двурогого зверя подписано «зверь, выходящий из земли и имеющий рога, подобные агнчим, — это Магомет», а справа от руки одного из воинов, который готовится отрубить голову человеку, идет свиток с цитатой: «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15)[28].
Диалог с архангелом
Наверное, слова, которые чаще всего «звучали» в христианской иконографии, — это краткий диалог между Девой Марией и архангелом Гавриилом, который приводится в Евангелии от Луки (1:28–38). Прилетев в ее дом, чтобы возвестить, что она станет Матерью Бога, небесный вестник начал с приветствия: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» — «Ave gratia plena, Dominus tecum, beneâicta tu in mulieribus» (эти слова открывают одну из важнейших католических молитв — Ave Maria).

Затем Гавриил изложил ей суть своего послания: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца».

Выслушав слова архангела, Мария смиренно приняла оказанную ей честь: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» («Ессе ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»). Многие христианские богословы полагали, что непорочное зачатие произошло как раз в тот момент, когда архангел, войдя в дом Марии, произнес приветствие «Радуйся, благодатная…», или когда она приняла возложенную на нее миссию: «Да будет Мне по слову твоему»[29].

В этот миг предвечное Слово, вторая ипостась Троицы, «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:1, 14). Нa многих средневековых изображениях Благовещения слова Гавриила, а порой и ответ Марии приводятся на свитках, которые разворачиваются из их рук или уст. При этом иногда, чтобы показать роль архангельских слов в «механизме» боговоплощения, его лента прикасается к Деве Марии или встречается в воздухе с голубем — Святым Духом, от которого она зачала [29, 30]. в XIV–XV вв. у итальянских, а позже фламандских и других северных художников эти реплики, без всяких свитков, часто пишутся прямо по фону.




Золотые буквы, летящие в сторону Девы, напоминают лучи, в которых на тех же изображениях к ней спускается Святой Дух, а порой и крошечный младенец, символизирующий душу Иисуса. (В середине XV в. архиепископ Флоренции Антонин Пьероцци раскритиковал Благовещения, где к Марии устремляется человеческая фигурка, за то, что они якобы ставят под сомнение догмат о боговоплощении.

Ведь в соответствии с католической доктриной, Иисус был зачат непорочно, но развивался в утробе матери как обычный ребенок, а, глядя на такой образ, можно было решить, что он прилетел к Марии в «готовом» виде, а не сформировался в ее утробе)[30] [31]. [Дорой реплики Гавриила и Девы Марии запечатлевали на различных предметах (книгах, нимбах, одеяниях, табличках), которые изображались в кадре [32]. На «Благовещении», написанном Амброджо Лоренцетти в 1344 г., слова архангела «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37) устремлены по золоту фона от его уст. А смиренный ответ Марии «се, раба Господня» (Лк. 1:38) начертан на ее нимбе[31]. На «Благовещении» (1333) Симоне Мартини первые слова архангельского приветствия тоже устремлены по фону к Марии, а продолжение «вышито» на золотой кайме его одеяния[32]. На другом его изображении (1342) Иосиф и Мария находят двенадцатилетнего Иисуса, который потерялся, когда они пришли в Иерусалим на Пасху, и как потом оказалось, поразил еврейских учителей в храме своей мудростью. Слова обеспокоенной матери «Чадо! что Ты сделал с нами?» (Лк. 2:48) написаны на страницах раскрытой книги, которая лежит у нее на коленях[33]. Историки давно обратили внимание на необычную деталь: на некоторых образах Благовещения — например, у Яна ван Эйка [33 а, б] и фра Беато Анджелико [34] — ответ Девы Марии написан не слева направо, а справа налево. Более того, буквы перевернуты по вертикальной оси[34]. А потому зрителю, чтобы их нормально прочитать, пришлось бы невозможным образом вывернуть голову. Скорее всего, разворачивая слова вверх, художники напоминали о том, что те были обращены в небеса, к Богу, который избрал Марию своей невестой и отправил к ней вестника — Гавриила. Однако это не какое-то уникальное решение, специально придуманное для того, чтобы показать разговор человека и Бога. В средневековой иконографии реплики часто бывают повернуты не к зрителю, а к тому персонажу, который должен их услышать/прочесть [35]. Просто здесь адресат находится на небесах.
«Вещь, выдуманная шутки ради»
Свитки с репликами — несложный прием, позволявший персонажам обрести голос. Он требовался для того, чтобы разъяснить зрителю смысл той сцены, которая разворачивается на его глазах, и как можно яснее донести заложенное в нее послание. Чем дидактичнее образ, тем больше он нуждается в тексте. Потому, к примеру, в Позднее Средневековье на изображениях Страшного суда, которые были призваны через страх адских мук привести к покаянию и выстроить перед взором верующих четкую классификацию пороков и положенных за них наказаний, грехи почти всегда подписаны: «гордецы», «алчные», «прелюбодеи», «еретики» и т. д.[35] В религиозной иконографии такие «этикетки» и реплики персонажей были вездесущи. Тем не менее в XIV–XV вв., как мы только что видели, некоторые итальянские и северные, прежде всего фламандские, художники начали отказываться от свитков, заменяя их на полупрозрачный текст, бегущий прямо по фону. А со временем и вовсе перестали «озвучивать» своих персонажей. К XVI в. реплики, записанные внутри образа, стали восприниматься как нечто архаичное и несовместимое с задачами подлинного искусства, у которого для передачи мыслей, чувств и слов, как считалось, есть свой язык — мимика, позы и жесты. Щадим слово Джорджо Вазари — живописцу, архитектору и, главное, одному из «отцов» ново-европейской истории искусства. В «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (первое издание вышло в 1550 г.) он ошибочно приписал изобретение свитков с репликами флорентийскому живописцу Чимабуэ (ок. 1240–1302). По словам Вазари, «в церкви св. Франциска в Пизе… рукой Чимабуэ выполнен во дворе в углу возле двери, ведущей в церковь, небольшой образ, на котором изображен темперой Христос на кресте, окруженный несколькими ангелами, которые, плача, держат в руках несколько слов, написанных вокруг головы Христа, и подносят их к ушам плачущей Богоматери, стоящей с правой стороны, а с другой стороны св. Иоанну евангелисту, который стоит слева полный скорби. А к Богоматери обращены следующие слова: Mutier, ессеfiliustuus [«Жено, се Сын Твой»], а к св. Иоанну: irre mater tua [«Се, Матерь твоя»], слова же, которые держит в руках еще один ангел, стоящий в стороне, гласят: Ex ilia horn accepit earn discipulus in mam [«С того часа принял его своим учеником»]. При этом следует заметить, что Чимабуэ первым осветил и открыл путь для этого изобретения, помогающего искусству словами для выражения смысла, что несомненно было вещью замысловатой и новой»[36]. Однако в биографии другого художника, Буонамико Буффальмакко (ок. 1262–1340), Вазари раскритиковал свитки с репликами как низкопробный прием, не достойный истинного мастера.
Расписывая стены аббатства Сан-Паоло-а-Рипа-д'Арно в Пизе, Буффальмакко изобразил мученичество св. Анастасии и «очень хорошо выразил на лицах страх смерти, горе и ужас тех, которые видят, как она мучается и умирает, привязанная к дереву над огнем. Сотоварищем Буонамико в этой работе был живописец Бруно ди Джованни, именуемый так в старой книге Сообщества; Бруно этот, прославленный тем же Боккаччо как человек веселый, закончил на стенах названные истории и написал в той же церкви алтарный образ св. Урсулы, сопровождаемой девами… Выполняя эту работу, Бруно жаловался на то, что его фигуры не были такими живыми, как фигуры Буонамико; Буонамико же, будучи шутником, обещал научить его сделать фигуры не только живыми, но даже говорящими и велел ему написать несколько слов, выходящих из уст женщины, предающейся покровительству святой, а также и ответ святой, как Буонамико видел это в работах Чимабуэ, выполненных в том же городе. Это понравилось и Бруно, и другим глупым людям того времени, нравится также и теперь некоторым простакам, которых обслуживают художники из простонародья, откуда они и сами происходят. И поистине кажется удивительным делом, что отсюда повелась и вошла в обычай такая вещь, выдуманная шутки ради, а не для чего-либо иного; впрочем, и большая часть Кампо Санто, расписанного прославленными мастерами, полна таких глупостей»[37]. Само собой, реплики персонажей появились в средневековом искусстве задолго до Чимабуэ и Буффальмако — тут Вазари заблуждается или идет на поводу у красивого анекдота. Но для нас важно не это, а то, почему в его времена свитки уже казались такой архаикой. Чтобы объяснить, почему это произошло, нужно отступить на несколько шагов назад и поговорить о том, как был устроен средневековый образ. Средневековое искусство было многолико, и, когда мы говорим о нем в единственном числе, — это, конечно, уже колоссальное упрощение. Ирландские или англосаксонские Евангелия, украшенные хитрыми плетеными орнаментами и хищными монстрами, совсем не похожи на испанские Апокалипсисы с их контрастными цветными полосами и агрессивным экспрессионизмом фигур, а те — на торжественные Евангелия с золотыми страницами, создававшиеся на рубеже X–XI вв. для императоров из германской династии Оттонов. Изысканно-манерный стиль парижских мастеров, трудившихся в XIV в. на королевских заказах, очень далек от суровой, часто примитивной, простоты, отличавшей творения художников откуда-нибудь из альпийских долин или северных скандинавских окраин. Однако если забыть о деталях и сравнить большинство изображений, созданных до XIII в., скажем, с помпейскими фресками, мы быстро поймем, в чем состоит различие. Порвав с античным наследием, средневековые художники постепенно отказались от иллюзионистского подражания природе, трехмерного пространства, светотеневой моделировки фигур и других приемов, призванных передать на плоскости живой визуальный опыт[38]. Вместо пейзажа или интерьера действие часто переносится на условный (одноцветный или орнаментальный) фон, на котором «парят» персонажи. Различные сцены распределяются по разноцветным полосам, геометрическим или архитектурным рамкам, так что изображение порой напоминает сложную диаграмму. Размер фигур во многих случаях зависит не от их естественных габаритов или от того, расположены ли они ближе или дальше от зрителя, а от их положения в иерархии: более значимые персонажи изображаются намного выше второстепенных… Если формулировать предельно кратко, средневековые художники — прежде всего, в сакральных сюжетах — не ставили перед собой цели изобразить вещи такими, как они предстают перед взором. Их главная миссия состояла в том, чтобы зафиксировать их символическое значение, место в земной и божественной иерархии или роль в истории спасения. Образ должен был наставлять в вере или морали и стремился к дидактической ясности. Для этого в иконографии применялось множество метаэлементов, которые указывали на статус персонажей и разъясняли смысл происходящего. Некоторые из них существовали только для зрителя, а персонажи на изображении их как будто не замечали. Самый простой пример — нимбы, знак святости, который позволял отделить фигуры, которым следует молиться, от всех остальных. Таким же метаэлементом были и свитки, которые материализовали речь. Глядя на изображение, где Гавриил с нимбом протягивает Деве Марии свиток, средневековый зритель, вероятно, должен был понимать, что сияние славы не обязательно выглядит как золотой диск и что приветствие архангела вовсе не было ей предъявлено в письменном виде. В XIV–XV вв. итальянские, а потом и северные (французские, фламандские, немецкие) художники-новаторы стали уходить от средневековой концепции образа-схемы и возвращаться к иллюзионизму, трехмерности и представлению об образе как окне, в которое глядит зритель. И многие из метаэлементов, которые уже столько столетий применялись в церковной иконографии, стали восприниматься как досадная помеха. Они заслоняли часть пейзажа или интерьера и вообще были слишком искусственны. Конечно, даже самые радикальные новаторы XV в., фламандцы, полностью не отказались от свитков. Например, на «Гентском алтаре» Яна ван Эйка над головами пророков Захарии и Михея, а также Кумской и Эритрейской сивилл, которые изображены над сценой Благовещения, в воздухе парят тяжелые пергаменные ленты с их пророчествами о Боговоплощении. Однако важно, что еврейские пророки и языческие предсказательницы предстают не в каком-то реалистичном пространстве, где свитки могли показаться уже неуместными, а в тесных нишах — словно раскрашенные статуи, изображения внутри изображения[39]. И ван Эйк, и другие фламандские художники продолжали «озвучивать» своих персонажей. Однако стали делать это намного реже — особенно по сравнению с немецкими мастерами, которые еще долго хранили верность средневековым приемам. На своих алтарных панелях фламандцы порой применяли реплики, но только там, где они имели особое религиозное значение, как слова архангела и Марии в сцене Благовещения или слова Христа-Судии на изображениях Страшного суда [36]. и обычно они пытались написать их так, чтобы те не отвлекали зрителя от самих фигур и не заслоняли пространство позади них. Кроме того, фламандцы часто стремились дать подписям-репликам какое-то реалистическое «обоснование», записывая их на различных предметах (книгах, одеяниях, табличках), помещенных в кадр. Наконец, на многих образах текст, который их комментирует или разъясняет, вытеснен на раму — вне изображенного внутри мира. Как фламандцы обходились с подписями там, где они требовались в дидактических целях, хорошо видно на полиптихе Страшного суда, созданном Рогиром ван дер Вейденом в 1445–1450 гг. Он был заказан для госпиталя, основанного в Боне бургундским канцлером Николя Роленом. На центральной панели от фигуры Судии расходятся две изогнутые надписи. По его правую руку белыми буквами начертано обращение к праведникам: «…приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). По левую темно-красным выведено проклятие, адресованное грешникам: «…идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). При этом слова «приидите, благословенные…», хотя и принадлежат Христу, написаны слева направо и поднимаются к нему вверх, а «идите… проклятые», напротив, нисходят вниз в сторону самих грешников, которых он отправляет в ад. На плащах Судии и Иоанна Крестителя по кайме псевдоеврейскими буквами «вышиты» нечитаемые псевдотексты, а на плаще апостола Павла — латинские фразы, которые похожи на Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…»[40]. В «высоком» искусстве XVI в. реплики персонажей, записанные на свитках или бегущие по фону, почти вышли из оборота. В Италии они исчезли раньше, в Германии позже, какие-то художники время от времени возвращались к этому средневековому приему, но в целом на него смотрели свысока и стали считать отжившей архаикой.


Однако в более прикладных и, главное, дидактичных жанрах — например, наблагочестивых гравюрах, наставлявших паству, во что ей следует верить и как подобает жить, подписи никуда не исчезли. Например, на гравюре, выпущенной в 1681 г. в Антверпене, мы видим итальянского монаха-капуцина Марко д'Авиано, молящегося перед распятием. В лучах, которые идут от его уст к лику Христа, запечатлено его обращение к Спасителю и Его Матери: «Iesus Maria»[41] [37]. Реплики и подписи, идентифицировавшие персонажей, были вездесущи на иллюстрациях к полемическим памфлетам и на сатирических летучих листках[42]. В эпоху религиозного противостояния между протестантами и католиками обе стороны активно использовали карикатуру для изобличения противника. И без «звучащих текстов» там было не обойтись. В визуальной сатире Раннего Нового времени тяжелые, словно пергаменные, свитки, какие применяли в Средневековье, постепенно были заменены на парящие ленты, эфемерные облачка и другие фигуры [38]. Они вовсе не напоминали реальный предмет и сразу же говорили зрителю, что перед ним лишь условная рамка для текста. Оттуда «бабблы» со временем перекочевали в газетную карикатуру и на страницы комиксов, какими мы их знаем сегодня.

Нарушители
Почему изображению тесно в рамках
 одной из англосаксонских рукописей, в которых сохранился краткий трактат о «Чудесах Востока», бок о бок стоят два монструозных создания [39]. Слева в фиолетовом квадрате изображен лертик — зверь с овечьей шерстью, ослиными ушами и птичьими лапами. Справа, в сером прямоугольнике, — безголовый человек, принадлежащий к народу блеммиев. «Есть и другой остров на Бриксонте, к югу, где рождаются люди, у которых отсутствует голова, а глаза и рот расположены на груди; высотой они в восемь футов и столько же в ширину». В отличие от лертика блеммию, который смотрит прямо на нас, тесно в рамке. Он наступает на ее край и обхватывает сзади пальцами, словно чтобы не дать ей упасть или выбраться из нее на свободу. Из имматериального бордюра, который лишь очерчивает границы изображения, она превращается в трехмерный объект, с которым персонаж вступает во взаимодействие[43].
одной из англосаксонских рукописей, в которых сохранился краткий трактат о «Чудесах Востока», бок о бок стоят два монструозных создания [39]. Слева в фиолетовом квадрате изображен лертик — зверь с овечьей шерстью, ослиными ушами и птичьими лапами. Справа, в сером прямоугольнике, — безголовый человек, принадлежащий к народу блеммиев. «Есть и другой остров на Бриксонте, к югу, где рождаются люди, у которых отсутствует голова, а глаза и рот расположены на груди; высотой они в восемь футов и столько же в ширину». В отличие от лертика блеммию, который смотрит прямо на нас, тесно в рамке. Он наступает на ее край и обхватывает сзади пальцами, словно чтобы не дать ей упасть или выбраться из нее на свободу. Из имматериального бордюра, который лишь очерчивает границы изображения, она превращается в трехмерный объект, с которым персонаж вступает во взаимодействие[43].
 39 Сборник научных, исторических и религиозных текстов. Англия, середина XI в. London. British Library. Ms. Cotton Tiberius В V 1. Fol. 82.
39 Сборник научных, исторических и религиозных текстов. Англия, середина XI в. London. British Library. Ms. Cotton Tiberius В V 1. Fol. 82.
Этот блеммий сразу же вызывает в памяти мальчика, вылезающего из рамы, которого в 1874 г., экспериментируя с эффектом trompe-l'oeil, написал каталонский художник Пере Боррель дель Казо [40]. В декоре средневековых рукописей выход за рамки изображения — не исключение, а почти правило.
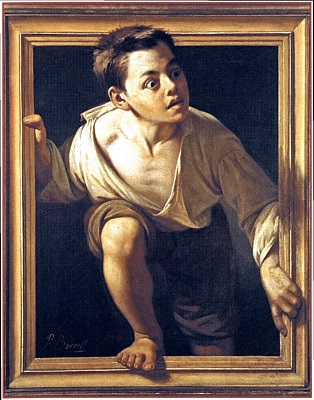 40 Пере Боррель дель Казо. Бегство от критики, 1874 г. Madrid. Collection Banco de Espana.
40 Пере Боррель дель Казо. Бегство от критики, 1874 г. Madrid. Collection Banco de Espana.
Ангельские и демонские крыла, наконечники копий, крупы коней или части других предметов и тел постоянно пересекают бордюр, очерчивающий сцену, и выходят на поля — в пространство, лежащее за пределами миниатюры или инициала. И чаще всего так происходит не оттого, что мастер что-то не рассчитал или проявил небрежность, а потому, что в средневековой иконографии граница изображения функционировала не совсем так, как мы привыкли сегодня.
Невидимая граница
В музеях европейской живописи залы завешаны картинами, заключенными в позолоченные рамы самых разных конструкций. Рама защищает вставленное в нее хрупкое полотно и помогает прикрепить его к стене, чтобы им можно было любоваться. Однако ее практическое значение все же отступает перед символическим. Рама — это в первую очередь мирской оклад, доказательство того, что перед нами произведение искусства, нечто, достойное того чтобы повесить на степу у себя дома, представить на обозрение публики или выставить на продажу[44]. Потому, чтобы придать эскизу или незавершенной работе статус произведения, их отдают в багетную мастерскую. Хотя в XX в. многие художники, мечтая порвать с академизмом и условностями старой живописи, стали отказываться от рам, современный зритель все равно смутно ощущает, что картина должна быть обрамлена. Любая рама — это, конечно, граница. Она отделяет изображенный мир от реального пространства, где пребывает смотрящий. Как писал в 1921 г. в эссе о поэтике рамы испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, «произведение искусства — это остров воображаемого, который со всех сторон окружен реальностью». Картина без рамы размывает границу между искусством и «утилитарными, внехудожественными объектами», а потому «теряет всю свою красоту и силу»[45]. При этом рама чаще всего воспринимается как нечто внеположное образу, его обрамление, что-то красивое (или для кого-то — уродливое), но не обязательное. В новоевропейской живописи она обычно сделана из материала, отличного оттого, на котором размещено изображение. Холст можно вынуть из рамы и безболезненно переместить в другую. Потому при фотовоспроизведении картин в альбомах или в каталогах рама чаще всего отрезается, остается вне кадра. Зритель чувствует, что она не имеет отношения к тому, что изображено на картине. «Когда мы мысленно входим в это воображаемое пространство, мы забываем о рамках — так же, как забываем о стене, на которой висит картина»[46]. Потому зрителя обычно не удивляет контраст между рамой и тем, что изображено внутри. Скажем, между старыми башмаками, которые в 1888 г. написал Ван Гог, и позолоченными завитками, в которые они обрамлены в Музее Метрополитен. Эту особенность восприятия кратко описал еще Иммануил Кант. В «Критике способности суждения» (1790) он отнес рамы к числу «украшений» (parerga) — вещей, которые «не входят в представление о предмете в целом как его внутренняя составная часть, а связаны с ним лишь внешне как дополнение». Рамы картин играют ту же роль, что и драпировка статуй или колоннада, выстроенная вокруг здания, чтобы подчеркнуть его величественные формы. «Но если украшение само не обладает прекрасной формой, если оно, подобно золотой раме, добавлено лишь для того, чтобы своей привлекательностью вызвать одобрение картины, то оно называется украшательством и вредит подлинной красоте»[47]. Говоря о рамах картин, и Кант, и Ортега-и-Гассет, конечно, имели в виду классическую европейскую живопись, появившуюся на свет в эпоху Возрождения. Однако рамы, оклады, складни и другие конструкции, в которые было встроено изображение, возникли задолго до этого. Причем в Средневековье рамы — сияющие золотом «реликварии», заключавшие фигуры святых и сакральные сцены, — играли даже более важную роль, чем в Новое время. Но размышления этих двух философов к ним почти что не применимы. Во-первых, потому, что рамы, в которые были одеты старые итальянские иконы, наследницы византийских, или многоуровневые створчатые ретабли, какие стояли во фламандских или немецких церквях, часто в буквальном смысле составляли с изображением единое целое. Образ писали на доске, а по ее краям оставляли высокий бордюр; деревянную раму намертво приклеивали или прибивали к образу и т. д. Потому чаще всего их нельзя было отделить друг от друга. А если и можно, то, оставшись без рамы, панели, из которых, скажем, был собран большой заалтарный образ, неизбежно утратили бы единство. Во-вторых, что важнее, средневековая рама регулярно служила не только обрамлением, украшением или каркасом, позволявшим объединить разные части изображения, но и была его продолжением. Они были связаны не только пространственно, но и концептуально. Например, на раме помещали дополнительные фигуры либо писали надписи, которые были обращены к зрителю. Они разъясняли ему смысл того, что он видит перед собой, указывали, кто создал это изображение, или ходатайствовали о молитвах за его автора и/или заказчика[48].
Визуальный монтаж
Помимо внешних — материальных — рам или окладов, на многих средневековых образах существовало множество внутренних — написанных краской или изготовленных из металла, дерева или камня — рамок. Они очерчивали на поверхности поле, предназначенное для изображения, а потом, в зависимости от художественных и дидактических задач, делили его на сегменты разных форм и размеров, Самый очевидный пример таких рамок — это бордюры, которые членили пространство книжного листа. В Средние века нетрудно найти рукописи, где фигуры и сцены рисовались на «голой» поверхности пергамена, без какой-либо подложки или обрамления. Они могли занимать всю страницу (и тогда их естественной границей служил прямоугольник листа) либо делили поверхность с текстом. Однако чаще изображение окружалось рамкой, вписывалось внутрь инициала или было как-то еще ограничено. И в том, как именно очертить визуальное поле, средневековые мастера проявляли почти безграничную изобретательность. В ход шли едва заметные линии и многослойные бордюры, в которых чередовались и переплетались узоры разных цветов, архитектурные рамки, выдержанные в классическом или в готическом стиле, и т. д.[49] Вce они отделяли пространство, предназначенное для изображения, от полей. А они, в частности, требовались для того, чтобы читатель, листая рукопись, не прикасался пальцами к драгоценным образам и буквам. Поля могли оставаться пустыми, а могли заселяться всевозможными рисунками-маргиналиями или служить для читательских пометок — комментариев и мнемонических «зарубок», помогавших лучше усвоить текст и быстрее в нем сориентироваться. Помимо основной рамки, очерчивавшей поле, занятое изображением, средневековые мастера использовали множество внутренних рамок, которые структурировали его изнутри. Они помогали отделить одну сцену от другой, направляли взгляд зрителя, выстраивали персонажей и сюжеты в иерархию и подсказывали, как следует толковать тот или иной образ. Скажем, мастеру требовалось уместить на странице какую-то длинную историю, состоящую из множества эпизодов. Для этого в самом простом варианте он мог прочертить сетку из одинаковых квадратов или прямоугольников. И в каждый из них помещал отдельную сцену [41, 42]. При таком монтаже взгляд зрителя сканировал визуальный ряд так же, как текст — слева направо и сверху вниз. Череда одинаковых «кадров» — это самый простой случай. Во множестве рукописей мы встречаем многоуровневую систему из квадратов, прямоугольников, ромбов, кругов или полукружий с разноцветными бордюрами и фонами разных цветов. Столь сложный дизайн позволял не просто рассказать историю, а снабдить ее комментарием или визуализировать какую-то богословскую доктрину или натурфилософскую теорию. На таких миниатюрах, которые можно сравнить с инфографикой, часто не существует единого порядка чтения.
 41 Лист из Псалтири Эдвина. Кентербери, середина XII в. London. British Library. Ms. Additional 37472. Fol. 1v.
Красный или синий бордюр делит страницу на 12 квадратов. Некоторые из них разрезаются еще на два или три сегмента с фонами разных цветов. Перед нами евангельская история: от крещения Христа до воскрешения дочери Иаира. Квадраты герметичны, но внутренние отсеки могут быть связаны. В третьем квадрате в третьем сверху ряду изображен эпизод из Евангелия от Луки (9:58): «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: Господи! я пойду за Тобою… Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». Снизу мы видим Христа и вопрошающего со свитком, а сверху — лисьи норы и дерево с гнездами. Указующий перст Христа пересекает границу и показывает на «экран», на котором визуализируется его ответ.
41 Лист из Псалтири Эдвина. Кентербери, середина XII в. London. British Library. Ms. Additional 37472. Fol. 1v.
Красный или синий бордюр делит страницу на 12 квадратов. Некоторые из них разрезаются еще на два или три сегмента с фонами разных цветов. Перед нами евангельская история: от крещения Христа до воскрешения дочери Иаира. Квадраты герметичны, но внутренние отсеки могут быть связаны. В третьем квадрате в третьем сверху ряду изображен эпизод из Евангелия от Луки (9:58): «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: Господи! я пойду за Тобою… Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». Снизу мы видим Христа и вопрошающего со свитком, а сверху — лисьи норы и дерево с гнездами. Указующий перст Христа пересекает границу и показывает на «экран», на котором визуализируется его ответ.
Чтобы расшифровать смысл изображенного, взгляд сканирует лист в разных направлениях в поисках связей между событиями или персонажами, расположенными в разных отсеках. Тут рамки не просто позволяют выстроить последовательный рассказ, а направляют интерпретацию. Эта задача была особенно важна в различных типологических композициях, которые соотносили события Ветхого и Нового Заветов.
 42 Сборник иллюстраций к Библии, созданных Уильямом де Брелем. Оксфорд, ок. 1250 г. Baltimore. Walters Art Museum. Ms. W106. Fol. 11v–10 (нумерация нарушена).
Рамки, в которых разворачивается повествование, далеко не всегда герметичны, и персонажи, выходя на поля, могут переходить из кадра в кадр. Справа мы видим израильтян, которые, спасаясь из египетского рабства, смогли перебраться на другой берег по дну Красного моря, когда воды чудесным образом расступились. Слева воинство фараона, погнавшегося за беглецами, идет ко дну. Связку между двумя сценами образует фигура Моисея — он выходит из рамки и бьет своим посохом по воде, изображенной на соседнем листе. И воды смыкаются над египтянами.
42 Сборник иллюстраций к Библии, созданных Уильямом де Брелем. Оксфорд, ок. 1250 г. Baltimore. Walters Art Museum. Ms. W106. Fol. 11v–10 (нумерация нарушена).
Рамки, в которых разворачивается повествование, далеко не всегда герметичны, и персонажи, выходя на поля, могут переходить из кадра в кадр. Справа мы видим израильтян, которые, спасаясь из египетского рабства, смогли перебраться на другой берег по дну Красного моря, когда воды чудесным образом расступились. Слева воинство фараона, погнавшегося за беглецами, идет ко дну. Связку между двумя сценами образует фигура Моисея — он выходит из рамки и бьет своим посохом по воде, изображенной на соседнем листе. И воды смыкаются над египтянами.
Суть типологии — как метода толкования Священного Писания и как стиля исторического мышления — состояла в том, что отдельные эпизоды, персонажи и предметы из Ветхого Завета интерпретировались как предвозвестия эпизодов, персонажей и предметов из Нового. При этом речь шла не о словесных пророчествах, а именно о том, что сами события, описанные в Ветхом Завете, заключали в себе указание на грядущее Боговоплощение и миссию Христа по спасению рода человеческого. Как из века в век повторяли христианские богословы, Ветхий Завет находит полное воплощение в Новом, а Новый раскрывает истинный смысл Ветхого. этой системе координат Священная история предстает как многоуровневая система параллелей. Ветхозаветные события-«предсказания» называются типами, а их новозаветные «реализации» — антитипами. Например, жертвоприношение Исаака его отцом Авраамом, которое в итоге не состоялось, так как Господь приказал ему вместо сына зарезать агнца, — один из типов добровольной жертвы, которую на кресте принес Христос — истинный Агнец. Пророк Иона, спасшийся из чрева кита, — это тип Христа, который был погребен, спустился в преисподнюю, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников, а потом восстал из мертвых. На типологических композициях вся геометрия была построена так, чтобы ясно соотнести новозаветный антитип и его ветхозаветные типы. Для этого основной сюжет обычно помещался в центр, а его библейские прообразы и небиблейские аллегории выстраивались вокруг [43].
Живые рамки
Безголовый блеммий, который как будто пытается выбраться из миниатюры, не первый и не последний нарушитель рамок в истории средневекового искусства. Но нарушать их можно было по-разному[50]. Здесь игра построена на том, что зритель не до конца понимает статус бордюра. Он оказывается не просто границей, отделяющей пространство изображения от полей, а трехмерным объектом, с которым персонаж, помещенный вовнутрь, вступает в физическое взаимодействие. Во многих случаях этот сдвиг происходит почти незаметно. Скажем, сцена очерчена рамкой. Она, как чаще всего и бывает, кажется чем-то внешним по отношению к сцене, разворачивающейся внутри. Однако в одном месте рука кого-то из персонажей обхватывает ее сзади или вокруг нее закручивается длинный подол плаща. Так оказывается, что бордюр — это все-таки часть изображения, а линия на самом деле трехмерна [44–46]. Более распространенный случай — это буквальный выход за границы кадра, когда какой-то предмет или персонаж, словно не уместившись в рамке, выбивается на поля. Он никак не взаимодействует с бордюром, а пересекает его, словно не замечая [47].
 43 Штайммхаймский миссал. Хильдесхайм, ок. 1160–1170-х гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 64. Fol. 92.
Рождество. Миниатюра сложена из множества рамок с разноцветными фонами и бордюрами. В центре лежит Дева Мария, которая смотрит на Младенца в яслях. Вокруг идет золотой бордюр, который очерчивает форму креста — часть персонажей оказывается внутри него, а часть — вне. Внутри, над яслями, волом и ослом, изображен Господь, который на Синае явился Моисею в Неопалимой купине. Под Девой Марией нарисована башня с закрытой дверью. Для средневековых богословов и несгораемый куст, и запечатанные врата — это олицетворения девства Марии. Слева, за спиной Богоматери, стоит пророк Иезекииль, а справа — ее муж Иосиф, который одет в остроконечную, т. н. «еврейскую», шапку (judenhut). По краям миниатюры, вне золотого креста, нарисованы: Иоанн Креститель (слева вверху), Моисей (справа вверху), израильский судья Гедеон с овечьей шкурой, чудесно орошенной росой (слева внизу), и девственница, приручившая свирепого единорога (справа внизу). И руно Гедеона, и дева с единорогом — тоже символы непорочного зачатия и девственного рождения Христа. В итоге эта миниатюра представляет Рождество внутри сетки из ветхозаветных пророчеств и вневременных аллегорий, а разноцветные отсеки и бордюры помогают выстроить их в систему.
43 Штайммхаймский миссал. Хильдесхайм, ок. 1160–1170-х гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 64. Fol. 92.
Рождество. Миниатюра сложена из множества рамок с разноцветными фонами и бордюрами. В центре лежит Дева Мария, которая смотрит на Младенца в яслях. Вокруг идет золотой бордюр, который очерчивает форму креста — часть персонажей оказывается внутри него, а часть — вне. Внутри, над яслями, волом и ослом, изображен Господь, который на Синае явился Моисею в Неопалимой купине. Под Девой Марией нарисована башня с закрытой дверью. Для средневековых богословов и несгораемый куст, и запечатанные врата — это олицетворения девства Марии. Слева, за спиной Богоматери, стоит пророк Иезекииль, а справа — ее муж Иосиф, который одет в остроконечную, т. н. «еврейскую», шапку (judenhut). По краям миниатюры, вне золотого креста, нарисованы: Иоанн Креститель (слева вверху), Моисей (справа вверху), израильский судья Гедеон с овечьей шкурой, чудесно орошенной росой (слева внизу), и девственница, приручившая свирепого единорога (справа внизу). И руно Гедеона, и дева с единорогом — тоже символы непорочного зачатия и девственного рождения Христа. В итоге эта миниатюра представляет Рождество внутри сетки из ветхозаветных пророчеств и вневременных аллегорий, а разноцветные отсеки и бордюры помогают выстроить их в систему.
 44 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton Nero СIV. Fol. 39.
Ангел запирает на ключ преисподнюю. Этот образ, видимо, вдохновлен строками из 20-й главы Апокалипсиса: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Пространство, в котором демоны во тьме истязают грешников, замкнуто двойной зубастой пастью с множеством более мелких звериных личин. Главная пасть нарисована на голубом фоне, а вокруг идет рамка с витым орнаментом из стилизованных листьев аканта. В том месте, где на зубах зверя висит красная дверь, бордюр услужливо изгибается и появляется выступ, на котором стоит ангел-ключник. Рамка превращается в подножку.
44 Винчестерская Псалтирь. Англия, середина XII в. London. British Library. Ms. Cotton Nero СIV. Fol. 39.
Ангел запирает на ключ преисподнюю. Этот образ, видимо, вдохновлен строками из 20-й главы Апокалипсиса: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Пространство, в котором демоны во тьме истязают грешников, замкнуто двойной зубастой пастью с множеством более мелких звериных личин. Главная пасть нарисована на голубом фоне, а вокруг идет рамка с витым орнаментом из стилизованных листьев аканта. В том месте, где на зубах зверя висит красная дверь, бордюр услужливо изгибается и появляется выступ, на котором стоит ангел-ключник. Рамка превращается в подножку.
Такой прием, к примеру, требовался для того, чтобы подчеркнуть колоссальную высоту гор и зданий или сверхъестественную природу «нарушителей», которые воспаряют в небеса [48, 49]. Потому за границу изображения так часто выходят сакральные либо, наоборот, демонические персонажи. Кроме того, в сценах битв, поединков или казней копья, мечи или плети регулярно не вписываются в кадр.
Благодаря этому зритель может ощутить стремительное движение, жестокость и мощь ударов. Потому такой выход за рамки можно увидеть во многих сценах Страстей Христовых, где копья воинов, пришедших арестовать Христа в Гефсиманском саду, или бичи палачей, истязавших его в претории, пересекают бордюр[51] [50, 51].
 45 Шестоднев Эльфрика. Кентербери, середина XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В. IV. Foi. 2.
Низвержение ангелов-мятежников во главе с Люцифером. Выше в небесах светлые ангелы держат в руках мандорлу с фигурой Христа. Эта миндалевидная фигура, которая в христианской иконографии символизировала божественное сияние и славу, предстает как трехмерная рамка. А внизу Люцифер летит в преисподнюю — в точно такой же мандорле. Он изнутри хватается за нее руками, а огненно-красный змей, который символизирует силы ада, вцепляется в нее зубами и опутывает хвостом.
45 Шестоднев Эльфрика. Кентербери, середина XI в. London. British Library. Ms. Cotton Claudius В. IV. Foi. 2.
Низвержение ангелов-мятежников во главе с Люцифером. Выше в небесах светлые ангелы держат в руках мандорлу с фигурой Христа. Эта миндалевидная фигура, которая в христианской иконографии символизировала божественное сияние и славу, предстает как трехмерная рамка. А внизу Люцифер летит в преисподнюю — в точно такой же мандорле. Он изнутри хватается за нее руками, а огненно-красный змей, который символизирует силы ада, вцепляется в нее зубами и опутывает хвостом.
Джеймс Мэрроу предположил, что этот прием был призван усилить эффект присутствия и сократить психологическую дистанцию между зрителем и событиями из священной истории, которые разворачиваются у него на глазах. Казалось, что Христос и его палачи почти сходят со страниц рукописи.
 46 Часослов Да Косты. Гент, ок. 1515 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. M. 399. Fol. 44v.
В XV в. в Нидерландах в книжном декоре вошли в моду визуальные «обманки» (trompe l'œit). Поля заполонили изображения бутонов, насекомых, четок, монет, раковин или паломнических значков. Они были нарисованы настолько реалистично и объемно, что казалось, будто кто-то их разложил на листе. Чтобы усилить иллюзию, нарисованные значки могли быть «пришиты» к листу нарисованными нитями (как настоящие паломнические «сувениры» действительно пришивали к страницам Псалтирей и Часословов). На этой миниатюре в центральной, похожей на окно, рамке изображено бичевание Христа. Рамка вписана во вторую, а между ними нарисованы несколько четок (на желтой нити висит медальон с ликом Христа), которые отбрасывают нарисованные тени на светло-синий фон. Красная нить закручена вокруг внутренней рамки, так что кажется, будто бусины оказались в претории, где римские воины бичуют Христа. Четки, как инструмент молитвы, окружают окно, за которым разворачивается сакральное действо — сюжет для духовной медитации.
46 Часослов Да Косты. Гент, ок. 1515 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. M. 399. Fol. 44v.
В XV в. в Нидерландах в книжном декоре вошли в моду визуальные «обманки» (trompe l'œit). Поля заполонили изображения бутонов, насекомых, четок, монет, раковин или паломнических значков. Они были нарисованы настолько реалистично и объемно, что казалось, будто кто-то их разложил на листе. Чтобы усилить иллюзию, нарисованные значки могли быть «пришиты» к листу нарисованными нитями (как настоящие паломнические «сувениры» действительно пришивали к страницам Псалтирей и Часословов). На этой миниатюре в центральной, похожей на окно, рамке изображено бичевание Христа. Рамка вписана во вторую, а между ними нарисованы несколько четок (на желтой нити висит медальон с ликом Христа), которые отбрасывают нарисованные тени на светло-синий фон. Красная нить закручена вокруг внутренней рамки, так что кажется, будто бусины оказались в претории, где римские воины бичуют Христа. Четки, как инструмент молитвы, окружают окно, за которым разворачивается сакральное действо — сюжет для духовной медитации.
 47 Псалтирь Шефтсбери. Англия, вторая четверть XII в. London. British Library. Ms. Lansdowne 383. Fol. 13.
Три жены-мироносицы пришли к гробнице, где был похоронен Христос. Однако ангел возвестил им, что Он восстал из мертвых. Под саркофагом традиционно изображали воинов, которые должны были следить, чтобы ученики не забрали тело Христа, но проспали Воскресение. Только тут воины (как чужие в этой сакральной сцене?) вынесены вовне, в специальный изгиб в теле бордюра. Но их отсек вовсе не герметичен. Копья с флажками, которые держат стражники, залезают наверх, в пространство Воскресения, и высовываются вниз, за бордюр, на белое поле пергамена.
47 Псалтирь Шефтсбери. Англия, вторая четверть XII в. London. British Library. Ms. Lansdowne 383. Fol. 13.
Три жены-мироносицы пришли к гробнице, где был похоронен Христос. Однако ангел возвестил им, что Он восстал из мертвых. Под саркофагом традиционно изображали воинов, которые должны были следить, чтобы ученики не забрали тело Христа, но проспали Воскресение. Только тут воины (как чужие в этой сакральной сцене?) вынесены вовне, в специальный изгиб в теле бордюра. Но их отсек вовсе не герметичен. Копья с флажками, которые держат стражники, залезают наверх, в пространство Воскресения, и высовываются вниз, за бордюр, на белое поле пергамена.
Это помогало владельцу Псалтири или Часослова соотнести себя с происходящим в кадре: ужаснуться жестокости римлян и иудеев, почувствовать боль Христа, который претерпел такие страдания ради спасения человечества, а через это духовно преобразиться[52]. Возможно, что так и было — выход за рамки усиливал эмоциональную силу изображения. Но в Средние века этот прием точно не был зарезервирован за сакральными сценами. Вo многих сюжетах выход за рамки использовался для того, чтобы показать чье-то бегство или низвержение.
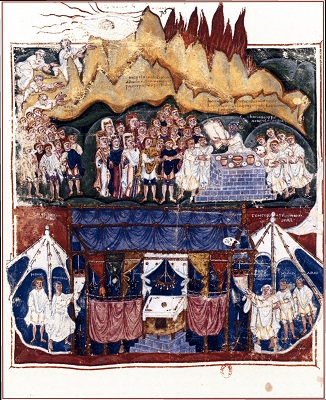 48 Пятикнижие Ашбернхема. Испания, Италия или Северная Африка, конец VI — начало VII в. Paris. Bibliothèque nationale de France Ms. NAL 2334. Fol. 76.
Моисей говорит с Господом, который предстает перед ним в середине облака. Вершины Синая и языки пылающего на них пламени выходят за красный бордюр, который очерчивает миниатюру. Благодаря этому зритель видит, как высоко поднялся пророк, чтобы встретиться с Богом, и понимает, что это место было сокрыто от взоров прочих смертных.
48 Пятикнижие Ашбернхема. Испания, Италия или Северная Африка, конец VI — начало VII в. Paris. Bibliothèque nationale de France Ms. NAL 2334. Fol. 76.
Моисей говорит с Господом, который предстает перед ним в середине облака. Вершины Синая и языки пылающего на них пламени выходят за красный бордюр, который очерчивает миниатюру. Благодаря этому зритель видит, как высоко поднялся пророк, чтобы встретиться с Богом, и понимает, что это место было сокрыто от взоров прочих смертных.
В христианской иконографии падение и изгнание — обычно удел дьявола, иноверцев, еретиков и других негативных персонажей. Потому за бордюр так часто уносятся демоны, которых Христос или какой-то святой изверг во «тьму внешнюю», либо в батальных сценах — неправедные враги, разбитые праведным войском (филистимляне, побежденные израильтянами; сарацины, повергнутые крестоносцами, и т. д.). Но порой спасаться приходится праведникам: от земных врагов или от преследования со стороны Сатаны [52–55].
 49 Кентерберийская Псалтирь. Кентербери, последняя четверть XII в. (миниатюра, добавленная в Каталонии ок. 1340 г.) Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 8846. Fol. 163.
Ha иллюстрации к 90-му псалму в двух первых «отсеках», очерченных красным бордюром, изображены второе и третье искушения Христа. Справа дьявол «берет Его… на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4:8, 9; ср.: Лк. 4:5–7). Слева Сатана призывает Христа: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6; ср.: Лк. 4:9–11). Чтобы показать, что Христос стоял в вышине над городом, мастер вынес его вместе с искусителем на поля, за красную рамку миниатюры.
49 Кентерберийская Псалтирь. Кентербери, последняя четверть XII в. (миниатюра, добавленная в Каталонии ок. 1340 г.) Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 8846. Fol. 163.
Ha иллюстрации к 90-му псалму в двух первых «отсеках», очерченных красным бордюром, изображены второе и третье искушения Христа. Справа дьявол «берет Его… на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф. 4:8, 9; ср.: Лк. 4:5–7). Слева Сатана призывает Христа: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6; ср.: Лк. 4:9–11). Чтобы показать, что Христос стоял в вышине над городом, мастер вынес его вместе с искусителем на поля, за красную рамку миниатюры.
 50 Бамбергская Псалтирь. Регенсбург (?), 1220–1230-е гг. Bamberg. Staatsbibliothek. Ms. Bibi. 48. Fol. 62v.
Арест Христа в Гефсиманском саду. Факел и алебарда, которые держат воины первосвященников, а также меч и ступня апостола Петра выходят на поля поверх рамки.
50 Бамбергская Псалтирь. Регенсбург (?), 1220–1230-е гг. Bamberg. Staatsbibliothek. Ms. Bibi. 48. Fol. 62v.
Арест Христа в Гефсиманском саду. Факел и алебарда, которые держат воины первосвященников, а также меч и ступня апостола Петра выходят на поля поверх рамки.
 51 Часослов Екатерины Клевской. Утрехт, ок. 1440 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. 917/945. Fol. 60v.
Бичевание Христа. Палач, стоящий справа от колонны, настолько сильно замахивается на свою жертву розгами, что они оказываются на полях.
51 Часослов Екатерины Клевской. Утрехт, ок. 1440 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. 917/945. Fol. 60v.
Бичевание Христа. Палач, стоящий справа от колонны, настолько сильно замахивается на свою жертву розгами, что они оказываются на полях.
На одних миниатюрах персонажи, выйдя за рамки, продолжают движение/падение на полях; на других — они тотчас скрываются за кулисами. Мир, лежащий вовне, уже недоступен зрителю. Бордюр срезает фигуры, так что по краю мы видим лишь крупы коней или половинки воинов [56]. А еще не стоит забывать о сюжетах, где персонаж, стоящий за рамкой, заглядывает в нее или обращается к тем, кто изображен внутри. Этот прием позволял показать два принципиально различных, но сопряженных друг с другом мира, пространство внутреннее и пространство внешнее, и коммуникацию между ними. В английской богослужебной рукописи рубежа XI–XII вв. ангел с полей протягивает в темницу, где томится апостол Петр, свиток со словами «встань скорее» (Деян. 12:7)[53].
 52 Апокалипсис с комментарием Беата из Лиебаны. Наварра, конец XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. NAL 1366. Fol. 103.
Перед нами иллюстрации к 12-й главе Откровения Иоанна Богослова. Сверху архангел «Михаил и ангелы его воевали против дракона», т. е. Сатаны. Снизу с правой стороны изображено поражение дьявола: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную…» В отличие от множества других иллюстраций к этому тексту, здесь повергнутый дракон не летит вниз на землю, а буквально пройдя под рамкой, удаляется прочь на поля — рядом с его фигурой подписано «и извергнут дракон вовне». На других миниатюрах в этой рукописи на поля часто залезают кончики ангельских крыл. Причем иногда они изображаются поверх рамок, а иногда, как здесь дракон, проходят под ними.
52 Апокалипсис с комментарием Беата из Лиебаны. Наварра, конец XII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. NAL 1366. Fol. 103.
Перед нами иллюстрации к 12-й главе Откровения Иоанна Богослова. Сверху архангел «Михаил и ангелы его воевали против дракона», т. е. Сатаны. Снизу с правой стороны изображено поражение дьявола: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную…» В отличие от множества других иллюстраций к этому тексту, здесь повергнутый дракон не летит вниз на землю, а буквально пройдя под рамкой, удаляется прочь на поля — рядом с его фигурой подписано «и извергнут дракон вовне». На других миниатюрах в этой рукописи на поля часто залезают кончики ангельских крыл. Причем иногда они изображаются поверх рамок, а иногда, как здесь дракон, проходят под ними.
В другой рукописи ангел сквозь бордюр, очерчивающий преисподнюю, бьет копьем демона [57]. Или, скажем, на миниатюре или в инициале изображен Христос или Дева Мария с Младенцем, а снаружи, на полях, стоит коленопреклоненный заказчик или заказчица. Однако свиток, на котором запечатлены их молитвы, устремляется внутрь сакрального пространства, где пребывают высшие силы, но куда сами просители не допущены[54]. На многих иллюстрациях к Апокалипсису видения, которые были явлены Иоанну Богослову на острове Патмос, изображаются в прямоугольной рамке, а сам апостол стоит на полях и через окошко заглядывает вовнутрь.
 53 Сборник иллюстраций к Библии, созданных Уильямом де Брелем. Оксфорд, ок. 1250 г. Baltimore. Walters Art Museum. Ms. W106. Fol. 4.
Как рассказывается в 19-й главе Книги Бытия, ангелы повелели праведнику Лоту уйти с семьей из Содома, поскольку город будет уничтожен за грехи Божьим гневом: «И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 19:16,17). На миниатюре уход Лота «вне города» предстает как выход из рамки, где остался проклятый Содом. Единственная, кто осталась внутри, это непокорная жена Лота, повернувшаяся назад и оборотившаяся в соляной столб.
53 Сборник иллюстраций к Библии, созданных Уильямом де Брелем. Оксфорд, ок. 1250 г. Baltimore. Walters Art Museum. Ms. W106. Fol. 4.
Как рассказывается в 19-й главе Книги Бытия, ангелы повелели праведнику Лоту уйти с семьей из Содома, поскольку город будет уничтожен за грехи Божьим гневом: «И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 19:16,17). На миниатюре уход Лота «вне города» предстает как выход из рамки, где остался проклятый Содом. Единственная, кто осталась внутри, это непокорная жена Лота, повернувшаяся назад и оборотившаяся в соляной столб.
Здесь поля — это наш, земной мир, где находился визионер, а пространство, очерченное бордюром, — «экран», на котором ему (и нам) показываются божественные откровения [58]. Каждого из нарушений рамок, которые так часто встречались в средневековой миниатюре, была своя логика и свои иконографические корни. Некоторые из них, вероятно, восходят еще к Античности. Греческие, а потом римские художники (например, создатели многих фресок в Помпеях) мастерски создавали на плоскости иллюзию трехмерного пространства.
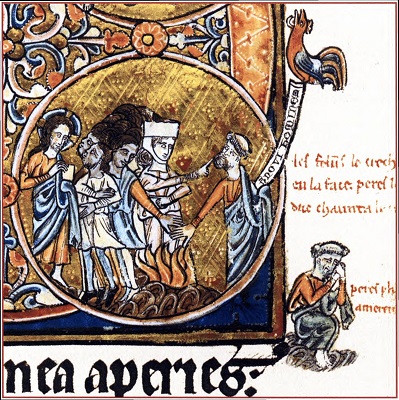 54 Часослов де Бреля. Оксфорд, ок. 1240 г. London. British Library. Ms. Additional 49999. Fol. 1.
Во время Тайной вечери Христос предсказал, что еще до того, как пропоет петух, апостол Петр трижды от него отречется (Мф. 26:34; Мк 14:30; Ин. 13:38). В круге изображено третье отречение. Когда учителя арестовали, Петр пошел за ним во двор первосвященника. И одна из служанок там узнала, что он из тех, кто ходил за Христом. «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26:74–75; Ср.: Мк 14:66–72; Лк 22:55–62; Ин. 18:25–27). Чтобы показать, как Петр горестно «вышел вон», мастер Уильям де Брель изобразил его плачущим на полях, за рамками миниатюры.
54 Часослов де Бреля. Оксфорд, ок. 1240 г. London. British Library. Ms. Additional 49999. Fol. 1.
Во время Тайной вечери Христос предсказал, что еще до того, как пропоет петух, апостол Петр трижды от него отречется (Мф. 26:34; Мк 14:30; Ин. 13:38). В круге изображено третье отречение. Когда учителя арестовали, Петр пошел за ним во двор первосвященника. И одна из служанок там узнала, что он из тех, кто ходил за Христом. «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26:74–75; Ср.: Мк 14:66–72; Лк 22:55–62; Ин. 18:25–27). Чтобы показать, как Петр горестно «вышел вон», мастер Уильям де Брель изобразил его плачущим на полях, за рамками миниатюры.
Чтобы усилить эффект присутствия и связать нарисованный мир с пространством зрителя, они часто применяли прием, известный как ракурс, или сокращение перспективы. Благодаря ему один из элементов изображения казался настолько объемным, что выступал из плоскости.
 55 Апокалипсис Гетти. Лондон (?), ок. 1255–1260 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig III 1. Fol. 20.
Видение Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце… Она имела во чреве… И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами… Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога…» (Откр. 12:1–6). В правом верхнем углу Господь в овальной мандорле возносится в небеса и скрывается за краем бордюра. Правее «жена, облеченная в солнце», которую средневековые богословы обычно отождествляли с Богоматерью, скрываясь в пустыню, тоже уходит за рамку (проходит под ней), а на полях «растворяется» в облаке.
55 Апокалипсис Гетти. Лондон (?), ок. 1255–1260 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. Ludwig III 1. Fol. 20.
Видение Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце… Она имела во чреве… И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами… Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога…» (Откр. 12:1–6). В правом верхнем углу Господь в овальной мандорле возносится в небеса и скрывается за краем бордюра. Правее «жена, облеченная в солнце», которую средневековые богословы обычно отождествляли с Богоматерью, скрываясь в пустыню, тоже уходит за рамку (проходит под ней), а на полях «растворяется» в облаке.
 56 Большие французские хроники. Париж, 1332–1350-е гг. London. British Library. Ms. Royal 16 GVL Fol. 15.
Битва при Тольбиаке (496 г.): салические франки под предводительством Хлодвига обращают в бегство войско алеманов. По средневековому преданию, когда алеманы стали побеждать, Хлодвиг, который был женат на христианке Клотильде Бургундской, взмолился к Спасителю. Он обещал, что, если благодаря Богу христиан одержит победу, то уверует в него. Где-то на рубеже V–VI вв. епископ Ремигий Реймский его крестил. Здесь над рамкой в облаках появляется лик Христа, а справа повергнутые алеманы на конях (которые пополам разрезаны бордюром) уносятся прочь.
56 Большие французские хроники. Париж, 1332–1350-е гг. London. British Library. Ms. Royal 16 GVL Fol. 15.
Битва при Тольбиаке (496 г.): салические франки под предводительством Хлодвига обращают в бегство войско алеманов. По средневековому преданию, когда алеманы стали побеждать, Хлодвиг, который был женат на христианке Клотильде Бургундской, взмолился к Спасителю. Он обещал, что, если благодаря Богу христиан одержит победу, то уверует в него. Где-то на рубеже V–VI вв. епископ Ремигий Реймский его крестил. Здесь над рамкой в облаках появляется лик Христа, а справа повергнутые алеманы на конях (которые пополам разрезаны бордюром) уносятся прочь.
 57 Силосский Апокалипсис. Монастырь Сан-Доминго-де-Силос, 1091–1109 гг. London. British Library. Ms. Additional 11695. Fol. 2.
Преисподняя заключена в четырехлистник, очерченный трехслойной рамкой. Внутри демоны по имени Barrabas, Beelzebub, Radamas u Aqimos истязают грешников: немилостивого богача с двумя набитыми кошелями, который символизирует алчность, и пару прелюбодеев, олицетворяющих распутство. Все персонажи как будто вращаются вокруг центральной фигуры скупца. Рядом с демонами и грешниками в адском четырехлистнике парят фиолетовые полосы с подписями: dives («богач»), serpentes («змеи») и т. д. Вне рамки стоит архангел Михаил, который в христианской традиции считался заступником за души умерших. В его правой руке копье, которым он сквозь рамку отталкивает Баррабаса, а в левой — весы, предназначенные для взвешивания добрых и дурных дел умерших. Тут уже Баррабас, высунув руку наружу, пытается сжульничать, перетянув чашу на свою сторону.
57 Силосский Апокалипсис. Монастырь Сан-Доминго-де-Силос, 1091–1109 гг. London. British Library. Ms. Additional 11695. Fol. 2.
Преисподняя заключена в четырехлистник, очерченный трехслойной рамкой. Внутри демоны по имени Barrabas, Beelzebub, Radamas u Aqimos истязают грешников: немилостивого богача с двумя набитыми кошелями, который символизирует алчность, и пару прелюбодеев, олицетворяющих распутство. Все персонажи как будто вращаются вокруг центральной фигуры скупца. Рядом с демонами и грешниками в адском четырехлистнике парят фиолетовые полосы с подписями: dives («богач»), serpentes («змеи») и т. д. Вне рамки стоит архангел Михаил, который в христианской традиции считался заступником за души умерших. В его правой руке копье, которым он сквозь рамку отталкивает Баррабаса, а в левой — весы, предназначенные для взвешивания добрых и дурных дел умерших. Тут уже Баррабас, высунув руку наружу, пытается сжульничать, перетянув чашу на свою сторону.
 58 Апокалипсис (Val-Dieu Apocalypse). Нормандия, ок. 1320–1330 гг. London. British Library. Ms. Additional 17333. Fol. 7.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Откр. 6:8). На миниатюре Иоанн Богослов, которому явлено Откровение, заглядывает внутрь рамки через окошко, а на свитке, который держит в клюве орел — его символ, написано: «Veni et vidi» — «Иди и смотри» (Откр. 6:7).
58 Апокалипсис (Val-Dieu Apocalypse). Нормандия, ок. 1320–1330 гг. London. British Library. Ms. Additional 17333. Fol. 7.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» (Откр. 6:8). На миниатюре Иоанн Богослов, которому явлено Откровение, заглядывает внутрь рамки через окошко, а на свитке, который держит в клюве орел — его символ, написано: «Veni et vidi» — «Иди и смотри» (Откр. 6:7).
Плиний Старший в «Естественной истории» (XXXV, 92) рассказывал о том, как древнегреческий живописец Апеллес (IV в. до н. э.) в храме Артемиды в Эфесе написал портрет Александра Македонского с молнией (атрибутом Зевса) в руках. Такой, что, казалось, «будто пальцы выступают [вперед], а молния находится вне картины»[55]. Как мы уже говорили, средневековое искусство на многие века отказалось от концепции образа как окна в трехмерное пространство и от эффектов, связанных с перспективой. Пейзаж постепенно исчез, а сцена утратила глубину. Однако античный ракурс, создававший у зрителя ощущение, что изображение входит в его мир и оживает, не был полностью позабыт. Только теперь, в новой «плоской» манере, указующие персты или острия копий не смотрели вперед, а выходили за рамку — вниз, вверх или вбок[56] [59,60].
Вознесение за бордюр
В христианской иконографии есть главный вылет за рамки. И это, конечно, Вознесение Христа. По свидетельству Деяний апостолов (1:9–11), через сорок дней после воскресения Иисус на глазах у апостолов поднялся в небеса, «и облако взяло Его из вида их.
 59 Псалтирь Феодора. Константинополь, 1066 г. London. British Library. Ms. Additional 19352. Fol. 67v.
В ходе полемики с иконоборцами, приравнивавшими почитание образов Христа, Богородицы и святых к идолопоклонству, византийские иконопочитатели постоянно апеллировали к чудесам, совершенным через иконы. На многих изображениях, призванных отстоять культ образов или популяризировать почитание конкретных икон, мы видим, как образ «оживает», являя силу его небесного прообраза. На одном из листов Псалтири Феодора св. Макарий молится перед ликом Христа, вписанным в круг. Такие изображения, известные как imago clipeata, восходят к древнеримской традиции помещать портрет полководца, вернувшегося с триумфом, а позже правящего императора на круглый щит — clipeus. Рука Христа, сложенная в жесте благословения, по смыслу обращена к Макарию, стоящему перед иконой, т. е. выходит вперед из плоскости. Но все изображено так, что она выступает вбок, на поля.
59 Псалтирь Феодора. Константинополь, 1066 г. London. British Library. Ms. Additional 19352. Fol. 67v.
В ходе полемики с иконоборцами, приравнивавшими почитание образов Христа, Богородицы и святых к идолопоклонству, византийские иконопочитатели постоянно апеллировали к чудесам, совершенным через иконы. На многих изображениях, призванных отстоять культ образов или популяризировать почитание конкретных икон, мы видим, как образ «оживает», являя силу его небесного прообраза. На одном из листов Псалтири Феодора св. Макарий молится перед ликом Христа, вписанным в круг. Такие изображения, известные как imago clipeata, восходят к древнеримской традиции помещать портрет полководца, вернувшегося с триумфом, а позже правящего императора на круглый щит — clipeus. Рука Христа, сложенная в жесте благословения, по смыслу обращена к Макарию, стоящему перед иконой, т. е. выходит вперед из плоскости. Но все изображено так, что она выступает вбок, на поля.
 60 Псалтирь (Ramsey Psalter). Винчестер (?), конец X в. London. British Library. Ms. Harley 2904. Fol. 3v.
Распятие. По правую руку от Христа стоит скорбная Дева Мария, а по левую — Его любимый ученик Иоанн Богослов. Он пишет на свитке слова, которыми заканчивается Евангелие от Иоанна: «Сей ученик и свидетельствует о сем…» (Ин. 21:24–25). Они подчеркивают его роль как очевидца крестной смерти Христа и проповедника его учения. Левой рукой он указывает за рамку — в мир, куда обращено его слово и свидетельство. Аналогичный прием можно увидеть в английской Псалтири Хута (конец XIII в.). В сцене Распятия под крестом стоит римский центурион, который, увидев чудеса, свершившиеся после смерти Иисуса, промолвил: «воистину он был Сын Божий» (Мф. 27:54). Свиток с этими словами, в которых язычник признал божественность Христа, также выходит за рамку миниатюры и устремляется на поля — в мир (British Library. Ms. Add. 38116. Fol. 11v).
60 Псалтирь (Ramsey Psalter). Винчестер (?), конец X в. London. British Library. Ms. Harley 2904. Fol. 3v.
Распятие. По правую руку от Христа стоит скорбная Дева Мария, а по левую — Его любимый ученик Иоанн Богослов. Он пишет на свитке слова, которыми заканчивается Евангелие от Иоанна: «Сей ученик и свидетельствует о сем…» (Ин. 21:24–25). Они подчеркивают его роль как очевидца крестной смерти Христа и проповедника его учения. Левой рукой он указывает за рамку — в мир, куда обращено его слово и свидетельство. Аналогичный прием можно увидеть в английской Псалтири Хута (конец XIII в.). В сцене Распятия под крестом стоит римский центурион, который, увидев чудеса, свершившиеся после смерти Иисуса, промолвил: «воистину он был Сын Божий» (Мф. 27:54). Свиток с этими словами, в которых язычник признал божественность Христа, также выходит за рамку миниатюры и устремляется на поля — в мир (British Library. Ms. Add. 38116. Fol. 11v).
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо?
 61 Бамбергская Псалтирь. Регенсбург (?), 1220–1230-е гг. Bamberg. Staatsbibliothek. Ms. Bibi. 48. Fol. 116.
Христос возносится на небеса в золотой мандорле (с облачной окантовкой), которую поддерживают ангелы. Его триумфальное знамя с крестом выходит за пределы миниатюры на не закрашенный фон.
61 Бамбергская Псалтирь. Регенсбург (?), 1220–1230-е гг. Bamberg. Staatsbibliothek. Ms. Bibi. 48. Fol. 116.
Христос возносится на небеса в золотой мандорле (с облачной окантовкой), которую поддерживают ангелы. Его триумфальное знамя с крестом выходит за пределы миниатюры на не закрашенный фон.
В Евангелии от Марка (16:19), кроме того, говорилось, что, вознесшись на небеса, Христос «воссел одесную Бога». Нa древнейших образах Вознесения, которые были созданы на латинском Западе, Христа за руку поднимала в небеса длань Господня; он взлетал туда на облаке либо в миндалевидном или реже круглом ореоле — мандорле. Часто этот ореол, символизировавший божественное сияние и славу, изображали как рамку, которую в воздухе за края поддерживали ангелы [61]. В других вариантах они парили рядом с мандорлой, не прикасаясь к ней; стоя на земле, указывали ученикам Христа на его возносящуюся фигуру [62]; либо сцена вовсе обходилась без ангелов. Не давая ангелам прикоснуться к мандорле, художники или их консультанты-клирики, видимо, напоминали о том, что, в отличие от пророков Илии и Еноха, которые, по преданию, были взяты на небо живыми, Христос, как Сын Божий, взошел туда сам. Ему не требовалась ни огненная колесница, которая вознесла ввысь Илию, ни помощь небесных духов [63]. Около 1000 г. в Англии появился новый иконографический тип Вознесения, который американский медиевист Мейер Шапиро назвал «исчезающим Христом». На таких образах видна лишь нижняя часть его тела — верхняя, как подразумевается, уже скрыта за облаком. Оно маркировало границу между землей и небом, видимым материальным миром и инобытием.
 62 Амвросий Медиоланский. Шестоднев. Северная Франция, конец XI в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 13336. Fol. 91 v.
62 Амвросий Медиоланский. Шестоднев. Северная Франция, конец XI в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Latin 13336. Fol. 91 v.
 63 Библия бедняков. Гаага (?), конец XIV — начало XV в. London. British Library. Ms. Kings 5. Fol. 26.
В центре изображено Вознесение Христа, а по бокам его ветхозаветные типы: слева — вознесение Еноха, которого Господь, как сказано в Книге Бытия (5:24), «взял» к себе, а справа — вознесение Илии, который, по свидетельству 4-й Книги Царств (2:11), был поднят на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями.
63 Библия бедняков. Гаага (?), конец XIV — начало XV в. London. British Library. Ms. Kings 5. Fol. 26.
В центре изображено Вознесение Христа, а по бокам его ветхозаветные типы: слева — вознесение Еноха, которого Господь, как сказано в Книге Бытия (5:24), «взял» к себе, а справа — вознесение Илии, который, по свидетельству 4-й Книги Царств (2:11), был поднят на небо в огненной колеснице, запряженной огненными конями.
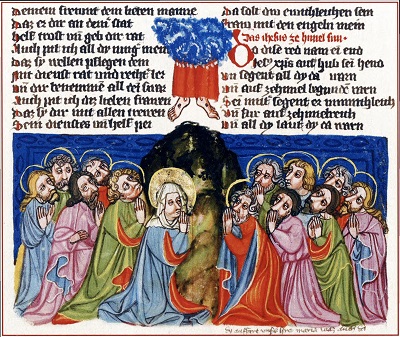 64 Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Регенсбург, ок. 1400–1410 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 33. Fol. 299v.
Фигура Христа скрывается в облаке, которое изображено за рамками миниатюры, между двумя колонками текста.
64 Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Регенсбург, ок. 1400–1410 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 33. Fol. 299v.
Фигура Христа скрывается в облаке, которое изображено за рамками миниатюры, между двумя колонками текста.
 65 Житие Христа. Англия, ок. 1190–1200 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 101. Fol. 90v.
Вознесение Христа.
65 Житие Христа. Англия, ок. 1190–1200 гг. Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 101. Fol. 90v.
Вознесение Христа.
Поскольку облако чаще всего примыкало к рамке миниатюры, выходило, что Христос улетает за ее край[57] [64–66]. В поисках того, как англосаксонские мастера «осмелились» показать лишь ноги Христа, Шапиро предположил, что ими двигало стремление к психологической достоверности. Они старались изобразить Вознесение не глазами всевидящего наблюдателя, которому открыты и зримый, и незримый миры, а так, как его могли увидеть апостолы, от которых Христос скрылся в выси.
 66 Апокалипсис (Val-Dieu Apocalypse). Нормандия, ок. 1320–1330 гг. London. British Library. Ms. Additional 17333. Fol. 18.
По модели вознесения Христа со временем стали изображать и вознесение Илии и Еноха, которое должно случиться в конце времен. В Откровении Иоанна Богослова (11:12, 13) рассказывается о том, как после воцарения Зверя-Антихриста явятся два «свидетеля». Они начнут обличать супостата, он их убьет, но на третий день они воскреснут и будут приняты на небеса: «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих…» Здесь головы пророков, которые возносятся ввысь, уже скрыты за облаками и рамкой миниатюры.
66 Апокалипсис (Val-Dieu Apocalypse). Нормандия, ок. 1320–1330 гг. London. British Library. Ms. Additional 17333. Fol. 18.
По модели вознесения Христа со временем стали изображать и вознесение Илии и Еноха, которое должно случиться в конце времен. В Откровении Иоанна Богослова (11:12, 13) рассказывается о том, как после воцарения Зверя-Антихриста явятся два «свидетеля». Они начнут обличать супостата, он их убьет, но на третий день они воскреснут и будут приняты на небеса: «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих…» Здесь головы пророков, которые возносятся ввысь, уже скрыты за облаками и рамкой миниатюры.
Однако, возможно, дело не только в стремлении к визуальной/психологической достоверности, но и в символике, связанной с телом Спасителя. Некоторые раннесредневековые богословы указывали, что ноги Христа символизировали Его человеческую, а голова — божественную природу. Или, как писал Беда Достопочтенный (ум. в 735 г.) из монастыря Джарроу на севере Англии, голова Христа олицетворяла его роль как главы Церкви, а ноги означали верующих — все христианское сообщество. В ту же эпоху, когда появились первые изображения исчезающего Христа, ученый монах Эльфрик Грамматик объяснял, что после вознесения Христос одновременно пребывает и на небесах, и здесь, на земле — через свою Церковь[58].
 67 Гийяр де Мулен. Историческая Библия. Брюгге, 1470–1479 гг. London. British Library. Ms. Royal 15 DI. Fol. 370v.
Полупрозрачное Вознесение. Христос — мы видим лишь его ноги и край хитона — улетает в небеса с Елеонской горы в Иерусалиме. На ее вершине видны отпечатки его стоп, которые, по христианскому преданию, чудесным образом остались на камне.
67 Гийяр де Мулен. Историческая Библия. Брюгге, 1470–1479 гг. London. British Library. Ms. Royal 15 DI. Fol. 370v.
Полупрозрачное Вознесение. Христос — мы видим лишь его ноги и край хитона — улетает в небеса с Елеонской горы в Иерусалиме. На ее вершине видны отпечатки его стоп, которые, по христианскому преданию, чудесным образом остались на камне.
Потому изображения, где голова Спасителя уже скрыта за облаками, а ноги все еще явлены взору, могли напоминать о том, что Христос вознесся и в то же время пребывает среди людей. В Позднее Средневековье на многих образах Вознесения облако, которое «взяло его из вида их», просто перестали рисовать [67]. И тогда получалось, что тело Христа рассекается на две части рамкой, в которую заключена миниатюра, а пустой пергамен полей, за которым уже исчезла его голова и верхняя часть туловища, олицетворяет пространство божественного, недоступное взору смертных.
Ладонь Христа и ступня Адама
Выход за рамки возможен не только на плоскости, но и в пространстве. В XV в. европейские художники вновь стали активно осваивать перспективу, играть с пространственными иллюзиями и экспериментировать с визуальными «обманками» (trompe l'œil)[59]. Они должны были создать у зрителя ощущение, что нарисованный мир столь же правдоподобен и осязаем, как тот, в котором он сам находится, размывали границу между реальностью и изображением, завлекали взгляд внутрь сцены — и конечно, демонстрировали удивительное мастерство художника. Если на ком-то из персонажей или на раме картины мастер рисует муху, зритель тотчас хочет ее прогнать или прихлопнуть[60] [68,69].

 68 а, б Петрус Кристус. Портрет картузианца, 1446 г. New York. The Metropolitan Museum of Art. № 49.7.19.
За нарисованным окном-рамой сидит мирской брат из Картузианского ордена. На темно-красном бордюре, словно по камню, «вырезана» подпись художника: «PETRUS XPI ME FECIT» («Петрус Кристус меня создал»). Над ней он нарисовал муху: кажется, будто она присела на край портрета. Конечно, эта «обманка» демонстрирует виртуозность мастера, способного обвести зрителя вокруг пальца. Еще Филострат Старший (ум. в 240-х гг.) в своих «Картинах» упоминал о художнике, который нарисовал пчелу, севшую на цветок, так, что было невозможно понять, «опустилась ли на изображенный цветок настоящая пчела, введенная в заблуждение живописцем, или же нарисованная пчела вводит в заблуждение зрителя». Однако вероятно, что муха на бордюре портрета — это не просто иллюзия ради иллюзии. Муха — насекомое, которое питается мертвечиной и переносит болезни, олицетворяла гниение и умирание. Ее часто можно увидеть в сценах, связанных со Страстями Христовыми, или в различных сюжетах на тему memento mori. Потому и на портрете картузианца она могла напоминать зрителю о бренности всего сущего.
68 а, б Петрус Кристус. Портрет картузианца, 1446 г. New York. The Metropolitan Museum of Art. № 49.7.19.
За нарисованным окном-рамой сидит мирской брат из Картузианского ордена. На темно-красном бордюре, словно по камню, «вырезана» подпись художника: «PETRUS XPI ME FECIT» («Петрус Кристус меня создал»). Над ней он нарисовал муху: кажется, будто она присела на край портрета. Конечно, эта «обманка» демонстрирует виртуозность мастера, способного обвести зрителя вокруг пальца. Еще Филострат Старший (ум. в 240-х гг.) в своих «Картинах» упоминал о художнике, который нарисовал пчелу, севшую на цветок, так, что было невозможно понять, «опустилась ли на изображенный цветок настоящая пчела, введенная в заблуждение живописцем, или же нарисованная пчела вводит в заблуждение зрителя». Однако вероятно, что муха на бордюре портрета — это не просто иллюзия ради иллюзии. Муха — насекомое, которое питается мертвечиной и переносит болезни, олицетворяла гниение и умирание. Ее часто можно увидеть в сценах, связанных со Страстями Христовыми, или в различных сюжетах на тему memento mori. Потому и на портрете картузианца она могла напоминать зрителю о бренности всего сущего.
Избалованные фотографией и гиперреалистической живописью, мы едва ли можем представить, какое восхищение должны были вызывать такие иллюзии — и их саморазоблачение. Взглянем на «Гентский алтарь» (ок. 1435 г.) — самое сложное и масштабное творение Яна ван Эйка. Хотя выход за рамки и trompe l'œil — далеко не первое, что там бросается в глаза, эти детали помогают понять, как художник играет с воображением зрителя. Когда алтарь открыт, на крайних створках по правую руку Бога-Отца мы видим Адама, а по левую — Еву [70]. Это первые люди и виновники грехопадения, которое потребовалось искупить Агнцу — Христу, добровольно принявшему смерть на кресте. Они уже изгнаны из рая и стыдливо прикрывают руками свой срам.
 69 Часослов Да Косты. Гент, ок. 1515 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. M.399. Fol. 329.
Крылья нарисованной стрекозы с полей залезают на текст молитвы, обращенной к св. Елизавете Тюрингской.
69 Часослов Да Косты. Гент, ок. 1515 г. New York. The Morgan Library and Museum. Ms. M.399. Fol. 329.
Крылья нарисованной стрекозы с полей залезают на текст молитвы, обращенной к св. Елизавете Тюрингской.
До ван Эйка никто из северных художников не осмеливался поместить на алтарный образ нагие (если не считать листков, закрывающих гениталии) фигуры, изображенные в рост человека. Они фантастически правдоподобны, но зажаты в тесных каменных нишах — как статуи. Если приглядеться, мы увидим, что правая ступня Адама нарисована так, словно переступает раму. Пальцы выходят в пространство, где находится зритель, стоящий внизу под громадным полиптихом[61] [71 а]. В 1566 г. нидерландский историк Маркус ван Верневийк восхищался иллюзией, созданной ван Эйком: «…глядя на них [фигуры Адама и Евы], никто не может сказать без колебаний, выступает ли одна из ног Адама из плоской панели или нет […] Его тело настолько похоже на плоть, что кажется, что это и есть сама плоть»[62], Когда алтарь закрыт, зритель прямо перед собой видит четыре идентичные ниши. В центре на пьедесталах стоят статуи Иоанна Крестителя (главного патрона церкви, для которой был заказан алтарь) и Иоанна Богослова. По краям — «живые» фигуры донаторов: богатого купца Йоса Вейдта, который тогда был мэром Гента, и его жены Элизабет Борлют.
 70 Ян ван Эйк. Гентский алтарь (в открытом состоянии), ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона.
70 Ян ван Эйк. Гентский алтарь (в открытом состоянии), ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона.
Иоанн Креститель — бос, а Иоанн Богослов — обут. И у обоих пальцы одной ноги выступают за край пьедестала [71б]. Такой прием в XV в. встречается на изображениях статуй у многих нидерландских и некоторых итальянских мастеров. Благодаря ему создается ощущение, что нарисованное изваяние действительно трехмерно, а то и вот-вот готово сойти с пьедестала[63]. Однако художники не придумали этот ход. На многих готических статуях пальцы святых или края их обуви действительно выступают за плоскость опоры, на которой они установлены. Более того, на витражах фигуры, которые, видимо, представляют «самих» святых, а не их скульптурные изображения, тоже часто стоят на небольших пьедесталах, а кончики их ступней так же чуть выдаются вперед[64]. Оба Иоанна изображены в гризайли — с помощью градаций серого (в средневековых текстах эта техника так и называлась — color lapidum, «цвет камня»). Однако известно, что настоящие статуи, которые стояли в церквах того времени, чаще всего были раскрашены, чтобы придать им большее «живоподобие». Без полихромии обычно оставались только фигуры, сделанные из драгоценных материалов — слоновой кости, алебастра, мрамора и т. д.[65] Рисуя какие-то фигуры в монохроме, ван Эйк подчеркивал их искусственность. Зритель тотчас же понимал, что перед ним не сами ангелы или святые (как те, что действовали в соседних сценах), а их изображения, встроенные в другое изображение [72]. На фоне серых каменных статуй коленопреклоненные донаторы, изображенные по краям, кажутся еще более реалистичными и «живыми»[66]. Над Иоаннами и заказчиками алтаря помещена сцена Благовещения. Архангел Гавриил и Дева Мария предстают как живые существа. Однако их кожа чрезвычайно бледна, а одежды белы и скорее похожи на каменные одеяния Крестителя и Богослова. Кажется, что ван Эйк хотел их изобразить на «полпути» между людьми и статуями.

 71 а, б Ян ван Эйк. Гентский алтарь, ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона Нога Адама (вверху) и нога Иоанна Крестителя (внизу).
71 а, б Ян ван Эйк. Гентский алтарь, ок. 1435 г. Гент. Собор св. Бавона Нога Адама (вверху) и нога Иоанна Крестителя (внизу).
Такой прием — полугризайль (когда фигура написана в оттенках серого, но лица, руки или какие-то еще элементы раскрашены) — еще до него применялся в книжной миниатюре. И порой так, выборочно, раскрашивали и реальные статуи[67]. Пo гипотезе историка Джеймса Мэрроу, Благовещение на внешних створках «Гентского алтаря» написано в полугризайли потому, что ван Эйк представляет его как пролог христианской истории. Боговоплощение еще не свершилось — Слово еще не стало Плотью. На внешних створках — монохромные статуи святых и бледные полустатуи Гавриила и Марии (правда, над ними — «полнокровные» пророки и сивиллы). А внутри, если открыть алтарь, в сиянии и цвете — главное действо: поклонение Христу-Агнцу и Бог-Отец во славе, окруженный Марией, Иоанном Крестителем и сонмом ангелов[68]. Написав своих удивительных Иоаннов, ван Эйк, конечно, демонстрировал возможности живописи как самого универсального из искусств. Он показал, что способен с помощью красок создать на плоскости иллюзию трехмерного изваяния — ничуть не менее реального, чем те, которые вырезают из камня (тем более, что в эпоху ван Эйка художники сами часто расписывали скульптуры и были прекрасно знакомы с этим ремеслом). Изображая живые фигуры, стоящие в нишах, словно статуи, а статуи, сходящие с пьедесталов, как людей, ван Эйк играл с градациями живого и неживого, реального и иллюзорного. Выход ноги за пределы рамы или пьедестала — не единственный прием, с помощью которого он соединял воображаемое пространство с реальным.

 72 Ян ван Эйк. Благовещение, ок. 1433–1435 гг. Madrid. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. № 137.b (1933.11.2).
Ван Эйк изобразил не «само» Благовещение, а его изображение: и архангел Гавриил, и Дева Мария предстают как каменные статуи, стоящие в прямоугольных нишах. Они не утоплены вглубь, а выступают вперед — к зрителю. Это видно, скажем, по тени, которую на каменную раму отбрасывает крыло архангела. Однако эти статуи не до конца статуи. Как мастер визуальных парадоксов, ван Эйк изобразил каменного голубя свободно парящим над Девой Марией, что в реальной скульптуре технически невозможно.
72 Ян ван Эйк. Благовещение, ок. 1433–1435 гг. Madrid. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. № 137.b (1933.11.2).
Ван Эйк изобразил не «само» Благовещение, а его изображение: и архангел Гавриил, и Дева Мария предстают как каменные статуи, стоящие в прямоугольных нишах. Они не утоплены вглубь, а выступают вперед — к зрителю. Это видно, скажем, по тени, которую на каменную раму отбрасывает крыло архангела. Однако эти статуи не до конца статуи. Как мастер визуальных парадоксов, ван Эйк изобразил каменного голубя свободно парящим над Девой Марией, что в реальной скульптуре технически невозможно.
В сцене Благовещения настоящая деревянная рама отбрасывает нарисованную тень на пол комнаты, где Дева Мария встречает небесного вестника. Тень падает влево, поскольку изначально алтарь был установлен в семейной часовне семейства Вейдт так, что окно располагалось с правой стороны от него. В итоге реальный свет давал нарисованную тень, а алтарный образ адаптировался к тому пространству, где был явлен зрителю, пришедшему поглазеть или помолиться[69]. На многих «иконах» и светских портретах, созданных фламандскими мастерами в XV в., их персонаж — Христос, знатный вельможа или богатый бюргер — оказывается изображен по пояс, как будто сидит за окном. Часто художники рисовали вокруг фигуры фиктивную раму, имитировавшую фактуру дерева или камня. Она примыкала к настоящей раме, в которую был вставлен образ, и буквально сливалась с ней[70]. А изображенный клал руку на нарисованный парапет.
 73 Ганс Мемлинг. Портрет молодой женщины («Сивилла»), 1480 г. Bruges. Stedelijke Musea, Memlingmuseum — Sint-Janhispitaal. № OSJ 174.I.
73 Ганс Мемлинг. Портрет молодой женщины («Сивилла»), 1480 г. Bruges. Stedelijke Musea, Memlingmuseum — Sint-Janhispitaal. № OSJ 174.I.
Из-за этого казалось, будто его ладонь выступает из пространства изображения к нам, в пространство зрителя[71]. Как этот эффект достигался, хорошо видно на портрете молодой дамы (так называемой «Сивиллы»), созданном около 1480 г. Гансом Мемлингом [73]. Ладони неизвестной лежат на фиктивном парапете, а кончики пальцев правой руки дописаны на внутренней поверхности настоящей, деревянной рамы, которая украшена под мрамор[72]. В отличие от безголового блеммия из англосаксонской рукописи, фламандская дама действительно — на миллиметры — выходит за плоскость изображения.
 одной из англосаксонских рукописей, в которых сохранился краткий трактат о «Чудесах Востока», бок о бок стоят два монструозных создания [39]. Слева в фиолетовом квадрате изображен лертик — зверь с овечьей шерстью, ослиными ушами и птичьими лапами. Справа, в сером прямоугольнике, — безголовый человек, принадлежащий к народу блеммиев. «Есть и другой остров на Бриксонте, к югу, где рождаются люди, у которых отсутствует голова, а глаза и рот расположены на груди; высотой они в восемь футов и столько же в ширину». В отличие от лертика блеммию, который смотрит прямо на нас, тесно в рамке. Он наступает на ее край и обхватывает сзади пальцами, словно чтобы не дать ей упасть или выбраться из нее на свободу. Из имматериального бордюра, который лишь очерчивает границы изображения, она превращается в трехмерный объект, с которым персонаж вступает во взаимодействие[43].
одной из англосаксонских рукописей, в которых сохранился краткий трактат о «Чудесах Востока», бок о бок стоят два монструозных создания [39]. Слева в фиолетовом квадрате изображен лертик — зверь с овечьей шерстью, ослиными ушами и птичьими лапами. Справа, в сером прямоугольнике, — безголовый человек, принадлежащий к народу блеммиев. «Есть и другой остров на Бриксонте, к югу, где рождаются люди, у которых отсутствует голова, а глаза и рот расположены на груди; высотой они в восемь футов и столько же в ширину». В отличие от лертика блеммию, который смотрит прямо на нас, тесно в рамке. Он наступает на ее край и обхватывает сзади пальцами, словно чтобы не дать ей упасть или выбраться из нее на свободу. Из имматериального бордюра, который лишь очерчивает границы изображения, она превращается в трехмерный объект, с которым персонаж вступает во взаимодействие[43].

Этот блеммий сразу же вызывает в памяти мальчика, вылезающего из рамы, которого в 1874 г., экспериментируя с эффектом trompe-l'oeil, написал каталонский художник Пере Боррель дель Казо [40]. В декоре средневековых рукописей выход за рамки изображения — не исключение, а почти правило.
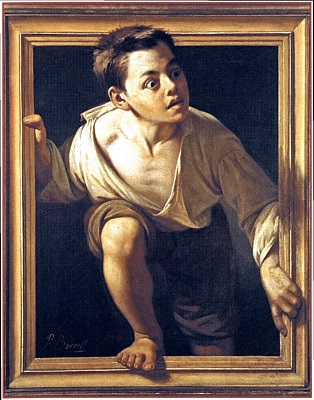
Ангельские и демонские крыла, наконечники копий, крупы коней или части других предметов и тел постоянно пересекают бордюр, очерчивающий сцену, и выходят на поля — в пространство, лежащее за пределами миниатюры или инициала. И чаще всего так происходит не оттого, что мастер что-то не рассчитал или проявил небрежность, а потому, что в средневековой иконографии граница изображения функционировала не совсем так, как мы привыкли сегодня.
Невидимая граница
В музеях европейской живописи залы завешаны картинами, заключенными в позолоченные рамы самых разных конструкций. Рама защищает вставленное в нее хрупкое полотно и помогает прикрепить его к стене, чтобы им можно было любоваться. Однако ее практическое значение все же отступает перед символическим. Рама — это в первую очередь мирской оклад, доказательство того, что перед нами произведение искусства, нечто, достойное того чтобы повесить на степу у себя дома, представить на обозрение публики или выставить на продажу[44]. Потому, чтобы придать эскизу или незавершенной работе статус произведения, их отдают в багетную мастерскую. Хотя в XX в. многие художники, мечтая порвать с академизмом и условностями старой живописи, стали отказываться от рам, современный зритель все равно смутно ощущает, что картина должна быть обрамлена. Любая рама — это, конечно, граница. Она отделяет изображенный мир от реального пространства, где пребывает смотрящий. Как писал в 1921 г. в эссе о поэтике рамы испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, «произведение искусства — это остров воображаемого, который со всех сторон окружен реальностью». Картина без рамы размывает границу между искусством и «утилитарными, внехудожественными объектами», а потому «теряет всю свою красоту и силу»[45]. При этом рама чаще всего воспринимается как нечто внеположное образу, его обрамление, что-то красивое (или для кого-то — уродливое), но не обязательное. В новоевропейской живописи она обычно сделана из материала, отличного оттого, на котором размещено изображение. Холст можно вынуть из рамы и безболезненно переместить в другую. Потому при фотовоспроизведении картин в альбомах или в каталогах рама чаще всего отрезается, остается вне кадра. Зритель чувствует, что она не имеет отношения к тому, что изображено на картине. «Когда мы мысленно входим в это воображаемое пространство, мы забываем о рамках — так же, как забываем о стене, на которой висит картина»[46]. Потому зрителя обычно не удивляет контраст между рамой и тем, что изображено внутри. Скажем, между старыми башмаками, которые в 1888 г. написал Ван Гог, и позолоченными завитками, в которые они обрамлены в Музее Метрополитен. Эту особенность восприятия кратко описал еще Иммануил Кант. В «Критике способности суждения» (1790) он отнес рамы к числу «украшений» (parerga) — вещей, которые «не входят в представление о предмете в целом как его внутренняя составная часть, а связаны с ним лишь внешне как дополнение». Рамы картин играют ту же роль, что и драпировка статуй или колоннада, выстроенная вокруг здания, чтобы подчеркнуть его величественные формы. «Но если украшение само не обладает прекрасной формой, если оно, подобно золотой раме, добавлено лишь для того, чтобы своей привлекательностью вызвать одобрение картины, то оно называется украшательством и вредит подлинной красоте»[47]. Говоря о рамах картин, и Кант, и Ортега-и-Гассет, конечно, имели в виду классическую европейскую живопись, появившуюся на свет в эпоху Возрождения. Однако рамы, оклады, складни и другие конструкции, в которые было встроено изображение, возникли задолго до этого. Причем в Средневековье рамы — сияющие золотом «реликварии», заключавшие фигуры святых и сакральные сцены, — играли даже более важную роль, чем в Новое время. Но размышления этих двух философов к ним почти что не применимы. Во-первых, потому, что рамы, в которые были одеты старые итальянские иконы, наследницы византийских, или многоуровневые створчатые ретабли, какие стояли во фламандских или немецких церквях, часто в буквальном смысле составляли с изображением единое целое. Образ писали на доске, а по ее краям оставляли высокий бордюр; деревянную раму намертво приклеивали или прибивали к образу и т. д. Потому чаще всего их нельзя было отделить друг от друга. А если и можно, то, оставшись без рамы, панели, из которых, скажем, был собран большой заалтарный образ, неизбежно утратили бы единство. Во-вторых, что важнее, средневековая рама регулярно служила не только обрамлением, украшением или каркасом, позволявшим объединить разные части изображения, но и была его продолжением. Они были связаны не только пространственно, но и концептуально. Например, на раме помещали дополнительные фигуры либо писали надписи, которые были обращены к зрителю. Они разъясняли ему смысл того, что он видит перед собой, указывали, кто создал это изображение, или ходатайствовали о молитвах за его автора и/или заказчика[48].
Визуальный монтаж
Помимо внешних — материальных — рам или окладов, на многих средневековых образах существовало множество внутренних — написанных краской или изготовленных из металла, дерева или камня — рамок. Они очерчивали на поверхности поле, предназначенное для изображения, а потом, в зависимости от художественных и дидактических задач, делили его на сегменты разных форм и размеров, Самый очевидный пример таких рамок — это бордюры, которые членили пространство книжного листа. В Средние века нетрудно найти рукописи, где фигуры и сцены рисовались на «голой» поверхности пергамена, без какой-либо подложки или обрамления. Они могли занимать всю страницу (и тогда их естественной границей служил прямоугольник листа) либо делили поверхность с текстом. Однако чаще изображение окружалось рамкой, вписывалось внутрь инициала или было как-то еще ограничено. И в том, как именно очертить визуальное поле, средневековые мастера проявляли почти безграничную изобретательность. В ход шли едва заметные линии и многослойные бордюры, в которых чередовались и переплетались узоры разных цветов, архитектурные рамки, выдержанные в классическом или в готическом стиле, и т. д.[49] Вce они отделяли пространство, предназначенное для изображения, от полей. А они, в частности, требовались для того, чтобы читатель, листая рукопись, не прикасался пальцами к драгоценным образам и буквам. Поля могли оставаться пустыми, а могли заселяться всевозможными рисунками-маргиналиями или служить для читательских пометок — комментариев и мнемонических «зарубок», помогавших лучше усвоить текст и быстрее в нем сориентироваться. Помимо основной рамки, очерчивавшей поле, занятое изображением, средневековые мастера использовали множество внутренних рамок, которые структурировали его изнутри. Они помогали отделить одну сцену от другой, направляли взгляд зрителя, выстраивали персонажей и сюжеты в иерархию и подсказывали, как следует толковать тот или иной образ. Скажем, мастеру требовалось уместить на странице какую-то длинную историю, состоящую из множества эпизодов. Для этого в самом простом варианте он мог прочертить сетку из одинаковых квадратов или прямоугольников. И в каждый из них помещал отдельную сцену [41, 42]. При таком монтаже взгляд зрителя сканировал визуальный ряд так же, как текст — слева направо и сверху вниз. Череда одинаковых «кадров» — это самый простой случай. Во множестве рукописей мы встречаем многоуровневую систему из квадратов, прямоугольников, ромбов, кругов или полукружий с разноцветными бордюрами и фонами разных цветов. Столь сложный дизайн позволял не просто рассказать историю, а снабдить ее комментарием или визуализировать какую-то богословскую доктрину или натурфилософскую теорию. На таких миниатюрах, которые можно сравнить с инфографикой, часто не существует единого порядка чтения.

Чтобы расшифровать смысл изображенного, взгляд сканирует лист в разных направлениях в поисках связей между событиями или персонажами, расположенными в разных отсеках. Тут рамки не просто позволяют выстроить последовательный рассказ, а направляют интерпретацию. Эта задача была особенно важна в различных типологических композициях, которые соотносили события Ветхого и Нового Заветов.

Суть типологии — как метода толкования Священного Писания и как стиля исторического мышления — состояла в том, что отдельные эпизоды, персонажи и предметы из Ветхого Завета интерпретировались как предвозвестия эпизодов, персонажей и предметов из Нового. При этом речь шла не о словесных пророчествах, а именно о том, что сами события, описанные в Ветхом Завете, заключали в себе указание на грядущее Боговоплощение и миссию Христа по спасению рода человеческого. Как из века в век повторяли христианские богословы, Ветхий Завет находит полное воплощение в Новом, а Новый раскрывает истинный смысл Ветхого. этой системе координат Священная история предстает как многоуровневая система параллелей. Ветхозаветные события-«предсказания» называются типами, а их новозаветные «реализации» — антитипами. Например, жертвоприношение Исаака его отцом Авраамом, которое в итоге не состоялось, так как Господь приказал ему вместо сына зарезать агнца, — один из типов добровольной жертвы, которую на кресте принес Христос — истинный Агнец. Пророк Иона, спасшийся из чрева кита, — это тип Христа, который был погребен, спустился в преисподнюю, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведников, а потом восстал из мертвых. На типологических композициях вся геометрия была построена так, чтобы ясно соотнести новозаветный антитип и его ветхозаветные типы. Для этого основной сюжет обычно помещался в центр, а его библейские прообразы и небиблейские аллегории выстраивались вокруг [43].
Живые рамки
Безголовый блеммий, который как будто пытается выбраться из миниатюры, не первый и не последний нарушитель рамок в истории средневекового искусства. Но нарушать их можно было по-разному[50]. Здесь игра построена на том, что зритель не до конца понимает статус бордюра. Он оказывается не просто границей, отделяющей пространство изображения от полей, а трехмерным объектом, с которым персонаж, помещенный вовнутрь, вступает в физическое взаимодействие. Во многих случаях этот сдвиг происходит почти незаметно. Скажем, сцена очерчена рамкой. Она, как чаще всего и бывает, кажется чем-то внешним по отношению к сцене, разворачивающейся внутри. Однако в одном месте рука кого-то из персонажей обхватывает ее сзади или вокруг нее закручивается длинный подол плаща. Так оказывается, что бордюр — это все-таки часть изображения, а линия на самом деле трехмерна [44–46]. Более распространенный случай — это буквальный выход за границы кадра, когда какой-то предмет или персонаж, словно не уместившись в рамке, выбивается на поля. Он никак не взаимодействует с бордюром, а пересекает его, словно не замечая [47].


Такой прием, к примеру, требовался для того, чтобы подчеркнуть колоссальную высоту гор и зданий или сверхъестественную природу «нарушителей», которые воспаряют в небеса [48, 49]. Потому за границу изображения так часто выходят сакральные либо, наоборот, демонические персонажи. Кроме того, в сценах битв, поединков или казней копья, мечи или плети регулярно не вписываются в кадр.
Благодаря этому зритель может ощутить стремительное движение, жестокость и мощь ударов. Потому такой выход за рамки можно увидеть во многих сценах Страстей Христовых, где копья воинов, пришедших арестовать Христа в Гефсиманском саду, или бичи палачей, истязавших его в претории, пересекают бордюр[51] [50, 51].

Джеймс Мэрроу предположил, что этот прием был призван усилить эффект присутствия и сократить психологическую дистанцию между зрителем и событиями из священной истории, которые разворачиваются у него на глазах. Казалось, что Христос и его палачи почти сходят со страниц рукописи.


Это помогало владельцу Псалтири или Часослова соотнести себя с происходящим в кадре: ужаснуться жестокости римлян и иудеев, почувствовать боль Христа, который претерпел такие страдания ради спасения человечества, а через это духовно преобразиться[52]. Возможно, что так и было — выход за рамки усиливал эмоциональную силу изображения. Но в Средние века этот прием точно не был зарезервирован за сакральными сценами. Вo многих сюжетах выход за рамки использовался для того, чтобы показать чье-то бегство или низвержение.
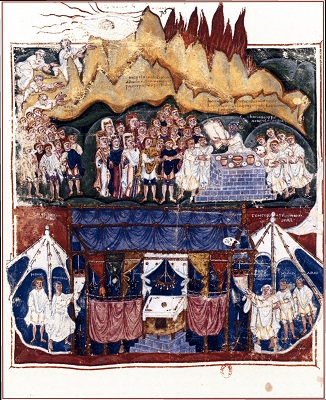
В христианской иконографии падение и изгнание — обычно удел дьявола, иноверцев, еретиков и других негативных персонажей. Потому за бордюр так часто уносятся демоны, которых Христос или какой-то святой изверг во «тьму внешнюю», либо в батальных сценах — неправедные враги, разбитые праведным войском (филистимляне, побежденные израильтянами; сарацины, повергнутые крестоносцами, и т. д.). Но порой спасаться приходится праведникам: от земных врагов или от преследования со стороны Сатаны [52–55].



На одних миниатюрах персонажи, выйдя за рамки, продолжают движение/падение на полях; на других — они тотчас скрываются за кулисами. Мир, лежащий вовне, уже недоступен зрителю. Бордюр срезает фигуры, так что по краю мы видим лишь крупы коней или половинки воинов [56]. А еще не стоит забывать о сюжетах, где персонаж, стоящий за рамкой, заглядывает в нее или обращается к тем, кто изображен внутри. Этот прием позволял показать два принципиально различных, но сопряженных друг с другом мира, пространство внутреннее и пространство внешнее, и коммуникацию между ними. В английской богослужебной рукописи рубежа XI–XII вв. ангел с полей протягивает в темницу, где томится апостол Петр, свиток со словами «встань скорее» (Деян. 12:7)[53].

В другой рукописи ангел сквозь бордюр, очерчивающий преисподнюю, бьет копьем демона [57]. Или, скажем, на миниатюре или в инициале изображен Христос или Дева Мария с Младенцем, а снаружи, на полях, стоит коленопреклоненный заказчик или заказчица. Однако свиток, на котором запечатлены их молитвы, устремляется внутрь сакрального пространства, где пребывают высшие силы, но куда сами просители не допущены[54]. На многих иллюстрациях к Апокалипсису видения, которые были явлены Иоанну Богослову на острове Патмос, изображаются в прямоугольной рамке, а сам апостол стоит на полях и через окошко заглядывает вовнутрь.

Здесь поля — это наш, земной мир, где находился визионер, а пространство, очерченное бордюром, — «экран», на котором ему (и нам) показываются божественные откровения [58]. Каждого из нарушений рамок, которые так часто встречались в средневековой миниатюре, была своя логика и свои иконографические корни. Некоторые из них, вероятно, восходят еще к Античности. Греческие, а потом римские художники (например, создатели многих фресок в Помпеях) мастерски создавали на плоскости иллюзию трехмерного пространства.
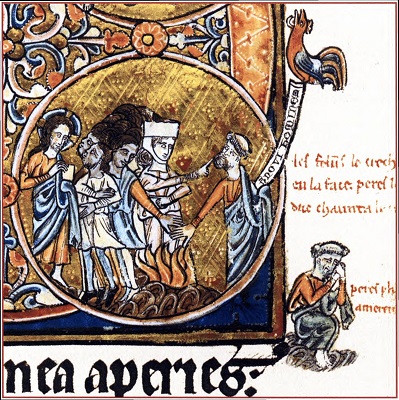
Чтобы усилить эффект присутствия и связать нарисованный мир с пространством зрителя, они часто применяли прием, известный как ракурс, или сокращение перспективы. Благодаря ему один из элементов изображения казался настолько объемным, что выступал из плоскости.




Плиний Старший в «Естественной истории» (XXXV, 92) рассказывал о том, как древнегреческий живописец Апеллес (IV в. до н. э.) в храме Артемиды в Эфесе написал портрет Александра Македонского с молнией (атрибутом Зевса) в руках. Такой, что, казалось, «будто пальцы выступают [вперед], а молния находится вне картины»[55]. Как мы уже говорили, средневековое искусство на многие века отказалось от концепции образа как окна в трехмерное пространство и от эффектов, связанных с перспективой. Пейзаж постепенно исчез, а сцена утратила глубину. Однако античный ракурс, создававший у зрителя ощущение, что изображение входит в его мир и оживает, не был полностью позабыт. Только теперь, в новой «плоской» манере, указующие персты или острия копий не смотрели вперед, а выходили за рамку — вниз, вверх или вбок[56] [59,60].
Вознесение за бордюр
В христианской иконографии есть главный вылет за рамки. И это, конечно, Вознесение Христа. По свидетельству Деяний апостолов (1:9–11), через сорок дней после воскресения Иисус на глазах у апостолов поднялся в небеса, «и облако взяло Его из вида их.


И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо?

В Евангелии от Марка (16:19), кроме того, говорилось, что, вознесшись на небеса, Христос «воссел одесную Бога». Нa древнейших образах Вознесения, которые были созданы на латинском Западе, Христа за руку поднимала в небеса длань Господня; он взлетал туда на облаке либо в миндалевидном или реже круглом ореоле — мандорле. Часто этот ореол, символизировавший божественное сияние и славу, изображали как рамку, которую в воздухе за края поддерживали ангелы [61]. В других вариантах они парили рядом с мандорлой, не прикасаясь к ней; стоя на земле, указывали ученикам Христа на его возносящуюся фигуру [62]; либо сцена вовсе обходилась без ангелов. Не давая ангелам прикоснуться к мандорле, художники или их консультанты-клирики, видимо, напоминали о том, что, в отличие от пророков Илии и Еноха, которые, по преданию, были взяты на небо живыми, Христос, как Сын Божий, взошел туда сам. Ему не требовалась ни огненная колесница, которая вознесла ввысь Илию, ни помощь небесных духов [63]. Около 1000 г. в Англии появился новый иконографический тип Вознесения, который американский медиевист Мейер Шапиро назвал «исчезающим Христом». На таких образах видна лишь нижняя часть его тела — верхняя, как подразумевается, уже скрыта за облаком. Оно маркировало границу между землей и небом, видимым материальным миром и инобытием.


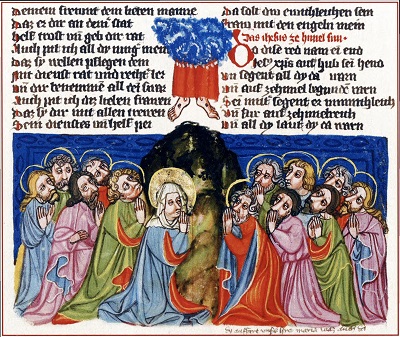

Поскольку облако чаще всего примыкало к рамке миниатюры, выходило, что Христос улетает за ее край[57] [64–66]. В поисках того, как англосаксонские мастера «осмелились» показать лишь ноги Христа, Шапиро предположил, что ими двигало стремление к психологической достоверности. Они старались изобразить Вознесение не глазами всевидящего наблюдателя, которому открыты и зримый, и незримый миры, а так, как его могли увидеть апостолы, от которых Христос скрылся в выси.

Однако, возможно, дело не только в стремлении к визуальной/психологической достоверности, но и в символике, связанной с телом Спасителя. Некоторые раннесредневековые богословы указывали, что ноги Христа символизировали Его человеческую, а голова — божественную природу. Или, как писал Беда Достопочтенный (ум. в 735 г.) из монастыря Джарроу на севере Англии, голова Христа олицетворяла его роль как главы Церкви, а ноги означали верующих — все христианское сообщество. В ту же эпоху, когда появились первые изображения исчезающего Христа, ученый монах Эльфрик Грамматик объяснял, что после вознесения Христос одновременно пребывает и на небесах, и здесь, на земле — через свою Церковь[58].

Потому изображения, где голова Спасителя уже скрыта за облаками, а ноги все еще явлены взору, могли напоминать о том, что Христос вознесся и в то же время пребывает среди людей. В Позднее Средневековье на многих образах Вознесения облако, которое «взяло его из вида их», просто перестали рисовать [67]. И тогда получалось, что тело Христа рассекается на две части рамкой, в которую заключена миниатюра, а пустой пергамен полей, за которым уже исчезла его голова и верхняя часть туловища, олицетворяет пространство божественного, недоступное взору смертных.
Ладонь Христа и ступня Адама
Выход за рамки возможен не только на плоскости, но и в пространстве. В XV в. европейские художники вновь стали активно осваивать перспективу, играть с пространственными иллюзиями и экспериментировать с визуальными «обманками» (trompe l'œil)[59]. Они должны были создать у зрителя ощущение, что нарисованный мир столь же правдоподобен и осязаем, как тот, в котором он сам находится, размывали границу между реальностью и изображением, завлекали взгляд внутрь сцены — и конечно, демонстрировали удивительное мастерство художника. Если на ком-то из персонажей или на раме картины мастер рисует муху, зритель тотчас хочет ее прогнать или прихлопнуть[60] [68,69].


Избалованные фотографией и гиперреалистической живописью, мы едва ли можем представить, какое восхищение должны были вызывать такие иллюзии — и их саморазоблачение. Взглянем на «Гентский алтарь» (ок. 1435 г.) — самое сложное и масштабное творение Яна ван Эйка. Хотя выход за рамки и trompe l'œil — далеко не первое, что там бросается в глаза, эти детали помогают понять, как художник играет с воображением зрителя. Когда алтарь открыт, на крайних створках по правую руку Бога-Отца мы видим Адама, а по левую — Еву [70]. Это первые люди и виновники грехопадения, которое потребовалось искупить Агнцу — Христу, добровольно принявшему смерть на кресте. Они уже изгнаны из рая и стыдливо прикрывают руками свой срам.

До ван Эйка никто из северных художников не осмеливался поместить на алтарный образ нагие (если не считать листков, закрывающих гениталии) фигуры, изображенные в рост человека. Они фантастически правдоподобны, но зажаты в тесных каменных нишах — как статуи. Если приглядеться, мы увидим, что правая ступня Адама нарисована так, словно переступает раму. Пальцы выходят в пространство, где находится зритель, стоящий внизу под громадным полиптихом[61] [71 а]. В 1566 г. нидерландский историк Маркус ван Верневийк восхищался иллюзией, созданной ван Эйком: «…глядя на них [фигуры Адама и Евы], никто не может сказать без колебаний, выступает ли одна из ног Адама из плоской панели или нет […] Его тело настолько похоже на плоть, что кажется, что это и есть сама плоть»[62], Когда алтарь закрыт, зритель прямо перед собой видит четыре идентичные ниши. В центре на пьедесталах стоят статуи Иоанна Крестителя (главного патрона церкви, для которой был заказан алтарь) и Иоанна Богослова. По краям — «живые» фигуры донаторов: богатого купца Йоса Вейдта, который тогда был мэром Гента, и его жены Элизабет Борлют.

Иоанн Креститель — бос, а Иоанн Богослов — обут. И у обоих пальцы одной ноги выступают за край пьедестала [71б]. Такой прием в XV в. встречается на изображениях статуй у многих нидерландских и некоторых итальянских мастеров. Благодаря ему создается ощущение, что нарисованное изваяние действительно трехмерно, а то и вот-вот готово сойти с пьедестала[63]. Однако художники не придумали этот ход. На многих готических статуях пальцы святых или края их обуви действительно выступают за плоскость опоры, на которой они установлены. Более того, на витражах фигуры, которые, видимо, представляют «самих» святых, а не их скульптурные изображения, тоже часто стоят на небольших пьедесталах, а кончики их ступней так же чуть выдаются вперед[64]. Оба Иоанна изображены в гризайли — с помощью градаций серого (в средневековых текстах эта техника так и называлась — color lapidum, «цвет камня»). Однако известно, что настоящие статуи, которые стояли в церквах того времени, чаще всего были раскрашены, чтобы придать им большее «живоподобие». Без полихромии обычно оставались только фигуры, сделанные из драгоценных материалов — слоновой кости, алебастра, мрамора и т. д.[65] Рисуя какие-то фигуры в монохроме, ван Эйк подчеркивал их искусственность. Зритель тотчас же понимал, что перед ним не сами ангелы или святые (как те, что действовали в соседних сценах), а их изображения, встроенные в другое изображение [72]. На фоне серых каменных статуй коленопреклоненные донаторы, изображенные по краям, кажутся еще более реалистичными и «живыми»[66]. Над Иоаннами и заказчиками алтаря помещена сцена Благовещения. Архангел Гавриил и Дева Мария предстают как живые существа. Однако их кожа чрезвычайно бледна, а одежды белы и скорее похожи на каменные одеяния Крестителя и Богослова. Кажется, что ван Эйк хотел их изобразить на «полпути» между людьми и статуями.


Такой прием — полугризайль (когда фигура написана в оттенках серого, но лица, руки или какие-то еще элементы раскрашены) — еще до него применялся в книжной миниатюре. И порой так, выборочно, раскрашивали и реальные статуи[67]. Пo гипотезе историка Джеймса Мэрроу, Благовещение на внешних створках «Гентского алтаря» написано в полугризайли потому, что ван Эйк представляет его как пролог христианской истории. Боговоплощение еще не свершилось — Слово еще не стало Плотью. На внешних створках — монохромные статуи святых и бледные полустатуи Гавриила и Марии (правда, над ними — «полнокровные» пророки и сивиллы). А внутри, если открыть алтарь, в сиянии и цвете — главное действо: поклонение Христу-Агнцу и Бог-Отец во славе, окруженный Марией, Иоанном Крестителем и сонмом ангелов[68]. Написав своих удивительных Иоаннов, ван Эйк, конечно, демонстрировал возможности живописи как самого универсального из искусств. Он показал, что способен с помощью красок создать на плоскости иллюзию трехмерного изваяния — ничуть не менее реального, чем те, которые вырезают из камня (тем более, что в эпоху ван Эйка художники сами часто расписывали скульптуры и были прекрасно знакомы с этим ремеслом). Изображая живые фигуры, стоящие в нишах, словно статуи, а статуи, сходящие с пьедесталов, как людей, ван Эйк играл с градациями живого и неживого, реального и иллюзорного. Выход ноги за пределы рамы или пьедестала — не единственный прием, с помощью которого он соединял воображаемое пространство с реальным.


В сцене Благовещения настоящая деревянная рама отбрасывает нарисованную тень на пол комнаты, где Дева Мария встречает небесного вестника. Тень падает влево, поскольку изначально алтарь был установлен в семейной часовне семейства Вейдт так, что окно располагалось с правой стороны от него. В итоге реальный свет давал нарисованную тень, а алтарный образ адаптировался к тому пространству, где был явлен зрителю, пришедшему поглазеть или помолиться[69]. На многих «иконах» и светских портретах, созданных фламандскими мастерами в XV в., их персонаж — Христос, знатный вельможа или богатый бюргер — оказывается изображен по пояс, как будто сидит за окном. Часто художники рисовали вокруг фигуры фиктивную раму, имитировавшую фактуру дерева или камня. Она примыкала к настоящей раме, в которую был вставлен образ, и буквально сливалась с ней[70]. А изображенный клал руку на нарисованный парапет.

Из-за этого казалось, будто его ладонь выступает из пространства изображения к нам, в пространство зрителя[71]. Как этот эффект достигался, хорошо видно на портрете молодой дамы (так называемой «Сивиллы»), созданном около 1480 г. Гансом Мемлингом [73]. Ладони неизвестной лежат на фиктивном парапете, а кончики пальцев правой руки дописаны на внутренней поверхности настоящей, деревянной рамы, которая украшена под мрамор[72]. В отличие от безголового блеммия из англосаксонской рукописи, фламандская дама действительно — на миллиметры — выходит за плоскость изображения.
Монах-наседка
Споры о маргиналиях
 асослов, созданный около 1315–1325 гг. во Фландрии, скорее всего, для некой знатной дамы. В инициале «D» (Deus — «Бог») изображено Рождество — таинство вочеловечивания Бога[73] [74]. Мы видим самого младенца Иисуса, Деву Марию, Иосифа, вола и осла. Этот сюжет выбран совсем не случайно. Перед нами начало одного из «часов» Богоматери — подборки псалмов, гимнов и молитв, которая должна была читаться в первый канонический час, то есть около шести утра. Она открывается первой строкой 69-го псалма «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи», а потом продолжается гимном «Memento salutis auctor», посвященным чудесному воплощению Христа через Мать-Деву. Однако внизу на полях разворачивается странное действо. Нагой мужчина выставляет в небо свой зад. Справа от него монах, взобравшись в большую корзину, высиживает яйца, а одно из яиц разглядывает или, возможно, греет в лучах солнца. Что это абсурдное действо значит? Ответить на этот простой вопрос вовсе непросто. И дело в самой природе маргиналий (от латинского слова margo — «край»).
асослов, созданный около 1315–1325 гг. во Фландрии, скорее всего, для некой знатной дамы. В инициале «D» (Deus — «Бог») изображено Рождество — таинство вочеловечивания Бога[73] [74]. Мы видим самого младенца Иисуса, Деву Марию, Иосифа, вола и осла. Этот сюжет выбран совсем не случайно. Перед нами начало одного из «часов» Богоматери — подборки псалмов, гимнов и молитв, которая должна была читаться в первый канонический час, то есть около шести утра. Она открывается первой строкой 69-го псалма «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи», а потом продолжается гимном «Memento salutis auctor», посвященным чудесному воплощению Христа через Мать-Деву. Однако внизу на полях разворачивается странное действо. Нагой мужчина выставляет в небо свой зад. Справа от него монах, взобравшись в большую корзину, высиживает яйца, а одно из яиц разглядывает или, возможно, греет в лучах солнца. Что это абсурдное действо значит? Ответить на этот простой вопрос вовсе непросто. И дело в самой природе маргиналий (от латинского слова margo — «край»).
 74 Часослов и Псалтирь. Гент (?), ок. 1315–1325 гг. Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. 82. Fol. 179v.
74 Часослов и Псалтирь. Гент (?), ок. 1315–1325 гг. Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. 82. Fol. 179v.
Ведь фигуры и сценки, которые заселяли книжные поля, очень часто не были никак связаны с текстом, занимавшим центр страницы. И к очень многим из них, в отличие от сакральных или светских сюжетов, которые изображались на миниатюрах, трудно, а то и вовсе невозможно подобрать какие-то тексты-ключи.
Книжные окраины
О каких маргиналиях мы говорим? С XIII в. поля фламандских, английских или французских рукописей, которые до того чаще всего оставались пустыми или служили для кратких пометок и зарисовок, заполняет причудливый и озорной декор. Звери, гоняющиеся друг за другом, охотники, преследующие дичь, акробаты, жонглеры, музыканты, игроки в кости, шуты, калеки, укротители с дрессированными медведями, пьяные пирушки, деревенские праздники, крестьяне, вспахивающие поля, и, конечно, турниры — между рыцарями, клириками, женщинами…[74] Маргиналии — это пространство, где часто бал правит пародия, а один из самых талантливых пародистов — конечно же, обезьяна. Обезьяны рядятся в епископов, принимают исповеди и освящают церкви, словно благородные рыцари отправляются на охоту или, подобно ученым лекарям, рассматривают на свет мочу пациентов, чтобы поставить диагноз. На полях многих рукописей — причем даже тех, что заказывали князья церкви, — можно встретить всевозможные непристойности и скабрезности: персонажи выставляют напоказ свой зад или половые органы, пускают газы или испражняются. Вo многих маргинальных сценках вся соль состоит в инверсии привычного (и считающегося естественным и единственно верным) порядка вещей: отношений между человеком и зверем, мужчиной и женщиной, господами и подданными. В перевернутом мире пугливые зайцы охотятся за охотниками, рыцари во всеоружии пасуют, столкнувшись с улиткой [75], ученики хлещут розгами учителей, всадники переносят на плечах лошадей, а женщины повелевают мужчинами. Книжные поля превращаются в пространство визуальной игры и бесконечной трансформации форм. По окраинам листа множатся монструозные существа, собранные из элементов человека, зверя, птицы, рыбы или растения. Один из самых распространенных типажей — существа без тела, но с огромной головой, приделанной прямо к ногам, или гибриды с несколькими дополнительными лицами (на груди, животе или заду), смотрящими в разные стороны (их принято называть греческим словом grylloi)[75] [76]. Все эти монстры разгуливают по книжным полям, карабкаются по геометрическим или растительным бордюрам и с любопытством заглядывают внутрь инициалов и миниатюр. Многие из них вырастают из декоративных побегов, которые окружают текст.
 75 Горлестонская Псалтирь. Англия, ок. 1310–1324 гг. London. British Library. Ms. Add 49622. Fol. 162v.
75 Горлестонская Псалтирь. Англия, ок. 1310–1324 гг. London. British Library. Ms. Add 49622. Fol. 162v.
 76 Часослов. Льеж, первая четверть XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 17. Fol. 160.
Гибрид-епископ сражается с гибридом-музыкантом.
76 Часослов. Льеж, первая четверть XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 17. Fol. 160.
Гибрид-епископ сражается с гибридом-музыкантом.
В итоге граница между растением и животным, живым и неживым, реальным и воображаемым оказывается предельно размытой. Историки, изучающие средневековые рукописи, а заодно маргинальный декор романских и готических храмов, само собой, давно пытаются разобраться в том, что это коловращение форм означает.
И часто приходят к крайне далеким друг от друга, а порой и противоположным выводам. В конце XIX в. французский искусствовед Эмиль Маль высмеивал коллег, которые, вооружившись сочинениями отцов церкви, богословскими суммами и бестиариями, повсюду искали изысканную символику. Он настаивал на том, что книжные маргиналии и маргинальные монстры, часто встречающие прихожан на стенах готических соборов, — это всего лишь декор, орнаментальная игра, заполняющая пустоты стены и пустоты листа, а декор не обязан обладать смыслом. Сцены, расцвечивавшие поля, для него — лишь пространство вольной игры, попытка художника имитировать, а порой превзойти природу в ее удивительном разнообразии. Потому стремление «прочитать» маргиналии или как-то связать их с текстами, которые они окружали, он считал бессмысленной тратой времени. Даже там, где средневековые мастера, к примеру, изображали обезьян-клириков, принимающих исповедь или служащих мессу, по его убеждению, не стоит искать сатиры на духовенство или какого-либо вызова существующему порядку — это лишь «бесхитростные шутки», в которых нет места «ни неприличию, ни иронии»[76]. Хотя сегодня едва ли кто-то из историков согласится с тем, что средневековые маргиналии были настолько «беззубы». Маль точно подметил один момент: чем дальше от сакральных сюжетов и истин веры, тем больше свобода для визуальных поисков и самовыражения мастера. В середине XX в. Мейер Шапиро, описывая хищных монстров, вцепившихся друг в друга зверей и других загадочных персонажей, населявших капители монастырских клуатров и архитектурные «окраины» романских храмов, воспел свободу, которую они даровали средневековому скульптору или художнику. Вдали от вероучительной дидактики и догматического контроля тот мог дать волю своей фантазии. В полных агрессии, переплетающихся или перетекающих друг в друга формах Шапиро увидел отражение радостей, страхов и упований средневекового человека. Потому архитектурные и книжные маргиналии, где, по мысли Шапиро, мастер был волен отдаться игре форм, цвета, ритма и движения, так удивительно «современны»[77]. Однако не все готовы видеть в маргиналиях лишь украшение и проекцию личной фантазии их создателя. Многие историки отстаивали идею, что эта игра все равно служила дидактике. Так, Карл Вентерсдорф в статье о скатологических маргиналиях (где персонажи показывают друг другу и зрителю голый зад, пускают газы, испражняются и т. д.) утверждал, что они символизировали погрязший в грехе, перевернутый мир, искажение божественного порядка. И якобы должны были неустанно напоминать читателю/зрителю о дьявольских искушениях, со всех сторон осаждающих человека — так же, как в Псалтирях и Часословах непристойности и монструозности обступают священный текст[78].
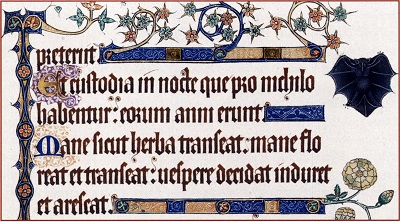 77 Псалтирь Латрелла. Англия, ок. 1325–1340 гг. London. British Library. Ms. Add. 42130. Fol. 164.
77 Псалтирь Латрелла. Англия, ок. 1325–1340 гг. London. British Library. Ms. Add. 42130. Fol. 164.
Однако эта трактовка точно не применима ко всем маргиналиям. Большинство из них скорее должно было смешить и высмеивать, чем наставлять и страшить. За последние полвека историки исследовали разные варианты того, как декор книжных полей связан с центром листа. Чаще всего маргиналии не имели к нему никакого отношения и представляли персонажей или сценки, заимствованные из совершенно других — письменных и часто устных — текстов: от нравоучительных «примеров» (exempta), которыми клирики оснащали свои проповеди, до бестиариев, от плутовских романов до басен и поговорок. Однако некоторые маргиналии все-таки комментировали, пародировали или как-то еще обыгрывали текст, который они обступали со всех сторон. Порой они визуализировали какие-то ключевые события или идеи из текста. Однако чаще они «откликались» на отдельные фрагменты фраз или даже отдельные слова, которые не обязательно были особо значимы. Так, на одном из листов английской Псалтири Латрелла справа от строчки, где фигурирует слово «ночь» (in node), мастер изобразил летучую мышь[79] [77]. И таких «образов слов» среди маргиналий было немало[80].
Безумцы плодят безумцев
Но вернемся к монаху, устроившемуся в гнезде на полях гентского Часослова. Что мы точно знаем об этом сюжете? Изображение мужчины, который высиживает яйца, встречается среди маргиналий еще в нескольких северофранцузских и фламандских рукописях той поры. Но всякий раз история выглядит чуть по-другому.
 78 Роман о Ланселоте Озерном. Северная Франция, ок. 1275–1300 гг. New Haven. Beinecke Rare Book & Manuscript Library. Ms. 229. Fol. 31.
78 Роман о Ланселоте Озерном. Северная Франция, ок. 1275–1300 гг. New Haven. Beinecke Rare Book & Manuscript Library. Ms. 229. Fol. 31.
 79 Роман о Мерлине. Северная Франция, ок. 1280–1290 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 95. Fol. 343.
79 Роман о Мерлине. Северная Франция, ок. 1280–1290 гг. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 95. Fol. 343.
Псалтири, вероятно, созданной в Генте в 1320–1330-х гг., человек в сером капюшоне (тоже, возможно, монах), сидящий в корзине, окружен двумя обезьянами. Он также рассматривает (греет?) яйцо в лучах солнца, а одна из обезьян, одетая в длинный плащ, надкусывает яйцо[81]. На полях «Романа о Ланселоте Озерном» мужчина в бордовом капюшоне изображен с голым задом [78]. А в одной из рукописей «Романа о Мерлине» в корзине сидит уже точно не монах, а шут в колпаке с бубенчиком. Он также держит яйцо на вытянутой руке, но художник не изобразил над ним солнца. Эта сценка помещена на верхнем поле, над текстом, а в том же месте листа внизу стоит обезьяна-калека, которая ест какой-то круглый или овальный предмет — тоже, скорее всего, яйцо [79]. Высиживание яиц оказывается как-то связано с шутовством и обезьянничаньем, а обезьяны часто изображаются с куриными яйцами. В одном Часослове примерно того же времени на полях стоит обезьяна, которая в правой руке на палке держит пустой капюшон, а в левой — корзину яиц [80]. А в том Часослове из Гента, с которого мы начинали, на одном из листов, не так далеко от монаха-«наседки», обезьяны перекидываются яйцами (играют в какую-то игру?)[82]. В XV–XVI вв. изображения монахов или шутов, высиживающих яйца, регулярно появлялись на мизерикордах. Так называют деревянные полочки на нижней стороне откидывающихся сидений, какие устанавливали в хорах храмов[83]. В ходе долгих служб монахи или каноники, которым приходилось часами стоять, могли на них слегка опереться.
 80 Часослов. Льеж, первая четверть XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 17. Fol. 256v.
80 Часослов. Льеж, первая четверть XIV в. London. British Library. Ms. Stowe 17. Fol. 256v.
 81 Питер Брейгель Младший (по рисунку Питера Брейгеля Старшего). Пьяница на яйце, 1596 г. Работа, проданная в 2014 г. на аукционе Hampel в Мюнхене.
81 Питер Брейгель Младший (по рисунку Питера Брейгеля Старшего). Пьяница на яйце, 1596 г. Работа, проданная в 2014 г. на аукционе Hampel в Мюнхене.
Круг сюжетов, которые вырезали на мизерикордах: реальные и воображаемые звери, гримасничающие человеческие лица и агрессивные морды демонов, комичные сценки из басен и иллюстрации поговорок, — был очень близок к репертуару книжных маргиналий[84]. К этому времени в Нидерландах шут, высиживающий яйца, превратился в один из главных символов человеческой глупости. Эта тема обыгрывалась в многочисленных поговорках вроде «Не сажайте дурака на яйца» («Men mag geen nar op eieren zetten»), поскольку он наплодит точно таких же дурней — безумие множит безумие. Сюжеты, связывавшие глупость с яйцами, строились на игре слов: фламандское слово door («дурак») было созвучно dooier («желток»). Потому на известном рисунке Питера Брейгеля Старшего и многочисленных изображениях, которые его копировали, шут, сидя на колоссальном яйце, залпом осушает стакан, а из дыры в скорлупе выглядывает другой шут (= желток), который готов оттуда вылупиться[85] [81]. Кроме того, яйца ассоциировались с карнавалом и вообще с праздничным загулом. Потому развеселых пирующих порой изображали внутри огромного яйца-таверны[86] [82]. Наконец, куриные яйца, конечно, напоминали о мужских яичках, запретном (внебрачном) сексе, деторождении и плодородии. И шуткам на эту тему не было конца[87]. На гравюре Корнелиса Массейса женщина ловит своего муженька на измене — он кладет яйцо в подол другой женщины, а та в это время выхватывает у него корзину с яйцами [83].
 82 Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент), ок. 1490–1500 гг. Madrid. Museo del Prado. № P002823.
Таверна в яйце, вырастающем посреди преисподней. Над ней закреплен флажок с волынкой — символом разгула и сексуальной энергии (поскольку мешок с трубкой был похож на мошонку с фаллосом, что средневековые мастера нередко обыгрывали).
82 Иероним Босх. Сад земных наслаждений (фрагмент), ок. 1490–1500 гг. Madrid. Museo del Prado. № P002823.
Таверна в яйце, вырастающем посреди преисподней. Над ней закреплен флажок с волынкой — символом разгула и сексуальной энергии (поскольку мешок с трубкой был похож на мошонку с фаллосом, что средневековые мастера нередко обыгрывали).
А на другой его гравюре двое крестьян — под насмешливым взором шута — беззаботно милуются в таверне с распутными девками, пока две другие обчищают их карманы и опорожняют корзину с яйцами, которую они, видимо, несли на рынок. На задней стене висит небольшое изображение, на котором мы видим мужчину, высиживающего яйца посреди двора, где гуляют куры. Вся сцена предупреждает мужчин, что от продажных и пронырливых женщин только и жди беды, а заодно высмеивает мужей-подкаблучников — петухов, которые сидят на яйцах вместо кур[88] [84]. В Часослове из Гента яйца в корзине высиживает монах. Так что, возможно, перед нами какая-то шутка по поводу сомнительных нравов духовенства? Ведь монах, который должен хранить целомудрие, но плодит потомство — это не просто абсурд, в котором создатели маргиналий знали толк, а зримое воплощение лицемерия. В первой половине XVII в. неизвестный протестантский мастер изобразил злую сатиру на католический клир.
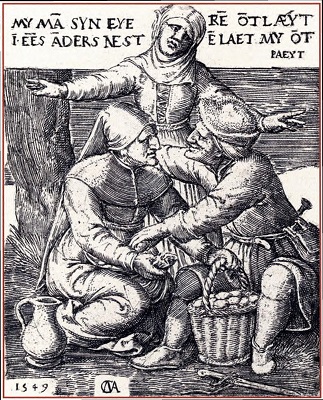 83 Корнелис Массейс. Супружеская измена, 1349 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1878-A-2824.
83 Корнелис Массейс. Супружеская измена, 1349 г. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P-1878-A-2824.
Слева в темноте жирный краснолицый монах ласкает за грудь монахиню. Оба сидят в корзине, заполненной сеном, а под ними из яиц вылупляются младенцы — плод запретной любви. Справа из-за занавески за ними подглядывает папа римский в высокой тройной тиаре, а под стулом сидит дьявольский черный кот в епископской митре [85]. Возможно, что протестантский художник в своей критике «папистов» отталкивался от сюжета, который за три столетия до того украшал поля католического Часослова. В XIV в. вряд ли кому-то пришло бы в голову видеть в монахе, высиживающем яйца, атаку на всю церковную иерархию и само «тело» Церкви. Однако в эпоху Реформации и Контрреформации такие шутки над нравами духовенства приобрели идеологическое измерение и превратились в инструмент религиозного противостояния. В середине 1580-х гг. в протестантских Нидерландах вышла антипапская гравюра Питера ван дер Хейдена, который расставил своих персонажей точно так же, как на картине Тициана «Диана и Каллисто» (1556–1559). На ней английская королева Елизавета I, изображенная в облике девственной богини Дианы, осуждает папу Григория XIII. Тот лежит перед ней в той же позе, что у Тициана нимфа Каллисто, наказанная за то, что забеременела от Юпитера.
 84 Корнелис Массейс. Две пары в таверне, 1539–1544 гг. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P–1906-2366.
84 Корнелис Массейс. Две пары в таверне, 1539–1544 гг. Amsterdam. Rijksmuseum. № RP-P–1906-2366.
Под понтификом нарисована груда яиц, из которых вылупляются монструозные создания, олицетворяющие преступления «папистов»: резню, устроенную в Варфоломеевскую ночь (1572), убийство Вильгельма Оранского (1584), преследования Инквизиции и т. д. Подпись к гравюре отождествляет андрогинного (мужское лицо на женском торсе) папу-«наседку» с Антихристом. Добродетельная королева-девственница противопоставляется римскому понтифику с его демоническим «потомством»[89].
Хвостатые англичане
В любой работе, где упоминаются средневековые «высиживатели» яиц, встретится ссылка на небольшую статью, которую в 1960 г. опубликовала американский медиевист Лилиан Рэнделл[90]. Она была одним из первопроходцев в изучении маргиналий и позже опубликовала систематический каталог их мотивов[91]. Перебрав несколько версий того, что могла означать фигура монаха или шута, сидящего на яйцах, она в итоге остановилась на самой политически заостренной версии. Рэнделл обратила внимание на то, что на рубеже XIII–XIV вв. этот сюжет появлялся во французских и фламандских, но не в английских рукописях.
 85 Сатира на распутные нравы монашества. Германия, ок. 1600–1649 гг. Amsterdam. Rijksmuseum. № SKA-4097.
85 Сатира на распутные нравы монашества. Германия, ок. 1600–1649 гг. Amsterdam. Rijksmuseum. № SKA-4097.
А во Франции, которая неоднократно воевала с Англией за многие владения на континенте, англичан еще с XII в. презрительно называли «хвостатыми» — caudati на латыни или coués по-французски. После того, как в 1294 г. вспыхнула англо-французская война, один монах из нормандского аббатства Силли сочинил резкую диатрибу против англичан — сынов Каина. Среди прочих проклятий он уподобил их хвостатым дьявольским тварям: гадюкам и скорпионам. В трактате «О свойствах англичан», вероятнее всего, сочиненном в правление французского короля Филиппа IV Красивого (1285–1314) неким клириком из Парижского университета, говорилось, что у англичан есть хвосты, похожие на свиные; когда они гневаются, хвосты задираются, так что те не могут нормально сидеть[92]. Слово coué было родственно и созвучно couard — «трусливый». Оно как раз произошло от одной из древних форм слова «хвост» (сое) и буквально означало «с поджатым хвостом». Поэтому в позднесредневековой Франции англичан высмеивали как хвостатых трусов. От слова coué по созвучию с глаголом couver («высиживать яйца») возник еще один презрительный стереотип: англичане только и годны на то, чтобы высиживать яйца. Иначе говоря, они не только звероподобные трусы, но еще и не мужчины. В житии св. Ремигия, написанном в XIII в., эта шутка над англичанами упоминается как нечто само собой разумеющееся: святой воскресил разрезанного гуся, собрав его кости и перья, и возвратил ему возможность нести яйца — на самом деле, а не в шутку, «как ныне говорят об англичанах»[93]. Хотя многие историки, вслед за Рэнделл, интерпретируют маргиналии, где монахи или шуты высиживают яйца, как насмешку над англичанами, эта гипотеза выглядит не слишком убедительно. Шутки о том, что муж-чина-«наседка» — вовсе и не мужчина, в Средневековье звучали в текстах, где не было никаких антианглийских выпадов. Как напомнил французский историк Жан Вирт, первый, базовый, уровень юмора здесь — инверсия гендерных ролей (мужчина «рожает» потомство) и абсурд (человек высиживает яйца, словно птица). Англофобия лишь берет на вооружение готовую остроту, придавая ей более узкий и политически актуальный смысл. Если французские или фламандские мастера действительно хотели высмеять трусоватых женственных англичан, почему они не изображали их с какими-то ясно опознаваемыми атрибутами (как гербы или флаги), а рисовали просто монахов или шутов?[94]
Монах как страус?
В отличие от более поздних фламандских гравюр, высмеивавших безумцев и распутников, на полях рукописей XIII–XIV вв. персонаж, высиживающий яйца, часто поднимает одно из них вверх — чтобы лучше его рассмотреть или чтобы подставить его солнечному теплу. По гипотезе Рэнделл, англичанин так проверяет, оплодотворено яйцо или нет. В средневековых текстах для этого рекомендовалось на четвертый день после «рождения» посмотреть на яйцо против света. Если оно оплодотворено, в нем можно будет увидеть кровеносные сосуды цыпленка[95]. Вирт предположил, что этот жест может копировать многочисленные изображения, на которых средневековые врачи рассматривают на свет склянку с мочой пациента. Это требовалось для того, чтобы поставить диагноз и, в частности, выяснить, беременна женщина или нет[96]. Такого врача со склянкой можно увидеть на полях того же гентского Часослова [86]. Правда, на изображениях медиков-диагностов никто не рисовал солнца и его горячих лучей, освещающих склянку, как здесь — яйцо. Прежде чем перейти к англофобской гипотезе, Рэнделл кратко упомянула еще один средневековый сюжет о яйцах и лучах солнца. Речь об изображениях страуса, какие можно увидеть в многочисленных средневековых Бестиариях. Там рассказывалось о том, что эта странная птица, которая не умеет летать, откладывает яйца лишь тогда, когда на небе появляется созвездие Плеяд или звезда Вергилия. В отличие от прочих пернатых, она тут же улетает, и птенцы вылупляются только благодаря теплу солнца: оно разогревает песок, в котором птица оставила свои яйца[97].
 86 Псалтирь и Часослов. Гент, ок. 1315–1325 гг. Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. 82. Fol. 75v.
Над врачом, изучающим зеленую склянку, изображен юноша-гибрид, который держит в руках гостию с крестом.
86 Псалтирь и Часослов. Гент, ок. 1315–1325 гг. Baltimore. The Walters Art Museum. Ms. 82. Fol. 75v.
Над врачом, изучающим зеленую склянку, изображен юноша-гибрид, который держит в руках гостию с крестом.
Потому рядом с подобными описаниями часто изображали страуса, который глядит на звезду или на солнце [87, 88]. Другие Бестиарии предлагали альтернативную версию: страус разогревает яйца энергией своего взгляда[98]. В средневековых Бестиариях описания внешнего облика и повадок каждого из животных сопровождались аллегорическим комментарием. И странный нрав страуса мог толковаться как в позитивном, так и в негативном ключе. С одной стороны, то, что он забывал о земных заботах и обращал свой взор к небесам, олицетворяло стремление человека к спасению и его готовность следовать за Христом. Ведь Господь сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). С другой стороны, в ветхозаветной Книге Иова (39:16–17) говорилось, что страус «жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». Потому эта беззаботная птица могла олицетворять лицемерие.
 87 Бестиарий. Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Royal 12 С XIX. Fol. 27.
87 Бестиарий. Англия, первая четверть XIII в. London. British Library. Ms. Royal 12 С XIX. Fol. 27.
 88 Псалтирь королевы Изабеллы Английской. Англия, ок. 1303–1308 гг. München. Bayerische Staatsbibliothek. Cod. gall. 16. Fol. 28.
Изображение из Бестиария на полях Псалтири. Здесь страус откладывает яйца не в песок, а в корзину, словно монах или шут-«высиживатель».
88 Псалтирь королевы Изабеллы Английской. Англия, ок. 1303–1308 гг. München. Bayerische Staatsbibliothek. Cod. gall. 16. Fol. 28.
Изображение из Бестиария на полях Псалтири. Здесь страус откладывает яйца не в песок, а в корзину, словно монах или шут-«высиживатель».
Вместо того, чтобы заботиться о потомстве, лицемеры помышляют только о суетных радостях. Они не согревают детей теплом любви, но Господь не даст им пропасть и согреет собственным светом — подобно тому, как страусята появляются на свет благодаря лучам солнца, разогревающим песок, в котором их бросила мать. По крайней мере, в одном из средневековых текстов страус предстает как символ монашеского распутства. В «Аnсrеnе Riwle» (наставлении для отшельниц, написанном в Англии ок. 1230 г.) говорилось, что страус «когда машет крыльями, лишь делает вид, что летает, — его ноги не отрываются от земли. Так же поступают и отшельницы-сладострастницы, живущие лишь ради чувственных радостей: вес плоти и плотские пороки не позволяют им взлететь»[99]. В отличие от страуса, который не высиживает собственных яиц, монах из гентского Часослова устроился в корзине; при этом, подобно страусу из Бестиариев, он подставляет свое «потомство» жарким лучам солнца. Эта сцена гораздо больше напоминает насмешку над распутством монашества, чем национальный выпад в адрес «хвостатых» англичан. А теперь снова вспомним о том, что в гентском Часослове монах-«наседка» нарисован рядом с инициалом, в котором расположилось Святое семейство.
Псевдо-Рождество
В этом соседстве, конечно, не обязательно искать какой-то скрытый смысл. Как мы уже говорили, фигуры и сценки, заполнявшие книжные поля, часто не были никак связаны с текстами или основными изображениями (миниатюрами и инициалами), которые иллюстрировали текст. Однако некоторые маргиналии все же явно задумывались в перекличке с ними как дополнение, комментарий или пародия. Скажем, в инициале из одного французского Часослова начала XIV в. римский воин (в облике средневекового рыцаря) поднимает меч, чтобы обезглавить апостола Павла. Слева на полях идентичный рыцарь в точно такой же позе поднимает дубину над головой зайца[100]. Потому и соседство двух сцен, чудесного Рождества и пародийного псевдо-Рождества, тоже могло быть намеренным. Чтобы в этом разобраться, перенесемся из Фландрии в Италию. В 1472–1474 гг. Пьеро делла Франческа по заказу урбинского правителя Федериго III да Монтефельтро написал алтарную панель, на которой сам Федериго стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях спящего младенца Христа [89]. Как считается, этот образ был создан в честь рождения у Федериго долгожданного наследника — Гвидобальдо. Прямо над головой Богоматери, в абсиде, декорированной как морская раковина, на цепочке висит яйцо. Историки долго ломали копья вокруг того, зачем оно там понадобилось.
 89 Пьеро делла Франческа. Алтарь Монтефельтро, ок. 1472–1474 гг. Milan. Pinacoteca di Brera.
89 Пьеро делла Франческа. Алтарь Монтефельтро, ок. 1472–1474 гг. Milan. Pinacoteca di Brera.
В начале 1950-х гг. американский искусствовед Миллард Мейсс, посчитав возможный размер этого белого овала, пришел к выводу, что яйцо должно быть не куриным, а страусиным[101]. Мы знаем, что в Средние века страусиные яйца (или мраморные овалы в форме большого яйца) действительно вешали в храмах над алтарями либо в качестве противовеса прикрепляли к веревкам или цепям, на которых держались тяжелые светильники. Эти яйца регулярно упоминаются в церковных описях. Однако известен всего один текст, где им приписывается какое-то религиозное значение. В конце XIII в. Гильом Дюран в трактате по литургии и церковной символике «Rationale divinorum officiorum» писал, что страусиные яйца и другие редкости порой вешают в храмах, поскольку они изумляют и привлекают паству. И действительно, во многих средневековых церквях, наряду с коллекциями реликвий святых, можно было увидеть различные «диковины»: слоновьи бивни, кости мамонта, «рога единорога» (бивни нарвала), мумифицированных крокодилов и пр. Вслед за этим практическим объяснением Дюран предложил и второе, уже символическое. Опираясь на Бестиарий, он поведал, что страус оставляет свои яйца в пыли и возвращается к ним лишь тогда, когда на небе всходит некая звезда. И тогда уже высиживает их, разогревая силой своего взгляда. Потому страусиные яйца вешают в церквах, ведь они напоминают о том, что человек, которого Бог за грехи оставил своим попечением, позже, все-таки просвещенный звездой, то есть Святым Духом, кается и возвращается к Господу. И тот согревает его своим милостивым взором[102]. Тем не менее Мейсс предположил, что на «Алтаре Монтефельтро» символика яйца должна быть связана с девственным зачатием и рождением Спасителя, который спит на коленях у Матери. Хотя Гильом Дюран предлагал совершенно иную трактовку, Мейсс ссылается на несколько позднесредневековых текстов, в которых страусиное яйцо действительно выступало как одна из аллегорий Боговоплощения. Неизвестный автор из Труа писал, что страусята вылупляются благодаря солнечному теплу, которое нагревает песок, где их оставила мать. В духовном плане страусиное яйцо — это Христос, яйцо, которое во чреве Матери благодаря теплу Святого Духа облеклось человеческой плотью, а теплый песок, который помогает Ему появиться на свет, — это сама Дева Мария[103]. Схожие толкования можно найти еще по меньшей мере в двух текстах XIV–XV вв. Первый из них — «Concordantia caritatis», типологический справочник, в котором к каждому из 156 евангельских событий или праздников святых предлагалось по четыре параллели из ветхозаветной истории или из «истории» животных и растений. Этот текст был составлен в 1351–1358 гг. Ульрихом, бывшим аббатом цистерцианского монастыря Лилиенфельд (Австрия).
 90 Раскрашенная гравюра из печатного издания «Defensorium inviolatae virginitatis Mariae», вышедшего в Нёрдлингене в 1470 г.
90 Раскрашенная гравюра из печатного издания «Defensorium inviolatae virginitatis Mariae», вышедшего в Нёрдлингене в 1470 г.
Страусята, которые вылупляются из яиц благодаря теплу солнца, там предстают как одна из аллегорий Рождества (а в другом месте упоминается, что страус откладывает яйца только, когда увидит на небе созвездие Девы)[104]. Позже венский доминиканец Франц фон Рец (ок. 1343–1427) в трактате «Defensorium inviolatae virginitatis Mariae», целиком посвященном символике, связанной с Богоматерью, тоже кратко упомянул о том, что страусята вылупляются из яиц благодаря солнечному свету. Если такое возможно, то кто, риторически вопрошает автор, станет сомневаться, что Мария могла девственно родить Сына от Истинного света — Господа[105] [90]. Конечно, рождение страусят было далеко не самой известной из средневековых аллегорий Рождества. И в популярнейших справочниках, которые систематизировали типологические параллели между Ветхим и Новым заветами, таких как «Зерцало человеческого спасения» или «Библия бедняков», страуса не найти. Да и маргиналии, с их безостановочной игрой форм, любовью к абсурду, визуальными ребусами и едва различимой привязкой к текстам, — просто минное поле для толкований. Пытаясь придать им смысл, легко увлечься догадками, которые держатся лишь на других догадках, но подаются читателю как установленный факт. Историку бывает трудно признать, что нечто лишено (понятного ему) смысла, или что этот смысл настолько призрачен, что его трудно облечь в однозначные формулировки. Кроме того, природа самой средневековой символики такова, что одни и те же вещи в разных контекстах могли означать нечто различное или даже противоположное. Это ясно сформулировал Жан Вирт. «Любой предмет, существующий в мире, любое событие из жизни может дать благочестивому сознанию материал для краткой проповеди. Однако очевидно, что нравоучительный комментарий не заложен в сам предмет или историю, а потому, отталкиваясь от них, можно предложить множество разных морализаций. […] Вряд ли хитрость [лиса] Ренара, который притворился умершим, чтобы сцапать домашнюю птицу, систематически толковалась как олицетворение уловок дьявола. Более вероятно, что любая история и любой образ были открыты для разных интерпретаций. И в том же Ренаре доминиканец мог увидеть дьявола, искушающего грешников, а францисканец — доминиканца, щупающего богомолок. Небольшое комическое произведение "Соломон и Маркульф", в котором король и его плут обмениваются возвышенными или грубыми репликами, целиком построено на том, что одни и те же факты можно толковать с серьезностью моралиста или с усмешкой шута»[106]. Несмотря на все эти оговорки, вернемся к гентскому Часослову. Там в инициале мы видим Богочеловека, которого Дева зачала от Бога, а на полях — монаха, который дал обет хранить девство, а теперь высиживает потомство. Это занятие абсурдное (ибо он человек, а не птица; мужчина, а не женщина), а для него еще и запретное (так как он дал обет целомудрия). Одна из деталей изображения — солнце, согревающее яйцо своими лучами, — видимо, была заимствована из другого сюжета: про страуса, бросающего свое потомство, и его яйца, которые вылупляются благодаря солнечному теплу. По крайней мере, с XIV в. страусята, появляющиеся на свет таким необычным образом, порой упоминались среди аллегорий Рождества. Потому вероятно, что на полях гентского Часослова сценка, где монах высиживает яйца, была задумана как своего рода комическая вариация на тему Боговоплощения. Рядом с Рождеством Христа, которого именовали «Истинным Солнцем», мастер изобразил псевдороды, где монах-распутник, словно страус, подставляет одно из яиц солнечному жару.
 асослов, созданный около 1315–1325 гг. во Фландрии, скорее всего, для некой знатной дамы. В инициале «D» (Deus — «Бог») изображено Рождество — таинство вочеловечивания Бога[73] [74]. Мы видим самого младенца Иисуса, Деву Марию, Иосифа, вола и осла. Этот сюжет выбран совсем не случайно. Перед нами начало одного из «часов» Богоматери — подборки псалмов, гимнов и молитв, которая должна была читаться в первый канонический час, то есть около шести утра. Она открывается первой строкой 69-го псалма «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи», а потом продолжается гимном «Memento salutis auctor», посвященным чудесному воплощению Христа через Мать-Деву. Однако внизу на полях разворачивается странное действо. Нагой мужчина выставляет в небо свой зад. Справа от него монах, взобравшись в большую корзину, высиживает яйца, а одно из яиц разглядывает или, возможно, греет в лучах солнца. Что это абсурдное действо значит? Ответить на этот простой вопрос вовсе непросто. И дело в самой природе маргиналий (от латинского слова margo — «край»).
асослов, созданный около 1315–1325 гг. во Фландрии, скорее всего, для некой знатной дамы. В инициале «D» (Deus — «Бог») изображено Рождество — таинство вочеловечивания Бога[73] [74]. Мы видим самого младенца Иисуса, Деву Марию, Иосифа, вола и осла. Этот сюжет выбран совсем не случайно. Перед нами начало одного из «часов» Богоматери — подборки псалмов, гимнов и молитв, которая должна была читаться в первый канонический час, то есть около шести утра. Она открывается первой строкой 69-го псалма «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи», а потом продолжается гимном «Memento salutis auctor», посвященным чудесному воплощению Христа через Мать-Деву. Однако внизу на полях разворачивается странное действо. Нагой мужчина выставляет в небо свой зад. Справа от него монах, взобравшись в большую корзину, высиживает яйца, а одно из яиц разглядывает или, возможно, греет в лучах солнца. Что это абсурдное действо значит? Ответить на этот простой вопрос вовсе непросто. И дело в самой природе маргиналий (от латинского слова margo — «край»).

Ведь фигуры и сценки, которые заселяли книжные поля, очень часто не были никак связаны с текстом, занимавшим центр страницы. И к очень многим из них, в отличие от сакральных или светских сюжетов, которые изображались на миниатюрах, трудно, а то и вовсе невозможно подобрать какие-то тексты-ключи.
Книжные окраины
О каких маргиналиях мы говорим? С XIII в. поля фламандских, английских или французских рукописей, которые до того чаще всего оставались пустыми или служили для кратких пометок и зарисовок, заполняет причудливый и озорной декор. Звери, гоняющиеся друг за другом, охотники, преследующие дичь, акробаты, жонглеры, музыканты, игроки в кости, шуты, калеки, укротители с дрессированными медведями, пьяные пирушки, деревенские праздники, крестьяне, вспахивающие поля, и, конечно, турниры — между рыцарями, клириками, женщинами…[74] Маргиналии — это пространство, где часто бал правит пародия, а один из самых талантливых пародистов — конечно же, обезьяна. Обезьяны рядятся в епископов, принимают исповеди и освящают церкви, словно благородные рыцари отправляются на охоту или, подобно ученым лекарям, рассматривают на свет мочу пациентов, чтобы поставить диагноз. На полях многих рукописей — причем даже тех, что заказывали князья церкви, — можно встретить всевозможные непристойности и скабрезности: персонажи выставляют напоказ свой зад или половые органы, пускают газы или испражняются. Вo многих маргинальных сценках вся соль состоит в инверсии привычного (и считающегося естественным и единственно верным) порядка вещей: отношений между человеком и зверем, мужчиной и женщиной, господами и подданными. В перевернутом мире пугливые зайцы охотятся за охотниками, рыцари во всеоружии пасуют, столкнувшись с улиткой [75], ученики хлещут розгами учителей, всадники переносят на плечах лошадей, а женщины повелевают мужчинами. Книжные поля превращаются в пространство визуальной игры и бесконечной трансформации форм. По окраинам листа множатся монструозные существа, собранные из элементов человека, зверя, птицы, рыбы или растения. Один из самых распространенных типажей — существа без тела, но с огромной головой, приделанной прямо к ногам, или гибриды с несколькими дополнительными лицами (на груди, животе или заду), смотрящими в разные стороны (их принято называть греческим словом grylloi)[75] [76]. Все эти монстры разгуливают по книжным полям, карабкаются по геометрическим или растительным бордюрам и с любопытством заглядывают внутрь инициалов и миниатюр. Многие из них вырастают из декоративных побегов, которые окружают текст.


В итоге граница между растением и животным, живым и неживым, реальным и воображаемым оказывается предельно размытой. Историки, изучающие средневековые рукописи, а заодно маргинальный декор романских и готических храмов, само собой, давно пытаются разобраться в том, что это коловращение форм означает.
И часто приходят к крайне далеким друг от друга, а порой и противоположным выводам. В конце XIX в. французский искусствовед Эмиль Маль высмеивал коллег, которые, вооружившись сочинениями отцов церкви, богословскими суммами и бестиариями, повсюду искали изысканную символику. Он настаивал на том, что книжные маргиналии и маргинальные монстры, часто встречающие прихожан на стенах готических соборов, — это всего лишь декор, орнаментальная игра, заполняющая пустоты стены и пустоты листа, а декор не обязан обладать смыслом. Сцены, расцвечивавшие поля, для него — лишь пространство вольной игры, попытка художника имитировать, а порой превзойти природу в ее удивительном разнообразии. Потому стремление «прочитать» маргиналии или как-то связать их с текстами, которые они окружали, он считал бессмысленной тратой времени. Даже там, где средневековые мастера, к примеру, изображали обезьян-клириков, принимающих исповедь или служащих мессу, по его убеждению, не стоит искать сатиры на духовенство или какого-либо вызова существующему порядку — это лишь «бесхитростные шутки», в которых нет места «ни неприличию, ни иронии»[76]. Хотя сегодня едва ли кто-то из историков согласится с тем, что средневековые маргиналии были настолько «беззубы». Маль точно подметил один момент: чем дальше от сакральных сюжетов и истин веры, тем больше свобода для визуальных поисков и самовыражения мастера. В середине XX в. Мейер Шапиро, описывая хищных монстров, вцепившихся друг в друга зверей и других загадочных персонажей, населявших капители монастырских клуатров и архитектурные «окраины» романских храмов, воспел свободу, которую они даровали средневековому скульптору или художнику. Вдали от вероучительной дидактики и догматического контроля тот мог дать волю своей фантазии. В полных агрессии, переплетающихся или перетекающих друг в друга формах Шапиро увидел отражение радостей, страхов и упований средневекового человека. Потому архитектурные и книжные маргиналии, где, по мысли Шапиро, мастер был волен отдаться игре форм, цвета, ритма и движения, так удивительно «современны»[77]. Однако не все готовы видеть в маргиналиях лишь украшение и проекцию личной фантазии их создателя. Многие историки отстаивали идею, что эта игра все равно служила дидактике. Так, Карл Вентерсдорф в статье о скатологических маргиналиях (где персонажи показывают друг другу и зрителю голый зад, пускают газы, испражняются и т. д.) утверждал, что они символизировали погрязший в грехе, перевернутый мир, искажение божественного порядка. И якобы должны были неустанно напоминать читателю/зрителю о дьявольских искушениях, со всех сторон осаждающих человека — так же, как в Псалтирях и Часословах непристойности и монструозности обступают священный текст[78].
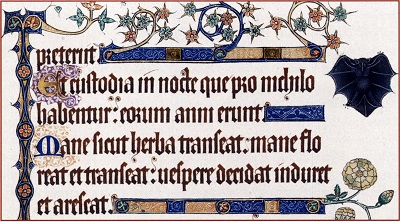
Однако эта трактовка точно не применима ко всем маргиналиям. Большинство из них скорее должно было смешить и высмеивать, чем наставлять и страшить. За последние полвека историки исследовали разные варианты того, как декор книжных полей связан с центром листа. Чаще всего маргиналии не имели к нему никакого отношения и представляли персонажей или сценки, заимствованные из совершенно других — письменных и часто устных — текстов: от нравоучительных «примеров» (exempta), которыми клирики оснащали свои проповеди, до бестиариев, от плутовских романов до басен и поговорок. Однако некоторые маргиналии все-таки комментировали, пародировали или как-то еще обыгрывали текст, который они обступали со всех сторон. Порой они визуализировали какие-то ключевые события или идеи из текста. Однако чаще они «откликались» на отдельные фрагменты фраз или даже отдельные слова, которые не обязательно были особо значимы. Так, на одном из листов английской Псалтири Латрелла справа от строчки, где фигурирует слово «ночь» (in node), мастер изобразил летучую мышь[79] [77]. И таких «образов слов» среди маргиналий было немало[80].
Безумцы плодят безумцев
Но вернемся к монаху, устроившемуся в гнезде на полях гентского Часослова. Что мы точно знаем об этом сюжете? Изображение мужчины, который высиживает яйца, встречается среди маргиналий еще в нескольких северофранцузских и фламандских рукописях той поры. Но всякий раз история выглядит чуть по-другому.


Псалтири, вероятно, созданной в Генте в 1320–1330-х гг., человек в сером капюшоне (тоже, возможно, монах), сидящий в корзине, окружен двумя обезьянами. Он также рассматривает (греет?) яйцо в лучах солнца, а одна из обезьян, одетая в длинный плащ, надкусывает яйцо[81]. На полях «Романа о Ланселоте Озерном» мужчина в бордовом капюшоне изображен с голым задом [78]. А в одной из рукописей «Романа о Мерлине» в корзине сидит уже точно не монах, а шут в колпаке с бубенчиком. Он также держит яйцо на вытянутой руке, но художник не изобразил над ним солнца. Эта сценка помещена на верхнем поле, над текстом, а в том же месте листа внизу стоит обезьяна-калека, которая ест какой-то круглый или овальный предмет — тоже, скорее всего, яйцо [79]. Высиживание яиц оказывается как-то связано с шутовством и обезьянничаньем, а обезьяны часто изображаются с куриными яйцами. В одном Часослове примерно того же времени на полях стоит обезьяна, которая в правой руке на палке держит пустой капюшон, а в левой — корзину яиц [80]. А в том Часослове из Гента, с которого мы начинали, на одном из листов, не так далеко от монаха-«наседки», обезьяны перекидываются яйцами (играют в какую-то игру?)[82]. В XV–XVI вв. изображения монахов или шутов, высиживающих яйца, регулярно появлялись на мизерикордах. Так называют деревянные полочки на нижней стороне откидывающихся сидений, какие устанавливали в хорах храмов[83]. В ходе долгих служб монахи или каноники, которым приходилось часами стоять, могли на них слегка опереться.


Круг сюжетов, которые вырезали на мизерикордах: реальные и воображаемые звери, гримасничающие человеческие лица и агрессивные морды демонов, комичные сценки из басен и иллюстрации поговорок, — был очень близок к репертуару книжных маргиналий[84]. К этому времени в Нидерландах шут, высиживающий яйца, превратился в один из главных символов человеческой глупости. Эта тема обыгрывалась в многочисленных поговорках вроде «Не сажайте дурака на яйца» («Men mag geen nar op eieren zetten»), поскольку он наплодит точно таких же дурней — безумие множит безумие. Сюжеты, связывавшие глупость с яйцами, строились на игре слов: фламандское слово door («дурак») было созвучно dooier («желток»). Потому на известном рисунке Питера Брейгеля Старшего и многочисленных изображениях, которые его копировали, шут, сидя на колоссальном яйце, залпом осушает стакан, а из дыры в скорлупе выглядывает другой шут (= желток), который готов оттуда вылупиться[85] [81]. Кроме того, яйца ассоциировались с карнавалом и вообще с праздничным загулом. Потому развеселых пирующих порой изображали внутри огромного яйца-таверны[86] [82]. Наконец, куриные яйца, конечно, напоминали о мужских яичках, запретном (внебрачном) сексе, деторождении и плодородии. И шуткам на эту тему не было конца[87]. На гравюре Корнелиса Массейса женщина ловит своего муженька на измене — он кладет яйцо в подол другой женщины, а та в это время выхватывает у него корзину с яйцами [83].

А на другой его гравюре двое крестьян — под насмешливым взором шута — беззаботно милуются в таверне с распутными девками, пока две другие обчищают их карманы и опорожняют корзину с яйцами, которую они, видимо, несли на рынок. На задней стене висит небольшое изображение, на котором мы видим мужчину, высиживающего яйца посреди двора, где гуляют куры. Вся сцена предупреждает мужчин, что от продажных и пронырливых женщин только и жди беды, а заодно высмеивает мужей-подкаблучников — петухов, которые сидят на яйцах вместо кур[88] [84]. В Часослове из Гента яйца в корзине высиживает монах. Так что, возможно, перед нами какая-то шутка по поводу сомнительных нравов духовенства? Ведь монах, который должен хранить целомудрие, но плодит потомство — это не просто абсурд, в котором создатели маргиналий знали толк, а зримое воплощение лицемерия. В первой половине XVII в. неизвестный протестантский мастер изобразил злую сатиру на католический клир.
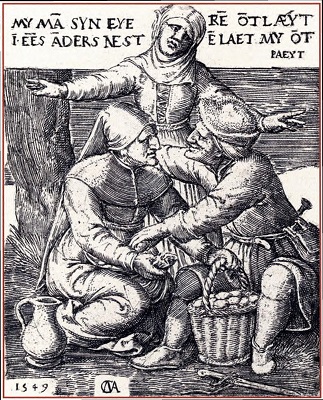
Слева в темноте жирный краснолицый монах ласкает за грудь монахиню. Оба сидят в корзине, заполненной сеном, а под ними из яиц вылупляются младенцы — плод запретной любви. Справа из-за занавески за ними подглядывает папа римский в высокой тройной тиаре, а под стулом сидит дьявольский черный кот в епископской митре [85]. Возможно, что протестантский художник в своей критике «папистов» отталкивался от сюжета, который за три столетия до того украшал поля католического Часослова. В XIV в. вряд ли кому-то пришло бы в голову видеть в монахе, высиживающем яйца, атаку на всю церковную иерархию и само «тело» Церкви. Однако в эпоху Реформации и Контрреформации такие шутки над нравами духовенства приобрели идеологическое измерение и превратились в инструмент религиозного противостояния. В середине 1580-х гг. в протестантских Нидерландах вышла антипапская гравюра Питера ван дер Хейдена, который расставил своих персонажей точно так же, как на картине Тициана «Диана и Каллисто» (1556–1559). На ней английская королева Елизавета I, изображенная в облике девственной богини Дианы, осуждает папу Григория XIII. Тот лежит перед ней в той же позе, что у Тициана нимфа Каллисто, наказанная за то, что забеременела от Юпитера.

Под понтификом нарисована груда яиц, из которых вылупляются монструозные создания, олицетворяющие преступления «папистов»: резню, устроенную в Варфоломеевскую ночь (1572), убийство Вильгельма Оранского (1584), преследования Инквизиции и т. д. Подпись к гравюре отождествляет андрогинного (мужское лицо на женском торсе) папу-«наседку» с Антихристом. Добродетельная королева-девственница противопоставляется римскому понтифику с его демоническим «потомством»[89].
Хвостатые англичане
В любой работе, где упоминаются средневековые «высиживатели» яиц, встретится ссылка на небольшую статью, которую в 1960 г. опубликовала американский медиевист Лилиан Рэнделл[90]. Она была одним из первопроходцев в изучении маргиналий и позже опубликовала систематический каталог их мотивов[91]. Перебрав несколько версий того, что могла означать фигура монаха или шута, сидящего на яйцах, она в итоге остановилась на самой политически заостренной версии. Рэнделл обратила внимание на то, что на рубеже XIII–XIV вв. этот сюжет появлялся во французских и фламандских, но не в английских рукописях.

А во Франции, которая неоднократно воевала с Англией за многие владения на континенте, англичан еще с XII в. презрительно называли «хвостатыми» — caudati на латыни или coués по-французски. После того, как в 1294 г. вспыхнула англо-французская война, один монах из нормандского аббатства Силли сочинил резкую диатрибу против англичан — сынов Каина. Среди прочих проклятий он уподобил их хвостатым дьявольским тварям: гадюкам и скорпионам. В трактате «О свойствах англичан», вероятнее всего, сочиненном в правление французского короля Филиппа IV Красивого (1285–1314) неким клириком из Парижского университета, говорилось, что у англичан есть хвосты, похожие на свиные; когда они гневаются, хвосты задираются, так что те не могут нормально сидеть[92]. Слово coué было родственно и созвучно couard — «трусливый». Оно как раз произошло от одной из древних форм слова «хвост» (сое) и буквально означало «с поджатым хвостом». Поэтому в позднесредневековой Франции англичан высмеивали как хвостатых трусов. От слова coué по созвучию с глаголом couver («высиживать яйца») возник еще один презрительный стереотип: англичане только и годны на то, чтобы высиживать яйца. Иначе говоря, они не только звероподобные трусы, но еще и не мужчины. В житии св. Ремигия, написанном в XIII в., эта шутка над англичанами упоминается как нечто само собой разумеющееся: святой воскресил разрезанного гуся, собрав его кости и перья, и возвратил ему возможность нести яйца — на самом деле, а не в шутку, «как ныне говорят об англичанах»[93]. Хотя многие историки, вслед за Рэнделл, интерпретируют маргиналии, где монахи или шуты высиживают яйца, как насмешку над англичанами, эта гипотеза выглядит не слишком убедительно. Шутки о том, что муж-чина-«наседка» — вовсе и не мужчина, в Средневековье звучали в текстах, где не было никаких антианглийских выпадов. Как напомнил французский историк Жан Вирт, первый, базовый, уровень юмора здесь — инверсия гендерных ролей (мужчина «рожает» потомство) и абсурд (человек высиживает яйца, словно птица). Англофобия лишь берет на вооружение готовую остроту, придавая ей более узкий и политически актуальный смысл. Если французские или фламандские мастера действительно хотели высмеять трусоватых женственных англичан, почему они не изображали их с какими-то ясно опознаваемыми атрибутами (как гербы или флаги), а рисовали просто монахов или шутов?[94]
Монах как страус?
В отличие от более поздних фламандских гравюр, высмеивавших безумцев и распутников, на полях рукописей XIII–XIV вв. персонаж, высиживающий яйца, часто поднимает одно из них вверх — чтобы лучше его рассмотреть или чтобы подставить его солнечному теплу. По гипотезе Рэнделл, англичанин так проверяет, оплодотворено яйцо или нет. В средневековых текстах для этого рекомендовалось на четвертый день после «рождения» посмотреть на яйцо против света. Если оно оплодотворено, в нем можно будет увидеть кровеносные сосуды цыпленка[95]. Вирт предположил, что этот жест может копировать многочисленные изображения, на которых средневековые врачи рассматривают на свет склянку с мочой пациента. Это требовалось для того, чтобы поставить диагноз и, в частности, выяснить, беременна женщина или нет[96]. Такого врача со склянкой можно увидеть на полях того же гентского Часослова [86]. Правда, на изображениях медиков-диагностов никто не рисовал солнца и его горячих лучей, освещающих склянку, как здесь — яйцо. Прежде чем перейти к англофобской гипотезе, Рэнделл кратко упомянула еще один средневековый сюжет о яйцах и лучах солнца. Речь об изображениях страуса, какие можно увидеть в многочисленных средневековых Бестиариях. Там рассказывалось о том, что эта странная птица, которая не умеет летать, откладывает яйца лишь тогда, когда на небе появляется созвездие Плеяд или звезда Вергилия. В отличие от прочих пернатых, она тут же улетает, и птенцы вылупляются только благодаря теплу солнца: оно разогревает песок, в котором птица оставила свои яйца[97].

Потому рядом с подобными описаниями часто изображали страуса, который глядит на звезду или на солнце [87, 88]. Другие Бестиарии предлагали альтернативную версию: страус разогревает яйца энергией своего взгляда[98]. В средневековых Бестиариях описания внешнего облика и повадок каждого из животных сопровождались аллегорическим комментарием. И странный нрав страуса мог толковаться как в позитивном, так и в негативном ключе. С одной стороны, то, что он забывал о земных заботах и обращал свой взор к небесам, олицетворяло стремление человека к спасению и его готовность следовать за Христом. Ведь Господь сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). С другой стороны, в ветхозаветной Книге Иова (39:16–17) говорилось, что страус «жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла». Потому эта беззаботная птица могла олицетворять лицемерие.


Вместо того, чтобы заботиться о потомстве, лицемеры помышляют только о суетных радостях. Они не согревают детей теплом любви, но Господь не даст им пропасть и согреет собственным светом — подобно тому, как страусята появляются на свет благодаря лучам солнца, разогревающим песок, в котором их бросила мать. По крайней мере, в одном из средневековых текстов страус предстает как символ монашеского распутства. В «Аnсrеnе Riwle» (наставлении для отшельниц, написанном в Англии ок. 1230 г.) говорилось, что страус «когда машет крыльями, лишь делает вид, что летает, — его ноги не отрываются от земли. Так же поступают и отшельницы-сладострастницы, живущие лишь ради чувственных радостей: вес плоти и плотские пороки не позволяют им взлететь»[99]. В отличие от страуса, который не высиживает собственных яиц, монах из гентского Часослова устроился в корзине; при этом, подобно страусу из Бестиариев, он подставляет свое «потомство» жарким лучам солнца. Эта сцена гораздо больше напоминает насмешку над распутством монашества, чем национальный выпад в адрес «хвостатых» англичан. А теперь снова вспомним о том, что в гентском Часослове монах-«наседка» нарисован рядом с инициалом, в котором расположилось Святое семейство.
Псевдо-Рождество
В этом соседстве, конечно, не обязательно искать какой-то скрытый смысл. Как мы уже говорили, фигуры и сценки, заполнявшие книжные поля, часто не были никак связаны с текстами или основными изображениями (миниатюрами и инициалами), которые иллюстрировали текст. Однако некоторые маргиналии все же явно задумывались в перекличке с ними как дополнение, комментарий или пародия. Скажем, в инициале из одного французского Часослова начала XIV в. римский воин (в облике средневекового рыцаря) поднимает меч, чтобы обезглавить апостола Павла. Слева на полях идентичный рыцарь в точно такой же позе поднимает дубину над головой зайца[100]. Потому и соседство двух сцен, чудесного Рождества и пародийного псевдо-Рождества, тоже могло быть намеренным. Чтобы в этом разобраться, перенесемся из Фландрии в Италию. В 1472–1474 гг. Пьеро делла Франческа по заказу урбинского правителя Федериго III да Монтефельтро написал алтарную панель, на которой сам Федериго стоит на коленях перед Девой Марией, держащей на коленях спящего младенца Христа [89]. Как считается, этот образ был создан в честь рождения у Федериго долгожданного наследника — Гвидобальдо. Прямо над головой Богоматери, в абсиде, декорированной как морская раковина, на цепочке висит яйцо. Историки долго ломали копья вокруг того, зачем оно там понадобилось.

В начале 1950-х гг. американский искусствовед Миллард Мейсс, посчитав возможный размер этого белого овала, пришел к выводу, что яйцо должно быть не куриным, а страусиным[101]. Мы знаем, что в Средние века страусиные яйца (или мраморные овалы в форме большого яйца) действительно вешали в храмах над алтарями либо в качестве противовеса прикрепляли к веревкам или цепям, на которых держались тяжелые светильники. Эти яйца регулярно упоминаются в церковных описях. Однако известен всего один текст, где им приписывается какое-то религиозное значение. В конце XIII в. Гильом Дюран в трактате по литургии и церковной символике «Rationale divinorum officiorum» писал, что страусиные яйца и другие редкости порой вешают в храмах, поскольку они изумляют и привлекают паству. И действительно, во многих средневековых церквях, наряду с коллекциями реликвий святых, можно было увидеть различные «диковины»: слоновьи бивни, кости мамонта, «рога единорога» (бивни нарвала), мумифицированных крокодилов и пр. Вслед за этим практическим объяснением Дюран предложил и второе, уже символическое. Опираясь на Бестиарий, он поведал, что страус оставляет свои яйца в пыли и возвращается к ним лишь тогда, когда на небе всходит некая звезда. И тогда уже высиживает их, разогревая силой своего взгляда. Потому страусиные яйца вешают в церквах, ведь они напоминают о том, что человек, которого Бог за грехи оставил своим попечением, позже, все-таки просвещенный звездой, то есть Святым Духом, кается и возвращается к Господу. И тот согревает его своим милостивым взором[102]. Тем не менее Мейсс предположил, что на «Алтаре Монтефельтро» символика яйца должна быть связана с девственным зачатием и рождением Спасителя, который спит на коленях у Матери. Хотя Гильом Дюран предлагал совершенно иную трактовку, Мейсс ссылается на несколько позднесредневековых текстов, в которых страусиное яйцо действительно выступало как одна из аллегорий Боговоплощения. Неизвестный автор из Труа писал, что страусята вылупляются благодаря солнечному теплу, которое нагревает песок, где их оставила мать. В духовном плане страусиное яйцо — это Христос, яйцо, которое во чреве Матери благодаря теплу Святого Духа облеклось человеческой плотью, а теплый песок, который помогает Ему появиться на свет, — это сама Дева Мария[103]. Схожие толкования можно найти еще по меньшей мере в двух текстах XIV–XV вв. Первый из них — «Concordantia caritatis», типологический справочник, в котором к каждому из 156 евангельских событий или праздников святых предлагалось по четыре параллели из ветхозаветной истории или из «истории» животных и растений. Этот текст был составлен в 1351–1358 гг. Ульрихом, бывшим аббатом цистерцианского монастыря Лилиенфельд (Австрия).

Страусята, которые вылупляются из яиц благодаря теплу солнца, там предстают как одна из аллегорий Рождества (а в другом месте упоминается, что страус откладывает яйца только, когда увидит на небе созвездие Девы)[104]. Позже венский доминиканец Франц фон Рец (ок. 1343–1427) в трактате «Defensorium inviolatae virginitatis Mariae», целиком посвященном символике, связанной с Богоматерью, тоже кратко упомянул о том, что страусята вылупляются из яиц благодаря солнечному свету. Если такое возможно, то кто, риторически вопрошает автор, станет сомневаться, что Мария могла девственно родить Сына от Истинного света — Господа[105] [90]. Конечно, рождение страусят было далеко не самой известной из средневековых аллегорий Рождества. И в популярнейших справочниках, которые систематизировали типологические параллели между Ветхим и Новым заветами, таких как «Зерцало человеческого спасения» или «Библия бедняков», страуса не найти. Да и маргиналии, с их безостановочной игрой форм, любовью к абсурду, визуальными ребусами и едва различимой привязкой к текстам, — просто минное поле для толкований. Пытаясь придать им смысл, легко увлечься догадками, которые держатся лишь на других догадках, но подаются читателю как установленный факт. Историку бывает трудно признать, что нечто лишено (понятного ему) смысла, или что этот смысл настолько призрачен, что его трудно облечь в однозначные формулировки. Кроме того, природа самой средневековой символики такова, что одни и те же вещи в разных контекстах могли означать нечто различное или даже противоположное. Это ясно сформулировал Жан Вирт. «Любой предмет, существующий в мире, любое событие из жизни может дать благочестивому сознанию материал для краткой проповеди. Однако очевидно, что нравоучительный комментарий не заложен в сам предмет или историю, а потому, отталкиваясь от них, можно предложить множество разных морализаций. […] Вряд ли хитрость [лиса] Ренара, который притворился умершим, чтобы сцапать домашнюю птицу, систематически толковалась как олицетворение уловок дьявола. Более вероятно, что любая история и любой образ были открыты для разных интерпретаций. И в том же Ренаре доминиканец мог увидеть дьявола, искушающего грешников, а францисканец — доминиканца, щупающего богомолок. Небольшое комическое произведение "Соломон и Маркульф", в котором король и его плут обмениваются возвышенными или грубыми репликами, целиком построено на том, что одни и те же факты можно толковать с серьезностью моралиста или с усмешкой шута»[106]. Несмотря на все эти оговорки, вернемся к гентскому Часослову. Там в инициале мы видим Богочеловека, которого Дева зачала от Бога, а на полях — монаха, который дал обет хранить девство, а теперь высиживает потомство. Это занятие абсурдное (ибо он человек, а не птица; мужчина, а не женщина), а для него еще и запретное (так как он дал обет целомудрия). Одна из деталей изображения — солнце, согревающее яйцо своими лучами, — видимо, была заимствована из другого сюжета: про страуса, бросающего свое потомство, и его яйца, которые вылупляются благодаря солнечному теплу. По крайней мере, с XIV в. страусята, появляющиеся на свет таким необычным образом, порой упоминались среди аллегорий Рождества. Потому вероятно, что на полях гентского Часослова сценка, где монах высиживает яйца, была задумана как своего рода комическая вариация на тему Боговоплощения. Рядом с Рождеством Христа, которого именовали «Истинным Солнцем», мастер изобразил псевдороды, где монах-распутник, словно страус, подставляет одно из яиц солнечному жару.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ