Часть четвертая
Новая эра в истории человечества

I
Великий сын великого народа

Есть в России такие места…
Из далеких чужбин с уваженьем
высоким
К ним идут на поклон неспроста
Бесконечным, безмолвным потоком…

В зимние дни над Волгой кружат метели. Но и в бураны и в мороз идут люди «бесконечным безмолвным потоком», чтобы увидеть дом, где
…в глуши Симбирска родился
обыкновенный мальчик Ленин.
Теперь Стрелецкая улица носит имя Ульянова. Дом, где с сентября 1869 года жила семья инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, стоял в конце Стрелецкой, перед самым выходом на площадь с казенным зданием — тюрьмой. Перед воротами тюрьмы расхаживали часовые с ружьями. На булыжных мостовых печально позванивали кандалы арестантов. Зимой площадь заносило снегом, и арестантов выводили разметать ее. Летом степные ветры поднимали облака пыли и несли их вдоль улицы, распугивая обывательских кур.
Семья Ульяновых переехала сюда из Нижнего Новгорода. Неизменным остался с той поры лишь деревянный двухэтажный дом № 21 — все его окружение стало неузнаваемо. Улица начинается теперь от одного красивого сада — Карамзинского — и кончается другим. На месте снесенной тюремной крепости — царство студентов: общежития Педагогического института имени И. Н. Ульянова и новый учебный корпус.
Флигелек, где 10(22) апреля 1870 года Владимир Ульянов-Ленин впервые взглянул на свет, до наших дней не сохранился. Но уже осенью того же года семья Ульяновых со старшими детьми — Анной и Александром — и с новорожденным Володей переселилась из флигеля в двухэтажный дом. Фасадом он выходит на Стрелецкую улицу. В нем прошли первые детские годы Владимира Ильича.
Здесь мать Владимира Ильича, Мария Александровна, баюкала сына, пела колыбельные песни. Слова одной песни запомнились Анне Ильиничне, но автора до сих пор не удалось установить:
А тебе на свете белом
Что-то рок пошлет в удел?
Прогремишь ли в мире целом
Блеском подвигов и дел?..
Неподкупен, бескорыстен
И с сознаньем правоты
Непоборной силой истин
Над неправдой грянешь ты…
В наше время здесь, в этом доме ленинского детства, устроена библиотека, одна из лучших детских библиотек в стране. Каждый работник ее — знаток книг, и воспитатель, и лектор, и экскурсовод. И когда присматриваешься здесь к известной мраморной скульптуре Т. Щелкан, изображающей Ленина четырехлетним мальчиком, как-то яснее представляешь себе, каким он был в жизни, как смеялся, бегал по лестничным ступенькам, шалил… И ведь было-то все именно в этих стенах, на этих ступеньках.
С августа 1878 года большая семья Ульяновых надолго поселилась на Московской улице. С 1929 года этот дом — теперь № 58 по улице Ленина — превращен в музей. В его создании участвовали сестры Ленина — Анна Ильинична и Мария Ильинична — и его брат Дмитрий Ильич.
Одноэтажный домик с мезонином, старыми липами перед фасадом и мраморной мемориальной доской… В маленькой проходной экспонирована семейная фотография Ульяновых, сделанная в 1879 году. Трудовая интеллигентная семья, вырастившая целую плеяду выдающихся революционеров, семья, воспитавшая Ленина. У Владимира Ильича заметное сходство с отцом, Ильей Николаевичем; старший сын, Александр, лицом больше напоминает мать.
Толстой заметил, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Счастливые — это вовсе не значит мещански благополучные. Счастливые — это значит такие, где жизнь идет в лад с самыми высокими помыслами, где интересы каждого сознательно и с любовью подчинены интересам общим, где взрослые и дети исполнены друг к другу подлинного уважения, сердечного доверия и самоотверженной, заботливой любви. Счастливые семьи — это такие, где само собой разумеется, что цель жизни — труд на благо людей, и где всякий член семьи рано начинает размышлять, к чему бы приложить свои силы, к чему приучить себя сызмальства, что взять с собой в дорогу жизни, а что отбросить. Дети в семье Ульяновых об этом начали думать рано!
Как же это достигалось? В чем тут педагогический секрет? Вот с этой мыслью и всматриваешься в жизнь семьи Ульяновых, так ясно представленную в маленьком драгоценном музее.
Из прихожей мы вошли в гостиную — уютную, с овальным столом, диваном и старинным роялем. Играла на нем не только Мария Александровна. Музыке в семье Ульяновых учились все дети, до восьми лет занимался и Володя, играл с матерью легкие пьески в четыре руки. Однако потом бросил: впоследствии он ни в чем не любил дилетантства. Впрочем, перестав играть сам, он никогда не переставал любить музыки, пения, оперных спектаклей, концертов. Детские занятия с матерью помогли Владимиру Ильичу рано постичь сложный мир музыкальных образов.
Кабинет Ильи Николаевича дает очень ясное представление о хозяине этой комнаты. Обстановка здесь скорее служебно-деловая, чем домашняя. Много книг, отчеты о состоянии школ Симбирской губернии. У стола два кресла для посетителей. Сюда приходили к Илье Николаевичу за советом народные учителя, товарищи по работе, коллеги-инспектора, а в свободные от работы часы он собирал у себя детвору. Он сам участвовал в детских играх — и в жмурки и в прятки, а когда ребята вволю набегаются и нарезвятся, показывал им картинки, связанные с курсом географии, развертывал карты, доставал альбомы по естествознанию и этнографии.
У каждого члена семьи имелась своя библиотека. Илья Николаевич выписывал журнал «Современник» и «Отечественные записки», постоянно читал Белинского, Некрасова, Добролюбова, приохотил к этому чтению и детей.
Умер он в этом кабинете 12 января 1886 года.
Комната Марии Александровны Ульяновой была проходной: ведь хозяйка, как тогда говорили, «должна слышать весь дом» и всюду поспевать. Мария Александровна получила хорошее домашнее образование, знала три иностранных языка, читала в подлинниках Шиллера, Гёте, Шекспира, Гюго. Она самостоятельно подготовилась к экзамену на звание учительницы начальных школ и получила об этом государственное свидетельство.
Мать Ленина была прирожденным воспитателем, дети горячо любили ее.
В доме Ульяновых многое напоминает о старшем сыне Александре, обаятельном молодом человеке с нежными, еще мягкими, совсем юношескими чертами лица. Но у этого юноши был такой запас воли, смелости и трудолюбия, самодисциплины и выдержки, что они поражали даже близких.
Нет сомнения, что в лице Александра Ильича Ульянова Россия потеряла будущего ученого-естественника. Окончив Симбирскую гимназию с золотой медалью, он, уже студентом III курса Петербургского университета, снова получил золотую медаль — за работу в области зоологии. Увлекался он и химией, устроил дома маленькую лабораторию.
Последнее лето в симбирском родительском доме Александр Ульянов посвятил своей будущей диссертационной работе, ушел в эту диссертацию с головой, и никто из родных не знал, что главной целью жизни Александр избрал все-таки не науку, а революционную борьбу, что он занимается пропагандой против царя среди питерских рабочих и участвует в подпольной организации.
Он скрывал это от близких, чтобы не волновать их. Но беда случилась очень скоро: арестованный за участие в покушении на жизнь царя, Александр Ульянов был казнен в Шлиссельбурге.
Вот тогда семнадцатилетнему Владимиру пришлось быть в семье за старшего, потому что сестра Анна училась в Петербурге на Высших женских курсах, а Мария Александровна ездила в столицу хлопотать о деле сына. Анну Ильиничну в Петербурге вскоре арестовали, а затем сослали в деревню Кокушкино Казанской губернии.
Когда Владимир Ильич оставался в доме с тремя меньшими сестрами и братом — Ольгой, Марией и Дмитрием, он показал себя терпеливым и серьезным педагогом.
На антресолях — скромная комнатка самого Владимира Ильича. Самодельная полка для книг, карта полушарий. Перед окном обыкновенный рабочий стол школьника.
Володя Ульянов научился читать в пять лет. В Симбирской гимназии он учился блестяще. На столе его школьные награды и золотая медаль. А на книжной полке Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, «Одиссея» Гомера, Салтыков-Щедрин, Грибоедов…
Ленин-гимназист читал в подлинниках Шекспира и Мольера, свободно переводил с латинского и греческого. Книги он не просто читал, он штудировал их, делал выписки и заметки, и по этим заметкам видно, что умение работать с книгой, страсть к познанию были характерны для него смолоду.
При жизни отца и старшего сына вся семья ежедневно сходилась в уютной столовой, обсуждала прочитанные книги, слушала чтение. Из соседней комнаты к чтению прислушивалась няня, Варвара Григорьевна Сарбатова, к которой Ульяновы относились очень тепло, считая ее членом семьи. Она умерла в Самаре, переехав туда вместе с ними.
К симбирскому дому Ульяновых примыкал небольшой сад. Здесь и взрослые и дети работали на свежем воздухе — копали гряды, сажали и выращивали деревца и цветы, сами посыпали песком дорожки. В семье Владимира Ильича много внимания уделяли трудовым навыкам, нужным в жизни. Этому-то и помогали работы в саду. Он был хорошо ухожен трудолюбивыми жителями симбирского дома и в таком же состоянии заботливо сохраняется в наши дни.
В столовой дома Ульяновых и ныне тикают на стене старинные «семейные» часы. Они неутомимо отсчитывают время, будто напоминая, как умели его здесь ценить, как талантливо тратили каждую минуту, каждый миг своей осмысленной, трудовой, такой красивой жизни!
«Товарищи!»
И над головами первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил…

К местам ленинского революционного подполья — шалашу на озере и укромному сараю в поселке Разлив — ездят теперь электричкой с Финляндского вокзала, где на обновленной привокзальной площади стоит известный памятник Владимиру Ильичу. Памятник этот — одна из первых удач советского искусства в создании монументального образа Ленина-вождя.
Даже самое место, где памятник установлен, священно на земле Ленинграда. Вечером 3 апреля 1917 года питерские пролетарии встречали здесь Владимира Ильича, воротившегося через Белоостров в родную страну. Вместо трибуны Ленин поднялся на крышу бронеавтомобиля и призвал народ России к социалистической революции.
Во всех видах и жанрах советского искусства воплощена эта встреча Ленина с революционным Петроградом, как один из самых значительных эпизодов в подготовке Октября. Этот эпизод нашел свое отражение, в частности, в Двенадцатой симфонии Дм. Шостаковича. Сильно и проникновенно звучит патетическая музыка, и переданы в ней непосредственные впечатления самого композитора от событий 3 апреля: в толпе встречавших Ленина питерцев находился тогда на площади и Дмитрий Шостакович, еще совсем юный.
Силуэт памятника Ильичу у Финляндского вокзала вычеканен на медали «В память 250-летия Ленинграда», он появляется и на экранах телевизоров как символ революционного Ленинграда.
В первые дни блокады бронзовый памятник как бы напутствовал едущих на фронт, до которого и ехать-то было каких-то два-три десятка километров, как раз с Финляндского вокзала. Позднее, когда обстрелы и бомбежки усилились, ленинградцы укрыли памятник защитной засыпкой.
В течение всей осады единственным действующим вокзалом города был именно этот. Тогда ходили по Белоостровской и Сестрорецкой веткам пригородные составы из четырех-пяти вагонов. Под артиллерийским и даже минометным огнем можно было доехать до станции Дибуны (зимой 41/42 года только до Левашова); и это были тогда ближайшие прифронтовые тылы. Передний край обороны проходил под Белоостровом. Стояли здесь части 291-й стрелковой дивизии, моряки-маратовцы и другие войска 23-й армии генерал-майора Черепанова. А в другую сторону от Ленинграда — к Ладожскому озеру — движение шло тоже от Финляндского вокзала, через Борисову Гриву до самой Ледовой трассы.
У Финляндского вокзала ленинградцы встречали 7 февраля 1943 года первый прямой поезд с Большой земли…
После войны решено было реконструировать привокзальную площадь, превратить ее в одну из самых красивых в городе. Этот план осуществлен. Судьба площади и памятника Ильичу у Финляндского вокзала очень характерна для советского градостроительства.
Академик А. В. Щусев рассказывал, что идея увековечить в монументальной скульптуре выступление Ленина с броневика возникла у советских ваятелей еще при жизни Ильича, но никто не отважился бы официально сделать такое предложение. По словам Щусева, автору проекта пришлось бы выслушать резкую отповедь самого Владимира Ильича, ненавидевшего любой вид внешнего почитания его личности.
Когда Ленин умер, перед советским изобразительным искусством стала задача воплотить его образ, передать художественными средствами величие его идей и в то же время сберечь живые черты его облика, исполненные ленинского обаяния. Задача эта необычайно сложна и еще далеко не окончательно решена. Каждое достижение на этом пути давалось ценой долгих и трудных поисков.
Памятник для площади у Финляндского вокзала проектировался, когда, по словам поэта, «резкая тоска стала ясною, осознанною болью» и когда сам поэт вышагивал на московских улицах ритмы своей поэмы, посвященной Российской Коммунистической партии.
Проектов было несколько, и самым удачным признали работу скульптора С. А. Евсеева в сотрудничестве с архитекторами В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом.
В апреле 1924 года, на месте, где стоял на привокзальной площади броневик «Враг капитала», ленинградцы заложили первый камень в основание будущего монумента, а через два с половиной года, в ноябрьскую годовщину 1926-го, монумент навсегда вошел в ансамбль площади у Финляндского вокзала. Стоял он на первоначальном своем месте до 1945 года, когда началась реконструкция площади.
Теперь площадь стала просторной, обдувает ее ветер с Невы, памятник выдвинут в самый центр, ближе к набережной, и рисуется на фоне нового, радостно-оптимистического здания вокзала (прежнее было очень мрачным).
Увенчанное высоким, сверкающим шпилем из полированного алюминия, новое здание Финляндского вокзала возведено в 1960 году, причем архитекторы П. Ашастин, Н. Баранов, Я. Лукин, И. Рыбин сохранили ту часть прежнего вокзального здания с залом, где Ленин некогда обращался с речью к собравшимся. Одно крыло здания служит теперь вестибюлем метро. Вестибюль украшен огромным мозаичным панно на тему «Ленин — вождь революции».
Самый памятник на площади монументален, исполнен пафоса революции. В свое время авторы других проектов пытались поставить фигуру на броневик, и получались высокие сооружения, где в центре внимания была боевая машина, а не образ говорящего с народом Ленина. В осуществленном проекте, по предложению В. Щуко, броневик не был изображен целиком, а лишь символически намечен: в бронзе отлита башня с крылышками нащельников, ограждающих пулеметный ствол. А над башней — динамическая фигура Ленина в распахнутом пальто. Призывно выбросив руку вперед, он весь олицетворение революционной страсти, энергии, уверенности. Голова обнажена, из-под нахмуренных бровей зорко смотрят прищуренные глаза. Они уже высмотрели, видят трудный путь, которым идти стране, путь, становящийся — после речи Ленина — понятным народу.
Динамичности фигуры вождя вторит своеобразный, очень выразительный, удачно решенный архитектором Щуко постамент памятника: башня броневика врезана в нагромождение угловатых, слегка наклоненных вперед гранитных глыб, как бы вырастает из них. Ниже, на бронзовом выступе, высечены слова Ленина: «И да здравствует социалистическая революция!»
Отсюда, с Финляндского вокзала, где на запасных путях сохраняется исторический паровоз № 293, идет дорога к Разливу, та самая, по которой некогда ехал Ленин.
Думается мне, что каждый побывавший в Разливе обязательно ощущал странное неспокойствие здешней природы: вечный ветер, гонящий рябь по озеру, дрожь и шелест осиновых и ивовых листьев, торопливые облака в светлом северном небе.
Так было и в 1917 году, в то грозное и неспокойное лето, когда судьбу огромной страны готовился взять в свои руки российский рабочий класс, обученный Лениным науке революции. Почувствовав, как глубоко усвоили питерские пролетарии эту науку, буржуазное правительство Керенского перешло летом 1917 года в наступление на Ленина и его партию, чтобы предотвратить социалистическую революцию.
Сейчас для нашей молодежи такие события, как расстрел юнкерами народной демонстрации на Невском в дни 3–4 июля 1917 года, — история. Для моих же сверстников — это страницы личных воспоминаний или события из жизни близких. В частности, как происходил этот расстрел демонстрантов, я знаю от той моей ленинградской спутницы, что показывала мне архитектурные ансамбли Росси.
Девочкой-подростком она шла по Невскому в колонне демонстрантов. Люди несли кумачовый плакат «Долой войну!». Слева от девочки шел, почти у тротуара, старый питерский рабочий, справа, ближе к середине мостовой, очень юный студент с красным бантом на груди. Нестройная колонна шагала вразнобой. Когда от головы к хвосту стали передавать, что впереди, у Садовой, войска, рабочий сказал:
— Ты, дочка, шла бы домой! А то, не ровен час, затопчут…
Студент насмешливо возразил:
— Не те времена! Не посмеют!
Через две-три минуты он с простреленной головой лежал на торцах Невского, а старик рабочий успел втолкнуть девочку в дверь какого-то парадного подъезда. Стрельба, крики, топот бегущих ошеломили девочку. Она слышала, как стрельба стихла, и сразу же по мостовой загремели копыта казачьих лошадей: на рысях сотня проскакала по Невскому, потом рассыпалась по соседним улицам и переулкам, раздавая направо и налево удары нагайками. Выглянув из подъезда, девочка увидела черневшие там и сям на мостовой тела…
Так начался террор в Петрограде, когда буржуазия перешла к диктаторским методам, а соглашательские партии — эсеры и меньшевики — открыто стали на ее сторону. Редакции большевистских газет были разгромлены, прокурор Петроградской судебной палаты отдал распоряжение об аресте В. И. Ленина по чудовищному обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу императорской Германии!
Меньшевистские газеты потребовали явки Ленина на суд, но Центральный Комитет большевистской партии отверг провокационное требование, имевшее целью расправу с вождем рабочего класса. Партия спрятала Ильича в подполье.
Сперва в течение нескольких дней он тайно жил в городе («прятал нашего брата, конечно, рабочий», — писал впоследствии об этом Владимир Ильич). Однако шпики Временного правительства уже напали на след, и дольше оставаться Ленину в городе стало нельзя. ЦК партии принял решение укрыть Владимира Ильича на станции Разлив, у рабочего Сестрорецкого оружейного завода Н. А. Емельянова.
Владимир Ильич обрил бороду, подстриг усы, надел чужое пальто и кепку. В Разлив он отправился с Финляндского вокзала последним поездом в ночь с 9 на 10 июля, сидя на вагонной подножке, чтобы в случае опасности спрыгнуть на ходу. Около четырех утра 10 июля Ленин пришел в дом Емельянова.
Поселился он на чердаке сарая, где поставили для него рабочий столик, пару стульев и устроили на сене постель. Но оставаться в самом поселке, даже и на окраинной улочке, было опасно. Через несколько дней Ленина укрыли в безлюдном болотистом лесу за озером Разлив, на сенокосном участке, арендованном Н. А. Емельяновым.
Удобнее всего было ездить туда на лодке, через озеро. Ленин жил в шалаше под видом финна-косца, нанятого Емельяновым. Поблизости, в кустарнике, устроили «зеленый кабинет»: два пенька служили Ильичу стулом и столом. Отсюда Ленин руководил партией, здесь он создал несколько важных теоретических работ.
Этот конспиративный период в жизни Ленина теперь известен по кинофильмам, произведениям живописцев, скульпторов, писателей, по документам, сохраняемым в музеях и архивах. К ленинскому шалашу проложена от станции Тарховка шоссейная лесная дорога, а на самом озере, на том месте, где впервые пристала лодка с Ильичем и его спутниками, теперь устроена небольшая пристань для моторных экскурсионных катеров.
А было время, когда посещение этих мест легко могло стоить жизни. Солдаты воинских частей, морская пехота и сестрорецкие рабочие-дружинники сдерживали здесь противника, рвавшегося к Ленинграду. Участники его обороны теперь не могут вспоминать о ленинском шалаше вне связи с Великой Отечественной войной. Она словно оставила отблеск на каждой уцелевшей сосне, на каждом квадратном метре каменистой, болотистой земли, где брусника и морошка алели тогда среди пяти-шестислойной минной начинки, нашей и вражеской. В те дни многие из нас, в том числе и автор этих строк, впервые увидели ленинский шалаш.
Зимой 1942 года возвращался я в полк, на передний край, предварительно получив разрешение сделать небольшой крюк, чтобы посетить шалаш Ленина. За Новоселками, в чужом артиллерийском дивизионе, дали мне провожатого по заминированному лесу. Глухой тропой, петлявшей среди голого мелколесья, дошли мы до цели уже в сумерках.
На полянке, невдалеке от занесенного снегом озера, стоял скромный деревянный павильон. Его охранял часовой-моряк, укрытый в окопчике. В мирные дни в павильоне была небольшая выставка, посвященная работе Ленина в подполье. В дни войны здесь устроили выставку документов о гитлеровских зверствах, на стене павильона висел портрет нашего однополчанина, героя-москвича Ивана Петровича Лобачика, замученного фашистами. В морозном воздухе отчетливо слышались пулеметные очереди, орудийная стрельба. Над кромкой дальнего леса возникали белесые немецкие осветительные ракеты.
Впереди павильона темнел каменный монумент, сложенный из красноватых гранитных плит и прикрытый сверху, для маскировки, хвойными лапами. На граните было высечено изображение шалаша. Недалеко находилась огневая позиция зенитчиков и запасные позиции артиллерийских батарей. Вновь прибывавшие на передний край солдаты приносили здесь, у ленинского каменного шалаша, воинскую присягу. Здесь торжественно вручали награды, а одна часть приняла гвардейское знамя. Шалаш из ветвей и стог сена были в те дни разобраны — они неминуемо сгорели бы от мин и снарядов.
Так в ряду бетонных дотов и капониров сражалась здесь, на Ленинградском фронте Великой Отечественной войны, еще одна крепость обороны — гранитный ленинский монумент, воздвигнутый на берегу Разлива в 1927–1928 годах рабочими Ленинграда по проекту архитектора A. Гегелло.
Ныне там все восстановлено в том виде, в каком было в дни ленинского подполья: стог сена, кострище, грабли, чугунок, шалаш из ветвей, чуть в стороне от каменного монумента. Поодаль от шалаша построено новое здание музея из гранита и стекла, но уцелел и старый, памятный многим по дням войны деревянный павильон.
А там, где в 1917 году приставала к берегу лодка, доставлявшая сюда то самого Ленина, то кого-нибудь из его соратников — Ф. Дзержинского, Серго Орджоникидзе, B. Бонч-Бруевича, — ныне причаливают к пристани небольшие катера. И если бы не новое здание музея, можно было бы увидеть с озера эти места почти такими, какими они были в дни ленинского подполья.
В поселке Разлив сбережен сарай, служивший Ильичу убежищем. В годы войны в опустелом полуразрушенном поселке не так-то просто было сохранить это легкое деревянное строение от обстрелов, пожаров, зажигательных бомб и снарядов. Зажигательные фосфорные снаряды бывали, кстати, на этом участке не редкостью. Охраняли ленинский сарай рабочие-дружинники сестрорецкого завода, солдаты и офицеры воинских частей, моряки и пехотинцы, гражданские люди — жители поселка.
Теперь ветераны дивизий и полков водят здесь подшефных пионеров тропами великой войны и обязательно заканчивают свои маршруты у ленинского шалаша в Разливе, где ребята читают золотые буквы надписи на красноватой плите:
«На месте, где в июле и августе 1917 года в шалаше из ветвей скрывался от преследования буржуазии вождь мирового Октября и писал свою книгу „Государство и революция“, — на память об этом поставили мы шалаш из гранита. Рабочие города Ленина. 1927 год».
И по-прежнему гонит рябь по озеру порывистый ветер, шепчутся тростники, раскачиваются ветлы, будто самой природе передался здесь великий дух вечного ленинского непокоя!
И плавно в мир,
строительству в доки, —
вошла
советских республик громадина.
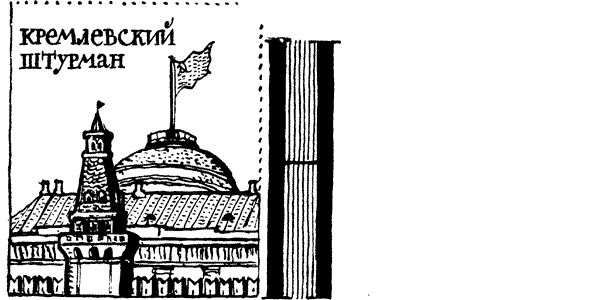
Не одним поэтам приходит в голову сравнение с корабельной штурманской рубкой, когда экскурсовод вводит нас в кремлевский кабинет Владимира Ильича.
С 12 марта 1918 года эта небольшая комната поистине стала штурманской рубкой истории и служила Ленину до того дня, когда смертельная болезнь отняла у него силы: по записям дежурных секретарей Совнаркома Владимир Ильич последний раз работал здесь 12 декабря 1922 года и ушел в 8 часов 15 минут вечера…
На этой дате открыт календарь на столе, на этой минуте остановлены стенные часы. С того времени все чаще приходилось увозить больного Ильича в Горки, а с весны 1923 года Ленин уже почти не выезжал оттуда.
Рабочий кабинет Ленина в Кремле и соседняя с кабинетом небольшая квартира Владимира Ильича, Надежды Константиновны и Марии Ильиничны стали музейным достоянием, но, к великой чести здешних работников, надо сказать: здесь мы почти забываем, что это музей! Такие слова, как «экспонат», «показ», в кабинете Ленина как-то неуместны, потому что каждый вошедший сюда попадает в подлинную рабочую обстановку председателя Совнаркома. Здесь на всем, до последней мелочи, лежит отпечаток ленинского стиля. И тот, кто хочет учиться этому стилю в любой области человеческой деятельности, непременно должен здесь побывать.
Нетрудно описать обстановку кабинета, каждую вещь в отдельности, потому что их немного, и любая по-своему необходима. Можно рассказать, что видно из окон, куда ведут двери, как расставлены вещи, но такое внешнее описание не передаст значительности этого места. Когда сюда входишь, появляется ощущение захватывающей дух высоты — высоты мысли, огромного ума, сочетающего теорию с практической жизнью, с государственной деятельностью.
Книги, книги, книги! В стенных шкафах, на вертящейся этажерке под рукой — справочники, энциклопедии, Толковый словарь Даля, сочинения классиков. Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов, Гоголь, Толстой, Тургенев, Чехов, Горький, Фет, Майков, Аксаков, Апухтин, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Салтыков-Щедрин… Их сочинения были у Владимира Ильича в кабинете, значит каждодневно служили ему для работы, для справок, просто для души.
Рядом, в одной из комнат Совнаркома, собрано еще дополнительно около пяти тысяч книг. Ими тоже часто пользовался Ленин. Он читал на девяти иностранных языках, владел в совершенстве немецким, французским и английским, читал и переводил с польского и итальянского, понимал шведский и чешский, знал латынь и греческий. Владимир Ильич, как свойственно ученым, умел очень быстро прочитывать книгу, оценивать ее, резюмировать суть. Пометки Ленина на полях книг — большой материал для науки.
В кабинете Ленина хранится первое издание книги английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Россия во мгле» на английском языке. Владимир Ильич подчеркнул много удачных, справедливых замечаний Уэллса о причинах разрухи в России, о виновниках мировой войны.
Как известно, Уэллс дружески относился к Советской республике, приезжал к нам, беседовал в 1920 году с Владимиром Ильичем о плане ГОЭЛРО, но даже профессиональной фантазии Уэллса не хватило, чтобы представить себе реальность ленинского замысла электрифицировать страну. Уэллс назвал тогда Ильича «кремлевским мечтателем» и лишь впоследствии, еще дважды посетив нашу страну, признал свою неправоту, понял, насколько зорче Ленин глядел в будущее советских республик.
По стенам и даже на челе кафельной печи развешаны в кабинете карты, много карт. Ленин любил карты и читал их так же легко и быстро, как и книги: этот навык остался с детства, от занятий с отцом. Карта висела и в симбирской комнатке Володи Ульянова.
Большинство карт в кремлевском кабинете — стратегические, удобные для планирования военных операций. Возглавляя оборону страны, Ленин всегда был точно информирован о положении на фронтах, руководил фронтами именно из этого кабинета.
Из соседней аппаратной, куда ведет одна из дверей, Ильич разговаривал с командующими. Создатель Красной Армии, Ленин обладал военно-теоретической подготовкой, изучал, в частности, специальные работы буржуазных военных теоретиков: Клаузевица, Людендорфа, русских тактиков. В кремлевской библиотеке Ленина было около двухсот книг по военным вопросам. Характерно для Ленина, что при его серьезнейших военных знаниях он на анкетный вопрос о военной подготовке скромно отвечал: «Никакой».
Но есть в этом строгом кабинете и такие предметы, что непосредственно не служат для дела — их назначение иное, но тоже очень важное. Это две настольные статуэтки, две картины, два чернильных прибора, кроме рабочего. Предметы эти не просто оживляют и украшают обстановку: они были подарены Ленину рабочими из отдаленных краев или друзьями и напоминали Ильичу об определенных событиях и людях, давали ощущение связи с ними.
Портрет Маркса привезли раненому Владимиру Ильичу рабочие Петрограда, чернильный прибор, инкрустированный серебряной нитью, — трудящиеся Дагестана, настольную лампу-статуэтку — рабочие-уральцы. А на этажерке-вертушке лежит болгаро-французский словарь, подарок болгарских коммунистов. На титульном листе словаря рукою Георгия Димитрова сделана надпись: «Нашему любимому учителю и незаменимому вождю всемирной пролетарской революции товарищу Ленину».
«Товарищ Ленин — величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни», — пишет старейший коммунист Японии Сен Катаяма, один из организаторов Японской компартии и Коммунистического Интернационала. Товарищ Сен Катаяма сделал и первое описание ленинского рабочего кабинета, побывав на приеме у Ильича во время одного из конгрессов Коминтерна.
…Последний раз я осматривал кремлевский кабинет и квартиру Ленина летом 1965 года с экскурсией московских литераторов. Впереди нас двигалась большая группа смуглых и темнокожих людей, звучала английская речь вперемежку с языком суахили и наречиями банту. За нами шла экскурсия кубинцев, за ней — рабочие одного из московских заводов… За день кабинет и квартиру могут осмотреть десятки экскурсий — каждая проводит в этих стенах около часу. И это такой насыщенный час, что остается в памяти навсегда.
В кремлевской квартире Ленина мы видим обстановку истинно культурных, интеллигентных, нетребовательных к быту людей — четыре небольшие комнатки. Одна из них служила Ленину, одна — Надежде Константиновне, одна — Марии Ильиничне, а столовая была общей. Здесь собирались все члены семьи — отдохнуть, почитать.
Ничего лишнего, строгая простота, скромность. Как сказал об этом жилище писатель Серафимович: «Все для работы и очень мало для отдыха». Здесь очень ясно понимаешь, как интересовало и волновало Ленина все, что интересовало и волновало страну, умы и сердца сограждан. Владимир Ильич всегда был осведомлен о новейших достижениях точных наук, следил за развитием физики, химии, электротехники, инженерного, строительного искусства. Очень обстоятельно изучал он вопросы сельскохозяйственной экономики, животноводства, полеводства, селекции.
Ленин придавал огромное значение науке о богатствах земных недр, непосредственно руководил работами по проектированию и сооружению первых крупных советских электростанций. Помимо всего этого, он вникал в тонкости газетного и книжного дела, оставил нам в наследство важные мысли о русском языке, о работе печати, театра, об изобразительных искусствах.
Когда я сказал экскурсоводу, что работаю над книгой о памятниках искусства и некоторых мемориальных музеях, отражающих «образы России», мне тут же привели множество примеров заботы Владимира Ильича о сбережении и популяризации памятников культуры.
— Только здесь, работая в этом кабинете, — рассказывала сотрудница музея, — Ленин подготовил и провел через Совнарком много важных мер по охране ценных памятников культуры. Вот вам всего несколько примеров. В начале 1920 года Ленин побывал в пустовавшем тогда доме Льва Николаевича Толстого в Долго-Хамовническом переулке. Владимир Ильич сам предложил превратить этот дом в музей, полностью восстановив его прежнюю обстановку. 20 апреля 1920 года Ленин подписал декрет об основании в стенах Троице-Сергиевской лавры Государственного историко-художественного музея-заповедника. В 1922 году Совнарком, исполняя волю Ленина, постановил организовать Пушкинский заповедник в селе Михайловском. Надо помнить, что все это происходило в годы небывалой разрухи и кровопролитной гражданской войны!
Владимир Ильич очень любил Московский Кремль, внимательно прочел несколько книг по истории Кремля, осмотрел все дворцы, Грановитую палату, терема, соборы. Он отдал распоряжение о реставрации пострадавших памятников Кремля, например Никольской башни. Ленин не мирился с порчей первоначального облика памятников, с теми грубыми искажениями, которые допускались при неквалифицированных реставрациях дореволюционного времени, как, например, в соборе Двенадцати апостолов. Поэтому и ныне реставраторы кремлевских памятников, проделавшие с 1918 года огромную работу, гордятся тем, что инициатором реставрационных работ здесь был сам Владимир Ильич.

Предполагалось, что усадьба Горки близ станции Герасимовская Павелецкой железной дороги будет служить Ленину только местом лечебного покоя. На этом настаивали врачи. Они потребовали подыскать для Ленина место загородного отдыха, как только он стал поправляться после ранений 30 августа 1918 года. Но Владимир Ильич отвергал все попытки создать ему какие-то «особенные» условия, отличные от тех, в каких живут его сотрудники.
Было ясно, что в какой-нибудь дворец, вроде юсуповского дворца в Архангельском, Ленин не поедет. Тогда и выбраны были сравнительно скромные Горки, где к тому же хорошо сохранились жилые и служебные помещения, была маленькая электростанция, отопление, свет и телефонная связь с Москвой.
Членам ЦК партии стоило большого труда уговорить Ленина осмотреть помещение, которое заранее, втайне от самого Ильича, готовили в Горках для его отдыха. Руководил подготовкой комендант Кремля П. Мальков по указаниям Ф. Дзержинского и Я. Свердлова.
Впервые Ленин приехал сюда в погожий день золотой осени, 25 сентября 1918 года.
Среди волнистой равнины, березовых перелесков и дальних сосновых лесов, в соседстве с обыкновенными деревеньками, один холм у реки Пахры выдался повыше окрестных, и там, на юру, уцелел двухэтажный помещичий дом с колоннами и еще два боковых флигеля. Старый тенистый парк окружал строения. Под горой, в пруду, по-осеннему ясно голубела вода, плавали опавшие листья, отражались облака и белые колонны фасада. Кругом было тихо, а живописный ландшафт, прозрачность и чистота воздуха чем-то напомнили Ильичу Швейцарию.
Здешний парк, видимо, возник постепенно, из природного леса, где некогда прорубили аллеи-дороги, подсадили к местным породам деревьев привозные — крымскую сосну, сибирскую лиственницу, серебристую ель, клен, дубы, вязы, — и предоставили им расти в окружении берез, сосен и елей. Здесь, у самых дорожек, попадались грибы и ягоды, густо разрослись кусты, молодой подлесок.
Но большой дом оттолкнул Владимира Ильича пышностью убранства, мебелью из карельской березы, коврами, хрустальными люстрами. Уговорить Ленина поселиться в этих хоромах сразу не удалось. Пришлось устроить ему скромное жилье в левом, северном флигеле, где в прежние времена жила прислуга.
Ильич и мысли не допускал, что он будет жить в Горках один. Всегда озабоченный здоровьем своих товарищей, старых бойцов большевистской гвардии, здоровьем, подорванным годами подполья, тюрьмами, гражданской войной, Ленин, поселившись в Горках, дал задание — устроить здесь дом отдыха для работников МК партии. Это было сделано: в коттеджах, неподалеку от большого дома, поселили старых большевиков, а в южном флигеле устроили столовую, где брали еду и для семьи Ленина. Вместе с ним жили в Горках Надежда Константиновна, сестры Мария и Анна, брат Дмитрий с семьей и старый революционер А. А. Преображенский.
Штат, обслуживающий Горки, состоял всего из нескольких человек, тут же размещалась и малочисленная охрана из латышских стрелков-коммунистов. Владимир Ильич долго не мог примириться с тем, что его жизнь охраняют, и шутливо упрекал Ф. Дзержинского.
В северном флигеле Владимир Ильич Ленин жил осенью 1918 года, потом в зимние месяцы 1919, 1920 и 1921 годов. Когда, наконец, из темных и тесных комнат флигеля больной Ильич перешел в большой дом, в северном флигеле поселились семьи Д. И. Ульянова и А. А. Преображенского.
Именно с этого флигеля обычно и начинается осмотр Горок Ленинских, одного из самых важных мемориальных музеев нашей страны. Последнее жилище Ленина так и не стало местом «загородного покоя» — Ильич и здесь работал, беседовал с друзьями и соратниками, принимал делегации.
Ходишь теперь по комнатам в Горках, исписываешь блокнот и с огорчением чувствуешь, как трудно передать в кратком очерке все виденное и слышанное.
Надо признать, что «путеводительское» описание дома в Горках не может дать представления о ленинских привычках, ленинском образе жизни. Судить об этом можно лишь по некоторым характерным деталям и штрихам, которые Владимир Ильич и близкие ему люди внесли в прежнюю обстановку помещичьего имения.
Первое, что поразило здесь Ленина, — отсутствие в столь благоустроенном и богато обставленном доме библиотеки! Ее пришлось создавать заново, и книги выбирал сам Владимир Ильич.
Среди прежних владельцев имения Горки была одна любопытная и незаурядная фигура: потомок крепостных крестьян, богач-фабрикант Савва Тимофеевич Морозов, который, по-видимому, покончил с собою в 1906 году. Его вдова вышла замуж за генерала Рейнбота — московского градоначальника и злейшего врага революции. Рейнбот эмигрировал за границу, прихватив с собой крупные ценности из капиталов морозовской семьи. Этот последний владелец Горок внес мало изменений в обстановку, созданную еще Саввой Морозовым, у которого было художественное чутье (Станиславский доверял ему, например, расписывать декорации в Художественном театре).
Купив в свое время Горки, Савва Морозов велел перестроить большой дом в духе более строгого классического стиля, перекликавшегося с московским ампиром начала XIX века. Над окнами второго этажа появился античный фриз, к дому пристроили балконы, зимний сад.
В 1910 году новые владельцы устроили здесь водокачку, электростанцию, два пруда. Интерьеры дома, в особенности мебель «под ампир», отличаются некоторой вычурностью рисунка и отделки, несколько модернизированы, но в целом создают приятный для глаза, очень нарядный ансамбль.
Надежда Константиновна Крупская писала в своих воспоминаниях:
«Обстановка была непривычная. Мы привыкли жить в скромных квартирках, в дешевеньких комнатах и дешевых заграничных пансионах и не знали, куда сунуться в покоях Рейнбота. Выбрали самую маленькую комнату… Но и маленькая комната имела три больших зеркальных окна и три трюмо. Лишь постепенно привыкли мы к этому дому».
В том-то и заключается труднопередаваемое своеобразие музея «Горки Ленинские», что этот «дом с колоннами», созданный и обставленный по прихоти богача фабриканта и его родственников, затем в течение пяти с половиной лет служил местом труда и отдыха величайшему революционеру — Ленину.
Среди морозовско-рейнботовских «ампиров» глубоко трогает чисто ленинская простота, внесенная им в эту обстановку: висят под стеклом его скромные личные вещи — простенькая, сильно поношенная меховая куртка, летний френч, кепка, стоят болотные сапоги и ботинки.
На столике пенсне в потертом футляре, календарь, нож для разрезания книг (в те времена книги обычно попадали к читателю неразрезанными, и такой нож был предметом первой необходимости для человека, читавшего много). Тут же стоит и простая палка — Ильич пользовался ею в дни болезни. Свой рабочий стол Ленин держал в строгом порядке, был образцом аккуратности, не терпел разгильдяйства.
Трудно перечислить вкратце все то, что Ленин успел сделать за годы, связанные с частым пребыванием в Горках. Собственно, нет таких важных проблем, стоявших тогда перед молодым Советским государством, в которые не вникал бы Ленин.
Переход от военного коммунизма к новой экономической политике, возрождение промышленности, электрификация, кооперирование сельского хозяйства — все это осуществлялось в стране под руководством Ленина. Здесь, в Горках, за своим рабочим столом, он разрабатывал важнейшие государственные и партийные документы, которые легли в основу решений Восьмого, Девятого, Десятого, Одиннадцатого и Двенадцатого съездов партии, Восьмого и Девятого съездов Советов, Третьего и Четвертого конгрессов Коммунистического Интернационала.
И сейчас экспозиция нижних комнат в «доме с колоннами» посвящена преимущественно этой теоретической и организаторской деятельности Ленина — вождя партии и главы Советского государства. Фотокопии рукописей, первые оттиски статей, служебные записки, письма дают представление, как напряженно работал Ленин, всегда умея выбрать из множества волновавших его проблем самую животрепещущую, самую острую и существенную.
Большинство фотографических портретов, фотоснимков Ильича и близких ему людей широко известны, но здесь глядишь на них по-иному, потому что видишь воочию то окружение, что изображено на снимках.
Висит на стене снимок смеющегося Ильича — он идет по аллее навстречу фотографу. И тут же, из окна, можно увидеть эту аллею и скамью, тоже знакомую по многим снимкам и работам художников.
Но особенно запоминается один большой, почти в натуральную величину, снимок на стекле, вставленном в овальную оправу. Поворот выключателя — фотография изнутри освещается скрытой лампой, будто вспыхнул голубоватый экран телевизора. Экскурсовод поясняет, что именно этот снимок люди, близко знавшие Ленина, в том числе и Н. К. Крупская, считали самым удачным, лучше всего передающим лицо Ленина во время оживленной беседы с друзьями. Фотография с таким мастерством перенесена на стекло, освещена и вмонтирована в стенную оправу, что действительно кажется: перед нами на экране телевизора живой Ленин.
Тут вспоминаешь замечательный документ, опубликованный в «Известиях» 6 апреля 1963 года: Н. К. Крупская отвечает ученым-медикам на их вопросы о Ленине — о чертах его характера, привычках, особенностях его натуры.
Вот что, например, Надежда Константиновна считала наиболее существенным:
«Всегда органическая какая-то связь с жизнью.
Колоссальная сосредоточенность.
Самокритичен — очень строго относился к себе. Но копанье и мучительнейший самоанализ в душе — ненавидел».
«Был боевой человек».
«Беспорядочности и суетливости в движениях не было».
«Обычное, преобладающее настроение — напряженная сосредоточенность.
Веселый и шутливый».
«Очень хорошо владел собой».
«В беседах с людьми, которых растил, был очень тактичен.
Впечатлителен. Реагировал очень сильно».
«Бледнел, когда волновался.
Страстность захватывающей речи — она чувствовалась даже, когда говорил внешне спокойно».
«Писал ужасно быстро, с сокращениями…
Под разговор писать не мог (не любил), нужна была тишина абсолютная».
«Перед всяким выступлением очень волновался — сосредоточен, неразговорчив, уклонялся от разговоров на другие темы, по лицу видно, что волнуется, продумывает. Обязательно писал план речи».
«Говорил быстро…»
«Речь простая была, не вычурная и не театральная, не было ни „естественной искусственности“, „пения“ типа французской речи (как у Луначарского, например), не было и сухости, деревянности, монотонности типа английской — русская речь посредине между этими крайностями. И она была у Ильича такая… типично русская речь. Она была эмоционально насыщена, но не театральна, не надумана; естественно эмоциональна».
«Говорил всегда с увлечением — было то выступление или беседа».
«…Улыбался очень часто. Улыбка хорошая — ехидной и „вежливой“ она не была.
Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте…»
«Очень бодрый, настойчивый и выдержанный человек был. Оптимист».
«…Зряшного риска — ради риска — нет… Ни пугливости, ни боязливости.
Смел и отважен».
Таким и глядит на нас Ленин со своих фотопортретов в Горках.
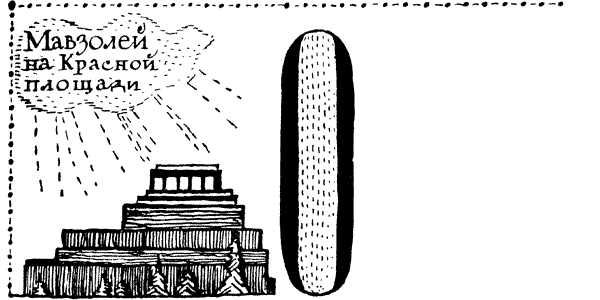
Одно из лучших творений советского монументального искусства — торжественно-траурный Мавзолей Ленина на Красной площади. Создание Мавзолея было подлинно творческим свершением большого зодчего, потрясенного смертью величайшего революционного вождя.
В тот январский день 1924 года, когда началось всенародное прощание с Лениным, когда, казалось, вся страна двигалась в одной медлительной черной колонне, исчезающей в дверях Дома союзов, архитектор Алексей Викторович Щусев получил правительственное задание: в самый короткий срок спроектировать склеп и надгробие.
— После разговора с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, — рассказывал Щусев, — я долго ходил по своей рабочей комнате в глубоком волнении. В тот момент я даже не в силах был испытывать чувства гордости за оказанное мне доверие: все помыслы устремились только на то, чтобы надгробие со склепом оказались достойны того, кто будет покоиться в этой могиле.
Сначала, ко дню похорон, от Щусева требовалось оформить лишь подземный склеп с наружными входами, выходами и лестницами, ведущими вниз и вверх. Еще проект не был окончен, когда на площади, у кремлевской стены, стали громыхать глухие взрывы: это в морозных ночах рвали глубоко промерзший грунт и рыли котлован для склепа.
26 января состоялось траурное заседание II съезда Советов СССР, на котором Надежда Константиновна Крупская произнесла свою проникновенную речь о Ленине. Съезд принял решение переименовать Петроград в город Ленина — Ленинград и соорудить в Москве, на Красной площади, Мавзолей Ленина.
Проект Мавзолея создан был Щусевым буквально в одну ночь, вместе с проектом склепа. Дальше потребовались лишь доработка, расчеты, изготовление модели. Над устройством склепа работали еще и в самый день похорон, 27 января, когда гроб с телом Ленина был уже установлен у заиндевелой стены Кремля, на высоком постаменте.
В 4 часа дня, 27 января, под гром траурного салюта, под гудки фабрик, паровозов, заводов, кораблей, электростанций, рудничных сирен гроб с телом Ленина опустили в приготовленный склеп. А к началу весны временный деревянный Мавзолей уже стоял на площади, и каждые полчаса менялся перед входом почетный караул, как меняется и поныне, сорок восемь раз в сутки.
Архитектура Мавзолея, его внешнее и внутреннее решение, подсказывались тем, что выражение траура должно было сливаться в этом здании с идеей непобедимости, бессмертия ленинского дела. Было решено соединить Мавзолей с правительственной трибуной, как бы в память того, что сам Владимир Ильич обращался к народу на Красной площади и в дни советских праздников всегда встречал здесь демонстрации и шествия, которые стали нашей традицией с первых дней Октября.
— В памятную ночь работы над проектом Мавзолея, когда, собственно, и найдено было решение, я мысленно обратился к опыту всего человечества, — рассказывал Алексей Викторович Щусев, — и перебирал в уме все сооружения, оказавшиеся наиболее долговременными и торжественными. Невольно память подсказала древнеегипетскую поговорку: «Все боится времени, а время боится пирамид». Ступенчатые пирамидальные формы некоторых кремлевских башен углубили эту мысль, заставили карандаш чертить эскиз за эскизом — так пришло окончательное решение…
Оно действительно оказалось жизненным и успешным. Простота и монументальность здания так полюбились народу, что проект постоянного Мавзолея поручили снова А. В. Щусеву. Архитектор устранил при этом некоторую дробность деталей, добился еще большего лаконизма и обобщения. В 1929–1930 годах деревянный Мавзолей уступил место каменному.
Над входом в Мавзолей врезано в могучую каменную глыбу одно слово: «Ленин». Красные гранитные плиты как бы оторочены траурным поясом из черного лабрадора. Величавы красные и черные тона внутренней каменной облицовки траурного зала, где стоит стеклянный саркофаг.
Мавзолей красиво выделен на площади светлым тоном гостевых трибун, создающих выразительный, хорошо подчеркнутый контраст с темным цветом гранита и лабрадора. Темно-зеленая шеренга остроконечных серебристых елей, купол казаковского здания с летящим пламенным флагом, Сенатская башня Кремля, светлый гранит трибун, башенные шатры, увенчанные краснозолотыми звездами, — на таком фоне предстает перед нами ленинский Мавзолей.
Имя автора Мавзолея академика Щусева присвоено Музею архитектуры в Москве.
Алексей Викторович Щусев — один из создателей новой Москвы. Он построил гостиницу «Москва», Казанский вокзал, здание Наркомзема в Орликовом переулке, Москворецкий мост у Красной площади и много жилых домов… Но лучшее произведение талантливого зодчего, бесспорно, Мавзолей Ленина.
Сооружение Мавзолея определило и главные черты планировки самой Красной площади. Щусеву не раз предлагали «открыть» ее с торцов. Автору этих строк довелось быть в тридцатых годах на совещании архитекторов и планировщиков, где теоретически обсуждалась возможность передвинуть храм Василия Блаженного за пределы площади. На другом ее торце предлагался снос здания Исторического музея. К счастью, предложения эти были отвергнуты, иначе Красная площадь превратилась бы в обыкновенный проезд, и это лишило бы ее композиционной законченности. Щусев это ясно понимал и мудро сберег исторически сложившуюся планировку главной в Москве площади, вписав в нее трибуны и величавый Мавзолей.
Когда подходишь к нему близко, кажется, что в полированных гранях черного лабрадора, играя, вспыхивают и гаснут живые искры. Будто сам камень напоминает об искрах ленинской мысли, из которых разгорелось великое пламя…
II
О подвигах, о славе

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку…

Девятьсот пятый — окровавленный, геройский, святой год первой русской революции!
Прелюдией к нему были Мукден и Цусима, начался он у Зимнего дворца в Петербурге трагедией 9 января и окончился московским пожаром Пресни, расстрелянной пушками карательного Семеновского полка, прибывшего из Петербурга. В истории освободительного пролетарского движения не было до тех пор таких массовых подвигов самоотречения, поистине революционной страсти, рыцарского благородства, какими поразили тогда весь мир герои пресненских баррикад под кумачовым флагом восстания.
Вслушаемся в слова «Обращения к обществу». Листовки с этим текстом нес москвичам с крыш декабрьский ветер, проникнутый гарью:
«Шайка грабителей еще раз подавила „мятеж“. Но подавила так, что даже для слепых стало ясно, что это — действительно шайка убийц, имеющих главную квартиру в Петербурге… Борьба против пролетариев, которых неудачно хотели оклеветать как „разрушителей“, оказалась самым варварским разрушением… Шайка, за которой, по ее уверениям, стоят массы, окончательно разоблачена; за ней по бессознательности стоит лишь часть армии и прежде всего гвардейские полки, из которых шайка специальной дрессировкой вытравляет все человеческое… И глубокое символическое значение приобретает тот факт, что верные шайке войска, стремясь расстрелять революционеров, расстреливали всякого попадавшегося им обывателя. А на другой стороне — „разрушители“, пролетарии. При всем желании очернить их… даже в черносотенных газетах прорывается невольное признание рыцарства пролетариев, которые не допустили ни одного нарушения личной и имущественной неприкосновенности граждан и настолько сохранили самообладание, что даже врагам не отвечали жестокостью на жестокость. Вот почему даже буржуазные газеты признают, что хотя восстание временно и задушено, но в Москве нет победителя… Да здравствует победоносная революция!
Московский Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии».
Да, так боролись в девятьсот пятом дружинники Москвы, ивановские ткачи, матросы Севастополя и Одессы. Какое шествие светлых имен, какое множество высоких, совсем разных жизней, схожих между собою только общностью жертвенной конечной судьбы!
Николай Бауман, соратник Ленина, агент «Искры», убитый из-за угла царским охранником-черносотенцем.
Иван Бабушкин, талантливый вожак рабочих, и машинист с «Казанки» Алексей Ухтомский, создатель боевой дружины на вооруженном поезде. Оба без суда расстреляны карателями — один в Сибири, другой в Люберцах, под Москвой.
Моряк-лейтенант Петр Шмидт и его товарищи-матросы, участники Севастопольского восстания в Черноморском флоте, казненные на Березани.
Фабрикант по рождению, революционер по делам и духу, большевик по партийной принадлежности Николай Шмит, организатор пресненских дружинников, тайком зарезанный в царском застенке…
Вот они, пробившие в царской монархии первую брешь, которая, по словам В. И. Ленина, «медленно, но неуклонно расширялась и ослабляла старый, средневековый порядок».
Теперь мы работаем на заводах, ходим по площадям и мостам, живем на улицах, учимся в институтах, садимся в электропоезда на станциях, носящих имена борцов девятьсот пятого года. Их дела, их призывы, их предсмертные письма стали для нас учебниками жизни, реликвиями музеев, нашим достоянием и всенародной нашей гордостью.
А в искусстве? Что совершено ваятелями и зодчими в честь и память борцов первой русской революции?
Сделано, конечно, немало. Воздвигнуты статуи-памятники и мемориальные бюсты. Заботливо оберегаются дорогие и священные могилы. И все-таки, если мерить сделанное по большому счету (а в искусстве только этот счет и возможен!), то глубокого удовлетворения свершенным еще нет.
Еще нет у нас скульптуры, посвященной герою или событию 1905 года, которая по исполнению, глубине замысла, идейной проникновенности могла бы стать наравне, скажем, с Медным всадником или «Мининым и Пожарским». Не отлилась еще в бронзе горьковская «Песнь о Буревестнике»…
Правда, сама задача здесь сложнее, чем у Мартоса и Фальконе. Нужно более глубокое обобщение, более смелая символика. Горькому удалось найти прекрасную словесную форму, мастера пространственных искусств еще в поисках… Пожелаем им скорой удачи!
А пока — о достигнутом.
Я живу на Пресне, которую знаю с детства. Но теперь мне, как и всем моим сверстникам, становится все труднее сопоставлять сегодняшнюю Красную Пресню с прошлой, о которой сохранилось столько интереснейших воспоминаний участников революции.
Есть на Красной Пресне, на Большевистской улице, небольшой исторический музей. Я хожу к нему от некогда «нелегального района Грузин» по улице, которую хорошо назвали: Дружинниковской. Все здесь теперь обновляется, перестраивается. Лишь кое-где еще доживают свой век последние пресненские хибарки и домишки.
Кругом высотные дома: одно на площади Восстания, другое почти рядом с ним — похожее на раскрытую книгу здание СЭВ, еще одно за Москвой-рекой (гостиница «Украина»). Совсем исчезли корпуса Новинской тюрьмы на берегу, из которой с помощью Владимира Маяковского совершили побег политические узницы. На Красной Пресне, у зоопарка, нет прежнего моста, и лишь поодаль, на скрещении Большого Девятинского, Конюшковской и Дружинниковской можно еще увидеть остатки знаменитого Горбатого моста через речку Пресню, давно взятую в трубу.
Это самый центр декабрьских боев, главный опорный пункт рабочей обороны. Здесь, у Горбатого моста, на месте нынешнего детского парка, находилась мебельная фабрика Николая Шмита, прозванная полицией «чертовым гнездом».
О ее владельце уже написаны очерки и газетные статьи, а когда-нибудь, я верю, будут написаны увлекательные, и притом правдивые, романы, авторам которых достаточно, ничего не прибавляя, лишь добросовестно следовать канве этой удивительной двадцатитрехлетней жизни.
Судите сами: совсем юный студент-естественник получает в наследство мебельную фабрику и крупный капитал. Этот студент — родственник Саввы Тимофеевича Морозова, родной племянник богача-мецената Алексея Викуловича Морозова — вхож в самые богатые дома Москвы, близко знаком с Горьким, встречается с такими людьми, как Шаляпин, художник Валентин Серов, революционер Бауман… Молодой человек проникается идеями революции, становится большевиком-конспиратором, вооружает «своих» рабочих, вводит на фабрике самые льготные условия труда, организует профсоюз столяров и плотников, посвящает в революционные дела свою сестру, Екатерину Шмит, вступает (как и она) в РСДРП, отдает свои средства партии большевиков, преданно служит революции всем, что имеет: блестящим и трезвым умом, организаторским талантом, всем своим наследственным достоянием.
Фабриканты-соседи ненавидели и проклинали Шмита, его фабрика была сожжена и расстреляна из орудий, сам он арестован.
Рабочие дважды пытались вырвать его из тюрьмы, Горький из-за рубежа писал о деле Шмита, надеясь спасти его жизнь, сестра Екатерина сделала для этого нечеловеческие усилия. Но выпустить Шмита охранники не отважились. Он погиб в тюрьме от руки убийцы.
Проводы гроба Николая Шмита на Преображенское кладбище вылились в народное шествие, но было это уже в 1907 году, когда победила реакция, и превратить похороны Шмита в общемосковскую демонстрацию (как до того — похороны Баумана) полиция не дала. Могилу Шмита черносотенцы впоследствии даже разрушили, и только при Советской власти она была восстановлена вновь. В 1941 году рядом со Шмитом похоронили его сестру и соратницу Екатерину Шмит, отдавшую Коммунистической партии всю свою жизнь. В последний путь провожали ее ветераны 1905 года…
На месте самой шмитовской фабрики, где ныне детский парк, в дни боев рабочие похоронили нескольких дружинников. Другие погибли здесь в перестрелках, под развалинами горящих зданий фабрики и особняка Шмита. На огромном пожарище долго оставался голый пустырь с развалинами, теперь здесь шумят парковые деревья. По сути, здесь остатки революционной крепости 1905 года и братская могила рабочих-шмитовцев. Подвиг этих людей воспет в песнях. Вот слова одной из них, сложенной ветеранами революции:
Мы шли вперед, неся порыв и песню,
Порыв, каких не видела земля,
Вписав геройский Пятый год и Пресню
В бои за Смольный и у стен Кремля.
Эти строки — правда, ставшая песнью!
Какими же произведениями монументальной скульптуры почтила страна память солдат первой революции?
Это памятник Николаю Бауману (скульптор Б. Королев), установленный в 1931 году на площади, носящей имя Баумана, статуя рабочего дружинника у станции метро «Краснопресненская» (скульптор А. Зеленский), памятник рабочим-железнодорожникам Московского узла, воздвигнутый в 1966 году на Ваганьковском кладбище (скульпторы В. А. Павлов и Е. Е. Шебуева), мемориальный камень-обелиск на Краснопресненском сквере против Большевистской улицы — таковы главные московские памятники в честь 1905 года.
У Краснопресненской заставы будет установлен бронзовый памятник в честь борцов первой русской революции. Основа проекта — скульптура Шадра «Булыжник — оружие пролетариата».
Значительные произведения монументальной скульптуры в память девятьсот пятого года уже созданы в городах-героях Севастополе и Одессе.
На Севастопольском кладбище коммунаров очень запоминается мемориальный монумент революционным морякам.
…Черная скала, обвитая чугунной цепью. Красное знамя, взлетевшее над вершиной гранитного утеса. Бронзовый барельеф с изображением морского залива и русских крейсеров. На мраморной плите — надпись:
«Активным участникам революционного восстания моряков Черноморского флота в ноябрьские дни 1905 года лейтенанту П. Шмидту, машинисту А. Гладкову, комендору Н. Антоненко, кондуктору С. Частнику, расстрелянным царским правительством на острове Березань 19 марта 1906 года».
Если смотришь издали, памятник приходится как раз на черту слияния неба и моря — оно поднялось позади кладбищенских кипарисов как безмолвная темно-голубая стена.
Пределен лаконизм выразительных средств: камень, цепь, знамя, будто пропитанное кровью. Мы словно переносимся на каменистый остров, где та же темно-голубая стена безмолвствовала за спинами четырех, когда солдаты наводили ружейные дула.
В 1965 году, в связи с 50-летием восстания на броненосце «Потемкин», большой монумент героям этих июньских событий девятьсот пятого года был воздвигнут в Одессе.
Стоит он на Приморском бульваре (где, помнится, некогда был памятник Екатерине II), невдалеке от знаменитой Потемкинской лестницы и классической статуи дюка де Ришелье, на редкость удачно водруженной здесь в прошлом веке скульптором Иваном Мартосом.
Сама форма площади и ее сравнительно небольшие размеры определили положение и размеры монумента потемкинцам.
Посреди площади устроено возвышение — подиум из каменных плит. Это, как выражаются ваятели, «организация пространства» вокруг скульптуры. Гранитная лестница в несколько ступеней подводит к самому постаменту. Сложенный из мощных брусков тесаного камня, он своей формой напоминает корабельный нос, вернее, вызывает ассоциацию с кораблем, не подчеркивая этой аналогии никакими лишними деталями.
На хорошо отполированных гранях постамента выделяется силуэт броненосца и краткая надпись: «Потемкинцам — потомки». На другой стороне высечены памятные даты «1905–1965» и слова В. И. Ленина:
«Броненосец „Потемкин“ остался непобежденной территорией революции».
Сама многофигурная бронзовая статуя сложна по композиции и изображает тот момент, когда от пассивного сопротивления офицерам матросы переходят к вооруженному мятежу.
Историческая значимость, революционный накал этих событий отлично характеризуются ленинской инструкцией, которую получил в те дни непосредственно от Владимира Ильича один из боевых организаторов революции пятого года, большевик-ленинец М. И. Васильев-Южин.
«Броненосец „Потемкин“ находится в Одессе. Есть опасения, что одесские товарищи не сумеют, как следует, использовать вспыхнувшее на нем восстание. Постарайтесь, во что бы то ни стало, попасть на броненосец, убедите матросов действовать решительно и быстро. Добейтесь, чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки… Дальше необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки остальной флот. Я уверен, что большинство судов примкнут к „Потемкину“. Нужно только действовать решительно, смело и быстро. Тогда немедленно присылайте за мной миноносец. Я выеду в Румынию».
Как известно, опасения Владимира Ильича оправдались: ослабленная арестами одесская организация не смогла противостоять соглашателям. Не было полного единства и среди самих восставших потемкинцев. Черноморская эскадра не присоединилась к восставшим, «Потемкин» прошел под красным знаменем мимо настороженных кораблей эскадры, взяв курс на Румынию, — этой сценой оканчивается эйзенштейновский фильм, непревзойденный пока в нашем искусстве памятник «Потемкину», революционному подвигу его команды.
Автор нового одесского монумента потемкинцам, московский ваятель В. А. Богданов решил воплотить в памятнике известный эпизод с брезентом: «зачинщики бунта», накрытые по команде офицера-усмирителя корабельным брезентом, сбрасывают это тяжелое покрывало…
…Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля,
— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля…
Фигуры одесского монумента (их всего шесть на памятнике) динамичны, исполнены драматизма, трагического пафоса. Они символизируют революционный порыв, высокое мужество потемкинцев, готовность к бою и жертвам. Главная заслуга скульптора — сам выбор ключевого момента боевых событий на броненосце: характерный именно для потемкинского восстания эпизод освобождения из-под брезента, эпизод неповторимый, какой не спутаешь ни с одним другим.
Как же удалось скульптору осуществить этот замысел, воплотить его в бронзе?
Тут, быть может, сказалась и неизбежная спешка с выполнением работы «к сроку», и технические трудности, связанные с недостаточно большими размерами московской мастерской, но практическое осуществление уступает великолепно найденному замыслу.
Дело не только в несколько грубоватом схематизме фигур — это дань современной манере, но и в чересчур условной передаче самой фактуры. Если не знать истории мятежного броненосца, группу на монументе можно истолковать произвольно. Ткань брезента многим кажется символическим изображением волны, красного знамени, даже нависающей скалы. Группа фигур вызывает ассоциации и с гибелью «Варяга», и с тонущими матросами «Стерегущего», и с эпизодом расстрела в картине «Мы из Кронштадта».
По-разному трактуют зрители эту сложную композицию и все же сходятся на том, что эта скульптура — крупное монументальное произведение нашего изобразительного искусства о Пятом годе. Отлично найденное Всеволодом Вишневским выражение Оптимистическая трагедия подходит и к этому новому монументу.
…Когда глядишь от памятника потемкинцам в сторону моря, глаз еле охватывает простор одесского порта, множество пароходных труб, лебедок, мачт. Там и стоял в 1905-м мятежный «Потемкин».
Недавно у подножия одесского монумента старый военный моряк Константин Георгиевич Шаталов рассказывал мне о судьбе самого корабля, изображенного на памятнике:
— О броненосце «Потемкин» пишут разное. Ошиблась даже сама Большая Советская Энциклопедия, сообщив, будто броненосец был потоплен в Новороссийске во время известной операции, выполненной миноносцем «Керчь»… На самом деле судьба броненосца иная. Я сам служил в Севастополе, и многие старослужащие моего экипажа помнили броненосец еще на плаву. Я дружил с участником последнего боевого похода эскадры, в составе которой был «Потемкин», уже получивший после революции новое имя — «Борец революции»…
Собеседник рассказал мне далее, как эскадра советских кораблей действовала против немецких броненосцев «Гебен» и «Бреслау» в конце 1917 — начале 1918 года. Эти корабли пиратствовали почти не таясь: били из орудий по торговым судам, расстреливали наши портовые сооружения, дома… Но однажды у Феодосии беспечность подвела пиратов, — эскадра наших кораблей, подкравшись к «Гебену», накрыла его точными залпами, причинив повреждения. С тех пор «Гебен» держался осторожнее. В этом бою участвовал и бывший «Потемкин».
А в 1919 году, в дни интервенции, некий капитан британского крейсера приказал торпедировать в Севастополе старый корабль. Несколько лет разбитый взрывом броненосец пролежал на боку в Севастопольской бухте — при тогдашней разрухе восстановить его было невозможно, а металл ценился в те времена дорого! В 1923-м севастопольцы разобрали ржавые остатки броненосца на металл для Республики Советов. Вот какова судьба исторического броненосца.
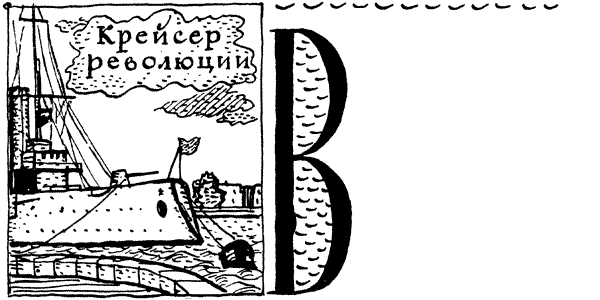
В двадцатых годах знавал я одного паровозного машиниста, Сергея Никифоровича Григорьева. Я ездил с ним кочегаром на подмосковной узкоколейной линии, а паровоз наш был не то экспонатом, не то дубликатом экспоната с первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, что была развернута в Нескучном саду над Москвой-рекой осенью 1923 года.
Получили мы наш паровоз новеньким, и по поводу этого локомотива Григорьев развивал свои философские взгляды на художество. Он считал, что не следует выделять искусство в особую категорию понятий, потому что нет, мол, четкой грани, отделяющей мир статуй и храмов от мира паровозов, доменных печей, винтовок или микроскопов. Дескать, попросту в статую обычно вкладывается больше умения, мастерства и вдохновения, чем в электромотор, а будет время, когда любое изделие человеческих рук станет образцом совершенства и красоты.
— Помнишь ты этот паровоз на выставочном стенде? — наступал на меня Сергей Никифорович. — Почему около него народ толпился? Мало, что ли, кругом и статуй и фонтанов было? Выходит, есть в нем художество, иначе кто глядеть бы стал? А был бы он еще, скажем, по скорости первый, или же, допустим, от бронепоезда боевого, — тут и вовсе бы толчея около него получилась. Каким бы статуям с ним тогда тягаться!
Рассказал я здесь об этом не ради курьеза, а потому, что в основе своеобразной философии С. Н. Григорьева была известная доля рабочей гордости: ведь мы тогда только начинали сами выпускать промышленные изделия, дотоле почти не изготовлявшиеся в России, и казались нам эти предметы прекрасными, волнующе красивыми, и хотелось действительно любоваться ими не просто так, а видеть их на пьедестале.
Помню, каким красавцем смотрел трактор «фордзон», когда пришел он в самом начале тридцатых годов в один колхоз под Шатурой, и люди радостно шагали за ним с флагом в руках. А прославленный самолет АНТ-25, или, как его называли еще, РД, тот самый, на котором сначала Чкалов, затем Громов совершили перелеты через полюс в Америку?..
Все это я говорю к тому, что «старое, но грозное оружие» мы не только бережем и осматриваем с уважением, но еще непременно получаем при этом эстетическое впечатление, и оно тем сильнее, чем значительнее историческое событие, связанное со славой этого оружия.
Такие памятные предметы, как оба ленинских паровоза — у Финляндского вокзала в Ленинграде и у Павелецкого в Москве, броневик «Враг капитала» у Музея имени Ленина в Мраморном дворце над Невой, славные танки-герои, поставленные на каменные пьедесталы в Ленинграде, Симферополе и на поле Курской битвы, производят сильнейшее эстетическое воздействие, хотя не могут быть причислены к произведениям искусства. Секрет тут в том, что сам зритель становится художником, дает простор фантазии и, быть может, бессознательно, но непременно творит сам, воскрешает, как бы воочию видит событие, связанное с предметом-памятником. А если этот предмет еще к тому же старый корабль, сам по себе красивый, романтичный и величественный, то он действительно становится не просто памятником истории, но даже своего рода памятником искусства, даже без словечка «прикладное». В этом нет никакой натяжки, это истинная правда! Здесь я всецело разделяю взгляды своего старого товарища — машиниста С. Н. Григорьева.
Все знают, что легендарный крейсер «Аврора» стоит в Ленинграде на «мертвых» якорях, как бы в вечном почетном карауле — на Неве, поблизости от исторических мест, где старый, капиталистический мир получил первый смертельный удар от русских рабочих, солдат и матросов. Но не каждый знает биографию этого корабля, ставшего творцом и памятником истории.
Между тем в этой биографии с поразительной наглядностью отражено наше время, век двадцатый с его безжалостными войнами и грандиозными революционными событиями, потрясшими весь мир.
«Аврора» — целиком детище России. Проект крейсера создан петербургским инженером Токаревским. Металл для бронированного корпуса лился из мартенов Ижорского завода, машины для корабля тоже сделаны в Питере, на Франко-Русском заводе. Заложенный в 1897 году крейсер спустили на воду со стапелей «Нового адмиралтейства» в невском устье 11 мая 1900 года. Название «Аврора» дали ему в память славного фрегата, что в годы Крымской войны отличился на Дальнем Востоке, обороняя Петропавловск-Камчатский.
Крейсер «Аврора», созданный по последнему слову техники, предназначался для Тихоокеанского флота. Его боевые качества считались отличными: водоизмещение — 6731 тонна, мощность машин — 11 610 лошадиных сил, а три винта сообщали кораблю скорость в 20 узлов (около 37 километров в час). С полным запасом топлива «Аврора» могла пройти без захода в порты до 4000 миль (7400 километров). Команда корабля составляла 570 человек.
В составе 2-й Тихоокеанской эскадры двинулась в октябре 1904 года из Балтики на Дальний Восток и «Аврора». В бою под Цусимой крейсер «Аврора», сражавшийся с подлинным героизмом и получивший тяжелые повреждения, отбился от наседавших японских миноносцев и вместе с двумя другими кораблями взял курс на Манилу. Лишь в начале 1906 года корабли вернулись на Балтику.
Когда началась мировая война, крейсер «Аврора» нес боевой дозор, охранял подступы к Финскому заливу. Уже в 1916 году на корабле действовала группа большевиков, сплотившаяся вокруг матроса Ф. С. Кассихина. В ноябре 1916-го корабль стал на капитальный ремонт у нынешнего Адмиралтейского (тогда Франко-Русского) завода. Общение с рабочими стало для матросов-авроровцев школой политического воспитания.
27 февраля 1917 года на крейсере вспыхнуло восстание. Командир крейсера Никольский, ненавистный команде, выстрелом из револьвера смертельно ранил матроса Осипенко. На следующее утро на мачте «Авроры» был поднят флаг революции, авроровцы расправились с Никольским и вышли на берег — драться с жандармами и юнкерами.
12 мая 1917 года приехал Владимир Ильич Ленин на митинг к рабочим Франко-Русского завода, и речь его слушали вместе с рабочими и авроровцы. Вторично они увидели и услышали Ленина во время демонстрации 4 июля, когда Владимир Ильич приветствовал колонну моряков Балтики с балкона дворца Кшесинской, где помещался тогда Центральный Комитет большевиков.
…Временное правительство распорядилось в октябрьские дни развести мосты на Неве, чтобы разобщить городские районы и лишить их связи со Смольным. Но развести удалось лишь Дворцовый и Николаевский мосты, — остальные были взяты под охрану красногвардейцами. Военно-революционный комитет приказал экипажу «Авроры» во что бы то ни стало восстановить движение по Николаевскому мосту (ныне мост имени лейтенанта Шмидта).
Крейсер уже взял на борт партию снарядов, присланных из Кронштадта, и готовился выйти к Николаевскому мосту, когда Н. А. Эриксон, принявший командование в сентябре, отказался вести корабль, говоря, что невский фарватер ему неизвестен и судно, слишком тяжелое для реки, может сесть на мель.
И вот глубокой ночью с 24 на 25 октября 1917 года от борта крейсера выходит на Неву шлюпка: старшина сигнальщиков С. Захаров с четырьмя матросами вышли промерять фарватер Невы. Корабль стоял на якоре. Вся команда находилась в томительном ожидании. Через полтора часа промерщики вернулись и доложили первому комиссару «Авроры» Белышеву, что корабль может пройти вверх по Неве. В последнюю минуту Эриксон все-таки взошел на мостик и принял команду.
В 3 часа 30 минут 25 октября «Аврора» отдала якорь у Николаевского моста и высадила десант. Матросы овладели мостом, пустили в ход механизмы разводки и соединили мостовые пролеты. Отряды Красной гвардии устремились по мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади.
Штаб восстания, как известно, находился в Смольном. Туда — поздно вечером 24 октября — прибыл Ленин. По его указанию утром 25 октября силы революции заняли телефонную станцию, телеграф, вокзалы, электростанции, многие учреждения.
В Зимнем дворце под охраной юнкеров, казаков и женского батальона укрылись министры Временного правительства. Военные руководители контрреволюции затаились в Михайловском инженерном замке, чтобы нанести восстанию удар в спину.
Уже днем 25 октября радиотелеграфист «Авроры» Ф. Н. Алонцев передавал в эфир («Всем! Всем! Всем!») текст написанного Лениным обращения «К гражданам России» — о переходе власти в руки Петроградского Совета и Военно-революционного комитета. Радиорубка «Авроры» оказалась первой радиостанцией молодого Советского правительства!
Между тем министры правительства Керенского, надеявшиеся выиграть время и подтянуть к столице военные силы контрреволюции, не сдались, несмотря на предъявленный им ультиматум.
План штурма Зимнего был заранее разработан Лениным. Момент наступил…
Петропавловская крепость дала сигнал, по которому в 21 час 45 минут грянул исторический выстрел из носового шестидюймового орудия «Авроры». Стрелял комендор В. Огнев. Багровая вспышка подсветила низкие осенние тучи и на миг повторилась в Неве. Не успел еще рассеяться дым над рекой, как штурм дворца начался. Революция победила. Ленин возглавил правительство.
В первые же часы новой эры авроровцы штурмовали Михайловский замок (штаб контрреволюционного мятежа юнкеров), дрались под Пулковом с казаками генерала Краснова; даже в Москву с корабля посылали группу матросов воевать с белогвардейцами.
…В наши дни трудно представить себе те неимоверные жертвы, с какими восстанавливался Советский Военно-Морской Флот на Балтике. Медленно, с огромным риском чистили Финский залив от мин. Со всех фронтов гражданской войны моряки возвращались к своим судам, стоявшим до времени на приколе.
В октябре 1922 года V съезд комсомола постановил взять шефство над флотом, и на Балтику пошла молодежь — босая, в рваной одежде, встречая у пирсов оледеневшие корпуса кораблей. Вступавшие на вахту брали обувь у товарищей. Жидкая пшенная кашица с кусочками разваренной воблы — таково было судовое меню в хорошие дни.
И все-таки один за другим возникали корабельные дымки у кронштадтских причалов и грохотали в клюзах железные змеи выбираемых якорных цепей! Через несколько месяцев молодые авроровцы совершили подвиг, навсегда вошедший в морскую историю.
Это случилось в ночь на 20 июля 1923 года. Крейсер «Аврора» стоял на кронштадтском рейде, когда вахтенные курсанты заметили пожар рядом с фортом «Павел». А курсанты знали, что там находится большой запас мин. Мгновенно была приготовлена шлюпка, и группа смельчаков пустилась к месту пожара.
Авроровцы увидели грозное зрелище: горела морская мина, одна из множества тех, что были извлечены тральщиками из залива. Если бы она взорвалась — неминуема была бы катастрофа.
И вот молодые советские моряки выскочили из шлюпки и бросились к мине. Потушить не удалось — слишком сильный бил огонь. И ребята потащили пылающую громадину к морю. Уже близко была вода, уже уменьшилась угроза детонации остальных мин, когда эта — взорвалась. Герои-авроровцы посмертно были награждены орденами Красного Знамени.
Жители Ораниенбаума (Ломоносова) помнят «Аврору» в дни Великой Отечественной войны. Крейсер огнем зенитной артиллерии оборонял подступы к Ленинграду. Орудия главного калибра с корабля были сняты: артиллеристы крейсера вели из этих орудий огонь по фашистам в районе Дудергофа. Множество тяжелых ран, повреждений, пробоин получил крейсер революции в последних своих боях, из которых вышел победителем — вместе со всей Советской Армией, со всей страной.
После войны рабочие-судостроители считали делом чести восстановление знаменитого корабля. Главные ремонтно-восстановительные работы были произведены на субботниках и воскресниках. В 1947 году «Аврора» заняла свой вечный почетный пост у здания Нахимовского училища на Петроградской набережной Большой Невки, между Кировским и Литейным мостами.
Однако «Аврора» и поныне не только исторический памятник, но и военно-морское судно Балтийского флота! У крейсера есть командир и штатная команда. Каждое утро личный состав корабля — матросы, старшины, офицеры флота — выстраивается на палубе: происходит волнующе-торжественная церемония подъема флага и гюйса, с которой начинается для советских моряков всякий новый день службы и учебы.
Я был на «Авроре» в метельный, пасмурный день ранней весны. Вахтенный начальник показал мне корабль, улыбнулся на мой вопрос, что же представляет собой бетонная «подушка», о которой так часто приходится читать в книгах. «Корабль-то на плаву, на обыкновенных якорях…» Оказалось, что бетонная подушка создана внутри корпуса — для укрепления днища, а под днищем плещется невская вода.
Изредка «Аврора» совершает путешествия в Кронштадт, на ремонт, но, конечно, не своим ходом, так как винты и машина сняты. Знаменитая носовая шестидюймовка «Авроры» по-прежнему блистает щегольской корабельной чистотой, будто и не коснулись этой пушки десятилетия начатой ею истории Советского Союза!
Было около трех часов дня, когда я сошел с трапа «Авроры» и увидел на набережной марш юных нахимовцев. Два барабана давали темп и ритм. Стройные маленькие фигуры в черных шинелях возникали из метели и уходили в метель Ленинграда четкой, поразительно гордой поступью. И как символ победы рисовался за этими шеренгами силуэт трехтрубного корабля.

Севастополь на восемьдесят лет моложе Ленинграда, но их первоначальные судьбы схожи…
Петр задумывал невскую столицу как опору русского флота на Балтике в такие времена, когда о выходе в Черное море Россия могла еще только мечтать. Но уже в конце XVIII века, после румянцевских и суворовских побед, возник на берегу Ахтиарской (ныне Севастопольской) бухты город-крепость, вскоре ставший флотской столицей русского Черноморья.
Основание Севастополя связывают с приходом в пустынную, почти безлюдную бухту русской эскадры из тринадцати кораблей под командованием адмирала Клокачева. Моряки увидели среди леса развалины средневековой Инкерманской крепости, величавые руины древнегреческого города Херсонеса (Корсуня), возникшего задолго до нашей эры и окончательно разрушенного татарами в XIII–XIV веках. Встретилось русским морякам и несколько татарских мазанок, покинутых жителями. Было это 2 мая 1783 года. Тогда и началось сооружение крепости и поселка.
Но еще пятью годами ранее возводил здесь временные укрепления против турецкого флота сам Суворов. Он первым оценил стратегическое значение Ахтиарской бухты. Войска его стали лагерем на этом побережье. И существует мнение, что именно суворовскую блестящую операцию в июле 1778 года, вынудившую десять турецких кораблей без боя уйти из бухты, и следовало бы считать временем рождения Севастополя.
Слово «Севастополь» означает «Город славы», и город оправдывал это название много раз за свою недолгую, но яркую и действительно славную историю. На протяжении последних девяноста лет Севастополь был дважды снесен с лица земли, держал две поистине исторические обороны — против союзных армий европейских держав в 1854–1855 годах и в наше время, в годы Великой Отечественной войны.
От обеих своих оборон Севастополь сберег памятники славы и мемориальные места, реликвии подвигов, могилы героев, украшенные изваяниями, — они напоминают людям, какой дорогой ценой доставались боевые победы, сколько народной крови впитала каменистая земля Севастополя, Инкермана, Херсонеса, Балаклавы, Сапун-горы…
И перекликается теперь старая панорама «Оборона Севастополя», восстановленная на Историческом бульваре советскими баталистами, с новой диорамой «Штурм Сапун-горы», воссоздающей подробности этого решающего сражения за Севастополь 7 мая 1944 года. Здание диорамы и мемориальная игла-обелиск воздвигнуты в семи километрах от городского центра, на самой вершине Сапун-горы, рядом с могилами павших, пулеметными дотами и выставленным для осмотра тяжелым оружием, трофейным и нашим.
Сбережены на Историческом бульваре, в соседстве с панорамой Рубо, укрепления 4-го бастиона, где Л. Н. Толстой участвовал в оборонительных боях. Воскрешен нашими скульпторами и памятник Тотлебену — фашистская артиллерия сильно его покалечила, обезглавив и центральную статую, то есть самого генерала. Ныне бронзовые тотлебенские саперы, сгруппированные вокруг гранитного постамента, по-прежнему заняты своим тяжким солдатским трудом: подносят ядра, роют траншеи, контратакуют штыком, и по-прежнему невозмутимо смотрит вдаль их командир с высоты каменного пьедестала.
Около Графской пристани поставлен новый памятник адмиралу Нахимову — рядом со сквером, где сбережен и реставрирован увенчанный старинной галерой памятник капитану Казарскому, командиру русского брига «Меркурий». Недавно я был свидетелем, как увлеченно севастопольские пионеры разыгрывали победоносное сражение брига «Меркурий» с двумя линейными кораблями турецкой эскадры (это событие произошло в 1829 году).
А Малахов курган стал теперь огромным торжественным памятником двух войн. Сохранилась там от старых укреплений «башня Корнилова», отмечено траурным крестом место смертельного ранения Нахимова, стоят у редутов старинные пушки на своих огневых позициях. А по соседству — морское орудие, метко стрелявшее по фашистам.
Рядом с братской могилой 1855 года появился над откосом и лестницей Малахова кургана еще в дни войны памятник летчикам, погибшим за Севастополь, — утес-монумент со взлетающим истребителем. Сама история овеществилась, окаменев в этом памятнике 1944 года!
…Растущий город быстро обступает, окружает два своих главных некрополя: Братское кладбище с руинами старинной церкви на Северной стороне и кладбище Коммунаров — по дороге в Херсонес. Севастопольцев не смущает и не тревожит эта близость исторических могил, как не смущает и не тревожит вечный сон солдат городской шум, идущий сюда с площадей и улиц, бухт и гаваней Севастополя. Возрождением жизни и славен подвиг павших! Всегда они останутся в строю с защитниками и строителями города.
После войны я узнал с моря в новом Севастополе только Графскую пристань, здание аквариума и старый памятник погибшим военно-морским кораблям: их затопили перед входом в Севастопольскую бухту в начале обороны 1854–1855 годов, а впоследствии, в честь этого события, воздвигли в море, на искусственном утесе, строгую колонну, украшенную орлом. Знакомыми оказались, разумеется, бухты и высоты. Сам же город по берегам этих бухт стал неузнаваемо иным…
Изменился не только облик, иным стал весь дух и колорит города. Новый Севастополь гораздо больше и многолюднее старого. Исчезли улицы, застроенные красивыми особняками и дворцами, где жила флотская знать после первой обороны и где после революции и войны гражданской размещались государственные и общественные учреждения. В том, старом, Севастополе было больше строгости, сдержанности, почти чопорности, больше флотской военной выправки. Облик и стиль города заметно изменились.
Быстрый рост нового Севастополя потребовал, разумеется, стандартизации и механизации строительства. Хотя жилья построено много, его все равно еще не хватает. В домах по Большой Морской и главным площадям заметно стремление севастопольцев принарядить город, придать ему черты архитектурного своеобразия, в частности включить в застройку кое-что из севастопольской старины, реставрированной и переделанной. Ближе к окраинам в городском пейзаже, к сожалению, господствует архитектурный стандарт: одинаковые, стереотипные дома, какие стоят в московских Черемушках, в Киеве, Воронеже…
Кстати, севастопольцы жалуются, что к местным особенностям типовые проекты этих домов не очень хорошо приспособлены: летом в квартирах некуда деться от жары. Тут-то и выручили бы лоджии, крытые террасы и прочие элементы, разнообразящие и внешний вид домов, — в условиях юга нельзя все это причислять к излишествам!
Вдобавок, что обиднее всего, складываются эти блочные дома-близнецы не из сборного бетона, что в какой-то мере оправдывало бы их скучное единообразие, а из прекраснейшего белого инкерманского камня, необычайно пластичного и благородного по фактуре. Белокаменный современный город! Казалось бы, какой простор для зодчих-энтузиастов, для архитектурного творчества, для вдохновения! Буквально под рукой материал, будто самой природой Черноморья созданный для дворцов и статуй, резных украшений и скульптур. А идет он — аккуратно нарезанный на плиты, кубики и бруски-блоки — на строительство безликих и вдобавок не до конца продуманных стандартных домов.
Разумеется, стандартизация в строительстве необходима, с этим никто и не спорит, но при наших масштабах сами эти стандарты надо разнообразить, обогащать, приспосабливать и к месту и к условиям, чередовать на улицах дома-близнецы с индивидуальными зданиями.
…Шел у нас об этом большой разговор с молодыми севастопольскими зодчими и ваятелями в мастерской молодого скульптора Станислава Чижа, автора интересных композиций, воздвигнутых в городе или — пока еще! — на листах ватманской бумаги. Раньше я не знал об этом даровитом художнике и лишь в самом Севастополе воочию увидел монумент его работы, посвященный комсомольцам — защитникам города.
Станислав Чиж рассказал мне о долгих поисках решения этой темы.
Март 1958. Из девяти конкурсных проектов общественность и жюри одобрили эскизный проект Станислава Чижа, тогда еще флотского матроса-комсомольца, служившего в Севастополе.
Первоначально композиция памятника состояла лишь из мужских фигур — трех матросов. Один из них — ослепший — был с повязкой на глазах. Потребовалось несколько лет и тринадцать вариантов, чтобы выработать окончательный. Теперешние три фигуры — солдат-пехотинец, раненый матрос (повязка в конце концов «упала» с его глаз) со связкой гранат и санитарка, повернувшаяся в сторону близкого разрыва («не там ли нужней ее помощь?») — очень убедительны, жизненны, правдивы.
Я спросил скульптора, имел ли он в виду определенный эпизод и конкретных героев.
— О нет, нет! Это обобщение. Каждый комсомолец, дравшийся на севастопольской земле, отдавший ей свою кровь или жизнь, символизирован в этой скульптуре. Это память о всех живых и мертвых комсомольцах нашей обороны и штурма…
Архитектор памятника В. Фомин. Постамент по его проекту построен из здешнего камня. А отливка самой скульптурной группы сделана (в Киеве) не из бронзы, а из новой пластической массы, имитирующей бронзу так хорошо, что подчас ошибаются даже специалисты.
Открыли памятник в день 45-летия комсомола — 29 октября 1963 года. В основании памятника, в особой нише, замуровано письмо от комсомольцев сегодняшнего Севастополя комсомольцам будущего. Вскрыть и прочесть через сотню лет!
Показал мне скульптор на кладбище Коммунаров, в соседстве с памятником лейтенанту Шмидту, еще одну свою интересную работу: надгробие коммунистам-подпольщикам. Погребены здесь те, кто погиб в неравной борьбе с врагом в дни оккупации города.
Вот где нашлось достойное применение белому камню-известняку, добытому из местных каменоломен! Высечена из этого камня выразительная фигура — коммунист-подпольщик прижался к стене, глядит из-за угла, готовясь бросить пачку листовок. Ради свободы своего народа, ради возрождения любимого города человек жертвует собой, идет на смертельный риск… Таким запечатлен этот подвиг.
— Здесь конкурса не было, — рассказывал скульптор. — Не было ни длительных обсуждений, ни многочисленных вариантов, ни авторитетных рецензентов. Достали с ребятами-комсомольцами большой камень… И сразу взялся я за дело. Получилось… вот — все перед вами! Сам я эту скульптуру люблю, пожалуй, больше «Комсомольцев»…
— А над чем работаете сейчас?
— Памятник Неизвестному матросу. Очень нужен Севастополю!
Эскизный проект памятника был как раз в эти дни выставлен в фойе театра имени Луначарского, и я смог его посмотреть.
Атлетическая фигура припавшего к камню матроса выражает скорбь и мужество, она очень пластична, так и просится в здешний камень. Авторы монумента — скульптор Станислав Чиж, архитектор В. Шеффер и художник И. Белицкий — задумали поставить его на Малаховом кургане.
Хочется рассказать здесь еще о двух талантливых работах, посвященных бойцам за освобождение Севастополя. Находятся эти два памятника по дороге в Балаклаву, километрах в двенадцати от Севастополя. Посещают их поэтому далеко не все туристы и экскурсанты. А впечатление эти памятники оставляют глубокое!
Среди цветочных клумб и газонов возвышаются на фоне гор два обелиска, установленные в честь похороненных здесь солдат армянской и грузинской дивизий. В архитектуре этих сооружений выражены национальные черты. Оба памятника — подлинные произведения искусства, работы хороших монументалистов Грузии и Армении.
Памятник павшим солдатам 414-й Грузинской стрелковой дивизии — это высокий обелиск, водруженный на серых каменных плитах. Навечно стал здесь на часы воин-грузин со склоненной головой, с краснозвездной каской в руке. Автомат, плащ-палатка, гимнастерка, ремень, кирзовые сапоги…
Когда-нибудь, наверное, полевая форма наших солдат совершенно изменится, а наступит время, когда молодежь всего мира перестанет носить воинскую одежду. И тогда воскресит далекое прошлое этот часовой на могиле, этот советский солдат-грузин, поставленный здесь сторожить вечность! И снимут перед ним свои шапки молодые туристы будущего.
А потом они, посерьезневшие и замолчавшие, подойдут следом за гидом ко второму монументу — армянскому.
Есть у сынов Армении выражение «хачкар», буквально: «крестный памятник», но с более широким смыслом. Это слово поминальное, в нем скорбь об ушедшем земляке, человеке близком или незнакомом, но брате по народу. Есть и своя символика для «хачкара», например форма обелиска, сужающаяся не кверху, а книзу.
Барельеф чеканной меди, наложенный на розоватый темный камень обелиска, изображает женскую фигуру со светильником в протянутой руке — символ вечного огня, принесенного сюда матерью Родиной. Рисунок барельефа смел, нежен и лаконичен, фигура прекрасна и необычна. Отсюда не хочется уходить — очень талантливо и по-своему передано величие человеческого подвига.
Автор этого памятника — армянский скульптор А. Арутюнян (архитектор — Д. Торосян).
…На Северной стороне, прямо над морем, у переправы через бухту, издали виднеется огромное мемориальное сооружение. Оно несколько напоминает шатровые композиции русского Севера: центральная высокая пирамида-шпиль и четыре узких шатра по четырем сторонам света. Только не северные ели окружают здесь эту композицию шатров, а темно-зеленые кипарисы.
Это памятник павшим гвардейцам 2-й армии. И лежат они не в сырой земле, а в скальном грунте, в могиле, вырытой аммоналом.
На гранях монумента высечен полный текст приказа Верховного Главнокомандования о взятии нашими войсками Севастополя в мае 1944 года. Читаешь — замирает дух. Слова звучат торжественно и грозно, будто памятный нам голос диктора «поет на плитах, как труба»… Голос истории! Песнь, откуда слова не выкинешь!
Здесь, на этой же Северной стороне, находится и торжественно-тихое Братское кладбище — по сути, огромный мемориальный музей, где сохранились великолепные памятники героям 1855 года. Они сгруппированы на отлогих склонах, поросших старыми кипарисами и буками, близ живописной руины церкви, сильно пострадавшей в боях за город.
Отсюда виден весь Севастополь с его высокой центральной горой, где в городском соборе, изрешеченном фашистскими снарядами, погребены военачальники севастопольской обороны, описанной Толстым. Хорошо виден отсюда и славный Малахов курган.
Скоро там, на кургане, разрастется новый парк Дружбы. Каждое дерево там посажено гостями Севастополя: клен — от ленинградцев, каштан — от киевлян, платан — от матросов крейсера «Красный Кавказ». Есть совсем незнакомые названия деревьев — очень редкостных, посаженных матросами далеких стран.
Деревья эти будут шуметь и цвести; может быть, и птицы совьют гнезда в высоких кронах, под солнцем юга. Их голоса не оскорбят здешней тишины. Все это — и деревья, и птицы, и приходящие сюда со всех концов страны дети — нужно здесь, все это — к месту! Месту святому, политому великой кровью — ради того, чтобы множились на Земле мудрость, радость и красота.
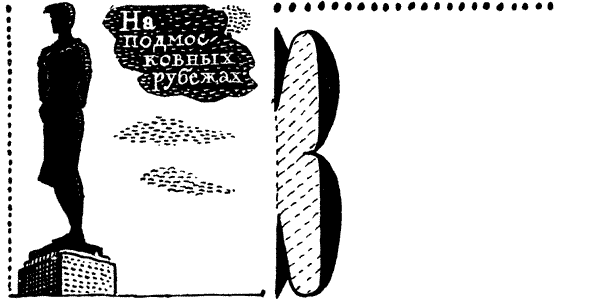
Звание города-героя присвоено Москве сравнительно недавно, в дни празднования 20-й годовщины нашей победы над фашистской Германией.
…Грандиозная битва за Москву велась на фронте шириной в 600–700, глубиной в 300–400 километров. С конца октября бои были для наших войск оборонительными, пока — это произошло 5–6 декабря 41-го, — Советская Армия не перешла в наступление. В начале следующего года враг был отброшен далеко от столицы.
Рухнул тогда «план Барбаросса» — немцы проиграли блицкриг. Не удалось взять столицу, посадить там марионетку, заключить с ней мир. Москва стала первой вехой на нашем пути к рейхстагу…
Могила Неизвестного солдата у кремлевской стены — знак всенародной благодарности защитникам Москвы. Да и самые поля великой битвы отмечены уже многими памятниками, не говоря о реальных следах боев. Там часто увидишь людей с цветами в руках — сюда приходят целыми семьями, летом — с рюкзаками, зимой — на лыжах. Взрослые показывают молодежи и детям места, где был ранен отец или дед, где ополченцы схоронили товарища, откуда «мы пошли наступать, а он, фашист, побежал…».
Природа на подмосковных рубежах Великой Отечественной войны прекрасна и задушевна. Леса щедры; холмы, луга и поля, что некогда были полями смерти, величаво спокойны. Сами эти пейзажи символизируют Россию, ее красоту, ее душу.
…Как сойдешь с электрички на тихом разъезде Дубосеково, километров шесть не доезжая Волоколамска, так сразу и очутишься в поле, у отлогой высотки с мемориальной доской. Идешь к ней мимо двадцати восьми молодых березок — пионеры посадили эти деревца в память двадцати восьми героев-панфиловцев, оборонявших вот эту самую «высоту 251».
Умело выбрал командир место для огневой позиции — отсюда простреливаются ближние лощины, дальние взгорки, можно держать на прицеле выходы из окрестных лесов. Смотришь сейчас «их глазами» и уж видишь не кудрявую сосну вдали, а «ориентир № 4 — отдельное дерево», не холмик с пролысиной, а «ориентир № 5 — высотку Песчаную». В пору достать планшетку и вычертить стрелковую карточку — «усиленный взвод в обороне»…
С точки зрения тактики был здесь у противника «классический» перевес сил: три пехотные, одна мотострелковая, одна танковая дивизии против одной пехотной дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. До Москвы — сто километров. Там «зимние квартиры и скорое завершение кампании, еще до настоящих морозов», — так сказал «фюрер» в своем обращении к войскам. Немецкий генерал выбрал для танковой атаки спокойный рельеф, в промежутке между двумя дорогами к Москве, шоссейной и железной, полагая, что защитникам долго не продержаться на этих отлогих высотках: немцы легко выбьют их огнем и гусеницами.
Потом (это было утром 16 ноября) гитлеровскому генералу доложили, что вопреки расчетам русские будто вросли в свою землю. Против высотки пошло двадцать танков, но защитники хорошо окопались и за четыре часа боя подбили четырнадцать машин. Наступление приостановлено.
Наверное, генерал, подражая Наполеону, сказал что-нибудь вроде: «Они хотят еще? Так дайте им еще!»
Не успели панфиловцы перевязать раненых, ударили с неба самолеты, и снова поползли к «высоте 251» зеленые стальные громадины, ощерившись пушками и пулеметами. Тридцать машин! Танки средние, танки тяжелые… За ними — пехота.
«Высота 251» отвечала гранатами, бутылками с горючей смесью, бронебойными пулями. Сама земля словно горела и перемалывалась вокруг своих защитников. Весь израненный, опаленный дымом, командовал обороной политрук Василий Клочков. Слова его — «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» — стали потом боевым лозунгом для всех защитников Москвы.
С последней связкой гранат Василий Клочков бросился под тяжелый немецкий танк и взорвал его.
Сперва считалось, что все защитники высоты полегли убитыми или смертельно раненными, и лишь много позднее стали поступать известия, что осталось в живых несколько участников этой обороны, — их, оказывается, подобрали замертво и в конце концов спасли наши медики в санбатах.
Историки еще долго будут изучать не только самый бой, но и судьбы его героев. Были среди них и русские, и украинцы, и казахи, и всех их объединяет одно слово «панфиловцы», ставшее вместе с числом «28» синонимом неслыханной боевой выдержки. Нигде не дрогнула оборона дивизии. Прорыв так и не удался немцам — панфиловцы заставили их самих перейти к обороне.
На другой день хоронили убитых. На крестьянской подводе перевезли тела с «высоты 251» в соседнее Нелидово. Вырыли на окраине деревни братскую могилу. Отсалютовали товарищам ружейным залпом и вернулись закреплять удержанные позиции.
Позже поставили на могиле панфиловцев обелиск под золотой звездочкой, с мраморными досками-надписями. Разросся в ограде маленький сад. Прочитать тексты на мраморе, постоять в раздумье, подумать о подвиге стойкости приходят люди со всех концов Земли. Два русских бородача, лет по двадцати возрастом, постояв здесь, вышли за околицу и стали читать стихи Блока о России: «Ну что ж? Одной заботой боле — одной слезой река шумней, а ты все та же — лес да поле, да плат узорный до бровей…»
Неподалеку отсюда, в самом Волоколамске, есть еще один памятник высокой воинской доблести — памятник восьми комсомольцам.
Немцы схватили на подступах к городу восьмерых разведчиков-партизан, московских комсомольцев. Старшим в группе был молодой инженер с завода «Серп и молот» Константин Пахомов. Ни один из них не послужил врагу «языком», не признался, где штаб, кто послал, каковы задачи. Устояли ребята и против пытки и против приговора «эршиссен» (расстрелять). Их расстреляли всех вместе — юношей и девушек, потом на виселице выставили окровавленные тела посреди города, чтобы устрашить «этих русских».
Правительство наградило всех восьмерых посмертно орденом Ленина. Хоронили их, после освобождения Волоколамска, всенародно. Где была виселица с телами казненных, там воздвигли ребятам памятник, а в городском саду, неподалеку, лежат под обелиском те, кто пал за освобождение города — 19 декабря 41-го.
…О подвиге московской школьницы Зои Космодемьянской написаны поэмы, образ ее живет в статуях и портретах, имя знает вся Земля. Памятник Зое, установленный на Минском шоссе, стал местом такого массового паломничества, что в иные дни постамент бывает буквально завален цветами. Там задерживают свой бег машины, пионеры в галстуках салютуют бронзовой, недосягаемо-высокой Зое — они ездят к ней из ближних и дальних пионерских лагерей.
Кажется, подвиг Зои Космодемьянской изучен, и можно получить полное представление о нем, прочитав книгу или выслушав чей-нибудь рассказ. И все-таки…
Все-таки невозможно прочувствовать всю душевную силу этой девочки, не побывав на месте самих событий, — не у высокого придорожного памятника, а в пяти километрах от него, в селе Петрищеве.
От шоссейной дороги на Верею отходит к Петрищеву бывший проселок, теперь залитый асфальтом. Я свернул с дороги в лес, болотистый, темный, жутковатый. Если кто почему-либо не задумывался над подвигом Зои, пусть придет в этот лес хотя бы за грибами (их здесь много!) и, добравшись до опушки, поглядит сквозь кусты и заросли на деревню… Пусть представит себе, что там не совхоз, а чужие солдаты, штабная канцелярия, перепуганные старики и старухи в избах, кругом немецкая речь. Даже собаки-овчарки и те чужие!
Стояли там, в Петрищеве, части кадровой немецкой 196-й пехотной дивизии, шныряли кругом связисты, патрули, таились посты-секреты, оберегавшие свои припасы, канцелярии, временное жилье. Бывалые, обученные солдаты-оккупанты.
А против них девочка-старшеклассница.
Она перешла линию фронта под Наро-Фоминском, у деревни Обухово, вместе с маленьким отрядом комсомольцев-партизан. Это было примерно через пять суток после боя панфиловцев за свою высоту. Были в отряде ребята постарше, поопытнее, были и вовсе необстрелянные новички, в том числе и восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская, ученица 10-го класса 201-й школы Москвы.
Угодив под сильный прицельный обстрел, отряд рассеялся, разделился на группы, вскоре потерявшие друг друга из виду. Но каждая продолжала действовать, выполняя приказ. Задание Зои было — посеять панику в Петрищеве, поджечь воинский склад, конюшню, расстроить телефонную связь.
Девочка-школьница понимала обстановку очень ясно. Ей сказали в комсомольском штабе, что решается судьба столицы, что надо выиграть время: тогда успеют подойти резервы — прикрыть Москву, перехватить инициативу. Значит, врага надо остановить любой ценой!
И вот Зоя крадется по этому лесу к Петрищеву, где никогда прежде не бывала. До своих отсюда километров пятнадцать.
Отыскав немецкий телефонный провод, Зоя перерезала его. До хрипоты орал, наверное, в трубку, немецкий телефонист, требуя сводки или оборвав на полуслове важное донесение.
Кое-как ориентируясь в ноябрьском лесном мраке, Зоя подобралась к строению конюшни. Разожгла, запалила огонек. Но было сыро, а может, не хватило горючего. Зоя замешкалась. А немецкие охранники не дремали. Ее схватили. Привели в деревню, набитую солдатами, — они стояли в каждой избе.
Потом началось самое тяжкое, о чем нельзя думать спокойно. Издевались перед допросом, грозили и терзали на допросе, но даже имени своего она не сказала, назвалась Татьяной… Уже по собственной инициативе часовой гонял приговоренную из избы в избу, по морозу, чуть не в одной рубашке, босую… Будто воочию видишь все это здесь, в Петрищеве, как видишь эти дома-свидетели, а среди них тот, откуда утром 29 ноября Зою повели на казнь.
Немецкие солдаты сладили виселицу добротно и, окончив работу, сфотографировались на фоне пустой еще петли. Потом фотографировали и самоё казнь. Офицер щелкал цейсовской «лейкой» или «контаксом», когда девушка, уже с петлей на шее, что-то крикнула колхозникам, которых согнали сюда, к эшафоту. Верно, кто-нибудь перевел фашисту-фотографу ее слова, известные теперь всему миру: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!»
Офицер велел повернуть казненную к себе лицом, запечатлел и это лицо и на груди доску с надписью по-русски и по-немецки: «Поджигатель». Пять снимков сделал фашист, и все они потом попали в нашу печать, когда настигла палача русская пуля.
Виселица с мертвой девушкой долго, месяца полтора чернела средь села. На рождестве немцы перепились, высыпали на улицу, долго глумились над оледенелым, уже полуобнаженным телом, искололи его штыками, изрезали. Через несколько дней после этого офицер велел убрать тело: русские близко, наступают, зачем оставлять им такое свидетельство вины? Под охраной солдата тело оттащили к лесной опушке, зарыли наспех, даже не сняв веревки с девичьего горла.
Такой и увидели ее военный корреспондент «Правды» П. Лидов и фотограф С. Струнников, когда наши выбили немцев из Петрищева, узнали о свежей могиле и открыли ее. И появилась в «Правде» 27 января 42-го статья П. Лидова «Таня» и снимок мертвой девушки на снегу, с веревкой на шее и незабываемым лицом. В ту зиму не было оттепелей, лицо Зои не изменилось…
13 февраля вышла «Правда» с новой статьей Лидова «Кто была Таня?». Вот тогда-то весь мир и узнал, что фашисты замучили московскую школьницу Зою Космодемьянскую — друзья опознали ее по опубликованной фотографии.
Должен сказать, что для нас, людей, не раз встречавших и Лидова и Струнникова, двух боевых и самоотверженных летописцев нашего времени, память о них неразрывно связана с памятью о самой Зое, потому что от них мир впервые узнал о подвиге народной героини. Авторы же этих сообщений, корреспонденты «Правды» П. Лидов и С. Струнников погибли смертью храбрых на фронте Великой Отечественной войны…
16 февраля Верховный Совет присвоил Зое Космодемьянской посмертно звание Героя Советского Союза. В марте ее останки перевезли с почестями в Москву, на Ново-Девичье кладбище.
В дни Московского фестиваля молодежи, в 1957 году, на Минском шоссе открыли временный памятник советской героине. Сейчас он перенесен в петрищевский музей Зои Космодемьянской.
А спустя два года, в 1959-м, на месте первого памятника воздвигли новый, исполненный с подлинным вдохновением. Создали его скульптор О. Иконников, его помощник В. Федоров и архитектор А. Каминский.
Статуя Зои на Минском шоссе, у развилки дорог на Верею и Рузу, — одно из серьезных достижений советского изобразительного искусства. Конечно, потрясает душу сама трагическая гибель Зои. И авторы проникновенно выразили в бронзе подвиг юной защитницы России. Люди снимают шапки перед этой легкой, гордой и непокорной девичьей фигурой на высоком черном постаменте. Ваятель не только воплотил здесь конкретный образ Зои, достигнув замечательного портретного сходства, но и дал в этом образе общечеловеческий эталон благородного самоотречения, духовного героизма и неумирающей вечной женственности.
И гордости своей не утаю,
Что рядовым вошла в судьбу твою.

Пригородную деревушку Пискаревку знали перед войной разве что жители северной окраины Ленинграда. Было там небольшое кладбище, а рядом зеленело поле, поросшее чахлыми кустиками, где играли дети. По соседству дымили фабричные трубы, строились новые жилые дома, окраина постепенно превращалась в город. А с тех пор как началась блокада, дорогу на Пискаревку узнал почти весь Ленинград: именно там, на более спокойной северной стороне, хоронили погибших. Отвозили и на другие кладбища, но больше всего на Пискаревское. Экскаватор рыл траншею в грунте, рядком укладывали в траншее тела, присыпали землей, клали следующий ряд, опять присыпали…
Так погребено было на Пискаревском и остальных кладбищах только умерших от голода 632 253 человека. Это подсчитали после победы ленинградские статистики. Значит, почти нет во всем городе старожила, у которого не лежал бы близкий на Пискаревском кладбище…
Говорить о блокаде трудно. Великое горе не терпит лишних слов. Чем точнее и деловитее говорить, тем лучше тебя поймут, в особенности ленинградцы. Расскажу всего два эпизода…
Меня послали с переднего края в город за воинским пополнением. Идти пришлось пешком от Дибунов. Был февраль 42-го. С ледовой трассы новые бойцы должны были прибыть в казармы на улице Карла Маркса.
В моем тощем рюкзаке, кроме собственного сухого пайка, лежали сухари и пачка концентрированной гороховой каши. Наш полковой начхим просил при возможности занести это его семье, на проспект Маклина.
Уладив дела в казармах, я пошел к семье товарища. Город я знал плохо, а спрашивать патрульных было неловко — в документе значились казармы, пришлось бы объяснять.
Путь казался бесконечным, да и пройденные уже тридцать два километра давали себя знать. Но замерзший, страдающий, грозный Ленинград потрясал все новыми и новыми величественными картинами своего небывалого бедствия.
Зияли открытые раны домов. Снегом припорошило рояль, книжная полка, наполовину сорванная, скривилась, книги рассыпались. Одну я поднял — она висела на проводе, оседлав его. Это был Шекспир, изданный Венгеровым. Я нес тяжелую книгу несколько кварталов и отдал мужчине, у которого под мышкой был обломок доски для печурки.
За весь день я не встретил ни одного ребенка. Женщина в черном меховом пальто спросила, не возьму ли я это пальто за кусок хлеба для больного мальчика. Я достал из кармана сухарь, она поцеловала его и заплакала.
Уж не помня себя от этих и многих других встреч, я миновал заснеженную площадь и увидел странный дом морской голубизны и фантастических очертаний. Потом я узнал, что это был оперный театр, замаскированный от воздушных налетов декорациями к «Садко».
Дальше я шел пустынной улицей Декабристов, и в дальнем ее конце освещал мне путь пожар, полыхавший, как потом оказалось, как раз на углу проспекта Маклина.
Когда я подошел к горящему зданию, возле него не было ни души. Дом в семь-восемь этажей, красиво облицованный, ярко горел, начиная с верхнего этажа. Пламя спускалось все ниже, а вокруг были снежные сугробы, как в сказке. На проспекте Маклина тропинка по-деревенски шла посреди улицы, и по этой тропинке я добрался до нужного мне дома. Там, на третьем этаже при свете спички нашел я номер квартиры.
Открыв дверь, за которой почудилось мне движение, я увидел отблеск того пожара, что освещал мне путь сюда. Отблеск огня свободно играл на полу и стенах большой комнаты, где не было не только окон, но и рам — их, видимо, вымахнуло взрывной волной.
На полу лежали тела. Начиная от стены — накрытые, со сложенными руками, ближе к середине — одетые, в разных позах, как застигал конец. И в простенке между окнами лежало на скамеечке из-под фикуса белое, как мрамор, тело мальчика лет десяти-двенадцати, будто прикорнувшего на этой скамье. Он, как спящий, держал руку под ледяной щекой.
Отступив от этого временного домашнего кладбища я все-таки нашел неподалеку от него теплившуюся жизнь. Несколько женщин — остаток населения двух больших домов — сгрудились в самой маленькой комнатушке, почти целиком занятой двумя постелями. В них и лежали живые — было их, помнится, восемь: взрослых и подростков.
Меня спросили: «Силы у вас есть?»
Оказалось, из-за аварии с водоснабжением остановился единственный хлебозавод, и люди несколько дней не получали даже обычной 125-граммовой нормы. Помню, я рубил на каком-то этаже письменный стол, носил воду из канала Грибоедова, топил железную печь. Ее труба выходила прямо в окно, заделанное ветошью и железками.
Семья моего фронтового товарища, как мне сообщили женщины, погибла вся. Кладбище в большой комнате возникло еще в декабре — нет сил вывозить, а подъехать к дому трудно. Скоро начнут расчистку улицы и будут эвакуировать умерших.
Все это говорилось ровным, бесстрастным, тихим голосом. Но страшнее всего было, когда эти люди увидели маленькую начхимову посылку, вынутую из рюкзака. Ни одна рука не протянулась первой, полуживые держали себя изумительно, но глаза!.. Мерцание в них погасло, только когда была съедена последняя пыльца от крошек. Потом тем же ровным, глухим, бесстрастным голосом меня напутствовали.
Уже в следующую ночь вместе со снайперами караулили в засаде, впереди полковой полосы предполья, и мы с начхимом. Была просто физическая потребность целиться и стрелять…
В апреле мне опять случилось сутки быть в городе. Давно тревожила меня судьба одной небольшой семьи, с которой накануне войны завязалась у меня переписка. Адрес я помнил смутно — набережная канала Грибоедова, кажется, 9. Мимоходом забежал проведать. И узнал, что семьи уже нет.
Сперва погиб отец. Мать держалась до января — февраля. Вышла по воду и не вернулась. В пустой квартире оставался восьмилетний мальчик. Двери обычно не запирали, а тут почему-то замок запал. И никто не знал, что там остался мальчик… Вскрыли квартиру уже перед самой весной. На пороге нашли стылое тело, пальцы мальчика были ободраны о железку замка. Невесомое тело положили в грузовик и отвезли на Пискаревку. В числе 632 253 других.
Город-герой Ленинград создал в честь погибших величавый и прекрасный гранитный реквием — памятник на Пискаревском кладбище. Его торжественно открыли в день 15-летия Великой Победы — 9 мая 1960 года.
В тот день ленинградцы совершили траурное шествие от одного монумента славы и скорби к другому: через весь город люди пронесли факел, зажженный от вечного огня, что пылает на Марсовом поле у могил героев 1917 года. Негасимый огонь вспыхнул от этого факела и на Пискаревском некрополе.
Семь лет спустя, 8 мая 1967 года, от факела, доставленного с Пискаревского некрополя, загорелся вечный огонь у стены Московского Кремля, перед могилой Неизвестного солдата.
Пискаревский некрополь очень велик, занимает около двадцати шести гектаров. Талант архитекторов (Е. А. Левинсона, А. В. Васильева) сочетался здесь с талантом скульпторов В. В. Исаевой, Р. К. Таурита, Б. Е. Каплякского, М. А. Ваймана, А. Л. Малахина, М. М. Харламовой.
У входа — два гранитных павильона. На фризах высечены выразительные и краткие надписи — сочинил их поэт Михаил Дудин. В обоих павильонах устроена выставка фотодокументов, напоминающих историю битвы за Ленинград и подвиг ленинградцев. Есть среди этих документов фотокопия секретной директивы фашистского командования от 22 сентября 1941 года. Второй параграф этой директивы (за № 1-а 1601/41) гласит:
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта… Предложено тесно блокировать город и путем обстрелов из артиллерии всех калибров и беспрерывного бомбардирования с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты».
Нет, просьб о сдаче не было, даже «вследствие создавшегося в городе положения». Те, что ныне покрыты пискаревскими плитами, легли непокоренными в свою землю и сами стали ею. На могилах есть серпы с молотами — это лежат горожане. Под пятиконечными звездами — воины.
Миновав павильоны и вечный огонь, спускаемся к бассейну с выложенным на дне мозаичным факелом, идем по гранитным плитам траурных аллей — вдоль братских могил. Памятные надписи коротки: 1942, 1943… Все остальное — имена, лица — в сердцах тех, кто сюда приходит. Но гранит Пискаревского некрополя не молчанием встречает пришельца, а торжественным гимном. Сам камень поет реквием, и люди внимают ему затаив дыхание.
И нельзя передать на бумаге то, чему предназначено звучать с гранитных плит. Эту надпись на пискаревском граните, созданную участницей обороны Ольгой Берггольц, надо читать там, стоя с непокрытой головой, внимая камню и глядя на барельефы, высеченные на той же стене.
На высоком постаменте вознесена там статуя женщины с лицом скорбным и прекрасным. Это Родина-мать держит в руках гирлянду из листьев дуба и лавра, чтобы положить на могилы. Глядя на эту бронзовую статую, вспоминаешь всех героинь осажденного Ленинграда, ежедневно творивших свой подвиг. Одна из них, поэтесса Ольга Федоровна Берггольц, автор мужественных, всем нам памятных стихов, поддерживала ими в людских сердцах, даже в самые темные блокадные ночи, вечный священный огонь!..
III
Москва краснозвездная
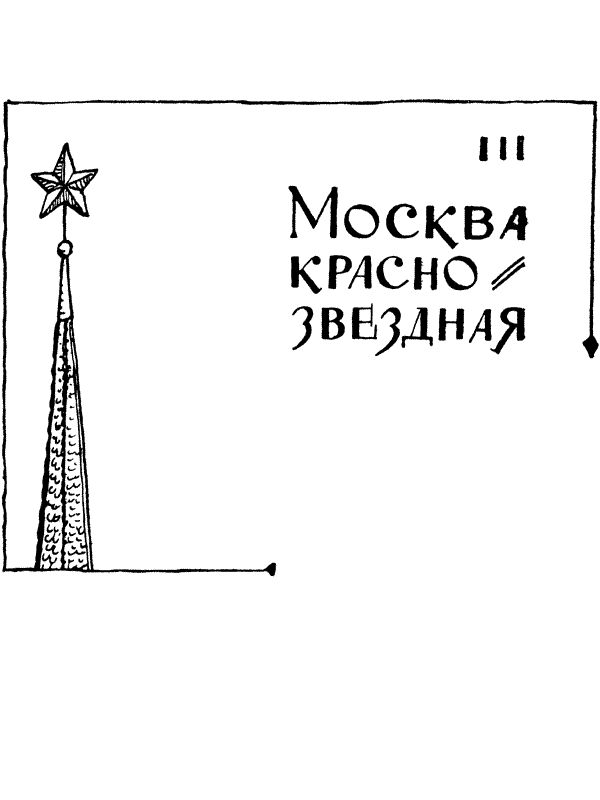
…Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном городе» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть усвоено и осуществлено теперь же. Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой.

Когда Советское правительство, во главе с Лениным, переехало из Петрограда в Москву, стоял еще на Красной площади верноподданнический монумент на том месте, где был убит великий князь Сергей Александрович. Первый комендант Кремля П. Мальков в своих воспоминаниях рассказывает, что сам Владимир Ильич участвовал в низвержении «этого безобразия». В том же бурном 1918 году началось осуществление ленинского плана монументальной пропаганды.
Старым москвичам памятно, как из скульптурных мастерских, из «мансард» художников понесли тогда на улицы и площади гипсовые статуи, глиняные бюсты, а то и просто геометрические фигуры — кубы, цилиндры, параллелепипеды. Их ставили в сквериках, на бульварах, перед фасадами зданий.
Глухие торцовые стены зданий живописцы покрывали цветными надписями — лозунгами, именами, изречениями. Например, в Садовниках, на стене складов, выходивших обратной стороной к реке, синей краской художники написали имена «всех революционеров в искусстве». Среди десятков имен я помню Шопена, Комиссаржевскую, Горького, Лермонтова, Родена, Метерлинка, Вагнера… Все это писалось вперемежку, громадными буквами, по выбору и усмотрению самих пишущих.
Тогда же вынесена была на Цветной бульвар скульптура Меркурова «Мысль», а на Красной площади некоторое время смущал обывателей коненковский Степан Разин, выполненный из дерева и ярко раскрашенный в манере народных искусников.
Владимир Ильич поставил перед советскими ваятелями задачу увековечить в скульптурных памятниках образы великих гуманистов, поборников свободы. 12 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров издал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».
Исключения были сделаны для таких монументов из царского наследия, которые представляли собой большую художественную ценность и принадлежали к числу культурных «богатств, которые выработало человечество» (Ленин). Они были взяты революционными властями под охрану и поныне оберегаются как важнейшее всенародное достояние.
Ленинский план монументальной пропаганды был горячо воспринят огромным большинством талантливой молодежи буквально во всех городах России. Разумеется, дело в те времена не могло обойтись без формалистических крайностей, уродливых явлений футуризма, кубизма, супрематизма и прочих изобразительных «измов».
Помню, однажды в городе Кинешме я оробело глядел, как на бульваре скульптор покрывает красной охрой некую безглазую глыбу. Когда же я отважился спросить, почему скульптура такая странная, художник отвечал категорически и безапелляционно:
— Мальчик, искусство должно пугать!
Ленин отзывался об экспериментах подобного рода резко отрицательно. Его отношение к таким произведениям убедительно и с большой исторической достоверностью раскрыто драматургом Погодиным в драме «Третья патетическая».
И конечно, не эти, быстро канувшие в реку забвения, опыты характеризуют главное направление работы советских мастеров, а большие искания новых форм для выражения новых явлений, новых ритмов, пластических образов, созвучных революции.
Только в 1918–1919 годах в Петрограде и Москве было открыто двадцать восемь памятников — Марксу, Герцену, Марату, Радищеву, Некрасову, Тарасу Шевченко… Эти скульптуры, выполненные главным образом из бетона или гипса, поэтому очень недолговечные, являлись как бы мемориальными вехами революции, художественными бакенами на ее стремительном фарватере.
Начата была и установка постоянных монументов. Первым памятником революции стал обелиск в Александровском саду, у кремлевской стены.
История его такова: до революции, в ознаменование 300-летия дома Романовых, архитектору С. И. Власьеву было поручено установить в Александровском саду торжественный памятник-обелиск, увенчанный царским двуглавым орлом и всевозможными регалиями. Имена всех монархов царствующей династии сверкали золотом на четырех гранях обелиска. Открыли его в 1913 году.
После Октября Владимир Ильич Ленин посоветовал не уничтожать дорогостоящее и нарядное сооружение, а лишь снять монархические атрибуты и превратить обелиск в монумент революции. По предложению Ленина Моссовет обратился к архитектору Н. А. Всеволожскому, и под его руководством памятник был реконструирован. Исчезли царские имена, гербы, военные доспехи. Резец скульптора высек на сером граните имена девятнадцати революционеров-мыслителей. Список их утвердил Ленин. Вот эти имена:
Маркс, Энгельс, Либкнехт, Лассаль, Бебель, Кампанелла, Мелье, Уинстлей, Т. Мор, Сен-Симон, А. Вальян, Фурье, Жорес, Прудон, Бакунин, Чернышевский, Лавров, Михайловский, Плеханов.
7 ноября 1918 года, в первую годовщину Советской власти, на месте снесенного памятника генералу Скобелеву против дома, служившего прежде резиденцией генерал-губернатору (ныне — здание Моссовета), был торжественно заложен второй памятник-обелиск, получивший потом известность под названием «Обелиска Свободы». Его эскиз создал архитектор Д. П. Осипов; женскую фигуру, символ свободы, изваял скульптор Н. А. Андреев. На трех гранях постамента укреплены были бронзовые доски с текстом Конституции РСФСР, а у подножия статуи устроили трибуну для ораторов. Эскиз памятника был одобрен Лениным.
Впоследствии с этим обелиском удачно сочетался строгий фасад здания Института марксизма-ленинизма, построенного С. Чернышевым в 1927 году. Однако обелиск был разобран в 1940 году, а на его месте поставили — в честь 800-летия Москвы — конный памятник Юрию Долгорукому по проекту С. М. Орлова, А. П. Антропова и Н. Л. Штамма.
Выразительный траурный монумент создан был в первые годы Советской власти в память о трагически погибших участниках совещания в Московском комитете партии.
Злодеяние совершено было террористами-эсерами 25 сентября 1919 года. Тайно подкравшись к зданию (в бывшем Леонтьевском переулке), они бросили в окно бомбу большой разрушительной силы. Собрание вел В. М. Загорский. Когда бомба влетела в зал, Загорский с поразительным самообладанием скомандовал «Спокойно!» и сам пошел к ней. Он поднял бомбу, чтобы выбросить в разбитое окно, но в тот же миг грянул взрыв.
Имена погибших высечены на большой мраморной доске, укрепленной на памятном монументе. Памятник увенчан красивой траурной урной; с нее каменными складками ниспадает покрывало. Дата сооружения — 1922 год, автор памятника — архитектор В. М. Маят. Ныне улица носит имя Станиславского, а в историческом здании, у которого установлен скорбный монумент, помещается представительство Украинской ССР.
Сохранились от самой первой поры советского монументального искусства памятники Герцену и Огареву перед старым зданием Московского университета (скульптор Н. А. Андреев, архитектор — брат его, В. А. Андреев). Оба памятника, выполненные из бетона и мраморной крошки, удачно сочетаются с фасадом университета.
В ноябре 1923 года у Никитских ворот был открыт памятник Тимирязеву работы С. Д. Меркурова. Несколько ранее, еще в 1918 году, на Цветном бульваре установили другую скульптурную фигуру, сработанную тем же ваятелем, — статую Ф. М. Достоевского. Меркуров работал над ней еще в предреволюционные годы, во времена поисков новых формальных приемов. В тридцатые годы этот интересный, хотя и грешивший некоторым схематизмом, памятник перенесли во двор бывшей Мариинской больницы на Божедомке (ныне — улица Достоевского), где в правом флигеле больничного здания жила семья врача Достоевского (там теперь находится музей Ф. М. Достоевского).
Меркуров изобразил его в арестантском халате, с опущенной головой и судорожно стиснутыми кистями рук: перед нами — Достоевский-петрашевец, осужденный на каторгу, Достоевский — автор «Записок из Мертвого дома»…
Это сохранившиеся скульптуры. Об остальных мы вспоминаем, глядя на старые фотографии времен гражданской войны или на уцелевшие макеты (например, макет памятника Лассалю в Ленинграде). Но даже эти фотографии и макеты воскрешают грозовой отблеск «древнего пламени», по выражению Данте.
…Однажды, на выставке раннего советского плаката в Третьяковской галерее, академик Игорь Грабарь сказал художнику Черемныху: «Как удивительно сохранили свою свежесть и силу эти первые цветы революционного искусства!»
Мне кажется, что в ранней советской скульптуре, рожденной в дни гражданской войны, тоже сохранились и свежесть и сила революционной романтики.

Сегодняшняя Москва… Город Доброй Надежды — многомиллионный, стремительно обновляющийся. Центр советской науки и промышленности. Главный город студенчества. Университет строителей. Театральная и музыкальная столица… Все это лишь разные стороны того единства, имя которому — Москва!
Из добрых традиций прошлого она сберегла характерные для нее радушие и гостеприимство. В дни всенародных праздников собирает она своих жителей и своих гостей в одну огромную дружную семью, стирает грани между профессиями и возрастами, водит всех по ярко иллюминованным улицам, веселит огненными фонтанами салютов и праздничной радиомузыкой. Хорошо тогда взглянуть на город с такого места, откуда он предстает в самом блистательном своем развороте — с высоты крутых приречных гор, названных именем Ленина. Много событий связано с этим историческим местом.
В селе Воробьеве спасался от страшного московского пожара семнадцатилетний Иван Грозный. В 1591 году москвичи здесь обратили в бегство крымскую рать Казы-Гирея, а в 1612-м ополченцы Минина и Пожарского разбили войска гетмана Хоткевича. Император французов отсюда смотрел с тревогой на покинутый жителями город, на дома и церкви, превратившиеся в огненную могилу для наполеоновского плана войны 1812 года. Двое пылких юношей, Герцен и Огарев, дали здесь «ганнибалову клятву» посвятить себя борьбе за народную свободу.
В дни Октябрьских боев 1917 года на этих высотах стояли пушки, бившие по укреплениям юнкеров и офицеров. Потом, после победы революции, молодые рабочие заложили на Воробьевых горах свой «красный стадион», а в ближнем селе Потылихе была создана школьная коммуна. Неподалеку, на бывшем пустыре у Нескучного сада, открылась в 1923 году первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Со склонов Ленинских гор, еще не огражденных тогда балюстрадой, гости Москвы двадцатых и тридцатых годов нашего века глядели, как началось преображение города, как он пошел в наступление на извечных врагов Москвы прежней — скученность жилья, хаотичность и тесноту застройки, маловодье, грязь, убожество окраин, деревянное царство полунищеты.
Реконструкцию начали с малого — надстроили дома везде, где только позволяли фундаменты. Так стала повышаться в Москве этажность зданий. Как ростки нового, то тут, то там появлялись не только отдельные сооружения, такие, как Центральный телеграф, здание «Известий», дом Центросоюза, планетарий, рабочие клубы, но и целые шеренги новых жилых кварталов. По архитектуре они были предельно скромны, но сразу завоевали симпатии москвичей своей удобной планировкой. Самые первые появились на Усачевке, в 1925–1927 годах и очень походили на роты и взводы, взявшие штурмом головные рубежи, чтобы обеспечить наступление всей армии строителей.
После первой пятилетки строительство Москвы пошло быстрее, размашистее. На месте прежних искривленных улочек возникали современные магистрали; расширялись столичные площади; волжская вода пошла в Москву-реку по красивому каналу; новые мосты соединили берега реки; подземные дворцы метро встретили первых пассажиров, а 1 августа 1939 года в Останкине открылась вторая по счету Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, много богаче первой, деревянной. Вторая выставка — это целый город нарядных зданий, правда, разномасштабных и разностильных по архитектуре, но служащих и поныне для показа высших достижений в народном хозяйстве.
После войны, в 1947 году, Совет Министров утвердил план сооружения высотных зданий, и в очень короткий срок они выросли, совершенно преобразив силуэт города.
Тогда же принялись застраивать новыми, индустриальными методами район Песчаных улиц, осваивать пустыри дальних московских окраин и более всего — на Юго-Западе, в окрестностях Ленинских гор.
…Под нами, в Лужниках, на левом берегу Москвы-реки вознесена овальная чаша самого большого в стране стадиона — Центрального стадиона имени Ленина. Вокруг спортивных сооружений успел подняться хорошо ухоженный парк с газонами и, цветниками. Дальше, за ниточкой железнодорожного полотна Окружной дороги, по всему горизонту вздымаются уступчатые силуэты высотных зданий.
Своими очертаниями эти здания напоминают кремлевские башни. Их градостроительная роль особенно понятна отсюда, с возвышенной видовой площадки Ленинских гор. Высотные здания выделяют, поднимают опоясанный ими городской центр, как некогда главы и шатры Кремля выделяли и подчеркивали центр древней Москвы.
Глаз не сразу отыскивает среди новой застройки привычные «опоры»: прямо — златоглавый Кремль, слева — нарядный Ново-Девичий монастырь, справа — двухъярусный мост метрополитена. Когда ориентиры найдены, становится ясен и весь величественный замысел планировки новых проспектов, что устремлены от Юго-Запада прямо к центру города.
Главная планировочная ось — это воображаемая линия от университета к Кремлю. Чаша стадиона как раз и лежит на этой оси. Правый, или Восточный, проспект намечен мостом метрополитена. Мост соединяет проспект Вернадского на Юго-Западе с Комсомольским проспектом, в главных чертах уже проложенным к Крымской площади и Метростроевской улице (старой Остоженке).
В будущем еще один мост перекроет Москву-реку слева, к западу от планировочной оси, соединяя Мичуринский проспект с Большой Пироговской улицей.
Так осуществляется ленинский завет, данный московским строителям еще на заре реконструкции столицы. Не кто иной, как сам Владимир Ильич, поддержал идею переустройства города, доложенную ему академиком И. В. Жолтовским. Ленин одобрил предложение развивать жилищное строительство в юго-западном направлении и посоветовал архитекторам особенно позаботиться о создании для москвичей постоянных источников свежего, насыщенного кислородом воздуха.
Эти ленинские советы и легли в основу строительства новой Москвы, всего плана реконструкции столицы, застройки ее юго-западного района, самого здорового, сухого и высокого.
В наши дни строительство Москвы получило благодаря новой строительной индустрии размах, не идущий в сравнение с прошлым. Самый большой проспект новой Москвы, созданный из прежней захолустной Большой Калужской улицы и придорожных пустырей вдоль загородного шоссе, носит теперь имя Ленина. Здесь же, на Юго-Западе, над крутым спуском к Москве-реке, задумано поставить монументальную статую Ленина.
Проекты этого монумента обсуждались общественностью, они должны быть еще доработаны. Но основная идея памятника — не просто повторить в бронзе образ Ленина-вождя, а выразить идею братства народов, завещанную Лениным всем людям труда на Земле.

В детстве мои сверстники часто мечтали побывать в настоящем дворце. Само слово «дворец» казалось заманчивым и чисто сказочным, потому что мальчик с пальчик или Золушка только по волшебству фей могли попасть на сияющий дворцовый паркет. Именно этот сияющий паркет особенно тревожил мое воображение, когда отец пересказывал мне сказки.
А юным московским гражданам шестидесятых годов слово «дворец» совсем не кажется сказочным. И не мудрено — у нас давно в ходу такие понятия, как Дворец культуры, Дворец спорта, Дворец труда. Есть в Москве и центральный Дворец пионеров. Приглашаю вас отправиться со мною в этот дворец, вместе открывать новую, незнакомую многим взрослым пионерскую страну на Ленинских горах столицы!
Романтична даже станция метро «Ленинские горы», ближайшая к Дворцу пионеров. Ее просторный перрон расположен внутри огромного арочного моста метрополитена. Верхний ярус моста врезан одним концом в высоты Ленинских гор, а другим, слегка понижаясь, вдается далеко в пределы Лужников. Наверху мчатся автомобили, а нижний застекленный ярус служит станцией метро. Придумано великолепно, со вкусом, с размахом и — душой!
Строители этого моста (главный инженер проекта В. Г. Андреев, архитектор К. Н. Яковлев) сделали красоту Москвы как бы составной частью сооружения. Выходишь из вагона метро, идешь по перрону, и по обе стороны сквозь стеклянные стены видна освещенная солнцем река, парк на берегу или, ночью, синее небо в звездах, огни Москвы и отсветы на черной воде. Шагаешь к выходу, и широкий коридор — белый, с голубовато-зелеными полосами и круглыми иллюминаторами — напоминает интерьер теплохода.
Потом вы идете уже по свежему воздуху, под защитой верхней эстакады. Здесь изумительное место для встреч! Кругом парковые деревья, над головой крыша от дождя, пахнет рекой… Она рядом, с пароходными гудками, блеском сигнальных огней.
Нам предстоит подняться на крутой склон коренного берега. Он здесь чуть-чуть сродни киевскому Печернему городу! Только ждет нас не фуникулер, а эскалатор — сооружение не столь заманчивое, как фуникулер, но с гораздо большей пропускной способностью. Для него тут построено отдельное помещение ступенчатой формы, тоже сплошь застекленное. Пока поднимаешься, сердце радуется зеленым крутым склонам гор или, зимой, заиндевелым старым вязам и липам.
Наверху переходим Воробьевское шоссе. Я это место хорошо помню. Шла здесь еще в 1930 году от села Воробьева к деревне Потылихе немощеная проселочная дорога. На той стороне проселка — на обратных склонах Воробьевых гор — простирались пустыри, рос кустарник, беспорядочно теснились невзрачные домики. Почва здесь глинистая, люди жаловались на бездорожье и чувствовали себя на этой городской окраине более заброшенными и неустроенными, чем жители дальних пригородов Москвы и дачных подмосковных поселков.
Потом продлили сюда Воробьевское шоссе, пустили — незадолго до войны — троллейбус, и началось наступление на пустыри и овраги. А в 1962 году возник на бывшем пустыре главный корпус Дворца пионеров.
С Воробьевского шоссе открывается панорама дворца, просторной Площади пионерских парадов с трибунами для зрителей, бетонной площадкой для пионерского костра и стальным обелиском-флагштоком против главного входа во дворец.
Сухой деловитостью внешних форм, строгой стереометричностью, голыми плоскостями основных объемов Дворец пионеров издали напоминает индустриальные постройки. Но красивый флагшток в виде стройного обелиска, похожий на клинок стальной рапиры, служит здесь важной архитектурной вертикалью и вносит в композицию романтическую струю. Зрительно эта вертикаль как бы приподнимает главное здание, расположенное в низине.
Когда подходишь ближе, индустриальные ассоциации исчезают вовсе, но все-таки общий композиционный замысел постигаешь не сразу: в городской перспективе корпуса дворца сливаются с застройкой проспекта Вернадского, и трудно сразу зрительно выделить комплекс Дворца пионеров.
Принцип композиции таков: двухэтажная застекленная часть служит оригинальной соединительной галереей для четырех корпусов, в четыре этажа каждый. Все эти корпуса обращены к Площади парадов торцами, и на уровне примерно двух третей высоты они объединены галереей. Главный вход интересно декорирован стенным панно. Глухие торцы оживлены цветной керамикой. Прямые линии корпусов и стеклянной галереи сочетаются с купольными формами планетария и оранжереи. Все это разнообразит композицию, делает ее нескучной.
И приходят тут кое-какие педагогические соображения общего порядка, немаловажные в наше время индустриального, скоростного строительства городов.
Дело в том, что в нашем стандартном строительстве остаются как бы вне поля зрения архитектора специфические интересы жителя-подростка. Прошу понять меня правильно: разумеется, социалистический поселок или город обеспечивает поколение юных и дворовыми спортплощадками и (если говорить о малышах) каруселями, песочницами, горками для катания.
Все это в нашей стране разумеется само собой. Но для развития детского характера, творчества, фантазии потребно больше. А где двенадцатилетнему жителю стандартного микрорайона развивать эту самую фантазию?
Могут ли приглаженные дорожки, подстриженные газоны подсказать подростку, например, в новых Черемушках те интересные творческие игры, какие у нас сами собой получались невдалеке от Яузы-реки, там, где были дощатые заборы с дырами, стоял на ржавых рельсах старый паровоз, лезла трава из-под шпал или (верх мечты!) валялся на боку списанный еще в прошлом веке железный баркас?! Сколько тысяч миль пролетели ребята «с моего двора» на таком вот жюль-верновском транспорте, возбуждая острую зависть наших ровесников из куда более благоустроенных районов!
Разумеется, я не ратую здесь за устройство в новых дворах некой полосы предполья, которую смогли бы преодолевать лишь ребята школьного возраста! Но кому-то в архитектурных мастерских надо всерьез подумать о жителе-подростке, о его особенных интересах, о «его дворе».
Все это я веду к тому, что как раз во Дворце пионеров об этом подумали.
В этом дворце множество находок, сделанных людьми, понимающими психологию подростка. Дело не только в том, что здесь четыреста с лишним помещений общей площадью в 50 тысяч квадратных метров. Кстати, такой «метраж» позволяет заниматься практически 600–700 кружкам одновременно. Помнится, в переулке Стопани, в старом общемосковском Дворце пионеров, на открытии которого мне довелось присутствовать в середине тридцатых годов, едва хватало места для одновременной работы двух-трех десятков кружков.
Повторяю, дело не только в масштабах, но и в том поиске романтической струи, который ознаменован здесь, на Ленинских горах, явными успехами.
Входишь в вестибюль — и сразу попадаешь в тропический пояс Земли: тут под тремя стеклянными фонарями-куполами устроена оранжерея вокруг плоского бассейна, облицованного голубой смальтой. В воде красиво отражаются листья больших пальм, бамбук, диковинные тропические цветы…
За два часа я обошел только технические и научные лаборатории, киностудию, планетарий, замечательный концертный зал, слушал молодого пианиста, игравшего Сен-Санса, видел несколько десятков совсем юных Золушек в пачках и балетной обуви, заглянул в обширную библиотеку, просмотрел выставку юных художников и… не успел оглядеть даже половины помещений!
Авторы проекта Дворца пионеров — архитекторы В. Егерев, И. Покровский, Ф. Новиков, Б. Палуй, В. Кубасов, конструктор Ю. Ионов — интересно использовали химию пластмасс, сделали цветные пластиковые полы, стеклянные лестницы, применили для отделки алюминий и керамику. Весело-ироничны металлические знаки зодиака на черном фоне цилиндра в планетарии. Остроумно найдены «каннелюры» колонн — наклеенные жгутики пластика.
Есть и нарочно запутанные переходы, есть очень «мобильные» выставочные помещения, где удобно размещать любые экспонаты, от планеров до… коллекции жуков. Здесь на каждом шагу — неожиданности, в каждом корпусе — разная планировка, разная отделка помещений, нет скучной одинаковости.
Вот отсюда и получается обстановка этакой архитектурной феерии, где ребятам интересно, где не возникает желания что-то разрушить, испортить (а в «скучных» домах и дворах разрушительные наклонности превращаются в страсть!), а наоборот: хочется играть, заниматься искусством, науками…
В будущем здесь появятся еще спортивные сооружения, плавательный бассейн, лодочная станция и пляж на озере, а может быть, и маяк и даже морской корабль! Задуманы еще и сельскохозяйственные фермы для юннатов, целый опытный участок леса, кормовые кухни, свое рыбоводческое хозяйство, свой зоопарк. Будут, говорят проектанты, водопады. Будут искусственные горные склоны для разведения альпийской флоры — альпинарий, почти как в университете или Главном ботаническом саду.
Одного не хватает замечательному дворцу детей столицы: каких-то специфически московских черточек, национального архитектурного своеобразия. Этого пока еще здесь маловато! Здание с такой внешностью могло бы, пожалуй, стоять и в Токио или Сан-Франциско, на склонах Карпат или на берегу Дуная… Нет, нет, не «петушиный стиль» отделки нужен, не самовары и не тройки… А все-таки прививать детям любовь к сокровищам отечественной культуры, учить их любви к России, пониманию ее красоты, а значит, и нести сюда эту красоту в каких-то образцах — все это, конечно, большая и неотложная задача создателей московского Дворца пионеров.

Всего несколько минут — одна остановка! — на троллейбусе, и от Дворца пионеров попадаешь к Московскому государственному университету имени Ломоносова — здесь же, на Ленинских горах. Минуешь лыжный трамплин, и взору предстает самое крупное сооружение Москвы.
Теперь уже нельзя представить себе силуэта столицы без нового университета. Если приближаться к Москве на теплоходе по каналу, белая, озаренная солнцем громада с шатровым завершением ясно видна над зеленью лугов и деревьев, хотя сам город еще и не показался на горизонте. Летчики и пассажиры самолетов видят университет порой километров за сто, если даль ясна.
Читаешь стихи разных поэтов о Ленинских горах и ловишь себя на мысли: почему же молчат они о главном, о таком великане? И сообразишь-то не сразу, что исполину всего полтора десятка лет: строительство начато было в 1949 году, закончено к 1953-му. Но так прочно вошел новый университет в наше представление о Москве, будто веками высится на гребне приречных высот.
Из окна моей рабочей комнаты хорошо видны эти высоты. В ясные ночи все здание университета насквозь просвечивается изнутри тысячами лампочек, и за каждым таким светлячком угадываются склоненные молодые головы, шелест страниц, споры вполголоса… Увенчанный звездой шпиль и верхушки боковых башен усеяны красными огнями, и кажется, что это ударил из земли могучий фонтан разноцветных искр. Ударил, вымахнул к звездному небу и… окаменел на века.
Здание таких размеров — объем его более двух с половиной миллионов кубических метров! — могло бы «придавить» Москву. Но проектировщики так удачно его поставили, что оно не придавило, а напротив, возвысило, как бы приподняло и украсило город.
В отличие от только что виденного нами Дворца пионеров исполин-университет — типичный москвич. Он хорошо гармонирует с башнями Кремля и другими высотными ориентирами столицы. Древние идеи ступенчатого нарастания ритмов, композиция четырех башен вокруг основного, пятого, шатра здесь нашли современное воплощение.
Авторы этого Дворца науки доказали, что национальный колорит, народные мотивы вовсе не должны уводить зодчего обязательно в архаику, к устаревшим формам и приемам. Весь комплекс университета современен, в нем отчетливо выявлены приметы века — нынешнего, двадцатого, и вместе с тем ясно, что «прописан» он в Советском Союзе, в Москве.
И в цветовой его гамме, в спокойной, традиционной для Москвы белокаменной облицовке основных плоскостей и коричневатой полосе фризов, оттеняющей переходы от основных объемов к башням, ощущается знание русского зодчества, умение сделать вековые традиции сегодняшними, но по-прежнему близкими народной душе, как близка народной душе, например, музыка Сергея Прокофьева — современная по темам и формам, национальная по краскам и всему ладу.
Главный корпус университета возвышается над Москвой на 240 метров. В нем 32 этажа. Там, на высоте этих 32 этажей, смонтирован Государственный герб.
Выше идут цилиндрические объемы ступенчатой башни, расчлененные лопатками, — тоже удачное применение одного из древнейших приемов русского зодчества. В этой круглой части еще пять этажей, и самый верхний поясок ее прорезан круглыми оконцами — слухами.
Еще выше — 60-метровый шпиль, увенчанный звездой в венке из колосьев. Кстати, каждое «зернышко» в этом венке равно целому метру!
Двадцать семь основных корпусов, десять вспомогательных. Вместе со своими зелеными зонами комплекс университета имени Ломоносова занимает площадь в 320 гектаров — это средней руки город.
Цифры, какими любят щегольнуть экскурсоводы, действительно изумляют: 45 тысяч помещений… 35 километров коридоров… 33 читальных зала… почти 6 тысяч жилых комнат для студентов и аспирантов… Собственный Дворец культуры и спорта, свой лесопарк, свой ботанический сад…
В этом саду поражает огромный и красивый альпинарий — из гранитных, базальтовых и бетонных блоков созданы искусственные скалистые горы. Говорят, в эти горы ушло много противотанковых надолб и заграждений времен Великой Отечественной войны. Ныне там можно наблюдать за ростом всех разновидностей горной флоры Кавказа, Крыма, Средней Азии. Один только «зеленый пояс» университета занимает больше сотни гектаров.
Новички, впервые входящие в главный вестибюль, расположенный за северным входом в здание, теряются на «вокзале лифтов» — их в университете более трехсот. Есть лифты-экспрессы, есть тихоходы с «остановками по всем пунктам».
Там же, рядом с вестибюлем, находится торжественный Актовый зал, самый парадный в университете. Его мозаичный убор создан народным художником СССР Павлом Дмитриевичем Кориным.
Верхние этажи главного здания заняты научными музеями — землеведения, геологии, биологии. И там нужно привыкнуть, чтобы не тянуло от экспонатов… к окнам! Вид оттуда, из этих окон, такой, что легко отвлечься от самой интересной музейной экспозиции. Между тем здесь собраны — и отлично, изобретательно выставлены — природные сокровища Земли, напоминающие о ее геологическом прошлом, о вулканической деятельности.
Перед монументальным южным портиком главного корпуса воздвигнут на круглом пьедестале памятник создателю первого русского университета — Ломоносову. Автор памятника — народный художник СССР, скульптор Николай Васильевич Томский.
Целая галерея памятников-бюстов ведет к северному фасаду главного корпуса, вдоль водоема с фонтанами и аллеей из подстриженных кустов. Изображены здесь выпускники или преподаватели Московского университета, которыми он вправе гордиться. Это Герцен, Чернышевский, Лобачевский, Докучаев, Тимирязев, Н. Е. Жуковский, И. Павлов…
Проект университета разрабатывали академики архитектуры Л. Руднев и С. Чернышев, архитекторы П. Абросимов и А. Хряков, инженер-конструктор В. Насонов. Они возглавляли огромный коллектив проектировщиков.
Строители вложили в сооружение университета, что называется, всю душу. Они удачно решили много сложных производственных проблем, доказали техническую зрелость нашего жизнеутверждающего строительного искусства, обогатили опыт сооружения высотных зданий.
Вызывают возражение перегруженность здания скульптурными украшениями, эклектизм в выборе дорогостоящих декоративных элементов. И — обилие вспомогательных, недостаточно хорошо освещенных помещений. Но как раз в университете этот недостаток менее ощутим, чем в других высотных зданиях Москвы, так как «глухие» пространства использованы здесь под фундаментальные книгохранилища.
К тому же недостатки планировки и отделки здания несколько искупаются здесь грандиозностью общего решения, стройностью основных объемов, красотой и ритмичностью взнесенных башенных элементов. Все это не может не вызвать в учащейся молодежи чувства признательности за ту заботу, широту и щедрость, с какими столица возвела этот высотный Дворец науки — alma mater нашего студенчества.
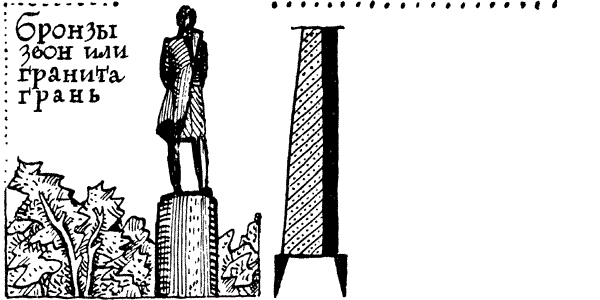
Давно, еще в 1880 году, Москва поставила первый в России памятник во славу писателя — статую Пушкина, талантливо исполненную скульптором Опекушиным. Еще через двадцать девять лет появился превосходный андреевский монумент Гоголю. Оба памятника воздвигнуты были на народные пожертвования. О других литераторах москвичам зримо напоминали лишь могильные камни, которые ставились, как правило, на средства друзей и родных.
Деятели советской культуры, поддержанные Наркомпросом и Академией художеств, с первых лет революции стали готовиться к сооружению в Москве постоянных монументов в честь творцов великой русской литературы. Первым осуществленным проектом был памятник А. Н. Островскому. В 1928 году его поставили перед зданием Малого театра (скульптор Н. А. Андреев). В 1959 году воздвигли статую А. С. Грибоедову у Кировских ворот (скульптор А. А. Мануйлов). В 1964-м открыли памятник Тарасу Шевченко у гостиницы «Украина» (скульпторы М. А. Грицюк, Ю. Л. Синькевич, А. С. Фущенко, архитекторы А. А. Сицарев, Ю. А. Чеканюк).
Известны также московские памятники Достоевскому, А. Н. Толстому, несколько скульптурных изображений Льва Толстого, Горького, Маяковского…
Не все эти памятники получили одинаковое народное признание. Мимо одних прохожие спешат, почти не оглядываясь, и задерживаются редко. Другие будто облучены незримо струящимся человеческим теплом, даже когда вечно спешащая московская толпа чуть ли не бегом обтекает памятник… Таким теплом, кстати говоря, всегда облучен опекушинский Пушкин.
Есть монументы, о которых не прекращаются споры, хотя целые годы прошли со дня их открытия и сами они обжиты, вошли в ансамбли улиц, площадей и скверов, стали привычными. Мне кажется, больше всего спорят у нас о таких выдающихся скульптурных произведениях, как памятники Горькому, Маяковскому и Лермонтову. Об этих работах советских ваятелей и хочется потолковать в заключительной главе «Образов России».
Сначала о важнейших общих принципах монументальной городской скульптуры.
Требования к городскому памятнику высоки и сложны. Если он предназначен для того, чтобы, по выражению Игоря Северянина, «центрить» на площади, то все архитектурные элементы, составляющие ансамбль площади, должны быть собраны, сгруппированы вокруг памятника. Задача его в этом случае как бы командовать площадью, зрительно организовывать ее. Силуэту памятника надлежит быть при этом красивым и выразительным с любой точки площади, в любом освещении, в любое время суток. Фигура и постамент, соразмерные друг другу, должны быть строго пропорциональны окружающим зданиям. Найти эти пропорции — одна из труднейших задач ваятеля, ибо тут главный помощник — вкус и глазомер. Надо, помимо всего этого, добиться предельного обобщения деталей, одежды, аксессуаров, иначе взгляд раздробится, и впечатления слитности, единства не получится.
Это все лишь самые общие, чисто градостроительные задачи монументальной скульптуры. И даже на них нет у скульпторов одинаковых воззрений.
Так, ваятель высокой культуры, автор памятника Грибоедову А. А. Мануйлов вообще считает центральное положение статуи на площади невыгодным. По его мнению, нельзя сделать одинаково выигрышными фасад и тыл скульптуры. Мануйлов рекомендует помещать статую ближе к зданию, чтобы пространство между тыльной ее стороной и стеной-фоном было минимальным.
Надо сказать, что поставленная Мануйловым на фоне бульварной зелени статуя Грибоедова действительно лучше всего смотрится со стороны открытой площади и вестибюля метро «Кировская» — здесь скульптор смог убедительно подкрепить практически свои суждения насчет позиции памятника на площади.
Еще больше споров вызывают задачи частные, связанные уже непосредственно с трактовкой самого образа, его идейной и психологической характеристикой. Каким представить народу великого писателя — Лермонтова, Горького, Маяковского?
Может, в минуту творческой сосредоточенности за столом? Или во время выступления перед слушателями? Известно, как мастерски умел Маяковский работать с аудиторией. А может, лучше показать писателя в окружении соратников и друзей? Или среди природы, «созвучной» поэту? Для Лермонтова это может быть деталь горного пейзажа, для Горького — некий символ «седой равнины моря».
Итак, памятник Горькому…
Молодой Горький принес в литературу «Песнь о Буревестнике», а в конце этого огромного творческого пути мир узнал Горького-публициста, драматурга, наставника («прозаики сели пред вами на парте б»). Какого же Горького надлежало показать в скульптуре — юного или зрелого?
Лучшими скульптурными воплощениями Горького оказались две как бы дополняющие друг друга работы: юношески-романтический образ молодого Горького — «Буревестник» — на родине писателя, в Горьком, и строгий монумент на площади Белорусского вокзала в Москве. Первый образ создала В. И. Мухина (1889–1953), второй — результат долгих творческих поисков Ивана Шадра (1887–1941), завершенных и воплощенных в бронзе той же Мухиной.
Памятник в Горьком установлен на просторной площади, завершает перспективу главной улицы, виден от самого кремля. Юная фигура в развевающемся плаще стала как бы художественным символом города.
И в Москве, перед фасадом Института мировой литературы на улице Воровского, установлена та же фигура Горького, но в меньшем масштабе: это первый вариант мухинской скульптуры.
Вере Игнатьевне Мухиной выпала нелегкая задача завершить и главный памятник Горькому в Москве. Над проектом этого монумента много лет трудился выдающийся мастер советской скульптуры Иван Дмитриевич Шадр.
Он родился в семье плотника-сибиряка вблизи города Шадринска и по названию родного города избрал себе псевдоним (настоящая фамилия его — Иванов). Широко известны его «Рабочий», «Крестьянка», «Сеятель» — эти бюсты воспроизведены даже на наших почтовых марках. Мраморная статуя «Сезонник» (1929), временно установленная на Лермонтовском сквере, изображает каменотеса, присевшего на гранитной глыбе, чтобы примериться, как сподручнее взяться за обработку неподатливого камня. Мировую славу получила скульптура Шадра «Булыжник — оружие пролетариата» (1927). Именно ее намечено взять за основу будущего монумента в честь героев 1905 года на Красной Пресне.
Ваятель близко знал Горького, давно работал над скульптурным воплощением его облика. Вот что рассказывал он сам:
«…Я представляю Горького таким, каким знали его в последние годы… Спокойная, ясная… фигура Великого Мудреца. Он слегка опирается на трость, как будто шел и остановился на мгновение, вопрошающе и с радостной уверенностью смотрит вдаль, в будущее. Зрелые годы гения, прожившего огромную жизнь, отдавшего все свои силы, весь свой талант народу, людям, которых только он так умел любить. В этом старце угадываешь внутренний огонь, способность зажечь сердца миллионов. Великое богатство мыслей и чувств в этом человеке, но нет в нем ни усталости, ни равнодушия. Голова Горького: сжатые губы, грубовато и резко вылепленные скулы, глубокие морщины. Лицо много страдавшего и сумевшего подняться над страданиями человека. Лицо мыслителя и борца».
Ивану Дмитриевичу Шадру не суждено было увидеть воплощение этого замысла в бронзе: смерть скульптора в 1941 году оборвала работу над монументом. И закончила эту работу Вера Игнатьевна Мухина, народный художник СССР, член Академии художеств и автор многих вещей, ставших классическими в нашем искусстве, в том числе знаменитой металлической статуи «Рабочий и колхозница», ныне украшающей Северный вход на ВДНХ.
В. И. Мухина работала над памятником Горькому вместе со скульпторами Н. Г. Зеленской и З. Г. Ивановой, в содружестве с архитектором З. М. Розенфельдом. Местом установки избрали площадь перед Белорусским вокзалом — там 28 мая 1928 года москвичи приветствовали Горького, приехавшего из-за границы. Открыли памятник в 1951 году.
Он возвышается среди красивого сквера. И хотя монумент сравнительно невелик — десять с половиной метров, — он удачно «держит» площадь. Зеленое окружение подчеркивает, усиливает центральную роль памятника.
Знатоки по достоинству оценили эту статую, но все же поза Горького на памятнике многим кажется слишком скованной, далекой от порывистой страстности молодого «Буревестника». Пожалуй, у мухинской статуи больше приверженцев, чем у скульптуры Шадра.
Надо ясно представлять себе живого Горького, чтобы в полной мере охватить и портретное сходство шадровской статуи, и глубину идеи этого монумента. Выражение лица Горького здесь не только верно схвачено и точно воспроизведено, но именно в этих характерных чертах большого писателя, человека, «прожившего огромную жизнь, отдавшего все свои силы, весь свой талант народу», и заключена идейная сила этого произведения, сосредоточен его патетический накал.
Есть нечто общее в трактовке Горького у Ивана Шадра и в известном портрете работы Павла Корина. И в статуе и в картине отразилась большая любовь авторов к Горькому, писателю и человеку.
В чуть сутуловатой фигуре писателя на памятнике сохраняется что-то и от юношеского изящества Горького — он по-прежнему высок и легок, по-молодому пытлив, полон жадного любопытства ко всему новому, растущему. Таким он и глядит с постамента вдаль, в будущее.

По времени Лермонтов от нас гораздо дальше Горького, но творчески он всегда с нами, всегда наш, пафос полуторастолетнего расстояния стал не отдаляющим экраном, а как бы увеличительным стеклом, через которое нам даже лучше, чем современникам Лермонтова, видны глубина его трагедии, масштаб его личности.
Может, поэтому мы умеем сильнее и больнее любить его, чем любили его люди «страны рабов, страны господ». И размеры утраты, понесенной Россией, мы тоже видим яснее: труды исследователей, анализ планов и набросков позволяют нам судить об этом с горькой объективностью. Смерть Лермонтова, как и смерть Пушкина, до сих пор не зажившая наша сердечная рана, всякое прикосновение к ней болезненно.
Это особенно ощущаешь в родных местах поэта, в заповеднике и у ранней лермонтовской могилы в его родных Тарханах, где и сегодня
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями…
Сейчас там, кстати сказать, многое делается, чтобы возродить эти заветные места во всей их красе, так полно отраженной в самых задушевных лермонтовских строчках.
Там, в доме бабушки поэта Е. А. Арсеньевой, собраны многие интересные изображения Лермонтова, портреты и скульптурные бюсты, в частности работы Голубкиной и Коненкова. Несмотря на художественную неравноценность всего этого портретного изобилия, все же синтезируется у нас некий собирательный образ, пусть не до конца явный, подчас мучительно ускользающий и зыбкий, но, может быть, поэтому живой и правдивый. Мне кажется, что именно этот образ, в большем или меньшем приближении, уловил и передал молодой московский скульптор И. Д. Бродский одержавший вместе с архитектором Н. Н. Миловидовым победу на конкурсе проектов памятника Лермонтову.
Поставлен памятник у бывших Красных ворот, где в маленьком барском домике родился в 1814 году Михаил Юрьевич Лермонтов.
Теперь на месте домика стоит высотное здание МПС, напротив, через сквер — прежнее здание того же ведомства. Крошечный скверик с памятником Лермонтову оказался между этими многоэтажными громадами как бы «в глубокой теснине Дарьяла», и, чтобы довершить аналогию, сквер и памятник всегда омыты бушующим Тереком привокзального транспорта.
Место как будто не очень приспособленное для лирических раздумий бронзового поэта, но москвичи уже начинают привыкать здесь и к этой фигуре со сложенными за спиной руками и чуть склоненным лицом, и к прорезному, красивому барельефу из бронзы, воплотившему образы «Мцыри», «Паруса» и «Демона».
Постепенно мы присматриваемся к монументу все доброжелательней, и любовь наша к Лермонтову исподволь переходит уже и на скульптуру. Это ощущаешь и во взглядах прохожих, и в сочувственном словце, брошенном невзначай, а то и в реальном пучке незабудок либо подснежников, пролетевшем к постаменту.
Часто возникают споры. Обычно более пожилые участники такой дискуссии противопоставляют этот памятник пушкинскому. Дескать, тот отовсюду хорош, откуда ни погляди, а этот — в иных поворотах вроде бы и нравится, в других — что-то не то… Притом вид слишком скромен, блеску воинского нет, а ведь изображен как-никак гвардейский поручик!
— Он не на смотру, — возражают более молодые участники спора, — он, может, вышел один на дорогу, посмотреть и послушать, как звезда с звездою говорит… Задумчивый он, лирический, это-то и хорошо! Это как раз сближает его с памятником Пушкину.
— Ну, хорошо, пусть он не на смотру, — вмешивается кто-то третий. — Но где же образ поэтического трибуна, поэта-пророка? Почему скульптор не показал нам автора «Смерти поэта», самых пламенных и гневных стихов в нашей поэзии?
— Нет, нет и нет! — горячатся защитники памятника. — «Патетика» была бы здесь ходульной и лживой! Печаль Лермонтова темна и горька, пророческий стих отточен, как стальной клинок, но и сумрачен, тяжел. Он угрюм, он не понят и отвержен теми, кому бросал он в лицо горькую правду, в чьих очах читал страницы злобы и порока… И при всем этом он же молод, ему — двадцать шесть, он творил и жил на каких-то сверхскоростях, ведомых только гениям. Потому так страшно рано, по словам поэта Владимира Корнилова,
засыпает утомленный Лермонтов,
как мальчик,
не убрав со лба волос…
Что ж, с этим мнением можно согласиться, принять его. Лермонтов изображен здесь как символ поэтического мужества, а вместе с тем и нашей любви к обреченному поэту. Образ Лермонтова, его характер выражены верно, лишены холодности, и это самое главное! Памятник постепенно входит в душевный обиход и москвичей и гостей столицы…
Недавно я сидел у подножия, рассматривая узорный барельеф и прислушался к беседе двух старшеклассниц. Они не «обсуждали» памятник, принимая его уже как данность. Но одна достала тетрадку и прочла стихи. Это были знакомые лермонтовские стихи, но каким же скорбным пророчеством могли они прозвучать для современников Лермонтова и как удивительно верно пришлись они своего рода эпиграфом лермонтовскому монументу:
…Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья… но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной.
И свет не пощадил — и бог не спас!..

Не нова мысль, что поэтический бунт, стоивший жизни Лермонтову, его железный стих, облитый горечью и злостью, глубоко сродни творчеству непримиримейшего революционера в современной поэзии — Владимира Маяковского. Роднит их одинаковое понимание общественной роли поэта, «чей стих, как божий дух, носился над толпой, и, отзыв мыслей благородных, звучал, как колокол на башне вечевой, во дни торжеств и бед народных». Это строки Лермонтова.
А у Маяковского:
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий…
Так перекликаются через столетие два великих русских лирика, два поэтических трибуна, кому «стоять почти что рядом» и в веках и на двух площадях Садового кольца — Лермонтовской и Маяковской.
Многих из нас, видевших живого Маяковского, слышавших его, знавших его рабочую обстановку (рабочей обстановкой бывала для него и любая массовая аудитория — Маяковский не «выступал» перед людьми, он в поте лица работал с ними), очень смущала мысль о скульптурном памятнике поэту.
Сам он относился к этой мысли едко иронически.
«Заложил бы динамиту — ну-ка, дрызнь!» — насмешливо грозит он будущему своему памятнику, «полагающемуся по чину».
Да и сама задача убедительно передать облик Маяковского в скульптуре казалась чересчур трудной: слишком монументален, огромен среди окружающих, именно скульптурен был поэт в жизни. А можно ли ставить памятник скульптуре? Например, Медному всаднику?..
Но памятник на площади Маяковского возник. На конкурсе проектов работа скульптора Кибальникова оказалась лучшей — это мнение жюри разделяют и те, кто лично знал Маяковского.
Молодежь полюбила этот памятник — здесь, в традиционный День поэзии, вся площадь гудит от стихов. Цветы всегда лежат у гранитного постамента, к памятнику идет из толпы человеческое тепло.
Работа скульптора Кибальникова над монументом Маяковскому была длительна. Волжанин родом, Александр Павлович Кибальников получил известность, когда победил своих соперников по конкурсу на памятник Чернышевскому в Саратове. В 1953 году в этом городе, близ дома, где родился и прожил свои последние годы Чернышевский, был воздвигнут хороший памятник ему по проекту Кибальникова. Скульптору был тогда сорок один год.
Примерно в то же время он начинал и работу над фигурой Маяковского. Первый вариант не удовлетворил ни жюри, ни самого ваятеля. Он продолжал работать, углубляясь в стихи, проникая во внутренний мир поэта.
Как же понял Кибальников Маяковского? Какие черты его личности и его поэзии он счел главными?
Воля и мужество. Единство и цельность восприятия мира, событий современности и событий прошлого. Органическая слитность с жизнью. Страстная устремленность в будущее. Непримиримая ненависть ко всем, кто мешает строить. Абсолютная преданность делу коммунизма, — «потому что нет мне без него любви»…
В 1955 году расширенное специальное жюри одобрило эскизный проект, представленный Кибальниковым. Ему поручили лепить модель для перевода в металл.
Прошло еще года три. Несколько уточнений, последние штрихи, и вот в 1958 году памятник, который теперь уже привычен нам, торжественно открыт. Он стал с тех пор одним из притягательных полюсов новой Москвы. «Как живой с живыми говоря», шагает Маяковский на своем возвышении.
Кстати, проект постамента вызвал немалые затруднения. Полированный нарядный камень не отвечал характеру памятника, и скульптор остановил свой выбор на гранитном блоке, обработанном лишь в лицевой плоскости. Остальная часть оставлена в «диком» виде, чтобы усилить впечатление стихийной мощи. Постамент низковат, бронзовая фигура лишь немного поднята над головами людей, приближена к ним, но это вызывает ощущение некоторой диспропорции между постаментом и фигурой.
Хорошо решена голова. Общий очерк этой чуть повернутой вбок головы характерен для живого Маяковского. Динамический разворот сильных плеч (в другой плоскости, чем линия ног) придает фигуре большую жизненность: она не «стоит», она движется, вырастает и даже будто приподнимается. Сжатая в кулак правая рука опущена, вытянута вдоль тела — такой жест был присущ поэту в минуты чтения. Левая рука, отогнув полу пиджака, держит записную книжку — жест тоже характерный. Может быть, это тот самый блокнот, о котором Маяковский сказал: «Хорошая записная книжка и умение обращаться с нею важнее умения писать без ошибок подохшими размерами…»
А поза поэта? Он смотрит вокруг, узнавая и не узнавая свою «страну Москву», ради которой он без сожаления покидал любые прекраснейшие города мира. Можно даже представить себе, что пришел бронзовый поэт на свою площадь в День поэзии, чтобы и самому почитать новые стихи… Или же просто шел в раздумье, махая рукой в такт рождающемуся ритму, поймал, наконец, этот ритм, остановился, обрадованный, и готов записать две-три строчки. А попалось бы под ноги ему, шагающему, что-нибудь мелкое, чужое, враждебное — видно по энергичному жесту, что несдобровать противнику. Перед взглядом врага поэт может стать и заносчивым, и грубым, и резким.
Обобщенность художественного решения, когда мы имеем дело с монументальной скульптурой, позволяет зрителям по-разному истолковывать воплощенный скульптором образ.
Сама площадь связана с творчеством Маяковского-драматурга. Здесь (в здании, переоборудованном потом под концертный зал филармонии) находился театр, руководимый режиссером В. Э. Мейерхольдом, другом поэта, первым постановщиком его пьес — «Клопа» и «Бани».
…С недавних пор площадка у памятника Маяковскому сделалась пешеходной — автомобили идут подземным тоннелем и уже не обтекают памятник. Теперь удобно подойти к нему, вглядеться в черты Маяковского, постоять перед ним. И часто здесь, в исполнении молодых чтецов,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой!
Как близка эта метафора Маяковского нашим дням космической эры! И будто впрямь по исполнившемуся волшебству — взвился возле станции метро «ВДНХ» сверкающий титановый шлейф нашей рукотворной кометы, монумента в честь советских космических кораблей и пилотов, взлетевших к звездам первыми в мире, вослед пророческому, золоторожденному слову поэта!

Раскрыта последняя страница…
С книгой сживаешься, как с человеком, — расставанье нелегко.
Следовать дорогой русского искусства — все равно что идти берегом Волги, открывать, по выражению Брюсова, «за снежной ширью — снежную ширь», за красотой — красоту. То эта красота горделивая, то скромная и неброская, то чуть грустная, всегда берущая за сердце. Идешь и выбираешь: где приглядеться пристальнее, постоять в раздумье, полюбоваться подольше. Эта необходимость выбрать немногое из тысяч замечательных памятников — самая главная, самая большая трудность, какую испытал автор.
Но есть в многочисленных, многообразных памятниках нашей культуры то общее, что позволило объединить их в рамках одной книги.
Произведения большого искусства, будь это статуи, здания или фрески, всегда отмечены силой духа своих создателей. Она помогала им зримо воплощать в каждой вещи не только единичный образ, но и частицу всенародной судьбы.
Это, думается, и дало автору право назвать книгу «Образы России».


Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде.

Памятник-бюст герою 1905 года машинисту Ухтомскому, установлен в Люберцах, у проходной завода имени Ухтомского. Бюст выполнен скульптором Ниной Александровной Дворецкой, жительницей поселка Люберцы.

Памятник Бауману на московской площади, носящей имя славного революционера-ленинца.

Одесса. Монумент героям-потемкинцам.

Севастополь. Памятник лейтенанту Петру Шмидту на кладбище Коммунаров.

Крейсер «Аврора» у Нахимовского училища на Петроградской набережной.

Севастополь. Памятник герою Севастопольской обороны 1855 года Тотлебену и его саперам.

Севастополь. Малахов курган. Башня Корнилова.

Севастополь. Братская могила у Сапун-горы.

Памятник комсомольцам, героям боев за Севастополь. Скульптор Станислав Чиж, в недавнем прошлом — севастопольский моряк-комсомолец.
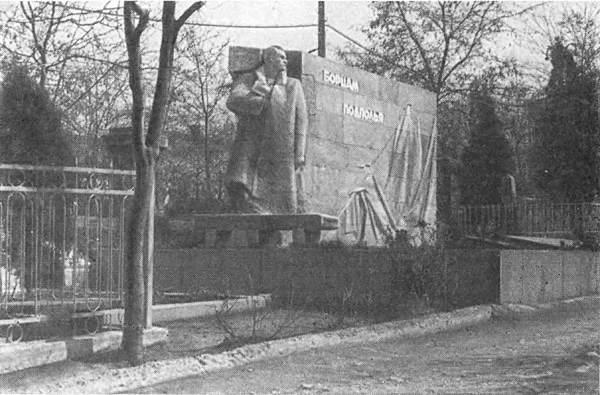
Скульптор Станислав Чиж. Памятник героям севастопольского подполья.

Дорога на Балаклаву. Памятник воинам Грузинской дивизии, погибшим в боях за освобождение Севастополя. Скульптор Т. Сихарулидзе, архитектор А. Гокадзе.
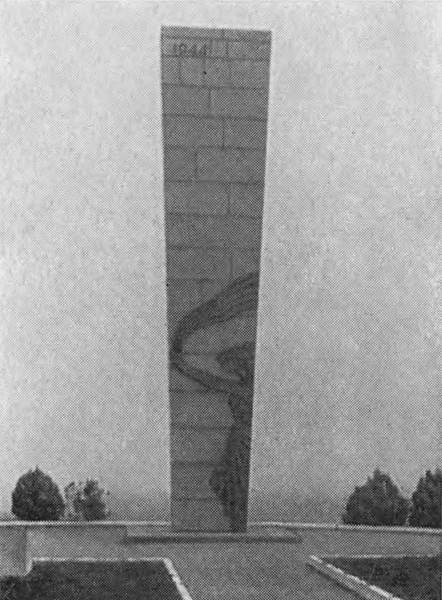
Памятник воинам Армянской 89-й краснознаменной дивизии, погибшим в боях за Севастополь. Скульптор А. Арутюнян, архитектор Д. Торосян.

Памятник Зое Космодемьянской на Минском шоссе, близ развилки дорог на Верею и Рузу. Скульптор О. Иконников.

Ветви деревьев над местом первого захоронения Зои всегда увешаны пионерскими галстуками.

Траурная урна на ограде Пискаревского некрополя.

Пискаревский некрополь в Ленинграде. Здесь пылает вечный огонь, радиорупоры разносят тихую скорбную музыку…

Памятник-обелиск в московском Александровском саду.

Памятник Тимирязеву у Никитских ворот. Скульптор С. Меркуров.

Памятник А. Н. Островскому у здания Малого театра в Москве. Скульптор Н. А. Андреев.

Альпинарий Московского университета имени Ломоносова. Здесь, на искусственных горных склонах, прекрасно развивается кавказская, памирская, тянь-шаньская, алтайская высокогорная флора…

Иван Шадр. «Булыжник — оружие пролетариата». Гипс. Музей Революции, Москва.

Лицу революционера-пролетария скульптор придал почти автопортретные черты.

Голова Маяковского. Мрамор. Скульптор А. Кибальников. Бюст установлен на станции метро «Маяковская».

Памятник Лермонтову на сквере у бывших Красных ворот. Близко от этого места в XIX веке стоял дом, где родился Лермонтов.
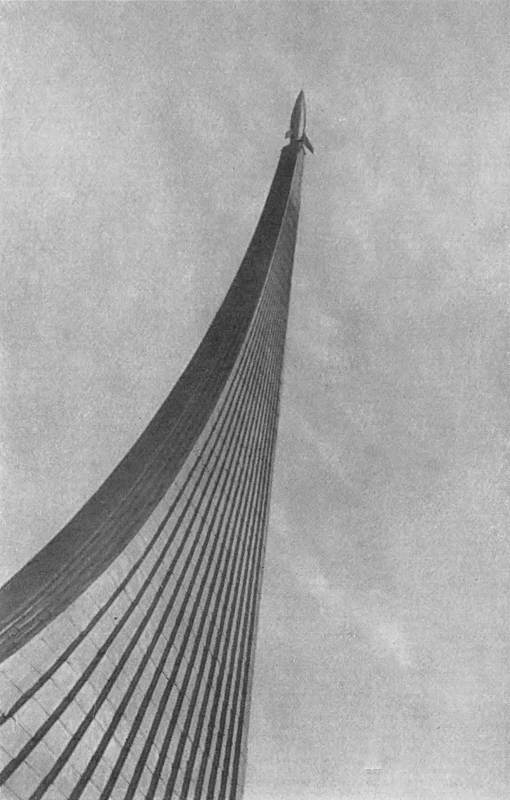
Покорителям космоса.

Часть первая По городам Киевской Руси … 9
I. У истоков великого искусства … 11
Стольный град Киев … 11
Первые творения киевских зодчих … 20
Николин день … 30
Великим водным путем из варяг в греки … 36
Ожерелье земли русской … 40
II. Над Волховом-рекой … 46
Новгородская Нередица … 46
В кремле Новгородском … 63
Концы посадские … 61
Живые голоса древних новгородцев … 70
История в лицах … 74
III. Воин и страж земли русской — Псков … 79
Легенда об Ольгином граде … 79
Псковские набаты … 87
Таинственный средневековый дом … 94
Здесь берегли «Слово о полку Игореве» … 97
Псковские пригороды … 102

Часть вторая На Руси Московской … 107
I. Сторона Залесская … 109
Старейшие города средней Руси … 109
Сельцо Кидекша в устье Каменки … 114
Город-музей Суздаль … 119
Златоглавый Владимир … 135
Нежность камня (Боголюбово и Покров на Нерли) … 153
II. Собирательница Руси … 156
Москва деревянная и белокаменная … 158
Если бы ожила картина Васнецова… … 167
Дерзость, устремленная в небо … 176
III. В зеркале озер и волжских вод … 188
Шатры Ярославля — век семнадцатый … 188
Дивная в древнем Угличе … 194
Борисоглебские слободы … 198
Кремль над озером Неро … 202
Переславль-Залесский … 207
IV. Канун реформ Петровых … 210
Строил Трофим Игнатьев (Иосифо-Волоколамский монастырь) … 210
Звенигородский, Саввино-Сторожевский … 216
Три памятника над Москвой-рекой … 221
Северные прообразы каменных шатров … 228

Часть третья Невская столица и Грибоедовская Москва … 239
I. Полнощных стран краса и диво … 241
На берегу пустынных волн … 241
Ваятель и его творение … 255
Петербургский чародей (Варфоломей Растрелли) … 263
Улица зодчего Росси … 270
II. От Старо-Невского к Адмиралтейству … 278
«Здесь лежит Суворов» … 278
Колоннада на Невском … 284
Исаакий … 290
Под светлой иглой (Здание во славу русских морей) … 295
III. По мертвую и по живую воду (Мемориальные пушкинские места) … 298
Эти дома его помнят … 298
Пушкинские Горы … 306
IV. «Порфироносная вдова» … 313
Мастера московского классицизма (Баженов, Казаков, Жилярди, Бове) … 313
Памяти великого подвига под Москвой (Бородинское поле и панорама Рубо) … 326
Москва Льва Николаевича Толстого … 335

Часть четвертая Новая эра в истории человечества … 343
I. Великий сын великого народа … 345
В деревянной глуши Симбирска … 345
С Финляндского — к Разливу … 351
Кремлевский штурман … 359
Дом с колоннами … 364
Мавзолей на Красной площади … 370
II. О подвигах, о славе … 373
«Безумству храбрых…» … 373
Крейсер революции … 383
Победителям — посмертно (Монументы героям Севастополя) … 390
На подмосковных рубежах … 398
Никто не забыт (Пискаревский некрополь в Ленинграде) … 405
III. Москва краснозвездная … 410
Они были первыми (Ленинский план монументальной пропаганды) … 419
Горы Воробьевские… Горы Ленинские… (Панорама Москвы) … 415
Дворец пионеров на Ленинских горах … 419
Имени Ломоносова (Новое здание Университета) … 424
Бронзы звон или гранита грань … 428



 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ