Часть третья
Невская столица и Грибоедовская Москва

I
Полнощных стран краса и диво


Есть ли в мире еще город, вдохновивший и наполнивший собою всего за два с половиной века столько гениальных страниц художественной прозы, столько чеканных стихотворных строф, сколько посвящено их невской столице? От первого знакомства в юности с «Медным всадником», «Шинелью» и «Белыми ночами» до запавших в сердце строк ахматовской «Ноченьки» и торжественной, как гимн, надписи на пискаревском граните создавался и рос в наших думах образ города-исполина, города-поэмы.
Он весь — овеществленная идея. И возник он по строгой логике российской истории для того, чтобы самому творить эту историю дальше, быть свидетелем и участником исторического торжества молодой России над ее врагами. Ни одному из этих врагов не удавалось хоть на короткое время покорить этот город, ступить на его улицы. Отсюда, с Сенатской площади, ветер истории разнес по стране пороховой дым декабрьских залпов 1825 года, а еще девяносто два года спустя грянула здесь на весь мир пушка «Авроры».
В годы Великой Отечественной войны Ленинград пережил больше трагического и геройского, чем за все прошлые века, и для каждого, кому выпала честь защищать его, кто вынес блокаду и помнит Ленинград тех дней, самый малый камешек здесь свят и бесценен.
Город так красив, так велик и богат, что нет никакой надежды вместить в одну книжку описание хотя бы главных его сокровищ, а вместе с тем он так логичен и ясен, что даже малоопытные приезжие ориентируются в нем легко и быстро. Коренному же ленинградцу в любом другом городе поначалу не хватает именно ленинградского порядка, строгой и мудрой четкости его как бы проложенных в будущее проспектов — самых первых в России, его каналов, мостов, его силуэтов, прекрасных под солнцем и под луною, в тумане и в дожде.
Поразительнее всего в нем — сочетание двух противоположных, казалось бы, начал: широкий простор для разгула морских ветров, невских вод, северных морозов, и одновременно — строгая, дисциплинирующая сила удивительно гордой архитектуры, рожденной для обуздания природных стихий. Единый градостроительный замысел, по которому шло с самого начала и поныне идет развитие этого города, стал образцом для перепланировки многих, более старых городов России.
И нельзя приписывать этот замысел только основателю невской столицы — Петру или тем великим зодчим XVIII–XIX веков, что создавали здесь лучшие сооружения и планы отдельных городских участков. Замысел Петербурга диктовала этим зодчим-поэтам сама здешняя природа, и зодчие не были глухи к ее голосу! Соавторство с архитекторами делят здесь — береговая полоса Балтийского моря, Невы державное теченье, протоки и острова ее дельты, определившие направление и границы городской застройки.
Создавали северную столицу России не одни северяне, а уроженцы всех российских земель — от Архангельска до Астрахани, от Днепра до сибирских рек. Неласково встречала их древняя новгородская земля, берега Финского залива и хмурого Нево-озера, прозванного Ладожским. Множество человеческих жизней засосали трясины болот, унесли волны наводнений и морских штормов, сразили болезни и лишения. Иногда опасности и страдания казались безмерными и неодолимыми. Требовалась прозорливость огромного, но холодного и жестокого государственного ума, чтобы провидеть сквозь даль времен и глубину человеческого страдания гранитный город, возникающий «из топи блат». Нужна была неуемная работоспособность, беспощадная требовательность, к себе и другим, свойственная инициаторам и руководителям исторически великих начинаний. Именно такой энергией, всегда сопутствующей необыкновенно одаренным людям, обладал Петр Первый, «этот действительно великий человек» по словам Энгельса.
Для охраны здешнего края были построены еще новгородцами старые русские крепости — Корела (теперь Приозерск), Орешек, Иван-город близ нынешней Нарвы. В Ливонскую войну XVI века они отошли к Швеции, потом, на короткое время, снова возвращались России, а после «смутного времени» их пришлось вновь уступить шведской короне — по условиям Столбовского мира (1617). Шведские военачальники сильно укрепили эти твердыни. Молодая Россия оказалась полностью отрезанной от необходимого ей выхода на Балтику. Турки отгородили от России Черное море, и единственным русским морским портом оставался далекий Архангельск, всегда находившийся под угрозой со стороны той же Швеции.
В ходе многолетней Северной войны были сначала очищены от шведских судов Псковское и Чудское озера, а осенью 1702 года, когда русская армия была уже реорганизована и перевооружена, наступило время выполнить давнишний план Петра — «Орешек достать», то есть атаковать сильную шведскую крепость Нотебург (бывший русский укрепленный город Орешек).
В ночь на 11 октября 1702 года войска Шереметева начали штурм крепости, и через тринадцать часов гарнизон ее капитулировал. Участвовала в бою и Ладожская флотилия, созданная Петром. «Зело жесток сей орех был, однако, слава богу, счастливо разгрызен», — писал голландцу Виниусу обрадованный победой Петр. Он переименовал взятую крепость в Шлиссельбург (Ключ-город), «ибо сим ключом отворились ворота в неприятельскую землю».
В апреле следующего, 1703 года русская армия вышла к невскому устью. Запиравшая его правобережная шведская крепость Ниеншанц стояла при впадении в Неву реки Охты. Против крепости, за Охтой, располагался посад из четырех сотен домиков. Перед штурмом этой фортеции к войскам прибыл сам царь под именем «бомбардирского капитана Петра Михайлова». После короткой осады крепость Ниеншанц пала, Петр переименовал ее в Шлотбург (а впоследствии срыл, найдя ее расположение неудачным, незащищенным со стороны суши).
Петр со спутниками разъезжал по невской дельте на лодках, присматривал место для новой крепости и городка. И присмотрел! Поистине будущий парадиз: позади огромное Нево-озеро, впереди ветры Балтики… Вот они, желанные морские врата, те самые, которыми в IX–XI веках варяжские драккары и русские ладьи-однодеревки начинали плавание «из варяг в греки». Молодая Россия вернула себе северный конец этой великой водной дороги.
Море напомнило о себе сразу, на другой же день после взятия крепости Ниеншанц. С Балтики, из-за острова Котлин, подкрались под прикрытием тумана два шведских корабля: четырнадцатипушечная шнява «Астрельда» и десятипушечный бот «Гедан». Остальные суда шведской эскадры остались в море, а корабли-разведчики поднялись вверх по Неве, держась подальше от берегов.
Внезапно из утренней туманной мглы на борт «Астрельды» первым вскочил, размахивая гранатой, высоченный бомбардирский капитан — сам царь! За ним поручик Меншиков и гвардейцы, окружившие вражеские корабли на лодках…
По случаю этой победы была потом высечена медаль: «Небываемое бывает». Царь велел заложить крепость на острове Енни-Саари, по-русски — Заячьем, а второе укрепление выдвинуть глубже в море, на остров Котлин.
И вот 16 мая 1703 года застучали топоры на Заячьем острове: это ронили деревья для крепостных ряжей, закладывали на островке крепость, нареченную Санкт-Питер-Бурх — город святого Петра.
Рядом с крепостью рубили деревянный городок. Крепость потом получила, по своему собору, название Петропавловской, а за городком так и укрепилось наименование Санкт-Петербург.
Первым строителям невской твердыни пришлось нелегко. Двадцать тысяч подкопщиков, русских мужиков в просоленных потом рубахах, копали рвы, били кувалдами сваи, насыпали шесть бастионов, а главное, поднимали подсыпкой грунта самый уровень острова, потому что природа создала его слишком узким и низким: волны заливали его при малейшем подъеме воды в Неве!
Мужики-рекруты, вчерашние пахари, и согнанные на постройку работные люди плели из лозняка корзины и таскали землю, а кому не хватало корзин или тачек, тех заставляли таскать грунт даже в полах военных кафтанов — враг не дремал, корабли шведской эскадры крейсировали почти на виду, около Котлина!
Вечером строители падали с ног от усталости, но успевали приметить, что их рослый предводитель в капитанском мундире Преображенского полка еще не ложился, что-то чертит при свете костра, разложенного для обогрева в майскую ночь, почти бестеменную, но сырую и промозглую. Сидит, попыхивает голландской трубочкой, что-то втолковывает полусонному Александру Меншикову. Потом вскакивает, длинноногий, перешагивает через бунты канатов, поваленные деревья, торопится куда-то, на соседний бастион или на берег протоки, что отделяет островок от большого — Городского или Березового — острова (ныне Петроградская сторона).
Царь оставил Меншикова губернатором Санкт-Питер-Бурха, а сам, во главе своих обновленных полков, двинулся отбирать у шведов старые отечественные грады-крепости в Прибалтике. За короткое время пали Копорье, Ямбург, Дерпт, Нарва, Иван-город… Европа забыла о первых поражениях, понесенных Россией под Нарвой в 1700 году, и с волнением следила за событиями Северной войны (она окончилась победой России в 1721 году).
В 1704–1705 годах войска Карла XII, в свою очередь, ожесточенно атаковали с моря и суши новый городок на Неве. В отражении этих атак участвовала новая крепость Кроншлот (впоследствии Кронштадт) на острове Котлин, гарнизон и артиллерия Петропавловской крепости.
Осенью 1704 года по чертежам Петра начата была постройка третьего укрепления Петербурга, наискосок против Петропавловской крепости. Это была Адмиралтейская корабельная верфь со стапелями, складами, подсобными мастерскими и целой матросской слободой. По замыслу Петра строители окружили Адмиралтейство земляным валом с пятью сильными бастионами, а образовавшийся ров заполнили водой. Получилась большая верфь и вместе с тем сильное левобережное укрепление.
Одновременно достраивали Кроншлот и усилили оборону подступов к Петропавловской крепости со стороны суши. Солдаты-землекопы расширили протоку, отделявшую Заячий остров от остальной части Петроградской стороны, и за протокой, севернее крепости, построили в 1706 году дополнительное укрепление — кронверк, мощное земляное сооружение в форме зубчатой короны, с широкими рвами перед каждым зубом-лучом.
Впоследствии на большой площади, окруженной валами кронверка, были воздвигнуты крупные каменные здания военного назначения. В одном из них ныне находится интереснейший Артиллерийский исторический музей. Расширенная протока стала именоваться Кронверкским проливом.
В том же 1706 году первоначальные земляные бастионы, стоившие подкопщикам таких неимоверных трудов, начали заменять каменными. Бастионам присваивали имена ближайших сподвижников Петра. Сам он, собственными руками, заложил первый камень в основание Меншикова бастиона.
Где бы ни находился Петр — в походах ли, в Москве ли, встретившей его в 1704 году колокольным звоном и наскоро воздвигнутой триумфальной аркой, — везде он думал, тревожился, заботился о своем «парадизе», о судьбе любимого детища — Петербурга. После решающей Полтавской победы (1709) и взятия Выборга в 1710 году Петр окончательно решает перенести столицу на берега Невы.
Осуществилось это в 1712 году: в Петербург переехал царь, переехали придворные сановники, правительственные учреждения. К этому времени в городе было уже немало красивых капитальных зданий, выстроенных из дерева, но имитировавших своей штукатурной отделкой камень. Были и настоящие каменные дома, казармы, амбары. По типовым проектам, разработанным архитектором Доменико Трезини, строились обывательские дома-мазанки, менее подверженные пожарам, чем простые деревянные домики. Но главная масса строений представляла собой еще времянки, лачужки строителей, склады, первые промышленные заведения — Литейный двор, пороховые заводы, Смоляной двор, парусные мастерские, печи для обжига кирпича.
Жилые дома знати возводились преимущественно на Городском острове (Петроградская сторона), в соседстве с Петропавловской крепостью и сохранившимся поныне рубленым домиком Петра, на набережной Невы. Строились дома богачей также на Васильевском острове. Появились улицы и на левом берегу, под защитой укреплений Адмиралтейства. Словом, петровский «парадиз» в 1712 году уже не казался деревней, а смотрел настоящим городом.
В самой восточной части невской дуги, в густом сосновом лесу, вскоре возник пригородный Александро-Невский монастырь, а между Невой, Фонтанкой и Мойкой зазеленели и вытянулись деревья, ударили фонтаны молодого Летнего сада, заложенного по желанию Петра еще в 1704 году, всего годом позднее Петропавловской крепости.
Боевая слава этой крепости вскоре уступила место недоброй славе государственной тюрьмы. Первыми узниками ее оказались мятежные моряки с корабля «Ревель» — их заперли тут и пытали осенью 1717 года. Весной 1718 года в Трубецком раскате казнили сына Петра, царевича Алексея. Потом в стенах крепости томились и погибали политические узники, мыслители, свободолюбцы, революционеры.
Известный экономист начала XVIII века, автор знаменитой книги «О скудости и богатстве», крестьянин по рождению, торговый человек по профессии, публицист-обличитель по призванию, Иван Тихонович Посошков пророчески писал перед своим арестом:
«Все пакости и непостоянство в нас чинится от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотрительного правления и от разбоев: крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды… Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали поползновенны — одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы не споры, сыски неправы, указы недействительны… Наши судьи нимало людей не берегут и тем небрежением все царство в скудость приводят»…
Заключенный в Петропавловскую крепость, Иван Посошков скончался здесь 10 февраля 1726 года.
В 1733 году в крепости построили страшный Алексеевский равелин. Это была настоящая тюрьма в тюрьме — даже внутри крепости равелин был особым миром. Со всех сторон его окружали воды Невы и глубокого рва. Только узенький мостик, строго охраняемый, связывал равелин с самой крепостью.
Здесь в 1790 году находился под следствием Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» к смертной казни (потом казнь заменили ссылкой в Сибирь). 13 июля 1826 года привели из Алексеевского равелина к дощатому помосту, наспех сколоченному на земляном валу кронверка, пятерых декабристов — Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского… Два года спустя, во время прогулки, Пушкин и Вяземский набрели на остатки помоста и в память о повешенных друзьях отломили себе пять щепочек со следами плотницких топоров.
В XIX веке Алексеевский равелин видел в своих стенах Достоевского, Писарева, Чернышевского… Здесь был написан роман «Что делать?». Отсюда совершил свой побег П. Кропоткин (в истории равелина побег этот остался единственным).
Равелин в конце XIX века был снесен, но в это же время в Трубецком бастионе воздвигли новую тюрьму. Брат Владимира Ильича Ленина Александр Ульянов отправлен был из здешней тюремной камеры на казнь в Шлиссельбург (1887). В конце века в камеры Трубецкого бастиона были брошены революционеры-большевики Бауман и Ленгник, Ольминский и Лепешинский, а в начале XX века здесь находился в заключении Горький.
Ровно два столетия Петропавловская крепость служила тюрьмой, пока не ворвался в нее с площадей Петрограда буйный ветер революции. И вновь, как в первые годы своего существования, крепость обрела былую боевую славу: ее арсенал снабжал оружием отряды Красной гвардии, а вечером 25 октября 1917 года именно с форта «Петропавловки» блеснул сигнальный огонь… Потом, в течение очень короткого времени, погостили в стенах крепости ее прежние хозяева — министры Временного правительства. С 1922 года старая крепость стала государственным музеем.
Когда идешь пешком к Петропавловской крепости, то с Кировского моста через Неву открывается такой вид на Дворцовую набережную, на стрелку Васильевского острова и на величавую крепость, что можно от души позавидовать тому, кто видит все это впервые, останавливается, потрясенный, и даже как будто не слишком склонен верить глазам: дескать, неужто и в самом деле все это существует не только на прекрасных гравюрах, а в действительности, и можно запросто приехать сюда и опять увидеть эту воду, эти здания!..
Немного найдется в мире городских панорам, которые могли бы соперничать с этой. Поразительнее всего здесь полнейшая гармония, слияние в одном сплаве очень разных составных частей. Чтобы понять тайну этого единства, надо отдать себе отчет в главном: вся эта петербургская классика, барокко и даже элементы готики — результат осмысленного выбора и творческого освоения всего лучшего в мире, что приходилось кстати великому градостроительному замыслу. Отбор этот в конечном итоге определялся национальным духом и национальным вкусом России. Прогрессивность градостроительного замысла, глубокое соответствие русской природе, гуманистические и патриотические идеи гениальных зодчих — Баженова, Сатарова, Кокоринова, Кваренги, Воронихина, Захарова, Тома де Томона, Росси, Стасова, государственное значение и размах архитектурных задач — все это определило успех строительства и создало здесь то самое единство, которое мы обобщенно зовем русским или даже петербургским классицизмом XVIII–XIX веков. Достижения этих зодчих-классиков, сыгравших, кстати сказать, заметную и своеобразную роль в искусстве европейском и мировом, преимущественно и определяют собой наиболее характерные черты невской панорамы, что развернулась сейчас на обоих берегах перед нашим взором.
За Кировским мостом начинается Кировский (бывший Каменноостровский) проспект и в самом его начале находится площадь Революции. Она как бы перекликается с просторами Марсового поля и зеленью Летнего сада на том, оставленном нами, берегу. От площади Революции отходит влево низкий Иоанновский мост с чугунной решеткой. Под каменными арками этого моста плещется вода Кронверкского пролива, который омывает с северной стороны Заячий остров с крепостью. Форма острова в плане напоминает пирожок, вытянутый в длину с востока на запад. С юга — Нева, с севера — пролив. Самый западный угол острова некогда отделялся небольшой протокой, отрезавшей маленький участок суши, со всех сторон окруженный водой пролива и протоки (вот там-то и находился Алексеевский равелин).
Другой равелин Петропавловской крепости, Иоанновский, построенный вместе с Алексеевским, но дошедший до наших дней, занимает восточный угол Заячьего острова. Туда, под каменную въездную арку, и ведет от проспекта внушительный Иоанновский мост. Никаких надписей на арке Иоанновского равелина нет, однако чувствуешь, что входившие сюда некогда люди мысленно читали на ней дантовские слова: «Оставь надежду!»
Надо помнить, что пушки Петропавловской крепости сыграли немалую роль в обороне города на заре его истории. И отголоском прежних боевых традиций служит ежедневный пушечный выстрел из крепости, тот самый, что приучил ленинградцев к поговорке, непонятной жителям других городов: «Точно, как из пушки!»
На куртине Нарышкина бастиона стоит эта крупнокалиберная гаубица времен минувшей войны. За десять минут до полудня к ней подходит артиллерист со своим вторым номером, проверяет канал ствола, заряжает орудие. Затем ствол медленно поднимается в небо. По точному сигналу комендор дергает шнур, тугой звук прокатывается над Невой, эхом отдается в Нарвском районе и на Выборгской стороне.
Но Петропавловская крепость — музей не только военно-исторический, но и художественный, притом в первую очередь именно архитектурный.
Самый ранний архитектурный памятник здесь вместе с тем и старейший образец капитального каменного строительства в Ленинграде. Это вход в крепость с территории Иоанновского равелина, оформленный в виде красивых ворот, в стиле раннего петербургского барокко. В этих воротах нет ничего мрачного. Вот по ним-то сразу и чувствуешь, что возводилась здесь отнюдь не тюрьма! Ворота названы Петровскими — об этом некогда гласила и надпись на фронтоне. Сам Петр их видел и под ними проходил — каменные построены в 1717–1718 годах, на месте еще более старых, деревянных.
Строитель ворот итальянец Доменико Трезини был знающим инженером и архитектором. В Петербург он прибыл еще в год закладки города и до самой смерти (в 1734 году) строил здесь крепостные сооружения, дворцы, храмы, частные дома, разрабатывал типовые проекты «обывательских строений», участвовал в постройке Александро-Невской лавры. По его проекту воздвигнуто на Васильевском острове здание Двенадцати коллегий, ныне занятое Ленинградским университетом. Трезини пользовался доверием и выполнял непосредственные поручения Петра, вникавшего во все подробности строительных работ в Петербурге. Сооружение Петровских ворот в крепости — своеобразный памятник и Петру, основателю города, и самому зодчему, первому строителю-архитектору невской столицы.
Фасадная, украшенная пилястрами стена нижнего яруса ворот облицована рустованными каменными блоками и прорезана полукружием центральной арки, с которой красиво сочетаются две глубокие ниши для скульптурных фигур. В левой нише установлена статуя богини войны Беллоны, в правой — богини мудрости Минервы, покровительницы ремесла, науки и искусства. Над аркой — огромный свинцовый герб, двуглавый орел (весом более тонны!)
Переход от нижнего яруса к верхнему и к завершающему композицию ворот фронтону с фризом удачно создают боковые завитки-волюты очень хорошего рисунка. Единство обоих ярусов подчеркнуто тем, что пилястры второго яруса тоже имеют рустованную поверхность. Плоскости стен второго яруса покрыты барельефами. Центральный барельеф над аркой, выполненный скульптором К. Оснером в дереве, изображает «чудесную» сцену из жития апостола Петра.
По церковному преданию, некоему Симону-волхву, доказывавшему, что языческие боги сильнее христианских, удалось посредством волшебства подняться в небо. В спор с ним горячо вступил апостол Петр, и бог, вняв молитве апостольской, низринул Симона-волхва с облаков назад, на землю, для вящего посрамления язычества. Специалисты считают, что эта сцена на барельефе символизирует победу царя Петра над шведским королем Карлом XII.
Несомненно, что Петровские ворота представляют собой интересный образец соединения мастерства архитектора с искусством скульптора.
Главной художественной и исторической достопримечательностью Петропавловской крепости является, конечно, монументальный собор. Автор его тот же Доменико Трезини, «полковник от фортикации», как титуловали его при императрице Елизавете Петровне, очень его ценившей.
Трезини заслуживал бы славы и почета, создай он одну лишь соборную колокольню в Петропавловской крепости. Увенчанный фигурой крылатого ангела с крестом, острый шпиль этой колокольни служит, по выражению архитекторов, главной доминантой города.
Колокольня была воздвигнута раньше собора, и потому в 1720 году Петр мог уже любоваться с ее верхнего яруса панорамой Петербурга. Еще через год золотой шпиль с ангелом взлетел над городом. Окончательно отделана была колокольня в 1725 году.
Но многие москвичи удивятся, узнав, что замысел этого шпиля родился не в Петербурге, а в Москве, где одна прекрасная колокольня — у Чистых прудов, в нынешнем Телеграфном переулке, — была некогда украшена такой же стройной иглой-шпилем. Здание это, известное под названием Меншиковой башни, сохранилось до наших дней и представляет собой одно из лучших в Москве сооружений Петровской эпохи. Архитектура Меншиковой башни и ее первоначального шпиля (сожженного молнией в 1723 году) и оказала влияние на архитектуру соборной колокольни в Петропавловской крепости.
Судьбу московского шпиля вскоре разделил и петербургский: его тоже расщепила и подожгла молния. Пожар перекинулся на здание собора… Это случилось в ночь на 30 апреля 1756 года, и потребовалось потом очень много труда, чтобы восстановить деревянные конструкции шпиля и собора.
Известен в истории анекдотический случай, когда комендант-смотритель Петропавловской крепости доложил императору Павлу, что шпиль колокольни покосился и грозит падением. Обследовать шпиль Павел поручил знаменитому механику Кулибину. Старик смело взобрался по деревянным внутренним стропилам к верхнему оконцу в шпиле, проверил прямизну по отвесу, а затем обследовал окно, из которого комендант смотрел на «покосившийся» шпиль. Оказалось, что покосился не шпиль, а… оконная рама!
В 1830 году ветхая обшивка шпиля и давшая крен фигура ангела были отремонтированы без лесов мастером-кровельщиком Петром Телушкиным. Изготовив веревочную снасть, смельчак долез до фигуры ангела, перебрался через шаровидное подножие фигуры и проложил себе канатную дорожку, которой пользовался затем в продолжение всех ремонтных работ на этой страшной высоте.
Однако деревянные конструкции Петропавловской иглы к середине прошлого столетия обветшали. Надо было заменить их. Архитектор К. А. Тон предложил надстроить колокольню, завершив ее обычной луковичной главой. Все своеобразие «петербургской доминанты» исчезло бы — лучшая городская вертикаль была бы безнадежно испорчена. К счастью для искусства, замечательный петербургский инженер Д. И. Журавский выдвинул другой проект: заменить деревянные конструкции металлическими.
Проект приняли. Шпиль не только был сохранен, но и чуть удлинен, в соответствии с пропорциями колокольни. Высота шпиля на металлическом каркасе — 56 метров, а вместе с колокольней шпиль и парящий над ним ангел превышают 122 метра. Нынешний ангел — третий по счету — сделан по рисунку Ринальди. Фигура ангела, укрепленная на вращающейся оси, может указывать направление ветра.
Сам собор, внутри разделенный на три корабля-нефа (наподобие латинской базилики), менее выразителен, чем колокольня, но с тех пор, как здание превратили в музей, оно очень выиграло. Исчезли светильники, канделябры, бесчисленные венки и украшения, загромождавшие прежде помещение. Теперь оно стало светлым, просторным.
Два продольных боковых нефа заняты царскими надгробиями. Петр умер еще до окончания постройки, прах его был позднее перенесен сюда, к алтарной стене собора. Поблизости, под беломраморными саркофагами погребены Елизавета, Екатерина II, Павел, Александр I, Николай I.
На соборном иконостасе вся живопись расчищена — теперь ей больше не угрожают коптящие лампады и свечи. Главным живописцем был здесь большой мастер Андрей Меркурьев.
…В ансамбль Петропавловской крепости входят и другие памятники русской архитектуры XVIII–XIX веков. Среди них так называемый Ботный домик Петра, где некогда сохранялся доставленный сюда из Москвы «дедушка русского флота» — маленький ботик, ныне сберегаемый в военно-морском музее на Стрелке Васильевского острова.
К архитектурным памятникам крепости относятся Инженерный дом, Комендантский дом, Комендантская пристань с Невскими воротами и Монетный двор, основанный еще при Петре I. В наше время здесь был изготовлен вымпел, доставленный на Луну советским космическим кораблем.
И наконец, Трубецкой бастион — самое мрачное и очень запоминающееся место в этом большом и сложном заповеднике. И хотя водят вас по камерам, коридорам, карцерам и страшным лестничным переходам приветливые ленинградские экскурсоводы, вы чувствуете всю тяжесть этих стен, холод металла, давящий полумрак помещений.
Все это принадлежит прошлому, но мы не вправе забывать о тех, кто бестрепетно прошел здесь испытание камнем, холодом, железом, одиночеством. Люди эти огнем сердец своих победили мрак и холод, они здесь творили, мыслили, боролись, и тюремщики боялись своих узников неизмеримо больше, чем узники тюремщиков.

По ночам, когда для пропуска судов разводят мосты на Неве, конный памятник Петру, знаменитый Медный всадник, освещается лучами прожекторов. Если вы пойдете ночью к этому монументу, не забудьте посмотреть на разводку Дворцового моста! Даже ленинградцам не часто случается видеть, как мосты разводят — горожане спят в эти часы…
Однажды мы, группа литераторов — гостей Ленинграда, поздней ночью пришли к Неве, чтобы перебраться на Васильевский остров. Пронзительный свисток милиционера заставил нас опомниться почти посреди моста, когда, можно сказать, прямо из-под ног наших начал вздыбливаться средний пролет. Огромный, со всеми своими троллейбусными мачтами и проводами, с трамвайными рельсами, перилами и мостовыми, он пошел вверх, как в сказке, и стал стеной. Милиционер потребовал было у нас паспорта, чтобы оштрафовать нарушителей порядка, но, узнав, что мы приезжие, смягчился.
Потом, на реке, в разведенном пролете, долго мерцали, сменяя друг друга, зеленые и красные бортовые сигнальные огни кораблей, а их белые топовые фонарики на мачтах проплывали вровень с нами, пока мы стояли на мосту. Попасть на тот берег мы уже не могли, и просидели до утра у Медного всадника. В сильном беспощадно резком световом луче видна была каждая жилка на бронзовых мускулистых ногах коня, заметен был даже слабый налет прозелени на развевающихся одеждах всадника.
…Парижского ваятеля звали Этьен Морис Фальконе. Он был уже знаменит, принят в лучших салонах французской столицы, слыл острословом и фрондером, дружил с Дидро. Его «Купальщицу» и «Пигмалиона» купили раньше, чем резец мастера в последний раз прикоснулся к их мраморным телам. Можно исписать целые фолианты, рассуждая о скульптурном искусстве, о стилях, о мастерстве, но все слова слабее одного простейшего наблюдения: посмотрите на кусок дикого камня в мастерской ваятеля, а потом — на рожденное из этого камня человеческое тело, живое, вечно прекрасное. Вот тогда легко понять, почему древние сравнивали ваятелей с богами. Таким замечательным даром владел и Фальконе.
Успех «Купальщицы» был таков, что ваятелю предложили место главного скульптора на знаменитом Севрском фарфоровом заводе. Почти двадцать лет Фальконе создавал в глине и гипсе героев античной мифологии, рисовал декоративные узоры, лепил амуров, нимф, цветы. Фигуры, рожденные фантазией мастера, превращались в фарфоровые статуэтки. Они были аллегоричны, изящны и легки, но отличались от остальных изделий этого жанра какой-то беспокойной скрытой силой, почти тревожной. Окруженный фарфоровыми безделушками, мастер мечтал об искусстве большом и монументальном, он чувствовал, что такое искусство посильно ему. Он владел пером, и на журнальных страницах утверждал право искусства на высокие чувства, благородные страсти. Он мечтал об искусстве, способном облагораживать людей.
Мастеру было уже около пятидесяти лет, когда он узнал о том, что в далекой северной столице, на берегу самой полноводной в Европе реки, должен возникнуть некий величественный памятник в честь основателя города и реформатора страны.
Идея создания памятника Петру на Сенатской площади возникла в России давно, еще при жизни самого императора. В 1720 году замечательный скульптор-итальянец Карло Растрелли (старший) начал работать над конной статуей Петру. Выдержанная в духе барокко, она представляла Петра властным императором, восседающим на спокойном и важном коне. Символом величия и славы служил лавровый венок, венчавший голову Петра. Статуя Растрелли, отлитая в 1747 году, опоздала: барочный памятник уже не отвечал вкусам пятидесятых-шестидесятых годов, тяготевшим к раннему классицизму — большей выразительности и ясности линий, идейной глубине, более сложной символике.
При Екатерине II Сенат, приняв во внимание «высочайшее» мнение, вынес указ о новом памятнике Петру, подчеркивая, что монумент Растрелли «не сделан искусством таким, каковым должно представить столь великого монарха и служить к украшению столичного города Санкт-Петербурга» (впоследствии эту статую установили перед зданием Михайловского замка — резиденции Павла).
Указ о будущем памятнике Петру был вынесен, требовалось найти исполнителя. И вот философ Дидро пишет императрице, что исполнитель найден: им может быть только скульптор Фальконе!
Это была не первая кандидатура — русские послы в западных столицах уже вели переговоры с некоторыми скульпторами. Услыхав о рекомендации Дидро, русский посол в Париже князь Голицын согласился с философом, хотя кое-кто из художников, ближе знавших Фальконе, предостерегал посла: дескать, Фальконе — это не тот человек, что пригоден для придворной жизни и общения с императрицей. Да и сам Дидро не расточал в письмах к Екатерине одни похвалы скульптору. Вот как характеризовал он ваятеля императрице:
«В нем бездна тонкого вкуса, ума, деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Добрый отец, а сын от него сбежал… Любил до безумия любовницу и свел ее своим нравом в могилу. Корысти не знает…»
Да, этот человек не знал корысти! Во время переговоров о сроках и плате за работу Фальконе запросил вдвое меньше, чем другие его коллеги, так что Голицын даже посоветовал скульптору «накинуть» сто тысяч. Скульптор отверг это предложение наотрез.
И вот кибитка, дорога, Россия. Стареющий мастер ехал в чужую страну не один. Все тяготы и все радости дальнего пути делила с ним его талантливая и прелестная ученица, семнадцатилетняя девушка-скульптор Мари Анна Колло. Она очень смутно представляла себе город, куда они ехали, но мечтала помочь любимому метру в его важной и трудной задаче, хотя личность императора Петра была для нее уже только историей.
А сам метр хорошо помнил, как в дни его отрочества Европа взволновалась вестью о смерти северного повелителя-исполина, как из уст в уста ходили рассказы о подробностях. Петр простудился, работая по пояс в ледяной воде: в дни зимнего наводнения он спасал людей с засевшего на мели судна.
Императрица встретила ваятеля ласково, даже удостоила дружеской переписки, восхищаясь тонкостью его ума и силой творческого энтузиазма.
Но Фальконе скоро утомил царицу своей требовательностью и той серьезностью, с какой он относился к своей задаче. И тогда императрица переложила заботу о ваятеле на плечи царедворца И. И. Бецкого, сиятельного президента Российской академии художеств.
Это был человек своеобразный и отнюдь не злой, известный широкой благотворительностью и имеющий немалые заслуги перед русской культурой. Однако Иван Бецкой сам проектировал памятник Петру и ревниво относился к более счастливым соперникам.
Чудаковатый проект Бецкого был изложен на французском языке в обстоятельной и велеречивой записке. Бецкой представлял себе памятник с длиннейшей надписью на пьедестале, напоминающем комод. Конную фигуру он хотел окружить пышными медальонами и атрибутами славы. А сам царь, по замыслу Бецкого, должен был одним глазом охватывать Адмиралтейскую верфь, дворец, Петропавловскую крепость, другое же царское око устремлялось на фасады Академии наук и Академии художеств, и далее — на Финляндию и даже Эстляндию.
Фальконе смешила и сердила эта безвкусица. Но упрямый вельможа-чудак, всерьез вообразивший себя соавтором проекта, испортил скульптору немало крови. Когда же ваятель представил двору небольшую модель и рисунки будущего памятника, пошли слушки, темные пересуды.
В самом деле, нечего сказать: полураздетый, босой царь на взбесившемся жеребце, накрытом звериной шкурой вместо седла!.. Но хотя Екатерина знала об этих пересудах, она поняла, что перед ней нечто действительно новое и необычайно талантливое — и «крамольный» проект монумента был августейше утвержден. Началась трудная пора воплощения замысла.
У Фальконе был большой опыт в скульптурном изображении людей, но лепить лошадей ему не случалось. А ведь задуманный им конь был необычен, как огненный скакун бога Аполлона, как непокорный Пегас, взнесенный над бездной. И скульптор принялся с терпением подлинного художника изучать натуру.
В конюшне графов Орловых он наблюдал чудесных арабских жеребцов. Каждый день перед глазами скульптора взлетал на искусственное деревянное возвышение лучший наездник царской конюшни. И даже сам герой конных атак турецкой войны, генерал Мелиссино, симпатизировавший ваятелю, проделывал для него в манеже взлеты на крутизну.
Ваятель ловил эти движения, следил за каждым мускулом упругих конских ног, за изгибом шеи, движением всадника, взмахом руки… Говорили, что в лице и фигуре генерала Мелиссино было что-то общее с Петром. И скульптор без конца рисовал, мял глину, уточняя, выискивая, совершенствуя образ, отбрасывая десятки, сотни вариантов.
За этой работой шли годы. Целых двенадцать лет потребовалось, чтобы подготовить и отлить в гипсе модель памятника уже в натуральную величину: она была закончена лишь в 1778 году.
Долго не давалась скульптору голова Петра. В выражении лица нужно было сочетать волю, ум, суровость, властность, устремленность в будущее, непреклонность и порыв.
Скульптор порой отчаивался, но за эти трудные годы исканий его помощница и друг Мари Анна Колло и сама стала законченным художником. Она работала рука об руку с Фальконе и оставила нам, в частности, чудесный бюст ваятеля, выставленный в Государственном Эрмитаже и дающий ясное представление о живом, темпераментном лице мастера.
Несмотря на кратковременный и несчастный брак с сыном Фальконе, Пьером, она осталась преданным другом скульптора до его смерти.
Именно этой молодой женщине удалось найти верный образ Петра, она вылепила его голову. Змею, попираемую ногой коня, изваял для монумента русский скульптор Ф. Г. Гордеев.
Но какой пьедестал мог нести такую скульптуру?
Еще в первые годы после приезда в Россию Фальконе потребовал для памятника скальный камень необыкновенных размеров. Условия, которым должен отвечать камень-постамент, были широко оглашены.
И вот из деревни Лахты явился крестьянин, сообщивший, что лежит верстах в десяти-двенадцати от окраины Петербурга громадная скала. Мужики называют этот камень «гром»: расселина в нем есть от грозового удара. И будто сам царь Петр не раз забирался на лахтинский камень, обозревая окрестности, и даже след ботфорта оставил на мшистой поверхности скалы.
Когда скульптор потребовал, чтобы камень-«гром» был доставлен на Сенатскую площадь, Бецкой сперва было запротестовал, но, сообразив, что доставка в город такой махины прославит его самого, приказал начать работы.
Прорубили в лесу широкую просеку, подвели под монолит помост-платформу. Литейный и кузнечный мастер Емельян Хайлов отлил из меди желоба и шары — самые первые в мире шарикоподшипники! Опутанный канатами камень весом 1600 тонн медленно двигали на шарах-катках. Чтобы не терять времени, четыре десятка каменщиков работали на движущемся камне, сбивая ненужные выступы и создавая форму волны.
До залива пришлось двигаться таким образом девять верст. Потом скалу погрузили на устойчивый плот с бортами, и два корабля отбуксировали его морем и Невою до места выгрузки.
Выгрузили камень в присутствии всего царского двора и даже прусского гостя — принца Генриха. Была высечена медаль, посвященная перевозке камня. Надпись гласит: «Дерзновению подобно, генваря 20-го, 1770».
Отношения с Бецким окончательно испортились, когда скульптор приказал фута на два отсечь верхнюю часть скалы, чтобы соразмерить постамент с фигурой. Взбешенному царедворцу Фальконе презрительно бросил: «Не изваяние для ради постамента, а наоборот!»
В стране происходили крупные события. В Петербурге часто теперь произносили имя Пугачева. Работные люди, с которыми приходилось сталкиваться скульптору, делались все угрюмее и молчаливее. Фальконе видел, как при известии о казни Пугачева иные горожане снимали шапки и тихонько крестились… Двору было не до ваятеля! Когда же он окончил фигуру в гипсе и открыл посторонним доступ в свою мастерскую, богатые петербургские купцы и чиновный люд возмутились тем, что увидели: «Усищи ужасно к лицу прилеплены и одежда русская, противу коей царь боролся!» Императрица отказалась посетить мастерскую скульптора и запретила сыну — цесаревичу Павлу — смотреть монумент.
За отливку статуи никто в России браться не хотел, иностранцы требовали несусветной суммы. Надо было приниматься за дело самому скульптору. Вместе с литейщиком, пушечных дел мастером Емельяном Хайловым он подбирал сплав, делал пробы — ваятелю пришлось впервые учиться искусству литья.
Наконец нашли состав и начали отливку. Внезапно, в самый решительный миг, глиняная форма треснула, расплавленный металл хлынул в мастерскую, вспыхнул пожар. Рабочие бросились врассыпную. Спас положение Емельян Хайлов. Он ринулся к пролому, сам обжегся, но предотвратил катастрофу. Все же статую пришлось отливать заново.
Однако и повторная отливка имела незначительные изъяны, и недоверчивый Бецкой потребовал новой переливки. Лишь ценою напряжения всех своих сил ваятелю удалось отменить это распоряжение, после чего изъяны были исправлены чеканкой, с самыми незначительными затратами.
Тем временем по городу распространились слухи, что Фальконе вообще-то имеет лишь техническое касательство к памятнику, а идея принадлежит Бецкому. Скульптор не выдержал травли, сплетен, козней. Оскорбленный и разгневанный, так и не дождавшись установки памятника на постамент, он вместе с Мари Колло уехал на родину. Силы его были подорваны, через несколько лет его не стало. Мари намного пережила своего учителя: застала приход в Париж русских казаков, дожила почти до кончины Наполеона.
А в России, через четыре года после отъезда Этьена Фальконе, происходило великое торжество на Сенатской площади Петербурга, и среди многотысячной толпы стоял молодой красивый человек с удивительным взором, будто способным проникать сквозь камень. Это был Александр Радищев — в то время начальник Петербургской таможни, будущий автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Он и оставил в письме к своему другу лучшее описание торжества открытия памятника Петру.
Он видел, как строились полки, как вышла из царской шлюпки и проследовала к зданию Сената Екатерина, как вслед за тем, в порфире и короне, она появилась на балконе Сената. В тот же миг упали полотняные щиты, заслонявшие памятник, и открылся всем взорам Медный всадник на гранитной скале! А сам ваятель, уже больной и старый, узнал об открытии петербургского монумента лишь из журнальных сообщений.
Мы же, гости и жители Ленинграда, люди, воспитанные социалистической страной, не забываем о создателях той красоты, что досталась нам и от прошлых веков. В нашей благодарной памяти всегда будет жить имя творца Медного всадника — статуи, вдохновившей великого поэта России на создание «Медного всадника» — поэмы!

Воздействие на нас великого произведения архитектуры во многом зависит не от авторского замысла, даже не от претворения его в жизнь, а от того, в каком виде и окружении памятник дошел до нас: не искажен ли он безвкусными переделками или неудачным соседством, не нарушено ли то единство, о котором заботился автор.
В Ленинграде мы уже не раз, например, на пути к Петропавловской крепости, поражались тому, как зодчим XVIII–XIX веков удавалось создавать стилистическое единство из разнородных, даже противоречивых элементов. Одним из высоких образцов такого единства является главный архитектурный ансамбль города — его Дворцовая площадь.
Слагался этот ансамбль веками, в него вложен талант очень разных мастеров архитектуры, но для нас он неразделим. Это одна из художественных святынь России. Дворцовая площадь Ленинграда, как и Красная площадь Москвы, кажется нам такой цельной, будто она так вот сразу и возникла, созданная колдовским искусством какого-нибудь джинна из арабских сказок — того, что предлагал властелину во мгновение ока воздвигнуть чудо-город.
Дворцовую площадь мы знаем такой же, какой знали ее наши отцы и будут знать внуки. Есть у нее удивительное свойство: во все времена она созвучна любому душевному настрою тех, кто к ней приходит. Попробуйте, испытайте сами! Ведь на эту площадь можно, скажем, прийти ночью, одному… и поймешь, что это отличный способ избавиться от докуки мелких огорчений. А можно на эту площадь «влиться каплей с массами», прийти сюда, например, с колоннами первомайских демонстрантов, и обрести иное, ни с чем не сравнимое ощущение — причастности к великому и прекрасному общему…
Одним из творцов этой величавой площади, автором Зимнего дворца, был русский зодчий, итальянец родом, Варфоломей Растрелли.
В Россию он приехал вместе с отцом — скульптором Карлом Растрелли — в 1716 году, еще юношей и по дороге, в Кенигсберге, увидел Петра. «Северный властелин», о ком так много говорили в Европе, как раз ехал за границу и пожелал побеседовать с приглашенным в Россию скульптором-итальянцем.
Беседа эта произвела на юношу огромное впечатление. Вскоре он тоже вступил «в царскую службу» в качестве ученика и помощника отца. Этот-то юноша помощник и стал одним из величайших зодчих молодой России.
Уже Растрелли-старший довольно быстро обрусел и перестал нуждаться в услугах переводчика. А Растрелли-сын, проведя всего несколько лет за пределами России для пополнения архитектурного образования, уже более не покидал нашей страны до самой своей смерти. Мастера-каменщики звали его Варфоломеичем, а фамилию переделали в «Расстреляев».
Творчество Растрелли всецело принадлежит России. Он зорко присматривался к самобытной архитектуре древней Руси, изучал ее так же пристально, как это делал в свое время его земляк и предшественник, зодчий Аристотель Фиоравенти. Это и позволяет исследователям творчества Растрелли говорить, что в нем отразилась Русь со всем ее прошлым, с наследием веков и с новыми, современными Растрелли настроениями, пришедшими с Запада.
До Варфоломея Растрелли у нас в стране не было архитектора, которого знала бы вся Россия. Зданиями Растрелли народ гордился, они становились лучшим украшением городов и великолепных загородных имений. Растрелли — один из создателей и самый яркий представитель того архитектурного стиля, который вошел в мировую историю искусств под названием петербургского барокко.
Архитектурный стиль барокко раньше всего появился в Италии XVI века, сменив искусство Ренессанса (Возрождения), в свою очередь пришедшее на смену готике, романскому, византийскому стилям средневековья. Само слово «барокко» значит: странный, причудливый. Это искусство прославляло абсолютизм в пору его расцвета, воспевало величие трона и церковных престолов, но вместе с тем выражало и новые представления о человеке, о бесконечном разнообразии мира, его вечной изменчивости, динамике, неустойчивости.
Постройки стиля барокко поражают грандиозностью, необыкновенной пышностью, обилием украшений, тревожной игрой светотени. Прямые, спокойные линии, свойственные постройкам эпохи Возрождения, сменяются линиями кривыми, беспокойными. Создается впечатление непрерывного, нервного движения архитектурных форм и линий.
Меняется самый план зданий! Где зодчий Возрождения избрал бы уравновешенный круг, там мастер барокко берет капризный овал. Где прежде разбивали строгий квадрат, там — для барочного здания — квадрат удлиняется в прямоугольник. Зодчий и скульптор работают теперь на постройке рука об руку с живописцем. И это сотрудничество подчас ставит себе целью достижение почти театрального эффекта, особенно в обработке интерьеров: стены будто раздвигаются, потолок либо становится зрительно выше, либо даже вообще как бы «исчезает» — плафон имитирует небо в облаках, бесконечно отдаленное от зрителя.
От обилия украшений — масок, картушей, завитков, скульптурного орнамента — подчас просто рябит в глазах. В храмах, как и в больших дворцах, зодчие барокко стараются слить несколько внутренних помещений в одно огромное целое, залитое светом из высоких окон.
Вечерами в дворцовых залах тысячи свечей, вставленных в замысловатые канделябры, озаряли живописные плафоны и лепнину потолков, играли на лакированной мебели, на гнутых поверхностях карнизов, парных пилястр и бронзовых подставок, на раскрашенных скульптурных группах. Особенной затейливостью отличалось капризное барокко Франции накануне революции.
В Россию отзвуки барокко проникли в начале XVII века и слились здесь с тем «узорочьем», которое стало излюбленной декоративной манерой русских мастеров XVII столетия. В русском, так называемом нарышкинском барокко очень мало «пришлого» — лишь отдельные архитектурные элементы западного склада пришлись по вкусу русским зодчим. В основе же русских построек XVII века лежат глубоко национальные традиции передового зодчества XVI века, воплощенные в храме Василия Блаженного, Дьяковской церкви, от которых нетрудно, как мы уже видели, проследить путь к церкви Покрова в Филях, к Бухвостову…
Следующая же стадия русского барокко теснее связана с общеевропейским течением. Элементы западного барокко вводили в русскую архитектуру либо зодчие, прибывшие из-за границы (Леблон, Трезини), либо те, кто ездил туда учиться (молодой Растрелли, архитекторы Земцов, Еропкин). Своего расцвета стиль барокко достиг в России при Елизавете и в начале царствования Екатерины. Лучшими произведениями растреллиевского барокко можно считать такие сооружения, как Андреевская церковь в Киеве (мы стояли рядом с ней, когда рассматривали фундаменты древнейшей Десятинной церкви на Старокиевской горе, но в ту минуту не хотелось отвлекаться даже на творение Растрелли), как великолепный строгановский дворец на Невском или воронцовский дворец на Садовой, близ Гостиного двора.
Есть, кстати, в Ленинграде и площадь, носящая имя великого архитектора: «площадью зодчего Растрелли» называется теперь бывшая Екатерининская площадь перед Смольным собором. Этот великолепный пятиглавый, необычайно смело решенный в барочных формах собор был заказан мастеру самой императрицей Елизаветой: перед смертью она собиралась стать монахиней Смольного монастыря и «замаливать грехи» в соборе.
Здание Смольного собора — один из шедевров петербургского барокко. Уже после смерти Растрелли другой большой архитектор, представитель раннего классицизма, Кваренги, проходя мимо растреллиевского Смольного собора, никогда не забывал снять шляпу, отвесить низкий поклон и воскликнуть с восхищением: «Экко уна чиеза!» («Вот это церковь!»).
Но главное творение Растрелли — Зимний дворец на площади у Невы.
Здесь, на этой площади, все исполнено красоты и того торжественного спокойствия, что присуще наиболее совершенным созданиям монументального искусства. Над Дворцовым мостом, ведущим к площади со стрелки Васильевского острова, да и над самой площадью всегда веет солоновато-свежим морским ветром, и чувствуешь, что даже небо с его облаками или звездами включено в ансамбль этой площади, созданной не только фасадами домов: в это единство входит и камень, и бронза, и воздух, и свет, и тени, и простор небесный, потому что посреди площади возносится в вышину гранитный монолит колонны, увенчанной крылатым ангелом. За колонной — украшенный статуями фасад Зимнего дворца.
Поколения архитекторов учились у этого здания искусству композиции, да и сейчас студенты «разучивают» его, как музыкант — оперную партитуру.
Если мы представим себе размеры соседствовавших с ним некогда сооружений, станет ясно, каким колоссом выглядел два века назад этот дворец, протяженностью почти в четверть версты (в нынешних мерах — 210 метров). Легко ли было зодчему избежать монотонности, скуки, ритмического однообразия в таком длинном строении? Присмотритесь, какими средствами Растрелли избежал всего этого, оживил фасады, придал дворцу ликующий, торжественный и нарядный вид.
Прежде всего обратите внимание на все углы и выступы здания, обработанные с таким искусством, что богатейшая игра светотени бесконечно разнообразит дворцовые фасады. Они расчленены по вертикали на два яруса, каждый из которых декорирован колоннами. Первый ярус соответствует первому этажу, второй объединяет два верхних этажа — парадный второй и жилой третий.
Заметьте, как решен фронтон над тремя въездными арками со стороны площади, как четок ритм колонн, какую торжественность придают фасадам скульптурные маски, наличники, декоративные вазы, статуи. Красоту архитектурных форм подчеркивает и раскраска: на зеленых фасадах празднично выделены белые столбы колонн, рисуется весь барочный орнамент.
Архитектура Зимнего дворца — настоящий гимн, а вместе с тем и эпилог целой главы в истории русского искусства — растреллиевского барокко. Это последнее по времени и одно из самых совершенных произведений этого причудливого стиля.
В год смерти Пушкина (1837) большой пожар, вспыхнувший во дворце, принес огромные разрушения. Погибла вся внутренняя отделка. Черный, обгорелый фасад даже отдаленно не напоминал о былом великолепии. Император Николай потребовал немедленной и полной реставрации дворца, что и было выполнено под руководством В. П. Стасова и А. П. Брюллова. В течение одного года здание возродилось из пепла, причем работы велись в нечеловеческих условиях.
Вот как современник описывает труд реставраторов Зимнего дворца:
«Чтобы работа была кончена к сроку, назначенному императором, понадобились неслыханные усилия… Во время холодов от 25 до 30 градусов шесть тысяч неизвестных мучеников, мучеников без заслуги, мучеников невольного послушания, были заключены в залах, натопленных до 30 градусов для скорейшей просушки стен… Эти несчастные, входя и выходя из этого жилища великолепия и удовольствия, испытывали разницу в температуре от 20 до 60 градусов… Те из несчастных, которые красили внутри натопленных зал, были вынуждены надевать на головы нечто вроде шапок со льдом…»
Внутренняя отделка помещений была решена по-новому, и лишь некоторые интерьеры, в частности знаменитая Иорданская лестница в северо-восточном углу, воскресли после реставрации в том виде, какими их задумывал Растрелли. Но и более новые залы — бывший тронный, или Георгиевский (где сейчас можно увидеть уникальную карту Советского Союза, выполненную из 45 тысяч самоцветных камней), Малахитовый зал, Военная галерея 1812 года (ее отделку выполнил К. Росси), концертный зал, Гербовый — представляют собою великолепные образцы внутреннего дворцового убранства.
Сейчас Зимний целиком входит в комплекс зданий одной из величайших художественных сокровищниц мира — Государственного Эрмитажа. Кроме Зимнего дворца, музей занимает помещение Малого Эрмитажа, Старого Эрмитажа, Эрмитажного театра и Нового Эрмитажа. Все эти здания связаны с дворцом в единый огромный комплекс с фасадами на Неву и на Дворцовую площадь.
Название «Эрмитаж» впервые получило именно здание Малого Эрмитажа, построенное архитектором Ж. В. Валленом-Деламотом для Екатерины II и узкого круга ее приближенных. Слово «Эрмитаж» означает уединенный, пустынный приют отдохновения, тихий уголок. Малый Эрмитаж, непосредственно примыкающий к Зимнему дворцу, представляет собой красивый павильон с двумя светлыми галереями, между которыми, на уровне второго этажа, находится знаменитый висячий сад. В павильоне поместили в 1764 году большую партию картин, привезенных из-за границы, — эта коллекция и положила начало музею, ставшему впоследствии одним из самых богатых в мире.
Когда, побывав в залах Эрмитажа, выходишь снова на площадь, открывается взору ее противоположная сторона — с аркой Росси, которая связывает воедино два огромных корпуса, где некогда помещался Генеральный штаб и другие государственные учреждения.
Эти корпуса Росси построил в 1819–1829 годах, а в 1834 году была открыта посреди площади Александровская колонна. Еще через несколько лет архитектор А. П. Брюллов замкнул перспективу площади зданием штаба гвардейского корпуса, связав его с другими сооружениями. Вот как длительно и бережно создавали зодчие этот градостроительный шедевр — Дворцовую площадь.
А судьба самого Растрелли?
Ее нельзя назвать счастливой. Зимний дворец был начат при Елизавете в 1754 году, а закончен при Екатерине, когда растреллиевское барокко уже перестало отвечать требованиям «последней моды», вкусам двора и самой императрицы. Екатерина отдавала предпочтение архитектуре классицизма, работам Валлена-Деламота, Джакомо Кваренги, Камерона, а Растрелли дали почувствовать холодное отношение царицы и ее вельмож. В частности, сыграл свою роль и приказ о подчинении Растрелли все тому же И. И. Бецкому, ведавшему Канцелярией от строений.
Получавший раньше все указания непосредственно от императрицы, Растрелли, узнав об оскорбительном для «обер-архитектора» приказе, был вынужден подать в отставку. Он покинул Петербург и через семь лет, забытый всей столичной знатью, умер в Митаве.
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень…

То, что я попытаюсь передать здесь, — невымышленный рассказ о первой моей «сознательной» поездке в Ленинград. Спутница моя была экскурсоводом в Совторгфлоте, отлично знала архитектурные памятники города и учила меня постигать их красоту. Впрочем, их всегда постигаешь наново, когда бы ты ни попадал в этот город. Сюда интересно приезжать по воде и прилетать, но, на мой взгляд, все-таки самый приятный и лучший способ очутиться в городе на Неве — это скорый поезд. Бодрствуя в вагонном купе, когда свистит за окном мрак и мигают дальние огни, лучше чувствуешь расстояние, лучше готовишь себя к встрече с Ленинградом.
В ту памятную поездку мы читали Пушкина. В купе был еще один попутчик, он сказал: «Да, в Питер без Пушкина нельзя!» И мы полюбили этого человека.
Поезд наш приходил в город не утром, а поздним вечером. Уже в Чудове, где мост через Волхов, стало смеркаться, но привычная ночная тьма не сгустилась, потому что кончался май, и северная часть неба оставалась совсем дневной, только южный край горизонта как-то странно мрачнел. Промелькнули блоковские дачные пригороды, потом привокзальные огни, и чуть ли не прямо с поезда мы оказались посреди Невского проспекта.
Конечно, для людей привычных в этом ничего удивительного нет. Московский вокзал обращен фасадом к Невскому проспекту. Когда-то здесь кончалась дорога почтовых троек и вылезали из кибиток приезжие москвичи. Потом провели железную дорогу (по царской линейке), и почтовую станцию сменил вокзал. Вот потому и удобно приезжать в Ленинград поездом — попадаешь сразу в сердце города.
…Еще стоял на привокзальном сквере конный памятник Александру III с надписью, сочиненной Демьяном Бедным:
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я, пожав удел посмертного бесславья,
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Памятник был беспримерен. Я никогда не мог понять, как царское правительство позволило поставить в столице в 1909 году такой ярко обличительный монумент. Макет или модель памятника в Музее скульптуры не дает представления о том, как этот памятник выглядел на площади, в особенности с близкого расстояния, когда прямо над головой вдруг тяжко нависал чудовищный царский сапожище и были видны очи коня, затянутого уздой так, что конская шея трещала и глаза наливались кровью…
Автор памятника, замечательный русский скульптор Паоло Трубецкой, проживший большую часть жизни в Италии, создал произведение огромной саркастической силы, выразив свое отношение к самодержавию как нельзя яснее: солдафон в полицейской форме и с плоской барашковой шапкой на голове, завалясь назад, круто затягивает поводьями тяжеловесного коня. Тот с трудом несет всадника, согнул шею, затянут уздой и сдавлен шенкелями, но где-то в этом коне уже начинает копиться гнев. Рассказывают, что вдовствующей императрице Марии Федоровне на открытии памятника сделалось дурно, когда спала завеса, и бронзовый тяжеловесный всадник-император предстал перед взорами толпы.
…Едва только сквер и памятник Александру остались позади, началась загадочная ворожба белой майской ночи. Мы шли по Невскому к Адмиралтейству, и одно чудо торжественно сменялось другим.
Предметы потеряли свои тени, подобно герою известной сказки Адельберта Шамиссо. Можно подумать, что при таком освещении любоваться архитектурой нельзя, ведь зодчество имеет дело с перспективой, пространственными формами, оживляемыми игрой света и тени. Без них она мертва. Отнять эту игру у здания — то же, что оборвать у цветка лепестки. Но эта архитектура не умирала в полупрозрачной ночной мгле, а лишь теряла свою каменную тяжесть, становилась невесомо воздушной, зыбкой, как во сне.
На память приходили сказки о городах-призраках, о подводных царствах, где дворцы, статуи, мосты и каменные арки видны зачарованному пришельцу сквозь чуть колеблемую морскую воду. Помните такой город в сказке Сельмы Лагерлеф о приключениях Нильса с дикими гусями? Кто не мечтал побродить по такому волшебному городу! Оказалось, что это совсем нетрудно — нужно только приехать белой ночью в Ленинград.
Все было совсем как в тех, навеки запавших в нашу память пушкинских строках, что знакомы с детства. Вот когда постигаешь их абсолютное совершенство и точность! Музыка их звучала как лейтмотив всего, что здесь развертывалось перед глазами: два ясных ряда спящих громад вдоль величавой пустынной улицы, и чугунный узор оград, и светлая игла впереди.
Стихи и город так созвучны, будто силой этих-то строк и рождена вся поэзия здешнего ночного света, одухотворенного камня и задумчивой воды с отраженным в ней спящим городом.
Может показаться, будто в таком поэтически приподнятом душевном состоянии не станешь интересоваться искусствоведческими подробностями. Это неверно! Поэзии никогда не мешают даже крупинки знания — нарушить поэзию могут только невежество и пошлость.
Мы долго простояли на Аничковом мосту через Фонтанку. Кто не знает, хотя бы по иллюстрациям, знаменитых укротителей коней, изваянных скульптором П. К. Клодтом? Но только тот сполна оценит силу этих скульптурных групп, кто здесь, на мосту, приглядится к четырем огненным животным. Прекрасны обнаженные тела смелых юношей-укротителей, прекрасно напряжение борьбы, вольны и совершенны схваченные ваятелем позы.
А в названии моста сохранилась память о сподвижнике Петра полковнике Аничкове, который командовал Астраханским пехотным полком, расквартированным в слободе за Фонтанкой. Первый мост, выстроенный солдатами этого полка через Фонтанную реку, был деревянным. В своем нынешнем виде мост существует с 1841 года.
Многих приводит в недоумение название реки — Фонтанная. Оказывается, для фонтанов Летнего сада в петровские времена повели воду от Пулковских высот. Был прорыт двадцативерстный Лиговский канал от Пулкова до Бассейной улицы, где устроили бассейн для приема воды. Речка, бравшая начало от Невы и снова впадавшая в Неву, превращая в остров адмиралтейскую часть города, называлась тогда Безымянным ериком. Она оказалась на пути водопровода, было решено подать воду через нее по трубам. От этих «фонтанных» труб Безымянный ерик и получил название Фонтанной реки, Фонтанки.
На набережной Фонтанки запоминается огромный Аничков дворец. Он был построен для фаворита Елизаветы — Алексея Разумовского. Позднее в этом дворце блистала на придворных балах Наталья Николаевна Пушкина. Начинал постройку архитектор Земцов, продолжал Дмитриев, затем переделывал фасады Растрелли, строил один корпус Кваренги, а в XIX веке фасады вновь перестраивали другие зодчие. При Советской власти в Аничковом дворце был сначала музей, а в 1937 году весь огромный дворец, занимающий вместе с садом целый квартал по Невскому проспекту, стал Дворцом пионеров.
Но позвольте вернуться к памятной белой ночи, что привела нас на Невский.
Здесь, на оси проспекта, на пространстве, которое можно не спеша обойти часа за два, сосредоточены главные архитектурные шедевры великого зодчего Карла Росси. Полвека назад Игорь Грабарь писал о них: «Настанет время, когда будут приезжать смотреть на эти великолепные произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию».
Архитектор Карл Росси (1775–1849) — уроженец Петербурга, сын известной танцовщицы екатерининских времен Гертруды Росси. Первым учителем его был архитектор Бренна, построивший по проектам Баженова Михайловский замок — резиденцию Павла I. Росси завершил свое архитектурное образование за границей, во Флоренции, затем получил назначение в Москву. Пожар 1812 года уничтожил в Москве, около Арбатских ворот, интересное и нарядное театральное здание, построенное Росси.
С 1816 года зодчий вновь работает в Петербурге и здесь в очень короткий срок создает несколько грандиозных ансамблей.
Редкому зодчему выпадало счастье видеть воплощение своих больших градостроительных замыслов, и именно Росси достиг этого благодаря своей удивительной энергии и огромной силе дарования. Он принадлежал к числу дерзких и смелых мечтателей, архитектурные замыслы его были необыкновенно широки уже в молодости, но они никогда не бывали беспочвенными фантазиями, они были осуществимы, и Росси это горячо доказывал. Не сооружение отдельных домов, даже таких выигрышных, как театры, дворцы, храмы, захватывает его воображение — он был именно градостроителем, мечтал создавать площади, улицы, города с великолепными набережными, садами, статуями на площадях. Он хотел видеть Петербург таким, каким был древний Рим в расцвете могущества.
«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые Римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели мы побоимся сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости».
Это писал Росси в объяснительной записке к проекту Адмиралтейской набережной. Проект был отвергнут, как чересчур грандиозный и дорогостоящий, но он очень характерен для смелого, еще очень молодого творца.
Ансамбль Александринского театра на Невском и прилегающих к театру площадей — торжество градостроительных принципов Росси.
Получив в 1828 году «высочайший» заказ на сооружение театра, Росси совершенно преобразил застройку целого участка. Центром композиции он сделал здание театра — прямоугольное в плане, очень компактное, собранное и притом празднично нарядное благодаря великолепной колоннаде-лоджии и торжественному аттику (стенке над верхним карнизом вместо фронтона). За колоннами фасада рисуются полукружия окон, созвучные двум боковым нишам для скульптур. Над аттиком вознесена фигура древнего бога искусства Аполлона, летящего на четырехконной колеснице.
Перед главным фасадом театра Росси создал большую площадь (она называлась Александровской, а теперь носит имя драматурга А. Н. Островского, чьи пьесы ставились Александринским — ныне имени Пушкина — театром). Как же удалось архитектору связать театральный фасад с остальной застройкой? Ведь площадь очень велика — около пяти гектаров, а кажется даже еще просторнее.
С западной стороны площади (в стороне Адмиралтейства) Росси воздвиг новый корпус Публичной библиотеки. При этом он бережно сохранил полукруглую угловую часть прежнего здания (зодчий — Е. Соколов), выходящего на Невский и Садовую.
Перед Росси стояла очень сложная задача: нужно было добиться композиционного и стилевого единства зданий театра, бокового фасада Аничкова дворца и библиотеки. К соколовской закругленной части библиотеки, смотревшей и на Невский и на новую площадь, Росси пристроил свой корпус с ионической колоннадой и красивым аттиком, увенчанным статуей богини мудрости Минервы. В южном конце этого корпуса он повторил соколовскую угловую часть. Получилась композиция цельная и столь прекрасная, что может спорить с самим театром по красоте и ритму линий.
Но это лишь одна, западная, сторона площади. Противоположную сторону образует сад перед боковым фасадом Аничкова дворца. Чтобы уравновесить архитектуру площади, Росси строит на границе дворцовой усадьбы два садовых павильона, отвечающих фасадам театра и библиотеки.
Позднее, уже при Александре II, в годы упадка классицизма, когда, по выражению Достоевского, восторжествовала в архитектуре капиталистического Петербурга «какая-то безалаберщина, соответствующая безалаберности настоящей минуты», на Александровской площади разбили сквер и воздвигли, по проекту Микешина, памятник Екатерине II. Он не имеет отношения к замыслу Росси и несколько заслоняет чудесный театральный фасад, но есть в этом помпезном памятнике все же какая-то внутренняя связь с окружающим ансамблем.
Императрица изображена во время царского выхода, в горностаевой мантии и со скипетром в руке. Вокруг постамента, на круглом цоколе, размещены фигуры Суворова, Потемкина, Румянцева, княгини Дашковой, поэта Державина, президента Академии художеств Бецкого, екатерининского фаворита графа Орлова, адмирала Чичагова, канцлера Безбородко… Скульпторы (М. Чижов, А. Опекушин, работавшие по рисункам Микешина) достигли в этих бронзовых изваяниях большого портретного сходства.
Отвлекаясь от ансамбля Росси, добавлю еще, что памятник Екатерине я видел в тяжелейшие дни блокады. Нельзя было разглядеть ни одной из запорошенных снегом скульптур; казалось, бронзовые люди прижались друг к другу, чтобы согреться в лютую февральскую стужу 1942-го. На цоколе было множество свежих осколочных ранений, виднелись и вмятины на складках мантии. Нам, офицерам с передовой, возвращавшимся в свои части, патруль предложил пройти в соседнее бомбоубежище: объявили воздушную тревогу. Мерзлая земля хорошо передавала близкие разрывы. После отбоя ветер еще нес кисловатый дым, на снегу осел свежий прах, а бронзовая фигура по-прежнему величественно шла навстречу ветру. И право же, в ней чувствовалось то же презрение к обстрелам и бомбежкам, которое в те дни было самой характерной чертой ленинградцев.
Позади Александринского театра Росси создал короткую улицу — кажется, самую великолепную в городе. Она напоминает внутренний двор или даже торжественный зал, только без потолка. Одним концом она выходит на площадь Ломоносова.
Архитектура двух зданий-дворцов, образующих улицу Росси (она по праву носит его имя), подчеркнуто скромнее, чем убранство самого театрального фасада, — улица как бы готовит зрителя к радости войти в мир театральных чудес. Фасады обоих зданий, зеркально повторяющие друг друга, расчленены на два яруса. В верхнем ярусе парные дорические полуколонны, чередуясь с широкими окнами, похожими на плавные арки, создают торжественный, мерный ритм, сопровождающий движение людей к театру.
Здесь рассказано лишь об одном ансамбле этого мастера, а если припомнить, что им возведено здание Русского музея с прилегающей Площадью искусств, построены дома Сената и Синода на Исаакиевской площади и здание Генерального штаба со знаменитой аркой — на Дворцовой, Елагинский дворец на Островах и другие шедевры, то понятна признательная любовь ленинградцев к памяти великого архитектора.
Рано надорвав свои силы, он, как и Растрелли, вынужден был еще сравнительно нестарым человеком подать прошение об отставке. Последние годы жизни Росси ничего не строил и умер в безвестности.
…После ночной летней прогулки по улицам и площадям, созданным Росси, вы так утомитесь, что даже асфальт Невского покажется зыбким, как моховое болото, по которому ступали здесь некогда ботфорты Петра. Но если вы, поджав гудящие от усталости ноги, чуть-чуть продрогнув, не ожидали первых солнечных лучей в каком-нибудь ленинградском скверике и у вас на плече не спала молодая женщина, самая прекрасная на свете, если вы не прислушивались к ее дыханию, не отваживаясь даже дохнуть поглубже, не то что пошевелить рукой, — тогда вы не знаете, что такое белая ночь в городе на Неве!
II
От Старо-Невского к Адмиралтейству


Рассказать коротко об этом музее — нелегкое дело: самый беглый путеводитель по нему занимает 250 страниц. И листаешь их с волнением! Музей этот — подлинный памятник славы: и боевой, и поэтической, и художественной.
Возникнуть он мог только в городе, где многими десятилетиями накапливался драгоценный фонд монументальной скульптуры — на площадях и улицах, на бульварах и в садах, на мостах и набережных и, наконец, в некрополях и усыпальницах. Ведь народная любовь к великим землякам очень ярко проявляется у нас и в заботе о славных могилах. Один из мудрецов античной древности метко сказал: «Глядя на могилы — сужу о живых!»
Старо-Невский проспект, ведущий к лавре, заканчивается небольшой площадью Александра Невского. На площадь выходит двухэтажный надвратный храм с классическим фронтоном — это и есть вход в лавру. У него заметное сходство с Таврическим дворцом: автор у них один — зодчий Иван Старов. Он же построил и главный собор Александро-Невской лавры — Троицкий, с двумя башнями-колокольнями, высоким красивым куполом и строгим классическим портиком с колоннадой.
Однако не собор со всеми его архитектурными и скульптурными богатствами (статуи внутри него сработаны крупнейшим русским скульптором XVIII века, односельчанином Ломоносова Федотом Шубиным) привлекают в лавру основную массу посетителей, а музей в Благовещенской церкви и два некрополя. Слева от входа в лавру — некрополь XVIII века (бывшее Лазаревское кладбище), справа — некрополь мастеров искусств (бывшее Тихвинское лаврское кладбище).
…Зимним днем я пришел в лавру с маленьким букетом живых цветов. Хотелось положить их на чью-нибудь не очень прославленную и, может быть, не самую «ухоженную» могилу. Времени до закрытия оставалось немного, посетители разошлись. Сторожиха повела меня прямо в дальний угол, ближе к зданию Лазаревской усыпальницы, и сказала с хозяйской гордостью:
— Тут вот у нас Ломоносов, Михайло Васильевич!
Я прочел надпись на русском и латинском языках. Как много говорит она о прошлом России! Вот полный текст русской надписи:
«В память славному мужу Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах в 1711 году, бывшему статскому советнику, Санкт-Петербургской Академии Наук профессору, Стокгольмской и Болонской члену, разумом и наукам превосходному, знатным украшением отечества послужившему, красноречия, стихотворства и гистории российской учителю, мусии (то есть: мозаики. — Р. Ш.) первому в России без руководства изобретателю, прежде времянною смертию от муз и отечества на днях святыя пасхи 1765 году похищенному воздвиг сию гробницу граф М. Воронцов, славя отечество с таковым гражданином и горестно соболезнуя о его кончине».
Рядом с Ломоносовым — А. К. Нартов, знаменитый механик XVIII века. Чуть подальше — Леонард Эйлер, Денис Фонвизин…
Тут переходишь от памятника к памятнику, и можно позабыть про самые неотложные дела, столько читаешь имен, изречений, дат — будто перелистываешь энциклопедию русской науки, словесности, градостроительного искусства. Творцы петербургской архитектуры: Тома де Томон — автор Биржи и ростральных колонн; строитель Казанского собора А. Воронихин, создатели петербургских памятников — Ф. Шубин, М. Козловский, И. Мартос…
Цветы остались на снегу перед очень скромной стелой серого гранита с французским текстом: под нею покоится Карл Росси.
Когда идешь к запасному выходу, обязательно минуешь длинный серый саркофаг с надписью: Наталия Николаевна Ланская. Эту фамилию после вторичного замужества носила вдова Пушкина.
Еще одно надгробие в некрополе XVIII века связано с Пушкиным — небольшой саркофаг розового гранита, недалеко от входа, перед Лазаревской усыпальницей. Это могила маленького Коли Волконского, сына декабриста Сергея Волконского. Его жена Мария Волконская (урожденная Раевская, правнучка Ломоносова) уехала в Сибирь следом за мужем-каторжанином. Этот подвиг был воспет и Пушкиным и Некрасовым. В разлуке с нею скончался оставленный в Петербурге сын. Фамилию важного государственного преступника высечь на памятнике не разрешили, надгробие мальчика осталось безыменным, но Пушкин написал для маленького монумента стихи, они были высечены на розовом камне и, конечно, все понимали, о ком говорили эти «бесцензурные» строки:
В сияньи, в радостном покое,
У трона вечного творца
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
На бывшем Тихвинском кладбище лавры нет таких великолепных скульптурных произведений, как в некрополе XVIII века и в Благовещенской церкви, — большинство тихвинских надгробий изготовлено во второй половине XIX века, в тогдашней вычурной манере. Но имена, высеченные на этих памятниках!.. Достоевский и Карамзин, Глинка и Чайковский, Куинджи и Крамской, Шишкин и Витали, Комиссаржевская и Стрепетова… Чтобы уйти отсюда, надо буквально заставить себя не глядеть, не читать.
И вот, наконец, главное здание музея, бывшая Благовещенская церковь, возведенная в стиле барокко по проекту Доменико Трезини. Строилась она еще при Петре и служила усыпальницей сановников и членов царской семьи. В середине XVIII века к зданию церкви добавили красивый лестничный придел, богато украшенный барочным орнаментом и колоннами. Это и есть вход в нынешний музей, и сначала посетителя приглашают во второй этаж, где размещена экспозиция моделей.
Вы как бы совершаете здесь увлекательное путешествие по всему Ленинграду, но… лилипутских размеров. И вы чувствуете себя Гулливером, который в силах за полчаса осмотреть все статуи, триумфальные колонны и арки Ленинграда. Их модели выполнены самими авторами памятников или в редких случаях учениками. Увидите вы здесь в миниатюре и памятник Александру III, о котором рассказано выше, и Александровскую колонну на Дворцовой площади, и Нарвские, и Московские триумфальные ворота, ростральные колонны, памятник «Стерегущему», памятник Крылову, клодтовских коней…
Выставка дореволюционной городской скульптуры заканчивается моделью последнего монумента, что был установлен в царском Петрограде: это памятник М. Ю. Лермонтову. Сделан он по проекту Б. М. Микешина, сына известного скульптора М. Микешина. В 1916 году памятник был открыт на Могилевском (ныне Лермонтовском) проспекте, против здания Николаевского кавалерийского училища, где в лермонтовские времена помещалась Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Главный неф Благовещенской церкви теперь превращен в просторный музейный зал. Сразу у входа в этот торжественный белоколонный зал, между серыми плитами пола, врезана светлая каменная плита с предельно лаконичной надписью:
ЗДѢСЬ ЛЕЖИТЪ СУВОРОВЪ
В изголовье могилы, между двумя белыми колоннами, установлен хороший бюст Суворова, выполненный скульптором Демут-Малиновским. Надпись придумал сам полководец. Старые-старые подлинные суворовские знамена, помнящие Измаил и Альпы, свесились над этой могилой. И каюсь, стало мне на миг как-то смутно на сердце, когда приблизилась сюда со своей группой девица-экскурсовод на высоких каблучках.
Но… раздается ее негромкий голос, и гляжу, кто-то уже спешит сдернуть позабытую на макушке кепочку, кто-то перестал перешептываться, а там и взгляд — сердитый, мальчишеский — на взрослого, который некстати засмеялся… Слова экскурсовода, — не заученные, не безучастные, и уж без всякой «смуты на сердце» слышу перестук ее каблучков дальше по этому залу.
Много прекрасных скульптур можно увидеть и в церковной пристройке, так называемой «палатке», где погребены сподвижники Петра, Елизаветы, Екатерины. Лучшие надгробные монументы созданы великим русским ваятелем Иваном Петровичем Мартосом (1752–1835).
Москвичи знают Мартоса как автора классического памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, одесситы — как автора великолепно поставленной фигуры «дюка» (герцога) де Ришелье на Приморском бульваре, жители Архангельска любят изваянный Мартосом памятник Ломоносову-поэту. Для ленинградцев же Иван Петрович Мартос прежде всего автор дивных художественных надгробий, и вершина его творчества — поразительный по силе скорби мраморный памятник Е. С. Куракиной. Рыдающая женщина трогает зрителя такой искренностью горя, вызывает такое сочувствие, что никто не остается равнодушным у этого прекрасного произведения.
Не уступает ему и бронзовая портретная статуя Е. И. Гагариной. Здесь, в этой изящной женской фигуре, на первый взгляд ничто не говорит о скорби и смерти, и лишь легкий жест левой руки, указывающий вниз, раскрывает печальное назначение статуи.
Но в ведении Музея городской скульптуры есть еще и Литераторские мостки на Волковом кладбище. Погребены там Белинский, Добролюбов, Гончаров, Лесков, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Салтыков-Щедрин…
На открытой площадке, где несколько расступились старые деревья, будто оторвался на миг от книги и в раздумье приподнял голову Плеханов, изваянный из гранита скульптором И. Я. Гинцбургом. Над этим бюстом Гинцбург работал еще при жизни Ленина, и Владимир Ильич письменно обращался к Петроградскому Совету с просьбой помочь скульптору и обеспечить его всем необходимым, чтобы ускорить создание монумента первому русскому марксисту.
Облокотившись на камень, глядит вам прямо в глаза Глеб Успенский (скульптор Л. Шервуд). Издали узнаешь характерную голову Ивана Сергеевича Тургенева — его надгробный бюст создала Жюли Полонская, хорошо знавшая писателя лично.
Недалеко от входа, слева от аллейки, стоит строгий обелиск черного полированного гранита с портретным барельефом. Эту могилу перенесли сюда со Смоленского кладбища. Здесь лежит Александр Блок…
Напрасно и пытаться описать Литераторские мостки подробнее. Поезжайте, проведите там неторопливый день раздумий — изредка это хорошо, и в восемнадцать и в восемьдесят лет. Только раздумья у этих возрастов — разные.

Чуть более ста лет назад (так недавно!) в России отменили крепостное право. Но еще за сорок семь лет до этого скончался на пятьдесят четвертом году жизни один из величайших русских зодчих, Андрей Никифорович Воронихин. Родина его — село Новое Усолье в Приуралье. Все жители этого села издавна были закрепощены за уральскими богачами, бывшими купцами, а впоследствии — баронами и графами Строгановыми.
Наше воображение с трудом рисует себе жизнь крепостного раба, обычно, как правило, неграмотного, замученного подневольным деревенским трудом. Но еще труднее представить себе судьбу крепостного человека, наделенного редким умом, обширными знаниями, исключительным художественным даром. Трагизм этой доли довелось испытать целой плеяде российских крепостных интеллигентов, таких, как поэт и художник Тарас Шевченко, артист Михаил Щепкин, композитор Михаил Матинский, живописцы Иван Петрович и Николай Иванович Аргуновы… К этой же плеяде можно причислить и Андрея Воронихина.
Деревенский мальчик рано обнаружил редкостные способности рисовальщика. Семнадцатилетний юноша был отправлен владельцем в Москву — учиться живописи (богатые крепостники всегда старались иметь «своих» художников, зодчих, артистов). Его учителями становятся большие русские архитекторы Баженов и Казаков. Разумеется, у таких наставников талантливый юноша не остается равнодушным к архитектуре! Граф А. С. Строганов переводит Воронихина в Петербург для обучения архитектурному искусству, а затем отправляет вместе со своим сыном за границу, в Италию и Францию.
Воротился Андрей Воронихин на родину законченным мастером архитектуры, знатоком физики, механики, математики. Биографы говорят о необыкновенном его трудолюбии и работоспособности.
Обогащенный знаниями, молодой зодчий получает в Петербурге от своего хозяина множество заказов. Граф А. С. Строганов поручает ему отделку парадных залов своего дворца на Мойке.
Задача была не из простых: Воронихину пришлось приспосабливаться к растреллиевской архитектуре и «вписывать» в нее интерьеры в духе новой классики. Он отделывает картинную галерею строгановского дворца и строит графскую дачу на Большой Невке.
Свои архитектурные произведения Воронихин изобразил на картинах. За это он был произведен Академией художеств в академики перспективной живописи. Строгановская дача на Большой Невке, к сожалению, не сохранилась: в XX веке частные владельцы разобрали этот замечательный павильон.
Андрею Воронихину едва исполнилось сорок лет, когда император Павел задумал выстроить в Петербурге собор в честь так называемой Казанской богоматери. По желанию Павла в основу архитектурного образа нового собора зодчий должен был взять знаменитый храм святого Петра в Риме. Есть сведения, что идея здания Казанского собора с его колоннадой принадлежит гениальному русскому зодчему Баженову.
Было решено разобрать на Невском проспекте прежнюю церковь Рождества богородицы и на ее месте воздвигнуть собор, чтобы придать проспекту в этой центральной части столицы законченный, более величественный характер. Эта задача выпала Воронихину.
Граф А. С. Строганов, на которого царь возложил всю административную и организационную работу, был как бы начальником строительства, а главным архитектором и инженером — в одном лице — был Андрей Никифорович Воронихин, получивший от Академии художеств звание архитектора (1800), а вскоре и профессора архитектуры за проект Петергофских каскадов (1802). Граф А. С. Строганов уже давно, в 1786 году, выдал ему «вольную», то есть освободил от крепостной зависимости.
Жутко становится от слов: купчая крепость, оброк, души на вывод, владелец душ, вольная… Мастер архитектуры, получивший от своего барина «вольную»! А ведь мог бы и не получить…
Десять лет, до сентября 1811 года, возводили Казанский собор. Это одно из самых прекрасных и самых торжественных зданий Северной Пальмиры, как иногда называли Петербург. Люди поверхностных представлений об архитектуре иногда говорят, будто в этом здании мало оригинального, просто, мол, римский собор перенесен под петербургское небо. Это глубоко неверно! Да и нельзя было бы механически «перенести» итальянское творение на невские берега — оно выглядело бы здесь чужим, оно завяло бы, как пальма на морозе.
…Пойдем по Невскому от Адмиралтейства на восток. Мост через Мойку в пушкинские времена назывался Полицейским. Сразу за этим мостом предстанет нам, выходя одним фасадом на Невский, а другим — на Мойку, строгановский дворец, тот, что выстроен был Растрелли, а изнутри отделывался молодым Воронихиным. Минуем дворец, пройдем еще полквартала, и тогда справа откроется Казанский собор.
Он словно распахивает объятия навстречу зрителям, так широк и гостеприимен размах его полукруглой колоннады. Выше этой плавной многоколонной дуги вознесен в небо купол собора. Барабан под куполом прорезан высокими узкими окнами, а еще выше — кольцом слуховых окон. Идеально гармоничны и легки пропорции центрального портика с шестью коринфскими колоннами и треугольным фронтоном.
Составляют колоннаду четыре ряда колонн — целый лес! Их здесь 144, стройных, украшенных желобками-каннелюрами, увенчанных коринфскими капителями, похожими на окаменевшие корзины цветов.
Здесь, на этом здании, легко демонстрировать главные элементы классической ордерной архитектуры, поэтому между рядами колонн часто видишь студентов архитектурных вузов и художественных училищ. Они старательно обмеряют, срисовывают каждую деталь этих на диво выисканных, изящных и таких загадочно легких конструкций. Удивительна игра света и теней, когда вы проходите под колоннадой: к вам приближаются одни и удаляются от вас другие группы колонн, высеченных из светлого пудожского камня.
Сама конструкция плоских балок над колоннами требовала очень точного расчета: раньше такие нагрузки доверялись только арочному типу перекрытий. Воронихину пришлось долго и мужественно отстаивать эти смелые конструкции в боковых проездах по концам колоннады. Проезды связывают соборную колоннаду с соседними улицами и по своему архитектурному наряду похожи на триумфальные арки.
Левое крыло колоннады скульптор Мартос украсил фризом-барельефом в классическом стиле на тему «Истечение воды из камня». Это библейский эпизод, когда в пустыне истомленные жаждой евреи — беглецы из Египта, уже близкие к изнеможению, внезапно обретают воду, хлынувшую из каменной скалы.
Сильно и верно передает скульптор порыв людей, тянущихся к влаге, к наполненным водой сосудам… Женщины, дети, старцы и сильные мужи (забыв о собственной жажде, они несут на руках к воде своих истомленных спутниц) — таковы фигуры фриза.
И внутри храма у вас сохраняется, даже усиливается ощущение приподнятости, торжественности, гармонии. Вы даже не сразу улавливаете знакомую традиционную крестово-купольную планировку: ее как бы заслоняет мерное шествие парных колонн.
В отличие от наружных внутренние колонны здесь гладкие, без желобков. Высокие своды богато украшены, но все это великолепие вас не смущает. Этим Казанский отличен от Исаакиевского, где огромность и пышность подавляют воображение. Здесь же величие замысла не лишает его задушевности и теплоты, пронизывающей всю эту торжественную архитектуру. Верно, отгадка этой тайны — в личности самого зодчего, воплотившейся в искусстве, в прекрасных художественных формах: Андрей Воронихин был человеком редкостного личного обаяния, доброты и мягкости. Сердце его было столь же большим, как и ум, как и дарование.
Одновременно с Казанским собором Воронихин строил величественный дом горного института на Васильевском острове. Здание это многоколонным портиком создает впечатление мужественной силы. Оно украшает невысокий невский берег, хорошо видно с другой стороны реки и зримо напоминает ленинградцам об их великом земляке-классике.
Не успели убрать леса с Казанского собора, как началось вторжение в Россию огромной наполеоновской армии. Жители невской столицы мысленно связали новый собор с этими событиями. Здание стало служить как бы символом победы. Многие ленинградцы твердо убеждены, что собор и построен-то в честь событий 1812 года (на деле он завершен был годом раньше). Но пантеоном славы Отечественной войны 1812 года собор действительно стал.
Через год после изгнания Наполеона из России Петербург хоронил фельдмаршала Кутузова, умершего в походе, во время преследования вражеских войск. Толпы народа вышли на городскую окраину встречать гроб и несли его на плечах до самого собора. Здесь фельдмаршала погребли справа от главного входа. Пушкин посвятил этой могиле стихотворение «Перед гробницею святою».
Перед главным фасадом Казанского собора, на высоких гранитных постаментах установлены были в 25-ю годовщину Отечественной войны 1812 года статуи обоих русских полководцев: Барклая де Толли — слева, Кутузова — справа. Сработаны статуи скульптором Б. И. Орловским.
Высокий обелиск некогда украшал площадь перед дугой колоннады. Потом его снесли. Но собор и площадь лишь часть воронихинского замысла. Усовершенствуя свой проект, зодчий задумал еще одну колоннаду, с противоположной, южной, стороны собора. Если бы этот проект осуществился, получились бы четыре площади и фантастическая композиция колонн, расходящихся плавными крыльями по сторонам главного корпуса. Сооружение было бы единственным в своем роде, не имеющим ни предшественников, ни аналогий. Война 1812 года, а затем смерть автора и его покровителя А. С. Строганова помешали реализации воронихинского замысла, хотя его горячо поддерживали и другие большие мастера. Лишь небольшая полукруглая площадь перед западным фасадом, окруженная чугунной решеткой, была дополнительно разбита после официального освящения собора.
Эта решетка длиной более 150 метров — одна из больших художественных ценностей Ленинграда. Она опирается на четырнадцать гранитных столбов-колонн, увенчанных шарами поверх капителей. Рисунок ее — из последних работ Воронихина — по красоте превосходит и знаменитую фельтеновскую решетку Летнего сада и растреллиевскую решетку Смольного.
Сама же южная колоннада собора осталась, увы, на листах проектных чертежей, и теперь лишь воронихинский узор решетки напоминает нам о неосуществленном замысле великого градостроителя.
Есть у площади перед Казанским собором и революционное прошлое. 6 декабря 1876 года сюда — впервые в истории русского рабочего движения — пришли питерские пролетарии, развернули алое знамя, а со ступеней собора перед ними выступил Георгий Валентинович Плеханов. Поэтому именем его названа улица, берущая начало от площади у собора.
Не раз рабочие Петрограда приходили сюда снова, и напуганный градоначальник приказал в конце концов разбить перед собором сквер с фонтаном. Он считал, что зелень и фонтан займут всю площадку и для демонстрантов попросту уже не хватит места!..
«Постройкой Казанского собора А. Н. Воронихин написал одну из самых крупных глав в истории русского храмового зодчества, — говорит биограф Воронихина В. А. Панов. — Больше того: если бы он осуществил полностью свою композицию собора, он дал бы несравненный уникум на фоне европейского зодчества».

В августе 1941 года, на одном из участков Ленинградского фронта, в бумажнике убитого фашистского ефрейтора нашли цветную открытку. Видимо, она дважды побывала в типографском станке, потому что поверх старого цветного изображения был жирно наложен свежий штамп. Изображен был на открытке Исаакиевский собор, а двустишие, напечатанное по-немецки поверх изображения, призывало фашистское воинство устроить в этом здании… публичный дом!
Комиссар 1025-го полка отдал открытку одному из ротных политруков и сказал:
— У вас в роте много ленинградцев. Покажите им. А вы, — обратился он ко мне, — при случае рассказали бы солдатам об этом соборе. Полезно знать, что у нас под защитой…
Потом, когда бои на северном участке фронта стали позиционными, закрепились передовые рубежи и началась зимняя окопная жизнь, мне случалось не раз вести с бойцами беседы о Ленинграде, его истории и памятниках культуры.
Представьте себе окопную землянку, светильник системы «зов предков» — на солярке (ее добывали у танкистов соседнего укрепрайона), махорочный дым, уплывающий в печурку, ту самую, о которой сложена известная фронтовая песня. Сидят в землянке свободные от наряда бойцы в расстегнутых ватниках. Временами неподалеку ухнет разрыв или щелкнет пуля в траншее («а до смерти — четыре шага!»), и непременно кто-нибудь заметит, что огонь приослаб, потому что «он» ужинает. Винтовки чуть отодвинуты от дощатой стенки, чтобы уступить кусочек места планшету с контурами Исаакия. И идет неторопливый разговор об этом здании.
Строгие искусствоведы находят в Исаакиевском соборе те или иные погрешности, считают его чрезмерно пышным, перегруженным лепными украшениями, позолотой, бронзовым литьем, скульптурой. Дескать, мол, чересчур щедро! Но и самые придирчивые критики единодушны в том, что Исаакий — это выдающееся сооружение, очень хорошо вписанное в силуэт города, одно из самых больших купольных зданий мира, и к тому же подлинный геологический музей: при постройке собора использовано сорок три породы минералов.
Грандиозный собор задуман был как памятник победы в Отечественной войне 1812 года. Но под конец строительства об этом уже начали забывать — собор возводили в течение сорока лет.
Автором проекта был Август Монферран, молодой француз, приехавший в Россию в 1816 году с рекомендательным письмом от знаменитого часовщика Брегета. Его приняли на работу в Комитет для строений и гидравлических работ и поручили поработать над проектом Исаакиевского собора.
Никакого строительного опыта у Монферрана не было, но он хорошо рисовал, и альбом его рисунков с набросками нового собора был показан царю. В феврале 1818 года Александр I подписал указ о назначении Монферрана главным архитектором Исаакиевского собора. Так, почти случайно, на долю молодого еще человека досталась самая технически сложная постройка Петербурга.
Лишь вмешательство целой группы выдающихся русских зодчих — В. Стасова, Карла Росси, А. Мельникова, А. Михайлова — спасло начатое в 1819 году строительство от провала. Был разработан на основе монферрановского эскиза новый технический проект, продуман план организации работ, внесены важные поправки в архитектуру здания. Оно стало стройнее и легче. Тем не менее неопытность главного архитектора привела к неравномерной осадке здания и другим тяжелым последствиям. Устранять их приходится и до сих пор — советским реставраторам.
Наибольших хлопот потребовал, как мы сейчас говорим, «нулевой цикл», то есть устройство фундаментов. Если кому-нибудь из наших строителей назвать количество рабочих, возводивших эти фундаменты, он ахнет: 125 733 человека! Только фундаментные работы потребовали пять лет. Забито было в грунт 12 тысяч свай, и по ним уложено два ряда огромных гранитных блоков. Связывали их скобами и заливали для прочности свинцом вместо раствора.
Собор строили еще крепостные люди. Это последнее в России грандиозное сооружение, возведенное трудом крепостных. Об их мастерстве писал впоследствии сам Монферран:
«Мы просим разрешения принести благодарность нашим прекрасным и честным плотникам за всю огромную работу, проделанную ими, и сказать, что без них собор не был бы построен… Искусные в своем ремесле, они часто оказываются виртуозами… и исполняют самые сложные и трудные работы с удивительной точностью».
Но лишь ничтожное число мастеров-умельцев получило потом награды по представлению Монферрана. Он многих забыл, даже архитектора В. Шрайбера и скульптора Ф. Лемера, авторов больших работ по внутренней и внешней отделке здания.
Огромность сооружения могут иллюстрировать некоторые цифры: высота собора — 101,5 метра, а весит он 300 тысяч тонн. Восстановить его в случае разрушения было бы невозможно: в месторождениях выработан, например, крупный малахит, какой шел на плитки для облицовки внутренних колонн собора.
Колонны Исаакия подавляют своими размерами: высота каждой из 48 гранитных колонн, установленных на портиках, 17 метров. Колонна из цельного куска камня высотою в пятиэтажный дом!
Для перевозки этих колонн из Финляндии, где их вырубали прямо из скал, служили особые плоты-баржи и были сконструированы сложные системы блоков и воротов. По тогдашнему времени это были технически передовые методы. С помощью подъемных кабестанов удавалось ставить колонну на место в очень короткий срок — за 40–50 минут. Заняты были на подъеме обычно около ста такелажников, стоявших у ручных лебедок и направлявших тяжесть. У строителей имелась даже первая в Европейской России узкоколейка с паровым двигателем — на ней перемещали тяжелые грузы.
Внутри собор отделан с подавляющим великолепием. Здесь все огромно, дорого, роскошно. Белый итальянский мрамор, колонны, облицованные малахитом и ляпис-лазурью, черный агат, червонное золото (его пошло почти полтонны), тяжеловесная бронза, скульптурные группы, статуи, барельефы — все это создавало впечатление сказочного богатства. Собор-великан вмещает до тринадцати тысяч человек.
Снаружи он столь же роскошен и пышен и несколько тяжеловат со своими огромными ангелами-светильниками по углам и четырьмя малыми куполами, не вполне соразмерными главному.
И все же, несмотря на некоторый излишек пышности, Исаакиевский собор — последнее большое произведение русской архитектурной классики — сыграл выдающуюся роль в ансамбле города. Мы уже не можем представить себе Ленинград без огромного, сверкающего золотом купола. А когда над Мойкой чуть клубится туман, Исаакиевский собор, видимый с Поцелуева моста, утрачивает свою тяжесть, становится почти воздушно-легким, полупрозрачным.
Мне довелось наблюдать его с Васильевского острова во время воздушного налета зимой 42-го. Из-за ангелов-светильников взлетали струи трассирующих пуль. Рядом, на Неве, бухали зенитные пушки линкора «Октябрьская Революция», или «Октябрины», как звали ее моряки. Корабль, пришвартованный к стенке, как бы замыкал ансамбль Сенатской площади. За башнями и трубами «Октябрины» виднелся Исаакий, но уже не в золотом, а в сером шлеме — купол закрасили темной краской, и матросы шутили: сменил, мол, парадную форму на полевую.
После войны правительство отпустило большие средства на восстановление прежней отделки Исаакия, сильно пострадавшей от налетов и обстрела. Миллионы рублей стоило возрождение памятника-музея, и сейчас он, как никогда прежде, наряден, великолепен и полностью исцелен не только от военных потрясений, но и от последствий ошибок малоопытного строителя, который лишь за долгие годы работы над этим собором стал настоящим мастером архитектуры (возведенный по проекту Монферрана и под его надзором Александрийский столп на Дворцовой площади — большая удача зодчего).
Внутри Исаакиевского собора, где когда-то висел литой из серебра символический голубь, установлен маятник Фуко, доказывающий вращение Земли вокруг своей оси. Опыт этот интересен и нагляден, в нем есть, если хотите, даже нечто торжественное, соответствующее величию здания.
Экскурсовод ставит на пол спичечный коробок и пускает маятник, подвешенный в куполе. Пока идет речь о достопримечательностях собора, маятник чертит незримые меридианы на каменном полу; острием своим он неотвратимо приближается к коробку и, наконец, сбивает его, когда Земля успевает обернуться вокруг своей оси на какую-то долю, выраженную в градусах и минутах.
Видный отовсюду, царит над Невой, над простором площадей Ленинграда могучий исполин Исаакий. К славе архитектурного памятника и он тоже прибавил славу стойкого ветерана ленинградской блокады.
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.

Если бы захаровское здание Адмиралтейства безвозвратно погибло, скажем, в дни войны и блокады, оно все равно сохранило бы вечную жизнь в пушкинской строке, даровавшей ему бессмертие.
Но свой нынешний, такой значительный для города облик Адмиралтейство приобрело лишь в прошлом столетии. Первоначально же, во времена Петровы, оно было просто-напросто береговой крепостью и судостроительной верфью. Здесь 15 июня 1712 года Петр спустил на воду свой первый крупный боевой корабль «Полтаву». Для спуска судов от верфи к Неве прорыли каналы, надолго нарушив сквозное движение вдоль реки, по набережной.
В 1730 году один из Петровых пенсионеров, архитектор Иван Коробов, построил на верфи Адмиралтейский дом (то есть административный корпус) с высоким деревянным шпилем.
К началу XIX века коробовское здание пришло в ветхость, да и сама верфь устарела. У главного архитектора Адмиралтейства Чарльза Камерона, занимавшего еще множество почетных должностей, руки не доходили до капитальной перестройки Адмиралтейства. И вот престарелую знаменитость — Камерона — сменяет в качестве главного архитектора Адмиралтейства зодчий русской академической школы Адриан Дмитриевич Захаров, чья связь с Адмиралтейством была, так сказать, наследственной: отец архитектора был мелким военнослужащим при морском ведомстве.
Детство Адриана Захарова было нелегким — семья еле-еле перебивалась на скудное отцовское жалованье. Шестилетнего Адриана удалось определить в училище при Российской академии художеств «на казенный кошт». Совершенствовать свое образование ему довелось в Париже, и в 1805 году, в полном расцвете творческих сил, накопив немалый строительный опыт, Захаров создает свой проект полной перестройки Адмиралтейства.
К первоначальному плану Ивана Коробова Захаров отнесся бережно. Основы планировки, в сущности, остались прежними: главный, административный корпус охватывает с трех сторон кораблестроительную площадку — стапеля, мастерские, доки. Только потерявшие смысл крепостные валы Захаров срыл и на освобожденной территории разбил площадь. Сохранил он и коробовскую идею центральной части со шпилем, И даже старый деревянный шпиль по сей день сберегается под новой — захаровской — иглой. Разумеется, каменная башня стала много выше коробовской: высота ее сейчас — 73 метра.
Но, сохранив основы планировки, Захаров совершенно наново решил всю архитектурную отделку Адмиралтейства. Прежние формы петровского барокко он преобразовал в строгую классику и придал всему сооружению грандиозный масштаб, ясно сознавая, что здание станет архитектурным центром Петербурга. От главного фасада нынешнего Адмиралтейства расходятся, как три луча, три городские магистрали: Невский проспект, улица Дзержинского и проспект Майорова.
Несмотря на колоссальную длину главного фасада — 407 метров! — Захаров нашел такое композиционное решение, что здание получилось гармоничным, цельным и неоднообразным.
Как же найдена эта гармония?
В решении главного фасада звучат три архитектурные темы. Первая — это центральная часть, то есть коробовская башня, въездная арка, колоннада и шпиль. Вторая тема — боковые двенадцатиколонные портики. Эти два могучих портика выдержаны в спокойном дорическом стиле, самом мужественном из всех классических ордеров. Обоим портикам как бы аккомпанируют на длинном фасаде дополнительные выступы — ризалиты, тоже украшенные колоннами, по шести на каждом. Это третья тема фасада.
Все вместе разнообразит единый ритм фасада и отчетливо символизирует величие страны, воздвигнувшей здесь первую свою балтийскую верфь, колыбель российского северного флота и кораблестроительной промышленности. Эту главную идею здания хорошо подчеркивают и два классических павильона, выходящих на Неву. Перед одним дремлют львы — олицетворение силы и власти, перед другим — античные амфоры символизируют вечную красоту.
В содружестве с Захаровым работали над украшением Адмиралтейства лучшие русские скульпторы — Феодосий Щедрин (изваявший статуи морских богинь с земным шаром и фигуры четырех воинов у основания башни) и Иван Теребенев (создавший статуи Афины и Геракла в великолепном захаровском вестибюле). На гравюрах XIX века можно видеть и другие статуи, сработанные для Адмиралтейства С. Пименовым и В. Демут-Малиновским. Эти скульптуры изображали в аллегорических образах русские реки, страны света, морские божества. Выполненные из недорогих материалов, они не выдержали сурового климата и были убраны в 1860 году. Сейчас на их постаментах лежат якоря. Но и сохранившиеся скульптуры Щедрина и Теребенева дают представление о творческом содружестве зодчего и ваятелей. Оно много глубже, чем у мастеров барокко, где обилие скульптурных украшений преследовало цели декоративные, чисто «украшательские». У представителей классицизма цель иная, куда более глубокая: подчеркнуть в скульптурных образах идею здания, выразить патриотические чувства, прославить в античных формах подвиг своего государства. Именно так понимали роль своих скульптурных групп те ваятели, что вместе с Захаровым работали над украшением Адмиралтейства.
Пострадавшее в дни войны, оно было отлично восстановлено ленинградцами по чертежам Адриана Захарова. Воспетая Пушкиным Адмиралтейская игла с золотым корабликом стала такой привычной приметой великого города, что именно она и выбита на боевой медали «За оборону Ленинграда». Оно и само, захаровское здание Адмиралтейства, вполне заслужило этот знак победы над силами зла.
III
По мертвую и по живую воду
(Мемориальные пушкинские места)


Есть в России одна дорога — деловитая, оживленная, подобная сотням других. От ленинградских окраин бежит ее ухоженная асфальтовая лента через Гатчину и Псков до города Острова. Отсюда, перемахнув по двум старинным цепным мостам через реку Великую, дорога долго кружит полями и голыми равнинами, чтобы привести, наконец, своих путников в гористую лесную местность, где уже издали, выше сосен и елей, становится виден остроконечный шпиль Святогорского монастыря. Сюда февральской ночью 1837 года привезли из Петербурга для тайного погребения гроб с телом Пушкина.
Мне давно хотелось увидеть последнюю дорогу Пушкина в такую же зимнюю пору, как полтора столетия назад, когда офицер, слуга и жандарм провожали тело поэта к святогорскому холму. Проехать и пройти этой дорогой, как бы следуя за полозьями пушкинских саней, я решил от самого Невского.
Шофер такси довольно хорошо знал излюбленные экскурсантами пушкинские места в самом Ленинграде и ближних пригородах, однако просьбе ехать на Невский немного удивился. Мы остановились у бывшего Полицейского моста. Удивление шофера возросло, когда он услышал, что все четыре угловых здания на перекрестке Невского и набережной Мойки непосредственно связаны с жизнью и гибелью Пушкина.
Вот на углу уже знакомый нам превосходный памятник архитектуры, бывший строгановский дворец. Граф Г. А. Строганов считался, на правах дальнего родственника, покровителем жены поэта, Наталии Николаевны. Обладатель огромного богатства, царедворец, близко стоявший к императорскому семейству, Г. А. Строганов был назначен опекуном детей Пушкина и, кроме того, принял на себя хлопоты о похоронах поэта. Поэтому в прежние времена его обычно причисляли к благожелателям Пушкина.
Однако беспристрастный анализ фактов, документов, показаний современников и некоторые новые обстоятельства, недавно выясненные советскими исследователями, раскрывают роль графа Г. А. Строганова как одного из прямых виновников кровавой развязки ссоры Пушкина с Дантесом и Геккерном.
Прямо к графу Строганову метнулся голландский посланник Геккерн, приемный отец Дантеса, получив 26 января последнее письмо разгневанного поэта. И, по сути, именно эти два человека — Геккерн и Строганов — решили участь Пушкина. Сам Геккерн писал: «Я посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною… вызов господину Пушкину был послан». И никто иной, как тот же граф Строганов, впоследствии писал голландскому посланнику, прося его сообщить высланному из России Дантесу о «сочувствии к нему всех честных людей».
Граф Г. А. Строганов, его жена Ю. Строганова, внебрачная дочь последней, — Идалия Полетика, известная своей лютой враждой к Пушкину, граф и графиня Нессельроде, приятели Дантеса кавалергардские офицеры Куракин и Трубецкой, граф А. X. Бенкендорф, графиня С. А. Бобринская, тетка Наталии Николаевны Пушкиной Е. И. Загряжская — вот несколько непосредственных виновников травли и убийства поэта, уж не говоря о коронованном их подстрекателе. Как известно, царь выслал Дантеса во Францию. Сердце его «билось ровно» еще целых 58 лет после выстрелов на Черной Речке. Дантес де Геккерн занимал важные государственные посты во Франции и в отличие от убитого им русского поэта удостоился пышных похорон в 1895 году.
Как раз напротив строгановского дворца, на другой стороне Невского, сохранилась до наших дней бывшая голландская церковь в Петербурге — грамотная, добросовестная (но и только!) работа архитектора Жако. Портик с четырьмя колоннами, купол над центральной частью дома. Этот внушительный, хотя и довольно сдержанный фасад вызывает в нашей памяти все те же зловещие образы пушкинских гонителей. Ведь перед этим домом, почти не изменившимся за полтора века, часто стояла в пушкинские времена карета с ливрейным лакеем, ожидавшая своего хозяина барона Геккерна.
Может быть, именно здесь, в церковной тишине, Геккерн обдумывал, как бы оскорбительнее сочинить анонимку о семейной жизни поэта, кому из приятелей Дантеса поручить рассылку этих грязных листков, по каким адресам их направить…
Анонимный пасквиль был получен Пушкиным и некоторыми его знакомыми 4 ноября, и авторство Геккерна заподозрили очень скоро. Поэт послал вызов Дантесу, а напуганный Геккерн всеми силами старался притушить грозящий пожар, умоляя Пушкина об отсрочке дуэли.
Однако лишь только затих шепоток о разосланном пасквиле и поэт, несколько успокоенный женитьбой Дантеса на сестре Наталии Николаевны, Екатерине Гончаровой, отказался от дуэли, враги Пушкина тотчас же затеяли новые интриги. Пока плелась эта паутина, сам поэт, несмотря на тревоги и волнения, все-таки старался не вовсе отрываться от письменного стола. И как раз третий дом на перекрестке Невского и Мойки прямо связан с литературной работой Пушкина перед гибелью.
Дом выходит на набережную Мойки, углы его закруглены и украшены двухъярусными колоннами в духе барокко. Это придает зданию нарядность и делает похожим на дворцовые строения. Тут помещалась типография издателя Плюшара, и Пушкин бывал в этом доме по литературным делам. Последний раз он был здесь 10 (22) декабря 1836 года и договорился с Плюшаром о выпуске однотомника стихотворений.
И наконец, четвертый дом на том же перекрестке…
Это последний дом, откуда Пушкин, еще здоровый и невредимый, вышел на людный Невский проспект, чтобы прямо отсюда ехать на дуэль. Находилась здесь кофейня Вольфа и Беранже. За столиком этой кофейни Пушкин обсудил со своим секундантом Данзасом подробности предстоящей дуэли. Санки ожидали у подъезда, швейцар подал Пушкину шляпу и меховой плащ.
На глухой окраине Петербурга, за Черной Речкой, противники сошлись в половине пятого дня 27 января. Смертельно раненный Пушкин сделал ответный выстрел, целя в грудь противнику. Выстрел был точен, но пуля отскочила будто бы от пуговицы мундира, и убийца поэта отделался легким ранением руки.
Уже в наши дни группа ленинградских криминалистов экспериментально воспроизвела условия дуэли, вплоть до выбора тогдашнего сорта пороха для ответного пушкинского выстрела. При этом опыте пуля буквально вдавила пуговицу в грудь манекену.
У криминалистов укрепилось подозрение, не спасла ли Дантеса заранее надетая кольчуга. В самом деле, не для того ли и понадобилась Геккерну отсрочка дуэли, чтобы заказать для Дантеса нагрудную кольчугу, например, из офицерского корсета, усиленного стальными пластинами?
Впрочем, знатоки той эпохи, ученые-пушкинисты, не склонны поддерживать предположение криминалистов насчет Дантесовой кольчуги.
На месте дуэли теперь стоит обелиск из красноватого гранита — цвет камня напоминает о роковом исходе поединка. Ленинградцы поставили этот памятник в дни столетней годовщины со дня гибели Пушкина.
Отсюда, уже в сумерках, его везли домой, на набережную Мойки. В санях он еще не знал, что умирает, но страдал жестоко. Ни на миг мужество, присущее Пушкину с детства, не изменило ему. Даже секундант убийцы, д’Аршиак, свидетельствовал, что на дуэли «Пушкин был изумительно высок, выказал нечеловеческое спокойствие и мужество». Такое же презрение к боли и смерти он выказывал до последнего вздоха.
После смерти Пушкина его последнюю квартиру (набережная Мойки, 12) никто не берег и не охранял. Лишь через пятьдесят лет на доме появилась мемориальная доска. Квартиру Пушкина не раз перепланировали, а в связи с перестройкой дома в 1910 году даже отрезали часть этой квартиры для устройства парадного хода на Мойку.
Только после Октябрьской революции квартиру превратили в музей, восстановили семь комнат, которые занимала семья поэта, реставрировали дом снаружи, придав ему тот архитектурный облик, какой он имел при Пушкине. Все это сделано по документам, воспоминаниям, зарисовкам современников.
…Минуя вестибюль, который в давние времена был общим для жильцов всех трех этажей дома, входим в квартиру Пушкиных, живших в первом этаже. Удивительное чувство охватывает вас здесь.
Вы почти не ощущаете музейной атмосферы, словно еще сохраняют эти стены запах жилья. Кажется, хозяин квартиры только вышел, он вернется, непременно вернется к своему столу, чернильнице, книжным полкам. И вы ловите себя на мысли, что вроде бы и нескромно так жадно любопытствовать в чужом доме. А стихотворные цитаты, висящие по стенам в виде подписей к портретам и рисункам, нисколько не нарушают цельности впечатления, потому что стихи Пушкина очень хочется точнее вспомнить именно тут, память же наша обманчива…
Здесь особенно глубоко чувствуешь, что поэта убили в самом расцвете его сил. Он был полон великолепных замыслов. Черновики и наброски, отрывки начатого, конспекты — все, что он писал за этим скромным столом, складывается, вместе взятое, в горестную повесть о том, что еще мог свершить и не успел свершить Пушкин.
Он без устали читал. Книги его библиотеки в кабинете испещрены пометками. Сам он говорил с упреком:
«Мало у нас писателей, которые бы учились, большая часть только разучивается».
Никто из писателей, современников Пушкина, так не углублялся в источники, исторические документы, рукописи, архивные богатства. И когда Пушкин, понимавший, что идет в Петербурге к неизбежной катастрофе, подал ходатайство об отставке, прося лишь позволения продолжать необходимые ему изыскания в архивах, царь отказал. Закрывая поэту доступ к материалам, заключающим в себе правду истории, он отнимал у Пушкина смысл жизни, и поэт, стиснув зубы, взял прошение об отставке обратно. Это был путь самопожертвования — во имя литературного долга.
В этой квартире была закончена «Капитанская дочка» — под стеклом тут выставлена фотокопия рукописи. Большое произведение о Петре, начатое здесь, стало бы в мировой литературе предметом нашей национальной гордости. А работал поэт урывками между светскими приемами и постылыми камер-юнкерскими обязанностями, терзаемый интригами.
Тут рождались и замыслы будущих номеров «Современника» — об этом журнале Пушкин думал еще утром, в день дуэли, писал письмо переводчице и писательнице А. О. Ишимовой о материале для очередного выпуска. Эти строки — последнее, что вывело пушкинское перо. Вот и оно перед нами — простое гусиное перо, самый волнующий экспонат музея!
Идем по этим комнатам. За маленькой буфетной очень простая столовая, потом гостиная со старинным фортепьяно, а на его крышке ноты шутливого канона, написанного Пушкиным и его друзьями в 1836 году, на празднике в честь М. И. Глинки. На премьере первой оперы композитора «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») — 27 ноября 1836 года — Пушкин присутствовал. Прошло несколько недель, и здесь, в этой гостиной, дежурившие в доме друзья услышали слово: скончался!
Рядом с гостиной спальня Наталии Николаевны, а по соседству комната детей. Их было четверо, и самой младшей, Наташе, еще не исполнилось и года, когда убили отца.
Об этом убийстве и повествуют собранные здесь предметы: чиненый жилет Пушкина, снятый с него, раненого, свеча, оставшаяся после отпевания, перчатка Вяземского — пара к той, которую Вяземский бросил в гроб своего друга. Сохранились и записки о состоянии здоровья Пушкина, что вывешивал Жуковский на двери квартиры, — их читали все приходившие к дому, чтобы узнать, тяжела ли рана.
А в кабинете, вероятно, и сам поэт, войди он сейчас сюда, не сразу угадал бы перемены! Тут и письменный стол с чернильницей, подарком П. В. Нащокина, и рабочая конторка, за которой Пушкин любил писать, полулежа на своем диване.
Часы стоят на 2,45 пополудни: в этот миг сердце поэта остановилось…
А еще через три четверти часа Пушкина — мертвого — вынесли в переднюю, потому что по приказу Николая шеф петербургских жандармов Дуббельт опечатал кабинет, чтобы позднее учинить там обыск.
Скульптор С. И. Гальберг снял с лица Пушкина посмертную маску. Она висит в передней, куда народ — тысячи людей! — потек прощаться со своим поэтом. Власти встревожились этим траурным шествием. Сын графа Г. А. Строганова, молодой А. Г. Строганов сунулся было в толпу, но, по его словам, увидел там «такие разбойнические лица и такую сволочь», что предупреждал отца своего не ездить туда.
Среди этих «разбойнических лиц» был и Иван Сергеевич Тургенев. Он попросил слугу срезать у поэта прядь волос для медальона. Теперь этот медальон с прядью пушкинских волос и запиской Тургенева — одна из заветных реликвий музея.
Людям, далеким от музейной работы, вся здешняя экспозиция представляется такой натуральной, простой, само собой разумеющейся, что можно подумать, будто создать музей-памятник было легко. На самом же деле сколько понадобилось неутомимых поисков, труда знатоков, чтобы восстановить здесь эту волнующую атмосферу подлинности, достоверности! Важная заслуга в создании музея принадлежит его многолетнему хранителю, ученому-пушкинисту, неутомимому изыскателю документов, книг, предметов, связанных с поэтом и его окружением, — Екатерине Владимировне Фрейдель.
Здесь, в последней квартире, тело поэта оставалось недолго: гроб уже в ночь на 31 января (12 февраля) перевезли в Конюшенную церковь. Николай приказал не допускать «толпу» на отпевание, а газетам и журналам — соблюдать надлежащую умеренность. Тут же полетело с фельдъегерем распоряжение псковскому губернатору: «Никакой встречи и никакой церемонии!»
Тайком, под охраной жандарма, мертвого поэта повезли в Святогорский монастырь. Из друзей Пушкина сопровождал тело молодой офицер Александр Тургенев — брат осужденного декабриста — и старый дядька поэта — Никита Козлов. На рассвете 6 февраля (18-го) лишь они, да несколько местных крестьян, да петербургский жандарм предали Пушкина земле.
Где белый памятник, и шум берез,
и ночь.

К Пушкинским Горам я приближался на стареньком местном автобусе.
Как и во всякой поездке по России, здесь не устаешь прислушиваться к живой поэзии в названиях придорожных сел и деревень. Иногда они остродраматичны («Зарезница», «Кровоселье»), иногда спокойно-повествовательны, иногда ироничны, а то и вовсе загадочны для чужого: Череха, Стремутка, Черепягино…
За селами Решеты, Гараи и Заходы рощицы и перелески чередовались с заснеженными безлесными полями. По дороге мела поземка. И на заносимом снегом асфальте часто попадались дети-школьники. Здесь есть близ дороги совсем маленькие деревни, и ребята оттуда ходят в школу за несколько километров. Рейсы автобусов спланированы так, чтобы дети могли утром доезжать до школы и в обед ехать обратно. Но школьники постарше не прочь пробежаться по морозцу, иных мы обгоняли в пути. Водитель терпеливо тормозил и подсаживал каждого. Ребята отвечали на заботу песнями. По команде водителя запевалы выходили вперед, становились лицом к публике, а их товарищи, заполнявшие задние сиденья автобуса, дружно поддерживали запев.
Ребята рассказали, что в стенах Святогорского монастыря, в бывшем Братском корпусе, теперь работает детская музыкальная школа. Может быть, этому обстоятельству мы и были обязаны хорошим, музыкально верным и задушевным исполнением песен? Мела метель, февральские снега уходили за горизонт, пассажиры зябко поеживались, а ребята пели:
Край родной, навек любимый,
Весь цветет, как вешний сад.
И была в этих словах такая неколебимая, незыблемая вера, что и мы, пассажиры, почувствовали: должно быть, и впрямь весной-то уж пахнет, а там и зацветет весь родной край…
Уже в темноте очутился я перед входом в святогорскую монастырскую ограду.
От чернеющего в сумраке голыми сиреневыми кустами дворика вверх на холм, к Успенскому собору, круто поднимается каменная лестница с разметенными от снега, истертыми ступенями-плитами. Железная калитка на верхней площадке оказалась лишь прикрытой, не запертой. Я обогнул здание собора и сразу же за алтарными выступами в окружении темных деревьев, тихих звезд и узорного чугуна решетки увидел памятник. Был он в дощатом защитном чехле, но траурная урна в нише виднелась сквозь стекло оконца. О том, что испытывает человек в редкостную минуту ночного одиночества у могилы Пушкина, говорить, думаю, нет надобности.
Утром сменщица сторожихи отперла собор и рассказала, как на ее глазах фашисты взрывали этот старинный памятник псковской архитектуры. Было это в марте 1944-го. С окраины поселка было видно, как саперы закладывали взрывчатку в толщу вековых стен, а офицер, стоя поодаль, подавал команды. На воздух взлетела колокольня. Главное здание и приделы обрушились наполовину.
Сейчас даже трудно поверить этим рассказам очевидцев, так мастерски восстановлен из руин Успенский собор Святогорского монастыря. Он выглядит таким, каким знал его Пушкин.
Могилу поэта на вершине холма немцы заминировали зарядами огромной разрушительной силы. Мины были натяжного действия, рассчитанные на то, чтобы кто-нибудь зацепил ногой натянутый провод.
И саперы наших наступающих частей наспех написали на дощечке:
«Могила А. С. Пушкина, заминирована. Подходить нельзя!»
Как только бойцы закрепили рубеж, усталые саперы вернулись к полуразрушенному монастырю, оцепили могилу, сняли провода, хладнокровно вынули смертоносные заряды и убрали, наконец, свою дощечку, не подозревая, что ее подберут и сберегут заботливые, умные руки. Теперь эта дощечка, ставшая памятником Великой Отечественной войны и реликвией пушкинистов, хранится среди музейных экспонатов в соборе.
Здесь устроены две интересные выставки. Одна рассказывает историю Святогорского монастыря, основанного при Иване Грозном и служившего форпостом обороны города Воронича, впоследствии разрушенного Баторием. Вторая выставка посвящена дуэли и смерти Пушкина. В мрачном и холодном соборном приделе, в соседстве с пушкинской могилой, выставка эта незабываема. Представленные на ней полотна с изображением раненого Пушкина, последней дороги и тайных похорон производят впечатление потрясающее.
…На околице поселка Пушкинские Горы, что издавна возник около подножия монастырского холма, стоит обыкновенный дорожный указатель у развилки. А написано на нем: «Тригорское — Михайловское».
Зимняя пора не очень-то благоприятна для поездки в самое сердце пушкинского заповедника — Михайловское, но есть и у этой поры свои преимущества, своя прелесть. Можно увидеть Михайловское уединенным, вслушаться в его святую тишину. Можно навестить дом и сад поэта именно тогда, когда здесь
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя…
От Пушкинских Гор в Михайловское ведет та же дорога, где проносились легкие пушкинские санки, мимо деревни Бугрово, к Михайловскому лесу. При въезде в этот заповедный лес раньше была перекинута над дорогой деревянная арка с портретом Пушкина и словами его, будто адресованными потомкам:
Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Арку потом убрали, а пушкинские слова высекли на огромном придорожном валуне.
Дальше — извилистая, холмистая, задушевная лесная дорога. Приводит она к небольшой усадьбе. Входишь в калитку, спускаешься в овражек, минуешь горбатый мостик, вспоминаешь: «Да ведь это же здесь островок уединения!» И бредешь тропками, где будто еще совсем недавно хозяин Михайловского проезжал верхом, встречал приезжих, провожал друзей…
Бредешь, жадно глядишь на каждое дерево, стараешься угадать, помнит ли дерево «его» или оно гораздо моложе?.. И вдруг, как-то неожиданно, возникает до боли знакомое: деревянный одноэтажный дом, старый вяз перед ним, а слева, в сторонке, рядом с могучим кленом, еще один небольшой дом, который не спутаешь ни с одним другим на свете… И справа тоже какой-то флигель… Да как же так? Ведь мы читали о гибели всех этих памятников!
Сама собой вспоминается здесь, в возрожденном Пушкинском заповеднике, старая русская сказка, одна из тех, что рассказывала Пушкину зимними вечерами няня — Арина Родионовна. Это сказка про вещего Ворона, что летал для Серого волка за мертвой и за живой водой.
Мертвая вода русской сказки — понятие не отрицательное. Ведь сперва Серый волк должен был обрызгать изрубленного на куски Ивана-царевича именно мертвой водой: от нее тело срастается, раны заживают, щеки розовеют. И тогда брызгал на царевича Ворон живой водой, и просыпался Иван-царевич со словами: «Долго же я спал!»
Точно так же, мертвой и живой водой, был воскрешен и Пушкинский заповедник. Трудная задача возродить из пепла Михайловское досталась пушкинисту и искусствоведу Семену Степановичу Гейченко. Он пришел сюда прямо из фронтового госпиталя, еще не совсем привыкнув обходиться одной — здоровой — рукой. К обязанностям директора заповедника Семен Степанович приступил еще до окончания войны. Погромыхивала она довольно близко: как известно, прибалтийская, так называемая курляндская, группировка гитлеровцев капитулировала последней, уже после падения Берлина.
Как и в Святогорском монастыре, так и здесь, в Михайловском, пришлось проверять миноискателями каждый квадратный метр земли, расчищать, обезвреживать, разбирать. Из-под руин и обломков извлекли остатки уникального памятника — домика няни, единственного здания, простоявшего с пушкинских времен до гитлеровского нашествия. Сейчас эти остатки выставлены в домике обновленном.
Так обрызгано было Михайловское сначала мертвой водой. Изрубленное «тело» заповедника зарубцевалось, зажили раны: по документам и старым рисункам, обмерам уцелевших каменных фундаментов, опросам старожилов выросли вновь дом поэта, домик няни, флигель под названием «кухня-людская» и еще один флигелек, разобранный еще сыном Пушкина в XIX веке. Все, что в силах была сделать мертвая вода, было сделано. Теперь требовалась живая вода, чтобы возрожденный пушкинский уголок действительно ожил не как простой макет прошлого, а как подлинный приют поэта, помогающий нам глубже понять его творчество.
Живая вода — это общая наша любовь к Пушкину. И работники заповедника заботой своей сумели сделать все восстановленное в Михайловском и Тригорском действительно достойным бережливой народной любви.
Здесь надо побывать, чтобы увидеть, как хорошо сохранены, несмотря на все перенесенные невзгоды, чудесные уголки «пушкинской» природы, возрождены пейзажи, знакомые из хрестоматийных строк — все эти лесистые холмы, озера, аллеи, речные обрывы… Здесь надо побывать, чтобы порадоваться, как точно восстановлен дом поэта, понять, какой величавый вид открывается из окна пушкинского кабинета на долину луговой речки Сороти. Там, за этой ширью лугов, находится тоже давно знакомое нам Тригорское с его изумительным мемориальным парком над Соротью.
Но не только прекрасная живая природа воссоздает в заповеднике дух подлинности этих мест. Музеи в Михайловском и Тригорском обладают уникальными предметами, которые очень помогают нам почувствовать, что мы поистине пришли сюда к Пушкину. Эти подлинные вещи, принадлежавшие поэту, бывавшие в его руках, придают особенную значимость возрожденной обстановке комнат. В кабинете можно увидеть и трость поэта и подножную скамеечку Анны Петровны Керн, а в соседнем зальце лежат под стеклом старинной горки бильярдные шары и кий, служившие Пушкину.
Пожалуй, самый трогательный экспонат сегодняшнего Михайловского — это дубовая шкатулка Арины Родионовны с надписью: «Для чорного дня. Зделан сей ящик 1826 г. Июля 15-го дня». Когда-то шкатулку взял себе на память поэт Н. М. Языков, а один из его потомков подарил эту реликвию Михайловскому музею.
Ведется здесь, в заповеднике, большая работа, пополняющая науку о Пушкине и его времени интересными открытиями и исследованиями. Всего один пример. С. С. Гейченко в результате упорных архивных розысков удалось найти записки святогорского игумена Ионы, надзиравшего за Пушкиным в годы его михайловской ссылки. Записки Ионы и другие документы о монашеском житье-бытье оказались драгоценными и для пушкиноведения и для атеистической работы. Как известно, в Михайловском был создан «Борис Годунов», причем странствующие старцы, отец Мисаил и отец Варлаам, «списаны» поэтом с реальных святогорских монахов. Исследования С. С. Гейченко лишний раз подтвердили, как точен и близок к натуре пушкинский рисунок этих бродячих, христарадничающих бездельников.
Стали обычными в заповеднике интересные Пушкинские чтения, а народные празднества, приуроченные ко дню рождения поэта, год от года становятся все многолюднее. Они бывают здесь в первое воскресенье июня и собирают до десятка тысяч участников. На торжества в честь 165-летия со дня рождения Пушкина (в июне 1964 года) съехалось более тридцати тысяч гостей из окрестных селений, из Пскова и Острова. Тысячи гостей собрал здесь и пушкинский День поэзии в июне 1967-го.
Вот почему поездка последней дорогой Пушкина не оставляет тягостного чувства. Мы видим, как много значит сегодня для нас пушкинская лира, как дорог народу пушкинский голос. И невольно вспоминается мне одна сцена, очень давняя, московская.
В один из первых годов революции к памятнику Пушкина на Тверском бульваре подошла вечером, уже при фонарях, группа красноармейцев в буденовках и с красными полосами на шинелях. Самый высокий из них стал перед бронзовым Пушкиным так, что склоненное лицо поэта, казалось, прямо было обращено к молодому собеседнику. Поэт будто ждал, что же пришел сказать ему этот представитель «племени младого, незнакомого».
И тот громко, на всю площадь, стал читать стихи.
Я не ручаюсь, что запомнил их правильно, но кончались они примерно так:
Сколько слав
забвенья скрыто пеплом!
Сколько тронов
взято в топоры!
Только твой треножник
неколеблем
Чернью,
потрясающей
миры!
Я так и не смог узнать, чьи это были стихи. Для меня, юнца, они прозвучали тогда вещим голосом самóй великой Революции.
IV
«Порфироносная вдова»


Около двух столетий отделяет нас от той поры, когда на тихих улочках и в пригородах патриархальной Москвы, уступившей с петровских времен свое общерусское главенство Петербургу, стали опять во множестве появляться строительные леса. Сооружались новые городские дома знати, переделывались или возводились вновь домовые церкви. Среди березовых рощиц и луговой зелени Кускова, Архангельского, Останкина возникали великолепные усадебные ансамбли, окруженные «версальскими» парками с прудами, фонтанами и статуями…
Чем же было вызвано это строительное оживление к концу XVIII века?
Манифест о вольности дворянской, обнародованный 18 февраля 1762 года, освобождал дворянина от обязательной военной службы и других государственных обязанностей, давал ему право свободно распоряжаться своим временем, то есть благоденствовать летом в загородной усадьбе, а зимой переезжать в городской дворец или особняк.
Именно в те годы многие представители московских графских и княжеских фамилий, богачи с титулами и без титулов с облегчением выходили в отставку, покидали места службы, в особенности невскую столицу с ее сырым климатом, придворными интригами и чиновной чопорностью, возвращались в Москву и, прочно осев здесь, принимались восстанавливать или строить наново свои дома.
В архитектуру этих домов «явно вмешался гений древнего Московского царства, который остался верен своему стремлению к семейному удобству» (В. Г. Белинский).
По словам Белинского, петербуржец в Москве «с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы… на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным… Один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности… Между двумя домами скромно и уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонившись боковыми стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему упасть… Подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка, или грязная харчевня, или такая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота…»
Белинский подмечает печать семейственности и на дворянских домах, и в купеческом Замоскворечье, где «дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду».
«Из средневекового древнего города Москва начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным, тогда как Петербург стал городом по преимуществу административным, бюрократическим и официальным».
Заметим сразу, что эта меткая и прозорливая характеристика Москвы и Петербурга относится к первой половине XIX века, то есть уже к концу того периода в истории русского зодчества, который мы зовем периодом московской классики, московского ампира. Начало же этому периоду было положено во второй половине XVIII века.
Тогда, примерно с шестидесятых годов, в русском искусстве восторжествовал классицизм, пришедший на смену различным формам барокко. Прихотливое, капризное барокко уже не могло отвечать новым вкусам, новым идеям гражданственности и просветительства. Эти идеи стали близкими образованной части дворянства, тяготившейся подневольным положением крестьян, дикостью русского барства, пережитками средневековья в крепостнической стране. Мысли об идеально устроенном правовом дворянском государстве волновали Сумарокова и Фонвизина, Кантемира и Крылова, Новикова и молодого Радищева.
С начала екатерининского царствования эти идеи стали своеобразно преломляться в эстетике русского классицизма, воплощаясь в величавые архитектурные формы, унаследованные от древнего республиканского Рима.
И тогда по своеобразной и самобытной своей красоте, получившей мировую известность, Москва, по-новому понятая и спланированная талантливыми зодчими, стала соперничать с Петербургом.
Конечно, московская архитектура уступала петербургской в великолепии и строгости, но обаяние древней столицы было в другом — в задушевности, человечности и красочности ее построек, ее «семи холмов» и «сорока сороков», к которым XVIII век добавил немало новых зданий и ансамблей.
Первая же четверть XIX века придала главным площадям Москвы классическую стройность, обогатила город прекрасными, цельными по замыслу сооружениями, а главное, мудрыми планировочными наметками, нацеленными в далекое будущее. Забегая вперед, приходится сказать, что капиталистическое развитие города пошло стихийно, и наметившееся единство градостроительного замысла было позже нарушено.
Крупнейшими мастерами московского зодчества в период раннего классицизма были Василий Баженов и его ученик, продолжатель баженовских традиций Матвей Казаков.
Многие знатоки архитектуры да и просто люди, ценящие «застывшую в камне музыку», считают лучшим зданием Москвы XVIII века бывший Пашков дом, построенный на Моховой улице в 1784–1786 годах. В XIX веке его знали как Румянцевский музей, теперь это Государственная публичная библиотека имени Ленина. Сам Владимир Ильич, пользовавшийся этой библиотекой, очень любил «Румянцевку». Бонч-Бруевич вспоминает, что Ленин восхищался красотой и цельностью здания.
Документы и проектные материалы, касающиеся Пашкова дома, почти целиком сгорели в 1812 году, но исследователи установили, что автором его был не кто иной, как великий русский зодчий Василий Иванович Баженов (1737–1799).
…Моховая улица (ныне проспект Маркса) спускается чуть под уклон к перекрестку, и если идешь пешком вниз, то справа от тротуара, словно бы в такт шагу, плавно нарастает зеленый, покрытый дерном, холм. Вершина его выровнена, окаймлена стриженым кустарником. Там и высится чудесное здание, вернее целая композиция, в которой сразу угадываешь руку большого мастера, наделенного безошибочным чувством пропорции, энциклопедическим знанием архитектуры прошлого и умением связать архитектуру с пейзажем. Впрочем, пейзаж-то в XVIII веке был здесь иным!
Сейчас склон холма просто срезан, тогда же он спускался к реке Неглинной несколькими террасами. На этих террасах синели зеркала прудов, отражавшие парковую зелень. Вершину холма венчал великолепный Пашков дом.
Он окажется, в сущности, простым, если мы последуем примеру пушкинского Сальери («…Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп, поверил я алгеброй гармонию»…).
Центральный куб. Наверху бельведер с колоннами, балюстрада с вазами на каменных постаментах. Цокольная часть здания, отделанная рустом, выступает вперед, чтобы служить опорой для колонн портика. На фоне рустованной стены плавно повторяются арки оконных проемов. Вот тут-то и скрыта тайна мастерства, ибо пропорции окон так безупречны, что лишь рука мастера, искушенного и высокообразованного, могла найти эти абсолютно ритмичные формы. Вместо наличников зодчий избрал лепные гирлянды, в замках арок поместил львиные маски. Кажется, будто иначе и нельзя, а ведь решение совершенно оригинальное. Смотрится весь цокольный этаж как арочная галерея, своеобразное «гульбище».
Радуют глаз тончайшие зрительные эффекты, рассчитанные точно и верно. Например, звучание главного портика подчеркнуто тем, что его колонны поддерживают аттик с гербом, в то время как на обоих павильонах-флигелях портики завершены иначе — треугольными фронтонами. Взгляд не задерживается на этих треугольниках, а «проскальзывает» по ним выше, к аттику, чтобы, наконец, остановиться на бельведере. Там стояла до пожара 1812 года античная статуя, сам же бельведер был меньше в диаметре и «прозрачнее»: нынешние его полуколонны отделялись от стен, образуя колоннаду вокруг бельведера.
Баженов избрал для колонн композитный ордер — легкий и изящный, менее суровый, чем дорический, но более мужественный, чем ионический. И снова неожиданный эффект в расстановке колонн на выступе цоколя: вся эта подставка будто предназначена для шести колонн, однако их четыре. Вместо крайних колонн зодчий поместил на заготовленных для них базах… две статуи! Они красиво рисуются на фоне пилястр и окон второго этажа.
Все в целом создает впечатление праздничной нарядности, хотя красота здания достигнута не обилием украшений, а соразмерностью частей, тонкостью пропорций, цельностью замысла.
Со стороны «красного», то есть парадного, двора здание выглядит не менее торжественно и нарядно, а самый вход во двор оформлен в виде ворот. Их, вероятно, можно назвать лучшими въездными воротами в старой Москве, потому что каждая деталь — от ионических колонок и декоративных стенных арок до рисунка античных ваз на балюстраде — исполнена здесь с высоким художественным совершенством.
Как же складывалась жизнь этого замечательного архитектора, как он оттачивал свое огромное дарование?
Василий Иванович Баженов происходит из русской крестьянской среды. Родился он в семье церковного причетника в селе под Малоярославцем и с малых лет рос в Москве, куда отца перевели дьячком одной из церквей.
Дар будущего зодчего проявился рано. «Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах… по зимам из снега делывал палаты и статуи», — вспоминал он о своем детстве.
Известный архитектор Д. В. Ухтомский (строитель знаменитой лаврской колокольни в Загорске) принял пятнадцатилетнего Баженова в свою архитектурную школу-команду, а позже, уже окончив Петербургскую академию художеств, Баженов (в 1760 году) отправлен был за границу — во Францию и Италию — для усовершенствования мастерства.
Возвращение Баженова было триумфальным: двадцативосьмилетний русский зодчий вернулся на родину профессором Римской академии и со званием действительного члена Флорентийской и Болонской академий — самых прославленных в то время центров архитектурной науки.
После работы в Петербурге, где он возвел здание старого Арсенала и составил проект Смольного института, Баженов на три десятилетия переезжает в Москву и строит здесь много домов, из которых с наименьшими искажениями дошло до нас здание Библиотеки имени Ленина.
Творческий путь крупнейшего из русских зодчих эпохи раннего классицизма В. И. Баженова полон трагических конфликтов и горьких разочарований. Замыслы, которым он отдавал главные силы души, энергию и талант, будто по злому року не могли осуществиться, оставались проектами. Начатые по ним постройки то забрасывались, то грубо уничтожались, то доделывались другими.
После того как был заброшен проект Смольного института и Баженов стал работать в Москве, Екатерина II поручила ему полную реконструкцию Кремля. Императрица заказала Баженову постройку Большого Кремлевского дворца таких размеров, что, если бы проект был осуществлен, древние соборы и Иван Великий превратились бы во внутренние дворовые здания, а целые участки кремлевских стен пришлось бы снести. Этот проект связывали с общей перепланировкой Москвы.
И Баженов, поставленный во главу целой «кремлевской экспедиции», начал с 1767 года свой многолетний труд по разработке вариантов нового дворца.
На баженовских проектах Кремль утрачивает свое прежнее значение внутренней цитадели, укрывавшей за своими стенами народные святыни и царские палаты. Грандиозный дворец, реконструированные набережные и площади (в том числе и Красная), превращали Кремль во всенародный форум, грандиознее римского, преобразуя городской центр в средоточие гражданской общественной жизни.
Одобренный императрицей проект встревожил и возмутил москвичей, хотя никто не сомневался в могучем таланте зодчего. Просто никакой дворец не мог бы компенсировать утрату Кремля. Да, по-видимому, и сама царица, заказывая проект, едва ли всерьез собиралась осуществить его. Ей нужно было показать миру «неисчерпаемые» богатства царской казны, будто бы вовсе не истощенной войнами с Турцией, — к такому выводу пришли современные исследователи баженовского проекта.
Но искренний и прямодушный Баженов поверил в государственную необходимость и реальную осуществимость замысла. Он построил замечательную деревянную модель дворца (которая хранилась в Музее архитектуры, в бывшем Донском монастыре, а теперь выставлена в Кремле) и уже приступил к разборке кремлевской стены со стороны Москвы-реки. Заключались договоры с подрядчиками, шли подготовительные работы.
А в 1775 году Екатерина приказала прекратить их вовсе, сославшись на то, что пороховые взрывы привели к трещинам в стенах Архангельского собора. Если начало строительства было демонстрацией финансового могущества императрицы, то и приказ о прекращении постройки имел демонстрационное значение: Екатерина как бы подчеркивала, что не хочет «идти против воли народной». А для самого Баженова это был один из тяжелейших ударов в жизни — он-то верил, что дело начато всерьез!
По новому заказу Екатерины он начал строить для нее подмосковную резиденцию в Царицыне. С присущей Баженову широтой замысла был спроектирован и этот ансамбль, включавший два дворца — один для самой Екатерины, другой — для цесаревича Павла, различные службы, павильоны в парке, мосты, подъезды, парковые пруды.
Строительные работы близились к концу, необычайный ансамбль уже воплотился в камне, вызывал восторг знатоков, но смущал царедворцев своей новизной. Было решено показать будущую резиденцию самой императрице. Баженов встречал ее на строительной площадке в радостной уверенности, что его оригинальный замысел будет оценен по достоинству. Последовало новое тяжкое разочарование — императрица выразила полнейшее неудовольствие и приказала сломать дворцовые постройки, почти законченные.
Существует несколько предположений о причинах этого царского каприза: императрица нашла «непочтительным» размещение павловского дворца рядом и как бы «наравне» с ее собственным, не понравились ей подъездные пути, и весь ансамбль показался ей сумрачным, будто бы нарочно задуманным как место домашнего ареста для нее по проискам сторонников Павла, престолонаследника.
Сыграла свою роль в судьбе царицынского ансамбля и дружба Василия Баженова с известным русским просветителем Иваном Новиковым, одним из крупнейших деятелей передовой журналистики XVIII века. Екатерина питала к нему острую неприязнь, видела в нем врага крепостнического строя и давно готовилась к беспощадной расправе с опасным противником (в 1792 году он был приговорен к пятнадцатилетнему заключению в Шлиссельбургской крепости). Узнав, что Баженов близок к новиковскому кругу, императрица наказала своей немилостью и зодчего и его творение в Царицыне.
На месте сломанного дворца ученик Баженова Матвей Казаков построил новое здание, но и оно не было доведено до конца. Сохранились в Царицыне, рядом с казаковской руиной, лишь недостроенные баженовские сооружения — Оперный дом, Фигурные ворота, мост над дорогой. Исполнены эти постройки в необычном, своеобразном стиле, где традиции древнерусского зодчества сочетаются с мрачноватой готикой.
Эти руины из красного кирпича с белокаменным орнаментом, уцелевшие среди царицынского парка, невдалеке от живописных прудов, лишь «отдаленно свидетельствуют потомкам о несвершенных замыслах больших русских зодчих» — так выразился о царицынских памятниках их знаток и исследователь, советский архитектор А. В. Щусев.
Павел I, отослав Баженова снова в Петербург, поручил ему проектирование Михайловского замка. Исполнение постройки было потом передано архитектору Бренна, и тот достроил дворец, но современные исследователи установили, что проектное решение целиком принадлежит Баженову.
Назначенный в конце жизни вице-президентом Академии художеств, Баженов приступил к сбору чертежей и проектов всех выдающихся зданий в России. Однако и эта работа не была осуществлена: помешала болезнь, а потом и преждевременная смерть мастера.
…Никто так и не откликнулся на призыв Баженова, один Матвей Казаков, его московский соратник, поспешил послать ему проектные материалы некоторых своих построек.
Обоих зодчих соединяла давняя дружба. Еще во время работы над проектом Большого Кремлевского дворца Баженов сделал своим ближайшим помощником Казакова, не имевшего тогда ни диплома, ни звания — такое доверие внушал молодой талантливый зодчий-москвич, обучавшийся только в команде-школе архитектора Ухтомского. Попал Казаков в эту школу тринадцатилетним мальчиком.
Впоследствии самый блестящий период московского классицизма, на рубеже XVIII–XIX столетий, часто именовали казаковским.
Одно из ранних, но и самых выдающихся сооружений Казакова — здание для ведомств Сената в Московском Кремле. Ныне в этом здании оберегается музей-квартира Ленина и размещены правительственные учреждения Верховного Совета и Совета Министров СССР.
Здание это сооружалось на небольшой и очень неудобной — треугольной формы — площадке, только что освобожденной от последних кремлевских частных землевладельцев, князей Трубецких. Им пришлось переселиться в бывший апраксинский дворец на Покровке (кстати говоря, одно из лучших московских зданий растреллиевского барокко, — ныне это дом № 22 на улице Чернышевского).
Матвей Казаков с блеском решил трудную задачу — вписать большое парадное здание в заданные тесные границы. Он устроил три закрытых двора: два угловых — для служебных надобностей, третий — в центре, парадный. Композиционной основой здания стал великолепный круглый трехсветный зал (теперь он называется Свердловским), украшенный колоннами и перекрытый могучим куполом, хорошо видным с Красной площади. Это над ним плещется, точно алое пламя, красный флаг, поднятый по приказу Ленина в марте 1918 года. Особенно хорош этот флаг зимней ночью, когда в прожекторном луче будто летит сквозь метель над казаковским куполом.
Еще одна работа Казакова — старое здание университета. Правда, свой нынешний вид оно получило после 1812 года, когда сгоревшее здание восстановил Доменико Жилярди. Казаковский университет имел ионическую колоннаду, а Жилярди избрал суровый дорический ордер. У боковых крыльев были торцовые фасады с треугольными фронтонами и пилястрами, а стены главного здания расчленялись лопатками.
На выезде из Москвы, по дороге в Петербург, за Тверской заставой построил Казаков ансамбль Петровского дворца, редкостный по замыслу. Во время пожара 1812 года дворец служил убежищем Наполеону. Сейчас здесь помещается Воздушная академия имени Жуковского.
Ансамбль необычен, оригинален. Есть в нем и древнерусские мотивы — кувшинообразные столбы, стрельчатые арки, висячие гирьки, затейливые наличники, любимые в XVII веке. Но соседствуют они с мотивами готики, взятыми с Запада. Этот причудливый стиль, найденный еще Баженовым, некоторые исследователи называют ложноготическим, или «условно-готическим», хотя древнерусские черты здесь преобладают, дают тон общему. Да и самый материал постройки избран, как и в Царицыне, в традициях допетровской архитектуры — красные кирпичные стены, покрытые прихотливой вязью белокаменных украшений. Тут преобладает не готика, а скорее нарышкинское барокко.
…На Большой Калужской улице (Ленинский проспект) сохранилось классическое здание Голицынской, ныне Градской, больницы. Лейтмотив ее главного корпуса — величавый портик с шестью дорическими колоннами. Над фронтоном круглится строгий купол — излюбленная Казаковым архитектурная форма. Но не здесь зодчий заканчивает композицию — выше купола воздвигнут маленький изящный бельведер в форме ротонды.
Участок больницы был просторным, выходил к Москве-реке. Там, над береговым откосом, Казаков поставил две круглые беседки — ротонды, известные теперь каждому посетителю Парка культуры имени Горького.
Мировую известность приобрел казаковский Колонный зал в Доме союзов (в прошлом веке это был зал Дворянского собрания), сохранивший до наших дней свое первоначальное убранство.
Дворец Александра Разумовского на Гороховской улице (сейчас в нем — Институт физической культуры) был воздвигнут в начале XIX века, очевидно тоже не без участия Казакова.
Бывшая Гороховская носит теперь имя Матвея Казакова, великого московского зодчего. По словам его сына, весть о пожаре Москвы нанесла Казакову «смертельное поражение».
Действительно, пережить сердцем последствия московского пожара было нелегко. Картины спаленного города потрясали очевидцев — об этом есть много письменных свидетельств. Люди рыдали, глядя на взорванные, обожженные огнем башни Кремля: император французов приказал взорвать Кремль, Новодевичий монастырь, собор Василия Блаженного!.. Ночь отступления была дождливой, часть тлеющих фитилей погасла от сырости, часть потушили самоотверженные жители. Все же несколько взрывов грянуло — рухнули три кремлевские башни (Никольская, Троицкая и Водовзводная), обвалилась стена между Никольской и угловой Арсенальной башнями, звонница у Ивана Великого. Но очень скоро москвичи восстановили Кремль, как символ бессмертия России. Об этом Николай Станкевич писал так:
Склони чело, России верный сын:
Бессмертный Кремль стоит перед тобою.
Он в бурях возмужал — и, рока властелин,
Возвысился могуч, неколебим,
Как гений славы над Москвою.
Воскрешение Кремля таким, каким мы его знаем сейчас, — заслуга даровитых московских зодчих, особенно Осипа Ивановича Бове. В созданной тогда Комиссии строений О. И. Бове возглавлял Фасадническую часть, то есть ведал планировкой и архитектурным оформлением зданий. Он проявил величайшую бережность к старине при воскрешении городского центра и Кремля и вместе с тем талантливо обновил их.
На просмотр к Осипу Ивановичу поступали все без исключения проекты городских построек, казенных и частных. Строгий и тонкий вкус архитектора, его строительный опыт и академические знания сослужили Москве великую службу, заметно повлияли на облик обновленного города. Тогда-то и наметились черты архитектурного единства Москвы, были удачно решены ее центральные площади.
По проекту Бове разбили Александровский сад у кремлевской стены — на месте взятой в трубу Неглинки-реки, оформили здание Манежа (технический проект разработал инженер Бетанкур), засыпали Алевизов ров на Красной площади, убрали мосты к Спасской и Никольской башням.
В содружестве со скульптором Витали Бове возвел Триумфальную арку при въезде в Москву из Петербурга. Этот памятник русской славы будет восстановлен на Кутузовском проспекте — по дороге от центра города к Бородинской панораме.
Очень оригинален убор Никольской башни Кремля на Красной площади — с этим новым убором башня восстановлена из развалин по рисунку Бове.
Его таланту мы обязаны и знаменитым портиком Большого театра с его восемью колоннами, треугольным фронтоном и летящей над ними колесницей Аполлона. Один такой театральный портик мог бы навек прославить архитектора!
Оформление фасадов старых Торговых рядов на Красной площади, сооружение строгого больничного здания рядом с казаковским на Большой Калужской — все это далеко не полный список заслуг Бове перед нашей столицей.
В уцелевших доныне памятниках московского архитектурного классицизма воплощен созидательный пафос народа, память о победах русского оружия, высокогуманное представление о человеческой личности.
Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника.

Поле Бородинского сражения… Спокойная подмосковная равнина с плавными переходами от увалов к лощинам. Луговая речка Колоча, отороченная темной зеленью кустов. Монастырские стены и сельская колокольня. Тишина, сгустившаяся за полтора столетия. Ненадолго нарушали ее вновь взрывы и залпы, но она осилила их и торжествует снова… Точно так же, как художник Суриков спрашивал у кремлевских памятников: «Вы видели? Вы слышали? Вы свидетели?» — хочется и здесь спрашивать об этом у каждого холмика и овражка, у камней и ручьев, у высокого кургана, сохранившего поныне название «батарея Раевского».
В Бородинском сражении Наполеон лишился 58 тысяч солдат, 1600 офицеров, 47 генералов. Русская армия потеряла 44 тысячи солдат, полторы тысячи офицеров, 23 генерала. Значит, примерно 100 тысяч мертвых тел устлали Бородинское поле вечером 26 августа (7 сентября) 1812 года!
Разумеется, под Бородином Кутузов не мог еще ставить перед своим войском задачу полного разгрома армии Наполеона, хотя в своей знаменитой диспозиции перед боем русский полководец и учитывал возможность перехода к частичному преследованию неприятеля. Для разгрома наполеоновских войск русские силы под Бородином были, конечно, недостаточны. Но армия Наполеона здесь «расшиблась о русскую» (слова Ермолова) и «русские получили в этот день право называться непобедимыми» (слова Наполеона).
Стратегическое искусство русских военачальников оказалось выше наполеоновского: императору французов не удалось осуществить ни одного замысла обходных движений, он вынужден был принять продиктованные ему Кутузовым условия лобового боя на узком фронте в 4–5 километров. И нигде Наполеон не смог прорвать фронта, а русский кавалерийский рейд по французским тылам в разгар битвы вызвал смятение среди наполеоновского арьергарда, заставил императора прекратить атаки против русского центра и дал Кутузову возможность перегруппировать войска. После наступления темноты Наполеон отвел свои войска на исходный рубеж, оставив позиции, стоившие ему почти шестидесяти тысяч солдат.
Русские готовы были назавтра продолжать бой, и Наполеон это видел. Но Кутузов знал, что в бой не вводилась наполеоновская гвардия — она оставалась в резерве и в случае возобновления битвы могла нанести тяжкий урон. В результате мог сломиться сам костяк русской армии, могли погибнуть ее лучшие солдаты, имевшие опыт и Шенграбена, и Аустерлица, и Смоленска. Ради сбережения главных сил Кутузов и приказал войску остановить подготовку к новому сражению, уложить в повозки раненых, похоронить подобранные тела и приготовиться наутро к маршу.
Русская армия отходила в готовности развернуть свои походные порядки в боевые. Солдаты знали, что подойдут подкрепления, что решающие бои впереди. Иное настроение было в войсках противника. Маршалы упрекали Наполеона в нерешительности, солдаты-армейцы косились на гвардию. Потери устрашали наступающих: пехотные роты поредели почти наполовину, конница растаяла на три четверти.
С этого дня начал меркнуть блеск наполеоновской счастливой звезды. Гренадеры шли к Москве в молчании, зная, что впереди те, кого не удалось одолеть во вчерашней битве.
…На поле Бородинского сражения уцелело и дошло до нас со времен 1812 года только одно старое здание — свидетель и участник тех событий. Это белая церковь Рождества в самом селе Бородине, построенная в 1701 году. С ее колокольни наблюдатели передавали Кутузову сведения о передвижениях французских войск в самом начале сражения.
Мемориальные монументы, поставленные на Бородинском поле почти столетие спустя в честь 1812 года, стали знаменитыми. Их посещают тысячи гостей Бородина.
Несколько менее других известны памятники на Утицком кургане, потому что находятся они по левую сторону от железной дороги. Туда экскурсанты заглядывают реже, а заслуживают эти памятники особого почета. 26 августа 1812 года здесь, близ деревни Утицы, на крайнем фланге кутузовских войск, кипел кровопролитный бой за Утицкий курган — господствующую высоту на этом фланге. Мужество ее защитников сорвало замысел Наполеона обойти левый фланг русской позиции и нанести с тыла удар по Семеновским флешам одновременно с фронтальной атакой. Корпус маршала Понятовского безуспешно пытался прорвать русскую оборону близ Утицкого кургана. Здесь одна из ключевых позиций Кутузова, одна из вершин русского подвига.
На Бородинском поле перед столетием битвы поставили всего 33 монумента, и три из них увековечили память утицких защитников-гренадеров.
…Очевидцы рассказывают, что накануне битвы над русским станом парили орлы. Эта весть распространилась на всю Россию — передавали, будто парящего орла видели чуть не над головой Кутузова. Это казалось добрым предзнаменованием. Молодой поэт Жуковский посвятил стихи этому диву. Традиционный символ мужества и победы — могучий орел — получил поэтому в памятниках Бородинского боя еще и некий конкретный смысл. С тех пор образ орла тесно связан с подвигами защитников России в Отечественной войне 1812 года. Потому-то целая стая бронзовых орлов озирает с высоты гранитных колонн и мраморных обелисков широкий и спокойный простор знаменитого поля.
Когда выходишь с московского электропоезда на станции Бородино, глаз охватывает эту ширь сразу же за пристанционным поселком, по обе стороны асфальтированной дороги к музею и селам Семеновскому и Бородину.
Рядом со старыми монументами видны теперь памятники войны недавней, обелиски-надгробия, увенчанные не крестами и орлами, а лавровыми венками и золотыми звездами. В братских могилах лежат здесь московские ополченцы и солдаты кадровых частей, оборонявшиеся в 1941-м и наступавшие в 1942-м.
Сохранены и реальные следы боев: бетонные доты, стрелковые огневые точки, окопы, траншеи, противотанковый ров. На багратионовом Шевардинском редуте заметны стрелковые ячейки и остатки батальонного НП 1941 года. Рядом с батареей Раевского, у самой подошвы кургана, врыт в землю железобетонный дот для крупнокалиберного пулемета. А чуть выше, уже на фоне неба, чернеет силуэт надгробного камня, положенного на могиле Багратиона. Когда-то здесь высился, господствуя над всей местностью, главный памятник в честь Бородинского боя 1812 года.
От холма с батареей ведет короткая аллейка к обновленному зданию Бородинского военно-исторического музея. В нем теперь стало восемь залов вместо памятных мне четырех, устроен заново электрифицированный макет битвы, хранятся эскизы к панораме Рубо и подлинный личный экипаж Кутузова, экспонат уникальный и чем-то очень трогательный.
А за селом Семеновским — кирпичная ограда Спасо-Бородинского монастыря. Там недавно восстановили Тучковскую часовню. Ее поставила над могилой генерала А. А. Тучкова его молодая вдова. Браку их было всего несколько месяцев, когда пришла война.
Весть о страшном сражении заставила встревоженную женщину поспешить к месту события. Среди живых Тучкова не было; командиры и солдаты его частей молчали и отворачивались. В темноте ночи, с фонарем, сопровождаемая только старой нянькой, она искала тело мужа среди десятков тысяч трупов. И под утро нашла.
Похоронив мужа, вдова поставила сначала надгробную часовню, а потом основала Спасо-Бородинский монастырь, невдалеке от Багратионовых флешей, близ места гибели А. А. Тучкова. Здесь, в монастыре, молодая женщина и провела весь остаток жизни.
А в бывшей гостинице этого монастыря, ныне занятой под школу, останавливался Лев Николаевич Толстой, когда приезжал на Бородинское поле изучать местность и расположение войск, уточнять подробности сражения.
На Бородинском поле двух отечественных войн колосится и ходит под ветром рожь, тают снега под апрельскими дождиками… Люди приходят сюда и читают на придорожном памятнике близ села Семеновского краткую, точную надпись:
Подвигам доблести
слава, честь, память!
И если читают вслух и слушающие не видят ни орфографии, ни даты, как угадать, какой странице русской истории посвящены эти слова — году 1812-му или году 1942-му?..
Если вам посчастливилось побывать на Бородинском поле в погожий день ранней осени, когда зелень трав блекнет, а к небесной голубизне примешивается золотистый отблеск, когда кусты над рекой Колочею еще хранят полную силу зелени, а в лесах еще не облетела редкая листва, вот тогда, не откладывая, пойдите на Кутузовский проспект посмотреть панораму Рубо. Со свежим впечатлением от осеннего Бородинского поля вы еще больше оцените это сильное произведение батального искусства.
Между моим первым посещением панорамы «Бородинская битва» в дощатом балагане на Чистых прудах и вторичной встречей с этим произведением Рубо в 1964-м прошло ровно полстолетия!
Сравнивать впечатления 1914 и 1964 года нельзя, и не только из-за возрастного различия. Тогда, в 1914-м, зрители не были избалованы ни широкоэкранным цветным кинематографом, ни особенными постановочными эффектами в театре (вспомните любую батальную сцену в Центральном театре Советской Армии), ни достижениями панорамного кино. Разумеется, насмотревшись всех этих «иллюзионных» чудес шестидесятых годов XX века, нынешние зрители не испытают того чувства изумления и восторга, с каким полвека назад мы глядели на панораму Рубо. И все-таки даже ныне впечатление сильно, образы остаются в памяти, возникает желание пойти еще раз, приглядеться внимательнее, сравнить пейзажи панорамы с натурой, вникнуть в подробности боевых эпизодов.
В связи со столетней годовщиной битвы Москва получила отличный Бородинский мост, выстроенный по проекту архитектора Р. Клейна (1852–1924). Архитектура моста подчеркнуто торжественна и триумфальна, намеренно выдержана в излюбленных формах александровского классицизма времен 1812 года. Две полукруглые колоннады в виде четвертей ротонд и два обелиска как бы перекликаются с памятниками Бородинского поля, а на башне Киевского вокзала (архитектор И. Рерберг), мы сразу узнаем знакомых чугунных кутузовских орлов, будто перелетевших сюда с памятных монументов Бородина, Тарутина или Смоленска.
На месте же прежней подмосковной деревушки Фили, где в избе крестьянина Фролова собирался военный совет Кутузова, и стоит теперь кирпичная изба-музей, в 1962 году воздвигнуто было новое специальное здание для панорамы. Ближайшая к нему станция метро носит имя Кутузова, следующая именуется Багратионовской. Во всех этих архитектурных и словесных памятниках живет в нашей сегодняшней Москве благодарность героям 1812 года.
В соседстве с крошечной «кутузовской избой» здание для панорамы выглядит исполином. Его внешнее оформление — этюд современной архитектурной стереометрии, своего рода решение задачи на сочетание цилиндра с прямоугольными объемами. Авторы этого сооружения — архитекторы А. Р. Корабельников, А. А. Кузьмин, С. Л. Кучанов — как бы подчеркивают, что не мы, москвичи XX века, удаляемся из наших дней в русскую старину, а наоборот, приглашаем к себе предков. И прадеды пришли и увидели себя на московском проспекте, носящем имя их современника-полководца, в необычном здании, какого не бывало в те времена на столичных улицах.
…Небольшой спиральный подъем из круглого зала наверх, и мы в гуще Бородинского боя. Пылает Семеновское — мы как раз на окраине этой деревни. Черный столб дыма вырывается из чьей-то избы, застилает ясное, доброе осеннее небо.
Кипит бой. Кругом люди, люди, люди, тысячи, десятки тысяч — пеших, конных, занятых у пушек, бегущих, охваченных яростью боя. Кажется, все кругом полно движения, грома, огня. Нет, нет, не верьте экскурсоводу, будто это всего-навсего полоса крашеного холста ста пятнадцати метров длины и пятнадцати вышины, будто она отстоит от вас на каких-то тринадцать метров, занятых предметным планом! Верьте правде искусства, верьте художнику, который смог так наглядно воскресить для вас подвиг прадедов! Вы видите их в тяжком солдатском труде на поле боя, они бьются и умирают за вашу судьбу… И происходит это все на фоне знакомого вам осеннего пейзажа, такого умиротворенного, полного тихой песенной грусти.
Трудно сказать, какой эпизод боя волнует сильнее, является во всей этой композиции как бы центральным. Пожалуй, эпизод конной «сечи во ржи».
Очень выразительно Рубо противопоставил друг другу обоих полководцев.
Крошечная фигурка императора на белом коне впереди свиты не героизирована художником. Глядишь на этого всадника, и вспоминается его приказ перед сражением. Как мало мог обещать Наполеон своим солдатам! Удобные квартиры, скорое возвращение с добычей на родину…
Шестьдесят тысяч французов императорской армии легли на Бородинском поле, где теперь, близ Шевардинского редута, стоит памятник, воздвигнутый общественностью Франции в 1913 году. На сером каменном обелиске замерли в бессильном взмахе крылья бронзового орла, навеки прикованного к этому камню скорби.
Иная цель, иные слова к солдатам были у русского полководца. Мы видим его среди соратников. Вокруг него широкий луг, позади спокойные рощи Подмосковья. И от самой фигуры Кутузова исходит спокойствие. Бой достиг наивысшего напряжения, полуденное солнце светит сквозь пороховые облака, но Кутузов уже знает: цель битвы достигнута, нанесен первый удар, от которого противнику не оправиться.
Когда Кутузову донесли, что при восьмой атаке французов на флеши смертельно ранен Багратион, командующий ахнул и покачал головой. На место Багратиона поскакал Дохтуров, а Багратиона уносит тройка коней, впряженных в коляску: мы видим эту сцену на панораме, причем написана она уже в наши дни художником И. В. Евстигнеевым.
Эта часть полотна Рубо наиболее пострадала во время длительного хранения после первого экспонирования и была заменена. Заново воссоздан и весь предметный план, делающий незаметным переход от трехмерного, объемного пространства к полотну. Оно подвешено на кольце за пределами нашего глаза и равномерно освещается лучами рассеянного скрытого света.
Весь предметный план панорамы изготовлен из гипса, дерева и соломы. Очень удачно имитирована почва, растительность, подбитые орудия, разбросанные ядра. Все это не заслоняет главного, не отвлекает от основного — мастерской передачи на полотне исторического подвига России в Бородинской битве.
Автор панорамы, живописец-баталист Франц Алексеевич Рубо (1856–1928) был действительным членом Петербургской академии художеств и выдающимся педагогом. Его учениками в Академии художеств были известные советские художники-баталисты М. Б. Греков, И. И. Авилов, П. И. Котов.
Из трех созданных Ф. Рубо панорам — «Штурм аула Ахульго», «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва» — обе последние, восстановленные и реставрированные советскими мастерами живописи, стали выдающимися достопримечательностями двух наших городов-героев — Москвы и Севастополя.
Немало памятников искусства, посвященных Отечественной войне 1812 года, находится в ближнем и дальнем Подмосковье.
В селе Тарутине под Малоярославцем на средства, собранные крепостными крестьянами в 1829 году, был воздвигнут по проекту архитектора Антонелли красивый и величественный монумент — чугунная колонна, украшенная позолоченными воинскими доспехами. Огромный золотой орел с разящей молнией в когтях венчает это внушительное сооружение.
Тарутинский памятник, сильно поврежденный гитлеровцами в дни великой битвы за Москву, был капитально реставрирован в 1962 году и сейчас далеко виден из-за леса на окраине исторического села. Поставлен он посреди главного редута русских войск, стоявших лагерем на высоком берегу реки Нары у Тарутина. Сам фельдмаршал Кутузов, обращаясь к потомкам, просил не разрушать этих земляных укреплений — редутов, чтобы напоминали они внукам и правнукам о доблести защитников России. И потомки выполнили завет великого предка — три боевых редута до сих пор видны среди колхозных полей. На одном из них высится колонна с орлом, а рядом с другим редутом лежат под новым памятником те, кто именно здесь, у Малоярославца и Тарутина, начинал разгром гитлеровцев под Москвой в 1941 году.
В самом Малоярославце есть небольшой музей Отечественной войны, монументы на братских могилах 1812 года и выдающийся по красоте памятник архитектуры, поражающий совершенно необычным, высокохудожественным замыслом.
Это здание главного собора в Малоярославецком Черноостровском монастыре. Сам монастырь создан здесь еще в XIV столетии. В октябре 1812 года его каменные стены и так называемые «Голубые ворота» были тяжко изранены пулями и ядрами. Впоследствии эти реальные следы ожесточенного сражения под Малоярославцем, в результате которого Наполеону не удалось прорваться к Калуге и хлеборобным губерниям России, были сохранены на монастырских воротах — до сих пор видна на них табличка со старинной надписью: «Язвы 12 октября 1812 года».
А в пределах монастырских стен, высоко над заросшим зеленью оврагом, на самом краю, с необычайной смелостью воздвигнуто прекрасное здание собора в честь победы, одержанной Кутузовым под Малоярославцем.
Собор был заложен еще в 1812 году. Возвели его, как считают, по проекту большого русского зодчего Александра Лаврентьевича Витберга, друга Герцена по вятской ссылке. Исследователи полагают, что слова Герцена: «На днях он (Витберг) набросал дивный проект, слезой я наградил его и восторгом», — относятся именно к проекту Малоярославецкого монастырского собора.
И хотя здание нуждается в реставрации, оно и сегодня поражает оригинальностью композиции, редким изяществом и какой-то спокойно-грустной силой. Этот храм на обрыве вызывает в памяти лучшие творческие искания и традиции Баженова и Казакова.

В представлении всех, кто знает и любит Толстого, жизнь его неотделима от Ясной Поляны. Но неотделима она и от Москвы: девятилетним мальчиком Толстой впервые увидел московские улицы и Кремль, посвятил ему восторженные детские строчки. Было это в год гибели Пушкина…
Толстой подолгу живал и работал в Москве, а с 1881 года переехал сюда на целых два десятилетия, чтобы дети могли учиться: сын постарше — в Московском университете, дочь — в Училище живописи, ваяния и зодчества, младшие сыновья — в гимназии. Верный друг и помощник отца, младшая дочь Мария мечтала о медицинском образовании, но по тогдашним условиям осуществить эту мечту не смогла… А всего к переезду в Москву у Толстых было восемь детей (здесь, уже в 1888-м, родился их последний сын — Иван).
Не сразу удалось Льву Николаевичу подыскать подходящее жилье для такой большой семьи! Наконец купил он в рассрочку дом со службами и садом в Долгохамовническом переулке, за старинной красивой церковью Николы. Деревянный этот дом с антресолями, построенный за четыре года до наполеоновского нашествия, уцелел в глухом переулке от пожара 1812 года.
Сразу после покупки Толстой перестроил дом: нижний этаж и антресоли остались прежними, а над первым этажом были выстроены «три высокие комнаты с паркетными полами, довольно большой зал, гостиная и за гостиной небольшая комната (диванная) и парадная лестница» (С. Л. Толстой, Очерки былого).
Теперь этот дом с прилегающим садом и дворовыми постройками, к которым сам Толстой еще прибавил домик для кухни, известен как музей-усадьба Л. Н. Толстого на улице, носящей его имя. Кстати говоря, все эти деревянные строения и сад стойко перенесли налеты фашистской авиации в июле 1941 года, когда на небольшую территорию толстовской усадьбы обильно сыпались зажигательные бомбы. Их самоотверженно тушили сотрудники музея…
Здесь, в этом своем московском доме, Толстой написал «Воскресение». Здесь он работал над «Плодами просвещения», «Хаджи Муратом», «Властью тьмы», философскими статьями, очерками о московских трущобах, о переписи в Москве… Сюда приходили Островский и Лесков, Горький и Глеб Успенский, Бунин и Короленко, Репин и Суриков. Здесь художник Н. Н. Ге написал известный портрет Толстого за рабочим столом, и самый стол этот поныне можно видеть в кабинете писателя на антресолях. В этом доме пришлось пережить Толстому тяжелейшую из утрат — смерть младшего сына Ванечки, отцовой надежды. Ведь уж напечатан был рассказ шестилетнего мальчика в записи матери…
В 1901 году Толстые вернулись в Ясную Поляну. Лишь за год до смерти писатель опять навестил усадьбу в Хамовниках. Покидая Москву 19 сентября 1909 года, он через Кремль проехал на Курский вокзал. Москвичи провожали его так, будто чувствовали, что видят в последний раз. Проводы эти глубоко взволновали Толстого.
Чтобы охватить мыслью всю эту жизнь сразу, нужны поистине какие-то космические масштабы.
Толстой появился на свет двумя годами позже казни декабристов и умер за семь лет до Великой Октябрьской революции. Эта почти вековая жизнь пролегла в истории России, как в небе нашем пролег Млечный Путь.
«Два царя у нас, — записывал в своем дневнике А. С. Суворин, — Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии…»
Толстой — участник решающих событий своего века. На его глазах грибоедовская патриархальная Москва превращалась в ненавистный ему капиталистический, промышленный город. Вот несколько толстовских зарисовок тех лет:
«Здесь высокие неприятно-правильные дома с обеих сторон закрывают горизонт и утомляют зрение однообразием; равномерный городской шум колес не умолкает и нагоняет на душу какую-то неотвязную, несносную тоску…»
«Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.
По странной случайности, кроме ближайшего ко мне пивного завода, все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов…
…Первый свисток, в 5 часов утра, значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд…»
«Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу нечего больше делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное…»
Эти точные, беспощадные строки — реальные зарисовки той Москвы, наблюдателем и обличителем которой был Толстой после 1880–1882 годов, годов тяжелого духовного перелома, начавшегося перед самым его переездом в Москву.
Как же выглядела Москва в те годы?
Один из больших почитателей Толстого, бывавший у него в Хамовниках, искусствовед и критик В. В. Стасов, с горечью восклицает: «Архитектура — самое отсталое и неподвижное из наших искусств!» И это о стране, которую в древности называли страной городов, а позднее — страной зодчих!
Падение архитектурной культуры принес с собою молодой капитализм. При капитализме патриотическая забота об архитектурном единстве исчезла, прекрасные памятники древней архитектуры не ценились, подчас грубо уничтожались, а на их месте вырастали новые сооружения, не связанные ни с обстановкой, ни друг с другом. Они были случайны и безвкусны, выбор архитектурных форм диктовался то недолговечной «модой», то капризом владельца, стремлением поразить необычностью отделки; а чаще всего красота постройки приносилась в жертву чисто деляческим, меркантильным целям.
У заказчиков новых зданий было больше спеси и тщеславия, чем художественной культуры и эстетического чутья. Кто строил Москву времен Толстого? Фабриканты и заводчики, коммерсанты-иностранцы, которым никакого дела не было до московских архитектурных ансамблей, владельцы банков и страховых обществ, акционеры железнодорожных компаний — люди, чаще всего не имевшие ни глубоких знаний, ни безошибочного художественного вкуса.
«За каких-то 60–70 лет Москва застроилась зданиями, в которых разнообразие архитектурных форм, почерпнутых из прошлого и беззастенчиво смешанных друг с другом (эклектика), чередовалось с удивительной быстротой. Барокко сменяется Ренессансом, чтобы тут же уступить место русско-византийскому стилю. Былое изящество и красота архитектуры… сменялись ничем не прикрытым мещанством аляповатых форм» (М. А. Ильин).
Тогдашние попытки вернуть архитектуру чисто внешними приемами в русло древних народных традиций не могли иметь успеха, хотя В. В. Стасов, например, верил, что современное искусство может вырасти от корней древнего. Говоря об общих законах музыкального и изобразительного искусства, сам Лев Толстой осудил намерение искать спасение в прошлом:
«Люди, желающие показать себя знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство (классическое) и бранящие современное, этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству… Ни в чем так не вредит консерватизм, как в искусстве…»
Действительно, обращение архитекторов к древнерусским и византийским формам, увлечение элементами русского XVII века лишь усиливали эклектизм и разнобой архитектуры, потому что жизнь стала иной, и механическое перенесение древнерусских деталей на современные здания создавало тот «петушиный стиль», над которым вдосталь наострились критические перья. То же относится и к архитектурному «византийству» XIX века.
Уже при жизни Толстого было начато и при нем завершено сооружение самого большого русско-византийского собора Москвы — белокаменного храма Христа Спасителя над Москвой-рекой.
Постройка велась по проекту архитектора К. А. Тона, одобренному Николаем I: он ведь считал себя знатоком зодчества. Высочайшая резолюция, наложенная 10 апреля 1832 года на проекте Тона, звучит как воинская команда: «Быть по сему».
Так и возник на месте древнего Алексеевского монастыря близ Каменного моста огромный пятиглавый храм, чей купол многие десятилетия был виден со всех окраин, даже из пригородов Москвы. В силуэте «толстовской Москвы» он играл вместе с Иваном Великим самую заметную роль.
Убранство собора, его восьмигранный мраморный резной алтарь, росписи, скульптурный пояс с отличными барельефами поражали, как и в Исаакиевском соборе, богатством, пышностью — ведь и этот московский храм был памятником победы в Отечественной войне 1812 года. Стоимость его исчислялась в 15 миллионов золотом.
Тот же академик Тон оформил фасад Большого Кремлевского дворца, оконченного в середине XIX века.
В семидесятых-восьмидесятых годах архитектор В. Шервуд выстроил здание Исторического музея, а архитектор А. Померанцев — Верхние торговые ряды на Красной площади. Оба здания представляют собой образцы стиля, который справедливо называли «ложнорусским». Убранство этих зданий восходит к «превратно истолкованным формам древнерусского узорочья» (М. А. Ильин).
Но это были все-таки лучшие здания той поры, строившиеся в расчете, пусть не вполне удавшемся, на сбережение архитектурной целостности и национального своеобразия главной площади Москвы.
А «рядовые» ее улицы и площади быстро застраивались доходными, часто серыми и невыразительными домами. Город все более становился каменным мешком. Задние дворы походили на трущобы, фасады же сверху донизу покрывались крикливыми вывесками и рекламами, подчас грубо натуралистическими, а то и малограмотными. Все это уродовало, портило улицы, губительно отзывалось на красоте древней Москвы.
На ампирной Театральной площади с фонтаном Витали появилось между Большим и Малым театрами здание универсального магазина Мюра и Мерилиза (ныне ЦУМ) — один из первых провозвестников железобетонного конструктивизма с металлическими переплетами рам и чуть ли не сплошь стеклянными стенами. Построил его русский архитектор Клейн в 1909 году. Тот же архитектор — по заказу владельцев чаеторговой фирмы — оформил в «китайском» стиле чайный магазин на Мясницкой улице (теперь улица Кирова) против почтамта. Чуть ранее появился на Воздвиженке (улица Калинина) вычурный, покрытый раковинами, особняк Морозова, окрещенный москвичами «испанским подворьем».
Тогда же начал входить в моду «стиль модерн», рожденный на Западе и получивший заметный отголосок в России. Образцами московского «модерна» в современной Толстому Москве остались: дом Рябушинского у Никитских ворот, где ныне помещается Музей имени Горького, гостиница «Метрополь», Сандуновские бани. Все эти дома возникли еще при жизни Л. Н. Толстого и хорошо сохранились до наших дней, потому что в инженерном отношении, в выборе материалов были надежны и долговечны.
…Городскими статуями, памятниками монументальной скульптуры старая Москва была много беднее Петербурга, но нужно сказать, что ваятели Москвы сохранили в своем творчестве гораздо больше художественной цельности, чем зодчие.
Изданная в 1896 году Большая Энциклопедия, перечисляя московские достопримечательности, указывает лишь три памятника — Александру II в Кремле (верноподданнический монумент «Царь-освободитель», снесенный Октябрьской революцией), Минину и Пожарскому на Красной площади (открыт в 1818 году, за десятилетие до рождения Толстого) и Пушкину на Тверском бульваре (открыт в июне 1880 года).
Перед своим последним отъездом из Москвы, в 1909 году, Лев Николаевич видел новый тогда, только что установленный на добровольные народные пожертвования памятник Гоголю — работы скульптора Н. А. Андреева. Проезжая через Арбатскую площадь, Толстой остановил экипаж у памятника, долго осматривал его и сказал:
— Мне нравится; очень значительное выражение лица.
Андреевский памятник Гоголю. (впоследствии неудачно замененный памятником работы скульптора Н. В. Томского) был одним из выдающихся произведений московской монументальной скульптуры XX века.
Скульптор Н. А. Андреев воплотил в своем памятнике Гоголю трагедию последних лет жизни писателя, надломленного болезнью, бедностью и одиночеством среди окружавших его святош и ханжей. Автор памятника после долгих поисков глубоко вник в душевный мир великого писателя и создал сильный, трагический образ.
Издали андреевский монумент — неясная, грузная, почти нерасчлененная масса. Силуэт его смутен. Чуть ближе различаешь сгорбленную, задрапированную в плащ фигуру и поникшую голову с длинным заострившимся носом. Точно и правдиво схвачено зябкое движение худой, нервной руки, прихватившей складку плаща, чтобы укутаться теплее (в последние годы жизни Гоголь часто жаловался на озноб, даже в жаркую погоду). Взгляд воспаленных глаз словно кого-то ищет. Кажется, Гоголь высматривает в столичной толпе что-то ведомое ему одному, может быть, просто ищет человеческого сочувствия…
Смелость идеи, свобода от трафарета, сильное, глубоко впечатляющее воплощение идеи, блестящее выполнение барельефов с фигурами гоголевских героев (с Украины скульптор привез много зарисовок для этих барельефов) заставили жюри конкурса принять андреевский проект вопреки резким нападкам реакционной прессы, и монумент торжественно открыли 26 апреля 1909 года.
Андреевский памятник Гоголю находится сейчас во внутреннем дворе дома № 7 по бывшему Никитскому (ныне Суворовскому) бульвару. Двор открыт и с бульвара и с Мерзляковского переулка. На правом флигеле дома видна мемориальная доска с портретным барельефом Гоголя и надписью: «В этом доме с 1848 по 1852 гг. жил и умер Николай Васильевич Гоголь». Именно сюда, к дому, где пылала в камине рукопись «Мертвых душ» и писатель, кутаясь в плащ, смотрел в огонь, перенесена андреевская скульптура.
Окруженный вереницами своих героев, сидит здесь поникший бронзовый Гоголь, так понравившийся Льву Николаевичу Толстому. Выразительна на памятнике надпись из одного слова: Гоголь.
Осенью того же 1909 года Москва получила еще одну превосходную скульптуру — памятник первопечатнику Ивану Федорову у Китайгородской стены. Автор памятника — академик С. М. Волнухин, учитель нескольких выдающихся русских скульпторов, в том числе и Н. А. Андреева.
Скульптор изобразил первопечатника за работой: Иван Федоров стоит во весь рост и рассматривает свежеоттиснутый лист. Доска с набором литер оперта на печатный станок. Длинные волосы перехвачены ремешком, чтобы не мешали работать.
Передан один из мигов рождения первой русской печатной книги — знаменитого федоровского «Апостола». Архитектор И. Мешков хорошо поставил бронзовую фигуру на простом, лаконичном постаменте из черного лабрадора.
Памятник этот — одно из лучших произведений дореволюционной скульптуры, был последним городским монументом Москвы, открытым при жизни яснополянского мудреца.


Петропавловская крепость. Вход в Иоанновский равелин и чугунная решетка над Кронверкским проливом.

Медный всадник с набережной Невы.
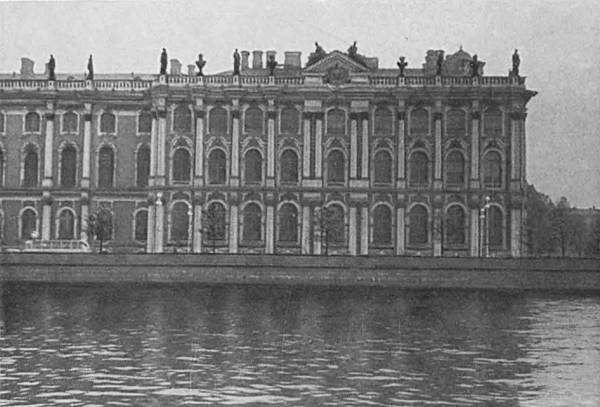
Зимний дворец, воздвигнутый зодчим Растрелли.

Улица зодчего Росси. Задний фасад Александринского театра вызывает представление о театральной декорации.

Александрийский столп на Дворцовой площади.

Аничков мост на Невском проспекте, над Фонтанкой.

Одна из скульптурных композиций Клодта на Аничковом мосту.

Андрей Воронихин. Казанский собор и решетка ограды.

Статуя Кутузова (скульптор Б. И. Орловский) у правого крыла колоннады Казанского собора. Видна смелая для того времени балочная конструкция перекрытия.

Адриан Захаров. Павильон Адмиралтейства.

Джакомо Кваренги. Службы Аничкова дворца.

Дом на Мойке. Здесь была последняя квартира Пушкина.

Михайловское. Домик Арины Родионовны.

Иван Мартос. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Иван Мартос. Памятник Ломоносову-поэту в Архангельске.

Василий Баженов. Старое здание Библиотеки имени Ленина (бывший Пашков дом).

Красный двор Пашкова дома; вход в Библиотеку имени Ленина с улицы Маркса и Энгельса.

Скульптор Н. А. Андреев. Памятник Гоголю во дворе дома, где жил и умер Гоголь.

Скульптор С. М. Волнухин. Памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову.

Бородинское поле. Место ставки Кутузова.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ