Часть первая
По городам Киевской Руси

I
У истоков великого искусства

С далеких дней они звучат досель,
Могучих наших прадедов былины,
Сияет древний Киев — колыбель
России,
Беларуси,
Украины…

В природе бывает, что несколько больших рек берут начало из одного полноводного озера. Киевская Русь — государство восточных славян IX–XII веков — стала колыбелью трех братских культур. Истоков любой из них нельзя понять, не увидев киевской старины. Один из первых князей Рюриковичей, Олег, прозванный в народе Вещим, предсказал Киеву его высокую судьбу: «Се буди мати градом русским…»
Он несказанно хорош весной, этот город-сад, над широко разлившимися полыми водами великой своей реки, так же неотделимой от истории Руси, как Нил — от истории Египта. Из вагонного окна Киев вдруг открывается взгляду, когда поезд, покружив среди пригородных холмов с живописным старинным кладбищем, как-то совсем неожиданно вылетает на высокий железнодорожный мост.
Вот он, овеянный дыханием летописных легенд, осыпанный лепестками цветущих каштанов, златоверхий красавец город с песчаными кручами над Днепром и густой зеленью садов, с легкими мостами и великолепными храмами-музеями, со старинным фуникулером и новейшей телевизионной вышкой, с пирамидальными тополями и восхитительными улочками, сбегающими с вершин к подножиям холмов, навстречу пароходным гудкам и пенным брызгам от глиссерных реданов.
Тому, кто впервые любуется Киевом с реки, невольно приходит дума о ноябрьской ночи 1943 года: тогда, в канун Праздника Революции, войска генерала Ватутина, одолевшие такую преграду, как Днепр, штурмовали под смертельным огнем эти крутые прибрежные высоты. Ныне вознесена над ними в самое небо игла памятного обелиска, и вечно живет тепло сердец человеческих в негасимом факеле на братской могиле…
Разумеется, всех этих страниц не хватило бы на самую беглую серию очерков о сегодняшнем Киеве, столице Украины, городе арсенальцев и редкостного приборостроения. Но для моей книги требовался другой Киев — хранитель памятников древней культуры, Киев князя Владимира, Ярослава Мудрого и… профессора М. К. Каргера, руководителя многолетних раскопок древнерусских памятников в Киеве и других городах.
Надо сказать, что прошлое вписано в облик сегодняшнего Киева естественно и органично. Связь зодчества с местной природой, содружество архитектурных школ, их преемственность помогли создать много городских ансамблей, удачно сочетающих опыт древних зодчих, народные традиции и достижения нового искусства.
Здания, выстроенные при Владимире, до нас не дошли — не выдержали испытания временем и бедствиями. Но память о былинном князе, прозванном Красным Солнышком, сохранилась и в местных киевских названиях и в картинном монументе, поставленном в прошлом веке на Владимирской Горке, высоко над днепровской синью.
…Длинная Владимирская улица ведет к Старокиевской горе — древнейшей части города. Здесь и зародился стольный град Киев. На этой-то горе и жил, по древнему летописному преданию, легендарный перевозчик Кий, а на двух соседних высотах будто бы поселились его братья Щек и Хорив с сестрою их, Лыбедью.
«Седяше Кий на горе, идеже ныне оувоз Боричев (место и поныне зовется Боричев взвоз, где проложен фуникулер. — Р. Ш.), а Щек седяше на горе, идеже ныне зовется Щековица (так и сейчас зовется! — Р. Ш.), а Хорив на третьей горе, от него же прозвалася Хоривица (ныне чаще зовется Киселевкой, но и имя Хоривица еще не забыто. — Р. Ш.), и створиша град, во имя брата своего старейшего и нарекоша имя ему Киев», — так записал народное предание о начале Киева летописец Нестор в древнейшей русской исторической хронике XI–XII веков «Повести временных лет».
Советские археологи установили, что в VIII–X веках на трех киевских высотах были три славянских поселения, не связанные друг с другом, — каждое со своими могильниками, погребениями ремесленников и воинов-дружинников. Впоследствии эти три поселения племени полян и слились в один город.
Ранние киевские правители — Аскольд и Дир — исторически более достоверны, чем Кий с братьями. В городе сохранилась память об этих правителях — красивая площадка над Днепром поныне зовется Аскольдовой могилой. Тут приезжему показывают ротонду XIX века и каменную лестницу. К ее ступеням и террасам клонятся девически тонкие плакучие ивы, прозрачные, удивительно одухотворенные. Здесь ведь не просто красивый, несколько таинственный парковый уголок: тысячелетняя легенда рассказывает, что на этом месте правители Аскольд и Дир были убиты дружинниками новгородского князя Олега. Произошло это в 882 году.
С того времени, как Олег переселился из Новгорода в Киев и сделал его стольным градом всех русских земель, резиденция киевских правителей долго оставалась на Старокиевской горе. Здесь, за валами и стенами, рядом с курганом каменного века, жили в своих теремах князья Олег, Игорь, затем Ольга, Святослав и Владимир.
В начале X столетия город занимал лишь небольшую часть плато на Старокиевской горе. Днепр тогда был полноводнее и шире: теперешний Труханов остров, летний пляж киевлян, скрывался в старину под водой, а у подножия Старокиевской горы впадала в Днепр речка Почайна с притоком — ручьем Глубочицей. Местность по берегу Почайны за Глубочицей называлась Оболонью. На ее заливных лугах киевляне пасли скот и устроили языческое капище в честь бога Велеса (или Волоса) — покровителя стад. Подол, расположенный между Глубочицей и горой, заселен не был, а на месте нынешнего Крещатика находился заросший берестом дремучий овраг, где князья охотились и где княжеские ловчие добывали дичь тенетами, «перевесами», отчего и овраг получил название «перевесище». Овраг перекрещивался с дорогой на село Берестово (летняя резиденция князя Владимира Святославича) — так родилось название «Крещатик». Вокруг Киева простирались дремучие леса. Они поднимались вверх по течению Днепра и Десны, сливались с болотистыми дебрями на Припяти.
Как известно, вдова Игоря, княгиня Ольга, смолоду приняла христианство. На Подоле, у берега Почайны, задолго до крещения Руси уже стояла христианская церковь святого Ильи. Есть отрывочные летописные известия и о других деревянных христианских храмах в языческой Руси — опыт сооружения таких зданий уже был у древнерусских мастеров к тому времени, когда христианство стало государственной религией. Ольгин сын Святослав оставался верен Перуну: в христианах он привык видеть врагов, потому что всю жизнь воевал против Болгарии и Византии. Кстати, византийский историк Лев Диакон сохранил нам описание внешности князя Святослава — это самое первое известие о княжеском одеянии на Руси. Льва Диакона прежде всего удивило, что русский прославленный князь запросто приплыл на военные переговоры с византийским царем Цимисхием в гребной лодке по Дунаю, сам действуя веслом, наравне с другими гребцами.
«Видом же он был таков, — пишет историк, — роста умеренного, ни сверх меры высокого и не слишком малого, с густыми бровями. Глаза у него голубые, нос плоский; бороды у него не было, но сверху над губой свисающие вниз густые, излишне обильные волосы. Голова у него была совершенно голая; на одной ее стороне висел локон, означающий благородство происхождения; шея крепкая, грудь широкая, и весь стан очень хорошо сложенный. Казался же он угрюмым и мрачным. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты».
После переговоров с Цимисхием Святослав с дружиной двинулся домой, в Киев. У днепровских порогов его подстерегли предупрежденные печенеги. Прорваться сквозь заслон не удалось — дружина полегла вместе со своим военачальником. Печенежский князь Курея заказал себе кубок из черепа Святослава и хвастливо пил из него вино на пирах.
Младшему сыну, Владимиру, Святослав оставил в удел Новгород. Вскоре после известия о гибели князя-отца гонцы из Киева прискакали в Новгород с новой тревожной вестью: старший брат Владимира, киевский князь Ярополк, пошел ратью на землю древлянскую. Средний брат, Олег Святославич, убит под Овручем, землю его захватил Ярополк.
Мать Владимира была не боярского, не знатного рода — Ольгина ключница Малуша, полюбившаяся суровому князю-воину Святославу. Старшие братья, Ярополк и Олег, рождены были знатной княгиней. Легко представить себе невеселое детство Владимира в киевских княжеских теремах! Княжить в Новгород он уехал еще при жизни отца, совсем юношей. Новгородцы любили, чтобы князь жил у них сызмальства и привыкал к тамошним порядкам.
Во главе большой рати из варягов, новгородцев, кривичей и чуди Владимир выступил против Ярополка. Он предложил союз полоцкому князю Рогволоду, дочь которого Рогнеда была просватана за Ярополка. События эти запечатлены во многих народных песнях, сказаниях, летописных свидетельствах. Все и произошло именно так, как поется в песне.
Владимир предложил полоцкому властителю отказать Ярополку: «Хочу дочь твою Рогнеду взять в жены».
Но полоцкая княжна отнеслась пренебрежительно к «сыну рабыни».
И как в песне, Владимир отомстил: внезапно напал на Полоцк, убил Рогволода и двоих его сыновей, а княжну взял себе в жены. В битве за Киев победа досталась Владимиру — он стал единым властителем всей Киевской Руси.
Княжение Владимира I Святославича Маркс назвал кульминационным пунктом в истории Киевского государства. Владения Руси при Владимире простирались от Прибалтики до Карпат, а на юге — до Черноморья. Былинный эпос связывает подвиги русских богатырей именно со временем Владимира — ведь это он привел и «муромцев» и других «сынов крестьянских» под киевские стены. С ними он ходил на степных кочевников, с ними одолевал в лесах соловьев-разбойников, наводивших ужас на торговых гостей. Былины по-народному мудро и глубоко отражают то далекое время.
Среди княжих мужей и отроков можно было тогда действительно встретить в дружине Владимира и выходцев из простого народа. Однако уже становится подчас не по себе крестьянскому сыну Илье Муромцу за княжеским столом! Поздние былины киевского цикла часто говорят об обидах, причиненных князем старшему богатырю. Лишь любовь к матушке Руси, опасности, нависающие над стольным градом Киевом, заставляют Илью забывать несправедливости, брать булатный меч и бросаться в сечу…
По некоторым летописным данным Ярополк, побежденный Владимиром, хотя и был еще язычником, но сочувствовал под влиянием своей бабки Ольги христианству. Между тем Владимир победил его с помощью языческого войска с севера.
Сразу после победы Владимир создал на Старокиевской горе великолепное языческое капище, всегда обильно напитанное алой жертвенной кровью. «И поставил (он) кумиры… Перуна деревянного, а голова у него серебряная, а усы золотые, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь». Так рассказывает об этом капище Начальная летопись.
Перун — главное божество языческого древнеславянского пантеона, бог грома и грозы, а также бог войны. Впоследствии это языческое божество преобразилось в христианского святого Илью. Имена Хорса, Дажбога и Сварога, или Стрибога, означают, по-видимому, одно божество: Солнце. Множественность его имен соответствует многоплеменности Владимировой державы. Что касается Мокоши, то эта таинственная богиня покровительствовала ремеслу ткачей и была связана еще со стихией рек. Главным женским божеством была у древних славян Великая богиня — символ земли, божество плодородия, Рожаница. Культ ее впоследствии слился с поклонением христианской богородице.
Но язычество уже изжило себя в феодальном государстве. Требовалось укрепить княжескую власть новой государственной религией, дать простому народу новые нравственные нормы, теснее связать русское государство со странами Запада, прежде всего с православной Византией.
В 988 году произошло крещение Руси. Одна из интереснейших страниц Начальной летописи — рассказ о том, как долго и тщательно князь Владимир «выбирал веру». Он присматривался к иудаизму, мусульманству, католичеству, православию. По летописному рассказу, посланцам Владимира в Европе не приглянулись католические храмы, ибо в них «красоты не видехом никоеяже». У греков же в Царьграде великолепие храмов и церковного обряда так поразило киевлян, что они позабыли «на небе есме, ли на земли: несть бо на земли такого вида, ли красоты такоя».
Очень характерно, что по этой легенде сердца древнерусских людей дрогнули именно перед лицом красоты — к ней всегда чутка душа русского человека. «Мы убо не можем забыти красоты тоя; всяк бо человек аще вкусит сладька, последи горести не приимает».
Летописец, однако, не скрывает, что приказ Владимира о принятии новой веры был крут и строг: князь объявил уклоняющихся от крещения врагами государства и власти. Самые ожесточенные приверженцы язычества бежали в леса, но и те, что пришли к Днепру, рыдали при виде ниспровергнутых старых богов. Даже летописец утрачивает свой невозмутимый тон и восклицает: «Чюдны дела твоя, господи! Вчера чьтим от человек, а днесь поругаем!» И тут же прибавляет, что когда Владимир повелел привязать статую Перуна к конским хвостам и «влещи с горы на Ручай», то народ с плачем побежал к Днепру, провожая слезами ниспроверженного идола.
Кстати, предание говорит, что именно с этой сценой связано название прибрежной местности и древнего монастыря: будто киевляне-язычники бежали вдоль берега и кричали: «Выдыбай, наш боже!» И деревянный Перун, словно вняв их мольбам, вынырнул из быстрой реки в двух верстах ниже Киева, а потом поплыл дальше, к днепровским порогам. После этого местность в Киеве, где язычники провожали Перуна, стала называться Выдубичами, отчего и монастырь получил название Выдубицкого. Монах Сильвестр составил именно здесь, восемь веков назад, первый свод древнерусских летописных записей.
Одну из этих записей, рассказ о крещении киевлян, художник Виктор Васнецов очень точно воспроизвел средствами живописи в своих знаменитых росписях Владимирского собора, построенного в Киеве в XIX веке.
После крещения в Киеве начато было крупное строительство — возводились новые терема, служебные здания и, конечно, храмы. В город приехало множество ремесленников, торговцев, служилых людей: великокняжеская резиденция росла быстро, ей нужен был блеск! Владимир потребовал от византийских императоров Василия и Константина их сестру, принцессу Анну, себе в жены, желая подчеркнуть этим новым бракосочетанием возросший международный авторитет Руси. А покинутая князем полочанка Рогнеда, по некоторым летописным сведениям, постриглась в монахини под именем Анастасии.
С образом Владимира в народной молве связано название киевского Детинца, Верхнего города на вершине Старокиевской горы. Окружали город Владимира мощные стены и укрепления из земляных валов и рвов. В Детинец вели Софийские (впоследствии Батыевы) ворота.
Нижний город строился на нынешнем Подоле, около большого торгового порта, что возник близ устья реки Почайны. Именно здесь, около древнейшей деревянной Ильинской церкви, выходили на гальку киевского берега заморские гости-греки и купцы новгородские, прибывшие с товарами великим водным путем.
Люди Киевской Руси обладали своими устойчивыми, веками сложившимися традициями языческого искусства. Восточнославянские племена, соединенные под властью киевского князя, имели многовековой опыт в деревянном зодчестве, в создании красочных орнаментов для утвари и построек, в затейливом литье из бронзы, железа, драгоценных металлов, в искусстве ювелирном, мастерстве кузнечном. Новгородцы были особенно прославлены как искусные мастера-плотники. Еще в языческие времена жилища древних киевлян размещались по определенному замыслу, образуя улицы и торговые площади. Это показали археологические раскопки. Жилье строили из глины, земли, жердей, плоского, сильно обожженного цветного кирпича — плинфы и, конечно, из дерева. Дома боярские рубили в древнем Киеве разнообразно и красиво: топором и долотом строители создавали замысловатые, очень своеобразные по внешнему виду постройки, например терема с остроконечными шатрами и кровлями.
В X веке мастера Киевской Руси соприкоснулись с богатейшим искусством Византии и Болгарии. По приглашению Владимира приехали тогда в Киев греческие мастера строить и отделывать каменные православные храмы. Рука об руку с приглашенными работали и русские художники.
Впоследствии русские мастера изменили и развили по-своему византийское наследие. Семена византийской красоты, так поразившей посланцев Владимира, дали новые богатые всходы на древнерусской земле.

Старейшим каменным храмом древней Руси была большая киевская церковь, посвященная Успению богородицы. Строилось это замечательное сооружение с 989 по 996 год. На содержание храма князь Владимир пожаловал «десятину» (десятую часть) своих княжеских доходов. Отсюда и прозвище церкви — Десятинная.
Благодаря труду украинских и русских археологов и искусствоведов ныне можно видеть очертания фундамента Десятинной церкви и получить полное представление о ее первоначальном плане. Фундамент заботливо оберегается: изучение всех его элементов важно для истории русского зодчества.
Ленты древнего фундамента сверху прикрыты защитительной кладкой из кирпича, а с боков залиты асфальтом вровень с землей и кирпичной кладкой. Получается точный план здания — с асфальтовым фоном хорошо контрастирует красноватый цвет защитного кирпича. Можно ходить по всей этой площадке, делать замеры, изучать планировку.
Некогда, в X столетии, угол Старокиевской горы с Десятинной церковью называли Бабиным торжком. Как предполагают археологи, именно здесь, на этой небольшой площади, князь Владимир приказал установить вывезенные им из Корсуни античные скульптуры — бронзовую колесницу, влекомую четверкой коней, мраморные статуи богинь древней Эллады. Вероятно, эти статуи и объясняют название площади — Бабин торжок. Торжками назывались в старину маленькие базары. Таких торжков в древнем Киеве насчитывали восемь.
Неповторимо прекрасным было сочетание античного наследия, византийского искусства и древнерусского умения. Бронза и мрамор греческих скульптур, могучие башни и прясла крепостных стен, золотые купола и кресты Десятинной церкви, верхи княжеских теремов на Старокиевской горе царили над пестрой неразберихой нижнего города. Вдоль крепостных стен, по склонам холмов, по берегам ручьев и речек лепились домики горожан, ремесленников и бедняков. Трудовой люд жил в землянках и полуземлянках с крышами из жердей, прикрытых дерном. Кто побогаче — имел рубленое жилище с тесовой кровлей. Там и сям вздымались в нижнем городе каменные и деревянные церкви, а в удобных местах домики будто расступались, образуя площади для торжков.
Один из путешественников XI века, епископ Дитмар Мерзебургский, уверяет, что в Киеве было тогда до четырехсот церквей. Возможно, он принимал за церкви шатровые башенки богатых хором.
Златоверхие теремные башенки, крепостные вышки, церковные шатры и главы красиво выступали из густой сочной зелени на холмах, отражались вместе с деревьями в Днепре. Гости сравнивали древний Киев с Салониками и даже самим Царьградом. Летописец говорит, что деревянные постройки в Киеве и других древних городах на Руси возводили опытные мужи «от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь». Возможно, что в архитектурной отделке богатых деревянных зданий издавна применялись и бочкообразные и иные сложные завершения. Эти исконные древнерусские архитектурные формы сказались и на внешнем виде первых каменных храмов.
…Владимир скончался в 1015 году. Тело его погребли в Десятинной церкви, куда сам он ранее перенес из Вышгорода прах своей бабки княгини Ольги. Скоропостижной смертью отца воспользовался Святополк Владимирович, предательски убивший своих братьев — Бориса и Глеба, а позднее и Святослава. Последний из братьев, Ярослав, княживший в Новгороде, выступил с ратью против Святополка Окаянного и одолел его. Впоследствии Ярослав получил в народе прозвище Мудрого. При нем Киев стал одним из самых больших городов Европы. Новые насыпные валы с каменными стенами по гребню длиной около четырех километров опоясали Киев. Главным входом в город с юго-запада стали знаменитые Золотые ворота.
Этот парадный въезд в Киев был крупным архитектурным сооружением. Две параллельные стены, перекрытые сводом, напоминали тоннель. Главный вход в тоннель был устроен в отводной башне-стрельнице, а еще две дополнительные башни с зубчатыми верхними парапетами защищали среднюю стрельницу с флангов. Надвратная церковь Благовещения с золоченым куполом венчала все сооружение. Дубовые полотнища центральных ворот окованы были позолоченной медью, нестерпимо сверкавшей на солнце. В нижней части Золотых ворот, под церковью, были хранилища для ценностей, и, видимо, здесь же содержали под стражей арестантов.
Если путник ехал к Киеву с юго-запада, по Васильковской дороге, то справа, за глухими дебрями Крещатого яра, оставался Киево-Печерский монастырь, а рядом с ним — село Берестово с летними княжескими теремами и храмом Спаса. Сразу же за выездом из яра возникали перед путником высокие городские стены, а сквозь арку Золотых ворот уже виднелся силуэт самого великолепного строения в тогдашнем Киеве — Софийского собора. На пути к нему видны были также церкви Ирины и Георгия, а дальше, уже за второй стеной — Детинцем, золотели главы Десятинной церкви и шатры княжеских теремов.
Мы и сейчас, спустя тысячелетие, можем взглянуть на Софийский собор сквозь руины Золотых ворот. С Владимирской улицы свернем под сень густо разросшегося, хорошо ухоженного сада и поднимемся на холм с руиной. Бросим взгляд на каменную кладку, ощупаем красноватые камни — розовый шифер, серый гранит вперемежку с плоским кирпичом — плинфой. И будто отдаст тебе этот нагретый солнышком камень тепло тех рук, что укладывали кирпич и булыжник в густой известковый раствор, может быть, даже сохранивший отпечаток натруженных ладоней киевского мастера. И, обменявшись этим рукопожатием с древним пращуром, станем между стенами Золотых ворот и поглядим туда, где высится обласканная солнечными лучами колокольня Софии.
Конечно, вид отсюда ныне не тот, что поражал в XI веке путника, входившего в Ярославов град. Не было тогда у Софии высокой нарядной колокольни — она создана всего лет двести назад, при Екатерине. Да и самое здание собора, построенное Ярославом Мудрым около середины XI века в память победы над печенегами, а с тех пор не раз переделанное, являет собою ныне образчик пышного украинского барокко, а не первоначального — византийского — стиля. Храм и колокольня обильно украшены затейливыми карнизами, разорванными фронтончиками, завитками-волютами. Строгость утрачена. Вместо византийских полукруглых куполов блестят золотом грушевидные. Весь этот пышный декор в сочетании с неуклюжими контрфорсами, укрепляющими углы и участки стен собора, изменил архитектурный ритм здания, его идею. А идея-то была грандиозной!
Массы здания нарастали плавными ступенями, словно взлетая к главному куполу. Объемы ритмически возносились ввысь, один над другим, и завершались двенадцатью куполами, которые создавали как бы стройную пирамиду вокруг тринадцатого, главного. В таком же ритме нарастания сооружены и пять восточных выступов или абсид: крайние — ниже средних, а средние — ниже центральной абсиды, вмещавшей главный алтарь. Как раз восточный, алтарный, фасад собора наименее подвергался переделкам, — он и сейчас как бы приоткрывает нам первоначальный замысел строителей.
Интересны разные типы кладки в древних храмовых сооружениях XI века.
В киевской Софии ряды кирпича-плинфы чередуются с рядами природного камня, заглаженного цемянкой (известковый раствор с примесью толченого кирпича). В те далекие времена фасады не штукатурились. Создавалась очень своеобразная наружная фактура стены. В основание выбирали камень покрупнее, попрочнее — глыбы гранита, кварцита, красного шифера. Чем выше поднималась стена, тем меньше становились эти каменные глыбы, уступая место более легкой плинфе. В опорных конструкциях — столбах, арках, сводах — строители вовсе не применяли камня, делали их из одной плинфы на крепком, хорошо вяжущем цемяночном растворе.
По-иному сложена церковь Спаса на Берестове, где похоронен Юрий Долгорукий. Там кладка выполнена из одного кирпича. Чередуются кирпичные рядки — один выступает, а следующий утапливается в растворе и заглаживается.
Вечерами, на закате, когда красные лучи горели на золотых главах и крестах, будто в каждом из них зажжены были свои маленькие солнца, чередование полос плинфы и камня в Софии или кирпичных рядков в Берестовской церкви оживляло эти стены трепетной игрой светотени.
Если внешние формы Софийского собора существенно переделывались за тысячелетие, то его внутреннее решение сохранилось почти неизменным. Оно до сих пор восхищает грандиозностью и цельностью замысла.
«Церковь дивна и славна всем окружним странам, яко же ина не обрящется во всем полунощии земнем, от востока до запада», — сказал о Киевской Софии талантливый русский церковный писатель Илларион. Недаром киевская София на века определила основные приемы храмовой древнерусской архитектуры.
Подлинно высокое искусство тем и велико, что даже тысячелетия не в силах исчерпать его таинственного воздействия на людские души, все равно, зрелые или юные, доверчивые или скептические, утомленные прежними впечатлениями или жаждущие новых. Надо лишь уметь настроить себя к восприятию серьезного, глубокого, очень отдаленного от нашей жизни искусства древних народных мастеров, искренне веривших тому, что давно превратилось для нас в сказку, легенду, литературный образ.
Художественные средства, примененные во внутренней декорации Софийского собора (сохранившейся почти неизменной), строго подчинены одной цели — представить догматы православия в виде стройной и цельной системы. Древние художники с поразительной силой достигли этого художественного и смыслового эффекта, эпически величаво прославили молодое Киевское государство, представив целый сонм его «небесных покровителей».
Софийские фрески и мозаики должны были зримо убеждать прихожанина в том, что церковь как бы само небо, опустившееся на землю. Создавая эти мозаики и фрески, древние мастера проявили такое колористическое, композиционное, музыкальное совершенство, что и современный зритель остается пораженным.
…В собор я вошел в час, когда посетителей не было. Храм скупо освещался лучами солнца из окон. Световые лучи врезались в сумрак и делали воздух как бы видимым, слегка клубящимся и облачным. Шаги глухо отдавались под сводами: чугунные плиты еще в прошлом веке заменили давно обветшавшие мозаичные полы из камня.
Храм построен в форме крестово-купольной. Главный неф (от латинского nevos — корабль) — средняя, самая широкая часть храма, отделенная столбами от четырех параллельных галерей, — идет с запада на восток. С главным нефом перекрещивается трансепт — средняя галерея, вытянутая с юга на север. Это перекрестье и покрыто центральным куполом.
Нелегкая задача была — перекрыть круглым куполом прямоугольную конструкцию. Зодчий решал эту задачу с помощью подкупольных столбов и треугольных изогнутых сводов, похожих на паруса, наполненные ветром. Название парусов за ними и утвердилось. Между столбами перебрасывались арки, несущие вместе с парусами тяжесть купольного свода.
Опорных столбов в Софии — двенадцать. Столбы имеют в плане тоже крестчатую форму. Они-то и членят внутреннее пространство храма на обособленные части, нефы. Входя, мы идем по главному нефу и останавливаемся под куполом.
Сравнение архитектуры с музыкой не ново. Но ритм музыкальный течет во времени, ритм архитектурный воплощен в пространственных формах. В архитектуре звучание как бы застыло в некий миг ритмического взлета, взмаха. Древним грекам казалось, что плавное движение звездных светил по синему куполу небесной сферы рождает гармонию ритмичных звуков, доступных слуху поэтов и философов. Они говорили о музыке небесных сфер.
Вероятно, такая музыка звучала бы для них и в «сферах», то есть сводах и арках, Софии. Причем этот ритм пространственных форм служит лишь аккомпанементом к тому главному, что бросается в глаза входящему — колоссальной мозаичной фигуре богоматери, Марии-оранты, парящей в золотистом сумраке над алтарем. Это и есть знаменитая «Нерушимая стена» киевской Софии. Ей скоро исполнится тысяча лет!
В фиолетово-синих одеждах, в темно-лиловой с коричневатым отливом фелони, ниспадающей с головы и плеч, Мария словно выплывает из мерцающего фона золотой смальты. Лицо ее исполнено строгости и величия. Широко раскрытые очи устремлены на вошедшего. Руки подняты для благословения и моления — отсюда и название: оранта — молящаяся. За поясом белеет вышитый платочек-рушничок. На подпружной арке — торжественная надпись греческими буквами.
А еще выше, в главном куполе, изображен как властитель небес, вседержитель, или, по-гречески, пантократор, Христос. К нему и протягивает руки Мария-оранта, олицетворяющая, по замыслу создателей храма, заступницу-церковь.
В барабане купола прорезаны узкие, закругленные поверху окна, и оттуда падает внутрь храма дневной свет. Древние зодчие позаботились о том, чтобы и свет участвовал в ритуале. Если молебствия происходили днем и солнце озаряло из двенадцати купольных окон храмовый полумрак, людям, стоящим внизу, должно было чудиться, будто озарение исходит от самого образа Христа, как бы парящего над золотым морем света, а купол воспринимался как голубой свод небес.
Из других мозаичных картин у алтаря очень хороша по композиции, колориту и пластичности сцена «благовещения».
Фигура архангела Гавриила, спешащего к деве Марии, украшает левый столб главной алтарной арки, а на правом столбе снова предстает перед нами сама дева, но уже в иной художественной трактовке. Здесь она изображена за рукоделием: в ее опущенной руке видно веретенце — Мария прядет красную нить для храмовой завесы. Склоненное лицо ее и трогательно женственная поза с этим опущенным, будто забытым, веретенцем выражает чисто человеческое ожидание.
Фигура архангела в отличие от застывшей в предчувствии Марии исполнена порыва, динамики, редкостной для византийских мозаик. Гавриил словно только что успел коснуться земли — правая нога его еще полусогнута, сложенные руки подняты, вся поза динамична. Художник отлично передал переход от одного движения — полета — к другому: стремительной ходьбе. Обе фигуры софийского «Благовещения» разделены пролетом арки и видны как раз над царскими вратами резного иконостаса.
Мозаичная живопись Софии гармонично сочетается с фресковой. Из-под многих наслоений штукатурки реставраторы расчистили около пяти тысяч квадратных метров уникальной фресковой росписи на стенах и столбах собора. Тут, кроме религиозных сюжетов, есть и светская портретная живопись.
Сравнительно хорошо сохранились портреты дочерей князя Ярослава Мудрого в главном нефе, справа от входа. Вероятно, эта группа привлекательных женских фигур является лишь частью большой композиции, изображавшей все княжеское семейство.
Слева от входа можно видеть следы портретной фрески — сыновей Ярослава, а изображение самого князя с княгиней предположительно находилось против алтаря, на внутренней западной стене, не устоявшей до нашего времени.
Множество фресок Софии изображает христианских мучеников, подвижников, воителей, отцов церкви. Образы их по-византийски неподвижны, суровы и спокойны. Они вознесены над человеческими страстями и думами. Исполнены эти фрески многими мастерами, но по времени вся эта роспись относится к той далекой поре, когда храм впервые освобождался от лесов.
Нельзя забывать: собор Софии возник всего через полсотни лет после введения на Руси христианства! Под его своды первыми приходили те, кто еще помнил себя язычником, веровал в наивную языческую магию, в чародейство, приносил жертвы Перуну в капище над Днепром, задабривал домового и овинника.
И сам этот вчерашний язычник, и его дети, и внуки вникали в содержание софийской живописи с трудом, но именно эта живопись наглядно поучала христианским добродетелям, служила образцом нравственного воспитания. На примере Иуды человек учился презирать предательство, в образах подвижников представала перед прихожанином моральная доблесть. Древним людям на Руси могли импонировать суровая простота этих непреклонных подвижников, их презрение к богатству, их воинские подвиги, самоотречение, душевная сила и стойкость в испытаниях, наглядно показанные здесь в стенных росписях.
Предполагается, что лестничные башни в соборе были некогда связаны галереей-переходом с княжеским теремом, а фрески, поныне украшающие стены башен, могли быть заказаны чуть ли не самим Ярославом Мудрым!
В этих башенных росписях нет никаких религиозных мотивов — это самые первые, самые ранние образцы древнерусской светской живописи. XI век! А краски живые, фигуры динамичны и жизненно верны.
На фресках можно видеть, например, сцены скоморошьих игр: шут в красном колпаке сыплет прибаутками, музыканты играют на рожках и гуслях. Есть у них и струнный инструмент, очень похожий на украинскую бандуру. Интересная деталь: у одного из музыкантов (на фреске северной башни) в руках смычковый инструмент, близкий к скрипке. Музыкант поднимает инструмент к плечу и держит наготове смычок — почти так, как это сейчас делают скрипачи. Временем рождения скрипки музыковеды считают XV столетие. Фреска же в северной башне Софии создана, может быть, при жизни Ярослава, возможно, им и заказана — значит, было это за четыреста лет до «официального» рождения скрипки! Очевидно, на софийской фреске изображен некий дальний прообраз скрипки, каким пользовались музыканты при киевском великокняжеском дворе.
Есть среди светских росписей в лестничных башнях очень живые охотничьи сцены. Тут и гепарды, и охота на диковинного вепря, сцена нападения фантастического волка на всадника, охота на белку. Изображены конные состязания на константинопольском ипподроме, причем предполагается, что женская фигура в белом рядом с византийским императором — это русская княгиня Ольга, прабабка Ярослава.
Много государственных обязанностей несла в Киевской Руси величественная София. Здесь киевские князья принимали с долгими, пышными церемониями иностранных послов. Здесь начиналось летописание и создавалась первая на Руси библиотека рукописей.
Служила София также усыпальницей киевских правителей. Слева от главной алтарной абсиды, в одной из оконечностей боковых нефов, стоит в полумраке массивный саркофаг серо-белого мрамора, богато украшенный резьбой. В нем покоится Ярослав Мудрый, великий киевский князь. А в притворе южной части сберегаются археологические находки, сделанные при раскопках Десятинной церкви. Одна из находок особенно интересна: небольшая гробница из резного розового шифера. Ученые считают, что это саркофаг княгини Ольги, перенесенный Владимиром из Вышгорода в усыпальницу Десятинной церкви. Над украшением этого розового саркофага потрудились искусные русские камнерезы.
Кто же создал этот собор, его архитектуру, мозаики, фрески?
Сооружена киевская София в 1037 году. Имен ее творцов летописцы не сохранили. Византийские элементы в храме тесно переплелись с древнерусскими: тринадцатиглавие идет, по-видимому, от деревянной Софии новгородской, башни для входа на хоры устроены по образцу древнерусских теремов. Традиционно для деревянных теремов и обилие приделов, как бы прирубленных к главному массиву здания… «Нужно также подчеркнуть, — говорит Н. Н. Воронин, — что своими размерами киевский Софийский собор намного превосходил византийские крестово-купольные пятинефные храмы».
Да и лица святых на многих софийских фресках — чисто русские, заметно разнящиеся от византийских ликов. Значит, авторами этих росписей наряду с художниками-греками были и киевские живописцы.
Но с востока грянул смерч Батыев,
И, облекшись в пепел, дым и смрад,
Ты померк, первопрестольный Киев,
Ярослава златоверхий град.

Год 1240-й. Разорение Киева татаро-монгольской ордой. Начало самой темной и страшной полосы в истории Руси. Вторжение монголов русские люди воспринимали как бедствие неслыханное, библейское, космическое, как неотвратимый гнев божий, гибель мира.
Но письменных свидетельств сохранилось мало — в пламени городов записи погибали вместе с самими летописцами. До прошлого столетия историки располагали главным образом пересказами различных преданий о нашествиях Чингисхановом и Батыевом.
С XIX века на помощь историкам пришла сравнительно молодая наука, исследующая как раз самую древнюю пору жизни человечества, — археология. Разумеется, археологические памятники — могильные курганы, древние капища и храмы — были известны ученым давным-давно, но лишь в недавнем прошлом археология получила арсенал новейших технических средств, армию специалистов, и прежнее любительское «кладоискательство» заменила строгая методика современных раскопок.
Именно они-то и дополнили летописные свидетельства новыми открытиями, вещественными памятниками истории.
Находки эти сделали для нас зримой и картину разорения Киева Батыем. Хранятся эти свидетельства прошлого в ленинградском Государственном Эрмитаже, Киевском историческом и других музеях страны.
Что же рассказывают нам летописи и археологические находки?
…Осенью 1240 года пришел под Киев на разведку хан Менгу с отрядом. Город на том берегу Днепра настолько поразил татарского хана, что он предложил киевлянам сдаться без боя ради сбережения такой красоты. Но защитники понимали, что «сберечь» татары хотят не город, а собственную воинскую силу. Предложение было решительно отвергнуто.
В начале декабря осадили Киев главные силы татаро-монголов. Командовал ими сам Батый.
От скрипа телег татарских, рева верблюдов, конского ржания за стенами града киевляне не смогли слышать друг друга, — так рассказывает летописец про эту осаду. С днепровских круч, с высоких городских стен русские люди смотрели, как через сизый, по-зимнему похолодевший Днепр переправляется татарская орда.
Ночами дым от множества костров плыл в небо, по всему горизонту багровое от пожаров. В городе люди прощались друг с другом в ожидании неминуемой смерти. Отцы и старшие братья пригоняли доспехи и точили оружие, матери прятали ребятишек по подвалам и даже в печах.
В городе заперлись не только киевляне: под защиту каменных стен поспешили тысячи беженцев, иноплеменных обитателей Киевской земли — половцев и торков, иностранных торговых гостей, застигнутых бедою в днепровском порту.
В канун Николина дня Батый начал штурм.
Нижний город, Подол, уже пылал, опустелый и разграбленный.
Со стороны Крещатинского яра и оголенных, безлиственных дебрей татары подтащили к Лядским воротам стенобитные машины — пороки. Машины эти, созданные в Китае, обслуживались и в армии Батыя китайскими мастерами-стенобитчиками.
Осажденные киевляне дрались отчаянно, осыпали стрелами атакующих, но несметно было число их! Тяжелыми каменьями татары били и били в городскую стену у Лядских ворот и, наконец, проломили ее. Батыева рать ринулась в пролом.
Осажденные отступили к последним стенам — Детинцу на Старокиевской горе. До вечера длился смертный бой, лишь к концу дня захватчики преодолели стены древнего Владимирова города. С наступлением темноты бой затих. Татары легли отдохнуть прямо на стенах и в башнях Детинца. Но за ночь жители, не спавшие ни часу, успели возвести внутри Детинца деревянные частоколы, насыпать валы из земли, щебня, обломков.
Рассвело. Утро Николина дня, 6 декабря 1240 года, наступило. Бой закипел на всех улицах, во всех уголках старого Киева. Остатки дружины во главе с тысяцким Дмитрием заперлись в стенах самого большого и прочного здания на Старокиевской горе — Десятинной церкви.
В этой церкви заранее спрятались сотни горожан, искали спасения целые семьи со своими пожитками. Прибежал сюда, среди прочих, некий ремесленник-ювелир по имени Максим, притащил с собой самое ценное, что имел, — формочки для золотого литья, помеченные именем мастера. Наверное, сюда же, под защиту церковных стен, торопился и другой ремесленник-киевлянин, мастер по изготовлению хрустальных бус. Он наполнил бусами глиняный сосуд — корчагу, схватил под мышку и выскочил из дверей своего жилья, да, видно, опоздал! Тут же обрушился на него удар татарской сабли, а по лестничным ступенькам рассыпались хрустальные бусины из разбитой корчаги…
В наглухо запертой церкви, уже окруженной врагами, было сумрачно. Горели свечи, мерцало золото на образах, зарево пожаров отблескивало на цветной смальте мозаик, на каменных плитах пола. Уже никто не надеялся на заступницу богородицу, в чью честь был воздвигнут храм, никто не ждал помощи — прийти ей было неоткуда.
Вдруг кто-то подал шепотом мысль: спастись бегством через подкоп! Это была мысль отчаянная, безумная, но гибнущие ухватились за нее. Ведь снаружи татары уже подтаскивали к стенам храма тараны-пороки. Вот и первый сокрушительный удар… Еще и еще… Сотрясается храм, дрожат полы на хорах, где сотни людей в ужасе, закрыв глаза, прижимаются друг к дружке, ждут своего часа.
А горсточка самых предприимчивых уже взялась рыть землю. В дело пошли два заступа и деревянное ведро на веревке — ведь вынутый грунт надо поднимать наверх!
Удары пороков в стену все чаще, все сокрушительнее. Первые трещины разбегаются по фрескам и мозаикам. Падают иконы, рушится штукатурка на согнутые плечи, на склоненные головы. Потом страшный грохот, вопль и — конец трагедии! Своды рухнули. Тяжелая, крытая свинцом кровля провалилась. Облако праха и пыли взметнулось к небу, и развалины Десятинной церкви на века стали братской могилой всех, кто искал спасения в стенах и подвалах храма.
Неведомо, как остался жив тысяцкий Дмитрий. Быть может, он в последний миг ринулся на вылазку. Во всяком случае, летописец рассказывает, что Дмитрий с тяжелым ранением попал в плен, — и татары были так поражены мужеством воеводы, что сохранили ему жизнь.
Разграбив Киев дотла, Батый двинулся на Волынь, а затем к венгерской границе.
В дымящиеся развалины был превращен великокняжеский град. Там, где стояли терема и башни, бронзовые квадриги и мраморные статуи Бабина торжка, жилища киевлян и златоверхие храмы, остался разоренный и дикий пустырь. Его заносило прахом, заметало пылью, и сухой колючий терновник покрыл осыпи руин. Бурьян разросся среди развалин, а через десятилетие заполнили град Владимиров и Ярославов окрестные дебри, захлестнули зеленым морем Старокиевскую гору, подножие Софии… Волки выводили по яругам своих детенышей, птицы свивали гнезда в расселинах стен, и над всей этой картиной запустения молча и грустно возвышались остовы разоренных соборов.
Множество жителей татары увели в плен — они особенно дорожили русскими ремесленниками, умельцами. Другие киевляне сами ушли на север, в леса Владимирской, по-старому Ростово-Суздальской, земли, в княжества Московское и Тверское. Но где-то рядом с опустошенным Детинцем все-таки продолжала теплиться жизнь. Люди выходили из окрестных лесов, постепенно оправлялись от пережитого, налаживали свой быт. Опять зазеленела первая полоска хлебов, ударил молот кузнеца, родилась несмелая песня…
Лет тридцать после разгрома Киева Батыем бывший архимандрит Киево-Печерского монастыря, этого, по выражению академика А. С. Орлова, «самого книжного из всех тогдашних центров книжности», епископ владимирский Серапион писал в скорбном своем «Слове»:
«Села наши лядиною поростоша, величество наше смирися, красота наша погибе… И всласть хлеба своего изъести не можем, и воздыхание наше и печаль сушит кости наши…»
Прошло шесть веков, и, говоря о «кровавой грязи монголо-татарского ига» в «Секретной дипломатии», Карл Маркс подчеркнул, что иго это «не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой».
Еще не раз прокатывались татарские орды по разоренной Киевской земле. В XV веке крымский хан Менгли-Гирей снова опустошил ее, сжег Печерский и Златоверхий-Михайловский монастыри. Но опять-таки люди не бросили опаленную свою землю, а возродили ее к новой, полнокровной жизни. Здесь сложилась украинская нация, возникла своеобразная, сильная культура, вобравшая многое из того, что было создано и выстрадано всей историей древней Киевской Руси. В XVII веке украинцы восстановили и Софийский собор.
Сейчас на территории вокруг Софийского собора и в расположении великолепной Киево-Печерской лавры с ее многочисленными церквами-музеями и таинственными подземельями созданы государственные историко-архитектурные заповедники, широко идут археологические раскопки и реставрационные работы. Они воссоздают для нас поучительные, радостные и скорбные, величавые и героические картины далекого прошлого.

Намереваясь рассказать читателю, каким был этот путь прежде и как он выглядит сейчас, я покидал Киев на быстроходном речном катере с подводными крыльями — «Ракете». Около двухсот километров предстояло пройти Днепром, а затем вверх по Сожу, до Гомеля. Для «Ракеты» такая дистанция — сущий пустяк, несколько часов. На полной скорости волна сильно и жестко бьет в днище, будто под ним не вода, а мостовая с выбоинами.
Прибрежные перелески, рощи, сады, по-весеннему свежие, сливаются с городскими окраинами; клиньями парков зелень вторгается в самый город. Привольные окрестности Киева будто самой природой созданы для отдыха горожан среди голубой и зеленой красы.
Проводили взглядом Вышгород, некогда резиденцию княгини Ольги, место, где, по рассказу летописца, суровый Святослав горестно рыдал над гробом матери.
Здесь создана последняя электростанция днепровского каскада, и на берегах нового Киевского моря возникнет скоро целый курортный край с многоэтажными пансионатами и курзалами, охотничьими и рыболовными базами, водными станциями и заповедными лесами. Сейчас островки хвойного леса появляются на горизонте лишь кое-где возле Ясногородки, через час после Киева. Может быть, эти ясногородские сосны — остаток вековых боров древности, описанных летописцами?
Выше устья Припяти пошли по правому берегу рубленые дома с соломенными кровлями, а белые мазанки остались на левом берегу. Правый берег — Белоруссия, левый — Украина.
Еще красивее становится путь по зеленому Сожу, где «Ракете» приходится терпеливо следовать за капризными изгибами реки, чуть сбавлять скорость местами и петлять, петлять меж невысоких берегов с дубняками и юными березками-невестами.
Здесь, на Соже, пожалуй, еще можно выбрать прибрежные уголки, где пейзаж приближается ко временам давним, когда ладьи русские, варяжские, ромейские ходили с товарами по великому водному пути. Одним из его боковых ответвлений, водной дорогой к землям радимичей и кривичей была и река Сож.
В старину на всем протяжении великого водного пути Днепр, Ловать, Волхов текли среди сплошных лесов, густолиственных дубрав, сосновых боров, ельников и березняков, зарослей береста и бука. Если леса расступались, глазу до самого горизонта открывались ковыльные степи, где трава прятала и голову коня и шапку всадника. Во множестве водилась дичь: в лесах — медведь, волк, куница, соболь, в степи — туры, козы, зубры. В 882 году князь Олег видел на всем пути из Новгорода в Киев только два больших города — Смоленск и Любеч на Днепре. Между деревнями и селами пролегали сотни верст незаселенного берега.
Ныне совсем исчезли ковыльные степи — они распаханы, засеяны, по веснам зеленеют озимыми хлебами. В полях журавлиной походкой шагают железные мачты высоковольтных линий. Леса по берегам сведены, и думается, что восстановление водозащитных лесов по Днепру — большая и срочная государственная задача.
Так вот он воочию, великий путь из варяг в греки!
Это здесь, тысячелетие назад, шли от Киева к Смоленску ладьи русских гостей, везли товар на веслах и под парусами, чтобы от Смоленска переставить ладьи на катки или полозья-крени и волоком идти дальше, к системе северных рек, а по ним плыть к Новгороду и на Балтику.
В те времена ладья или вьючная лошадь была обязательной принадлежностью торгового гостя. И само слово «гость» значило в старину «купец», а «гостьба» — «торговля». Для населения городов и сел всякий купец был человеком заезжим, и потому слово «гость» приобрело и сохранило до сих пор второе значение — пришелец, явившийся навестить.
Купец всегда имел при себе маленькие весы с бронзовыми чашками и гирьки-разновесы. Взвешивал он на них серебро и неполноценные монеты. Стоянка купцов ничем не отличалась от военного лагеря, а сам купец — от воина-дружинника. Он был вооружен с головы до ног и одевался нарядно. Свои деньги он хранил в поясе. Отправляясь в путь, приносил жертву Перуну да и в пути не забывал своих грозных богов.
В Новгороде Перуново капище находилось для удобства купцов у самого берега, близ истока Волхова из озера Ильмень. Место это и теперь зовут Перынью. Лагерь купцов назывался «товар». Поэтому слово «товарищ» первоначально означало принадлежность к такому лагерю или вооруженному купеческому отряду.
От Смоленска начиналась волоковая система, связывавшая Днепр с Западной Двиной, по которой ладьи попадали до реки Торопы, а затем снова волоком передвигались в верховья Ловати. Так ладьи выплывали на Ильмень и Волхов. Специальные поселки «волочан» — крестьян, обслуживающих волоки, находились под наблюдением князя. Когда волочане что-нибудь портили из перевозимого товара, отвечало перед княжеским управителем, тиуном, все село.
Но русская ладья-однодеревка носила своего хозяина не только в дальние походы. Когда наступал час расчета с жизнью, воин или купец языческой Руси подчас совершал в ладье и свое последнее «путешествие».
Почти в каждом музее, где есть зал древней истории, можно видеть копию знаменитой картины академика Семирадского «Похороны руса». Оригинал картины — огромное полотно — висит в Государственном Историческом музее в Москве. А раскопки, подтвердившие историческую достоверность этой картины, велись и под Черниговом и под Смоленском. Здесь, близ села Гнездова, археологи вскрыли много погребальных памятников древних славян. Есть и письменные свидетельства. В начале X века арабский путешественник Ибн-Фадлан поднялся вверх по Волге и Каме до столицы царства волжских болгар — города Великие Булгары. Он тут и наблюдал сцену похорон, которую передал нам в красках на своем полотне Семирадский.
…Из дубовых стволов сложена невысокая поленница-помост. Поверх костра водружена русская ладья с резной фигурой на носу, похожей на конскую голову. На корме судна, под расшитым балдахином, полулежит покойник, одетый в парчу и бархат. Собольим мехом оторочена шапка; щит и бронзовые сосуды в ногах, боевой меч сбоку. Дружинники вторят певцу-гусляру траурным звоном — ударами мечей по звонким щитам.
На борту ладьи — белокурая красавица, рабыня властелина. Сейчас женщина в черном заколет ее. Рыдают плакальщицы, толпятся смущенные зрители — смерды. Взнузданные лошади повержены на помост. Миг — и дым костра затмит солнце, а пламя поглотит и господина, и ту, что делит с ним смертное ложе. Останки погребут в земле, над ними насыплют курган.
Конечно, Ибн-Фадлан описал проводы человека богатого и знатного, к тому же умершего в дороге. Похороны простых дружинников были скромнее. Но и в их могилах часто находят рядом с останками мужчины одно-два женских захоронения. Отличают их по бусам, серьгам, несгоревшим останкам. Это насильственно умерщвленные рабыни.
Могилы простых смердов вовсе скромны: при них нет ни убитых животных, ни рабынь, ни дорогих предметов. В крестьянских могилах IX–X веков археологи находят лишь самое необходимое для устройства «на том свете»: нож, самодельный глиняный кувшин… А дальше — обходись, как и на земле, своим ремеслом и искусством, бедняк! Да поможет тебе Перун!
Но как же все-таки представляли себе древние люди грозное языческое божество? Как выглядели славянские идолы?
Повелением князя Владимира и стараниями греческого духовенства статуи и кумиры языческих капищ были посечены и сожжены, а сами капища перекопаны. Ни летописные, ни иные источники долгое время не могли помочь славяноведам решить, какими же изображали древние ваятели славянских богов. Так называемые каменные бабы, простоявшие тысячелетия в южных степях, не проясняли загадки: эти степные скульптуры были половецкими, скифскими, печенежскими, то есть не славянскими.
И как это не раз бывало в науке, помог ей однажды случай.
Более ста лет назад, в 1848 году, в юго-восточной Европе была засуха, мелели реки. На берег реки Збруча в Галиции пришел купаться взвод пограничной австрийской стражи. Кто-то из солдат вдруг заметил, что из обмелевшей реки, под береговым холмом, то появляется, то исчезает все на том же месте круглая шапка. Солдаты поплыли туда и обнаружили, что шапка — каменная и сидит на голове каменной фигуры. Основание статуи глубоко ушло в речное дно. Видимо, в древности статую свергли с холма.
Вот так ученые обогатились редчайшим изображением языческого славянского божества, Збручским идолом. Создан он в X столетии. На все четыре стороны света глядят четыре лика идола. Какому племени принадлежал он, какого бога изображает — наука пока не уточнила. Предположительно, горизонтальные пояса статуи, делящие ее на три неравные части, отражают языческую космогонию. В нижнем поясе изображен бог подземного царства, держащий в руках Землю. В среднем поясе показана Земля с ее обитателями — людьми. Верхний, самый широкий, пояс посвящен небу с богами. На лицевой грани верхнего пояса изображена Великая богиня, олицетворяющая Землю.
Голова идола с четырьмя лицами покрыта шапкой русского покроя, какие носили князья. Идолу нельзя отказать в известной выразительности, но привлекательным его не назовешь. Оригинал находится в Кракове, лучшая по точности копия — в Киевском историческом музее. Есть копия и в Государственном Историческом музее в Москве.
Несколько более примитивная славянская культовая скульптура, пожалуй, древнейшая из найденных в стране, хранится в Новгородском музее. У этого идола нет горизонтальных поясов с космогоническими рисунками, а каменная шапка напоминает головной убор обыкновенного смерда.
Речное мое странствие «великим путем из варяг в греки» прервалось в Смоленске. В наше время нужны тщательные розыски, чтобы установить прежние места волоков и волоцких деревень. Труд человека, вóйны, работа воды и ветра за тысячелетие внесли такие перемены в ландшафты Смоленщины, что вряд ли сам деревенский староста-кривич, провожавший к Западной Двине обоз днепровских ладей на катках и полозьях-кренях, отыскал бы сейчас привычное сухопутье!

В Устюжском летописном своде есть запись, относящаяся к 863 году: «Аскольд же и Дир… поидоша из Новаграда на Днепр реку и по Днепру вниз мимо Смоленск и не явитися в Смоленску зане град велик и мног людьми».
Это старейшее, самое первое летописное упоминание о Смоленске. Уже тогда, в дни полулегендарного Рюрика, главный город славянского племени кривичей был настолько «велик и мног людьми», что Рюриковы военачальники Аскольд и Дир не отважились напасть на него. Лишь двадцатилетие спустя новгородский князь Олег подчинил себе кривичей и их главный город на великом пути из варяг в греки.
Само название города напоминает об исконном природном богатстве здешних мест — хвойных «смоляных» лесах. Сплошной зубчатой стеной подступали они к берегам Днепра и Десны, Угры и Сожа, Каспли и Торопы. Археологи предполагают, что первоначально Смоленск возник в районе древнеславянских городищ близ нынешнего села Гнездова. Впоследствии город был перенесен на приднепровские холмы, где в 1101 году князь Владимир Мономах заложил первый смоленский каменный храм — Успенский собор.
Жители древнейших посадов, существовавших на месте нынешнего Смоленска, занимались смолокурением, бортничеством, охотой, а главное — подсечным земледелием, то есть выжигали под пашни лесные участки. В большом ходу были ремесла плотничное и бондарное, кожевенное и скорняжное дело, добыча воска.
В древнем Смоленске издавна жили иноземные купцы. У них был здесь Гостиный двор и своя католическая церковь на берегу речки Смядыни, невдалеке от Борисоглебского монастыря, выстроенного на месте гибели Глеба, одного из братьев-князей, убитых Святополком Окаянным.
Некогда город делился на концы — Пятницкий, Ильинский, Смядынь, Крылошовский. Смядынь была торговым концом Смоленска: бочонки лучшей смолы для кораблей, выделанные кожи, пчелиный воск для церковных свечей шли отсюда либо вниз по Днепру, либо на запад, в польско-литовские и германские земли, либо на север, к новгородскому порту, и дальше — на Балтику.
В XII веке князь Ростислав смоленский окружил свой город крепостной стеной. Смоленск стал центром самостоятельного княжества. С той поры сохранились в городе три красивых памятника древней архитектуры — церковь Петра и Павла на Городянке (1146), Иоанна Богослова у Нового моста и так называемая Свирская, в честь архистратига (то есть небесного воеводы) Михаила. Смоляне построили ее в последнем десятилетии XII века.
Эти памятники, уцелевшие от глубокой старины, свидетельствуют, что киевские традиции не стали на Руси мертвым каноном, а обрели новые черты в архитектуре многих княжеств, и особенно у зодчих Смоленска. И как раз в смоленских памятниках XII века, воспринявших, кроме киевских архитектурных идей, еще и некоторые декоративные приемы Запада (сказались торговые связи!), уже проглядывают черты будущего общенационального русского зодчества.
Церковь Иоанна Богослова — здание мощное и пластичное. Его фасады расчленены лопатками и массивными полуколонками. Для декорирования стен применены фигурные кресты, выложенные из лекального кирпича (прием, характерный и для Новгорода). Храм имел майоликовые полы, был украшен фресками. Высокую оценку этому зданию дает летописец.
Петропавловская церковь была в старину приходским храмом купцов. Эта древнейшая из уцелевших доныне смоленских построек перекликается с ранней владимирской архитектурой, но в то же время самобытна и характерна для смоленской школы зодчества. Внушительное, несколько архаического вида здание с перспективным порталом, полуциркульным завершением оконных ниш, аркатурным пояском по ровной глади стен, кровлей по закомарам и могучим подкупольным барабаном, будто соединяет опыт новгородских, владимирских и киевских зодчих.
Замечательный храм в честь архистратига Михаила некогда входил в ансамбль княжеского двора. Средняя часть здания сильно устремлена ввысь, напоминает башню, а с трех сторон примыкают к ней притворы, открытые внутрь храма. Хоры не мешали свободной игре света на богатой утвари и росписях. Просторность и высота здания поражали современников.
По своим композиционным приемам этот храм близок к гениально-смелому зданию XII века — Пятницкой церкви на Торгу в Чернигове, которая приписывается архитектору Петру Милонегу, по всей вероятности, смолянину. Те черты, что роднят черниговскую церковь со смоленской, предвосхищают лучшие идеи московской школы зодчества, служат переходом к шатровым каменным храмам.
Сейчас все три старейших памятника смоленской архитектуры, претерпевшие за восемь столетий немало бедствий, восстановлены после тяжелых военных разрушений.
Много важных исторических событий прямо связано с этими зданиями. Так, в XV веке, когда город попал под власть жестоких литовских феодалов, именно под стенами свирской церкви раздался сигнал к восстанию: «черные люди» Смоленска поднялись против литовского наместника и изгнали его. Летописец назвал это народное движение великой замятней. Лишь через год смоляне были побеждены превосходящими силами литовского князя. А в 1514 году московские войска вернули Смоленск русскому государству.
За Смоленском укрепилось название «ожерелье земли русской» еще с тех пор, как в годы 1596–1602-й он был обнесен новой каменной стеной. Постройкой этого замечательного фортификационного сооружения руководил русский мастер Федор Конь, строитель московского Белого города — крепостной стены по Бульварному кольцу столицы (эту стену москвичи разобрали в XIX веке). Камень для постройки Смоленского кремля брали из ближних месторождений, подвозили также из-под Рузы. Кирпич обжигали на временных полевых заводах неподалеку от города.
Сооружение по тем временам было огромным, а сроки исполнения выдерживают сравнение даже с современными: за шесть лет возвели стену пяти метров ширины, пятнадцати метров высоты, с тридцатью восемью мощными башнями. Она опоясала весь город, превращенный в настоящую крепость, «ключ-город».
Не прошло и семи лет, как вновь созданной русской твердыне пришлось противостоять осаде, небывалой по своему ожесточению.
В 1609 году многотысячная армия польского короля Сигизмунда III подступила под новые стены Смоленска. Воевода Шейн имел всего три-четыре сотни воинов, но он привлек к защите города окрестных крестьян, городских ремесленников, посадских людей. Сентябрьский штурм Смоленска, начатый со всех сторон одновременно, длился несколько суток подряд. Врагам удалось взорвать участок стены и одну воротную башню, но защитники успели насыпать перед угрожаемым участком земляной вал, и осаждающие не смогли ворваться в пролом.
Осада затянулась. Польские войска обложили город, рыли подкопы, беспощадно обстреливали кремль. Но русские подрывали порохом неприятельские подземные ходы, сами нападали на вражеский стан, изматывая и сдерживая под Смоленском огромные силы противника. Только через двадцать месяцев, уже в июне 1611 года, трое изменников-перебежчиков предательски открыли врагам слабые места обороны, и штурмующие ворвались в Смоленск.
Вот как описывает историк Карамзин трагический исход осады:
«Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах при звуках всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери (к Успенскому собору Владимира Мономаха на днепровской круче. — Р. Ш.), где заперлись многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения. Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу, и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели…»
В память этой обороны 1609–1611 годов был впоследствии воздвигнут над Днепром новый собор. Высится он на месте того Мономахова храма, где взорвали себя смоленские горожане.
В смоленском парке и сейчас видны склоны старого бастиона, прозванного Королевским. Они поросли травой, а один из них включен в овал городского спортивного стадиона.
Рядом — красивое озеро, где школьники катаются на лодках. И бастион, и озеро — следы смоленской обороны 1609–1611 годов. Заняв город, поляки увеличили и перестроили тот земляной вал, что насыпали осажденные перед брешью в стене: валу придали форму пятиугольного бастиона. Сто лет спустя Петр Первый заново укрепил и достроил Королевский бастион. От выемки земли образовался ров, ныне превращенный в озеро.
Немало памятников сохранилось в городе и от наполеоновского нашествия. В 1812 году Смоленску снова выпала важная стратегическая роль: он вынес удар главных неприятельских сил и жестоко пострадал в боях. Памятники Отечественной войны 1812 года, своеобразные по замыслу, украшенные пушками, доспехами и орлами, очень запоминаются в смоленских городских садах и парках.
Один из этих памятников изображает крутую скалу. На вершине — орлиное гнездо, два бронзовых орла яростно защищают его от воинственного галла. В римском шлеме, с обнаженным мечом, тот уже подобрался по выступам скалы к вершине и грозит гнезду. Раненая орлица прикрыла телом птенцов, а орел-отец прижал руку врага к скальному камню, и близок миг, когда чужой воин сорвется с выступа…
Многим обязана страна Смоленской земле. Она дала России первых ее смолокуров, а тысячелетием спустя — первого в мире космонавта. В музыке Глинки нашли отзвук песни смоленских крестьян, а их горькое горе зажгло ненависть к самодержавию в сердцах смолян-декабристов: Пестеля, Каховского, Якушкина. Сейчас на Смоленщине есть колхоз имени Пестеля.
Два крупных русских скульптора — Микешин и Коненков — сыны Смоленщины, и оба они кровно связаны с народным искусством и художественными ремеслами своего края. А многим читателям «Василия Теркина» кажется, что этот русский солдат родом из-под Смоленска. Это почти так и есть, потому что в деревне Загорье Смоленской области родился «отец» Теркина — поэт Александр Трифонович Твардовский.
…Прощаясь с городом, я завернул к памятнику Глинке. Великий смолянин стоит с дирижерской палочкой в руке, прислушиваясь сквозь шорох парковой листвы к незримому оркестру. Памятник окружает черная решетка ажурного литья. В нотных знаках на ней как бы застыли мелодии «Сусанина», «Руслана»… Решетку отлили из чугуна по замыслу критика В. В. Стасова. Автор самой фигуры Глинки — скульптор А. Р. Бок.
За поворотом улицы виднеется одна из уцелевших башен древней крепости, высится зубчатая стена, оборонявшая город от стольких воинов-пришельцев! Теперь среди рядков ее кирпичной кладки белеют мраморные доски с именами офицеров, солдат, партизан. Это замурован в древнюю стену Смоленска прах героев Великой Отечественной войны, отстоявших город от последних пришельцев в его истории.
II
Над Волховом-рекой

A-й поехал торговать купец богатый новгородский
A-й как на своих на черных на караблях.
А поехал он да по Волхову,
A-й со Волхова он во Ладожско…

В Новгород я не приплыл «великим водным путем из варяг в греки», а приехал в зимний вечер автобусом из Пскова. Администратор гостиницы «Волхов», что на Софийской стороне, заботливо сообщил постояльцам, что метеосводка сулит ночью 25 градусов мороза, а утром — ветер, «от сильного до очень сильного». Прогноз оправдался: к утру ветер действительно обрел ураганный напор.
Новгородский кремль я уже не раз осматривал после восстановления, а знаменитую Спас-Нередицу упрямо берег в памяти такой, какой видел ее до войны, хотя знал, что реставраторы самоотверженно потрудились над ее воскрешением из руин. В этот раз я решил идти прямо к ней. Древний храм находится в трех километрах от городской окраины, и ведет к нему, как и встарь, неприметная проселочная дорога. Но бывал я здесь прежде только летом, а сейчас дорога почти сливалась со снежной целиной.
Ветер дул с Ладоги, взламывая зимний лед на Волхове. Славная река глядела пугающе грозно. Я видел, как ветром погнало льдину вверх по черно-фиолетовой воде, к Ильменю, против сильного течения. Мороз — арктический, безоблачное небо — блеклого голубого цвета, жестокая низовая пурга. Словом, картина довольно обычная, скажем, для Воркуты или Норильска, а в Новгороде — редкая и не очень благоприятная для загородного пешехода.
На полпути я потерял проселок и побрел целиной, по твердому насту, держа направление на земляную насыпь вдали. Высокая и заснеженная, насыпь эта, как и мостовые каменные быки на стрежне Волхова, осталась памятником незавершенного железнодорожного строительства, что велось здесь еще в годы первой мировой войны.
Взбираться на насыпь пришлось по колено в снегу. Ветер просто сдувал, срывал с гребня. Зато опять я увидел, как прежде, Спас-Нередицу, ее неповторимый очерк, без которого новгородские окрестности так же немыслимы, как в Москве Красная площадь без Василия Блаженного.
Рисуется в зимнем небе восстановленная одиночная главка с тяжелым куполом-луковицей, даже великоватым для маленького, бедного храма: будто надел новгородский мальчонка отцовскую шапку. Рисунок этой главки прямо-таки бесподобен! Воскрешено все здание, нет лишь чудесной поэтической колоколенки рядом, ее очень недостает глазу. И по-прежнему это каменное здание, как и многие другие новгородско-псковские памятники, вызывает такое чувство, будто вылеплено оно из сырой глины — так пластичны и вольны его контуры, неровны членения. Не вычерчивал их древний зодчий по византийской линейке, а вдохновенно лепил — от руки!
Даже издали ощущаешь, как непомерно толсты стены, сложенные из кирпича и камня, — не пожалели предки запаса прочности! По этим мощным стенам разбросаны в беспорядке узкие длинные оконца, забранные железными решетками. Неправильность, асимметрия окон очень оживляет стены, придает «человечность» фасадам Нередицы, ничем не украшенным, кроме игры светотени в закомарных дугах.
Безыменные новгородские мастера создали этот храм в 1198 году, почти восемь веков назад. Сейчас его дружески окружает простая жизнь колхозного села. Стоит Нередица на крутой горке, прямо над рукавом Волхова, Волховцом, среди бесхитростных, как сама она, стогов сена, деревенских изб и переживших войну, по-зимнему голых ракит и плакучих ив.
Поставленная «не в ряду» с остальными церквами (отсюда, видимо, ее своеобразное название), Спас-Нередица занимает особое место и в истории новгородской архитектуры. Это последний храм, воздвигнутый в Новгороде на средства князей.
Описание, даже самое точное, бессильно передать невыразимое обаяние этого маленького одноглавого храма, почти квадратного в плане, с обычным трехчастным делением фасадов и тремя абсидами — алтарными выступами округлой формы.
…В толще западной стены узкая лестница ведет на хоры-полати. Они оставляли свободной среднюю часть храма. Войдя в него, можно было сразу охватить взглядом все внутреннее пространство, гладкие стены без пилястр и лопаток, подкупольные столбы. Эту особенность интерьера Нередицы гениально использовали новгородские мастера-живописцы.
Через год после окончания постройки, то есть в 1199 году, храм был расписан изнутри. В качестве красителей для фресок художники использовали местные глины, истолченные цветные камни, окиси металлов. Размешанные на воде краски наносились на сырую штукатурку стены, тщательно подготовленную, многослойную.
Фрески Нередицы мне посчастливилось видеть до войны еще невредимыми. Они представляли собою одно из главных сокровищ новгородского искусства.
Когда вы входили в храм, отовсюду пристально глядели на вас, вызывая невольную робость, черные, горящие глаза святительских ликов. От этих пронзительных, всевидящих глаз некуда было деться, они почти гипнотизировали. Большинству лиц присуща была ярко выраженная крестьянская, народная сила и притом отчетливая местная — новгородская — индивидуальность. Сразу запоминалась и характерная манера самого письма: резкие контрасты, яркие тона, смелые мазки белил, зеленые тени. Все это производило неизгладимое впечатление.
В храме не было ни одного уголка, свободного от росписей. Они покрывали стены, столбы, своды, арки, паруса. Ряды могучих фигур, написанных в полный рост, располагались друг над другом. Иногда в такой ряд фигур врезался медальон или небольшая групповая сценка. Огромная картина страшного суда занимала под хорами западную стену и примыкавшие к ней участки южной и северной. В центре этой сложной композиции зритель мог видеть «князя тьмы» — сатану на чудовищном драконе. Властитель преисподней сам терзал в когтях свою главную добычу — предателя Иуду. Библейская блудница изображалась на звере, символизировавшем порок. Прочие грешники представали перед зрителем на квадратных стенных картинах — прихожанину как бы приоткрывались окна в ад, и он мог в назидание увидеть, как там терзаются нечестивцы — «во тьме кромешной», либо «в смоле», либо «в скрежете зубовном», либо «во мразе», — надписи уточняли на всякий случай, какая мука уготована грешнику. Кстати, в нередицких надписях отчетливо выражен новгородский говор, вторгавшийся в церковнославянский язык.
Встречались в этой сложной фресковой композиции и мотивы, намекавшие на общественные настроения самих живописцев. Конечно, фрескист не сам выбирал темы росписей — они были заданы иконографическим каноном. Но в трактовку этих обязательных сюжетов мастер-новгородец (и мастер-пскович!) вносил немало индивидуальных черт, выделяя и подчеркивая в росписях такие мотивы, где сквозь религиозную оболочку прорывался в какой-то мере и социальный протест.
Например, одна из фресок Страшного суда не без сарказма показывала муки богача. Голый грешник-богач, опаленный адским огнем, молит старца праотца Авраама оказать милосердие — послать в ад нищего Лазаря, чтобы тот помочил палец в холодной воде и остудил грешнику пылающий язык. Но вопли богача остаются без ответа: здесь, в аду, безраздельно властвует сатана. Он хохочет над мольбой грешника и подносит ему огненный кубок, приговаривая: «Друг богач, испей горячего пламени!»
В этой композиции, не лишенной смелости, богач не вызывает ни малейшей жалости, никакого «христианского сочувствия»: зритель видит отталкивающего грешника-притеснителя, и живописец как бы приглашает посетителя храма позлорадствовать над наказанным мироедом.
Разумеется, нельзя думать, будто мастера копировали на фресках конкретные лица. Но, создавая условный образ святого или грешника, талантливый художник обобщал множество штрихов, почерпнутых не только в иконографических предписаниях, но и в реальной жизни. Поэтому весьма вероятно, что какой-нибудь купчина-толстосум с Торговой стороны мог узнать себя, скажем, в образе того же наказанного богача!
Кстати, одна историческая фигура нередицких фресок была портретна: это князь Ярослав Владимирович. Облаченный в богатую одежду, стоит он перед «престолом божиим» и подносит Иисусу Христу свой храм — модель Нередицы размером в ларец.
Сохранность этих фресок до войны была поразительной, что также показывало высокое умение новгородских живописцев. Ни разу росписи Нередицы не реставрировались. Во всей Европе не было другой такой церкви, которая целиком сохранила бы свое живописное убранство с XII века. Поэтому гибель нередицких росписей — ничем не вознаградимая утрата для мирового искусства.
Дорожили ими не одни только искусствоведы, ученые и знатоки старины. Любили эту живопись земляки-колхозники, ильменские рыбаки, простые люди-новгородцы. Был, например, у храма-музея сторож Василий Федорович Антонов, не историк, не философ, не художник — просто крестьянин, рожденный в сельце у Нередицы. Вот что довелось услышать о нем от его 80-летней вдовы.
После путешествия по снежным сугробам постучался я в ближайший к Нередице домик. Он как-то непринужденно расположился под холмом, почти у подножия восстановленного храма. Обогревшись, я надолго засиделся у Александры Павловны Антоновой. Вся ее жизнь прошла здесь, лишь война заставила отправиться в эвакуацию под Оренбург.
…Осень 1941-го. Фронт подошел к Новгороду. Баржами и вагонами отправлены ценнейшие экспонаты новгородского музея, хранители выехали с ними в Киров. А храмы-музеи? С ними торопливо прощались научные сотрудники, посвятившие целую жизнь их изучению и сбережению. Спас-Нередица оказалась на переднем крае обороны. Из занятого Новгорода гитлеровцы вели сосредоточенный огонь по всему рубежу на Малом Волховце, где советские войска остановили натиск противника.
Василий Федорович Антонов не покинул тогда Нередицу, хотя села у храма уже не было. Домик сторожа был расстрелян — сам он перебрался в землянку и под круглосуточным обстрелом все-таки оберегал свою Нередицу. И не расстался бы с ней, если бы не приказ, — гражданских людей эвакуировали с переднего края. Пришлось последовать за женой и дочерью.
Но лишь только Василий Федорович оказался под крышей чужого дома на земле Оренбургской, он сел за письменный доклад. Ведь он последним из музейных работников видел уникальный храм! Долг его — доложить коллективу, в каком состоянии памятник. И вот он пишет:
«…По 7 октября, то есть до которых пор я находился около нея, памятник находился в таком состоянии. Начнем с верха. Купол, как крыша, так и свод, пробиты насквозь с западной стороны, но еще держатся на месте. Пострадали Пророки и картина Вознесения. Но самое главное — это снесено западное плечо на хорах почти по окно. С юго-западной стороны, где вход на хоры, пробита стена насквозь прямо на лестницу… Также снесена и изуродована вся крыша, и много еще ранений по стенам».
Так и пишет Василий Федорович: «плечо», «ранений». Для него этот памятник средневекового русского искусства — живое страдающее существо.
Сторож Нередицы не перемог болезни и лишений. Вдова, вернувшись в Новгород, заменила мужа на его посту и несколько лет сторожила развалины Нередицы.
На обломках стен еще сохранились остатки фресок. Пророк Илья, проповедник Петр из Александрии, несколько мелких фрагментов. После реставрации храма эти фрагменты находятся под охраной, как и уцелевшие подлинные части здания: именно в их спасении от окончательной гибели — главное значение реставрации.
Восстановление внешнего облика Нередицы — одна из больших удач советских реставраторов. Очень верно замечание Д. С. Лихачева, что возрождение здания Нередицы вернуло Новгороду потерянный было горизонт.
Но драгоценные фрагменты нередицких фресок, находящихся ныне под сводом восстановленного здания, еще нуждаются в дополнительном укреплении — они стали хрупкими и легко осыпаются. Предстоят очень тонкие, требующие величайшей осторожности работы по сбережению росписей, сохранившихся на остатках древней штукатурки.
Группа художников-энтузиастов, несколько лет работающих в Новгороде, уже накопила ценный опыт в реставрации, казалось бы безнадежно разрушенных стенных росписей. Возможно, что в недалеком будущем остатки нередицких фресок, должным образом закрепленные и реставрированные, станут доступны обозрению не только для специалистов, но и для всех любителей древнерусского искусства. Это было бы для них большим подарком.
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Признаюсь, я не знаю во всей нашей стране места, где течение «реки времен» ощущалось бы столь живо, как в Новгородском кремле. Кстати говоря, и сам автор этой прекрасной метафоры теперь покоится здесь: прах Гаврилы Романовича Державина был в 1959 году перенесен в кремль из разрушенного гитлеровцами древнего монастыря — Хутынского. Величавая руина монастырского собора издали видна над Волховом, у села Хутыни, верстах в двенадцати севернее Новгорода.
Новый памятник Державину, увенчанный траурной урной, установлен в уютном кремлевском садике, у знаменитых Сигтунских врат новгородской Софии. Когда стоишь на паперти перед западным порталом Софии, памятник поэту рисуется на фоне старинных сооружений Владычного двора. Эти здания — каменная летопись новгородской истории.
Восемью слегка сходящимися на конус гранями устремлена ввысь эпически строгая башня — Евфимьевская часозвоня. Она первой бросается здесь в глаза. Как ясно выразилась в ней новгородская деловитость, пренебрежение к мелочному украшательству! Впечатление величия новгородцы умели создавать лаконизмом форм, простотой, энергией спокойных, будто уверенных в себе архитектурных масс и объемов. Ведь не так-то уж высока башня, около сорока метров, а выглядит величаво и внушительно, «яко перст остерегающий». Первоначально она была, по-видимому, немного ниже и служила дозорной вышкой. Воздвигли ее в 1443 году по велению тогдашнего главы новгородской вечевой республики архиепископа Евфимия II, самого энергичного поборника новгородской самостоятельности.
Тогда, в середине XV века, противопоставляя Новгород Москве, Евфимий II израсходовал огромные средства на новое строительство в городе, главным образом церковное и оборонительное. Владычный двор в детинце превратился при Евфимии в сложный и красивый ансамбль, дошедший до наших дней в сильно измененном виде, но и сейчас цельный и выразительный. Его главная вертикаль, восьмигранная башня-сторожня, лет двести спустя, уже в XVII веке, сменила свою боевую дозорную службу на мирную службу точного времени: на башне установили часы с боем. Они погибли в одном из пожаров, а название часозвони за башней сохранилось.
Справа примыкает к башне здание, получившее впоследствии название Грановитой палаты. Оно предназначалось для торжественных приемов и заседаний боярского совета господ — верховного органа власти, где председательствовал сам архиепископ.
Верхний этаж Грановитой палаты — самый интересный. Посреди большого зала воздвигнут массивный, расширенный кверху опорный столб. От него лучами расходятся ребристые арки, и весь потолок делится как бы на четыре свода с каркасом из нервюр, то есть выпуклых ребер. Этот зал несколько напоминает архитектуру Грановитой палаты Московского Кремля, но характер их глубоко различен по духу, настроению, тону. Московская палата, ликующая, парадная и гостеприимная, перекликается с архитектурой итальянского Возрождения. Новгородская палата — отголосок мрачной средневековой готики, занесенной в Новгород немецкими или скандинавскими мастерами, которые сооружали это здание вместе с новгородскими каменщиками. Именно здесь, под мрачно-торжественными сводами, закончился последний акт исторической трагедии, обычно связываемой с образом Марфы Борецкой.
Эта властная женщина, вдова посадника Исаака Борецкого, оказывала и сама и через сыновей своих сильное влияние на дела родного города. Во второй половине XV века в Новгороде верховодила олигархическая группа бояр, интриговавшая против Москвы, против усиления общегосударственной власти в стране. Новгородские бояре стремились к сепаратизму, искали союза против Москвы со всеми, кто был заинтересован в ослаблении русской государственности: литовскими феодалами, тевтонским орденом, косвенно с татарским ханом и даже ватиканским престолом. Ватикан поддерживал заговорщиков деньгами, дипломатией, обещаниями.
Народ же новгородский, «людство», не мог сочувствовать этим интригам, видя в московском великом князе не только защиту от врагов внешних, но и управу против боярского всесилия. И когда под новгородские стены стремительно подошла небольшая московская рать, предводительствовавший ею Иван III обратился к новгородцам со словами: «Я сам опас (то есть защита. — Р. Ш.) для невинных и государь ваш; отворите ворота: когда войду в город — невинных ничем не оскорблю!»
Великий князь московский вступил в Новгород под колокольный звон и приветственные крики — народ заставил бояр открыть ворота. И как раз под ребристыми арками Грановитой палаты прозвучала тогда, осенью 1478 года, гневная речь Ивана III, судившего заговорщиков. Главные виновники осуждены были на казнь, семьи боярские и купеческие отправились в ссылку, новгородский владыка Феофил сослан был в Чудов монастырь. Еще раньше, весной, Иван повелел вывезти из города Марфу Борецкую. В том же обозе увезли и мятежный вечевой колокол.
В сенях, при входе в Грановитую палату, в одной из ниш, советские реставраторы расчистили кусок фресковой росписи того века. Изображает эта пятисотлетняя фреска Иисуса Христа, держащего евангелие с такой надписью: «Не на лице зряще судите, сынове человечестии, но праведен суд судите, им бо судом судите, судится вам», то есть: «Судите праведно, невзирая на лица, ибо каким судом судите вы, таким же будут судить и вас самих». Эта надпись звучит как предостерегающий голос самой истории, голос, к которому не сумел вовремя прислушаться новгородский совет господ.
Ныне Грановитая палата используется как выставочный зал историко-художественного музея. Увидеть здесь можно великолепные образцы древнерусских художественных изделий, произведения чеканщиков, резчиков, ювелиров, злато- и среброкузнецов.
Зубчатые кремлевские стены высотою до десятка метров похожи на московские, но постарше и попроще. Некогда кремль со всех сторон окружал глубокий ров с водой, лишь с востока река делала ров излишним. Весной этот древний ров и поныне полнится водой; повсюду он густо зарос старыми деревьями. Иные заглядывают через стены прямо в кремль, шелестят листвой выше зубцов с бойницами. По верху, вдоль зубцов, хоть на тройке разъезжай! Надо рвом поднимаются сейчас девять кремлевских башен. Самая высокая из них — знаменитый Кокуй (от немецко-голландского «куккен» — смотреть). Это название башня получила при Петре, когда надстроили древнее основание ее: над четырехгранником подняли еще два восьмерика (излюбленный прием москвичей!). Верх покрыли шатром, а над ним вознесли в небо новгородский герб на золотом «прапоре» — так называли раньше знамя.
В старину, кроме стен и рва, детинец защищала дополнительная система укреплений, так называемый Малый город. Эти укрепления срыты еще в прошлом столетии. Сейчас на их месте тенистый бульвар.
Был у Новгорода и внешний оборонительный пояс, острог, окружавший весь посад по обоим берегам Волхова. Остатки пояса видны и сейчас — сохранился (к сожалению, не везде) земляной вал, по которому некогда тянулась дубовая, а местами и каменная стена. Одна башня — Белая — уцелела и реставрирована.
Этот старый оборонительный пояс послужил защитникам Новгорода в августе 1941 года: вал изрыли окопами, противник бил по ним фугасами, взметая насыпную, веками слежавшуюся землю.
Справа от входной (западной) арки кремля возвышается Златоустовская башня, заложенная в XIV веке. Примыкает к ней небольшая, гораздо более поздняя пристройка. У этих зданий есть и революционное прошлое. В пристройке находилась квартира музейного служителя Талалаева, и тут ссыльный питерский рабочий Змеев создал первую в Новгороде подпольную социал-демократическую типографию. Революционеры-подпольщики напечатали в ней несколько боевых прокламаций и воззваний.
Между Златоустовской башней и входной аркой участок кремлевской стены всегда украшен живыми цветами, венками, алыми лентами. Горит здесь вечный огонь. Это братская могила павших в январские дни 1944 года при освобождении кремля и Софийской стороны. В 1965 году временный памятник был заменен постоянным. Я поторопился к нему прямо с ночного автобуса и в свете вечного пламени разбирал слова на большой гранитной плите: «Здесь лежат солдаты Великой Отечественной войны…» Это лежат те, кто в памяти нашей всегда останутся двадцатилетними. Их жизнями вернули мы себе Новгородский кремль.
Сверху, с вертолета, очертания кремля похожи на зерно фасоли или боб. Вогнутая сторона его омывается Волховом. В центре кремля — площадь с монументом 1000-летию России, главным корпусом музея и самым величественным памятником новгородской истории, знаменитым Софийским собором.
Об этом здании существует огромная литература. Уже новгородских летописцев, известных своим предельным лаконизмом, строительство новгородской Софии интересовало чрезвычайно. Они пристально следили за его ходом, отмечая подробности.
В истории русского искусства огромнейшее значение имеет не только сохранившееся каменное здание, но и его деревянный прообраз — богато украшенный дубовый собор «о тринадцати верхах», ровесник киевской Десятинной церкви по времени закладки (989), но законченный в том же году, за семь лет до завершения Десятинной.
Установлено, что деревянная София стояла на месте ныне сохранившейся церковки Андрея Стратилата у юго-восточного прясла кремлевской стены. Быть может, археологические раскопки Борисоглебской церкви, существовавшей на этом же месте, откроют нам следы деревянной Софии? Как обогатило бы это наши знания о древнейшей народной архитектуре Руси! Тринадцатиглавие первой новгородской Софии было впоследствии, в XI веке, перенесено на Софию киевскую, а сама дубовая новгородская «поднялася от огня», простояв всего шесть десятилетий.
В годы 1045–1050, при князе Владимире Ярославиче (внуке Владимира), новгородцы воздвигли пятиглавый каменный Софийский собор. Он-то и стоит в кремле перед нами. Связь новгородской истории с этим храмом символически выразил князь Мстислав Удалой, воскликнув: «Где София, там и Новгород». Новгородцы подхватили этот клич и гордились им. С именем Софии устремлялись они на врага. Ей посвящали подвиги, подносили богатые подарки, во славу ее слагали песни.
Внешне собор сразу вызывает в памяти образы древнерусских богатырей. Его купола формой напоминают богатырские шлемы. Большой средний купол высоко вознесен над кремлем, будто сам Илья Муромец в золотой шапке стоит дозором над землей Новгородской и далеко за городом видит зеленые равнины и синий простор Ильменя.
Достойно изумления искусство, с каким древние зодчие соединили элементы конструктивные с художественными, заставляя технику служить красоте, подчиняться ей, а не подавлять ее.
Членение фасадов достигнуто с помощью прямоугольных «лопаток» — встроенных в стену каменных столбов, выступающих наружу, чтобы укрепить стену и вместе с тем оживить ее поверхность, создать ритм. Внутри храма на те же столбы опираются арки сводов. Железная (некогда свинцовая) кровля уложена по сводам, и это позволило очень своеобразно завершить все четыре стены закруглениями арок и совсем неожиданными треугольными, острыми фронтончиками. Такие острия — несомненное влияние деревянного зодчества! — и составляют индивидуальную особенность новгородской Софии.
Великое произведение древнерусского искусства — Софийский собор связан, разумеется, с целым роем поэтических легенд и поверий.
Внутри главного купола, например, был изображен, как и в Софии киевской, Христос-вседержитель. Кисть его правой, благословляющей, руки новгородские живописцы, по преданию, написали разжатой. Но всякий раз, когда мастера являлись утром в собор продолжать работу, они… видели руку сжатой! Трижды переписывали мастера эту руку, и трижды пальцы на фреске таинственно сжимались к утру следующего дня. Наконец — по легенде — «бысть глас с неба» не спорить с волей божией и оставить кисть вседержителя сжатой, ибо она, дескать, держит судьбу Новгорода: когда пальцы разожмутся, то и Новгороду наступит конец!
Зрительная иллюзия объяснялась тем, что живописцы не приняли во внимание кривизны купольного свода: пальцы на фреске, написанные без учета кривизны, снизу производили впечатление сжатых…
В 1941 году немецкий снаряд угодил в самый купол и безвозвратно разрушил старую фреску.
Поэт Всеволод Рождественский дал такой стихотворный образ новгородской Софии:
Он весь — тугая соразмерность,
Соотношение высот,
Асимметрия, тяжесть, верность
И сводов медленный полет.
Этот «Сводов медленный полет» еще сильнее воспринимается внутри здания. Освещено оно скуповато — новгородцы делали окна в церквах узкими, похожими на бойницы. Климат-то здесь не киевский, да и впрямь могло довестись этим щелевидным окнам сыграть роль бойниц! Нет в новгородской Софии и той роскоши убранства, что так поражает в Софии киевской, не так богата игра света и тени, потому что внутренность новгородского храма более расчленена. Каждый из притворов воспринимается здесь как отдельное помещение, более интимное, позволяющее прихожанину уединиться, уйти из большой толпы.
Но центральная, крестообразная часть, перекрытая высоким куполом, выделена архитектором особо, именно для большой толпы прихожан, как бы противопоставленной «властям предержащим».
Люди, стоявшие внизу на открытом пространстве под куполом, окружены были серовато-сизым сумраком, лишь чуть подсвеченным огоньками лампад и свечей. А на хорах (по-старинному — полатях), высоко вознесенных над простым людом, блистала парчою и бархатом княжеская свита и стоял сам князь или его наместник. Хоры щедрее освещались из окон, чем главный неф храма, и когда-то, столетия назад, народ видел здесь и Александра Невского, и Ярослава Мудрого, и непреклонную Марфу Посадницу, и самого великого князя Ивана III, сломившего новгородское упрямство.
В храме было устроено хранилище для государственной казны, имелись, по летописным преданиям, и тайники с кладами. В ризнице сберегалась драгоценная утварь, произведения ювелирного искусства. В новгородской Софии обучались книжной грамоте сыновья почтенных городских граждан, тут возникла и первая новгородская библиотека — собрание рукописей. Монахи-летописцы вели здесь записи сохраняя для потомков «земли родной минувшую судьбу… войну и мир, управу государей…».
Прекрасен западный портал Софии, откуда мы бросили взгляд на Владычный двор и часозвоню. Архитектурная отделка портала, напоминающая владимирские храмы, относится ко временам позднейшим, но именно здесь, у западного входа в Софию, новгородцы XIII века повесили замечательный военный трофей — Сигтунские врата. Створы этих ворот состоят из бронзовых пластин с выпуклыми изображениями. Сработаны они были двумя немецкими мастерами в городе Магдебурге и предназначались, видимо, для Швеции (или были захвачены у немцев шведами).
Новгородцы привезли к себе Сигтунские (или Магдебургские) врата в разобранном и испорченном виде. Чтобы из груды бронзовых пластин с изображениями библейских сцен воссоздать тяжелые и сложные ворота, потребовалась искусная работа русского литейщика, мастера Авраамия.
Задачу свою новгородец решил блестяще, восполнив и потерянные куски. Но он задумал еще нагляднее показать согражданам, что нисколько не уступает в мастерстве немецким коллегам. На нижнем клейме левой створы (врата открываются внутрь храма), точнее — на самом разделительном столбике между нижними клеймами, мы видим скульптурную фигурку осанистого человека в русском кафтане, опоясанном кушаком с кистями, и в высоких щеголеватых сапожках. На шее крест, в левой руке кузнечные клещи, в правой — молот. Волосы подстрижены в кружок, борода округло подравнена. В бронзовой фигурке отлично передано человеческое достоинство новгородского умельца. Вероятно, автопортрет похож.
Упрямо выдвинута из-под бронзовых усов нижняя губа, а выпуклые очи вот-вот лукаво подмигнут экскурсанту-правнуку: дескать, и мы, в нашем XIII веке, не лыком шиты были!

Некогда, еще в языческую пору, собиралось новгородское людство на вече по призывному голосу била. Вечевой бирюч ударял по билу молотом. В тихую погоду вольно разносился звук призыва по реке, вверху будил эхо за Перынью на Ильмене, и в Рюриковом городище на Малом Волховце, а внизу бывал слышен и в Питьбе, верстах в восьми от Новгорода.
Всяк горожанин бросал свое дело и, в чем был, спешил на вече. Рыбаки правили челны и просмоленные дочерна насады (лодки с наращенными бортами) к новгородскому берегу, к дощатым пристаням на сваях. Кузнец оставлял мехи и полупотушенный березовый уголь на горне. Гончар сдерживал быстрый ход круга. Кожемяка погружал мостовьё в чан с дубильным раствором и снимал с себя пахучий ýсменный (кожаный) фартук. Все шли на зов, в детинец либо на Торговище.
Вечевое било, а позднее — медный вечевой колокол, скликало горожан для разных надобностей по-разному. Скажем, одно дело — князя встречать и кричать, люб ли; или посадника, или тысяцкого о ратной заботе послушать, а то и к ответу потребовать. Другое же дело бывает попроще, к примеру — распределить повинности по концам, рассудить торговый спор между общинами. По наиважнейшим нуждам течет народ к детинцу, на гору, а обычное вече правится на Торговище, против детинца, на той стороне Волхова.
Вокруг кремля-детинца и напротив, за рекой, разросся новгородский посад. На левом берегу городские концы названы были Неревским и Людиным, а на той, Торговой стороне, концы зовутся Славенским и Плотницким. Потом еще прибавился на левой стороне Загородский конец, а соседний с ним Людин стали именовать Гончарским. Давно это было, еще до церквей.
Почему же столь древний город прозван Новым, Новгородом?
Потому что задолго до Рюрика было «городище древяно» близ Малого Волховца, рубленное в незапамятные времена. Когда стало в нем тесно, а может, и по другой причине, перенесли люди свое поселение на холм у берега Волхова и прозвали новое городище Новгородом. А когда пришел Рюрик с дружиной, то стоял он, по преданию, сперва в Ладоге, потом в прежнем городище на Волховце, отчего с тех пор именуется оно Рюриковым. Много позднее, в XII веке, стало оно опять княжеской резиденцией.
Собирались люди на вече по концам, а не сбивались в одну шумную, бестолковую толпу. Как на улице двор примыкает ко двору, так и на вече становилось людство улицами, каждая за своим уличанским старшиной. Бывали вечевые сборища и кончанские — когда не весь город грудился, а только один из концов.
Для большого веча построена на Торговище степень — высокий помост, куда поднимается посадник, тысяцкий и ораторы. Кончанские старосты становятся внизу, рядом со степенью, — они знают законы, подскажут вечу решение, а людство согласится или отвергнет. Если спор разгорится не на шутку — доходит дело иногда и до потасовки. Уже в конце X века оба берега новгородских соединились «великим мостом» о семнадцати устоях, и случалось, что вечевой спор кончался на мосту, и кое-кому приходилось отведать холодной и быстрой волховской воды.
Иногда споры на вече затягивались до сумерек. Но вот, после пересудов и уговоров, дело сладилось, несогласные смирились. Расходится людство по домам!
Уходят по своим гостиным дворам и чужестранцы, те, что полюбопытствовали прийти, побывали на вече. Переговариваются между собою иноземные гости, и больше прочих дивятся новички, впервые попавшие в город: как же чисто он содержится! На Западе так и не слыхано.
Площадь-торговище сплошь замощена деревянными настилами. В любую погоду, в любую темень пройдешь — ногу не сломишь. Лаптей новгородцы не носят, все в кожаной обувке — и стар и млад. Улицы новгородские впадают в Торговую площадь, как речки в Ильмень-озеро: иные улицы ширину имеют почти до трех сажен, другие — в две сажени или полторы, как и в городах свейских, нурманских и немецких. Но хоть и не широки улицы, зато мощены так же, как и площадь, а где поизносится мостовая — повинен хозяин двора немедля участок улицы исправить.
Многолетние раскопки в Новгороде показали, что был он замощен сплошь, включая дворы, причем на некоторых участках археологи сосчитали по двадцати пяти слоев мостового покрытия — старшие его слои восходят к X веку! Средневековый Париж приступил к мощению своих улиц на полтысячи лет позже…
Древнее Торговище, то есть вечевая и торговая площадь, примыкало с юга к Ярославову дворищу. Будто на этом месте Торговой стороны соорудил себе вопреки обычаю предков княжий терем Ярослав Мудрый (до него князья, видимо, жили в детинце). От этого терема на дворище следов не найдено, но, по древним легендам, он был богат и пышен, — даже варяжские сказители пели о нем в своих сагах. Потомки и наследники Ярослава жили тоже на дворище, застраивали его теремами и церквами.
Сын знаменитого киевского князя Владимира Мономаха Мстислав воздвиг в 1113 году на дворище пятиглавый Никольский (или Николо-Дворищенский) собор. Это древнейшее храмовое сооружение Новгорода после Софии.
В Николо-Дворищенском соборе очень ясно выражена основная архитектурная идея старейших новгородских храмов — предельная простота, логичность форм. Кажется, что такой храм можно сложить из детских кубиков: простой куб, три алтарных выступа (или абсиды) с востока, скупое, излюбленное новгородцами разделение стен прямоугольными вертикальными лопатками. Узкие, щелевидные окна, асимметрично разбросанные. Лопатки наверху соединяются спокойными полукругами закомар — по ним некогда шло свинцовое покрытие. Впоследствии посводное покрытие заменили четырехскатной крышей, а все здание увенчали вместо прежнего торжественного пятиглавия единственным круглым барабаном и шлемовидным куполом. В таком виде собор и дошел до наших дней.
Он и теперь живописен и даже величав в своей скромной простоте. Запоминаются его внушительные округлые абсиды, в особенности когда утреннее солнце пригреет оштукатуренный камень, игра теней убавит суровости, придаст этим пластичным тяжеловатым выступам некоторую мягкость, человечность.
У Николо-Дворищенского собора есть в Новгороде два очень родственных здания, по которым интересно проследить развитие тех же архитектурных идей и приемов. Это — Рождественский собор в Антониевом монастыре и Георгиевский собор в Юрьевом монастыре (издали мы его уже видели, когда побывали у Спас-Нередицы).
Летописец сохранил для потомков только имя строителя самого большого из этих трех зданий — Георгиевского собора. Его автор — мастер Петр-новгородец, гениальный зодчий, творчески переработавший византийское и южнославянское наследия, один из создателей новгородской школы зодчества.
Исследователи считают, что близкое архитектурное родство Георгиевского собора Николо-Дворищенскому и Рождественскому не случайно: время их постройки близко совпадает, и возможно, что у них один автор, тот же мастер Петр. Все три архитектурных памятника представляют собой образцы великого северорусского строительного искусства. Это здания эпических силуэтов, прямых и строгих линий, могучих масс и объемов. Их стены украшены скупо, фасады лишены узорочья, и покоряет нас эта архитектура своей суровой правдивостью, энергией и предельным лаконизмом. Он близок лаконизму новгородских летописей.
Антониев и Юрьев монастыри служили в старину как бы воротами к Новгороду. Оба расположены на берегах Волхова: Юрьев — на левом, в трех километрах выше детинца, Антониев — на правом, на северной окраине Торговой стороны. От Ярославова дворища до монастыря — около двух километров вниз по реке.
Сейчас в зданиях Антониева монастыря размещается Новгородский педагогический институт. У западного входа в Рождественский собор прежде лежал большой темно-серый валун (теперь он внесен в здание). Предание гласит, что монастырь основан в XII веке православным угодником Антонием.
До этого жил он в Риме, где его преследовала кознями «церковь латинская». Святому уже грозила гибель, когда по божьему велению он воссел на камень и… спокойно поплыл, куда указывал «перст божий». Камень за трое суток привел его на Волхов-реку, ко славному граду Новгороду и здесь вынес на берег. Знакомые мне девушки-студентки пединститута не поленились подсчитать, что Антоний-римлянин одолел дистанцию в четыре тысячи миль со скоростью в пятьдесят пять узлов, то есть путешествовал в XII веке быстрее, чем мы на «ракетах» и «метеорах» с подводными крыльями.
Вот перед нами Рождественский собор Антониева монастыря, построенный в годы 1117–1119-й. Если окончательно подтвердится, что Рождественский собор выстроен Петром, то эта постройка послужила как бы испытанием мастера перед его главным жизненным подвигом — созданием Георгиевского собора. Многие черты, получившие полное выражение в Георгиевском соборе, талантливо намечены уже в Рождественском.
У собора три главы, очень смело поставленные, без всякой симметрии, на первый взгляд — произвольно. Но попробуйте мысленно передвинуть главы — сразу ритм и архитектоника здания изменятся, ухудшатся! Найдено самое точное и «музыкальное» размещение.
Главы непропорционально велики — это позднейшая переделка. Низкие галереи-паперти, широкие окна, пробитые в стенах вместо прежних щелевидных, и другие перемены все же не мешают увидеть близость этого храма Николо-Дворищенскому собору. План, композиция, членения фасадов те же, только вход на хоры здесь решен в виде круглой башни у северо-западного угла. Оба здания сложены из крупного плитняка с прослойками кирпича-плинфы, на крепко вяжущем растворе.
Но если Николо-Дворищенский и Рождественский соборы были первыми вехами на творческом пути мастера Петра, то каков же апофеоз этого художника?
Взглянем на Георгиевский собор. Удобный речной трамвай «москвич» быстро доставит нас по Волхову вверх, до Юрьева монастыря.
Стоит он на взгорке, невдалеке от Ильменя. Здесь и летом свежо, ветрено, а весной, в половодье, когда Волхов, его рукава и сам озерный залив сливаются в одно необозримое море, Юрьев монастырь кажется издали островным городом из сказки о царе Салтане, но не прянично-слащавым, как его рисуют для кондитерских, а величественным, неприступным, строгим.
Мне довелось фотографировать весь этот ансамбль — крепостную стену, колокольню, белый собор, башни, надвратную церковь, — вскоре после войны, еще без куполов, с искромсанными стенами, выбитыми окнами, сорванными дверьми. Ныне он возрожден. Уходят в небо три соборные главы изумительных пропорций, блистают белизной могучие стены, нарочито оставленные Петром гладкими, без декора, чтобы взывали они к трезвомыслящему северянину-новгородцу не суетой украшений, а чистыми гранями камня, как у пирамид Египта или у скал крымского Судака.
По размерам Георгиевский собор близок к Софии, а внутри производит, пожалуй, даже еще более целостное и внушительное впечатление. Взгляд разом охватывает внутреннее пространство. Оно все устремлено ввысь, к полушарию купола. Стены имеют чуть заметный наклон внутрь, это усиливает ощущение устремленности кверху.
А внешне здесь до полного совершенства развита асимметрическая композиция трехглавого собора, подобного Рождественскому в Антониевом монастыре. Как и там, к северо-западному углу пристроена башня-лестница, ведущая на хоры, но здесь башня имеет в плане квадратную форму и выглядит как своеобразный уступ, органическая часть фасада. Это подчеркнуто еще и мастерским применением элементов декора, расположением оконных ниш… Во всем блеске проявилась здесь зрелость мастера.
В нижней части стен Георгиевского собора и на лестничной башне можно различить следы древнейшей фресковой росписи, похожей на роспись киевской Софии. Выполнены эти фрески прекрасно, причем очевидно, что работало здесь несколько художников — мастера различной школы, различной манеры, еще далекой от особенностей новгородской живописной школы (последняя зародилась чуть позднее, но уже к концу века дала столь совершенное творение, как нередицкие росписи). Выстроен Георгиевский собор в 1119–1130 годах. Заказчиками его были князь Всеволод Мстиславич, внук Мономаха, и игумен Юрьева монастыря Кириак.
Несколькими годами позднее произошли крупные события в новгородской истории, о чем сказано в летописи: «Бысть восстань велика в людех».
В 1136 году новгородское вече потребовало князя к ответу, сурово предъявив ему обвинение в трусости, а главное — в том, что он вмешивает Новгород в междоусобицы и «не блюдет смердов» (то есть не заботится о простом народе). Всеволода изгнали, а нового князя, Святослава, сильно ограничили в правах.
С той поры и превратился Новгород в самостоятельную феодальную республику, первую на Руси. Князья лишились права жить в городе, на Ярославовом дворище, и должны были вместе со свитой и челядью переселиться на старое Рюриково городище. Результатами восстания 1136 года воспользовались влиятельные купцы и бояре. Детинец остался резиденцией архиепископа, игравшего главную роль в совете господ. Ярославово дворище и Торговая площадь сделались средоточием бурной общественной жизни города.
Вблизи от Николо-Дворищенского собора стоит интересное здание, о котором можно часто слышать от горожан, будто здесь-то некогда и висел вечевой колокол новгородский, сменивший древнее било. У этого трехэтажного здания две проездные арки и красивая восьмигранная башня — шатер. Долгое время считалось, что это гридница XV столетия, то есть вечевая канцелярия. Но архитектура здания и башни относится ко временам более поздним, к XVII веку, когда новгородское вече уже перестало существовать. Новыми исследованиями установлено, что здание и башня связаны с бывшим вечем только своим местоположением, а служили въездом в Гостиный, то есть купеческий, двор.
Уцелевшая часть Гостиного двора, или (по-старому) «гридница», гармонирует с архитектурой остальных зданий на Ярославовом дворище и на Торгу. Некогда на Торговой площади стояло двенадцать больших храмов, не считая еще одного монастыря. До наших дней уцелело семь, они-то и придают Дворищу и Торгу незабываемый облик.
К числу интересных строительных особенностей древнерусской архитектуры относится устройство особых резонаторов — «голосников». Это вмазанные в стены, обожженные глиняные горшки. Служили они не только для усиления звука, но и облегчали тяжесть сводов, арок и всей купольной системы. В наше время акустические опыты показали, что в зданиях с голосниками человеческая речь и пение звучат красивее и сильнее, а исполнителю поется легче.
Строились церкви на Торговище ремесленными братствами в честь патронов-покровителей разных видов ремесла: своя церковь была у суконщиков, своя у кузнецов, своя у торговцев воском. При церквах действовали советы купеческих или ремесленных объединений.
В сохранившемся поныне большом храме Ивана на Опоках (то есть на белой глине) разбирались в старину торговые тяжбы, совершался купеческий совестный суд. Тут же, в специальном ларе, хранились торговые договоры, а в притворе стояли весы особой точности, которые мы назвали бы контрольными. Если возникал спор насчет недовеса, и недомера, доставали из ларя «гривенку рублевую», выверенные безмены, а то и старинную меру — «локоть иванский», чтобы смерить в длину партию товара.
О многом могли бы поведать храмы на Торгу и Ярославовом дворище. Каких только бед не переживали новгородцы! Сколько раз пожары истребляли деревянный город с узкими улицами! Сколько тысяч и тысяч сынов северной русской земли полегли в битвах, сколько горьких слез пролили матери и жены! Но не было у Новгорода худших врагов, чем последние пришельцы — фашисты. В городе, выжженном и безлюдном, как пустыня, гитлеровцам достались одни камни, но ведь и камни говорили о стойкости, о жизнелюбии русского народа. И фашисты объявили войну камням. Они взрывали древние памятники, мостили обломками храмов дороги, давили эти обломки гусеницами танков. Многие памятники новгородского зодчества стерты с лица земли, другие вернулись нам в развалинах. Не помедливши, возвели наши упрямые люди защитные шатры над руинами и принялись за реставрацию. Работы начались еще до окончания войны.
Возрожденные памятники древней архитектуры изумительно вписаны в облик сегодняшнего Новгорода. Город над Волховом вторично за одиннадцать веков оправдал свое название: он действительно опять новый, воскрешенный из пепла и каменных осыпей.
Когда приезжаешь сюда — трудно бывает уйти с нового моста через Волхов. Направо глянешь — сияет золотом шлем Софии над твердынями кремля, плывут тихие облака над Кокуем, просвечивает синева в проемах софийской звонницы. А налево — уходит вдаль широкий проспект Гагарина и виден силуэт храма Федора Стратилата. Искусствоведы справедливо считают его шедевром новгородской архитектуры XIV века. Когда-то он стоял на берегу ручья, отделявшего Плотницкий конец от Славенского. Теперь ручей засыпан, по бывшему его руслу мчатся машины из Ленинграда в Москву.
Очень похожая на храм Федора Стратилата, но более нарядная красуется в глубине Первомайской улицы церковь Спаса на Ильине. Она была расписана изнутри великим мастером живописи Феофаном Греком, и, к счастью, многие фрески уцелели. Главная композиция Феофана — устрашающе грозный Христос-пантократор в купольном своде, так же как и старцы, пророки, столпники, написанные на стенах и сводах, — до сих пор поражает необычайной смелостью рисунка, своеобразием колорита, трагическим пафосом и совершенством психологической характеристики.
Если вам придется смотреть, как мне в последний раз, эти потрясающие фрески в холодное время года, они будто просвечивают через голубоватый дым, и краски не так ясно различимы. Но даже в неблагоприятных условиях зимы ценитель фресковых росписей получит в храме Спаса на Ильине впечатление глубокое и сильное.
Оба здания, Федор Стратилат и Спас на Ильине, тоже перенесли тяжкие военные повреждения и были спасены умелыми руками советских реставраторов, как и многие другие памятники новгородской старины. Все они отделяются от остальных строений свежей, ослепительно яркой на северном солнышке побелкой. Те, что ближе к реке, глядятся с берега в серо-синюю, чуть тронутую рябью, глубокую и спокойную воду. Это здания-ветераны, вышедшие победителями из Великой Отечественной войны, простые и скромные, мудрые в своем немногословии.

Есть у искусствоведов такой специальный термин — граффити. Наши первоклассники удивились бы, узнав, что это такое. И пожалуй, неосторожная пропаганда этого слова могла бы привести кое-где к последствиям, нежелательным для школьного завхоза.
Граффити — это те самые, строго-настрого запрещенные всеми правилами внутреннего распорядка настенные рисунки, надписи, что так раздражают и сердят нас в лифтах и коридорах, на лестницах, а то и в красивых горных ущельях, где, правда, нет стен, но есть поросшие мохом или открытые солнцу изломы скал.
Археологи уделяют много внимания исследованию граффити. Это требует специальных знаний — истории языка, диалектологии, палеографии. Выцарапанная на стенной штукатурке надпись или рисунок живет иногда очень долго.
Граффити, конечно, вредят казенному имуществу, но спустя века могут принести пользу науке. Да ведь и не всегда рисунок на стене связан с безделием или шалостью. Подчас это — след трагического и страшного происшествия. Сколько рассказали, например, тюремные надписи об ужасах Моабита и Бухенвальда, Освенцима и Дахау!
В памятниках древней архитектуры, воплотивших на века замысел зодчего, часто сохраняются и следы рук тех, кто пользовался зданием, бывал в нем, запечатлевал в рисунке или надписи свои думы и чувства.
В лестничной башне Рождественского собора в Антониевом монастыре был обнаружен в 1944 году рисунок, нанесенный на штукатурный слой красной краской. Изображен на рисунке сутуловатый человек с бородкой и небрежно подстриженными волосами. Одет он в кафтан, опоясан кушаком. Одну руку прижал к поясу, другую отвел в сторону, будто что-то поясняет. Над головой процарапана надпись: «ПЕТР».
Летописец ничего не сказал о личности мастера Петра, творца Георгиевского, а предположительно и Рождественского и Николо-Дворищенского соборов. Понятно, какой жгучий интерес вызывает каждый штрих, способный хоть что-то поведать нам о замечательном русском архитекторе XII века. Обнаруженный рисунок мог, по мнению специалистов, принадлежать руке самого мастера, — тогда мы имеем автопортрет древнейшего из известных нам по имени русских зодчих. А может быть, мастера Петра изобразил кто-то другой, работавший с ним бок о бок?
Похожее открытие было сделано недавно в Софийском соборе. Там нашли выцарапанный на первоначальном штукатурном слое силуэт церковного здания и… подпись «ПЕТР». Рисунок надежно датируется XII веком — значит, тоже может относиться к великому зодчему? Может быть, во время молебствия он стоял в уголке и чертил каким-то острием силуэт задуманного храма?
Особенно богаты граффити Софийский собор и храм Федора Стратилата на Ручье. Каких только надписей не сохранилось на церковной штукатурке! Тут и поминания, и коммерческие подсчеты, и даже сердечные признания…
Надо заметить, что иные граффити исполнены прямо-таки каллиграфической старославянской вязью, сохраняя черты новгородского говора. Значит, они принадлежат людям здешним, притом простым ремесленникам. Есть, например, слова, выцарапанные на глиняных голосниках еще до обжига, — их несомненно писал на своем еще сыром и мягком изделии сам мастер — новгородский гончар.
Словом, прежние представления о мнимой поголовной неграмотности древней Руси разлетаются в прах, так же как и попытки рисовать тогдашний Новгород грязным и неблагоустроенным (каким был в те времена, например, Лондон).
Археологи находили в Новгороде памятники древнерусской письменности, говорящие о повседневном, бытовом ее применении. На винной бочке XIII века обнаружена подпись владельца — «Юрище». На сапожной колодке — имя заказчицы, новгородской модницы Мнези. Но эти доказательства письменной культуры древних новгородцев не всем казались убедительными, пока в 1951 году экспедиция московского профессора А. В. Арциховского не сделала в Новгороде поистине исторического открытия. Речь идет о так называемых берестяных писаницах.
Об этом выдающемся открытии написаны десятки ученых трудов, специальных статей, научно-популярные работы, как, например, прелестная книга В. Янина «Я послал тебе берёсту».
Уже давно при новгородских раскопках ученые находили свернутые в трубочки куски бересты. О том, что березовая кора служила универсальным «оберточным» средством, было известно и раньше. Берестой соединяли стыки подземных дренажных и водопроводных труб, то есть, по выражению строителей, ее использовали как средство гидроизоляции. Из нее делали замечательные по красоте обои. Применяли бересту и в рыбацком обиходе. Поэтому, обнаруживая скатанные трубочки, археологи принимали их за поплавки для рыболовной снасти.
Но вот 26 июня 1951 года в одном из раскопов новгородской мостовой участница экспедиции заметила между слоями старых бревен берестяной «поплавок» и присмотрелась к нему внимательнее… Буквы! Целые слова и даже фразы из процарапанных букв!
«Впечатление было потрясающее. Казалось, из-под земли раздались живые голоса древних новгородцев», — писал Арциховский.
С тех пор найдены, обработаны лабораторными приемами, прочитаны, всесторонне исследованы сотни берестяных грамот. Исследования показали, что жители древнего Новгорода и его окрестностей, а может быть, и всей Новгородской земли, широко пользовались письменной грамотой. Читать, писать буквы и цифры, вести арифметический счет умели, оказывается, и городские люди и крестьяне — мужчины и женщины. Дети сызмальства приучались к письму — для этого имелись специальные пособия вроде деревянных азбук, вырезанных на дощечках. На одной из таких дощечек — азбуке XIII–XIV веков — размером около ста двадцати квадратных сантиметров — вырезано 36 букв славяно-русского алфавита. Более древнего учебного пособия в нашей стране нигде не найдено.
О чем же рассказывают эти грамоты на бересте, ныне выставленные в Государственном Историческом музее в Москве?
Вот крестьяне пишут хозяину в город, что урожай собран: рожь, мол, собрали по едокам, «а на твою долю немного, господине, ржи». Вот записка «от Бориса ко Ностасье»: по горло занятый супруг просит жену отправить следом конного нарочного, а с ним дослать и сорочку, впопыхах забытую дома. Есть грамоты, написанные детьми. Есть взволнованное сообщение, что высушенное сено украдено соседями. Есть завещания, письма из других городов…
Словом, жизнь во всем ее многообразии, с естественной речью, характерным новгородским «цоканьем» и другими особенностями живого северорусского просторечия засверкала перед нами всеми красками и переливами.
Помогла археологам новгородская почва с повышенным содержанием естественных кислот. Она прекрасно консервирует древесину и сберегла для нас в течение веков эти реальные следы бурного потока жизни наших северных предков.
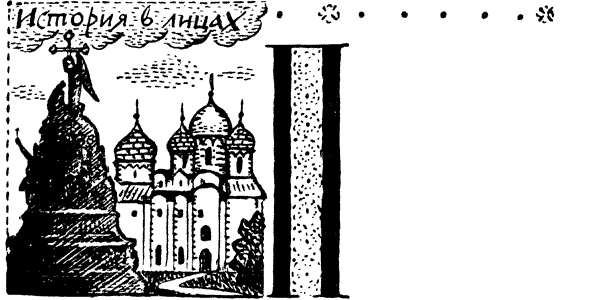
Перед тем как проститься с Новгородом, постоим перед памятником 1000-летию России. Этот огромный монумент воздвигнут на кремлевской площади, между зданием музея и Софийским собором.
Издали похожий на колокол, он кажется тяжеловатым и старомодным. Не нужно тонкого художественного чутья, чтобы понять: перед нами не творение высокого искусства, как, скажем, Медный всадник. Однако памятник сработан большими мастерами скульптуры, отлично расположен, сразу бросается в глаза приезжему. На площадке перед ним всегда многолюдно. Экскурсанты проводят здесь целые часы. Это понять не мудрено — ведь памятник очень наглядно изображает в лицах тысячелетнюю историю нашей страны, а кроме того, уже и сам имеет собственную историю, возвысившую его значение.
…20 января 1944 года советские войска выбивали гитлеровцев из развалин Новгородского кремля. Опаленная разрывами, полуразрушенная, лишенная глав и креста, но по-прежнему далеко видимая отовсюду, поднималась из-за кремлевских стен белая звонница Софийского собора. Каждый солдат, штурмовавший кремль, запомнил миг, когда на звоннице вдруг стал виден крошечный красный лоскут!
И когда из кремля понесли раненых по медсанбатам, а тела убитых сложили под стеной, солдаты-победители, осматриваясь в освобожденном кремле, увидели странные бронзовые обломки, черневшие на закопченном снегу. Там вздымалась рука с крестом, там уткнулся в сугроб крылатый ангел, там поверженный воин в кольчуге как бы грозил саблей вслед убегавшим фашистам. Посреди же кремлевской площади возвышался круглый гранитный постамент разрушенного памятника 1000-летию России. Этот момент запечатлен на известном полотне художников Кукрыниксов.
Скоро пленные немецкие солдаты признали, что они распилили и разобрали памятник не ради металла для патронов. Оказалось, фашистское командование приказало отправить части монумента в Германию и установить там как символ «порабощения России».
На многих ротных и взводных собраниях наши солдаты писали резолюции химическими карандашами на тетрадных листках: немедленно восстановить памятник! Требование удовлетворили: монумент вскоре был полностью воскрешен на прежнем месте, в прежнем виде и стал с тех пор как бы своеобразным памятником нашей победы.
Но почему он называется памятником 1000-летию России?
Обозначенный летописцем год прихода Рюрика в Новгород — 862-й — признавался в царской России годом начала государства российского, и в честь этой годовщины было решено установить в 1862 году официальный памятник. В конкурсе участвовало более пятидесяти скульпторов, но победителем вышел, к общему удивлению, не скульптор, и притом совсем еще молодой человек.
Михаил Осипович Микешин (1836–1896), из небогатых дворян Рославльского уезда Смоленской губернии, кончил Академию художеств по классу батальной живописи. Неожиданный результат конкурса — победа микешинского проекта — принес молодому художнику славу. С тех пор он посвятил себя ваянию, и во многих городах стоят монументы, воздвигнутые им в содружестве с другими скульпторами, — в том числе конный памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, памятник Екатерине II в Ленинграде.
Список исторических деятелей для увековечивания на памятнике 1000-летию России претерпел немало изменений. Из него были вычеркнуты имена поэта Кольцова, художника Александра Иванова, сатирика Кантемира, актера Мартынова, флотоводца Ушакова. Царь Александр II категорически запретил запечатлеть на памятнике образ Тараса Шевченко, и лишь с большим трудом Микешину удалось включить в список имя Гоголя.
…На памятнике — 128 фигур. Две верхние аллегоричны: ангел с крестом благословляет Россию, изображенную в виде женской фигуры на коленях. Позы ангела и женщины пластичны, но религиозная символика чужда нашим экскурсантам. Мне приходилось слышать, как довольно большие ребята в пионерских галстуках спрашивали у экскурсовода:
— Чья это там могила наверху?
Действительно, черный византийский крест, выполненный по рисунку архитектора В. А. Гартмана, ангел с опущенными крыльями и коленопреклоненная женщина вызывают у нас, людей другой эпохи, скорее представление о надгробии, чем о памятнике славы.
Второй ярус — фигуры, размещенные вокруг огромного шара, похожего на Мономахову державу, — представляет главных исторических деятелей Руси.
Опирается на щит с надписью «ЛЕТА 6370» (то есть 862 год) суровый варяг Рюрик в кольчуге и с обнаженным мечом. Владимир Святославич правой рукой поднял восьмиконечный крест, а левой указывает язычнику-смерду на поверженного идола, велит уничтожить обломки прежнего кумира.
Фигура смерда очень хороша: это старик в русской рубахе с закатанными рукавами, труженик земли русской. Он медлит исполнить приказ: не так-то легко уничтожить то, во что верил всю долгую жизнь! И эта фигура смерда и другая — женщины с младенцем — едва ли не первое изображение людей простонародных на официальном памятнике в царской России.
Князь Димитрий Донской сжимает в руке трофейный татарский бунчук; князь Пожарский с обнаженной саблей совсем заслоняет робкую и неуверенную фигуру юноши-царя Михаила Романова. Гений славы осеняет Петра-победителя.
Остальные сто девять фигур размещены в нижнем ярусе, на горельефе, опоясывающем гранитный постамент. Чтобы лишь бегло осмотреть каждую фигуру в отдельности и разобрать подписи, выполненные славянской вязью, нужно потратить не меньше двух-трех часов… Горельеф — самая интересная часть памятника. Здесь повторяются фигуры второго яруса, но в реалистических позах, в естественном окружении. Они как бы живут своей особой жизнью, общаются друг с другом и со зрителем.
Вот новгородцы. Нелегко было поместить на памятнике фигуру Марфы Посадницы! Скульптор получал возмущенные письма: разве уместно изображать рядом с героями вдохновительницу темных интриг? Но Микешин настоял на своем, и образ Марфы стал одной из художественных удач скульптора.
Мы видим Марфу на горельефе над останками разбитого вечевого колокола. Это уж не властная боярыня, а подавленная горем новгородская горожанка, оплакивающая былую вольницу, убитых детей и внуков, гибель честолюбивых замыслов.
Во весь рост стоит победитель тевтонских рыцарей на Чудском озере, красавец и богатырь Александр Ярославич Невский. Рядом с ним князь Довмонт-Тимофей, правитель «молодшего города» — Пскова. Литовец родом, он, приняв православие, получил имя Тимофей, но летописцы больше привыкли называть его по-старому.
Часто посетители по нескольку раз обходят памятник в поисках фигуры Ивана Грозного. Но его на памятнике нет. Было решено, что психически неустойчивому царю, маньяку, готовому пытать людей по малейшему подозрению, жестокому сыноубийце не место среди прославленных героев государства российского. Эпоху Ивана Грозного представляют на памятнике кроткая царица Анастасия, протопоп Сильвестр и окольничий Адашев. Дескать, они умиротворяли больного царя.
И вот, наконец, деятели русской науки и искусства: Ломоносов, Державин, Крылов, Карамзин, Грибоедов, грустный Лермонтов, живой и вдохновенный Пушкин, сосредоточенный Гоголь, чем-то озабоченный Глинка и повернувшийся к нему Брюллов…
Нет среди этих деятелей неистового Виссариона, но многие замечают, что лицо Лермонтова удивительно похоже на Белинского. Не думаю, чтобы это сходство было случайным. Микешин слишком хорошо понимал значение Белинского, знал, как Лермонтов был восхищен своей единственной встречей с ним на гауптвахте. Поместить Белинского на памятнике было невозможно, и скульптор подчеркнул в облике Лермонтова сходство с Белинским, как бы намекая на внутреннее родство трагической лермонтовской музы с миром идей великого критика-революционера.
В летние дни, когда в Новгороде много экскурсантов, трудно даже подойти к памятнику. Люди подолгу разбирают надписи, обсуждают микешинскую трактовку образов, а бывает, «добавляют» к фигурам на памятнике собственных кандидатов — Радищева и Герцена, Толстого и Чайковского.
Так официальный монумент царского времени, демонстративно разрушенный врагами Советской страны и воссозданный после победы над ними, стал для нас значительной исторической ценностью, потому что мы видим в нем памятник отечественной истории, бронзовый гимн творцу истории — народу, выдающимся государственным деятелям, защитникам страны, творцам русского классического искусства.
Исторически значительно и само гражданское здание, перед фасадом которого установлен памятник тысячелетию России.
В прошлом это было здание присутственных мест, где некогда служил ссыльный Герцен. Сейчас оно целиком принадлежит новгородскому музею, одному из крупных центров исторической науки в нашей стране, — его столетний юбилей широко отмечала советская печать в 1965 году. Именно по инициативе деятелей новгородского музея создается ныне близ Юрьевского монастыря и Перунова скита архитектурный заповедник, куда уже перенесена из дальнего приселья деревянная курицкая шатровая церковь, один из замечательных памятников новгородской архитектуры.
Этот «музей под открытым небом», где будет собрано несколько сотен деревянных строений, дополнит для приезжего те глубокие впечатления, какие он получит в Новгородском кремле.
III
Воин и страж земли русской — Псков
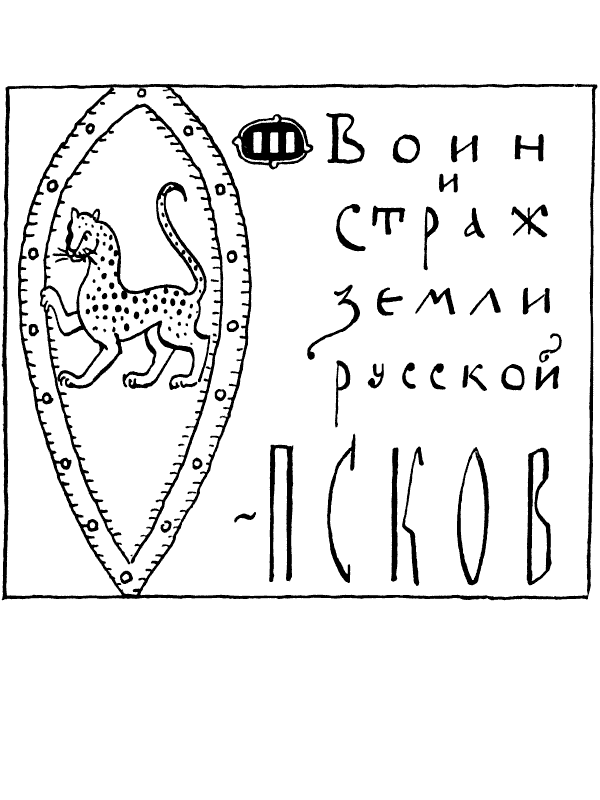

Датский писатель Мартин Андерсен-Нексе, гостя в Москве, как-то спросил меня:
— По исторической традиции у городов есть символические ключи, а у ключей — хранитель. Кого вы назвали бы хранителем ключа к душе древней Москвы?
Озадаченный этим романтическим вопросом, я подумал о знатоке быта старой Москвы «дяде Гиляе» — писателе В. А. Гиляровском, о художнике-историке Аполлинарии Васнецове, об искусствоведе и художнике Игоре Грабаре, об авторе «Археологии и топографии Москвы» Н. А. Скворцове, о большом архитекторе А. В. Щусеве… Наконец я рассказал Мартину Андерсену-Нексе об ученом — археологе и историке Москвы Иване Егоровиче Забелине (кстати, теперь его имя носит в Москве бывший Большой Ивановский переулок, рядом с Государственной публичной исторической библиотекой, созданной при участии И. Е. Забелина). Вместе с датским гостем мы долго листали страницы великолепной «Старой Москвы», задуманной Иваном Егоровичем, но изданной позднее, уже в его память… Андерсен-Нексе, помню, согласился с моей рекомендацией.
С тех пор я часто думаю о метком слове старого писателя насчет хранителя ключа к душе города. И мне посчастливилось встречать в разных городах именно таких людей-энтузиастов, к которым удивительно подходит это выражение.
Например, ключ ко всем тайнам Суздаля, бесспорно, хранит тамошний археолог А. Д. Варганов! Ключ Киева, верно, в руках искусствоведа Г. Н. Логвина, автора многих работ о городах Киевской Руси. Хранительницей ключа к душе древнего Новгорода является, по моему убеждению, Тамара Матвеевна Константинова, научный руководитель Новгородского музея. Свое назначение на этот пост она получила 18 января 1944 года, за двое суток до полного изгнания гитлеровцев с Софийской стороны, и вошла в свое кремлевское хозяйство, пылающее и разгромленное, чуть ли не с первыми бойцами наших атакующих частей. Много труда вложила эта мужественная женщина в восстановление и сбережение новгородских памятников культуры.
Есть свой хранитель ключа и у древнего Пскова.
Еще в Москве, в главных реставрационных мастерских, дали мне адрес Ивана Николаевича Ларионова. Это историк, исследователь псковских архитектурных памятников, краевед, музейный работник, собиратель фольклора и лектор.
Найти Ивана Николаевича в Пскове оказалось не так-то просто: в тот мартовский день видали его в трех противоположных концах большого города, там, где велись работы по реставрации или консервации памятников. Наконец мы встретились в полутемном подвале, под сводами одного из самых романтических зданий Пскова — мрачноватых Поганкиных палат.
Иван Николаевич рассказал о последних реставрационных и археологических работах в кремле, Довмонтовой крепости, в Среднем городе, на «полонище», в Завеличье и Запсковье (по местной традиции, мой собеседник делал ударение на первом слоге).
В старых русских рукописях Псков, или, по-старинному, Плесков, иногда называется Ольгиным градом, потому что знаменитую киевскую княгиню Ольгу считают псковитянкой. И. Н. Ларионов записал немало народных легенд об основании «Ольгиного города». Вот одна из них в вольном пересказе.
Более тысячи лет назад были дремучие леса там, где стоит теперь город Псков. На реке Великой, немного выше нынешнего города, уже тогда пряталась среди лесов деревня Выбуты. Жители ее — славяне-кривичи — растили хлеб, держали скотину, били зверя стрелой и рыбу острогой, бортничали. И жила в деревне крестьянская девица Ольга, дивной красоты и светлого ума. По бедности родителей пришлось ей искать заработка, чтобы приданое скопить. Стала она перевозчицей: на легкой лодочке перевозила путников через реку Великую.
Шумела вода у каменных порогов, не каждый брался спорить с бурливой и быстрой рекой, но девица ловко управлялась с веслами и шестом. Случилось ей раз переправлять молодого витязя. На стрежне реки смутил он Ольгу смелым взглядом, сам схватил весла, а на той стороне помог девице сойти на берег, имя спросил и кольцо подарил с ярким самоцветом. Не знала перевозчица, что это сам Игорь-княжич, сын новгородского властителя Рюрика. А когда настала пора Игорю жену выбирать, послал он сватов к Ольгиным родителям. И стала Ольга женой киевского князя Игоря.
Плывет раз в нарядной ладье молодая княгинюшка вниз по реке Великой. Увидела высокую скалу над разливом, как раз там, где речка Пскова впадает в Великую, а на самой вершине шумят вековые сосны. Указала Ольга на скалу и говорит:
— Быть здесь городу, великому и славному!
Так и исполнилось веление Ольгино. Появились вскоре на скале и по берегам обеих рек первые дома. Окружили жители новое поселение тыном и назвали «Ольгин город». А близ деревни Выбуты и поныне всякий покажет приезжему светлый Ольгин ключ — испокон веку пробивается здесь тихоструйная ледяная вода. Говорят, любила сюда Ольга по воду ходить, пока была еще крестьянской девушкой.
И камень есть на Великой реке, у берега, весь оброс зеленоватым мхом и потрескался, а на камне — узкий след, будто от женского сапожка. Поныне зовется камень — Ольгин след.
Такова легенда о происхождении Пскова.
Что в ней достоверно, а что — поэтический вымысел?
О родительском доме Ольги науке ничего не известно. Народная гордость превратила ее в простую крестьянку, но трудно допустить, чтобы киевскому князю повезли издалека, из-под Пскова, невесту-бесприданницу.
Скупой на похвалу Нестор-летописец назвал Ольгу «мудрейшей из людей», о красоте ее не умирают предания, и подвергать их сомнению нет причин. Виктор Васнецов, очень долго искавший лицо Ольги для росписей Владимирского собора в Киеве, в конце концов остановился на образе женщины прекрасной и высокоодухотворенной, мудрой властительницы, грозной для врагов Руси. Такой понимал Ольгу творец легенд — народ, и художественная интуиция подсказала мастеру, что этот легендарный образ правдив.
А вот насчет основания города Пскова красивая легенда не выдерживает научной критики.
В археологических коллекциях накоплено много находок, извлеченных из псковской земли, — древнейшие орудия труда, остатки посуды, художественные поделки. На берегах Великой селились в древности отдельные финские племена, буквально затерянные среди непроходимых лесов. Примерно с VI века нашей эры оставили здесь следы своей хозяйственной жизни славянские племена кривичей, а к VIII веку, как свидетельствуют находки, на стрелке Псковы и Великой уже существовал большой укрепленный город Псков, поселение купцов и ремесленников.
Он занимал выгодное положение на большой реке и потому уже в раннюю пору своей истории обогнал в развитии другой древний город кривичей — Изборск, заложенный позднее Пскова, западнее его, над суходолом, в краю небольших, очень красивых озер.
От начала своей письменной истории и до XIV столетия Псков подчинялся Новгороду, считался как бы его пригородом, но отнюдь не все, исходившее от Новгорода, принималось псковичами безропотно. Псков стремился к самостоятельности и подчас тяготился своей зависимостью от старшего брата. Не раз между обоими городами возникали распри, пока, наконец, в 1347 году Псков окончательно не освободился из-под надоевшей опеки.
Произошло это в связи с нападением на Северную Русь шведского короля Магнуса. Псковичи ударили на врага вместе с новгородцами, но потребовали себе от новгородского веча полной независимости. Новгородцы отозвали свою администрацию из Пскова и признали его равноправным «молодшим братом».
Так появилась на русском севере вторая вечевая республика. Боярство и купечество были здесь не такими влиятельными, как в Новгороде, и вечевой строй — более демократическим: влияние князя менее ощущалось в общественной жизни республики.
Земли псковские тянулись неширокой полосой вдоль западной границы владений Господина Великого Новгорода. Пограничное положение псковских земель наложило на все местное зодчество заметный отпечаток.
Прежде всего, разумеется, и в самом Пскове, и в его посадах и пригородах — Изборске, Печорах, Порхове, Гдове, Ворониче, Опочке — издавна возникли могучие крепости. На их высоких башнях, сложенных из камня-плитняка, некогда вспыхивали сигнальные костры, чтобы оповестить о появлении опасности. Поэтому название «костры» перешло на самые башни.
Часто мы читаем у летописцев: «Бурковский костер», «Мстиславский костер», — так называли в старину те или иные зубчатые псковские башни.
Великую службу сослужили эти крепости русскому государству!
Дивишься разнообразию фортификационных приемов, применявшихся северорусскими горододельцами: железные или дубовые решетки, преграждавшие вражескому флоту доступ к речным пристаням; подземные ходы-«слухи», пригодные для внезапных перебросок ратников во вражеский тыл; дополнительные стрельницы для защиты ворот; продуманная система зубцов, амбразур, навесных бойниц, орудийных площадок, штурмовых накатов… Все эти боевые устройства не раз помогали псковичам создавать неодолимую преграду на пути завоевательных армий.
В самом городе выросло постепенно пять поясов укреплений. Многие участки их уцелели, частично реставрированы и вошли в архитектурные ансамбли современного Пскова, придавая городу на стрелке особую горделивость, величавое достоинство.
Сперва возник на высоком каменистом мысу Псковский кремль, или, как его называют сами псковичи, кром. Укрепления здесь были воздвигнуты еще в XI–XII веках.
Второй древний укрепленный пояс появился в XIII веке, при знаменитом князе Довмонте-Тимофее. Этот второй пояс, непосредственно примыкающий к высокой стене крома, получил в народе название Довмонтова города.
Третий пояс создан был в начале XIV века. Участок города, огражденный этой стеной, назывался Старым Застеньем, а сама третья стена сохранилась в народной памяти как стена посадника Бориса, ее строителя.
В конце того же XIV века псковичи обнесли стеной еще один участок и прозвали его Новым Застеньем. Эти четыре городских оборонительных рубежа воздвигались с наиболее угрожаемой, южной стороны.
В XV веке выстроено было и пятое — последнее, самое мощное — кольцо псковских укреплений. Оно опоясало «Окольный город», включая и Запсковье, то есть посады за рекой Псковой.
В наши дни вдоль этой древней стены, местами реставрированной, местами полуразрушенной, тянутся великолепные городские бульвары, идут тихие тенистые улочки с хорошими старинными названиями, как, например, Застенная.
Удивительно красиво место встречи древней стены Окольного города с рекой Псковой, где когда-то были «верхние решетки» — защита от неприятельского флота. Решетки с их пятью водобежными воротами тянулись от Грановитой башни к прославленной Гремячей (или Космодемьянской). Она и сейчас гордо высится на склоне Гремячей горы, над каменистым руслом Псковы. Это в ней, в Гремячей башне, спит, по преданию, красавица девица, обладательница несметных сокровищ! Гремячая башня до сих пор является как бы символом древнего Пскова. Пригородные поселения по левую сторону реки Великой, напротив крома, находились вне защиты городских стен, хотя именно эта часть Пскова, носящая и поныне название Завеличья, первой горела и подвергалась разорению. Защитой служили ей хорошо укрепленные монастыри — Мирожский, Ивановский, Ильинский, Николо-Каменоградский, Николаевский Кожин монастырь, а также отдельные церкви за каменными стенами, позволявшими выдерживать кратковременные осады.
Общая длина городских стен Пскова — более девяти верст. Башни располагались так, что противник попадал под перекрестный, «кинжальный», огонь.
Сама местность здесь совсем иная, чем в Новгороде. Там — просторные луга, низменная пойма Волхова, Мсты и множества малых речек, синяя гладь Ильменя, спокойные склоны невысокого кремлевского холма. Здесь — крутые, как в горных местностях, овраги, порожистые реки, перекатывающие камни, отвесные склоны, обнажения скальных пород. Особенно красивы прослойки известняка на приречных обрывах близ Снетогорского монастыря.
Все это, конечно, теперь сильно «сглажено» цивилизацией, приспособлено для транспорта, но картину далекого прошлого легко представить себе, бродя вдоль псковских укреплений.
Видишь, что в отличие от новгородских стен, выстроенных из бутового камня и обложенных кирпичом, стены и башни псковской крепости сложены из местного известкового камня-плитняка.
Его легко добывали (да и сейчас добывают) в каменоломнях под городом. В постройки он идет вперемежку с гранитными валунами — по ним поныне можно переходить Пскову вброд, столько их принесено за века со склонов!
Небольшие плиты известняка, слегка напоминающие старинный кирпич-плинфу, очень удобны для кладки и прочны, если испытать сложенную из них стену на удар. Но один важный недостаток этот местный камень имеет: мягкий и пористый, он сильно впитывает влагу и постепенно разрушается, если оттепели часто чередуются с морозами.
Чтобы спасти постройки от разрушения, псковские мастера густо белили поверхность стен, а местами перед побелкой штукатурили их глиной. Однако древние крепостные сооружения Пскова все-таки не дошли бы до нас, если бы не усилия реставраторов. Слишком большие испытания выпадали за столетия на долю этих каменных стен: частые войны, наводнения, размывы, оползни, пожары… Лишь благодаря крупным реставрационным работам, выполненным в последние годы, мы и теперь можем полюбоваться на древние памятники ратной доблести над реками Великой и Псковой.
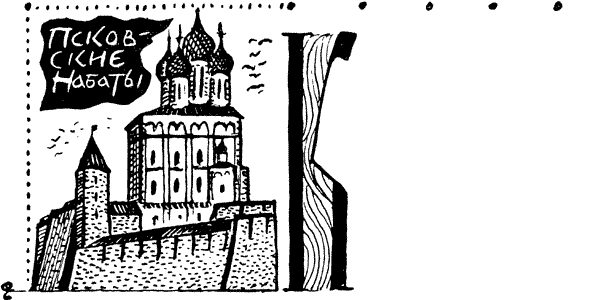
Когда подъезжаешь к Пскову какой-нибудь проселочной дорогой, одной из тех, что некогда бежала под колеса пушкинской кибитки, еще километров за тридцать можно различить простым глазом над щетиной лесов, над отлогими холмами со всходами озимых стройную громаду Троицкого собора.
Это белое здание, вознесенное к небу на крутом прибрежном мысу, играло важную роль в истории Пскова. Здесь «благословляли на брань» князей перед выходом в ратное поле в челе псковских дружин. Тут же происходили торжественные церемониальные приемы иноземных послов. В особых «сенях» хранились государственная казна, важнейшие документы.
В нижнем ярусе Троицкого собора была усыпальница, где хоронили князей, церковных деятелей и первых сановников города.
Над южной кремлевской стеной, или «першами», была устроена некогда звонница — колокольня. Голоса ее колоколов перекрывали шум, царивший в деловом центре, Довмонтовом городе.
Здесь, на крошечном пространстве, опоясанном могучими стенами, буквально лепились друг к другу всевозможные постройки. Недавние археологические раскопки вскрыли здесь остатки церквей, звонниц, часовен, каменных домов, складов, гридниц, кладбищ. Важнейшие из открытых фундаментов сейчас расчищены и приведены в порядок. Можно бродить между ними, представлять себе жизнь, кипевшую некогда в этом псковском «сити». Самое прочное из гражданских сооружений — Приказные палаты на южной границе Довмонтова города — сохранилось до наших дней. Это монументальное двухэтажное здание очень характерно для старого Пскова.
Сейчас и Довмонтов город и кром — территории заповедные, отданные во власть реставраторам, археологам, бесчисленным экскурсантам, студентам-историкам, учителям, искусствоведам. Здесь можно встретить псковских старожилов, которые любят показывать приезжим памятники, рассказывать об их боевой судьбе.
Совсем недавно я видел, как вокруг такого старожила-пенсионера собралась целая группа военных курсантов. Я прислушался и был рад тому неподдельному интересу, с каким молодежь ловила каждое слово старика, в прошлом — рабочего-строителя, очень грамотно и связно говорившего о реставрационных работах, в которых сам принимал участие. Говорил он и о вечевой республике, и об Александре Невском, и о судьбе псковского колокола.
Из поколения в поколение привыкали древние псковичи прислушиваться к призывному гулу вечевого колокола, ожидая то радостных, то тревожных вестей.
В XIV–XV веках вечевые сходки не раз кончались плачевно для власть имущих. В 1483–1486 годах власти совершили подлог, тайком подменив в Троицком вечевом архиве грамоту о повинностях смердов, чтобы увеличить поборы. Народ узнал про обман, разгромил дома вечевых заправил и казнил посадника Гаврилу «всем Псковом на вече». В те же годы, как повествует с обычным бесстрастием летописец, «посекоша Псковичи дворы у посадников… и иных много дворов посекоша».
Так расправлялись псковские смерды с неугодными властями.
По-иному город встречал своих героев и любимцев.
Именно на соборной площади крома, под стенами Троицкого собора, чествовали псковичи в апреле 1242 года ратников Александра Невского и самого князя после победы в Ледовом побоище.
В тяжелые годы татарского ига Александр Ярославич одержал подряд четыре победы, сыгравшие огромную роль для народного самосознания, для политических судеб будущей России.
Прозвище свое — «Невский» — он завоевал на берегах Невы 15 июля 1240 года, разгромив отборные войска ярла Биргера из рода Фолькунгов. Биргер думал воспользоваться ослаблением Руси, сожженной и истоптанной татаро-монголами, и оторвать «под шумок» для себя лакомый кус северных земель, куда не смогли добраться Батыевы рати, увязнувшие в болотах в сотне верст от Новгорода. Шведский ярл объявил против Руси священный поход, дошел до Невы и был наголову разбит Александром.
Одержав свою первую большую победу, юный Александр Невский отправился во Владимиро-Суздальскую землю для встречи с отцом, владимирским князем Ярославом. Отъездом Александра поспешили воспользоваться другие хищники — немецкие рыцари Тевтонского ордена. Они напали на земли Великого Новгорода и внезапно захватили Псков.
По легенде, врагам помог изменник, псковский посадник Твердило Иванкович: он будто бы показал им подземный и подводный ходы из Завеличья в кремль, и враги ночью прокрались в город. Исторически достоверно, что Твердило «владел в Пскове вместе с немцами», то есть предательски сотрудничал с врагами.
Чтобы прочнее утвердиться на землях Господина Великого Новгорода, немцы спешно построили крепость на Копорском погосте, укрепились и в занятом ими Пскове. В 1241 году новгородские гонцы вызвали Александра из Владимирской земли на север. С небольшой дружиной он нанес удар по крепости Копорью, и вскоре на новгородском Торговище русские люди увидели шествие понурых немецких завоевателей, плененных Александром при освобождении Копорья. Но штурмовать Псков Александр в тот год не успел — сам хан Батый потребовал личной встречи с юным князем, и ему пришлось совершить путешествие в орду. Увидев русского гостя, Батый сказал своим вельможам:
— Нет подобного этому князю!
Воротившись из орды на север, Александр во главе новгородской рати пошел освободить Псков от тевтонских рыцарей. Он отобрал у них город приступом, и это один из редких случаев в истории Пскова, когда сильные укрепления крома не сдержали натиска атакующих.
Почти не дав своим войскам передышки, Александр двинулся против главных сил Тевтонского ордена.
Рыцари ордена получили из Германии сильное подкрепление и готовились к решающей битве, сулившей ордену открытый путь ко всем богатствам русской земли. Сосредоточенная сначала на западном берегу Чудского озера немецкая армия после встречи разведывательных отрядов двинулась к восточному берегу, где Александр расположил у Вороньего острова свои рати, укрыв их в прибрежном лесу.
Войска Александра состояли из ополченцев, набранных в Псковской и Новгородской землях. Были у полководца и суздальские дружинники. А противостояли они отборнейшим войскам крестоносцев, вчерашним завоевателям Палестины — армии профессиональных убийц, великолепно обученных, спаянных в боевом рыцарском союзе, для которого завоевание прибалтийских земель было вопросом «жизни и смерти».
Результат великой битвы известен. «Русь обняла кичливого врага», угодившего в железные клещи и добитого конным резервом Александра. Поражение нанесло ордену такой военный и моральный урон, от которого завоеватели никогда не смогли уже полностью оправиться. В истории России Ледовое побоище стало одним из тех событий, какие на века решают судьбу народа.
…Есть что-то возвышающее душу в каждом озерном пейзаже, в спокойной и величавой шири воды и дальних берегов, исчезающих в дымке. Но совсем особое чувство вызывают в сердце озерные пейзажи здесь, невдалеке от Пскова, где когда-то пролегал рубеж между русской землей и владениями опасного врага, Тевтонского ордена. Рубеж этот шел и по озерам Псковскому и Чудскому, разделенным, или, вернее сказать, соединенным промежуточным Теплым озером (в древности — Узменью), на краю которого и произошло историческое сражение.
Сейчас совершает здесь рейсы красивый теплоход «Лермонтов». Ходит он по трем озерам из Пскова в Тарту. Поездка эта, длящаяся около 14 часов, незабываема. Река Великая, ее устье, тихие острова с рыболовецкими колхозами, русская и эстонская речь, исконные названия: Чудская рудница, Вороний остров…
Вечевой колокол, некогда возвестивший псковичам о победе в Ледовом побоище, висел на своей кремлевской звоннице до 1510 года. В ту морозную зиму прибыл из Москвы дьяк Третьяк Далматов и повелел созвать вече в последний раз. На прощальный призыв колокола прибежали на соборную площадь и стар и млад. Умолк колокол, стихла толпа.
— «…Ино бы у вас вечья не было да и колокол бы есте сняли долой вечный, а здеся бы быти двем наместником!..» — читал нараспев дьяк Далматов приказ московского великого князя Василия III.
Никто не посмел ослушаться. Спустили колокол с троицкой звонницы, подошел палач в красной рубахе и тяжелым кованым молотом отбил медные уши колоколу, чтобы не повадно было псковичам водворить его обратно. Повезли опального в санях на Снетогорское подворье в городе и близ церкви Иоанна Богослова опустили в яму, словно в тюрьму. Вопли женские и детские, да и немало скупых мужских слез провожали изгнанника дальше, в последний путь, когда повезли его в Москву, чтобы показать самому великому князю.
Повезли, да не довезли, если верить старой псковской легенде. Будто сорвался на Валдайских горах колокол с саней, упал на камень и разбился на тысячу кусков. А каждый кусочек этой меди сделался маленьким ямским колокольцем. С тех пор несут они во все концы России звонкоголосую славу старого псковского глашатая!..
…Однажды, неподалеку от крома, в Запсковье, набрел я на небольшую улочку с замечательным названием — Набат. Кстати сказать, выразительные слова-названия, так много говорящие и сердцу и уму, неоценимые для истории нашей культуры, слова, полные поэзии, зачастую плохо оберегаются, утрачиваются. Псковская улица Набат, к счастью, сохранила свое древнее название, меткое и точное, народное слово-памятник.
Да, тревожные набаты часто будили горожан в зимние и летние ночи, когда пожар охватывал тесную улицу, целые кварталы деревянных строений и даже камень в городской стене превращался от жара в известь и рассыпался. А бывало, как мы знаем, и похуже — подступал к стенам города враг.
В 1581 году сильная армия польского короля Стефана Батория захватила город Остров и подошла к Пскову. И когда здесь уже трезвонили всполошеные колокола с дозорных башен и вышек, секретарь королевской канцелярии пан Пиотровский торопливо заносил в путевой дневник:
«Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, боже, с ним справиться… Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше!»
В сентябре, после двухнедельной ожесточенной осадной войны, враги ринулись на штурм. Все население Пскова вышло на стены. Псковитянки в мужских доспехах сражались плечом к плечу с мужчинами. Артиллерия пробила бреши в стенах, но защитники выбивали врагов из всех проломов. Приступ потерпел неудачу, дальнейшая осада измотала силы Батория, и кровопролитная война кончилась для него поражением на русском Севере.
В честь трехсотлетия Псковской осады был воздвигнут в 1881 году на братских могилах памятник-надгробие. Он сохранился и поныне, невдалеке от так называемого Баториева пролома в стене Окольного города.
Не прошло и четырех десятилетий после отражения Баториевой рати, как новые полки чужеземцев — армия шведского короля Густава Адольфа — подошли к городу под звуки боевых труб и барабанный бой. Иные ополченцы, юношами сражавшиеся с Баторием, вновь затягивали перевязи мечей, когда призвал их к этому гудящий медью набат.
Уже занят был неприятелем ближний форпост Пскова — монастырь на Снетной горе. Густав Адольф знал, что гарнизон города-крепости сейчас невелик, не ждал серьезного сопротивления и предложил псковичам выслать парламентеров с ключами от городских ворот.
Для устрашения горожан шведский король (ему было 20 лет) повелел устроить парад своих войск под самыми стенами Пскова.
С развернутыми знаменами и королевскими штандартами, блистая оружием, шли церемониальным маршем королевские войска — пехота, конница, артиллерия. Войска вел мимо притихшего города генерал Эвертгорн, а из шелкового шатра наблюдал за этим внушительным шествием и сам король-завоеватель. Сейчас откроются ворота, и ключи города будут вынесены на серебряном блюде русской чеканки…
И ворота открылись! Это были тяжелые крепостные ворота — Варлаамовские, как раз рядом с нынешней улицей Набат. Но не покорные парламентеры, а псковская конница потоком хлынула из ворот, врубилась в ряды дефилирующих шведов и нанесла им страшный удар. Рухнул с коня сам генерал Эвертгорн, в панике побежала пехота… Русские конники мгновенно спешились, заклепали брошенные врагами осадные пушки, сделав их негодными для стрельбы, захватили пленных. Сам король Густав Адольф получил ранение и еле добежал до Снетогорского монастыря.
Еще несколько месяцев простояли шведы у города, но их наступательный дух был уже подорван неудачей. Не принес успеха атакующим и генеральный штурм в октябре — псковичи отбили его на всех участках городских стен. Вдобавок в шведской армии вспыхнула эпидемия. 17 октября 1615 года Густав Адольф покинул свою обескураженную армию. Поредевшие шведские полки сняли осаду и вслед за молодым королем ушли восвояси. А защитники города, павшие в этих сражениях, оплаканные родными и близкими, погребены были в самом Псковском кремле.
Поднимемся туда по крутой каменной лестнице, вдоль увенчанных деревянными шатрами стен. Вот и башня «кутекрома», то есть «угол кремля», откуда любил полюбоваться окрестностями Пскова Пушкин.
Отсюда хорошо виден вдали четкий очерк Ваулиных гор. Это там в июльские дни 1944 года советские войска готовили прорыв «линии Пантеры». Прорыв этой линии фашистской обороны, освобождение Пскова от гитлеровцев — навеки памятная страница все той же общерусской летописи боевых побед.
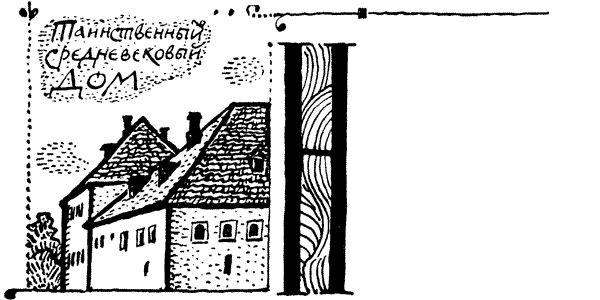
Находится он на Некрасовской улице, знаменит среди историков архитектуры, описан в беллетристических повестях и ученых сочинениях, дал сюжеты мрачноватым преданиям. Носит он несколько странное для непривычного слуха название — Поганкины палаты.
Это очень загадочный дом! Когда спускаешься в его подвалы или бродишь по сводчатым ходам и узеньким лестницам, пробитым прямо в толще стен, невольно думаешь о тайнах, связанных с этим зданием и его владельцами. Вся эта массивная каменная романтика была в годы Великой Отечественной войны под угрозой полного исчезновения с карты Пскова: фашисты взрывали Поганкины палаты по частям (может, клады искали?).
Ныне здание заново отремонтировано после тяжких военных потрясений и хранит в своих стенах музейные ценности. Я ожидал увидеть на древней стене обычную мемориальную доску, но сперва неожиданно очутился перед иной надписью. На фасаде музея, выходящем на Некрасовскую, наспех выведено коричневой краской:
«Дом разминирован. Л-т Корнеев».
Это памятка июльских дней 1944 года, когда саперы обшаривали с миноискателями или понятливыми остроносыми лайками псковские руины.
Поганкины палаты построены в середине XVII века по заказу купца Сергея Поганкина, одного из крупнейших псковских богачей. Он контролировал значительную часть торговых оборотов своих сограждан, владел множеством лавок, кожевенным заводом, садами, огородами, управлял городским денежным двором.
О жизни купца Поганкина ходит множество легенд и рассказов, и нигде не говорится о нем по-доброму. Рассказывают об его алчности, жестокости, нечистом пути к богатству. Эти рассказы могли бы послужить иллюстрацией к Марксовым страницам о первоначальном накоплении! Будто был Сергей Поганкин в молодости разбойничьим атаманом, и палаты его народ потому и прозвал погаными, что стоят они на отнятых чужих крохах и невинно пролитой крови.
По другому преданию, сам царь Иван Васильевич бросил в сердцах это прозвище купчине за жадность, да так оно и прилипло ко всему роду. Кстати, род этот прекратил существование в страшную чумную эпидемию 1710 года, когда вымерла большая часть псковичей.
Обновленное деревянное крыльцо с лестницей ведет прямо в средний этаж главного корпуса. Из обширных сеней направо и налево тянутся проходные покои, перекрытые сводами. Вероятно, эти комнаты служили для приема важных покупателей, здесь же держали образцы товаров. Об этом свидетельствуют кольца для цепей (на них товары развешивались напоказ), тайнички в стенах, ниши.
Главные товарные склады находились в подклетах главного (двухэтажного) корпуса и в подвалах одноэтажной части здания. Вот в этих-то жутковатых подвалах и подклетах молва народная и рисует страшную домашнюю тюрьму купца Поганкина: здесь томились и отдавали богу душу те, кто попадал в кабалу к жестокому купцу-ростовщику, да и те, кто осмеливался жаловаться на кровопийцу, искал на него управу у московского великого князя.
Будто бы даже молодой жены своей не пожалел купец: привязал к хвосту дикого коня и пустил в поле, а с той поры еще пуще стал лютовать над своими жертвами…
Сейчас в подвалах Поганкиных палат находятся музейные фонды — хранятся редчайшие первопечатные книги, древние иконы и рукописи.
Старый дом напоминает крепость, даже тюремный замок с узкими окнами-бойницами. Если мысленно добавить окружавший здание ров с водой и подъемные мосты, впечатление суровости еще усилится.
По народной молве, из подвалов шел под городские стены подземный ход, где и хранил свое золото купец Поганкин. Следы таких тайников нередко встречаются при раскопках: в богатом пограничном городе, всегда находившемся под угрозой, тайники у богачей, конечно, имелись. А превращать свои жилища в крепости заставлял страх перед городской беднотой.
В 1650 году в Пскове вспыхнул «хлебный бунт», поддержанный крестьянами соседних сел. Псковские богачи пытались во время бунта отсидеться в своих домах-крепостях, переждать лихо, как в осаде. Хорошо сохранившиеся Поганкины палаты очень выразительно рассказывают об этом языком камня.
И все же, несмотря на мрачноватую славу, этому старому дому, как и другим псковским сооружениям той поры, нельзя отказать в суровом обаянии. Уж очень величественна эта скупая гладь стен, полное пренебрежение к «узорочью». Строители достигли строгой гармонии в композиции разноэтажных теремов, будто приставленных один к другому.
На редкость живописно распределены все сто пять окон, выходящих во двор и на улицу. Есть неуловимый ритм в чередовании этих узких, неодинаковых окон. Впрочем, узкими они только кажутся: на самом деле дом хорошо освещен естественным дневным светом из этих окон, расширяющихся внутрь помещений.
Здесь, внутри палат, можно увидеть ныне очень интересные вещи. Тут и богатая картинная галерея, и научная библиотека, и замечательные коллекции древностей, от неолита и ранней кривичской культуры до прекрасных изделий мастеров XVIII и XIX веков. Сюда перевезли с озерного берега серый камень-валун, найденный у селения Чудская Рудница. Столетия пролежал камень близ места Ледового побоища, и возможно, в честь погибших в этом бою было высечено на камне грубое изображение креста.
Висит на стене в музее и подлинный меч князя Довмонта. Прямой, тяжелый, почерневший от времени меч! Этим оружием Довмонт бился во многих сражениях, им одержал и последнюю свою победу над сильным отрядом немецких рыцарей в 1299 году. Вскоре после битвы воевода умер, и с той поры в Троицком соборе препоясывали над гробом Довмонта его мечом тех псковских князей и посадников, что выступали навстречу неприятельским ратям.

В Завеличье, то есть за рекою Великой, чуть наискосок от Покровской башни Окольного города, виден сквозь арку башни на том берегу чудесный ансамбль старейшего псковского монастыря — Мирожского.
Есть в биографии этого монастыря одна подробность, которая не может оставить равнодушным любителя древней русской литературы: по мнению знатоков, здесь в XVI, вероятно, веке был переписан неведомым монахом тот рукописный сборник, что заключал в себе среди прочих отечественных и переводных сочинений текст «Слова о полку Игореве». Драгоценный сборник этот впоследствии попал в Ярославль, был продан московскому меценату Мусину-Пушкину и потом сгорел в московском пожаре 1812 года.
Ныне в Псковском музее трудится глубокий знаток «Слова о полку Игореве» Леонид Алексеевич Творогов, принявший в современном Пскове эстафету любви к великому творению нашей словесности, ту эстафету, что нес людям безвестный переписчик-монах, выводивший гусиным пером бессмертные строки полуязыческой русской поэмы.
Из-за монастырской стены и голых вязов поднимается приземистое здание собора. Это храм Спаса, наиболее древний памятник псковской архитектуры из тех, что уцелели до наших дней. Строили его около 1156 года, под наблюдением новгородского епископа Нифонта. Византийский грек родом из Херсонеса, Нифонт был знатоком греческого зодчества, любил византийские архитектурные каноны. Однако псковская каменщицкая артель внесла в эти каноны много собственной выдумки. Псковичи-строители Мирожского храма нашли такие линии и пропорции, которые надолго определили для Пскова своеобразный местный стиль церковной и гражданской архитектуры.
Прежде всего зодчие отказались от громадных сооружений византийского типа, таких, как София в Киеве или в Новгороде. При взгляде на Мирожский храм Спаса и на другие, более поздние церковные здания в Пскове видишь стремление здешних зодчих ограничиться возможно более тесным пространством, сэкономить место. А это требовало новых пропорций, новых соотношений масс и объемов здания, придавало псковским строениям их компактный, приземистый, коренастый вид. Иные из них, и особенно сам Мирожский Спас, очень похожи на крепкие и гордые грибы подосиновики с ровными тугими шляпками, только-только проглянувшие из-под земли.
…К Мирожскому монастырю, прямо по льду реки Великой, вела чуть приметная тропка (летом здесь переправляются на маленьком пароходике-пароме). Увязая в глубоком снегу, я обошел здание собора, пока сторожиха возилась с ключами.
Пожалуй, самую характерную особенность Мирожского Спасо-Преображенского храма легче всего усмотреть с боковых фасадов, северного и южного. Здесь бросается в глаза, что в своем стремлении ограничить объемы строители как бы сдавили храм с востока, что привело к двухчастному, а не трехчастному, как обычно, делению боковых фасадов. Заметно также, что в старину здание имело форму равноконечного креста. Обе боковые абсиды вполовину меньше главной. Противоположные абсидам углы храма, как бы корреспондируя с пониженными боковыми абсидами, некогда были одноэтажными. Потом их надстроили вровень с основной, двухэтажной, частью храма, перекрыли кровлю на четыре ската, а к северо-западному углу прибавили двухпролетную звонницу чисто псковского типа.
Внутри же здание и поныне сохранило свой первоначальный вид, не считая неудачного поновления фресок в начале нашего века. В своем древнем виде фрески Мирожского Спаса принадлежали к высоким образцам монументальных стенных росписей.
В сыром воздухе оттепельного дня, когда мне впервые довелось осматривать мирожские фрески, вся эта стенная живопись покрылась изморозью и слабо проблескивала сквозь дымчатую, напитанную холодным туманом, как бы уплотненную пелену. Но одна из лучших фресок, под названием «Надгробный плач», как раз, будто по заказу, осталась свободной от изморози и запомнилась поэтому навсегда. Это высокая и светлая живопись, где перед зрителем предстает горе матери, рыдающей над распростертым телом любимого сына. Исполнены драматизма и скорби также и коленопреклоненные фигуры учеников у ног Христа.
Отсюда, из Мирожского монастыря, вела некогда в город, по преданию, подземная галерея под рекой Великой. Во время Баториевой осады монахов пытали, чтобы выведать тайну этого хода. Либо монахи оказались стойкими, либо известие о подземной галерее — легендарным, во всяком случае, воинам Батория не пришлось ею воспользоваться.
К другому славному монастырю Пскова, Снетогорскому, ведет ныне не какой-нибудь мрачный подземный ход, а весьма удобная автобусная линия. В ранний утренний час я оказался единственным пассажиром этого автобуса до Снетной горы. Впервые я видел Снетогорский монастырь не в зелени, а в непривычном мне уборе из снега и морозного инея. Мартовская зорька вызолотила соборный крест. Под обновленными куполами, на карнизах и выступах, присыпанных снежком, сидели нахохленные галки, и снизу казалось, что на барабаны церковных главок накинута горностаевая мантия с черными точечками-хвостами.
Река Великая здесь кажется поуже, чем в городе, словно Снетная гора с монастырем на вершине потеснила реку. Кое-где сквозь зимний лед просвечивали полосы холодной голубизны, как синие вены на руке. Течение здесь очень быстрое, морозу трудно держать реку в ледяной узде. Местность вокруг монастыря необыкновенно красива, особенно с воды.
Снетогорский монастырь основан, по-видимому, самим князем Довмонтом еще в XIII веке как форпост обороны. Монастырский собор Рождества богородицы построен был позднее, в 1310–1313 годах. Сразу же после постройки собора псковские живописцы изнутри расписали стены и столбы фресками.
Эти фрески имеют исключительный интерес — их никогда не «записывали» и не поновляли. Открыли их из-под слоев позднейшей штукатурки в 1949 году. Хорошо сохранились композиции «Воскрешение Лазаря», «Избиение младенцев», «Вход в Иерусалим», изображения пророков и святых. Теперь, уже в 1967 году, молодой искусствовед-реставратор Наташа Датиева раскрыла доселе неизвестную фреску с изображением библейского рая.
В дореволюционных книгах о русском искусстве творения художников-псковичей почти не упоминались. Только реставрационные работы советских ученых открыли псковскую школу живописи, существовавшую наряду с широко известной новгородской.
Продолжая традиции «Нередицы», псковичи внесли в свою стенную живопись новые черты. Работали они в смелой, резкой манере, подчас отказываясь от церковных предписаний, обращаясь к живой натуре. Преодолевая условность иконописи, эти средневековые живописцы поражают своим свободомыслием, реализмом и «плотскостью» деталей.
Например, в сложной снетогорской композиции «Страшный суд» имеются медведи, барс, олень и лось, написанные в XIV веке с такой верной передачей натуры, будто иллюстрируют книгу анималиста или охотничий альбом, а не религиозную картину, в центре которой находится проклятый церковью убийца братьев Святополк Окаянный.
По мнению В. Н. Лазарева, снетогорские фрески близки по колориту композициям Феофана Грека, он мог их видеть здесь и, быть может, именно через них соприкоснулся с «той богатейшей живописной традицией, которая бытовала на новгородско-псковской почве с XII века», почерпнув и для себя живые творческие импульсы.
Рассматривая снетогорские фрески, испытываешь чувство гордости за наших северных живописцев, чье искусство так же человечно и пластично, как пластичны и человечны постройки псковских зодчих, — эти житейски мудрые, скромные и уютные храмы с тяжелыми, устойчивыми крыльцами на круглых опорных столбах и открытыми звонницами.
Даже самые названия псковских церквей весело-ироничны и метки, связаны с бытом, со здешней местностью, историей, традициями: Церковь Василия на Горке, Николая от Каменной Ограды, Паромо-Успенская, Косьмы и Дамиана с Примостья, Покровская от Торга, Николы со Усохи (то есть у русла высохшего ручья), Ильи Мокрого, Сергия с Залужья (то есть за лугом) и т. д. и т. п.
Для архитектурного убранства псковских церквей характерны скромные орнаментальные пояса из тесаных или косо поставленных кирпичей, плавно бегущие волны линейного узора, пояски цветных изразцов, похожие на вышитые.
Уменьшение размеров зданий позволило впервые выработать здесь тип бесстолпного храма — не имеющего вовсе подкупольных столбов. В таком храме тяжесть купольного барабана покоится на опорных сводах и консольных конструкциях, передающих эту тяжесть стенам. Примером отличного решения бесстолпной конструкции служит изящная церковь Николы со Усохи, у стен которой некогда собиралось вече Опочецкого конца.
…Как-то ночью я возвращался в гостиницу. Незнакомый пскович спросил, смотрел ли я архитектурную фотовыставку в фойе кинотеатра «Победа». Там уже гасили свет после заключительного сеанса. Но псковичи недаром известны своим гостеприимством: свет зажгли снова, и я смог увидеть прекрасные работы местного фотографа-художника и архитектора-реставратора В. С. Скобельцына. Приятно было узнать, что у города есть подлинный поэт-фотограф, уверенно владеющий секретами мастерства.
Над голыми ветвями городского бульвара перед вечером успели протянуть плакат: «Прощай, русская зима, здравствуй, весна-красавица!» Улицы опустели, витрины погасли, стали различимы бледные северные звезды, стихал городской шум.
И в этой тишине отчетливо и ясно прозвонили старинные городские куранты. Серебряными голосками они каждые четверть часа играют несколько тактов, похожих на вступление к менуэту или гавоту. Часы с курантами украшают здание бывшего Кадетского корпуса, где ныне размещены областные организации Пскова.
Вдоль бульваров и чудесно обновленных улиц с большими красивыми домами хорошо шагать весенней влажной ночью, когда только псковские куранты неутомимо бодрствуют над городом древней славы!..
Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих волн, как шар огня.
Встает в торжественном покое…

Верстах в трех от восточного побережья Чудского озера псковичи в 1431 году «заложиша город нов на Гдове реке» — построили крепость. Так на северной границе Псковской земли возник укрепленный пригород — Гдов.
Прежде он был излюблен художниками-живописцами, многие ленинградцы любили проводить здесь летние отпуска — город славился красотой своего расположения и выдающимися памятниками древней архитектуры.
Немецкие фашисты начисто уничтожили красивый старый город, взорвали знаменитую своим изяществом бесстолпную Успенскую церковь, Дмитриевский собор и шатровую колокольню, некогда служившую своеобразным маяком чудским рыбакам. Сейчас город возродился, отстроился, живет новой жизнью, но гибель памятников древней культуры совершенно изменила прежний облик Гдова. Только руина крепости напоминает здесь о седой старине.
Есть любопытное предание о том, как местные жители по-своему истолковали название города.
Будто жили когда-то в устье Гдовы-реки псковские рыбаки. На них во время лова напали ливонские рыцари. Тела загубленных вынесли волны. Вдовы-рыбачки, ожидая нападения на село, опоясали его глубокой канавой с кольями на дне, а сверху прикрыли яму валежником и землей. Враги угодили в эту ловушку, никто не ушел от мести рыбачек. С тех пор жители часто зовут свой город не Гдовом, а Вдовом.
Кстати, мне кажется, что места, особенно красивые по своей природе, богатые архитектурными памятниками, обязательно богаты и легендами, былинами, сказаньями, песнями и частушками. Хотелось бы надеяться, что читатели этой книги не станут упрекать автора в излишнем пристрастии к таким словесным памятникам — ведь они очень хорошо вяжутся с памятниками вещественными, хорошо дополняют и поясняют народную архитектуру.
…Особенно привлекателен и природными, и архитектурными, и языкотворческими богатствами другой дальний пригород Пскова — Изборск. Здесь, по летописному преданию, княжил в IX столетии Рюриков брат, Трувор. Сейчас это большое селение на Рижском шоссе зовется Старым Изборском в отличие от промышленного города — Нового Изборска, расположенного километрах в семи от Старого, близ железнодорожной станции.
По дороге сюда, на двадцать первом километре от Пскова, можно заметить следы старой государственной границы СССР. Еле различимы в траве остатки фундамента от домика погранзаставы.
В стороне от дороги стоит обелиск в память последнего боя за Изборск, и лежат под этим обелиском мои товарищи и однополчане по нашей 291-й Гатчинской орденоносной стрелковой дивизии, изгнавшей отсюда врага в июльские дни 1944-го…
С развилки дорог хорошо видна вся Староизборская крепость: здесь, как и в Севастополе, и на Бородинском поле под Москвой, да и на многих других полях России, героическая старина соседствует с недавними, можно сказать, еще вчерашними памятниками ратной доблести.
Староизборская крепость возведена на высоком утесе. Прясла ее древних стен поросли травой, а кое-где и кустиками берез. Птицы гнездятся в башнях. Любой местный мальчишка назовет вам безошибочно их имена: Талавская или Плоскушка, Вышка, Рябиновка, Темнушка, Колокольная и Куковка (вспомним, кстати, новгородский Кокуй). Кое-где сохранились на стенах архитектурные украшения из отесанного камня — кресты и геометрические узоры. Они очень интересны для изучения русского орнамента.
Биография этой крепости, воздвигнутой в 1330 году, поистине самая боевая! С XIV и до начала XVI столетия Изборск выдержал не менее восьми ожесточенных осадных войн с ливонскими рыцарями. На протяжении двух веков войска Ливонского ордена, оснащенные стенобитной техникой, пытались захватить Изборск, но так и не одолели эту крепость. Лишь Баторий, осаждавший Псков в 1581 году, овладел на короткое время Изборском, но был остановлен псковичами. Сейчас Староизборская крепость, этот первоклассный образец древнерусского военного зодчества, по праву занимает одно из самых почетных мест среди сохранившихся памятников истории и культуры.
Ходишь здесь, в окрестностях Старого Изборска, крутыми каменистыми тропами и не знаешь, чему дивиться: журчащим ли ключам с удивительно чистой и холодной водой, ручьям ли с перепадами быстрой воды и редкостными прибрежными растениями, просторным лесистым далям с голубыми озерами, отражающими лебяжий пух облаков?.. Могут показать в окрестностях Изборска и источник «Черный Ключ», в котором крестьянки некогда красили льняную пряжу в черный цвет, причем устойчивости этого природного красителя могут позавидовать современные химики.
Находящийся в крепости Никольский собор, небольшая церковка Сергия под крепостной стеной, ныне превращенная в народный музей, «корсунская» часовенка над обрывом, в соседстве с угловой башней, — все это образцы древнепсковской архитектуры, искусства самобытного и высокого, в котором непременная оборонная устойчивость сочетается с уютностью, милой сердечностью и свободной непринужденностью. В отличие от большинства зодчих новгородских псковичи больше стремились к задушевности, чем к величию.
В полуверсте от крепости к северу виден самый старый исторический памятник здешних мест — так называемое Труворово городище, огромный насыпной холм с террасами. Он так крут и четко очерчен, и снизу, от озера, кажется таким грандиозным, что его трудно называть холмом, — хочется сказать: гора! (Здесь все так и говорят.) На самом верху ее — белая Никольская кладбищенская церковь с типично псковским крыльцом и красивой звонницей.
Неглубокий, заросший северным разнотравьем ров отделяет церковь с ее каменной оградой от тенистого кладбища, тихого и красивого. Здесь можно набрести на древние, поросшие зеленоватым мхом могильные плиты и темный каменный крест, очень большой и таинственный. Стоит он будто на Труворовой могиле!
Изборяне любят древнерусскую сказку о богатырях, спящих здесь, под этими каменными плитами. Будто по звуку боевой трубы, под сполох набатных колоколов богатыри пробуждаются, отодвигают тяжелые плиты и выходят на защиту своей земли. И если случится воину получить рану от вражеского меча, то исцелят ее ключи Славянские, что живой гремячей струей бьют у подножия древнего городища и сливаются в ручей.
Заложено это городище веке в восьмом-девятом. Это и было первоначальным Изборском, укреплением славян-кривичей. Отсюда и перенесли жители свой город в XIV веке на соседнюю, более просторную Жеравью гору, где каменная Староизборская твердыня (связанная с замыслом оперы «Псковитянка») сохраняется поныне.
…В двух десятках километров от Изборска приезжего ждет удивительное зрелище еще одной могучей твердыни — Печерской крепости, или Псково-Печерской лавры. Этот известный монастырь зародился в XV веке, а в следующем столетии приобрел для Пскова важное стратегическое значение, став крепостным форпостом. Он сыграл немалую роль в отражении Стефана Батория, приняв первый удар этой армии. Сейчас древняя твердыня восстановлена в своем первоначальном виде и поражает зрителя гармонией форм, слиянием с природой.
Особенно берет за сердце плавный ритм так называемых «корнилиевых стен»: от башни, поставленной на дне глубокой долины с тальвегом ручья, в плавном размахе взлетают по крутым склонам могучие крылья стен с волнообразными завершениями верхней кромки, как бы в подражание крыльям лебединым. А за этими стенами и крепостными башнями видны главы древних храмов — Успенского, высеченного прямо в естественном грунте, и Николы Ратного на вершине холма. Здесь, в соседстве с Успенской церковью, находятся известные лаврские пещеры, давшие имя монастырю и городу.
По сравнению с Печерской Староизборская крепость кажется запущенной и ветхой, хотя и в ней уже ведутся реставрационные работы. Когда холодной осенью я возвращался из Печор в Изборск, прояснился вечер, прекратился дождь, и по крутой тропинке ребята проводили меня к Славянским ключам.
Снизу Изборская крепость с ее башнями будто плыла в закатных облаках. Было так красиво и тихо, что хотелось только молчать, глядеть, запоминать. А ребята без устали, с бескорыстным гостеприимством торопились пересказать приезжему здешние поэтические легенды, навеянные не только прелестью этих мест, но и находками археологов около Колокольной башни.
Ведь и на самом деле был здесь потайной подземный тоннель, что вел от башни к источнику, чтобы во время осады могли черпать от животворного ключа силу свою русские люди, потомки кривичей, защитники пограничных твердынь на древней Псковской земле.


Киев, площадь Богдана Хмельницкого. Колокольня XVIII века и старейший памятник каменного зодчества Киевской Руси — знаменитый Софийский собор.

Обелиск над могилой Неизвестного солдата в Киевском парке Славы.

Охраняемый фундамент Десятинной церкви на Старокиевской горе. Здесь зародился стольный град Киев. За оградой — Андреевская церковь XVIII века (архитектор В. Растрелли).

Руина Золотых ворот в Киеве — памятник времен Ярослава Мудрого. Хорошо видно, как древние строители вели кладку на цемяночном растворе, чередуя ряды кирпича-плинфы с рядами камня.

Стены Новгородского кремля-детинца. Реставрируется Спасская башня. За Волховом виднеется Торговая сторона с Ярославовым дворищем.

Небольшая церковь Андрея Стратилата в Новгородском кремле. Когда-то на этом месте тринадцатиглавая деревянная София Новгородская «поднялася от огня».

Николо-Дворищенский собор. Начало XII столетия.

Рождественский собор в Антониевом монастыре. Строился почти одновременно с Николо-Дворищенским. Предполагается, что оба здания воздвигнуты по замыслу мастера Петра-новгородца.

Шедевр мастера Петра — Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде.

Скульптурный автопортрет мастера Авраамия-новгородца на Сигтунских вратах Новгородской Софии.

Ярославово дворище на Торговой стороне. Слева — церковь Параскевы Пятницы, в глубине — Николо-Дворищенский собор, справа — так называемая гридница (въездная башня новгородского Гостиного двора).

Храм Ивана на Опоках (то есть на белой глине) — один из самых больших храмов на новгородском Торгу.

Есть еще и такие улочки на окраинах Новгорода. Рыбачья слободка и храм Иоанна Милостивого близ Мячина-озера.

Псков. Мирожский монастырь с собором Спас-Преображения за рекою Великою.

Псковский кром (кремль).

Один из лучших архитектурных памятников Пскова — церковь Василия на Горке. В глубине, справа — церковь Николы со Усохи (то есть у высохшего ручья).

Редкий образец псковского гражданского зодчества XVII века — купеческий жилой дом. В XIX веке здесь готовили солод для пекарен и пивоварен, поэтому здание теперь известно под названием Солодёжни.

Поганкины палаты в Пскове. Внутренний двор и крыльцо.

Изборск. Крепостная башня XIV столетия.

Окрестности псковского Снетогорского монастыря. Придорожная часовня.

Небольшой храм Николы Ратного (XVI века) в Псково-Печерском монастыре.

Корнилиевы стены Псково-Печерского монастыря. Будто воспроизведен в камне взмах лебединых крыльев.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ