Наполеон и его сподвижники

I. Наполеон A. К. Дживелегова
 то было при Лоди, 10 мая 1796 года. Генералу Бонапарту необходимо было перейти Адду в тот же день, чтобы отрезать большой неприятельский отряд. Мост через реку защищали австрийцы, под начальством ген. Себотендорфа. Переход был почти невозможен. Себотендорф выставил против моста батарею в три десятка орудий, которая грозила засыпать картечью всякую атакующую колонну. Сейчас же за артиллерией стояла пехота. Бонапарт, тем не менее, решил завладеть переправой. Он приказал начальнику кавалерии ген. Бомону перебраться на другой берег двумя верстами выше с батареей легкой артиллерии и напасть на правый фланг неприятеля. Сам он собрал все пушки, которые у него были, и велел открыть огонь по неприятельской артиллерии. В то же время за городским валом, который окаймлял реку, он построил гренадер Ожеро в атакующую колонну. Так как австрийская пехота, укрываясь от огня французской артиллерии, отошла довольно далеко от батареи, обстреливавшей мост, то гренадеры оказались ближе к неприятельским пушкам, чем их собственная пехота. Канонада гремела без перерыва. Выждав, пока австрийские пушки, осыпаемые французскими ядрами, ослабили огонь, а Бомон нападением справа отвлек внимание Себотендорфа, Бонапарт приказал бить атаку. Голова гренадерской колонны простым поворотом налево очутилась на мосту, пронеслась через него почти без потерь, мигом овладела пушками неприятеля, обрушилась на пехоту, опрокинула ее и обратила в бегство. Себотендорф потерял, кроме артиллерии, около 2.500 чел. пленными и несколько тысяч убитыми. Потери французов составляли едва 200 чел. Ломбардия была открыта для Бонапарта. Сокрушительный удар был задуман и нанесен с такой гениальной простотой, все окружающие так горячо поздравляли Бонапарта с этой победой, что двадцатисемилетний генерал задумался самым серьезным образом. В «Memorial de St. Helene» (I, 193) мы читаем следующую фразу: «Вандемьер и даже Монтенотте[1] еще не давали мне мысль считать себя человеком высшего порядка (un homme superieur). Только после Лоди у меня явилась идея, что и я, в конце концов, могу быть действующим лицом на нашей политической сцене. Тогда-то зародилась первая искра высокого честолюбия». То же, в несколько иных словах, повторяется в «Recits de la captivite» (II, 424): «Только в вечер сражения при Лоди я стал считать себя человеком высшего порядка и во мне загорелась честолюбивая мысль — свершить дела, о которых до тех пор я думал только в минуты фантастических мечтаний».
то было при Лоди, 10 мая 1796 года. Генералу Бонапарту необходимо было перейти Адду в тот же день, чтобы отрезать большой неприятельский отряд. Мост через реку защищали австрийцы, под начальством ген. Себотендорфа. Переход был почти невозможен. Себотендорф выставил против моста батарею в три десятка орудий, которая грозила засыпать картечью всякую атакующую колонну. Сейчас же за артиллерией стояла пехота. Бонапарт, тем не менее, решил завладеть переправой. Он приказал начальнику кавалерии ген. Бомону перебраться на другой берег двумя верстами выше с батареей легкой артиллерии и напасть на правый фланг неприятеля. Сам он собрал все пушки, которые у него были, и велел открыть огонь по неприятельской артиллерии. В то же время за городским валом, который окаймлял реку, он построил гренадер Ожеро в атакующую колонну. Так как австрийская пехота, укрываясь от огня французской артиллерии, отошла довольно далеко от батареи, обстреливавшей мост, то гренадеры оказались ближе к неприятельским пушкам, чем их собственная пехота. Канонада гремела без перерыва. Выждав, пока австрийские пушки, осыпаемые французскими ядрами, ослабили огонь, а Бомон нападением справа отвлек внимание Себотендорфа, Бонапарт приказал бить атаку. Голова гренадерской колонны простым поворотом налево очутилась на мосту, пронеслась через него почти без потерь, мигом овладела пушками неприятеля, обрушилась на пехоту, опрокинула ее и обратила в бегство. Себотендорф потерял, кроме артиллерии, около 2.500 чел. пленными и несколько тысяч убитыми. Потери французов составляли едва 200 чел. Ломбардия была открыта для Бонапарта. Сокрушительный удар был задуман и нанесен с такой гениальной простотой, все окружающие так горячо поздравляли Бонапарта с этой победой, что двадцатисемилетний генерал задумался самым серьезным образом. В «Memorial de St. Helene» (I, 193) мы читаем следующую фразу: «Вандемьер и даже Монтенотте[1] еще не давали мне мысль считать себя человеком высшего порядка (un homme superieur). Только после Лоди у меня явилась идея, что и я, в конце концов, могу быть действующим лицом на нашей политической сцене. Тогда-то зародилась первая искра высокого честолюбия». То же, в несколько иных словах, повторяется в «Recits de la captivite» (II, 424): «Только в вечер сражения при Лоди я стал считать себя человеком высшего порядка и во мне загорелась честолюбивая мысль — свершить дела, о которых до тех пор я думал только в минуты фантастических мечтаний».

Наполеон-консул (Ивон)
Для человека, одаренного большой волей и действительно неистребимым честолюбием, прийти к такому заключению значило очень много. Время было такое, что ни одна возможность не представлялась несбыточной. Революция разрушила все преграды к быстрому движению вперед. Дарованиям всякого рода открылась широкая дорога. Особенно легко выдвигала армия, ибо армия была главным жизненным нервом и республики и революции. И кто не предсказывал в 1790–96 годах, что революция кончится «саблей», т. е. военной диктатурой? Бонапарту, который понимал очень хорошо родной ему дух революции и великолепно знал о предсказаниях насчет диктатуры, нужно было только уверовать в себя и в свои силы, чтобы начать линию своей личной политики, эгоистической, направленной к определенной цели, превращающей и войну, и победу, и республику, и революцию в простые средства для достижения этой цели.

Бонапарт в Бриенской школе (1782)
Лоди дало ему эту веру, и в день Лоди в молодом генерале зачат был будущий император французов[2]. Многое, конечно, было необходимо для того, чтобы генерал сделался императором. И прежде всего нужно было, чтобы арена для его дерзаний оказалась свободной от соперников. В этом отношении Бонапарт был необыкновенно счастлив. Из крупных военных вождей революции к решительному для него моменту остался, можно сказать, один — Массена. Дюмурье ликвидировал себя раньше всех, Пишегрю пошел такой дорогой, которой можно было придти на гильотину, а не на престол. Гош — самый крупный, не уступавший ни умом, ни характером, ни военными дарованиями Бонапарту, умер в 1797 г. Журдан скомпрометировал себя слишком тесными связями с якобинцами. Моро, такой хладнокровно-расчетливый перед лицом врага, совсем потерял голову после брюмерского переворота и не сумел из блеска Гогенлинденской победы соткать себе ореол национального героя. Те, с которыми Бонапарту, несомненно, пришлось бы считаться: Марсо, Жубер, Клебер, Дезе, были убиты или до брюмера, как двое первых, или очень скоро после него, как оба героя египетской экспедиций: точно честолюбивая мечта Бонапарта направляла и австрийские пули и кинжал каирского фанатика[3]. Массена, оставшийся в живых, при колоссальном военном даровании, был совершенно лишен той культуры ума и характера, которая могла бы сделать из него опасного соперника для Бонапарта. Другие — Ланн, Даву, Ожеро, Бернадот, Бертье, Ней, Мюрат, не говоря уже об остальных, никогда и не могли претендовать на самостоятельную политическую роль. Из перечисленных генералов многие могли равняться с Бонапартом военным гением: Клебер, Моро, Массена, особенно Гош. Многие превосходили его красотой характера, республиканской искренностью, прямотой. Но ни у кого из них не соединялось так много талантов, необходимых для правителя, никто из них, исключая опять-таки, быть может, только Гоша, на месте Бонапарта, не сумел бы сделать большего. Гош был честнее; в нем совсем не было эгоизма. Но зато он был лишен спартанского бесстрастия Бонапарта и его стоической выдержки: он был эпикуреец, поэт и раб наслаждений. В целом Наполеон был крупнее. На великой стене истории, где запечатлеваются тени титанов в человечестве, та, которую отбрасывает маленькая фигурка его, во всяком случае одна из самых грандиозных.
Нужно ли, как это делает Тэн, производить антропологические изыскания, чтобы объяснить появление Наполеона? Нужно ли вызывать тени Сфорцы, Пиччинино, Карманьолы, Гаттамелаты и других итальянских кондотьери, чтобы понять титаническую мощь Наполеона? Нужно ли выдвигать предположение, что одряхлевшая в Италии порода людей, на Корсике, как в питомнике, окрепла вновь и дала свой новейший гигантский отпрыск в лице Наполеона? Параллель с кондотьери, конечно, интересна и законна, но в ней нет элементов научного анализа. Она хороша, как интуитивное подспорье к научному анализу, — не больше. Да едва ли и есть необходимость выдвигать эту своеобразную теорию аватара. Революция сама по себе объясняет два главных момента, создавших Наполеона: и то, что он получил возможность развернуть свои сверхъестественные дарования, и то, что сделал такую волшебную карьеру. Ибо и то и другое имело параллели. Многие из перечисленных выше генералов умерли бы в нижних чинах, если бы не революция. Благодаря революции, они вытянулись во весь рост. Да не только генералы. Разве аббат Сийес мог при старом порядке мечтать сделаться тем, чем он стал теперь? Разве превращение епископа Отенского в герцога Дино и князя Беневентского не было тоже чудом, возможным лишь благодаря революции? А если говорить о карьере, то ведь революция вознесла не только Наполеона. Сульт едва не сделался королем португальским, Бернадот основал династию в Швеции, Евгений Богарне стал родоначальником герцогов Лейхтенбергских. Психологически и политически Наполеон создан революцией, и нет нужды тревожить память кондотьери для объяснения его.

Карло Бонапарте, отец Наполеона
Бывают гениальные люди, лишенные характера, воли, работоспособности. Бонапарту все это было дано щедрой рукой. Поэтому мысли, зарождавшиеся в его голове, сейчас же начинали претворяться в действительность, и не было того препятствия, которого он не мог бы одолеть. Именно эта печать действенного гения, несокрушимой воли, направленной огромным умом, которую окружающие видели на его челе, создавала ему его власть над людьми. В нем не было того непроизвольного, не зависящего от человека обаяния, которое как-то само собой покоряет всех, без того, чтобы приходилось делать усилия. Но когда он хотел, он становился неотразим, и не было человека, который устоял бы против него. Когда его назначили главнокомандующим итальянской армией в 1796 году, генералы, которые были старше его, решили между собою проучить «выскочку» при первой же встрече. Ожеро, головорез и забияка, не знавший, что значит оробеть при каких бы то ни было условиях; Массена, человек огромного самообладания и безумной смелости; Серрюрье, Лагарп, герои, видевшие не раз смерть лицом к лицу, составили своего рода заговор против «молокососа». Когда они выходили после первой аудиенции, они были сконфужены. Ожеро, удивленный тем, что произошло, говорил Массене, разводя своими длинными руками: «Не могу понять, что со мной сделалось: только я никогда ни перед кем не приходил в такое смущение, как перед этим маленьким генералом». Массена молчал, ибо ощущал то же. Зато позднее и Ожеро, и Массена, и все, кто был под его командой, по одному его слову делали чудеса. Под Арколе, когда в первый день боя Бонапарту необходимо было форсировать переправу, чтобы напасть с тылу на Альвинци, когда он сам, схватив знамя, бросился на мост, осыпаемый австрийскими пулями, — кто только не поспешил выручать его. Несчастный Мюирон, который тут же был пронизан пулями, прикрывая его; Ланн, раненый перед тем, трижды ранен снова в то время, как бросился к нему на помощь. Генерал Робер убит, Виньоль, Белиар ранены. И это неотразимое обаяние действовало на подчиненных еще долго потом. Стоило Наполеону в разгар боя кинуть фразу Мюрату, и тот, бросив на руки адъютанту свою шляпу с чудовищными страусовыми перьями, весь сверкая золотом, с одним хлыстом в руке, летел на врага во главе своих кирасир, опрокидывал кавалерию, врезывался в каре, сметал все на своем пути, словно застрахованный от пуль и картечи. И Мюрат вовсе не был исключением. Не только храбрецы, как Ланн или Ней, не только спокойно-мужественный Даву, но и Мармон, не любивший рисковать собой, и Бернадот, который перед каждой атакой соображал, что она может ему принести, — делали то же. Мутон чуть не в пять минут брал приступом город, Марбо в темную, бурную ночь переправлялся через Дунай, чтобы привезти «языка», «ворчуны» старой гвардии умирали, но не сдавались. И все без исключения бывали на верху блаженства, получив в награду ласковый щипок за ухо. Наполеон был так уверен, что для него его маршалы и генералы сделают невозможное, что полагался на самое смелое их заявление. Под Аустерлицем он спрашивает Сульта, сколько времени ему нужно, чтобы занять Праценскую возвышенность, т. е. пункт, от обладания которым зависит успех его плана. «Двадцать минут самое большее», отвечает тот. «Тогда подождем еще четверть часа», спокойно говорит император, хотя он знает, что Даву изнемогает на правом фланге. И Сульт сдержал свое обещание. Когда ему нужно было покорить человека, он пускал в ход все свои чары, и никто, за редкими исключениями, не умел устоять против них, даже холодно-расчетливый Меттерних, даже «византиец»-Александр. Сила обаяния стала падать, когда сам Наполеон отяжелел и начал надеяться, что богатства и почести могут делать то, что делали прежде любовь и преданность. Между тем новая метода, наполняя сознанием личного благополучия, вселяла опасение, что это благополучие не будет использовано до конца, порождала эгоистические чувства, вытравляла порыв, отнимала энергию и очень часто, особенно в период упадка, когда переставал действовать еще один стимул — страх, отдаляла от Наполеона самых близких людей, безумно любивших его раньше. Стоит вспомнить безобразную сцену в Фонтенебло в дни отречения, когда маршалы, утратившие страх и не рассчитывающие больше ни на новые богатства ни на новые почести, толкали императора на путь бесславия.

Бонапарт (Давида)
Обаяние Наполеона тем и было непохоже на обаяние других людей, что в нем причудливо и капризно преломлялись лучи гения. Их было много, этих лучей, и трудно сказать, какой из них был ярче, какое дарование господствовало. Мы не можем долго останавливаться на Наполеоне, как полководце: этот вопрос составляет содержание особой статьи. Только для того, чтобы полнее осветить весь его облик, приходится в нескольких словах коснуться и его военного гения. Здесь, как и во всем, поражало соединение двух трудно-соединяющихся вещей: творческой, если только можно воспользоваться этим словом, силы и самой кропотливой черной работы. Чтобы сделать итальянскую армию способной быть орудием своей молниеносной тактики, он прежде всего одел, обул, накормил ее и снабдил всем необходимым. Чтобы добиться этого, он во все входил сам: пробовал хлеб, мясо; смотрел кожу для сапог, сукно для шинелей, седла; вымерял размер груди и длину в рубахах; безошибочно определял, сколько сена ворует подрядчик; всех приструнивал, всех подтягивал. И когда все было готово, грянули один за другим: Монтенотте, Миллезимо, Мондови, Лоди, Кастильоне, Арколе, Риволи, Тальяменто… Одно обусловливалось другим. В этом была его система. Для него не существовало скучных вещей в военном деле. «Ваши донесения о штатах читаются, как прекрасная поэма», пишет он генералу Лакюэ. И нет ни одного уголка в сложном военном механизме, который представлял бы для него какие-нибудь секреты. «На войне нет ничего, — говорит он, — чего я не мог бы сделать сам. Если нет никого, кто мог бы приготовить порох, я приготовлю его; лафеты для пушек, я их смастерю; если нужно отлить пушки, я велю их отлить»…[4] Он был и собственным начальником штаба и собственным главным интендантом. А в стратегическом маневрировании и тактическом ударе он творил, как художник. Мы видели, как была выиграна битва при Лоди. Кастильоне, где решилась судьба первой кампании Вурмзера, явилось результатом гениального маневрирования, которое дало Бонапарту возможность уничтожить втрое сильнейшего врага. То же было и при второй кампании Альвинци, завершившейся Риволи. Французской кампании 1814 года, где Наполеон был в десять раз слабее союзников, наступавших на него (60 тыс. против 600 тыс.), и где он все-таки одерживал над ними такие блистательные победы, как при Монтеро и Шампобере, где каждое его поражение было все-таки шедевром, — этой кампании одной было бы достаточно, чтобы покрыть неувядаемой славой любого полководца. А наполеоновская тактика? Арколе, которое действительно было чем-то в роде песни Илиады, Риволи, Тальяменто, Пирамиды, Фавор, Абукир, потом Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд, Ваграм. Мир весь затихал в страхе, когда он, как буря, проносился по Европе во главе своих железных легионов, серым пятном выделяясь на фоне золотых и красных мундиров своего штаба, не зная, что такое неудача. Словно богиня победы была прикована к колесу пушечного лафета и не могла отлететь от великой армии, словно сама Фортуна была маркитанткой у гренадер Удино. Таким древние скандинавы представляли себе Одина во главе «неистового воинства», когда он, верхом на своем восьминогом белом коне, летал по воздуху, сокрушая все на своем пути.
Из всех наполеоновских сражений едва ли не наиболее типичным был Аустерлиц, ибо в нем сказывается лучше всего настоящая наполеоновская манера. 30 ноября 1805 года, когда он уже отступил от Праценских высот и разгадал обходное движение неприятеля против его правого фланга, он выехал обозреть местность и сказал окружающим, глядя на Праценскую возвышенность: «Если бы я хотел помешать неприятелю обойти мой правый фланг, я занял бы позицию на этих превосходных высотах. Тогда у меня получилось бы самое обыкновенное сражение. Правда, у меня было бы преимущество в позиции. Но, не говоря уже о том, что я рисковал бы начать дело уже 1 декабря (т. е. пока не подошли ожидаемые в ночь на 2-е подкрепления), неприятель, видя нашу позицию перед собой, сделал бы только мелкие ошибки. А когда имеешь дело с генералами, мало опытными в большой войне, нужно стараться пользоваться ошибками капитальными». И вместо того, чтобы оставаться на отличных позициях Праценской возвышенности и вызвать союзников на фронтальную атаку, которая, несомненно, кончилась бы для атакующих неудачей, он очистил Працен, внушил этим неприятелю мысль о своей слабости и толкнул его на обход своего правого фланга. Это была ловушка, которая подвергала риску его самого, но она дала в результате не «обыкновенное сражение», а блистательную победу. Полк. Йорк фон-Вартенбург («Napoleon als Feldherr», I, 230) говорит, что если бы такая диспозиция была принята на маневрах, она вызвала бы против себя резкую критику, что против нее говорят вообще все основания рационального военного искусства. Наполеон решился ослабить свой правый фланг и, ослабленный, подвести его под удар превосходных неприятельских сил только в сознании того, что неприятель наделает достаточно «капитальных ошибок». Так и было. Наоборот, при Ваграме, когда Асперн и Эслинг научили его уважать эрцг. Карла, он умышленно сделал «самое обыкновенное сражение», где он не рисковал почти совсем, где все было результатом точного подсчета. Этих вещей он старался избегать. Как поэт войны, он любил дать волю своей фантазии и нимало не смущался тем, что полет его фантазии покрывал трупами безбрежные поля.

Наполеон (Верещагина)
Такова была особенность его гения вообще. Он подготовлял все путем систематичной, кропотливой черной работы, а потом где-то в таинственных глубинах вспыхивала мысль, и при свете ее все сделанное раньше получало душу и художественно-законченный облик.

Автограф Бонапарта
Работоспособность у него была совершенно нечеловеческая. Он один делал то, что было едва ли под силу сотне людей, и на войне и в мирное время. Он мог довольствоваться двумя-тремя часами сна в сутки и мог не спать совсем трое суток, как при Арколе. «Нужно было, — говорил адъютант Наполеона, генерал Рапп, — быть из железа, чтобы выдерживать все это. Мы выходили из кареты только для того, чтобы сесть верхом, и оставались на лошади иной раз десять-двенадцать часов подряд». Это относится к походу 1800 г. В 1806 г. сам Наполеон писал Жозефине: «Мне приходится делать двадцать-двадцать пять лье (т. е. до 100 верст) в день верхом, в карете и вообще по-всякому». Для того, чтобы заниматься внутренними делами государства, — он никогда не забывал о них во время походов — ему оставались ночные часы и часы, проводимые в карете. И все-таки успевал послать инструкции в Париж обо всем, кончая театральными мелочами. То же происходило и в мирное время. Достаточно просмотреть два-три его письма министрам из эпохи консульства, чтобы убедиться, как мало от дыхала эта необыкновенная голова. Вот, например, одно из посланий к военному министру: «Я желаю немедленно знать, гражданин министр: 1) какими средствами вы пользуетесь для ремонта кавалерии? 2) Получили ли генерал Гардан и другие офицеры из английской армии приказ быть на местах 24 тек. месяца? 3) Когда я получу сведения насчет нашего законодательства о производстве в различных родах войск? 4) Когда я получу доклад о современном положении артиллерийской и инженерной школ? 5) Когда я получу доклад о состоянии нашей военной юстиции? 6) Доклад об организации артиллерийских экипажей? 7) Доклад о законах, регламентах и обычаях, установленных для отчетности различных частей общественной службы? 8) Доклад о законах, регулирующих уплату жалования войскам? 9) Доклад о воинской повинности? 10) Доклад о военных наградах за 26 нивоза?». Такие же письма получали министр внутренних дел, финансов и проч. Им предписывалось ежедневно к 10 ч. вечера присылать первому консулу доклады о текущих делах по их ведомствам. Ибо, проведя день в приемах и аудиенциях, смотрах и выездах, заседаниях и работах с секретарями, устав от бесконечной деловой переписки, Наполеон поздно вечером собирал совет министров и держал их часто до свету. А когда они приходили в изнеможение и опускали свои головы на стол, он весело подбадривал их: «Ну, ну, граждане-министры, давайте просыпаться: всего 2 часа утра; нужно честно зарабатывать деньги, которые платит нам французский народ». И однажды, когда мать его, беспокоясь за его здоровье, прибегла к содействию Корвизара, его постоянного врача, Наполеон, узнавший об этом, говорил брату: «Бедный Корвизар? Он только этим теперь и занят. Но я ему доказал, как дважды два четыре, что мне необходимо занять ночь, чтобы пустить как следует мою лавочку, потому что дня не хватает. Я бы предпочел отдых, но раз вол запряжен, нужно, чтобы он работал по-настоящему». А на робкие просьбы окружающих — беречь себя, Наполеон неизменно отвечал: «Это мое ремесло, дети! Ничего не поделаешь»[5].
Разумеется, не будь у него еще и других качеств, эта титаническая работоспособность, может быть, и не приводила бы к таким результатам. Но неисчерпаемость рабочей энергии была дана ему не одна. У него была, кроме того, колоссальная память и, что еще важнее, умение быстро разбираться в каждом вопросе, даже совсем незнакомом, и сейчас же схватывать его практическую суть.

Профили Наполеона, римского короля и Марии-Луизы
То, что он однажды узнал, он уже не забывал никогда. Мельчайшие детали войсковых штатов запечатлены у него в голове, как молитва. Однажды он читает в докладе, что корпусной командир требует для одного из своих полков 1.500 пар сапог. Он пишет: «Это смешно: в полку под ружьем всего 1.200 человек». Другой раз, просматривая отчет о количестве орудий в разных корпусах, он делает пометку, что забыли упомянуть две пушки, находящаяся в Остенде (Levy, там же). Шапталь («Souv.», 336) рассказывает, что в одной ведомости о продовольствовании войск на пути его внимание привлекла статья, где говорилось о каком-то полке, стоявшем в Фонтене. «Здесь ошибка, — сказал он генералу, представившему ведомость. — Этот полк в Фонтене не был; из Рошфора он прошел в Испанию, минуя Фонтене». Нечего и говорить, что он отлично помнил расположение всех частей не только во время войны, но и в мирное время. Такая же цепкая память была у него на финансовые вопросы, на лица, на местности, особенно на местности, и было очень трудно ввести его в заблуждение, положившись на то, что он что-нибудь забыл. Наполеон не забывал.
Даже в таких вопросах, которые были новы[6] для него, он не терялся никогда. Если что-нибудь было для него не вполне ясно, он спрашивал; спрашивал до тех пор, пока все укладывалось в его голове. На эти вещи он не жалел ни времени ни сил. «Наполеон, — рассказывает Моллиен, — работал ежедневно десять-двенадцать часов, то в разных административных совещаниях, то в Государственном Совете. Он требовал у каждого министра разъяснений по малейшим деталям; если министры не устраняли всех его сомнений, он обращался к младшим чиновникам… Нередко можно было видеть, как министры выходили из заседания, доведенные до изнеможения этими бесконечными допросами… И случалось, что, возвращаясь к себе, эти же министры находили десяток писем от первого консула, на которые тот требовал немедленного ответа. Целой ночи едва хватало, чтобы составить эти ответы».

Бонапарт у госпожи Богарне (Кильон)
И по мере того, как он овладевал предметом, в его голове начинали происходить какие-то вспышки. Он весь отдавался полубессознательному творчеству. Он бледнел, руки его, державшие перочинный ножик, машинальными, судорожными движениями безжалостно уродовали ручки кресла, на котором он сидел, и рождаемая в страшном нервном подъеме гениальная, но простая мысль, вдруг освещала тот или другой вопрос совершенно новым светом. Ученые специалисты, свидетели этого делового вдохновения, поневоле склонялись перед силой ума «дилетанта», к которому раньше они относились свысока. Ибо, конечно, всегда, без исключения эта простая мысль именно специалистам не приходила в голову. Вот что рассказывает Тибодо о работах над Code civil в Государственном Совете. «Он говорил без малейшего затруднения, но и без претенциозности. Он не уступал ни одному из членов совета; он был равен самому даровитому из них[7] по той легкости, с какой он схватывал самую суть вопроса, по верности своих мыслей, по силе доказательств; он часто превосходил их по умению формулировать свою идею и по оригинальности своих выражений». Юристов больше всего поражало в нем какое-то необыкновенное соединение здравого смысла с полетом воображения. А происходило это потому, что он не мыслил юридическими формулами, как они, а представлял себе практический казус. И потом он всегда умел представить себе общее действие закона, его государственное значение. «Вы действуете, как кропатели законов, а не как политики», сказал он однажды своим ученым сотрудникам. Именно то, что он не упускал из виду политических задач во всяком деле и именно потому, что на политические задачи у него были взгляды определенные раз навсегда, он так легко находил ориентирующие пункты повсюду. Когда Сийес выбрал Бонапарта исполнителем своих замыслов насчет переворота, он был все-таки очень далек от мысли, что молодой генерал так скоро сделает ненужным его самого. Он просто не предполагал у него готовых политических планов. Но когда Сийес принес в консульскую комиссию свой проект конституции, и началось его обсуждение, он сразу увидел, что ему не совладать с таким противником. Конституция была принята в редакции не Сийеса, а Бонапарта. Обсуждение ее представляло шедевр, своего рода бескровный Аустерлиц, за зеленым столом. Не прошел ни один параграф из тех, которые казались неудобными Бонапарту. Сийес был так сбит с толку замечаниями своего молодого коллеги, меткими и неожиданными, что не умел отстоять самых дорогих для себя институтов. А Сийес ли не был опытным бойцом? Сийес ли не умел защищать своей карьеры? Ибо тут он знал, что карьера его рушится вместе с параграфами его конституции.
Таков был Бонапарт везде и всегда: чуткий и внимательный ко всему, неутомимый и изобретательный, с гибким и изворотливым умом, с волей, покоряющей все, с памятью, в которой все запечатлевается и из которой ничего не пропадает, с воображением, бьющим через край, с инстинктивным дарованием все приспособлять к занимающей его в данный момент цели, с той способностью, «которая творит великих художников, великих изобретателей, великих воинов, великих политиков: умением разглядеть и выделить в живом хаосе общественной жизни, в смутном рельефе местности, в запутанной интриге дипломатических переговоров, в шуме сражения — господствующий пункт, вершину и узел дела, умением ухватить убегающие линии, непрерывные сцепления, неподвижные факты, понять их основное устремление и следовать ему неуклонно» (Сорель). Если бы величие людей измерялось только умственной мощью и силою характера, едва ли нашли бы мы в истории гиганта, которому не был бы равен Наполеон, едва ли было бы способно человечество, воздвигнуть такую триумфальную арку, под которой тень его могла бы пройти не согнувшись.

Полина Бонапарт (Canova)
И этот колосс потерпел крушение. Разбиты были его самые дорогие мечтания. Франция, отдавшаяся ему, осталась после него истекающей кровью. Все завоевания, сделанные им, были отняты. Г-жа Сталь («Consid. sur la Rev. frang.») сопровождает такими словами рассказ о падении Наполеона: «Не было ли бы это великим уроком для человечества, если бы пять директоров, люди мало воинственные, восстали из праха и потребовали у Наполеона ответа за рейнскую и альпийскую границу, завоеванную республикой, за иностранцев, дважды приходивших в Париж, за три миллиона французов, которые погибли от Кадикса до Москвы, особенно за ту симпатию, которую питали народы к делу свободы во Франции и которая превратилась теперь в укоренившуюся ненависть». Г-жа Сталь не любила Наполеона, который ее преследовал с недостойной крупного человека мелочностью. Но в этом отрывке каждое слово — правда. И еще не вся правда.
В чем же причина этого? Поскольку ее можно свести к личности Наполеона, эту причину в самых общих выражениях можно формулировать таким образом: в том, что величие ума и характера не сопровождалось у него нравственным величием. «Он был, — сказал Токвиль, — велик настолько, насколько это возможно без добродетели». И так как этот человек-легенда невольно пробуждает воспоминания о легендах, при попытках объяснить его судьбу, теснятся сказочные образы. На празднике его рождения, где пировали феи, забыли пригласить одну — фею нравственного начала. В отместку обиженная, — в то время как другие расточали над колыбелью дары ума и характера, могущества и славы, — изрекла проклятие и поразила бесплодием нравственную природу новорожденного. Такие властители с атрофированной совестью и с затверделым сердцем никогда не бывают благодеянием для народов и часто бывают бичом для них. Когда человеку не хватает для оценки своих и чужих действий морального критерия, он берет критерием что-нибудь другое, чаще всего свою собственную выгоду. Тогда из сферы забот и попечений носителя власти исчезает все, что не есть он сам, что не есть его династия и опора этой династии — высший слой привилегированных; он забывает о бесконечном большинстве населения, о том, у которого нет никаких привилегий и которое больше всех нуждается в заботах и попечениях.
Когда Наполеон попал на Св. Елену и убедился, что он не выйдет оттуда живым, он посвятил остаток своих дней собственной апологии. Он стремился доказать, что деспотические замыслы ни разу не коснулись его ума, что он всегда жил для Франции, а не для самого себя. 16 мая 1816 г., беседуя с Ласказом о Бурбонах, он прибавил:
«Они могут уничтожать и уродовать сколько им угодно. Им все-таки будет трудно заставить исчезнуть меня без остатка. Историк Франции будет обязан коснуться империи, и если он честный человек, он укажет мою долю, кое-что отнесет на мой счет. Это будет нетрудно, потому что факты говорят; они сияют как солнце. Я засыпал бездну анархии и распутал хаос. Я обуздал революцию, облагородил народ и укрепил королей. Я возбудил соревнование во всех областях, вознаградил все заслуги и ближе придвинул границы славы. Ведь все это стоит же чего-нибудь! И потом, в чем можно меня обвинить, чтобы историк не сумел за меня заступиться? Мой деспотизм? Но историк покажет, что диктатура была настоятельно нужна! Будут говорить, что я стеснял свободу! Он покажет, что распущенность, анархия, огромные беспорядки были у порога! Будут обвинять меня в том, что я слишком любил войну? Он покажет, что на меня всегда нападали! Что я стремлюсь к всемирной монархии? Он покажет, что она была случайным созданием обстоятельств, что наши враги сами толкали меня к ней шаг за шагом. Наконец станут упрекать меня в честолюбии? О, конечно, он согласится, что я был честолюбив, и очень, но он скажет, что мое честолюбие было самое высокое, какое когда-либо существовало, и заключалось оно в том, чтобы установить и освятить, в конце концов, империю разума и полное, беспрепятственное пользование всеми человеческими способностями. И, быть может, историк еще будет сожалеть, что эти честолюбивые мечты не осуществились… Такова, — заключил Наполеон, — вся моя история в немногих словах». А вот что говорил он доктору О'Мэара 18 февраля 1818 г.:
«Система управления должна быть приспособлена к духу нации и к обстоятельствам. Прежде всего Франции нужно было правительство сильное. Когда я стал во главе Франции, она находилась в том же положении, в каком был Рим, когда понадобился диктатор для спасения республики. Английское золото создавало против Франции коалицию за коалицией. Для успешного сопротивления им нужно было, чтобы глава государства мог располагать всеми силами, всеми ресурсами нации. Я завоевывал, только защищаясь. Европа не переставала нападать на Францию и на ее принципы, и нам нужно было бить, чтобы не быть побитыми. Среди партий, которые волновали Францию с давних пор, я был как всадник на горячей лошади, бросающейся то в одну сторону, то в другую: чтобы заставить ее идти прямо, я был вынужден от времени до времени давать ей почувствовать узду. В стране, которая только что вышла из революции, которой угрожают враги извне, которую мутят изменнические интриги внутри, правительство должно быть твердым. Если бы наступило успокоение, прекратилась бы и моя диктатура, и я бы начал свое конституционное правление. Даже в том состоянии, в каком была Франция, в ней было больше равенства, чем в других странах Европы».

Летиция Рамолино, мать Наполеона
Заявления этого рода рассыпаны по всему «Memorial», по «Recits de la captivite», по мемуарам, записанным генералами. Приведенные два длинных отрывка резюмируют их довольно хорошо, и ими можно поэтому ограничиться. Потеряв надежду на возвращение власти, опрокинутый господин Европы пытается примирить с собой современников и потомство, отчасти с чисто практической целью: чтобы облегчить для сына путь к французскому трону, отчасти повинуясь идеалистическим побуждениям: создать вокруг своего имени ореол, блеск которого переживет века. К этой двойной цели он идет, как нетрудно видеть и из приведенных отрывков, двумя путями: он старается или оправдать то, что он делал, или убедить мир, что, если бы его не свалили, он излил бы на человечество и в частности на Францию реки благополучия. К обещаниям задним числом приходится прибегать тогда, когда нет возможности скрыть, замолчать неудобный факт или дать ему сколько-нибудь удовлетворительное объяснение.
Разберем же главные обвинения, которые, по мнению Наполеона, будет как нельзя легче опровергнуть будущему историку. Их четыре: страсть к войнам и завоеваниям; стремление основать всемирную монархию; деспотизм; стеснение свободы. Можно было бы подобрать еще сто четыре, но их Наполеон не вводит в свою «краткую историю». Опустим и мы их пока. Есть историки, которые по всем этим пунктам выносят Наполеону оправдательный приговор, но это достигается ценой целой системы прокрустовых лож. Беспристрастная наука судит иначе.
Сложнее всего вопрос о войнах. Наполеон уверяет, что он воевал только тогда, когда на него нападали. Это неверно. Испания не нападала на него, Россия в 1812 г. не нападала. Но не в этом дело. Внешняя политика Наполеона определялась в значительной мере факторами, лежащими вне его воли. На нее давили национальные интересы, те самые, которые давили на внешнюю политику и Людовика XIV, и революции, и давили в том же направлении. И эти интересы властно требовали войны с Англией и Австрией, чтобы заставить их устраниться с пути политического и экономического развития Франции. Но был элемент, который привходил во внешнюю политику Франции от Наполеона, как такового: его честолюбие. Оно увлекало его далеко за рамки, необходимые с точки зрения французских национальных интересов. Наиболее решительными моментами в этом отношении были переговоры с союзниками в Франкфурте осенью 1813 г. и в Шатильоне в начале 1814 г. Наполеон отверг такие условия мира, которые удовлетворяли вполне всем условиям мирного развития Франции. Почему он сделал это?
Вопрос о всемирной монархии едва ли имеет большое значение. В словах, сказанных Ласказу, Наполеон как будто не отрицает, что у него была эта гордая мечта. Для Гюго она только дополняла титанический образ:
… C'est lui qui, pareil a l'antique Encelade
Du trone universel essaya l'escalade,
Qui vingt ans entassa,
Remuant terre et cieux avec une parole,
Wagram sur Marengo, Champaubert sur Arcole,
Pelion sur Ossa…
Но в другой раз, 28 января 1817 г., на вопрос доктора О'Мэара, Наполеон отрицал это. «Моим намерением было сделать Францию более обширной, чем всякая другая страна, но я никогда не притязал на всемирную державу. Я, напр., никогда не перенес бы Францию за Альпы». Но если у него и не было твердо поставленной цели, если он и понимал невозможность сколько-нибудь прочных успехов на этом пути, то, как «случайное создание обстоятельств», он, несомненно, признавал всемирную монархию и был далек от мысли считать мечту об империи Карла Великого «бредом безумца», как называет ее Тьер. Что толкало его к этой химерической цели?

Первый консул посещает монастырь на С.-Бернар 20 мая 1800 г. (Лебель)
Вопрос о деспотизме тоже не разрешается так просто, как казалось Наполеону на Св. Елене. Кое в чем, конечно, он был прав. Республика при директории показала, что она совершенно неспособна справиться с затруднениями, которые терзали страну внутри и снаружи. И борьба партий, и анархическая пропаганда, и противообщественные тенденции, — все это было, и все это нужно было устранить, чтобы спасти Францию. Больше того, быть может, была нужна и диктатура. Но Наполеон опять сделал больше, чем это требовалось для страны. Ему было мало, что он задушил революцию, свою кормилицу, революцию, которая воздвигла ему пьедестал для его карьеры, которая вспахала и засеяла поле славы, на котором он так легко собрал всю жатву. Ему было мало, что он конфисковал без остатка все ее наследие в свою пользу. Он захотел прежде всего титула, как будто титул мог прибавить что-нибудь к славе победителя Риволи и Маренго, создателя Гражданского Кодекса, умиротворителя страны. «Зачем ему нужно, — говорил Поль Луи Курье (Oeuvres compl., 1849 г., стр. 242–243), — ему, солдату, военачальнику, первому полководцу мира, чтобы его называли величеством? Быть Бонапартом и сделать себя государем! Он хочет низойти? Нет, он думает стать выше, сравнявшись с королями. Титул он предпочитает имени. Бедняга! У него больше счастья, чем ума! Я подозревал это, когда узнал, что он отдал свою сестру за Боргезе и считал, что Боргезе оказывает ему слишком большую честь! Цезарь гораздо лучше понимал эти вещи, и он был другим человеком. Он не взял заезженного титула: из своего имени он сделал титул более высокий, чем титул царей». Но и титула одного ему оказалось мало. Он захотел стать основателем династии, захотел, чтобы в жилах его потомства кровь поручика артиллерии смешалась с кровью самой древней и самой благородной династии Европы. Где источник этих фантазий, превратившихся в действительность?

Жером Бонапарт
Вот, наконец, пункт о свободе, тот, о котором историки-панегиристы обыкновенно предпочитают молчать. «Стеснение свободы» бывает всякое. Обуздать анархию было нужно; не лишним было унять якобинцев, ставших обыкновенными клубными крикунами, давно потерявших связь с социальной почвой; наложить узду на роялистов, которые, пользуясь бессилием власти, вносили дезорганизацию в общественную жизнь, было необходимо. Но разве только в этом были стеснения свободы при консульстве и особенно при империи? Свобода французского народа, плохо ли, хорошо ли, охранялась конституцией. Наполеон никогда не считался с этой конституцией, когда она ему мешала. Нужны были ему налоги вне рамок, разрешаемых конституцией, он их взимал. Боялся он, что война не будет одобрена парламентом, он его не спрашивал о войне. Мешали ему вообще палаты, он их отсрочивал. Гласность становилась для него стеснительной, он делал знак Фуше, и тот обращался с гласностью, как с герцогом Энгиенским. В акте сената, низлагающем Наполеона, имеется на этот счет такой пункт:
«Принимая во внимание, что свобода печати, установленная и освященная в качестве одного из неотъемлемых прав народа, постоянно была подчинена произвольной цензуре его полиции; что в то же время он постоянно пользовался печатью, чтобы наполнять Францию и Европу искаженными фактами, ложными принципами, доктринами, благоприятными деспотизму, оскорблениями иностранных правительств; что акты и доклады, слушавшиеся сенатом, подвергались при опубликовании изменениям»… Тут уже не об анархии дело идет, а о вещах совсем иного порядка. И Наполеон, конечно, очень хорошо это понимал и на Св. Елене. Ибо иначе ему не зачем было бы отводить взоры современников и потомства от кровавых следов деспотизма, от застенков Фуше и Савари, от келейных судов, от лабораторий насилия, и прикрывать незажившие еще раны на теле свободной Франции заявлениями, что он уже совсем собирался стать конституционным правителем и ждал только «успокоения». Разве не поучительны эти заведомо лживые уверения, которым авторы их, будь то великий Наполеон или пигмеи деспотизма, верят меньше, чем кто бы то ни было? И мы отлично знаем, как Наполеон ждал успокоения. Перед походом в Россию весной 1812 г. он беседовал в Дрездене с Меттернихом (Memoirs, т. I, 120), и вот какие мысли сообщал ему о наилучшей форме правления для Франции. «Франция меньше приспособлена для форм представительства, чем многие другие страны. В Трибунате только и занимались, что революцией; поэтому я навел порядок: я распустил его. Я надел намордник (un baillon) на Законодательный корпус. Заставьте замолчать собрание, которое, чтобы играть какую-нибудь роль, должно заниматься обсуждением дел, и вы его дискредитируете. Мне только и остается, что положить в карман ключ от залы заседаний, и с Законодательным корпусом будет кончено. Никто не вспомнит о нем, потому что о нем уже забыли при его существовании. Но я все-таки не хочу абсолютной власти. Я дам новую организацию сенату и государственному совету. Первый заменит верхнюю палату, второй — палату депутатов. Сенаторов по-прежнему я буду назначать всех. Треть членов государственного совета будет выбираться трех степенными выборами, две трети будут назначаться мной. Это будет настоящее представительство, потому что оно все будет состоять из людей опытных. Не будет ни болтунов, ни идеологов, ни поддельной мишуры. Тогда Франция станет страной, которая управляется хорошо даже при ленивом государе; а такие у нее будут; для этого достаточно одного способа их воспитания». Если Наполеон говорил О'Мэаре о таком «конституционном правлении», то, пожалуй, Франция потеряла мало, променяв наполеоновских пчел на бурбонские лилии. Что касается ссылки на то, будто во Франции было больше равенства, чем где бы то ни было, то она, может быть, и справедлива, но при Наполеоне это равенство потеряло всякий смысл, ибо стало равенством порабощения. Сам Беранже, бард Империи, должен был признать это. Он говорит: «Мое полное энтузиазма, постоянное преклонение перед гением императора, мое идолопоклонство никогда не ослепляли меня на счет все возрастающего деспотизма империи». Должно же быть какое-нибудь объяснение всему этому.

Люсьен Бонапарт
Причины, конечно, были, и их нужно искать в нравственной организации Наполеона. Шатобриан (Mem. d'outre tombe, IV, 54) в двух словах дает ключ к объяснению непонятных на первый взгляд действий Наполеона. «Чудовищная гордыня и беспрестанная аффектация, — говорит он, — портили характер Наполеона». И это глубокая правда. Чтобы тешить эту непомерную гордыню, он наступает своим тяжелым сапогом, который тоже несет в себе частицу от революции, на шею легитимнейших монархов Европы. Он срывает с их голов короны и бросает своим маршалам в награду за удачную кавалерийскую атаку, за хорошо выполненную диспозицию. Он заставляет королей дожидаться у себя в приемной, толпиться у подножия своего трона, целовать свою шпору; обращается с ними грубее, чем со своими гренадерами. Ему сладко сознавать, что король прусский и император австрийский дрожат перед ним, боятся, чтобы он не отнял остатки их владений, не выбросил их самих за окно, как какого-нибудь неаполитанского короля. Он чувствует, что его дерзаниям в Европе нет пределов: он расстреливает французского принца без всякого повода, без всякой необходимости, только для того, чтобы показать, что это ему ничего не стоит, что он безнаказанно может совершить самое вопиющее преступление. Он делает главу католического мира чем-то вроде своего капеллана. Он требует в жены австрийскую эрцгерцогиню, и ему не смеют отказать в ее руке; будь он настойчивее, он получил бы руку русской великой княжны. Он дарит сестрам по герцогству на булавки, бездарных братьев сажает на королевские троны. Словом, разыгрывает из себя Провидение на все лады. И сокрушается, что не может заставить народы по-настоящему почитать себя, как Бога. «Я явился слишком поздно, — жалуется он адмиралу Декре. — Нельзя свершить ничего великого. Согласен: карьера моя хороша. Я прошел прекрасный путь. Но какое различие с древностью! Вспомните Александра: когда он завоевал Азию и объявил себя сыном Юпитера, ведь за исключением Олимпии, которая знала, как к этому относиться, да еще Аристотеля и нескольких афинских педантов, ему поверил весь Восток! Ну, а если бы мне пришло в голову объявить себя сыном Предвечного и воздать ему преклонение в качестве такового? Ведь последняя торговка захохочет мне в глаза. Нет! Народы теперь слишком просвещены! Ничего не сделаешь!» Гордыне и аффектации некуда было идти дальше, и они действительно отравляли все, что было благородного в Наполеоне. Альбер Сорель, набросав его характеристику в расцвете его сил, в 1795 г. прибавляет: «Ни сердечные волнения, ни угрызения совести не стесняют в нем государственной точки зрения, единственной руководительницы его действий. Одни страсти, доведенные до экстаза, затемнят ее со временем. Эгоизм, равный гению — такого же размаха и такой же необъятности, ненасытное опьянение боевым хмелем, потребность поглотить все, чтобы над всем господствовать, колоссальное „я“ — неудержимое, деспотичное, беспощадное, — не пронизывают его и не владеют им еще». Все это явилось очень скоро: вместе с императорской мантией и титулом «величество», после Аустерлица и Тильзита. Быть может, самым существенным выводом такого настроения было то, что Наполеон, выкормок революции, отлично понимавший ее социальный смысл[8], сам поднятый волной национального подъема, совершенно исключил народ из своих политических расчетов. Он был так уверен, что время народных движений прошло, раз он стал во главе Франции, что совершенно забыл о существовании народа в других странах. И еще на Св. Елене он называет народ не иначе, как canaille; и хотя Ласказ тщательно отмечает, что это только способ выражения, а не взгляд, но это характерно. И еще больше характерно то, что он так до конца и не понял вполне, что его блистательная карьера потерпела кораблекрушение именно благодаря этой canaille, которую его деспотизм и его гордыня сделали гражданами, по крайней мере, на время: в Испании, в Пруссии, в Тироле, в России. Когда монархи выводили армии старого порядка против его маршалов и его солдат, он их бил одну за другой. Когда же он начал вторгаться в сердце неприятельской страны и попирать самые дорогие чувства народов, народы восстали, армии стали вооруженными народами, как во Франции при Конвенте и Директории. И против этой могучей национальной волны не устоял Наполеон, потому что в его армии уже не было прежнего национального духа. Он полагался только на свой гений, а гений не устоял перед «дланью народной Немезиды».

Пий VII и Наполеон в Фонтенебло (Франка)
Добившись власти, он весь свой гений положил на то, чтобы караулить ее. Не беречь, не охранять, а именно караулить: чтобы ее не отняли у него так же внезапно и неожиданно, как он сам отнял ее у республики. Гений вянет, когда из него делают такое употребление. И, разумеется, из души его очень быстро улетучились лучшие человеческие чувства. Они плохо уживаются под порфирой, особенно под такой, которая непрочно держится на спине ее обладателя. Бурьен рассказывает: «Одним из самых больших несчастий Бонапарта было то, что он не верил в дружбу и не испытывал потребности любить. Сколько раз говорил он мне: „Дружба — это звук пустой; я никого не люблю, даже моих братьев. И я знаю, что у меня нет настоящих друзей. Пока я — то, чем я теперь, друзей по виду у меня будет сколько угодно“». При таком взгляде трудно уважать людей. Наполеон презирал их. Тот же Бурьен записал его изречение: «Два рычага двигают людьми: страх и выгоды». Поэтому он осыпал золотом тех, кто был ему нужен, особенно своих маршалов, и не жалел бичей и скорпионов, если считал кого-нибудь опасным. И мы знаем, к чему это приводило. Купавшийся в богатстве и почестях Бертье, сделанный королем Мюрат, осыпанные всеми благодеяниями Мармон, Ожеро, Макдональд, Виктор все-таки изменили ему. А как они были ему нужны! Сколько раз на Св. Елене он говорил: «Будь у меня при Ватерлоо начальником штаба Бертье, я не проиграл бы сражения!»
«Будь у меня при Ватерлоо Мюрат, чтобы вести кавалерию, я не был бы побежден!» Что же побуждало этих людей быть неблагодарными? То, что они уже не любили его. То, что он считал себя в праве, облагодетельствовав их всячески, быть с ними грубым и резким, третировать их, своих братьев по оружию, своих товарищей, со многими из которых он был прежде на «ты», как прислугу. Он умел оскорблять их как-то особенно больно, задевая самые чувствительные струны. Когда Даву советовал ему под Бородином обойти русскую армию, он грубо оборвал его: «Вечно вы со своими обходами! Ничего другого не умеете посоветовать!» А обстоятельства показали, что герой Ауэрштета подавал ему яблоко с древа познания. Сульт под Ватерлоо предостерегал его, говоря, что Веллингтон — нешуточный противник. «Ну, конечно, — перебил его Наполеон. — Он побил вас раза два, вот вы и боитесь его!» С Ланном он устроил самую настоящую гадость: подбил его на растрату, обещав, в качестве первого консула, дать ордер на нужную сумму. И обманул: ему нужно было добиться, чтоб Ланн перестал говорить ему «ты». А чего только не терпел бедный Дюрок! Это все друзья, люди, без которых он не мог обходиться. С обыкновенными смертными, мужчинами, женщинами, даже детьми, он совсем не стеснялся. Детей он ласкал тем, что размазывал им во время обеда соус от кушаньев по физиономиям. Он мог говорить дамам: «А мне рассказывали, что вы хорошенькая! Какой вздор!» Тут «гордыня» соединялась с отсутствием воспитания и природной, истинно-корсиканской грубостью.
Когда же сюда примешивались эгоистические опасения за собственную судьбу или хотя бы только за свою славу первого полководца, получались факты несколько иного характера. Ревнивая подозрительность Наполеона отняла у Франции шпагу Моро, побудила в 1812 г. оставить дома Массену, гениальнейшего из маршалов империи. И Моро в 1813 году учил союзников, как бить непобедимого, а Массена командовал где-то жалким гарнизоном вместо того, чтобы вести войска к победам, как при Риволи, при Цюрихе, при Ваграме[9]. И даже, когда уже все было кончено для него, на Св. Елене, Наполеон старается умалить таланты своих маршалов, представить их посредственностями, слава которых тонула бы без остатка в лучах его собственной славы.
Так, «гордыня» и «эгоизм, равный гению», порождали мизантропию и пессимизм, порождали политику подозрительности и недоверия. Эта политика, конечно, никогда не достигала тех целей, каких хотел Наполеон. Она только умаляла его фигуру, накладывала на нее какую-то мрачную, зловещую тень и, в конце концов, не уберегла его от Св. Елены.
Наполеон, разумеется, не всегда был один и тот же, как правитель. В первые годы, в эпоху консульства, когда он пробивается, когда он укрепляет свое положение, — он обнаруживает больше интереса к государственным делам, большее понимание государственной и национальной пользы. В десять лет империи, когда он укрепился и когда ему нужно оберегать и упрочивать свое положение, династическая точка зрения все больше и больше заслоняет государственную, пока не поглощает ее совсем. Душевный переворот начинается после того, как ему так цинично изменила Жозефина, — женщина, которую он, действительно, любил; после того, как в брюмерские дни он видел вокруг себя такую вакханалию беспринципности и готовности продать идеалы за чечевичную похлебку; после того, как он убедился, что моральный подъем медовых дней революции сменился в обществе страстью другого рода: страстью к наслаждениям жизни. Если бы судьба не отрезала нить его возрастающего могущества, если бы Наполеон остался на престоле еще несколько лет, тиранства второй империи, быть может, были бы изобретены значительно раньше. Эту постепенную эволюцию нужно все-таки помнить. Наполеон-консул не то, что Наполеон-император. Если бы Наполеон пал под Ульмом или Аустерлицем, когда на челе его горела слава Италии и Египта, Гражданского кодекса и финансовой реформы, образ его остался бы на скрижалях истории чистый и прекрасный, как образ Гоша, Марсо, Дезе. Но между Аустерлицем и Св. Еленой протекло десять лет. В историю прошел не тот чудесный юноша с картины Гро, стройный, с бледным лицом и горящими глазами, который со знаменем в руках, весь — порыв, весь — вера в победу, стремится на врага, а другой: тучный, с тяжелыми веками, с усталым взором исподлобья и нездоровой желтизной одутлого лица, такой утомленный, что ему трудно подняться с кресла, — Наполеон Делароша. Бонапарт эпохи Лоди и Арколе думал о Франции, обнажая шпагу. Наполеон Ваграма и Смоленска, Лейпцига и Монмираля думает только о себе. В душе его распустился махровый цветок эгоизма и задавил собой все: и любовь к Франции и «государственную точку зрения». Оттого он никогда, ни в чем: ни в войнах, ни в законодательстве, ни в управлении, не может остановиться там, где этого требуют интересы Франции и «государственной точки зрения». Он идет дальше, ибо это нужно, или кажется, что нужно, в его личных интересах, — интересах Наполеона Бонапарта и его дома.
Можно сколько угодно рыться в мемуарах, выкапывать оттуда по крупинке мелкие факты, нанизывать их на нить собственного увлечения и пробовать создать из этой операции апологию нравственного образа Наполеона, т. е. делать то, чем занимаются Масон, Леви и другие биографы-панегиристы. Из этого ничего не выйдет. Потому что, когда дело идет о таком человеке, как Наполеон, слишком мало убедить людей, что он обладал целым рядом мелких буржуазных добродетелей, что он любил мать, жену, сестер, не всегда был неблагодарен и проч. Это годится для какого-нибудь Луи-Филиппа. Защищая Наполеона, мы должны доказать одно: что его гений служил только «Франции милой», только ее процветанию, только ее могуществу, а не собственному его честолюбию; что в нем, как в Гоше, в Дезе, в Гарибальди, воин неотделим от патриота. Именно эти положения недоказуемы.

Наполеон, Гёте и Виланд в Эрфурте
Тогда — этот вопрос задается обыкновенно панегиристами — чем объяснить, что до сих пор во Франции существует целый культ Наполеона, складываются наполеоновские легенды, появляются драмы, романы и поэмы о Наполеоне, пишутся картины… Ведь, если Наполеон душил Францию своим деспотизмом и ежегодно бросал на жертвенник своего честолюбия сотни тысяч ее сынов, она должна была бы ненавидеть его в тысячу раз больше, чем его преемников. А она его обожает. Значит, он искупил свои преступления?
Тут перед нами общественно-психологическая загадка. Приходится сказать: да, он искупил. Но необходимо прибавить: преступления, которые искупаются, не перестают быть преступлениями. Чем же он искупил их?
Прежде всего, той славой, которой он окутал Францию, как сверкающим золотым облаком. Наполеоновская легенда начала складываться при реставрации, т. е. в эпоху, когда страна испила до конца горечь унижения. Вторая империя, когда именем Наполеона творились последние гнусности, когда наполеоновская треуголка очутилась на голове проходимца, — явилось некоторое отрезвление. Но с тем большей силой расцвела легенда при третьей республике, после нового удара, отбросившего восточную границу еще дальше от Рейна. Франция, баловень славы, в течение нескольких десятилетий, не выходила из полосы бесславия. Что удивительного, если ее потянуло к тем временам, когда именем ее были полны оба полушария, когда ее орлы летали из Мадрида в Москву и в Гамбург из Каира? Что удивительного, если страна, склонившись перед Вандомской колонной, простирая руки к бронзовой фигуре императора, кричала ему в экстазе: «Возьми нашу свободу, верни нам славу!»
И потом, когда люди под влиянием воскресших восторгов, начинали осматриваться кругом и подводить итоги тому, что осталось у Франции от Наполеона, они с удивлением и с радостью видели, что Франция живет еще творениями императора. Видит это и наука. Административные учреждения империи, в которых дух революции пропитал насквозь и обновил организацию старого порядка, в которых сохранилось все ценное из прежнего, а новое, внесенное революцией дало гарантию прочности — были делом Наполеона. Они до сих пор в общем сохранились в государственном обиходе страны. Конечно, и в управлении, и в полиции, и в школе многое преобразовано, но дух Наполеона еще живет в них. Нечего говорить, что одного Гражданского Кодекса, Code Napoleon, было бы достаточно, чтобы составить славу для законодателя. Потом финансы. Наполеон застал финансовое управление в таком состоянии, что правительство посылало занять денег в кассу оперы, чтоб послать курьера в армию. Наполеон при помощи Герена все привел в порядок. Ни разу при нем, несмотря на огромные военные расходы, не было заключено ни одного займа, никогда бюджет не сводился с дефицитом вплоть до последнего, на 1813 г., который был исполнен без помехи. И когда английский фрегат Northumberland вез императора на Св. Елену, Франция, изнуренная столькими передрягами, была все-таки самой богатой страной мира. Новый общественный строй, новое распределение собственности, созданное революцией, он укрепил так, что Бурбоны, при всей ярости эмигрантов, были не в состоянии предпринять социальную реставрацию. Миллиард, который правительство выколотило из народа и роздало дворянам, ярче, чем что-нибудь, свидетельствует о бессильной злобе людей старого режима. И никто иной, как Наполеон воздвиг вокруг нового социального порядка ту железную решетку, о которую поломали себе зубы Людовик XVIII, граф Артуа, Полиньяки, Виллели и как они еще там называются.

Наполеон посещает раненых
А если бросить взгляд на Европу? И там следы деятельности Наполеона. Италия, объединенная впервые, узнавшая, что можно отделываться и от папы и от чужеземцев, мешающих ей слиться в одно. Германия, сомкнувшаяся, освободившаяся от бесконечно малых имперских территорий, камнем висевших на объединительных стремлениях ее буржуазии. Пруссия, развязавшаяся с самыми тяжелыми сторонами феодализма. Юго-славянские племена, потянувшиеся одно к другому под знаменем иллиризма. Испания, сбросившая с себя ярмо инквизиции и нашедшая путь к конституционному порядку. Южно-американские республики, стряхнувшие ненавистное испанское иго. Наконец, введение Гражданского Кодекса, разрушение феодальных цепей повсюду, где было можно; произведенный континентальной блокадой промышленный подъем. Все это — хорошие титулы на славу и на признательность.
Due secoli,
L'un contro l'altro armato
Sommessi a lui si volsero,
Come aspettando il fato
E fe silenzio ed arbitro
S'assise in mezzo a lor[10]
Разумеется, ни во Франции, ни в Европе Наполеон не мог сделать больше того, что подсказывалось духом времени, что намечалось социальным развитием, что прокладывалось революцией. Его деятельность пошла на пользу буржуазии, тому классу, героем которого он был. Как сын революции, он разрушал всюду феодальный уклад, и расчищал дорогу для победного шествия третьего сословия. И если европейская буржуазия культивирует наполеоновскую легенду всюду без различия национальностей, она воздает этим бессознательную дань признательности человеку, так много сделавшему для нее. Этим отчасти и объясняется, что так легко забыто все остальное. Но тут есть еще одна причина.
Если люди охотно прощают все зло, которое Наполеон-император сделал Франции, то это потому еще, что в катастрофе, к которой он привел страну, один из самых тяжких ударов достался ему самому. У него была своя Голгофа — Св. Елена; у него были свои Иуды без числа, начиная от Талейрана и Бернадота и кончая Мармоном и Ожеро; у него был свой палач, лютый и свирепый, как сорок тысяч палачей испанской инквизиции: Гудсон Лоу. Когда трагическая эпопея последних шести лет жизни Наполеона дошла до Франции в простых, безыскусственных повествованиях Ласказа, О'Мэары и генералов, взрыв негодования, сострадания, самой простой, по человечеству, жалости был таков, что после него не осталось никаких укоров, рассыпались все обвинения, смолкла сама справедливость.
Поэты, глашатаи народных чувств, принесли ему отпущение. Пушкин сказал:
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит…
Гюго повторил:
Les peuples alors, de l'un a l'autre pole,
Oubliant le tyran, s'eprirent du heros…

Ф. Штук. «Посвящается великому артисту Э. Поссарту»
Притом, не просто героем, а героем, которого замучили и заплевали пигмеи. Ему Европа была мала для размаха, а он был брошен, на крошечную скалу, заблудившуюся в океане, да и на ней еще ему начертили пределы движения; когда он подходил к этим пределам, он видел перед собой вызывающую улыбку английского часового, и не было с ним Дюрока и взвода старой гвардии, чтобы разогнать мелькавшие всюду назойливые красные мундиры. Он потрясал миром, играл судьбами народов, из королевских тронов делал какие-то бирюльки, и это утоляло порой его титаническую энергию. Теперь ему предупредительно предлагали для наполнения досугов заняться мемуарами и садоводством. Он любил считать свои дивизии, колеса той живой колесницы, на которой он въезжал триумфатором в столицы Европы; здесь он считал белых чаек, реявших над океаном. Он, кому император Австрии не посмел отказать в руке своей дочери, терпел недостаток во всем и перелицовывал свой старый зеленый мундир. Его, великана, насмерть пронзенного мечом, беспрестанно донимали мелкими булавочными уколами. «Мне нужно было умереть под Ватерлоо», жаловался он близким. «Вы думаете, что английское правительство решило держать меня здесь до смерти?» тревожно спрашивал он у одного англичанина, навестившего его. «Боюсь, что да». — «Тогда я умру скоро». И было грустное спокойствие в ответе… Он ходил в своей гранитной клетке, живой только воспоминаниями, и «пролетавшие орлы его не узнавали». Смерть приближалась…
Un jour enfin il mit sur son lit son epee,
Et se coucha pres d'elle et dit: c'est aujourd'hui.
On jeta le manteau de Marengo sur lui.
Елена для славы Наполеона была как чистилище. Все тяжелое, мрачное, вероломное, все неискреннее и неправое было сброшено там, прилипло к Гудсону Лоу, как замогильное проклятие императора. При Наполеоне остался один его гений, одно величие.
Это — для общества, главным образом, буржуазного. Наука, которая никогда не увлекается и никогда не поддается опьянению, твердо помнит факты. Наука не может забыть некоторых вещей: гнусностей Фуше, виртуозностей деспотизма, «намордников» всякого рода, постоянных нарушений закона, застреленного герцога Энгиенского, изгнанного Моро, отодвинутого Массену, ненужных войн и тысячей тысяч загубленных жизней. Наука отмечает, как важнейший вывод истории Наполеона, что даже он, «муж рока», который осаждал своими фантазиями Провидение, и из своих капризов делал законы для человечества, — даже он при всем своем колоссальном гении, потерпел крушение только потому, что свои личные интересы поставил выше интересов страны, доверившей ему свою судьбу. Ибо власть подточила гений. Наука признает то, в чем он был велик. Но она должна сказать, что трон этого человека с железной поступью, выкованный на пороховом огне, был сложен из человеческих костей, и что среди этой груды были не только кости погибших на войне…
А. Дживелегов

Обед в походе (Гардет)
II. Наполеон, как полководец
Кап. А. А. Рябинина
I.
 ет великого человека без великого события, говорит Сегюр о Наполеоне. Таким великим событием, выдвинувшим на сцену истории нового великого полководца, Наполеона, была французская революция.
ет великого человека без великого события, говорит Сегюр о Наполеоне. Таким великим событием, выдвинувшим на сцену истории нового великого полководца, Наполеона, была французская революция.
Для того, чтобы новой Франции выйти победительницей из борьбы с коалицией старой Европы, от нации потребовалось напряжение всех сил, понадобилось поставить в ряды армии все, что было живо, молодо, весь цвет ее. Открылась «карьера талантам». Справедлива была поговорка, что французский солдат носил в ранце маршальский жезл. Из рядов простых солдат вышли маршалы Даву и Массена и целый ряд талантливых офицеров. Одухотворенная идеей борьбы за родину, «амальгама» вылилась в первую армию в мире.
Командный состав, офицеры и генералы, сливался с низшим во внутренней, идейной стороне жизни армии, сохраняя свое достоинство и авторитет. Полковник Мишель рассказывает в своих записках, как стрелок, раненый под Бородином, на глазах своего начальника дивизии Фриана, обратился к нему: «Генерал, четырнадцать лет я был под вашим начальством — дайте вашу руку, и я умру спокойно».
Против такой армии в коалиции выступали, за исключением русской, армии, вербованные, наемные или только начавшие переход к новой системе народа во оружии, — армии, воспитанные на принципе, что солдат должен бояться более палки капрала, чем пули неприятеля. Они, может быть, первое время превосходили внешней дисциплиной и установившейся организацией, но морально французы стояли неизмеримо выше. Прусский офицер 1805–6 гг. дает такой отзыв: «В бою, в огне французы делаются какими-то сверхестественными существами. Они воодушевлены таким необыкновенным пылом, которого и следа нет среди наших прусских солдат. Прусский солдат не разделяет ни чувств, ни наград своих офицеров». Многие говорят, что Наполеон умел выбирать людей. Вернее было бы сказать, что Наполеон сумел удержать систему и людей для руководства армией. Наполеон не только не имел намерения ломать установившийся порядок, но и противился этому, ценя достоинство этого командного состава, не нарушая естественного хода развития и образования его. Революционные генералы и солдаты стали наполеоновскими, сохранив все свои военные добродетели.
Войны 1792–1796 гг. выдвинули из рядов армии на верхи талантливых генералов и укрепили систему комплектования, организации и довольствия войск. Эти войны были школой для будущей завоевательной наполеоновской армии.
За 1792–1796 гг. Франция выставила для защиты своих границ ряд армий, которые были разбросаны по всем ее границам самостоятельными отрядами. Эти отряды действовали, двигались и сражались врозь. Храбрость, ум и общее уважение выдвинули в голову отрядов способных командиров. Тот мог удержаться на постах начальников высших соединений войск, дивизий, кто умел побеждать. Не имея средств питать армии подвозом и сложной магазинной системой, французы перешли к питанию их местными средствами и от этого только выиграли в подвижности. Войны 1792–1796 гг. воспитали в начальниках дивизий инициативу действовать сообразно обстановке, не боясь ответственности, быстро, решительно, и не полагаясь ни на что другое, кроме своих сил.
Франция отбила удары и почувствовала силу перейти в наступление.

Император (Raffet)
Для борьбы с объединенной Европой нужны были объединенные силы. В период 1792–1796 гг. на границах действовали отдельные самостоятельные дивизии. Это свойственно было этому времени крайнего внутреннего брожения, отрицания авторитетов и оборонительной задаче армии. Операции дивизий, конечно, являются разрозненными усилиями борьбы на всем огромном протяжении границ. Внутреннее брожение из анархии скрепляется в более стройный государственный порядок, и дивизии сводятся в армии в силу общих политических обстоятельств. Этого требовал дух времени. Франция окрепла, перешла в наступление. После благоприятных результатов кампании 1795 года, Карно предложил грандиозный проект — тремя армиями двинуться на Вену, столицу главного врага новой Франции. Эти три армии: первая — Самбро-Маасская, генерала Журдана, вторая — рейнская, генерала Моро, и третья — итальянская, генерала Бонапарта. Журдан должен был двинуться через долину Майна, Моро — через Верхний Дунай и Бонапарт — от Генуи через Альпы, на соединение с Моро.
Штурм Тулона и усмирение заговора 13 вандемьера из капитана Бонапарта сделали генерала и главнокомандующего армии на итальянском театре. Предстоящая война должна была решить, кому из трех главнокомандующих отдать предпочтение на случай, если силы Франции будут нуждаться в объединении. Победоносная кампания так называемой итальянской армии Бонапарта показала, что главнокомандующий ее не случайный выскочка Тулона и 13 вандемьера, а полководец Божьей милостью. Итальянская кампания была для Наполеона экзаменом на сан полководца. 4 дивизии, предводимые отличными генералами, как Лагарп, Массена, Ожеро, Серрюрье, соединяются в армию, и эта армия, под начальством Бонапарта, была тем тараном, которым Франция пробила брешь в охватывающем ее железном кольце враждебной ей коалиции. После итальянской кампании страна и армия ясно увидели пользу концентрации сил, и естественно закрепилась идея Карно, что Франция может поддержать свое величие, собрав разрозненные силы в массы и поставив во главе них талантливейшего из своих генералов, а таковым, и помимо политических переворотов, в силу чисто военных способностей, являлся Бонапарт. К 1800 году, когда совершилось объединение начальствования над всеми вооруженными силами Франции, было живо воспоминание о победах Бонапарта в Италии в 1796–97 гг., и наряду с этим неудача и потеря Италии в 1799 году, в кампанию против Суворова лучшими генералами, как Макдональд и Жубер. Объединение совершилось, и ряд блестящих по замыслу и исполнению кампаний 1800, 1805, 1806–7 и 1809 гг. показали, что превосходный боевой состав французской армии, имея к тому же твердую идейную почву для войн, руководился величайшим полководцем нового времени.
Лучшим качеством полководца Наполеон считает равновесие ума и характера. Это равновесие у самого Наполеона сказывалось как при подготовительной работе операций, в тиши кабинета, так и в самые критические минуты его полководческой деятельности, на поле сражения. Идеи, жизнеспособные и смелые, зарождались в голове полководца, а энергичное проведение их в реальной действительности вело к победе.
Биографы Наполеона отмечают ум его положительным, привычным к строгому расчету и чуждым увлечений. Мы припомним, что еще в Бриенской школе он отличался прилежанием к математическим наукам. Получив широкое развитие, в особенности от чтения в школе и молодым офицером, Наполеон, как южанин, к тому же обладал большой дозой воображения. Такое сочетание холодного расчета с крылатой мыслью дало ту быстроту стратегических комбинаций, неожиданностью которых он поражал своих противников и вызывал удивление современников. И все расчеты были близки к действительности. За несколько дней до отъезда в 1800 году в армию, по свидетельству секретаря, Наполеон изучает карту театра войны, с инженером Мореско проектирует переход через Сен-Бернар, делает отметки на карте: «Здесь отойдет Мелас от Генуи, а здесь произойдет сражение, которое решит участь кампании». Так и произошло в действительности то, что казалось невероятным для посредственных австрийских генералов.
Чтобы проводить свои идеи в жизнь, налицо у Наполеона было развитие характера, главной чертой которого являлась несокрушимая воля. Невозможное для посредственностей становилось возможным у Наполеона, как, например, поход к пирамидам, переход с армией Сен-Бернара, переход с боем Дуная у Лобау. Упорное проведение раз принятого решения приводило к достижению того, что казалось уже потерянным (Арколе, Ваграм). Ум Наполеона, до самого заката его полководческой деятельности, поражает свежестью творчества, в характере же произошел заметный перелом, который относится приблизительно ко времени, следующему за окончанием войны 1809 года.

Наполеон (Вернэ)
1796–1809 годы — расцвет физических и духовных сил Наполеона, и этот период характеризуется удивительной физической энергией и силой творчества в создании планов кампаний и сражений. В самые критические минуты операций, когда счастье, казалось, отвернулось, новая идея, энергично выполненная, приводила дело к счастливой развязке. 40 верст на коне в день, бивачная суровая жизнь первого солдата армии, короткий подкрепляющий сон и неутомимая энергия в руководстве на поле сражения были обычной картиной деятельности полководца. После Аустерлица сам Наполеон говорил: «Выигрыш и успех ограничен. Для успеха в военном деле есть свое время; я буду пригоден еще лет шесть, после чего я сам должен остановиться». После отступления от Москвы во французской армии вспоминали эти слова Наполеона. И фатально для себя и Франции он не «остановился». Во вторую половину деятельности, как, например, в 1812–1813 гг., он часто совещается с окружающими. Сам Наполеон впоследствии, на острове Св. Елены, сознается: «Странным, пожалуй, покажется обстоятельство, но, тем не менее, оно совершенно верно, что все мои ошибки сделаны под влиянием утомления, вызванного надоедливыми требованиями окружавших меня лиц. Таким образом, вследствие уступки советам маршалов, я погубил армию во время отступления из России. Я хотел двинуться из Москвы в Петербург, или же вернуться по юго-западному пути; я никогда не думал выбирать для этой цели дороги на Смоленск и Вильну».
В 1813 году, по словам мемуаров маршала Мармона, Наполеон сидит в своей комнате, куда вносят его кровать и карты. Только Дрезденская операция проводится с былой энергией. В 1815 году под Ватерлоо мы видим апатичного полководца, совсем не похожего на Бонапарта кампаний 1796–1800 и Наполеона 1805–1809 гг.
Была ли, как иногда выражаются, «наполеоновская» стратегия и тактика? Вернее, называть «стратегия и тактика в эпоху Наполеона», потому что было применение общих неизменных принципов вождения войск, приноровленное к обстановке времени и места. Сам Наполеон говорит: «Должно вести войну так, как вели ее Александр, Ганнибал, Цезарь, Густав-Адольф, Тюрен, принц Евгений Савойский и Фридрих Великий. Читайте, изучайте их походы и старайтесь образовать себя по этим высоким примерам — вот единственное средство сделаться великим полководцем и проникнуть в тайны военного искусства».
Рассматривая походы семи великих полководцев, Наполеон делает выводы, указывает общие неизменные принципы военного искусства:
1) полководцы действовали, имея силы сосредоточенными;2) устремлялись на важнейшие пункты;3) пользовались всеми моральными и политическими средствами;4) вели войну методически, т. е. сообразно со средствами и обстоятельствами.
Эти черты свойственны стратегии на театре войны и тактике на поле сражения полководчества самого Наполеона. Он следовал правилу римлян, говоривших, что нельзя вести две войны за раз. И при необходимости вести войну на нескольких театрах одновременно, на одном из них он стремился сосредоточить превосходные силы. Победа на этом театре, главном по значению, решала участь всей кампании.
В 1800 году мы видим первого консула Бонапарта во главе всех сил в первый раз. К началу кампании армия Моро находилась на германском театре, а Массены — у Генуи на итальянском. Наполеон перебрасывает в Италию третью, резервную, армию и одним большим сражением у Маренго решает участь войны. В 1805 году на второстепенном по значению, итальянском театре войны против 100-тысячной армии эрц-герцога Карла Наполеон оставляет Массену с 50 тысячами, а сам с превосходными силами наносит поражение коалиции на германском театре.

Наполеон и гвардия (Е. Крофтса)
Основная идея всякого плана кампаний у Наполеона выражалась в его словах: «Je ne desire rien tant qu'une grande bataille». Он желал только одного большого сражения, которое бы решило сразу участь войны. Объектом действия своей армии он всегда ставил живую силу противника, армию, не придавая значения крепостям, укрепленным линиям и географическим рубежам. Господствовавшая в Западной Европе в XVIII веке система позиционной войны была чужда его смелой по размаху стратегии. 16 сражений отдали в его руки 153 крепости. А в итальянскую кампанию он прямо бросает осаду Мантуи и даже свой осадный парк и устремляется на полевую армию австрийцев. Но в 1813 году, во вторую половину своей деятельности, он как-будто забывает иногда свои правила стратегии полевой войны и рассыпает значительную часть сил по германским крепостям: теряет их там для главных операций в поле.

Наполеон на бивуаке при Аустерлице
План кампании у него был только до первого большого сражения, а если война затягивалась, то новое решение принималось Наполеоном согласно новой обстановке. Обезопасив свою операционную линию, он часто неожиданным смелым маневром появлялся на сообщениях противника и наносил удар в наивыгоднейшем направлении (Маренго, Ульм). Быстрое наступление заканчивалось развертыванием превосходных сил на решительном пункте. Часто будучи слабее на театре войны, Наполеон оказывался сильнее на поле сражения. Вся кампания 1796–97 гг. подтверждает это умение с меньшими силами на театре войны быть сильным в пункте удара. Начинающий полководец, генерал Бонапарт с 30-тыс. армией противопоставлен в начале войны 80 тысячам союзников (австрийцев и пьемонтцев). Ловким маневром он разъединяет их при Монтенотте, бьет по очереди при Дего и Миллезимо и в 4 дня переходит Альпы. При Мондови оканчивает разгром, а у Лоди пробивается через Адду и выходит в долину По. Формируется новая австрийская армия в 80 тыс., и, вместо Болье, становится во главе ее Вурмзер, который двумя корпусами готов раздавить 45 тысяч Бонапарта. Последний бросает осаду Мантуи, выделяет против австрийских корпусов дивизии Массены и Ожеро. Сам с резервом бросается на помощь сначала к Массене, потом к Ожеро и окончательно разбивает Вурмзера, собрав свои силы у Кастильоне. После этого погрома австрийцы снова выставляют 80 тыс. под начальством Альвинци. Под Вероной эта масса должна была разбить Бонапарта. Он отступает через западные ворота, но неожиданно поворачивает назад к Ронко, переходит Адду и атакует неприятеля в таком месте, где движение возможно лишь по дорогам среди болот, где численность войск ровно ничего не значит, потому что негде развернуться, где моральные качества войск все — и у деревни Арколе, при этих условиях, разбивает Альвинци, после чего возвращается в Верону победителем, только уже в восточные ворота. Снова собирается разбитая австрийская армия, усиливается до 90 тыс. человек и переходит через горы шестью колоннами, но прежде, чем эти колонны успели соединиться по выходе из гор, они были разбиты у Риволи Бонапартом. Не даром сам Наполеон признавал итальянскую кампанию лучшей по исполнению из веденных им, но эти черты свойственны были и другим его кампаниям, в особенности 1800–1809 годов, т. е. первой, лучшей половины его полководческой деятельности и отчасти кампании 1814 года. «На поле сражения нет лишнего батальона и эскадрона», говорил он и находил удачное применение каждому батальону и эскадрону. По словам Наполеона, генералы, сберегающие свои войска ко дню, следующему за сражением, обыкновенно бывают биты. Но сам он, на закате своей деятельности, невольно следует этому: под Бородином в критическую минуту он не решается бросить в дело гвардию и тем приводит сражение к сомнительному успеху, при Линьи в 1815 году неразбитый, благодаря этому, окончательно Блюхер потом может двинуться к Ватерлоо на помощь Веллингтону. В войны 1796–1809 гг. большие сражения, под руководством Наполеона, заключались сначала в одновременном развертывании корпусов и затем решительной атаке всеми силами (le coup de collier), завершавшейся энергичным преследованием.
Разбитые в итальянскую кампанию, австрийские генералы оправдывались тем, что Бонапарт игнорирует самые элементарные принципы военного искусства. В действительности, под «принципами» они подразумевали тяжелый балласт из шаблона и рутины одряхлевшей системы вербованных армий XVIII столетия с линейной тактикой, малоподвижной магазинной системой, позиционной войной на географических рубежах, подавленной инициативой и палкой капрала. Конечно, Бонапарт был чужд такого «искусства», как чужды были его и другие французские генералы и сами войска. В стратегии и тактике, под энергичным руководством Наполеона, французская армия попирает устаревшие шаблоны и является победительницей на полях сражений.

Наполеон перед битвой (де-Буалеконда)
В революционные войны 1792–1797 гг. французские отдельные армии жили на средства страны; при Наполеоне, когда отдельные армии для нанесения удара массой собирались вместе, сохранился прежний принцип «врозь двигаться» (чтобы жить) и прибавился новый «вместе бить» (чтобы победить концентрацией сил). Вместо дивизий высшим тактическим соединением стали корпуса, каждый из 2 до 5 дивизий. Кавалерия, кроме корпусной, собирается в большие массы, корпуса и дивизии, и получает вполне самостоятельное значение. Она не только производит широкую разведку на театре войны, освещает театр войны и ориентирует полководца в обстановке, прикрывает и скрывает от глаз противника непроницаемой завесой маневрирование своей армии, в минуты кризиса боя она лихой атакой довершает удар пехоты и после боя преследует противника до полного изнеможения его. Во главе этих конных масс становятся генералы с искрой предприимчивости и отчаянной храбрости, необходимых хорошему кавалерийскому начальнику; такими были Мюрат, Лассаль, Бессьер, Нансути, Монбрен.
Корпуса армии получают большую самостоятельность. Тактика маневра играет большую роль. Полководец не может непосредственно руководить каждым движением их. Наполеон давал общую идею операции, указывал цель действий. Корпусной командир имел большую самостоятельность выбирать средства для исполнения и решать частные задачи в развитие общей идеи. Вся операция приобретает при этих условиях большую подвижность, стройность и гармоничность. Для командования такими самостоятельными корпусами Наполеон, с самого начала своей полководческой деятельности, получил готовый контингент генералов, как Массена, Даву, Макдональд, Бернадот, Ланн, Сульт, Ней, Виктор, Сен-Сир, Вандам. Достаточно изучить любую из кампаний Наполеона, чтобы убедиться, что успех мог быть достигнут именно с таким командным составом, полным инициативы и других военных добродетелей, даже при наличности некоторых недостатков иного свойства. При жалобе на Вандама Наполеон ответил: «Если бы у меня был другой Вандам, то я повесил бы первого за это». У Наполеона в 1813 году вырвалась при неудаче фраза, что маршалы могут воевать только на больших дорогах, т. е. будучи достаточно ориентированы свыше. Но при беспристрастном изучении всего цикла войн можно усомниться в справедливости этой фразы.
При этих условиях управление армией сводилось к отдаче приказаний, указывающих цель действий, не вдаваясь в определения средств исполнения. Позднее, император писал письма-наставления маршалам, командовавшим большими массами. Это — та же система, которая получила позднее наименование управления посредством директив. Судьба дала Наполеону идеального начальника штаба в лице Бертье. Сын ученого географа, Бертье, еще в кабинете отца привык к работе с картой. После Ватерлоо не даром император говорил: «Если бы у меня был Бертье, я не был бы разбит». Да и среди более молодого состава были образованные офицеры, как Жомини (начальник штаба Нея), Воданкур и другие. В кампанию 1805 года союзники разбросали свои армии по Германии и Италии. Наполеон с 7 корпусами переходит Рейн. Корпуса Бернадота, Мармона и Даву, обходя правый фланг армии Мака под Ульмом, отрезали ее от Вены. Корпуса Сульта, Ланна и Мюрата, идя на Донауверт, разъединяют Мака от других австрийских армий. Мак растерялся, повернув фронт к Вене, имея за собой Дунай. Попытка отступить парализуется дивизией Дюпона, отрезавшей ему последний путь. И Мак сдается на капитуляцию. Мармон у Граца разбивает эрцгерцога Иоанна, Ожеро в Тироле разбивает Иелачича, а Даву у Пресбурга отрезает одну от другой две австрийские армии, итальянскую и моравскую. Под Аустерлицем сосредоточились армии союзников. Наполеоновская армия вся стремится к полю сражения. Наполеон дает новую задачу корпусам, и армия союзников расколота на три части атакой Сульта, Ланна и Бернадота, а Даву, до тех пор защищавшийся на правом фланге, перейдя в наступление, довершает разгром. От Ульма до Аустерлица кампания разыграна в полной гармонии идейного творчества полководца с частными задачами подчиненных генералов. То же мы видим в начале кампании 1809 года. Французские корпуса на верхнем Дунае застигнуты почти врасплох наступающей австрийской армией, врезавшейся всей громадой в их расположение между Регенсбургом и Донаувертом. Но еще австрийские генералы не успели ориентироваться в создавшейся благоприятно для них обстановке, как разбросанные на 120 верст французские корпуса, еще до прибытия Наполеона, стали сжимать свои железные клещи, и через 5 дней, расколотая на куски, разбитая австрийская армия, не привыкшая к маневру на таком огромном поле сражения, отступила к Вене.
Войны 1792–1796 гг., с самостоятельными небольшими армиями на границах, приучили французских маршалов водить войско, а гений великого полководца связывал в стройную массу отдельные корпуса. Способ управления войск Наполеоном явился прототипом для нынешних новейших войн.
Признавая огромное значение морального начала, Наполеон широко пользовался политическими обстоятельствами, чтобы придать войне идейный характер. Совмещая в своем лице императора и полководца, он стремился вести политику рука об руку со стратегией, чем всегда превосходил своих противников, имевших гофкригсраты и т. п. мертвящие начала стратегии. Влияние Наполеона на массы было огромно. Он был кумиром своих войск, которые он водил к беспрерывным победам. Его появление перед войсками поднимало дух. Достаточно вспомнить вечер перед Аустерлицем, когда Наполеон вышел из своей палатки в лагерь и семь корпусов его армии разразились неудержимой овацией своему полководцу. Союзники с удивлением увидели море факелов и услышали восторженный крик десятков тысяч солдат, — а на утро удивленные зрители уже были разбиты. Или даже в минуту своего падения, когда на прощании в Фонтенебло все солдаты старой гвардии, совершавшие 20 лет походы с Наполеоном, выразили желание следовать за ним в изгнание!
Наполеон действовал на воображение противника неожиданностью своих действий, захватом инициативы в свои руки, господством над волей противника. Не считаясь с тем, что хочет противник, он отдавал ясно отчет, что он сам хочет.

Наполеон при Маренго (Лами)
С поразительной быстротой создавались планы кампании и так же приводились в исполнение. В 1800 году весной первый консул принимает решение с резервной армией идти на помощь Массене, выйдя сразу на сообщения Меласа через Альпы. Через несколько дней все уже готово к походу. 6 мая Бонапарт оставляет Париж, 22 мая его авангард (Ланн) уже в Италии, 2 июня первый консул уже вступает в Турин, 16 июня разбивает при Маренго смущенного, совершенно потерявшегося Меласа.
В 1805 году Наполеон, считая Англию главным противником, создал план десанта на нее и у Булони для посадки собрал 147 тыс. На 13 августа он получает известие, что французская эскадра заперта Нельсоном в Кадиксе. Наполеон понял, что план десанта рушился, и через час он уже диктует главному интенданту армии, Дарю, новый план: армия из Булони перебрасывается на Рейн, меняет фронт к Дунаю, имея первой целью разгром австрийской армии, расположенной под Ульмом. 27 августа корпуса получили приказание, 29-го двинулись. Союзники считали французов за 500 верст, когда последние были уже на Рейне, и сдача Мака явилась естественным следствием этой стратегии глазомера, быстроты и натиска.
В 1806 году Наполеон говорит про прусаков: «Пока они совещаются, французская армия двигается». Прусский главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, двигается с армией с целью отрезать французские корпуса от Франции и не замечает, что он сам уже отрезан от Берлина. Его две армии гибнут одновременно: одна разбита у Иены самим Наполеоном, другая уничтожена Даву под Ауэрштедтом. Наполеон не создавал «своей» тактики. Новая французская армия выработала ко времени выступления его во главе армии свои приемы, вытекающие из свойств самой армии и духа времени.

Конец мира: «для основания великой империи, уничтожим всех людей» (совр. карик.)
Сегюр об армии 1796 года писал: «Манера сражаться у них была особенная. При встрече с неприятелем стрелки отделялись от батальонов, рассыпались и завязывали бой. Батальоны с криком стремились вперед, бросались на неприятеля и опрокидывали его неожиданной яростной атакой. Если случалось, что неприятель оставался твердым и отбивал первый приступ, тогда кто-нибудь из офицеров или генералов схватывал знамя и вел на приступ солдат[11]. Тогда снова начиналась атака и успех был полный». Даву под Ауэрштедтом обратился к своим полкам: «Великий Фридрих говорил, что только „большие“ батальоны решали победу; он говорил неправду — это могут сделать самые упрямые и стойкие». Эти настойчивые атаки воодушевленных масс были характерной чертой французской пехоты. Кавалерия соперничала в отваге. Артиллерия всегда была с ними и, в случае надобности, на поле сражения массировалась в большие батареи (Ваграм, Фридланд, Бородино). Наполеон, как артиллерист по началу карьеры, умел применять ее капитаном под Тулоном и императором-полководцем под Ваграмом и Бородином.
Кампания 1812 года, с последующим отступлением от Москвы до Парижа, отличается от кампаний первой половины полководческой деятельности Наполеона 1796–1809 годов. Честолюбие императора не шло в руку с холодным расчетом полководца. В 1805 г. Наполеон говорил, что в Европе возможны теперь лишь войны гражданские, войны народов, а не правительств. Война 1812 года для французской армии являлась далеко не такой, с идейной, стороны, как войны 1796–1809 гг.
Испания должна была служить для Наполеона достаточным предостережением. В узко-военном смысле это не была война наверняка, а война va banque.

Наполеон. Лицо составлено из трупов жертв «безумия и честолюбия» Наполеона. Немецкая карикатура. О ней упоминает в своих записках Шишков.
Египетская экспедиция 1799 г. и кампания 1812 г. имеют общие черты: Средиземное море, в случае победы британского флота, отрезало французскую армию от отечества, своей естественной базы действий; в 1812 году в тылу была глухо волнующаяся Германия и каждое собственное поражение ставило французскую армию в такое же, если не хуже, критическое положение. Между Парижем и Москвой было море земли. В Египте и в России предстояла борьба с природой. Заметим, что нынешние условия состояния техники, пожирающей пространство, не были еще к услугам Наполеона. А в далеком тылу 100 тысяч превосходных войск, с хорошими генералами, как Сульт, Сюше, Мармон, были оторваны на бесплодную борьбу в Испании за престол брата, Иосифа.
После Аустерлица Наполеон говорил императору Францу: «Одна только Россия в Европе может вести войны, когда ей это вздумается. Побежденная, она удалится в свои степи, а вы поплатитесь своими провинциями». Для Наполеона ясно было, что природа страны позволяет применять России, при нужде, «скифскую» стратегию, и французской армии не избежать длительной борьбы с неуловимой на огромном пространстве сильной армией и суровой природой.
Из прежних войн видно, что план Наполеона мог быть один: одно большое сражение и почетный мир. Но, начав войну, Наполеон сам делает ряд ошибок, не свойственных его прежней системе вождения войск — с быстротой и натиском: не дойдя до Москвы, останавливается под Витебском, не решается пустить в дело гвардию под Бородином и задерживается до морозов в Москве. А ведь против него, он знал это, была армия, которая в 1799 году прошла победоносной по Италии, стерев следы его побед, в 1805 году оказалась такой стойкой под Шенграбеном и Аустерлицем, в 1807 году, только благодаря бездарности Беннигсена, не использовала успеха при Прейсиш-Эйлау, армия не вербованная, а национальная, пополняемая рекрутскими наборами от одного народа, с хорошим командным составом.
Но уже и сам Наполеон был не тот, каким знает его история за первую половину деятельности, как полководца…
А. Рябинин
III. Военные силы Наполеона

Наполеон, окруженный подчиненными князьями (соврем. литография)
1. Состав «великой армии»
Прив.-доц. В. А. Бутенко
 есмотря на дружественный союз, заключенный Наполеоном и Александром I в Тильзите, непрочность франко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при свидании обоих императоров в Эрфурте (1808 г.) обнаружились очень серьезные трения, а двусмысленное поведение России во время войны 1809 г. с Австрией, пожелавшей энергично помогать своему настоящему союзнику против союзника будущего, окончательно убедило Наполеона в неизбежности новой войны с Россией. И уже с начала 1810 года он принимается с ему одному свойственной энергией за подготовку будущей кампании. Для завоевания Испании и Португалии в 1808–1809 гг. Наполеон должен был туда двинуть большую половину своей «великой армии», с которой он совершал знаменитые походы 1805–1807 гг. Кампанию 1809 г. против Австрии совершала остальная часть великой армии, остававшаяся в Германии и дополненная новыми наборами и контингентами союзников. Эта-то армия, сражавшаяся при Эсслинге и Ваграме, и послужила зерном, из которого Наполеон стал сооружать для похода в Россию новую «великую» армию, еще более многочисленную, чем все прежние. В Испании в 1810–1812 гг. находилось более 300.000 французских солдат. Но затянувшаяся война на Пиренейском полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть этого войска в Германию, и ему для увеличения своих военных сил пришлось прибегнуть к новым наборам.
есмотря на дружественный союз, заключенный Наполеоном и Александром I в Тильзите, непрочность франко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при свидании обоих императоров в Эрфурте (1808 г.) обнаружились очень серьезные трения, а двусмысленное поведение России во время войны 1809 г. с Австрией, пожелавшей энергично помогать своему настоящему союзнику против союзника будущего, окончательно убедило Наполеона в неизбежности новой войны с Россией. И уже с начала 1810 года он принимается с ему одному свойственной энергией за подготовку будущей кампании. Для завоевания Испании и Португалии в 1808–1809 гг. Наполеон должен был туда двинуть большую половину своей «великой армии», с которой он совершал знаменитые походы 1805–1807 гг. Кампанию 1809 г. против Австрии совершала остальная часть великой армии, остававшаяся в Германии и дополненная новыми наборами и контингентами союзников. Эта-то армия, сражавшаяся при Эсслинге и Ваграме, и послужила зерном, из которого Наполеон стал сооружать для похода в Россию новую «великую» армию, еще более многочисленную, чем все прежние. В Испании в 1810–1812 гг. находилось более 300.000 французских солдат. Но затянувшаяся война на Пиренейском полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть этого войска в Германию, и ему для увеличения своих военных сил пришлось прибегнуть к новым наборам.

Французские войска при Наполеоне
Сначала к оружию были призваны один за другим классы новобранцев 1810 и 1811 годов. Затем суровыми мерами, принятыми против уклоняющихся от службы, удалось набрать еще до 50.000 рекрутов. В самом конце 1811 года был призван к оружию класс 1812 года, давший около 120.000 человек, немедленно почти целиком посланных в Германию для укомплектования рядов стоявшей там армии. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа к армии, Наполеон заручился, на случай крайней необходимости, согласием Сената на призыв к оружию национальной гвардии, который обещал ему поставить под ружье еще 180.000 человек.

Французские войска при Наполеоне
Но мало было произвести эти наборы. Надо было распределить новобранцев по существующим корпусам армии, вооружить их, снабдить всем необходимым, подготовить соответственное количество военных запасов и провианта и т. д. Главная роль в исполнении этой гигантской работы естественно падала на два министерства, специально для этого существовавшие, — военное (ministere de la guerre), заведовавшее личным составом армии и ее военными операциями (генерал Кларк), и министерство военного управления (ministere de l'administration de la guerre), заведовавшее рекрутскими наборами и интендантской частью (генерал Лакюэ). Но оба министра, как и все высшие чиновники, работали под непосредственным руководством самого императора, который являлся душой всего дела, все помнил, всех поражал своей неутомимостью и вниманием. Вот, например, как описывает одну из сцен этой подготовительной работы, главный интендант великой армии, генерал Дюма:
«Однажды я принес императору по его требованию общую таблицу состава армии. Он быстро ее пробежал и затем стал диктовать мне распределение новобранцев по всем корпусам армии, обозначенным на моей таблице, называя при этом численность каждого корпуса и его местоположение и ни разу даже не заикнувшись. Он ходил большими шагами или стоял у одного из окон своего кабинета. Диктовал он с такой быстротой, что у меня едва хватало времени ставить разборчивые цифры и обозначать сокращенно примечания, которые он делал. В течение получаса я не мог поднять глаз над листками, на которых я торопливо писал. Я был уверен, что он держит пред собой принесенную мной таблицу. Когда он, наконец, остановился на мгновение, и я получил возможность взглянуть на него, он засмеялся над моим удивлением. „Вы думали, — сказал он мне, — что я читал вашу таблицу. Мне она не нужна. Я и так знаю все это. Ну, будем продолжать!“»

Наполеон организует баварские и вюртембергские полки в Абенсберге 20 апреля 1809 г. (рис. Debret)
К началу 1812 г. отношения с Россией сделались крайне натянутыми, и чувствовалась близость войны. К этому времени в основных чертах была закончена организация великой армии и отданы последние приказы, чтобы, как личный состав, так и материальная часть были готовы к 1 марта 1812 года. Сформированные войска временно делились на 4 корпуса. Первые три корпуса были расположены в Германии. Наиболее силен был 1-й корпус, находившийся под командой маршала Даву, имевшего своей главной квартирой Гамбург. Его численность достигала 120.000 человек. Это было войско, прекрасно дисциплинированное и обученное. В нем было много старых солдат, и не было ни одного унтер-офицера, который бы не побывал хотя в одной кампании. Новобранцы при распределении были так искусно перемешаны с ветеранами, что ни в одной роте не составляли больше ее половины. Все солдаты были отлично вооружены, одеты и обуты и несли с собой съестных припасов на 25 дней. Сделаны были необходимые запасы одежды и обуви. В каждой роте были свои каменщики, пекари, портные, сапожники, оружейники и т. д. Предусмотрительность Даву доходила до того, что полкам были розданы даже ручные мельницы, так как в Польше и России мельниц, по собранным сведениям, было слишком мало. 2-й корпус, расположенный в Вестфалии и Голландии и достигавший 35.000 человек, был под командой маршала Удино. 3-й корпус, почти такой же численности (40.000 ч.), под командой маршала Нея, стоял на среднем Рейне. Оба эти корпуса сильно уступали по своим качествам корпусу Даву. Сформированные преимущественно из новобранцев, они были гораздо менее дисциплинированы и снабжены всем необходимым далеко не в достаточной степени. Наконец 4-й корпус (45.000 чел.), под командой вице-короля Италии принца Евгения Богарне, стоял в верхней части Италии, готовый по первому знаку перейти Тирольские Альпы и двинуться через долину Дуная по направлению к русской границе.

Портрет сержанта (Мейссонье)
Все государства, союзные с Францией или находившиеся от нее в вассальной зависимости, призваны были Наполеоном выставить со своей стороны контингенты, которые они обязаны были предоставлять в его распоряжение согласно союзным договорам. Таким образом, к французской армии должны были присоединиться польская армия великого герцогства Варшавского (около 35.000 человек), армии, которые обязаны были выставить своему «протектору» немецкие государи Рейнского союза (до 100.000 человек), отдельные отряды из тех частей Италии, которые не входили прямо в состав французской империи, и, наконец, небольшие отряды из Испании и Португалии.
Пруссия, очутившаяся между двух огней после того, как близкое столкновение России и Франции сделалось неминуемым, охотнее стала бы на сторону России. К этому ее влекла и общая ненависть немцев к французскому игу и личная дружба обоих монархов — Александра I и Фридриха-Вильгельма III. Но воспоминания о страшном разгроме 1806–1807 годов были слишком свежи для того, чтобы нерешительный Фридрих-Вильгельм III взял на себя смелость новой войны с непобедимой Францией. Поэтому прусское правительство, после недолгих колебаний, решило примкнуть к Франции и предложило Наполеону выставить 100.000-ную армию, если он согласится освободить хоть одну из прусских крепостей на Одере от французского гарнизона и уменьшить военную контрибуцию 1807 года. Но Наполеон отнюдь не желал увеличивать военную силу Пруссии и заявил, что ему совершенно достаточно 20.000 человек. Соответственный договор был подписан 24 февраля 1812 года.
Во главе прусского отряда был поставлен генерал Йорк, поступивший под верховное начальство французского маршала Макдональда. 16 марта Наполеон заключил аналогичный договор с Австрией, которая дважды в 1811 г. отклонила русские предложения. По этому договору Австрия выставляла отряд в 30.000 человек, которые должны были составить отдельный корпус в армии Наполеона под начальством бывшего австрийского посланника в Париже князя Шварценберга.
Наполеон рассчитывал начать войну в апреле 1812 года, но голод во Франции и вспыхнувшие по этому поводу кое-где волнения и беспорядки заставили его отсрочить начало кампании на 2 месяца. Он утешался тем, что за это время в России взойдут посевы на полях, и что, следовательно, лошадям его кавалерии будет обеспечен корм. 9 мая он, наконец, покинул Париж. Остановившись на несколько дней в Дрездене, куда съехались все государи Западной Европы приветствовать своего повелителя, и где повторились сцены эрфуртских торжеств и празднеств, он отсюда двинулся в Польшу и в конце мая стал во главе тех громадных сил, которые он собрал у русской границы для вторжения в Россию. Такой многочисленной армии до сих пор мир не видывал. К 1 июня 1812 г. она была окончательно сформирована и представляла следующую организацию.

Депеша (Мейссонье)
Главнокомандующим, конечно, был сам Наполеон, имея при себе в качестве начальника главного штаба обычного своего сотрудника — маршала Бертье. Самую блестящую часть всей армии составляла императорская гвардия (46.000 чел.), находившаяся под командой маршалов Мортье, Лефевра и Бессьера. Собственно армия была разделена на 11 корпусов. 1-й корпус (72.000 чел.), под начальством маршала Даву, состоял почти исключительно из французов. 2-й корпус (маршал Удино) на 37.000 солдат имел около 2/3 французов, остальную часть составляли швейцарцы, кроаты и поляки. В 3-м корпусе (39.000 чел.), под командой маршала Нея, почти половину составляли вюртембергцы, иллирийцы и португальцы, 4-й корпус (принц Евгений Богарне) на 46.000 человек имел больше трети иностранцев: итальянцев, испанцев, далматинцев и кроатов. 5-й корпус (князь Понятовский) составила польская армия великого герцогства Варшавского (37.000 чел.), 6-й, под командой генерала Гувион-Сен-Сира, состоял из вспомогательного баварского отряда (25.000 чел.), 7-й под командой генерала Ренье — из саксонского отряда (17.000 чел.), 8-й (генерал Вандам) — из отряда королевства Вестфалии (17.500 чел.), 9-й корпус (маршал Виктор) составился из французов (около трети) и отрядов мелких немецких государств (33.500 чел.), 10-й корпус (маршал Макдональд) образовался из прусского вспомогательного отряда и нескольких польских, баварских и вестфальских полков (32.500 чел.), 11-й корпус (маршал Ожеро) вмещал в себе, главным образом, французские полки (¾); остальное составляли немцы и итальянцы (60.000 чел.). Наконец австрийский вспомогательный отряд (34.000 чел.), согласно договору с Австрией, составлял еще один отдельный самостоятельный корпус. Кроме кавалерийских отрядов, составлявших часть каждого корпуса, был образован большой кавалерийский резерв в 40.000 человек, под командой короля неаполитанского Иоахима Мюрата. Французы составляли в нем около 2/3 его общего состава. 9-й и 11-й корпуса должны были составить запасную армию и с этой целью были оставлены в Пруссии и Польше. Такой резерв, несомненно, был слишком ничтожен для громадной армии, но Наполеон не мог оставить больших сил. Остальная масса должна была перейти границу и начать наступление. В момент перехода через Неман ее численность достигала: 368.000 человек пехоты, 80.600 кавалерии, в общем 449.000 чел. и 1.146 орудий. Но несмотря на эту громадную цифру, скоро после вступления в Россию обнаруживалась недостаточность этих сил, и Наполеон потребовал ряд подкреплений из запасных отрядов. В течение похода поэтому к армии присоединилось еще 123.500 человек пехоты, 17.700 кавалерии и 96 орудий, а также отряд, посланный для осады Риги в 21.500 чел. при 130 осадных орудиях. Таким образом боевая сила «великой армии» достигала неслыханных прежде размеров: 612.000 человек и 1.372 орудия. При этом за армией шло около 25.000 человек чиновников, прислуги и т. д. По национальностям войско распределялось так. Около половины его (300.000 человек) составляли французы и жители вновь присоединенных к Франции стран, немцев из Австрии, Пруссии и государств Рейнского союза было 190.000 человек, поляков и литовцев — 90.000 человек и, наконец, 32.000 итальянцев, иллирийцев, испанцев и португальцев.
Наполеон старался все предусмотреть и предвидеть. Для нужд армии необходимо было громадное количество лошадей. Поэтому с самого начала 1812 г. велись деятельные закупки. Так как запас лошадей во Франции был в значительной степени истощен, то главным центром покупки сделалась Германия, где в Ганновере для этой цели была открыта даже особая канцелярия. К моменту начала похода в армии оказалось поэтому до 200.000 лошадей. Так как в северной Германии чувствовалось заметное брожение, то, опасаясь восстания, Наполеон особенно заботился об укреплении важнейших крепостей. Главное внимание его привлекал прежде всего Данциг, эта «защита Рейнского союза и оплот великого герцогства Варшавского», как он сам его называл. Его укрепления были улучшены, гарнизон доведен до 20.000 человек. Крепость располагала 475 орудиями, громадным количеством военных запасов и количеством провианта, рассчитанным на 15.000 человек и 1.000 лошадей в течение года. Кроме того, в нем были устроены литейные и пороховые заводы и всевозможных родов мастерские, какие только могли понадобиться для нужд армии. Сзади Данцига на лини реки Одера наиболее важными крепостями являлись Штеттин, Кюстрин и Глогау. Были сделаны распоряжения об улучшении их укреплений и о свозе в них достаточного количества съестных припасов. Наконец такие же меры были приняты относительно польских крепостей — Модлина и Замостья.

Кавалерия наполеоновской армии после атаки при Ганау (Шартье)
Особенно трудно было снабдить шестисоттысячную армию достаточным количеством съестных припасов. Наполеоновские армии никогда не покупали себе съестных припасов в неприятельской стране. В правительственной практике этого времени слишком сильна была традиция меркантилизма, противившаяся вывозу денег из страны. Поэтому армии содержались реквизициями с населения той страны, по которой они проходили. Но Наполеон прекрасно сознавал различие географических и экономических условий между Россией и Западной Европой. Тогдашняя Россия с ее чрезвычайно редким населением и громадными безлюдными пространствами, очевидно, не могла вовсе прокормить великую армию, как раньше ее прокармливали Германия и Италия. «Моя задача, — писал Наполеон Даву, — сосредоточить в одном пункте 400.000 человек, и так как на страну вовсе нельзя надеяться, то все нужно иметь с собой». Поэтому французская армия должна была с собой вести достаточное количество провианта, закупленного во Франции и Германии, и Наполеон обратил особое внимание на организацию доставки съестных припасов. Согласно общему правилу, каждый солдат должен был иметь с собой запас пищи на 4 дня. В походе до Немана около 1.500 телег должны были подвозить регулярно порции на каждые новые 4 дня. Для обслуживания армии по ту сторону Немана было образовано 17 специальных батальонов с тремя родами повозок: 1)тяжелых, запряженных лошадьми и вмещавших 30 квинталов[12], 2) легких (так называемых а la comtoise), двигавшихся более быстро, но вмещавших только 12 квинталов, и 3) повозок, запряженных быками и рассчитанных на 20 квинталов. Эти 6.000 слишком телег в состоянии были подвезти до 120.000 квинталов муки, т. е. количество, достаточное, чтобы прокормить армию в течение двух месяцев. Этого запаса, по мнению Наполеона, было достаточно для начала похода, а для дальнейшего времени доставка провианта должна была производиться при помощи специально оборудованных магазинов. Главным магазином на театре военных действий должна была сделаться Вильна, соединенная непрерывным водным путем с Данцигом (Вилия, Неман, Куриш-Гаф, Прегель, Фриш-Гаф и Висла). В Кенигсберге, Данциге, Торне и других городах по Висле с этой целью было собрано громадное количество съестных припасов, которого должно было хватить на 500.000 человек в течение года. Специальный договор с Пруссией предоставлял в распоряжение Наполеона 200.000 квинталов ржи, 400.000 пшеницы, громадное количество сена и овса, 44.000 быков и значительное число лошадей. Не забыли даже заказать «28 миллионов бутылок вина и 2 миллиона бутылок водки, в совокупности 30 миллионов бутылок жидкости, достаточных для того, чтобы утолять жажду армии в течение целого года».

Смерть ген. Марсо (Бутиньи)
Таковы в общих чертах были обширные приготовления Наполеона к этой кампании. Ни один еще из своих походов он не приготовлял с такой тщательностью, никогда еще не проявлял он такой удивительной предусмотрительности даже по отношению к незначащим мелочам. И тем не менее, все это гигантское предприятие кончилось самой жалкой неудачей. В громадном количестве мемуаров и воспоминаний, посвященных этой замечательной эпохе, часто встречается мысль, что главная причина неудачи заключалась в переменившемся духе армии, утомленной беспрерывными войнами и лишенной того воодушевления, которым она отличалась при Аустерлице и Йене. Эта мысль верна только отчасти. В самом деле, если основывать свои заключения на свидетельствах союзных государей, братьев Наполеона, большинства маршалов и сановников империи, то трудно найти что-нибудь, кроме жалоб и печальных предчувствий. Они идут за Наполеоном неохотно, «с утомленным послушанием». Но эта усталость далеко не затрагивает широких кругов армии. Молодое дворянство, из которого комплектуется большая часть офицеров, полно воинственного пыла и завоевательного духа. Оно требует своей доли славы и с восторгом приветствует новую войну. «Кто из нас, — пишет граф Сегюр, — в своей юности не приходил в воодушевление при чтении описания подвигов наших предков? Не хотели ли тогда мы сами все сделаться этими героями, действительную или фантастическую историю которых мы читали? И когда, в этом состоянии экстаза, эти мечты о подвигах могли вдруг осуществиться… кто бы из нас стал колебаться и не бросился бы в бой, полный восторга и надежды, презирая ненавистный и позорный покой? Таково было настроение новых поколений. Тогда легко было быть честолюбивым! Эпоха опьянения и счастья, когда французский солдат, господин всего мира при помощи своих побед, ценил себя выше, чем любого сеньора, даже монарха, через земли которого он проходил! Ему казалось, что государи всей Европы царствуют только с соизволения его вождя и его армии». То же самое можно сказать и про большинство солдат. Правда, число уклоняющихся от воинской повинности все возрастает, но они все же составляют пока меньшинство среди призываемых новобранцев. Большинство солдат по-прежнему рвется в бой и предано Наполеону душой и телом. Оно убеждено, что через неизвестную Россию Наполеон поведет свою армию дальше, в страны сказочных богатств и очарований. Вот любопытный отрывок из письма одного молодого солдата к своим родным: «Мы вступим сначала в Россию, где мы должны посражаться немного, чтобы открыть себе проход дальше. Император должен же прибыть в Россию, чтобы объявить войну этому ничтожному (petit) императору. О! мы скоро расколотим его в пух и прах (nous l'aurons arrange a la sauce blanche). Ах, отец, идут удивительные приготовления к войне. Старые солдаты говорят, что они никогда не видали ничего подобного. Это правда, ибо собирают громадные силы. Мы не знаем только, против одной ли России это. Один говорит, что это для похода в Великую Индию, другой, что для похода в Египет (в подлиннике Egippe), не знаешь, кому и верить. Мне это все равно. Я хотел бы, чтобы мы дошли до самого конца света».

Швейцарский сапер (грав. Вилля)
Таким образом, французская армия отнюдь не страдала отсутствием воинственного духа с начала похода. И тем не менее, она уже тогда носила в себе семена разложения. Прежде всего все планы Наполеона обеспечить армию достаточно быстрым подвозом съестных припасов в большинстве случаев очень мало осуществлялись. Большая часть телег с провиантом не успела вовремя добраться до Вислы или вследствие плохой организации дела или вследствие дурного состояния дорог. Когда армия дошла до Немана, то обоз с провиантом оказался на несколько этапов сзади. Волей-неволей приходилось прибегать к обычному приему прокормления Наполеоновских армий — к реквизициям с населения восточной Пруссии и Польши. «Армия запасалась провиантом на ходу, — пишет граф Сегюр. — Страна была обильна. Захватывали лошадей, повозки, рогатый скот, съестные припасы всякого рода. За собой тащили все, даже жителей, чтобы править телегами обоза». Наполеон и его маршалы вообще сквозь пальцы смотрели на грабежи населения своими солдатами. Но никогда еще раньше дисциплина не доходила до такого упадка и грабежи не достигали такого размера. Только в корпусе Даву держалась еще дисциплина, и самые реквизиции производились в известном порядке. В других корпусах реквизиции превращались в открытый грабеж и мародерство. Солдаты массами покидали ряды, чтобы запасаться провиантом. Еще до вступления в пределы России число отсталых и мародеров превышало 30.000, и Наполеону пришлось образовать специальные летучие колонны для преследования их. Такой быстрый упадок дисциплины был сам по себе грозным предвестником будущих несчастий. Мы видели, что Наполеон, считаясь со скудостью естественных богатств России и с бедностью ее жителей, старался взять с собой все что только могло понадобиться армии во время похода. Но результатом этого было то, что армию сопровождал громадный обоз, страшно затруднявший ее движение и лишавший ее той специфической легкости и подвижности, которая всегда отличала армии Наполеона и позволяла ему решать судьбу кампании одним ударом. Воинственный пыл французских полков не мог заменить опытности. Большая часть тех ветеранов, героев войн эпохи революции, давно погибла в беспрерывных походах, особенно во время испанской экспедиции, стоившей французам громадных потерь. Только корпус Даву имел в своем составе достаточное количество старых солдат. Остальные корпуса почти сплошь состояли из новобранцев. И как бы ни рвалась в бой вновь призванная к оружию молодежь, она, конечно, не могла собой заменить знаменитых «ворчунов». Одной из главных движущих сил французских армий этого времени было личное влияние Наполеона на солдат. Но исключительная величина армии и обширность театра военных действий заставила разделить всю «великую армию» на отдельные корпуса, и чем дальше находился тот или иной корпус от центральной армии, тем слабее чувствовалось обаяние самого императора. Стоявшие во главе отдельных корпусов маршалы и генералы в силу дальности расстояний не могли получать обычных детальных руководящих указаний от самого Наполеона и должны были часто действовать за свой страх и риск. Недостаточно приученные к самостоятельности и привыкшие только исполнять приказы своего императора, они невольно терялись и делали ошибки. Но едва ли не главный, основной порок в устройстве великой армии был ее интернациональный, разноплеменный состав. Мы видели, что на 600.000 слишком жителей французской империи было меньше половины, а надо помнить, что в этот момент французская империя была почти вдвое больше прежнего французского королевства и включала в свой состав Бельгию, Голландию, и значительные части Германии и Италии. Следовательно, настоящих французов в армии было много меньше 300.000 чел. В то же время в ее состав входило до 200.000 немцев, нации, особенно угнетенной Наполеоном и его ненавидевшей, — нации, с нетерпением ждавшей момента, когда можно будет свергнуть французское иго, и охотно посылавшей волонтеров в русскую армию, чтобы сражаться с французами. Если баварцы и южные немцы вообще и не относились к французам с такой острой ненавистью, то зато вестфальцы, австрийцы и пруссаки далеки были от желания искренно желать Наполеону победы. Они ждали только первых серьезных неудач, чтобы покинуть его знамена, и первый пример отложения подал прусский корпус генерала Йорка уже в конце 1812 года.
В. А. Бутенко.

Наполеон! (Глезбрух)
2. «Наполеоновский солдат»
А. М. Васютинского
 вятая любовь к отечеству! Под звуки этого воинственного гимна стекались на границу своей родины и молодые и пожилые люди всех сословий в то время, когда, казалось, вся Европа вооружилась против Франции, всколыхнутой революционной бурей.
вятая любовь к отечеству! Под звуки этого воинственного гимна стекались на границу своей родины и молодые и пожилые люди всех сословий в то время, когда, казалось, вся Европа вооружилась против Франции, всколыхнутой революционной бурей.
«Победа или смерть» — был сперва кликом республиканских войск. При таком страшном напряжении человеческой энергии быстро выдвигаются из общей массы крепкие волей, сильные духом, ловкие, закаленные в житейской борьбе — отчаянная борьба за существование молодого государства стирает все чины, все различия по родовитости и знатности: остается одно мерило — пригодность к военному делу.
«Гражданин» закрывает «солдата» и последний рядовой свободно обращается к генералу, не забывая в то же время своего места. Армия едва может прокормиться, лишена правильных рационов, обозное дело в полном расстройстве. Каждый батальон, каждая войсковая часть должны заботиться о своем пропитании; внутри рот и батальонов, подчиняясь интересам желудка, создаются особые «компанейства» — la clique (клика) — из людей, отчаянных как в бою, так и в добывании себе пищи всякого рода мародерством. Молодой солдат рано — чуть не с шестнадцати лет — знакомится со всеми горестями или радостями похода. Среди полной тревог и ежедневной опасности жизни создаются резкие определенные типы: один — забияка, дуэлист, шумливый буян, хвастливый задира и беспощадный мародер, игрок и кутила; другой — идеально любящий свою родину герой, который быстро из простого крестьянина возвышается до чина главнокомандующего для того, чтобы рано, в расцвете своей жизни сгореть в огне непосильной работы, не достигнув и тридцатилетнего возраста. Личная храбрость, быстрая сметка, ловкость — да и удача в придачу ко всему этому — создают блестящую военную карьеру, и не одному простому солдату приходится убедиться, что в своем ранце он носит жезл главнокомандующего. Любая страница воспоминаний участников этой кровавой эпохи пестрит образчиками неподдельного мужества, удивительного умения пользоваться обстоятельствами, не дожидаясь приказания сверху.
Молодой унтер-офицер быстро схватывает важное значение занимаемой позиции и умудряется быстрым кавалерийским натиском овладеть четырьмя пушками — сам гибнет, гибнут три четверти людей — остальных семерых ожидает унтер-офицерство и первый офицерский чин. В 17–20 лет счастливец за личную доблесть и сообразительность делается офицером — пред ним открывается необозримая дорога к почестям… Маршал Макдональд остроумно определил настроение своих современников: «да, я ненавижу преступления революции, но армия не замешана в них; она всегда смотрела врагу прямо в лицо. Как же мне не обожать революцию! Она меня возвысила и возвеличила; без нее я сегодня не имел бы чести обедать за столом короля рядом с Его Высочеством». Революционные войны, таким образом, создавали солдата, создали и своеобразного офицера.
Подвергнутый во всех своих действиях беспощадной критике солдата, постоянно принужденный основывать свой авторитет на личной храбрости, офицер ко времени Наполеоновской империи прошел уже громадную школу личной выносливости и опытной выдержки: молодой 24–27-летний юноша, сперва рисковавший своей жизнью из-за одного молодечества, приучился уже хладнокровно учитывать результаты своих подвигов.
«Время предрассудков прошло навсегда, — говорил счастливый соперник Суворова в горах Швейцарии, маршал Массена, умирая своим детям: — человек отныне сам будет создавать себе знатные титулы. Если я вам оставляю славное имя, помните, что я его прославил собственною доблестью, стараясь каждый день оправдать полученные уже отличия».
Громадная личность Наполеона сразу подвела итоги бурно кипевшей толчее маленьких и великих воинов, рассортировала их и, может быть, беспощадно сузила пределы их размаха. «Спаситель отечества» отныне мог рассчитывать лишь на большой чин, большое поместье и крупный денежный подарок.
Армия получила главу, умевшего довести до крайнего напряжения стремление к славе, проникавшее французского солдата, раздражить личное самолюбие, насытить тщеславие, возбудить гордость и утолить алчность. Солдат отныне был убежден, что о нем заботятся, лично его помнят, не забудут, всегда его отличат от другого. «Император» сделался кумиром своего войска; за его одну улыбку, ласковое слово, добродушную шутку солдат, офицер, генерал готовы жертвовать жизнью.
Император, благодаря кирасиров, обнял и расцеловал перед фронтом их генерала Отпуля; этот последний кричит: «Чтобы показать себя достойным такой чести, мне следует умереть за ваше величество!» — и сдерживает свое слово на другой день во время сражения при Эйлау. Адъютант маршала Мармона Фавье прибыл из Испании верхом с известием о поражении французских войск. После сурового приема у императора он добровольцем на другой день дерется в первом ряду под Бородином и падает раненым при взятии редута: он, невзирая на усталость, желал показать императору, что храбрость испанской армии не изменилась.
Прежняя погоня за добычей эпохи революционных войн сменилась жаждой почета, оказанного главнокомандующим перед всеми товарищами, жаждой ласкового трепка за ухо от императора — как высшей награды.

Старый гренадер
Старый гренадер, участвовавший в египетских и итальянских походах, является во время раздачи крестов Почетного легиона и требует себе креста. «Но что же ты сделал, — говорит император, — чтобы заслужить подобную награду?» — «Я? В Яффской пустыне, ваше величество, в страшную жару подал вам арбуз». — «Еще раз спасибо! но этот арбуз не стоит креста Почетного легиона». Тогда солдат кричит вовсю: «А! Так вы считаете за ничто семь ран, полученных на Аркольском мосту, при Лоди, Кастильоне, при пирамидах, Сен-Жан-д'Акре, Аустерлице, Фридланде, 11 компаний в Италии, в Египте, Австрии, Пруссии, Польше, в…» Но император прерывает старого солдата: «Та-та-та! Как ты рассердился, дойдя до самого главного — с этого-то и следовало начать; это получше твоего арбуза! Я делаю тебя имперским кавалером с 1.200 фр. ренты в придачу… Доволен ли ты?» — «Но, ваше величество, я предпочитаю крестик». — «Да у тебя и то и другое, раз ты имперский кавалер!» — «Нет, я предпочел бы крестик». Бравый гренадер никак не мог понять, в чем дело. Он успокоился лишь тогда, когда император сам прикрепил ему к груди орден, и, казалось, более был доволен им, чем 1.200 франков ежегодного дохода.
Едет император по краю громадного Зачанского пруда после Аустерлицкой битвы — на большой льдине посреди пруда лежит раненый русский унтер-офицер и молит о помощи. Несколько слов — и два молодых адъютанта добровольно, несмотря на жестокую стужу, раздеваются догола, бросаются в ледяную воду и после нечеловеческих усилий грудью подталкивают льдину с несчастным раненым к берегу. Награда — ласковая шутка императора и жестокое воспаление легких для одного из спасителей.
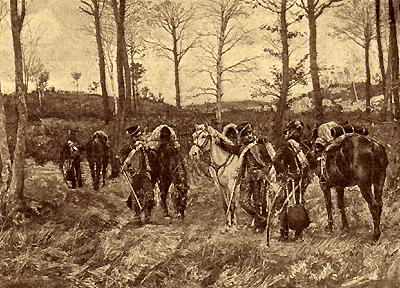
На важном посту (Мейссонье)
Генерал Мутон возвращается к Наполеону с донесением. «А! Кстати вернулись! Берите эту колонну и возьмите город Ландсгут». Генерал спокойно слезает с лошади и первым бросается по мосту во главе гренадеров — после упорной схватки овладевает городом и невозмутимо возвращается назад доканчивать императору прерванный рапорт. Во время разговора ни одного слова о взятии города, а после похода генерал получает в подарок картину, на которой он представлен идущим на штурм во главе своей колонны.
Но никто и не умел так приласкать добрым метким словом своих «ворчунов», добродушно подтрунить над их пороками, подчеркнуть их достоинства…
Проходят пред императором солдаты 44-го линейного полка (перед сражением при Йене) — он говорит: «В вашем полку больше шевренов, чем во всяком другом, поэтому я считаю ваших три батальона за шесть!» Обрадованные солдаты кричат: «Мы вам это докажем пред неприятелем». Проходит 7-й почти целиком составленный из жителей нижнего Лангедока и Пиренеев… «Вот лучшие ходоки во всей армии — никогда ни один не отстанет, особенно когда нужно догнать неприятеля». Потом смеясь: «Но сказать уж вам правду-матку — по-моему, вы первые крикуны и мародеры во всей армии». — «Правда, правда», смеются солдаты, почти каждый из которых нес курицу, утку или гуся в ранце.
В этой большой военной семье естественно выработалось безграничное уважение к своему собственному достоинству, к чести своего полка, к чести самой армии.
Отступает ли молодой офицер пред превосходными силами врагов — достаточно неприятельскому офицеру обругать его трусом, адъютантом такого-то маршала — и пылкий француз, невзирая на опасность, немедленно вступает в неравный поединок — возвращается к своему начальнику раненый, и маршал, пожуривши слегка своего адъютанта за неосторожность, сознается, что и сам в его годы поступил бы так же.

Наполеон с маршалами в Булони
Курьер к прусскому королю случайно по дороге к дворцу замечает в Берлине, как тащат пленного французского солдата наказывать палками (наказание, незнакомое французской армии!), немедленно вступается, силой освобождает соотечественника и объявляет его в своей коляске под прикрытием самого императора, затем энергично отстаивает его пред прусским королем и добивается полного освобождения. Тот же курьер с негодованием доносит Наполеону, что прусские гвардейские офицеры осмеливаются точить свои сабли о стены дома, занимаемого французским посольством, и встречает полный отклик со стороны своего императора.
Такова была та «великая армия», которая тяжелой стеной шествовала по Европе до 1812 г…
А. Васютинский

Ожеро. Дюрок
(«Les illustres francais» Paris. 1832.)
Наполеон, окруженный подчиненными князьями (соврем. литография)
1. Состав «великой армии» Прив.-доц. В. А. Бутенко
 есмотря на дружественный союз, заключенный Наполеоном и Александром I в Тильзите, непрочность франко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при свидании обоих императоров в Эрфурте (1808 г.) обнаружились очень серьезные трения, а двусмысленное поведение России во время войны 1809 г. с Австрией, пожелавшей энергично помогать своему настоящему союзнику против союзника будущего, окончательно убедило Наполеона в неизбежности новой войны с Россией. И уже с начала 1810 года он принимается с ему одному свойственной энергией за подготовку будущей кампании. Для завоевания Испании и Португалии в 1808–1809 гг. Наполеон должен был туда двинуть большую половину своей «великой армии», с которой он совершал знаменитые походы 1805–1807 гг. Кампанию 1809 г. против Австрии совершала остальная часть великой армии, остававшаяся в Германии и дополненная новыми наборами и контингентами союзников. Эта-то армия, сражавшаяся при Эсслинге и Ваграме, и послужила зерном, из которого Наполеон стал сооружать для похода в Россию новую «великую» армию, еще более многочисленную, чем все прежние. В Испании в 1810–1812 гг. находилось более 300.000 французских солдат. Но затянувшаяся война на Пиренейском полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть этого войска в Германию, и ему для увеличения своих военных сил пришлось прибегнуть к новым наборам.
есмотря на дружественный союз, заключенный Наполеоном и Александром I в Тильзите, непрочность франко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при свидании обоих императоров в Эрфурте (1808 г.) обнаружились очень серьезные трения, а двусмысленное поведение России во время войны 1809 г. с Австрией, пожелавшей энергично помогать своему настоящему союзнику против союзника будущего, окончательно убедило Наполеона в неизбежности новой войны с Россией. И уже с начала 1810 года он принимается с ему одному свойственной энергией за подготовку будущей кампании. Для завоевания Испании и Португалии в 1808–1809 гг. Наполеон должен был туда двинуть большую половину своей «великой армии», с которой он совершал знаменитые походы 1805–1807 гг. Кампанию 1809 г. против Австрии совершала остальная часть великой армии, остававшаяся в Германии и дополненная новыми наборами и контингентами союзников. Эта-то армия, сражавшаяся при Эсслинге и Ваграме, и послужила зерном, из которого Наполеон стал сооружать для похода в Россию новую «великую» армию, еще более многочисленную, чем все прежние. В Испании в 1810–1812 гг. находилось более 300.000 французских солдат. Но затянувшаяся война на Пиренейском полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть этого войска в Германию, и ему для увеличения своих военных сил пришлось прибегнуть к новым наборам.

Французские войска при Наполеоне
Сначала к оружию были призваны один за другим классы новобранцев 1810 и 1811 годов. Затем суровыми мерами, принятыми против уклоняющихся от службы, удалось набрать еще до 50.000 рекрутов. В самом конце 1811 года был призван к оружию класс 1812 года, давший около 120.000 человек, немедленно почти целиком посланных в Германию для укомплектования рядов стоявшей там армии. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа к армии, Наполеон заручился, на случай крайней необходимости, согласием Сената на призыв к оружию национальной гвардии, который обещал ему поставить под ружье еще 180.000 человек.

Французские войска при Наполеоне
Но мало было произвести эти наборы. Надо было распределить новобранцев по существующим корпусам армии, вооружить их, снабдить всем необходимым, подготовить соответственное количество военных запасов и провианта и т. д. Главная роль в исполнении этой гигантской работы естественно падала на два министерства, специально для этого существовавшие, — военное (ministere de la guerre), заведовавшее личным составом армии и ее военными операциями (генерал Кларк), и министерство военного управления (ministere de l'administration de la guerre), заведовавшее рекрутскими наборами и интендантской частью (генерал Лакюэ). Но оба министра, как и все высшие чиновники, работали под непосредственным руководством самого императора, который являлся душой всего дела, все помнил, всех поражал своей неутомимостью и вниманием. Вот, например, как описывает одну из сцен этой подготовительной работы, главный интендант великой армии, генерал Дюма:
«Однажды я принес императору по его требованию общую таблицу состава армии. Он быстро ее пробежал и затем стал диктовать мне распределение новобранцев по всем корпусам армии, обозначенным на моей таблице, называя при этом численность каждого корпуса и его местоположение и ни разу даже не заикнувшись. Он ходил большими шагами или стоял у одного из окон своего кабинета. Диктовал он с такой быстротой, что у меня едва хватало времени ставить разборчивые цифры и обозначать сокращенно примечания, которые он делал. В течение получаса я не мог поднять глаз над листками, на которых я торопливо писал. Я был уверен, что он держит пред собой принесенную мной таблицу. Когда он, наконец, остановился на мгновение, и я получил возможность взглянуть на него, он засмеялся над моим удивлением. „Вы думали, — сказал он мне, — что я читал вашу таблицу. Мне она не нужна. Я и так знаю все это. Ну, будем продолжать!“»

Наполеон организует баварские и вюртембергские полки в Абенсберге 20 апреля 1809 г. (рис. Debret)
К началу 1812 г. отношения с Россией сделались крайне натянутыми, и чувствовалась близость войны. К этому времени в основных чертах была закончена организация великой армии и отданы последние приказы, чтобы, как личный состав, так и материальная часть были готовы к 1 марта 1812 года. Сформированные войска временно делились на 4 корпуса. Первые три корпуса были расположены в Германии. Наиболее силен был 1-й корпус, находившийся под командой маршала Даву, имевшего своей главной квартирой Гамбург. Его численность достигала 120.000 человек. Это было войско, прекрасно дисциплинированное и обученное. В нем было много старых солдат, и не было ни одного унтер-офицера, который бы не побывал хотя в одной кампании. Новобранцы при распределении были так искусно перемешаны с ветеранами, что ни в одной роте не составляли больше ее половины. Все солдаты были отлично вооружены, одеты и обуты и несли с собой съестных припасов на 25 дней. Сделаны были необходимые запасы одежды и обуви. В каждой роте были свои каменщики, пекари, портные, сапожники, оружейники и т. д. Предусмотрительность Даву доходила до того, что полкам были розданы даже ручные мельницы, так как в Польше и России мельниц, по собранным сведениям, было слишком мало. 2-й корпус, расположенный в Вестфалии и Голландии и достигавший 35.000 человек, был под командой маршала Удино. 3-й корпус, почти такой же численности (40.000 ч.), под командой маршала Нея, стоял на среднем Рейне. Оба эти корпуса сильно уступали по своим качествам корпусу Даву. Сформированные преимущественно из новобранцев, они были гораздо менее дисциплинированы и снабжены всем необходимым далеко не в достаточной степени. Наконец 4-й корпус (45.000 чел.), под командой вице-короля Италии принца Евгения Богарне, стоял в верхней части Италии, готовый по первому знаку перейти Тирольские Альпы и двинуться через долину Дуная по направлению к русской границе.

Портрет сержанта (Мейссонье)
Все государства, союзные с Францией или находившиеся от нее в вассальной зависимости, призваны были Наполеоном выставить со своей стороны контингенты, которые они обязаны были предоставлять в его распоряжение согласно союзным договорам. Таким образом, к французской армии должны были присоединиться польская армия великого герцогства Варшавского (около 35.000 человек), армии, которые обязаны были выставить своему «протектору» немецкие государи Рейнского союза (до 100.000 человек), отдельные отряды из тех частей Италии, которые не входили прямо в состав французской империи, и, наконец, небольшие отряды из Испании и Португалии.
Пруссия, очутившаяся между двух огней после того, как близкое столкновение России и Франции сделалось неминуемым, охотнее стала бы на сторону России. К этому ее влекла и общая ненависть немцев к французскому игу и личная дружба обоих монархов — Александра I и Фридриха-Вильгельма III. Но воспоминания о страшном разгроме 1806–1807 годов были слишком свежи для того, чтобы нерешительный Фридрих-Вильгельм III взял на себя смелость новой войны с непобедимой Францией. Поэтому прусское правительство, после недолгих колебаний, решило примкнуть к Франции и предложило Наполеону выставить 100.000-ную армию, если он согласится освободить хоть одну из прусских крепостей на Одере от французского гарнизона и уменьшить военную контрибуцию 1807 года. Но Наполеон отнюдь не желал увеличивать военную силу Пруссии и заявил, что ему совершенно достаточно 20.000 человек. Соответственный договор был подписан 24 февраля 1812 года.
Во главе прусского отряда был поставлен генерал Йорк, поступивший под верховное начальство французского маршала Макдональда. 16 марта Наполеон заключил аналогичный договор с Австрией, которая дважды в 1811 г. отклонила русские предложения. По этому договору Австрия выставляла отряд в 30.000 человек, которые должны были составить отдельный корпус в армии Наполеона под начальством бывшего австрийского посланника в Париже князя Шварценберга.
Наполеон рассчитывал начать войну в апреле 1812 года, но голод во Франции и вспыхнувшие по этому поводу кое-где волнения и беспорядки заставили его отсрочить начало кампании на 2 месяца. Он утешался тем, что за это время в России взойдут посевы на полях, и что, следовательно, лошадям его кавалерии будет обеспечен корм. 9 мая он, наконец, покинул Париж. Остановившись на несколько дней в Дрездене, куда съехались все государи Западной Европы приветствовать своего повелителя, и где повторились сцены эрфуртских торжеств и празднеств, он отсюда двинулся в Польшу и в конце мая стал во главе тех громадных сил, которые он собрал у русской границы для вторжения в Россию. Такой многочисленной армии до сих пор мир не видывал. К 1 июня 1812 г. она была окончательно сформирована и представляла следующую организацию.

Депеша (Мейссонье)
Главнокомандующим, конечно, был сам Наполеон, имея при себе в качестве начальника главного штаба обычного своего сотрудника — маршала Бертье. Самую блестящую часть всей армии составляла императорская гвардия (46.000 чел.), находившаяся под командой маршалов Мортье, Лефевра и Бессьера. Собственно армия была разделена на 11 корпусов. 1-й корпус (72.000 чел.), под начальством маршала Даву, состоял почти исключительно из французов. 2-й корпус (маршал Удино) на 37.000 солдат имел около 2/3 французов, остальную часть составляли швейцарцы, кроаты и поляки. В 3-м корпусе (39.000 чел.), под командой маршала Нея, почти половину составляли вюртембергцы, иллирийцы и португальцы, 4-й корпус (принц Евгений Богарне) на 46.000 человек имел больше трети иностранцев: итальянцев, испанцев, далматинцев и кроатов. 5-й корпус (князь Понятовский) составила польская армия великого герцогства Варшавского (37.000 чел.), 6-й, под командой генерала Гувион-Сен-Сира, состоял из вспомогательного баварского отряда (25.000 чел.), 7-й под командой генерала Ренье — из саксонского отряда (17.000 чел.), 8-й (генерал Вандам) — из отряда королевства Вестфалии (17.500 чел.), 9-й корпус (маршал Виктор) составился из французов (около трети) и отрядов мелких немецких государств (33.500 чел.), 10-й корпус (маршал Макдональд) образовался из прусского вспомогательного отряда и нескольких польских, баварских и вестфальских полков (32.500 чел.), 11-й корпус (маршал Ожеро) вмещал в себе, главным образом, французские полки (¾); остальное составляли немцы и итальянцы (60.000 чел.). Наконец австрийский вспомогательный отряд (34.000 чел.), согласно договору с Австрией, составлял еще один отдельный самостоятельный корпус. Кроме кавалерийских отрядов, составлявших часть каждого корпуса, был образован большой кавалерийский резерв в 40.000 человек, под командой короля неаполитанского Иоахима Мюрата. Французы составляли в нем около 2/3 его общего состава. 9-й и 11-й корпуса должны были составить запасную армию и с этой целью были оставлены в Пруссии и Польше. Такой резерв, несомненно, был слишком ничтожен для громадной армии, но Наполеон не мог оставить больших сил. Остальная масса должна была перейти границу и начать наступление. В момент перехода через Неман ее численность достигала: 368.000 человек пехоты, 80.600 кавалерии, в общем 449.000 чел. и 1.146 орудий. Но несмотря на эту громадную цифру, скоро после вступления в Россию обнаруживалась недостаточность этих сил, и Наполеон потребовал ряд подкреплений из запасных отрядов. В течение похода поэтому к армии присоединилось еще 123.500 человек пехоты, 17.700 кавалерии и 96 орудий, а также отряд, посланный для осады Риги в 21.500 чел. при 130 осадных орудиях. Таким образом боевая сила «великой армии» достигала неслыханных прежде размеров: 612.000 человек и 1.372 орудия. При этом за армией шло около 25.000 человек чиновников, прислуги и т. д. По национальностям войско распределялось так. Около половины его (300.000 человек) составляли французы и жители вновь присоединенных к Франции стран, немцев из Австрии, Пруссии и государств Рейнского союза было 190.000 человек, поляков и литовцев — 90.000 человек и, наконец, 32.000 итальянцев, иллирийцев, испанцев и португальцев.
Наполеон старался все предусмотреть и предвидеть. Для нужд армии необходимо было громадное количество лошадей. Поэтому с самого начала 1812 г. велись деятельные закупки. Так как запас лошадей во Франции был в значительной степени истощен, то главным центром покупки сделалась Германия, где в Ганновере для этой цели была открыта даже особая канцелярия. К моменту начала похода в армии оказалось поэтому до 200.000 лошадей. Так как в северной Германии чувствовалось заметное брожение, то, опасаясь восстания, Наполеон особенно заботился об укреплении важнейших крепостей. Главное внимание его привлекал прежде всего Данциг, эта «защита Рейнского союза и оплот великого герцогства Варшавского», как он сам его называл. Его укрепления были улучшены, гарнизон доведен до 20.000 человек. Крепость располагала 475 орудиями, громадным количеством военных запасов и количеством провианта, рассчитанным на 15.000 человек и 1.000 лошадей в течение года. Кроме того, в нем были устроены литейные и пороховые заводы и всевозможных родов мастерские, какие только могли понадобиться для нужд армии. Сзади Данцига на лини реки Одера наиболее важными крепостями являлись Штеттин, Кюстрин и Глогау. Были сделаны распоряжения об улучшении их укреплений и о свозе в них достаточного количества съестных припасов. Наконец такие же меры были приняты относительно польских крепостей — Модлина и Замостья.

Кавалерия наполеоновской армии после атаки при Ганау (Шартье)
Особенно трудно было снабдить шестисоттысячную армию достаточным количеством съестных припасов. Наполеоновские армии никогда не покупали себе съестных припасов в неприятельской стране. В правительственной практике этого времени слишком сильна была традиция меркантилизма, противившаяся вывозу денег из страны. Поэтому армии содержались реквизициями с населения той страны, по которой они проходили. Но Наполеон прекрасно сознавал различие географических и экономических условий между Россией и Западной Европой. Тогдашняя Россия с ее чрезвычайно редким населением и громадными безлюдными пространствами, очевидно, не могла вовсе прокормить великую армию, как раньше ее прокармливали Германия и Италия. «Моя задача, — писал Наполеон Даву, — сосредоточить в одном пункте 400.000 человек, и так как на страну вовсе нельзя надеяться, то все нужно иметь с собой». Поэтому французская армия должна была с собой вести достаточное количество провианта, закупленного во Франции и Германии, и Наполеон обратил особое внимание на организацию доставки съестных припасов. Согласно общему правилу, каждый солдат должен был иметь с собой запас пищи на 4 дня. В походе до Немана около 1.500 телег должны были подвозить регулярно порции на каждые новые 4 дня. Для обслуживания армии по ту сторону Немана было образовано 17 специальных батальонов с тремя родами повозок: 1)тяжелых, запряженных лошадьми и вмещавших 30 квинталов[12], 2) легких (так называемых а la comtoise), двигавшихся более быстро, но вмещавших только 12 квинталов, и 3) повозок, запряженных быками и рассчитанных на 20 квинталов. Эти 6.000 слишком телег в состоянии были подвезти до 120.000 квинталов муки, т. е. количество, достаточное, чтобы прокормить армию в течение двух месяцев. Этого запаса, по мнению Наполеона, было достаточно для начала похода, а для дальнейшего времени доставка провианта должна была производиться при помощи специально оборудованных магазинов. Главным магазином на театре военных действий должна была сделаться Вильна, соединенная непрерывным водным путем с Данцигом (Вилия, Неман, Куриш-Гаф, Прегель, Фриш-Гаф и Висла). В Кенигсберге, Данциге, Торне и других городах по Висле с этой целью было собрано громадное количество съестных припасов, которого должно было хватить на 500.000 человек в течение года. Специальный договор с Пруссией предоставлял в распоряжение Наполеона 200.000 квинталов ржи, 400.000 пшеницы, громадное количество сена и овса, 44.000 быков и значительное число лошадей. Не забыли даже заказать «28 миллионов бутылок вина и 2 миллиона бутылок водки, в совокупности 30 миллионов бутылок жидкости, достаточных для того, чтобы утолять жажду армии в течение целого года».

Смерть ген. Марсо (Бутиньи)
Таковы в общих чертах были обширные приготовления Наполеона к этой кампании. Ни один еще из своих походов он не приготовлял с такой тщательностью, никогда еще не проявлял он такой удивительной предусмотрительности даже по отношению к незначащим мелочам. И тем не менее, все это гигантское предприятие кончилось самой жалкой неудачей. В громадном количестве мемуаров и воспоминаний, посвященных этой замечательной эпохе, часто встречается мысль, что главная причина неудачи заключалась в переменившемся духе армии, утомленной беспрерывными войнами и лишенной того воодушевления, которым она отличалась при Аустерлице и Йене. Эта мысль верна только отчасти. В самом деле, если основывать свои заключения на свидетельствах союзных государей, братьев Наполеона, большинства маршалов и сановников империи, то трудно найти что-нибудь, кроме жалоб и печальных предчувствий. Они идут за Наполеоном неохотно, «с утомленным послушанием». Но эта усталость далеко не затрагивает широких кругов армии. Молодое дворянство, из которого комплектуется большая часть офицеров, полно воинственного пыла и завоевательного духа. Оно требует своей доли славы и с восторгом приветствует новую войну. «Кто из нас, — пишет граф Сегюр, — в своей юности не приходил в воодушевление при чтении описания подвигов наших предков? Не хотели ли тогда мы сами все сделаться этими героями, действительную или фантастическую историю которых мы читали? И когда, в этом состоянии экстаза, эти мечты о подвигах могли вдруг осуществиться… кто бы из нас стал колебаться и не бросился бы в бой, полный восторга и надежды, презирая ненавистный и позорный покой? Таково было настроение новых поколений. Тогда легко было быть честолюбивым! Эпоха опьянения и счастья, когда французский солдат, господин всего мира при помощи своих побед, ценил себя выше, чем любого сеньора, даже монарха, через земли которого он проходил! Ему казалось, что государи всей Европы царствуют только с соизволения его вождя и его армии». То же самое можно сказать и про большинство солдат. Правда, число уклоняющихся от воинской повинности все возрастает, но они все же составляют пока меньшинство среди призываемых новобранцев. Большинство солдат по-прежнему рвется в бой и предано Наполеону душой и телом. Оно убеждено, что через неизвестную Россию Наполеон поведет свою армию дальше, в страны сказочных богатств и очарований. Вот любопытный отрывок из письма одного молодого солдата к своим родным: «Мы вступим сначала в Россию, где мы должны посражаться немного, чтобы открыть себе проход дальше. Император должен же прибыть в Россию, чтобы объявить войну этому ничтожному (petit) императору. О! мы скоро расколотим его в пух и прах (nous l'aurons arrange a la sauce blanche). Ах, отец, идут удивительные приготовления к войне. Старые солдаты говорят, что они никогда не видали ничего подобного. Это правда, ибо собирают громадные силы. Мы не знаем только, против одной ли России это. Один говорит, что это для похода в Великую Индию, другой, что для похода в Египет (в подлиннике Egippe), не знаешь, кому и верить. Мне это все равно. Я хотел бы, чтобы мы дошли до самого конца света».

Швейцарский сапер (грав. Вилля)
Таким образом, французская армия отнюдь не страдала отсутствием воинственного духа с начала похода. И тем не менее, она уже тогда носила в себе семена разложения. Прежде всего все планы Наполеона обеспечить армию достаточно быстрым подвозом съестных припасов в большинстве случаев очень мало осуществлялись. Большая часть телег с провиантом не успела вовремя добраться до Вислы или вследствие плохой организации дела или вследствие дурного состояния дорог. Когда армия дошла до Немана, то обоз с провиантом оказался на несколько этапов сзади. Волей-неволей приходилось прибегать к обычному приему прокормления Наполеоновских армий — к реквизициям с населения восточной Пруссии и Польши. «Армия запасалась провиантом на ходу, — пишет граф Сегюр. — Страна была обильна. Захватывали лошадей, повозки, рогатый скот, съестные припасы всякого рода. За собой тащили все, даже жителей, чтобы править телегами обоза». Наполеон и его маршалы вообще сквозь пальцы смотрели на грабежи населения своими солдатами. Но никогда еще раньше дисциплина не доходила до такого упадка и грабежи не достигали такого размера. Только в корпусе Даву держалась еще дисциплина, и самые реквизиции производились в известном порядке. В других корпусах реквизиции превращались в открытый грабеж и мародерство. Солдаты массами покидали ряды, чтобы запасаться провиантом. Еще до вступления в пределы России число отсталых и мародеров превышало 30.000, и Наполеону пришлось образовать специальные летучие колонны для преследования их. Такой быстрый упадок дисциплины был сам по себе грозным предвестником будущих несчастий. Мы видели, что Наполеон, считаясь со скудостью естественных богатств России и с бедностью ее жителей, старался взять с собой все что только могло понадобиться армии во время похода. Но результатом этого было то, что армию сопровождал громадный обоз, страшно затруднявший ее движение и лишавший ее той специфической легкости и подвижности, которая всегда отличала армии Наполеона и позволяла ему решать судьбу кампании одним ударом. Воинственный пыл французских полков не мог заменить опытности. Большая часть тех ветеранов, героев войн эпохи революции, давно погибла в беспрерывных походах, особенно во время испанской экспедиции, стоившей французам громадных потерь. Только корпус Даву имел в своем составе достаточное количество старых солдат. Остальные корпуса почти сплошь состояли из новобранцев. И как бы ни рвалась в бой вновь призванная к оружию молодежь, она, конечно, не могла собой заменить знаменитых «ворчунов». Одной из главных движущих сил французских армий этого времени было личное влияние Наполеона на солдат. Но исключительная величина армии и обширность театра военных действий заставила разделить всю «великую армию» на отдельные корпуса, и чем дальше находился тот или иной корпус от центральной армии, тем слабее чувствовалось обаяние самого императора. Стоявшие во главе отдельных корпусов маршалы и генералы в силу дальности расстояний не могли получать обычных детальных руководящих указаний от самого Наполеона и должны были часто действовать за свой страх и риск. Недостаточно приученные к самостоятельности и привыкшие только исполнять приказы своего императора, они невольно терялись и делали ошибки. Но едва ли не главный, основной порок в устройстве великой армии был ее интернациональный, разноплеменный состав. Мы видели, что на 600.000 слишком жителей французской империи было меньше половины, а надо помнить, что в этот момент французская империя была почти вдвое больше прежнего французского королевства и включала в свой состав Бельгию, Голландию, и значительные части Германии и Италии. Следовательно, настоящих французов в армии было много меньше 300.000 чел. В то же время в ее состав входило до 200.000 немцев, нации, особенно угнетенной Наполеоном и его ненавидевшей, — нации, с нетерпением ждавшей момента, когда можно будет свергнуть французское иго, и охотно посылавшей волонтеров в русскую армию, чтобы сражаться с французами. Если баварцы и южные немцы вообще и не относились к французам с такой острой ненавистью, то зато вестфальцы, австрийцы и пруссаки далеки были от желания искренно желать Наполеону победы. Они ждали только первых серьезных неудач, чтобы покинуть его знамена, и первый пример отложения подал прусский корпус генерала Йорка уже в конце 1812 года.
В. А. Бутенко.

Наполеон! (Глезбрух)
2. «Наполеоновский солдат» А. М. Васютинского
 вятая любовь к отечеству! Под звуки этого воинственного гимна стекались на границу своей родины и молодые и пожилые люди всех сословий в то время, когда, казалось, вся Европа вооружилась против Франции, всколыхнутой революционной бурей.
вятая любовь к отечеству! Под звуки этого воинственного гимна стекались на границу своей родины и молодые и пожилые люди всех сословий в то время, когда, казалось, вся Европа вооружилась против Франции, всколыхнутой революционной бурей.
«Победа или смерть» — был сперва кликом республиканских войск. При таком страшном напряжении человеческой энергии быстро выдвигаются из общей массы крепкие волей, сильные духом, ловкие, закаленные в житейской борьбе — отчаянная борьба за существование молодого государства стирает все чины, все различия по родовитости и знатности: остается одно мерило — пригодность к военному делу.
«Гражданин» закрывает «солдата» и последний рядовой свободно обращается к генералу, не забывая в то же время своего места. Армия едва может прокормиться, лишена правильных рационов, обозное дело в полном расстройстве. Каждый батальон, каждая войсковая часть должны заботиться о своем пропитании; внутри рот и батальонов, подчиняясь интересам желудка, создаются особые «компанейства» — la clique (клика) — из людей, отчаянных как в бою, так и в добывании себе пищи всякого рода мародерством. Молодой солдат рано — чуть не с шестнадцати лет — знакомится со всеми горестями или радостями похода. Среди полной тревог и ежедневной опасности жизни создаются резкие определенные типы: один — забияка, дуэлист, шумливый буян, хвастливый задира и беспощадный мародер, игрок и кутила; другой — идеально любящий свою родину герой, который быстро из простого крестьянина возвышается до чина главнокомандующего для того, чтобы рано, в расцвете своей жизни сгореть в огне непосильной работы, не достигнув и тридцатилетнего возраста. Личная храбрость, быстрая сметка, ловкость — да и удача в придачу ко всему этому — создают блестящую военную карьеру, и не одному простому солдату приходится убедиться, что в своем ранце он носит жезл главнокомандующего. Любая страница воспоминаний участников этой кровавой эпохи пестрит образчиками неподдельного мужества, удивительного умения пользоваться обстоятельствами, не дожидаясь приказания сверху.
Молодой унтер-офицер быстро схватывает важное значение занимаемой позиции и умудряется быстрым кавалерийским натиском овладеть четырьмя пушками — сам гибнет, гибнут три четверти людей — остальных семерых ожидает унтер-офицерство и первый офицерский чин. В 17–20 лет счастливец за личную доблесть и сообразительность делается офицером — пред ним открывается необозримая дорога к почестям… Маршал Макдональд остроумно определил настроение своих современников: «да, я ненавижу преступления революции, но армия не замешана в них; она всегда смотрела врагу прямо в лицо. Как же мне не обожать революцию! Она меня возвысила и возвеличила; без нее я сегодня не имел бы чести обедать за столом короля рядом с Его Высочеством». Революционные войны, таким образом, создавали солдата, создали и своеобразного офицера.
Подвергнутый во всех своих действиях беспощадной критике солдата, постоянно принужденный основывать свой авторитет на личной храбрости, офицер ко времени Наполеоновской империи прошел уже громадную школу личной выносливости и опытной выдержки: молодой 24–27-летний юноша, сперва рисковавший своей жизнью из-за одного молодечества, приучился уже хладнокровно учитывать результаты своих подвигов.
«Время предрассудков прошло навсегда, — говорил счастливый соперник Суворова в горах Швейцарии, маршал Массена, умирая своим детям: — человек отныне сам будет создавать себе знатные титулы. Если я вам оставляю славное имя, помните, что я его прославил собственною доблестью, стараясь каждый день оправдать полученные уже отличия».
Громадная личность Наполеона сразу подвела итоги бурно кипевшей толчее маленьких и великих воинов, рассортировала их и, может быть, беспощадно сузила пределы их размаха. «Спаситель отечества» отныне мог рассчитывать лишь на большой чин, большое поместье и крупный денежный подарок.
Армия получила главу, умевшего довести до крайнего напряжения стремление к славе, проникавшее французского солдата, раздражить личное самолюбие, насытить тщеславие, возбудить гордость и утолить алчность. Солдат отныне был убежден, что о нем заботятся, лично его помнят, не забудут, всегда его отличат от другого. «Император» сделался кумиром своего войска; за его одну улыбку, ласковое слово, добродушную шутку солдат, офицер, генерал готовы жертвовать жизнью.
Император, благодаря кирасиров, обнял и расцеловал перед фронтом их генерала Отпуля; этот последний кричит: «Чтобы показать себя достойным такой чести, мне следует умереть за ваше величество!» — и сдерживает свое слово на другой день во время сражения при Эйлау. Адъютант маршала Мармона Фавье прибыл из Испании верхом с известием о поражении французских войск. После сурового приема у императора он добровольцем на другой день дерется в первом ряду под Бородином и падает раненым при взятии редута: он, невзирая на усталость, желал показать императору, что храбрость испанской армии не изменилась.
Прежняя погоня за добычей эпохи революционных войн сменилась жаждой почета, оказанного главнокомандующим перед всеми товарищами, жаждой ласкового трепка за ухо от императора — как высшей награды.

Старый гренадер
Старый гренадер, участвовавший в египетских и итальянских походах, является во время раздачи крестов Почетного легиона и требует себе креста. «Но что же ты сделал, — говорит император, — чтобы заслужить подобную награду?» — «Я? В Яффской пустыне, ваше величество, в страшную жару подал вам арбуз». — «Еще раз спасибо! но этот арбуз не стоит креста Почетного легиона». Тогда солдат кричит вовсю: «А! Так вы считаете за ничто семь ран, полученных на Аркольском мосту, при Лоди, Кастильоне, при пирамидах, Сен-Жан-д'Акре, Аустерлице, Фридланде, 11 компаний в Италии, в Египте, Австрии, Пруссии, Польше, в…» Но император прерывает старого солдата: «Та-та-та! Как ты рассердился, дойдя до самого главного — с этого-то и следовало начать; это получше твоего арбуза! Я делаю тебя имперским кавалером с 1.200 фр. ренты в придачу… Доволен ли ты?» — «Но, ваше величество, я предпочитаю крестик». — «Да у тебя и то и другое, раз ты имперский кавалер!» — «Нет, я предпочел бы крестик». Бравый гренадер никак не мог понять, в чем дело. Он успокоился лишь тогда, когда император сам прикрепил ему к груди орден, и, казалось, более был доволен им, чем 1.200 франков ежегодного дохода.
Едет император по краю громадного Зачанского пруда после Аустерлицкой битвы — на большой льдине посреди пруда лежит раненый русский унтер-офицер и молит о помощи. Несколько слов — и два молодых адъютанта добровольно, несмотря на жестокую стужу, раздеваются догола, бросаются в ледяную воду и после нечеловеческих усилий грудью подталкивают льдину с несчастным раненым к берегу. Награда — ласковая шутка императора и жестокое воспаление легких для одного из спасителей.
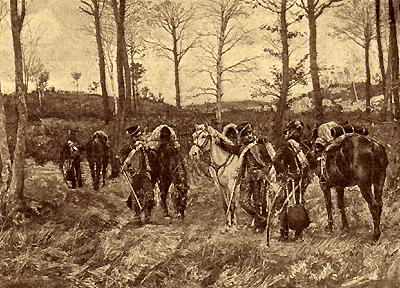
На важном посту (Мейссонье)
Генерал Мутон возвращается к Наполеону с донесением. «А! Кстати вернулись! Берите эту колонну и возьмите город Ландсгут». Генерал спокойно слезает с лошади и первым бросается по мосту во главе гренадеров — после упорной схватки овладевает городом и невозмутимо возвращается назад доканчивать императору прерванный рапорт. Во время разговора ни одного слова о взятии города, а после похода генерал получает в подарок картину, на которой он представлен идущим на штурм во главе своей колонны.
Но никто и не умел так приласкать добрым метким словом своих «ворчунов», добродушно подтрунить над их пороками, подчеркнуть их достоинства…
Проходят пред императором солдаты 44-го линейного полка (перед сражением при Йене) — он говорит: «В вашем полку больше шевренов, чем во всяком другом, поэтому я считаю ваших три батальона за шесть!» Обрадованные солдаты кричат: «Мы вам это докажем пред неприятелем». Проходит 7-й почти целиком составленный из жителей нижнего Лангедока и Пиренеев… «Вот лучшие ходоки во всей армии — никогда ни один не отстанет, особенно когда нужно догнать неприятеля». Потом смеясь: «Но сказать уж вам правду-матку — по-моему, вы первые крикуны и мародеры во всей армии». — «Правда, правда», смеются солдаты, почти каждый из которых нес курицу, утку или гуся в ранце.
В этой большой военной семье естественно выработалось безграничное уважение к своему собственному достоинству, к чести своего полка, к чести самой армии.
Отступает ли молодой офицер пред превосходными силами врагов — достаточно неприятельскому офицеру обругать его трусом, адъютантом такого-то маршала — и пылкий француз, невзирая на опасность, немедленно вступает в неравный поединок — возвращается к своему начальнику раненый, и маршал, пожуривши слегка своего адъютанта за неосторожность, сознается, что и сам в его годы поступил бы так же.

Наполеон с маршалами в Булони
Курьер к прусскому королю случайно по дороге к дворцу замечает в Берлине, как тащат пленного французского солдата наказывать палками (наказание, незнакомое французской армии!), немедленно вступается, силой освобождает соотечественника и объявляет его в своей коляске под прикрытием самого императора, затем энергично отстаивает его пред прусским королем и добивается полного освобождения. Тот же курьер с негодованием доносит Наполеону, что прусские гвардейские офицеры осмеливаются точить свои сабли о стены дома, занимаемого французским посольством, и встречает полный отклик со стороны своего императора.
Такова была та «великая армия», которая тяжелой стеной шествовала по Европе до 1812 г…
А. Васютинский

Ожеро. Дюрок
(«Les illustres francais» Paris. 1832.)
IV. Военачальники Наполеона
А. М. Васютинского
И маршалы зова не слышат
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою…
И маршалы зова не слышат
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою…
 риняв императорский титул, Наполеон немедленно возвел в сан маршалов 18 генералов, а затем с течением времени назначил еще нескольких, на место выбывших из строя, погибших в бою. Эти ближайшие помощники императора представляли пеструю смесь всех сословий. Здесь и командир старой гвардии Лефевр, выслужившийся из простых армейских солдат, эльзасский крестьянин, до конца своей жизни обильно уснащавший свои разговоры крепкими непереводимыми солдатскими оборотами и грубыми армейскими остротами. Здесь и Ожеро отчаянный бретер, сын лакея и торговки фруктами, храбрый солдат и добрый товарищ. Здесь сыновья мелких торговцев, адвокатов, простых ремесленников и сын кавалера ордена св. Людовика — Мармон.
риняв императорский титул, Наполеон немедленно возвел в сан маршалов 18 генералов, а затем с течением времени назначил еще нескольких, на место выбывших из строя, погибших в бою. Эти ближайшие помощники императора представляли пеструю смесь всех сословий. Здесь и командир старой гвардии Лефевр, выслужившийся из простых армейских солдат, эльзасский крестьянин, до конца своей жизни обильно уснащавший свои разговоры крепкими непереводимыми солдатскими оборотами и грубыми армейскими остротами. Здесь и Ожеро отчаянный бретер, сын лакея и торговки фруктами, храбрый солдат и добрый товарищ. Здесь сыновья мелких торговцев, адвокатов, простых ремесленников и сын кавалера ордена св. Людовика — Мармон.

Дезе (Аппиняни)
Среди новоиспеченных маршалов уже в 1804 году не было многих из лучших солдат Франции, героев, которые положили начало военной мощи республики. Не было, во-первых, тех, кто был казнен в суровые дни Конвента, несмотря на яркий ореол побед: Гушара, Вестермана, Кюстина. Не было Дюмурье, победителя при Вальми, изменившего республике. Он жил в Англии, не стесняясь принимать пенсию из той казны, которая субсидировала всех врагов Франции. Не было Пишегрю, завоевателя Голландии, отправленного в ссылку. Не было Моро, который один стоил целого корпуса и который скитался по Америке, жертва ревнивой подозрительности императора. Не было, наконец, тех, кто пал раньше: четырех гениальнейших воинов республики: Дезе, Клебера, Марсо, Гоша, особенно Гоша, который не уступал Наполеону в военных дарованиях.

Мюрат при Эйлау (Бриссэ)
Но из среды тех, которые еще удостоились маршальского жезла в 1804 году и позже, во главе великой армии в 1812 году не видно было двух лучших полководцев наполеоновской армии: Массены и Ланна. Ланна под Эелингом в 1809 году унесло австрийское ядро. А Массена?.. Тот Массена, швейцарская кампания которого в 1799 году оказалась бы ничуть не хуже итальянской кампании Бонапарта, если бы она так же хорошо была описана в донесениях и в стихах. Тот Массена, который парализовал в 1805 году вдвое сильнейшую армию эрцгерцога Карла. Тот Массена, который был героем Ваграма в 1809 г. и не мог ничего сделать в Португалии только потому, что был оставлен без подкреплений лицом к лицу с превосходными силами Веллингтона и окружен завистливыми товарищами. Этот Массена, самый гениальный из маршалов Наполеона, был оставлен дома под тем предлогом, что он уже не может водить войска. Дома остался и Серрюрье, которому когда-то досталась честь принять шпагу Вурмзера, сдавшего Мантую и который теперь командовал… домом Инвалидов.
Не перешли Неман и четверо маршалов, оставленных в Испании: ветеран революционных войн Журдан, герой Флерюса, приставленный дядькой к королю Испании, бездарному из бездарных, Жозефу; даровитый Сульт, герой Аустерлица, и Мармон — последний уже с иудиной печатью на лбу, — которые отбивались от Веллингтона и в промежутках между двумя сражениями грызли друг друга; Сюше, который, как лев, дрался с горстью храбрецов в Каталонии, не уступая ни на шаг.

Разведка ген. Дезэ на Рейне (Мейссонье)
По ту сторону русской границы остался и Ожеро, старый соратник Наполеона по Италии: во главе своего корпуса он охранял Пруссию, и лишь в 1813 году вышел в поле. Наконец не во главе французской армии, а уже наполовину во вражьем стане, был Бернадот, бывший так долго и так незаслуженно любимцем императора, хитрый и своекорыстный. Теперь он уже два года, как назывался наследным принцем шведским и вел дружескую переписку с Александром. Пройдет несколько месяцев, и этот ярый якобинец 1799 года поведет против Франции полчища европейской реакции.
Можно без преувеличения сказать, что во главе великой армии в 1812 г. стояли военачальники второго ранга, «тени Ланна», как называл их сам Наполеон. Но среди них были все-таки крупные таланты: Мюрат, Ней и Даву.
В блестящей толпе расшитых и раззолоченных мундиров бросаются в глаза Ней и Мюрат, своим отчаянным мужеством затмевающие своих товарищей. Иоахим Мюрат родился в 1767 г. в бедной семье на юге Франции в Бастиде-Фортюньере и был сперва «мальчиком» в лавочке мелкого торговца. Со своим другом Бессьером, впоследствии тоже маршалом, он поступил в национальную гвардию и через несколько месяцев уже стал подпоручиком. При подавлении вандемьерского восстания 1795 г. Мюрат оказывает важную услугу Наполеону и делается его адъютантом. Вскоре он бригадный генерал. С этого времени развертывается вся та блестящая храбрость, вся отвага, вся проницательность, которая делает из него несравненного кавалериста.
Судьба Мюрата неразрывно связывается с судьбой Наполеона: он сопровождает его в Египет, откуда Наполеон неоднократно доносит: «Кавалерист Мюрат совершил невозможное». По возвращении из Египта Мюрат женится на меньшой сестре Наполеона, Каролине. Вскоре он — маршал, великий адмирал.
Наступают дни Аустерлица, Йены… Кавалерия Мюрата всюду выделяется своей стремительностью, неудержимым преследованием отступающего неприятеля. Теперь бывший бедный приказчик — уже владетельный великий герцог Бергский.
Высокий, гибкий, с открытым сияющим смуглым лицом, прекрасными голубыми глазами, орлиным носом, с длинными шелковистыми кудрявыми волосами, ниспадающими на плечи — он невольно притягивал к себе взоры. Издали бросается в глаза его причудливый роскошный костюм: сверх затканной золотом туники меховой доломан, на большой шапке вздымается кверху огромный белый султан, прикрепленный большим алмазом.
Отвага его остается прежней. При Эйлау корпус Ожеро был почти раздавлен русской армией. Наполеон, повернувшись к Мюрату, спрашивает его, указывая на неудержимую атаку русских войск: «Неужели ты дашь им нас сломать?»
Мюрат стремительно бросается с кавалерией в атаку, прорывает две линии, и только перед третьей понадобилась ему помощь конной гвардии в виду упорного сопротивления неприятеля.
Но он не только отважен. Он лукав и говорлив, как истый гасконец. Известно, как перед сражением при Аустерлице Мюрат и Ланн убедили австрийских офицеров, охранявших мост через Дунай, в том, что заключено перемирие, и успели благополучно занять мост, не потеряв ни одного солдата, в то время как генерал Ауершперг, который должен был взорвать мост при приближении неприятеля, одураченный болтливыми гасконцами, боясь бесполезного кровопролития, поспешно уводил свои войска. После Тильзитского мира Мюрат делается королем Неаполитанским. 1812 год. Мюрат бьется под Бородином, то пеший со шпагой в руке, то становится во главе кавалерии, чтобы взять Большой редут.
Только отступление бросает тень на его прошлую военную славу: поставленный Наполеоном, после отъезда, во главе отступавшей армии, он в первый раз теряется, подавленный огромной задачей спасти непоправимое. Каждый пробивается теперь на свой страх, и слава отступления достается другому.

Маршал Журдан
После 1813 года он постепенно удаляется от Наполеона, посвящает себя своему королевству, думая спасти для себя королевский титул частными соглашениями с врагами бывшего покровителя. 1815 год приводит его к роковому концу — после возвращения Наполеона он поднимается с оружием в руках против австрийцев, попадает в плен и расстреливается. Но Италия не забыла в нем борца против австрийского ига — и по сей час рядом со статуей освободителя Италии Виктора-Эммануила высится в Неаполе статуя короля Иоахима Мюрата.
Рядом с героем натиска — если не выше — справедливо стоит «храбрейший из храбрых» — маршал Ней, князь Московский.
Ней родился в бедной семье ремесленника в Лотарингии (Саарлуи) в 1769 г. Рано он поступил солдатом в гусарский полк и был всего унтер-офицером при начале революции. С этих пор он подвигается быстро. В 27 лет он уже бригадный генерал. Прямой, честный, добродушный, но пылкий, с неукротимой храбростью, всегда в первом ряду бойцов, готовый ринуться на врага в ближайший удобный момент — он вырос в школе волонтеров первых лет республики, добывавших победу ценой суровых испытаний.
Всегда уверенный в себе, хладнокровный, он одним своим присутствием воодушевляет солдат. С 1805 года он всегда в первых рядах храбрецов. При Фридланде, подкрепляемый маршалом Виктором, Ней решает победу отчаянной атакой левого крыла русской армии. «Это лев!» восклицает Наполеон.
Под Бородином он соперничает неустрашимостью с Мюратом, заслуживая именно в этот момент прозвище «храбрейшего из храбрых». Но лишь с момента отступления начинается его достопамятная в военных летописях оборона в арьергарде от превосходных сил неприятеля. 40 суток он неусыпно защищает отступающую армию — ночью совершает переходы, днем отбивается с упорством отчаяния, чтобы дать время армии уйти. За ним тянутся густые толпы отсталых. Когда истомленные солдаты, не в силах удержать оледенелое оружие, падают духом, Ней сам берет ружье в руки и ведет их на неприятеля. С стесненным сердцем, нахмурившись, Наполеон продолжал путь от Смоленска пешком, опираясь на трость, думая о гибели Нея, пожертвовавшего собой для спасения армии. Со всех сторон преследуемый Ней, однако, после невероятных усилий успел обойти русские войска и переправиться окольным путем чрез Днепр. Несмотря на крайнюю опасность, он последним перешел реку, после трехчасового сна в своем плаще на холодном берегу Днепра. На Березине он отбивает атаку Чичагова и тем способствует при поддержке маршалов Виктора и Удино переправе армии. После отъезда императора Ней снова во главе арьергарда: у него в распоряжении лишь несколько сотен баварцев и французов. В Ковно он с тридцатью солдатами успевает отвлечь внимание неприятеля от жалких остатков «Великой армии» и выходит последним, обернувшись лицом к врагу с ружьем в руке, чтобы добраться до армии через лес окружным путем. Очевидец рассказывает, как на зимний бивак корпуса, расположенного в Пруссии, неожиданно явился высокий, рослый человек в лохмотьях с блестящими глазами, с отросшей бородой… «Кто вы?» — «Я арьергард великой армии — маршал Ней… Вот все, что осталось от арьергарда после героической защиты».

Ожеро, герцог Кастильонский
Наступают дни отречения Наполеона: и маршал Ней резко требует от императора отречься от императорского престола.
Но едва Наполеон вернулся с Эльбы, как посланный против него Ней не в силах был сражаться с прежним своим императором. При Ватерлоо закатывается звезда Наполеона. Словно предчувствуя свою близкую гибель, Ней яростно дерется с англичанами, три лошади убито под ним во время кавалерийской атаки; напрасно с почерневшим от пороха лицом, с порванным в клочья мундиром, с обломком сабли в руке, он старается во главе последних батальонов задержать стремительное бегство разбитой армии, напрасно сам ищет смерти, бросаясь на врага с криком: «смотрите, как умирает французский маршал?» Смерть пришла к нему — но от французской пули. По приговору чрезвычайного высшего суда он был расстрелян в Париже 6 декабря 1815 года.
Лучшей похоронной речью над его могилой было письмо к королю Людовику XVIII маршала Монсе, отказавшегося участвовать в суде над Неем, своим старым товарищем. «Ваше величество! Принужденный либо ослушаться вашего величества, либо погрешить пред своей совестью, я должен объясниться: я не вхожу в разбор вопроса о том, виновен ли маршал Ней, или нет. Ах, ваше величество! если бы те, кто руководит вашими советами, желали бы лишь блага вашему величеству, они сказали бы вам, что никогда эшафот не создает друзей… Неужели они думают, что смерть страшна для того, кто так часто рисковал своей жизнью? При переходе чрез Березину Ней спас остатки армии, а я пошлю на смерть того, кому столько французов обязано жизнью? Нет, ваше величество, если мне нельзя спасти своей страны и своей жизни, я, по крайней мере, спасу честь»…

Мюрат (Шаперон)
Известный своей суровостью маршал Даву, бесспорно крупнейший воин великой армии, родился в 1771 г. в старой бургундской семье. Он был молодым кавалерийским офицером, когда вспыхнула революция. Даву был сам захвачен движением и этот впоследствии суровый ревнитель дисциплины, неумолимый судья дезертиров и мародеров, организовал возмущение в своем полку против товарищей. Принужденный выйти в отставку, он только чрез 2 года поступает снова в ряды армии. Храбрость и точность скоро выдвигают его из ряда товарищей. В 1804 году он — маршал и в 1806 г. наносит пруссакам страшное поражение под Ауэрштедтом. С 25.000 он побил 70.000, потеряв 10.000 из состава своего корпуса. При Эйлау, Фридланде это все тот же неустрашимый, выдержанный полководец. Но чем более идет время, тем более растет его надменное, непримиримое отношение к товарищам, его раздражительная взыскательность: он ссорится с Мюратом, с Неем, с братом Наполеона, королем Жеромом. Под Бородином ядро опрокидывает его лошадь, но он встает с земли раненый в живот, весь в крови и грязи и спешит на помощь к Нею. При отступлении Наполеон сперва назначает его начальником арьергарда, но его неумолимо жестокие кары за нарушения дисциплины раздражают армию, и Наполеон поручает арьергард Нею. После Ватерлоо он скоро устраняется от всякой деятельности до самой своей смерти в 1823 г.
За этими тремя тянется длинный ряд маршалов, усердных исполнителей воли и предначертаний императора: Виктор, разделяющий с Неем и Удино славу обороны при Березине; Мортье, знаменитый своим отступлением под Дирренштейном в 1805 г.; острый на язык, не щадящий ни себя, ни других Макдональд, последним покинувший Наполеона в тяжелые дни отречения; «Баярд французской армии» Удино, получивший до 30 ран в течение своей карьеры и отличившийся при Березине; выдвигаемые императором на место старых героев Вандамм и Гувион Сен-Сир; три превосходных кавалерийских генерала: Монбрен, Нансути и маршал Бессьер. Для всех троих Бородино было роковым. Монбрен остался на поле битвы, Нансути был ранен так, что прожил едва три года, а Бессьер, посоветовавший Наполеону не пускать в дело гвардию, потерял свою популярность среди солдат, как моральный виновник неудачи всей кампании; неудачливый Жюно. Наконец, тень императора, верный исполнитель его приказаний, Бертье.
Бертье родился в Версали в 1753 г. и поступил в армию инженер-топографом. Уже опытным штабным офицером он примкнул к Наполеону в 1796 г. С этих пор то как главный начальник генерального штаба, то как военный министр, он несет на себе тяжелую задачу внутренней организации. Окруженный громадным штабом, верный и неутомимый исполнитель приказаний императора, даже после Эйлау, когда силы Великой армии напряглись до последнего, Бертье продолжает сохранять скромное положение тени императора. Точный исполнитель приказаний вскоре совершенно убивает в себе инициативу и оказывается негодным главнокомандующим дунайской армии 1809 г., но возвращенный на свой пост главного начальника генерального штаба, он снова обретает самого себя. Вынесший на своих плечах штабную работу всех почти кампаний, он в 1812 г. принужден бороться с огромными затруднениями, — армия разноплеменная, громадных размеров, раздражительный до нельзя вследствие неудач в Испании император, — все это ложится на начальника генерального штаба, которому в то время было уже 59 лет. Постоянный спутник императора, он не знает покоя ни днем, ни ночью — иногда в течение одной ночи его вызывают раз семнадцать к Наполеону, при чем в силу строгого придворного этикета Бертье принужден являться всегда в парадной форме при шпаге. И он нисколько не изменяет своей преданности императору, своей исполнительности. Подобно Макдональду, он последним из маршалов признал Бурбонов, которым и остался верен до своей трагической смерти (падения из окна своего замка) в 1815 г.
Наполеон осыпал его наградами: Бертье первым был занесен в список маршалов; через два года он уже князь Невшательский, еще чрез три — князь Ваграмский; доходы его достигли от беспрерывных подарков до 1.200.000 франков ренты.
Особняком стоит вице-король итальянский, принц Евгений Богарне, сын Жозефины, самый даровитый, если не единственно даровитый, изо всей клики родных человечков Наполеона, во всяком случае, несравненно более привлекательный, чем все четыре брата императора. Ученик Наполеона на боевом поприще, он скоро стал обнаруживать крупные способности. В 1809 году Наполеон не побоялся доверить ему самостоятельный корпус, и Евгений блистательно оправдал ожидания отчима, разбив австрийцев под Раабом и пробившись на соединение с главной армией. Под Ваграмом он много способствовал победе, а в русском походе он покрыл себя славой в последний, самый критический момент отступления. Когда армию покинули и император и Мюрат, Евгений стал во главе ее и спас все, что еще можно было спасти. Из катаклизма 1814–1815 годов, Евгений, зять короля Баварии, вышел сравнительно благополучно. Он сделался родоначальником герцогов Лейхтенбергских.
Таковы крупные деятели кровавых войн: лично храбрые, одаренные сперва большим запасом инициативы, они под конец делаются исполнителями воли знаменитого полководца и лишь в решительную минуту у некоторых из них просыпается прежняя инициатива. Выросшие среди безграничного служения честолюбию, которому император ставит определенные границы, они мало-помалу, за немногими исключениями, делаются эгоистично равнодушными к вождю, ссорятся друг с другом, не торопятся на помощь товарищу, злорадствуют его несчастью, жадно стремятся к почестям, не чужды местничества и алчны до денег. Сыновья простых крестьян, мелких торговцев, ремесленников, они часто невероятной личной доблестью создали себе блестящую судьбу, породнились с древними царствующими домами Европы и облеклись в мантию князей, герцогов и королей. Выросшие среди бурь военной непогоды, поднятые из народной массы на самый верх волной бурного патриотизма, они сами принуждены были отступить после героических усилий пред исполинской вспышкой оскорбленного народного чувства.
А. Васютинский

Наполеон-консул (Изабе) Бонапарт (Данжера)
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ