Первый период войны

Барклай-де-Толли (Рамка из грамоты Александра)
I. Подготовка России к войне и разрыв Подп. В. П. Федорова
 о мере того, как обнаруживались серьезные приготовления к войне со стороны Наполеона[40], Александр должен был прийти к сознанию необходимости принять и со своей стороны меры на случай разрыва. Неминуемость войны он понимал очень хорошо и знал, что она будет нести с собой большую опасность. Поэтому и приготовления России были очень тщательные уже с весны 1812 года.
о мере того, как обнаруживались серьезные приготовления к войне со стороны Наполеона[40], Александр должен был прийти к сознанию необходимости принять и со своей стороны меры на случай разрыва. Неминуемость войны он понимал очень хорошо и знал, что она будет нести с собой большую опасность. Поэтому и приготовления России были очень тщательные уже с весны 1812 года.
У нас спешно строили на западной границе две новых крепости: Бобруйск и Динабург; усиливали уже существующие укрепления Риги и Киева, и между Двиной и Дпепром выбирали места для будущих укрепленных позиций. Пять дивизий из молдавской армии, воевавшей с Турцией, получили приказ спешно вернуться назад к реке Днестру, а одна дивизия из Финляндии водворялась в Литве. Это отозвание пяти дивизий с Дуная и шестой из Финляндии весьма не понравилось Наполеону и он не преминул сделать об этом надлежащее представление в Петербург. Государь сейчас же ответил, что возвратит дивизии в Валахию, если, в свою очередь, Наполеон уменьшит гарнизон Данцига наполовину. Конечно, Наполеон на это не мог согласиться, но отвечал, что вообще усиление им войск в северной Германии происходит «не для угрожения России или из политических видов, но единственно в намерении обеспечить северные берега Германии от нападения англичан, подкрепить таможенную стражу, сохранить общественное спокойствие в этом новоприобретенном крае и, наконец, потому, что там дешевле содержать войска, нежели во Франции».
В переговорах о Варшавском и Ольденбургском герцогствах, о континентальной системе и торговом тарифе прошли 1810 и 1811 года[41]. Военные приготовления Наполеона приходили к концу. К нему возвращалась его уверенность в себе. 3 августа 1811 года в день именин Наполеона в тюльерийском дворце по обыкновению был большой съезд представителей европейских государств. Подойдя к нашему посланнику в Париже, князю Куракину, Наполеон в присутствии всех гостей обратился к нему с двухчасовой речью, трактовавшей о его миролюбии и обвинявшей императора Александра. Речь свою он закончил словами: «Император Александр не прекращает вооружений. Я не хочу вести войну, не думаю восстанавливать Польшу, но вы помышляете о присоединении к России Варшавского герцогства и Данцига. Без сомнения, у императора есть какая-нибудь скрытная мысль; пока тайные намерения вашего двора не будут объявлены, я не перестану умножать войск в Германии».
Само собой разумеется, что этой речью он никого из присутствующих не ввел в заблуждение, и все поняли ее так, как и следовало понять, т. е., что Наполеон желает оправдать себя и обвинить во всем императора Александра и что разрыв России с Францией неизбежен.
Конечно, князь Куракин тотчас же донес государю о речи Наполеона, и государь поспешил высказать свое изумление на слова французского императора: как могла даже возникнуть у него мысль, что государь имел какие-либо виды на герцогство Варшавское и в особенности на Данциг, который ему не нужен, и что у него достаточно своих внутренних дел управления государством; настолько достаточно, что даже нет времени думать о каких-либо новых приобретениях.
Военные приготовления Наполеона были завершены окончательно в сентябре 1811 года. Гроза была уже близка; и задерживало пока лишь наступившее позднее время года. Флигель-адъютант, полковник Чернышев доносил в это время государю: «Война решена в уме Наполеона, он теперь считает ее необходимой для достижения власти, которой ищет, цели, к которой стремятся все его усилия, т. е. обладания Европой. Мысль о мировладычестве так льстит его самолюбию и до такой степени занимает его, что никакие уступки, никакая сговорчивость с нашей стороны не могут уже отсрочить великой борьбы, долженствующей решить участь не одной России, но и всей твердой земли».
Что же предпринимал император Александр для увеличения боевой готовности России в предстоящей кровавой борьбе с Наполеоном.
К 1 января 1811 года состав нашей армии был следующий: 4 полка и 1 батальон гвардейские, 14 полков гренадерских, 80 мушкетерских, 46 егерских, 6 полков и 2 казачьих сотни гвардейской кавалерии, 6 полков кирасирских, 36 драгунских, 5 уланских и 11 гусарских; 25 бригад артиллерии, из которых одна гвардейская, 2 полка пионеров и учебных гренадерских батальона.
15 марта того же 1811 года Высочайше повелено было составить первую и вторую резервные и третью обсервационную армию, с каковой целью и был произведен рекрутский набор по два человека с 500 душ, а специально для пополнения убыли в гвардии, в Пскове был сформирован гвардейский резерв, но этим резервным армиям в виду наступивших вскоре военных действий так и не суждено было получить окончательную организацию.

«Наполеон и его сообщники убаюкивают и забавляют разными игрушками и побасенками Францию» (карик. Теребенева)
Из того же, что было у нас налицо и что успели сделать для сформирования резервов, было составлено три армии: 1-я западная, 2-я западная и 3-я дунайская. Из резервов на скорую руку были образованы 1 и 2 резервные армии, и, наконец, к 5 мая была еще сформирована 3-я обсервационная армия, порученная генералу-от-кавалерии, графу Тормасову, но нужно, опять-таки, не забывать, что резервные армии не успели получить окончательную организацию и, следовательно, не имели настоящего числа людей, а были скорее лишь кадрами трех действующих армий. Следовательно, при окончательном подведении итогов боевой готовности России к предстоящему кровавому спору во внимание принимать нужно лишь состав двух действующих армий и третьей обсервационной Тормасова, которая в силу необходимости сделалась тоже действующей, ибо дунайская армия Кутузова была еще далеко, да и не успела окончательно освободиться от Турецкой войны.
В первой западной армии под командой Барклая-де-Толли находилось в строю 127 тысяч человек при 558 орудиях. Они составляли 150 батальонов, 134 эскадрона и 18 казачьих полков.
В строю 2-й западной армии под командой генерала Багратиона было 48.000 чел. Разделена она была на 58 батальонов, 52 эскадрона и 9 казачьих полков при 216 орудиях.
В 3-й резервной обсервационной армии Тормасова было в строю 43.000 человек, составлявших 54 батальона, 75 эскадронов и 9 казачьих полков при 168 орудиях.
Итого во всех трех армиях находилось в строю 262 батальона, 261 эскадрон и 36 казачьих полков, составлявших 218 тысяч человек.
Сверх того из рекрутов последнего набора, которых собирали в Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Тамбов и Воронеж, были сформированы по два полка в каждом из этих городов. Причем в первых четырех формировались по 2 пехотных полка, а в остальных по два егерских. За неделю же до войны, т. е. в июне месяце 1812 года, полковник граф Витт сформировал украинское казачье войско в числе 4 полков. Эта скороспелая кавалерия состояла: из мещан, цеховых, помещичьих, казенных и экономических крестьян, призванных по одному человеку со 150 душ, и была сформирована, вооружена и обучена всего в один месяц. Все они поступили в армию Тормасова. Прибавим еще ко всему этому благородную стрелковую дружину отставного поручика Нирота, сформированную им на собственные средства из дворян в г. Юрьеве, и перечень всех наших вооруженных сил, приготовившихся для встречи Наполеона, окончен. Подведем им окончательный итог к июню месяцу 1812 года: у нас состояло в строю — в трех действующих армиях 218.000 человек, в запасных и рекрутских батальонах и эскадронах 100.000, во вновь сформированных 12 полках 23.800, в 4 Украинских 3.600. Итого для первого отпора Наполеону мы имели более 335 тысяч человек. Нужно оговориться, что в это число не входили: 2 полка пионеров, составлявшие всего 4.540 человек, и казачьи полки, бывшие пока еще на пути к армии.
Войска, находившиеся в Финляндии, в Грузии, на Кавказской линии, в Одессе и Крыму, в Сибири и, наконец, в Дунайской армии, которую задерживало неутверждение султаном мирного договора, конечно, тоже нельзя принимать в расчет, так как они нужны были там, где находились.
Естественно, что такая армия должна была обеспечить себя первым долгом огнестрельными припасами, составляющими первую и насущную необходимость войны. С этой целью артиллерийские парки были расположены в три линии. Первая линия стояла: в Вильне на 3 дивизии, в Динабурге на 5, в Несвиже на 1, в Бобруйске на 2, в Полонном на 3, в Киеве на 6.
Вторая линия: в Пскове на 4 дивизии, в Порхове на 4, в Шостке на 5, в Брянске на 4 и в Смоленске на 2.
Третья линия: в Москве на 2 дивизии, в Новгороде на 8 и в Калуге на 9. Следовательно, всего на трех линиях было заготовлено парков на 58 дивизий, с полным количеством артиллерийских снарядов, ружейных патронов и кремней. Для перевозки их было заготовлено достаточное количество подвод и людей.
Всю армию с ее резервами, артиллерийскими парками и т. д. нужно было продовольствовать. Провиантские магазины были, в свою очередь, расположены тоже в три линии. Так называемые «главные продовольственные депо» были в Новгороде, Трубчевске и Соснице. Главные магазины размещались: в Риге, Динабурге, Бобруйске, Киеве, Вильне, Заславле и Луцке. Магазины меньшего объема находились: в Дриссе, Великих Луках, Шавлях, Вилькомире, Свенцянах, Гродно, Брест-Литовске, Слониме, Слуцке, Пинске, Мозыре, Староконстантинове, Житомире, Остроге, Дубно и Ковеле.

Приготовление к войне. Акварель 1811 г. из собр. кн. В. Н. Аргутинского-Долгорукова («Старые годы»)
Всего в этих складах было заготовлено 625.855 четвертей муки, 58.446 крупы и 774.080 четвертей овса.
Военные приготовления Наполеона окончились к осени 1811 года; конечно, начинать войну в виду недалекой зимы было нельзя и волей-неволей ему пришлось оттягивать время. С этой целью он продолжал бесконечные переговоры о недоразумениях между Россией и Францией, т. е. об Ольденбургском герцогстве, о торговом тарифе и о злополучном Данциге, и в этих переговорах прошла вся зима 1811 года. В апреле 1812 года Наполеон прислал в Петербург графа Нарбонна с письмом государю, в котором говорилось, что требование о выводе французских войск из Пруссии равносильно оскорблению, и старался доказать, что не он будет виной, если разрыв все-таки произойдет. Вскоре и сам он отправился вслед за Нарбонном, и 4 мая прибыл в Дрезден. Его армия была уже на Висле: Даву стоял в Эльбинге и Мариенбурге, Удино — в Мариенвердере, Ней и гвардейский корпус — в Торне, вице-король Евгений — в Плоцке; Вандам, Ренье, Сен-Сир, Понятовский и четыре резервных кавалерийских корпуса между Варшавой и Модлином, Макдональд — в окрестностях Кенигсберга и Шварценберг — у Лемберга.
Не получая ответа от графа Нарбонна и зная, что государь находился при армии в Вильне, Наполеон приказал своему посланнику в Петербурге Лористону с разрешения нашего двора ехать в Вильну и там настоятельно подтвердить то, что было указано графу Нарбонну. Нетерпению Наполеона не было пределов. Еще не вернулся Нарбонн и вряд ли успел доехать до места курьер, отправленный к Лористону, как Наполеон 9 мая приказал корпусам, стоявшим на Висле, быть готовыми к походу. С целью возбудить поляков, он отправил в Варшаву мехельнского архиепископа Прадта и на прощальной аудиенции ему сказал: «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут там; Москва — сердце империи; без России континентальная система есть пустая мечта».

Выступление казаков
Граф Нарбонн 16 мая вернулся из Петербурга и вместо согласия на мир привез настоятельное требование императора Александра очистить Пруссию от французских войск. От себя Нарбонн добавил: «Я не заметил в русских ни уныния, ни надменности. Император Александр изъявил мне сожаление о разрыве союза с Францией, говоря, что не он первый подал к тому повод и, хотя знает силу и дарования вашего величества, однако же при одном взгляде на карту России легко убедиться, что для обороны места станет, и что ни под каким видом не подпишет он унизительного для России мира».
Уже незадолго до начала военных действий император Александр писал Барклаю-де-Толли: «Прошу вас, не робейте перед затруднениями, полагайтесь на Провидение Божие и Его правосудие. Не унывайте, но укрепите вашу душу великой целью, к которой мы стремимся: избавить человечество от ига, под коим оно стонет, и освободить Европу от цепей». Наполеон через Глогау и Позен отправился к Висле. В Торне был дан им окончательный приказ войскам двинуться к границе России. 29 мая он прибыл к Кенигсберг для окончательного устройства продовольственного вопроса армии, а оттуда через Велау и Инстербург — в Гумбинен. Здесь он получил известие от Лористона об отказе ему приехать в Вильну и счел это наилучшим предлогом для немедленного вторжения в Россию. «Дело решено! — говорил он. — Русские, всегда нами побежденные, принимают на себя вид победителей. Они вызывают нас, но, конечно, впоследствии придется нам отблагодарить их за такую дерзость. Останавливаться на пути — значит не пользоваться настоящим благоприятным случаем. Отказ Лористону прекращает мою мнительность и избавляет нас от непростительной ошибки. Сочтем за милость, что нас принуждают к войне; перейдем Неман».
Приказав корпусам как можно скорее поспешить походом к Неману, сам Наполеон отправился в Вильковиск и здесь издал свой знаменитый приказ по армии.
«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный мир с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого объяснения о странном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, предав во власть ее союзников наших. Россия увлекается роком! Судьба ее должна исполниться. Не считает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины Аустерлицкие? Россия ставит нас между бесчестием и войной. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман, внесем войну в русские пределы. Вторая польская война, подобно первой, прославит оружие французское; но мир, который мы заключим, будет прочен и положит конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы».
В. Федоров

Высочайшая грамота Александра I Барклаю-де-Толли
II. Расположение русских военных сил Проф., ген. Н. П. Михневича
 одготовка к войне с Наполеоном в России началась уже с 1809 года рекогносцировками пограничной полосы квартирмейстерскими офицерами, а в следующем 1810-м году была вторично произведена большая полевая поездка на западной границе, причем приступлено было к разработке плана войны. Но этот последний вопрос как-то не налаживался и, главным образом, потому, что не было окончательно решено — наступать или обороняться. Мнения в этом вопросе, как бывает всегда, расходились; но чем ближе надвигалась гроза войны, тем более начало обнаруживаться сторонников войны оборонительной. Оценивая своего противника Наполеона, естественно приходили к выводу, чтобы победить его, необходимо противопоставить ему систему затягивания войны отступлением, не вступая на первое время в решительное сражение, а предоставляя времени, суровости климата и опустошению страны ослабить армию противника и затем уже вступить с ним в бой. Для более верного успеха разрушения неприятельской армии предлагали частью сил наносить ей постоянные удары в тыл, чтобы отрезать ее от подкреплений и запасов. Даже многие невоенные признавали подобный способ ведения войны наилучшим. Так, еще до начала войны граф Ростопчин писал императору Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате… Русский император всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске».
одготовка к войне с Наполеоном в России началась уже с 1809 года рекогносцировками пограничной полосы квартирмейстерскими офицерами, а в следующем 1810-м году была вторично произведена большая полевая поездка на западной границе, причем приступлено было к разработке плана войны. Но этот последний вопрос как-то не налаживался и, главным образом, потому, что не было окончательно решено — наступать или обороняться. Мнения в этом вопросе, как бывает всегда, расходились; но чем ближе надвигалась гроза войны, тем более начало обнаруживаться сторонников войны оборонительной. Оценивая своего противника Наполеона, естественно приходили к выводу, чтобы победить его, необходимо противопоставить ему систему затягивания войны отступлением, не вступая на первое время в решительное сражение, а предоставляя времени, суровости климата и опустошению страны ослабить армию противника и затем уже вступить с ним в бой. Для более верного успеха разрушения неприятельской армии предлагали частью сил наносить ей постоянные удары в тыл, чтобы отрезать ее от подкреплений и запасов. Даже многие невоенные признавали подобный способ ведения войны наилучшим. Так, еще до начала войны граф Ростопчин писал императору Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате… Русский император всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске».

Ген. Ришелье (Гювер)
Конечно, императору Александру хотелось избавить отечество от вторжения неприятеля, и он все силы напрягал на увеличение средств борьбы и вначале верил даже в возможность наступления за границу, но слабость Пруссии и ненадежность, скорее враждебность, Польши заставили его отказаться от этой мысли. Приходилось думать об обороне, внушителем идей которой являлся генерал Фуль, пруссак, поступивший на русскую службу в 1806 году. Он был партизан стратегии Бюлова, рекомендовавшего основать оборону на ударах на сообщения армии наступающего и на уклонении от решительного боя с его главными силами. Чтобы этого достигнуть, Бюлов рекомендовал: одной армии задерживать неприятеля на пути его вторжения, а другой, пропустив его вперед, наступать ему в тыл, на сообщения.
Так было решено — выставить на границе две армии — Барклая-де-Толли и Багратиона и выжидать удара Наполеона на ту или другую армию, которая не должна была принимать удара, но отступать в приготовленный в тылу укрепленный лагерь, а в это время другая армия, не подвернувшаяся атаке противника, должна двинуться в тыл, на сообщения неприятеля. Впоследствии выяснилась возможность атаки со стороны Австрии на Волыни; тогда от армии Багратиона отделили половину и поставили к югу от Полесья еще 3-ю армию Тормасова, для встречи противника на Волыни.

Н. Ф. Ртищев
Против 600.000 Наполеона в марте 1812 г. Россия могла выставить около 220.000 войск[42].
Но и выставленные нами втрое слабейшие силы были разбросаны вдоль всей границы на 500 верст, считая по воздуху (от Луцка до Ковны); при таких условиях стратегического развертывания армии трудно было избежать катастрофы; и только, благодаря необыкновенной энергии войск и их начальников, удалось отступить и двум главным армиям соединиться под Смоленском.
Подробности расположения были следующие.
I-я западная армия Барклая-де-Толли: 1-й корпус Витгенштейна у Кейдан, 2-й кор. Багговута у Оржишек, 3-й кор. Тучкова 1-го у Новых Трок, 4-й кор. графа Шувалова у Олькеник, 5-й кор. великого князя Константина Павловича (в последствии Лаврова) у Свенцян, 6-й кор. Дохтурова у Лиды. Кавалерия стояла сзади: 1-й кав. корпус Уварова в Вилькомире, 2-й кав. кор. Корфа в Сморгони, 3-й кав. кор. графа Палена 2-го у Лебиоды; только летучий корпус Платова стоял немного впереди, у Гродны. 1-я армия 120.000 чел. была на фронте от Россиен до Лиды в 200 верст.
II-я западная армия князя Багратиона: 7-й корпус Раевского у Ново-Двора, 8-й кор. Бороздина у Волковиска, 4-й кавалер. кор. Сиверса у Зельвы, летучий отряд Иловайского 5-го выдвинут к Белостоку. Потом прибыла к армии 27-я пех. дивизия Неверовского. II-я армия 45.000 чел. занимала от Лиды до Волковиска — 100 верст.
III-я резервная обсервационная армия Тормасова — пехотные корпуса: Каменского, Маркова, Сакена и кавалер. корпус графа Ламберта и летучий отряд — всего около 46.000 чел. в окрестностях Луцка, к югу от Полесья.
Во второй линии за армиями стояли 2 резервных корпуса: 1-й Меллера-Закомельского у Таранца и 2-й Эртеля у Мозыря.
Это стратегическое развертывание указывает на стремление перехватить войсками три главнейших операционных направления к северу от Полесья: 1) Тильзит — Рига — Нарва — Петербург; 2)Ковно — Вильна — Смоленск — Москва и 3) Гродно — Минск — Могилев — Калуга — Москва, и операционное направление к югу от Полесья.
Перехватить тонкой линией кордона пути вторжения противника не значит оборонять их; напротив, приходится подставлять свои силы под его удары по частям и рисковать неуспехом в самом начале войны.

Ф. О. Паулуччи (Доу)
В решении вопроса о стратегическом развертывании армии перед войной 1812 г. наши деды сильно погрешили и не воспользовались примером Петра Великого, который в 1707 г. перед не менее страшным для России вторжением Карла XII расположил армию Шереметева сосредоточенно, за р. Уллой, между, даже посредине, операционными направлениями на Петербург (через Полоцк) и на Москву (через Смоленск) в полной готовности перейти и преградить путь всеми силами на том операционном, куда двинулся бы Карл XII.
При растянутом расположении наших армий по границе, сосредоточение их возможно было по отступлении далеко в тылу. Такой пункт и был намечен для 1-й западной армии Барклая-де-Толли у Свенцян, а потом, под натиском превосходного в силах неприятеля, она должна была отступить в нарочно устроенный для того на З. Двине Дрисский укрепленный лагерь, оказавшийся впоследствии никуда негодным.
II-я западная армия Багратиона и Платова должны были действовать на сообщения противника, когда он пойдет на I-ю армию, а III-я обсервационная армия Тормасова должна была наблюдать границы Волыни и Подолии и, усилив себя 2-м рез. корпусом Эртеля, действовать во фланг тем войскам, которые пойдут против Багратиона; в случае же превосходства в силах противника — отступать к Киеву.
Отдано приказание, чтобы корпуса были в непрерывной связи и разведывали к стороне неприятеля, а армиям во всех возможных случаях поддерживать друг друга. При переправе через Неман слабого неприятеля бить и уничтожать, а от сильнейшего отступать, портя дороги и переправы и устраивая засеки. При отступлении увозить всех земских чиновников, вывозить казну, военные запасы и оружие. Запасные магазины были заложены от Немана, с одной стороны, к З. Двине и Великим Лукам, с другой — к Минской и Волынской губерниям. Укрепляли Киев, Ригу, Борисов; строили укрепленный лагерь на левом берегу З. Двины, у Дриссы. Для облегчения соединения I-й и II-й армий, у м. Мосты и в Сельцах устроены предмостные укрепления и наведены мосты через Неман.

Ген.-от-инфант., граф Ф. Ф. Штейнгель (Клюквина с ориг. Доу)
В главе русских войск стояли опытные начальники, воспитанные в славных походах екатерининской эпохи и изучившие своих противников в войнах 1805, 1806–1807 и 1809 гг. Работа офицеров была серьезная. Молодежь вчитывалась в только что появившееся знаменитое сочинение Жомини: «О великих военных действиях», чтобы познать тайну побед. Это новое направление молодежи наш знаменитый поэт-партизан Д. В. отметил в следующих строках известной «Песни старого гусара»:
Говорят умней они…
Но что слышим от любого?
«Жомини да Жомини!»
А об водке ни пол-слова.
Как ни протестовали против плана обороны, предложенного Фулем, но он спас Россию. Вышло только по внешности некоторое изменение плана, а не по духу. Так, вначале Наполеон двинулся не против одной I-й армии, а сразу против I-й и II-й, к нашему благополучию, так как, погнавшись за двумя армиями, раздробив силы, он не захватил ни одной. Наши армии быстро отступили назад, причем 1-я армия сначала в Дрисский лагерь, но, простояв в нем четыре дня и убедившись в его негодности, пошла на соединение со II-й армией, которое и состоялось под Смоленском. Противники плана Фуля ликовали, но именно то торжество его идеи выяснилось с момента отступления наших главных сил к Москве. Против оставшихся в тылу войск Витгенштейна, Тормасова, Эртеля Наполеону пришлось оставить половину своей армии и на поле сражения под Бородином появиться всего с 150.000 чел., т. е. с четвертью имевшихся вначале в его распоряжении сил. Достаточно вспомнить, что против Витгенштейна и потом, прибывшего из Финляндии, Штейнгеля были оставлены: Макдональд, С.-Сир, Удино и Виктор — ведь это 125.000 человек. «Какой восторг, г. офицеры!» сказал бы Суворов.
Начало войны 1812 г. было грустное, а потом вышло удивительно хорошо. Известный прусский ученый философ Клаузевиц, участвовавший в войне 1812 г. при корпусе Витгенштейна, в своем знаменитом трактате «Война» пишет следующее:
«Высшая мудрость не могла изобрести плана лучше того, который русские исполнили непреднамеренно(?)…
Желая извлечь поучение из истории, мы не должны считать невозможным, чтобы раз совершившееся не могло повториться и в будущем. Всякий претендующий на право судить о подобных делах согласится с нами, что никак нельзя признать рядом случайностей ту вереницу грандиозных событий, которые совершились после марша в Москву».
Н. П. Михневич

Мадрид. Фонтенебло. Москва.
«Сверху — вниз» (карик. на Наполеона).
III. Вторжение. План Наполеона А. К. Дживелегова
 есколько выше Ковно, там, где в Неман впадает маленькая речка Еся, река образует большую луку в сторону западного берега. Восточный берег принимает здесь вид полуострова, длиной около 3 верст и шириной в полторы. Левый берег весь окаймлен возвышенностями, и как раз у самого устья Еси, у вершины луки высится большой холм, командующий над всем полуостровом и над рекой. Еще выше по течению — деревня Понемунь, дальше — остров.
есколько выше Ковно, там, где в Неман впадает маленькая речка Еся, река образует большую луку в сторону западного берега. Восточный берег принимает здесь вид полуострова, длиной около 3 верст и шириной в полторы. Левый берег весь окаймлен возвышенностями, и как раз у самого устья Еси, у вершины луки высится большой холм, командующий над всем полуостровом и над рекой. Еще выше по течению — деревня Понемунь, дальше — остров.
Это место избрал Наполеон для перехода через Неман главной части своей армии[43]. Накануне, 11 июня он тщательно осмотрел берега реки в окрестностях Ковно[44] и лучшего места найти не мог. Да и нечего было искать. Если бы даже противоположный берег был занят неприятельской армией, удобства местности были таковы, что переправа должна была совершиться без большого труда. Стоило поставить на возвышенности артиллерию, и наводка мостов была обеспечена.
Под вечер корпус Даву, который первым должен был ступить на русскую землю, подошел к реке и затих среди холмов и леса. Огней не разводили, и ничто не указывало на то, что через несколько часов десятки тысяч людей будут на той стороне реки. В эту пору темнеет поздно, и лишь с наступлением ночи подготовка переправы началась. Собрали лодок и поромов, сколько могли, и в темноте рота сапер переправилась на правый берег. Там они нашли утлую деревушку и укрепились в ней. Русские войска тщательно наблюдали Неман от Ковно до Гродно. Им было известны все передвижения неприятеля. Ближайшей от места переправы воинской частью был авангард 2-го пехотного корпуса под начальством ген. Всеволожского. Он занимал местечко Яново. Под командой Всеволожского были те казачьи разъезды, которые наблюдали за переправой (они принадлежали к л.-гв. Казачьему и Бугскому полкам)[45]. Когда французские саперы переправились, один из этих разъездов спокойно приблизился к ним и офицер спросил, что за люди. «Французы», был ответ. «Чего вы хотите и зачем вы в России?» продолжал спрашивать офицер. «Воевать с вами, взять Вильну, освободить Польшу!» Офицер не спрашивал дальше, повернул коня, и патруль быстро скрылся в лесу. Саперы послали ему вдогонку несколько пуль (Segur, т. I, 126). То были первые французские выстрелы, прозвучавшие в России. Завязалась перестрелка. Она послужила сигналом. Три роты пехоты немедленно переправились вслед за саперами, четвертая заняла остров, на возвышенностях левого берега развернулось несколько батарей. Из леса, из-за холмов показались войска. Без шуму подходили они к берегу, без шуму занимали места, дожидаясь очереди. Была торжественная, жуткая тишина. Солдаты словно чувствовали, что они идут на Голгофу. Наполеон почти не покидал своей палатки. В каком-то странном бессилии провел он весь этот день, и был вне себя, когда до слуха его донесся звук первых выстрелов.
В 11 часов вечера три моста были готовы, и едва стал светлеть восток, как потянулись живой нескончаемой лентой, неудержимым потоком, стряхнув оцепенение, железные легионы великой армии, покрытые славой стольких битв, лаврами стольких побед: уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, гусары, кирасиры, карабинеры, гренадеры, вольтижеры, велиты, фланкеры, стрелки, артиллерия, обозы…
Император переправился один из первых. Ступив на неприятельский берег, он долго стоял у мостов, ободряя солдат и слушая восторженные «Vive l'Empereur!». Потом, наэлектризованный, пришпорив коня, поскакал в лес во весь опор, и долго мчался вперед, совершенно один, в каком-то опьянении. Наконец опомнился, медленно вернулся к мостам, и, присоединившись к одному из гвардейских отрядов, направился в Ковно.
Погода хмурилась. Собирались тучи. И еще много оставалось войск по ту сторону Немана, когда разразилась жесточайшая летняя гроза. В продолжение нескольких часов оглушительные раскаты грома потрясали все кругом, вселяя ужас в суеверные души. Дождь лил, как под тропиками, не переставая, и дороги превратились постепенно в непроходимое болото, в котором завязали лошади и в котором приходилось бросать повозки. Холод и сырость сменили тропическую жару (Segur, там же, 130). Русское небо посылало свое предостережение баловню судьбы[46].

Ген.-от-инф. А. Д. Балашев (Клюквин)
Великая армия была в пределах России. Куда бросит ее несокрушимую силу воля Наполеона?
Можно утверждать с довольно большой определенностью, что общий план кампании у Наполеона изменился в течение похода. Он был один в Дрездене и Вильне, другой — в Смоленске. И нужно сказать, что тот, с которым он начинал свой поход, был не только лучше, но он был единственно возможный. Наполеона погубило то, что он от него отступил.
В Дрездене, в мае 1812 г., Наполеон уже знал, что ему приходится отказаться от надежды вызвать русскую армию на атаку после перехода через Неман. Он был готов к тому, что они будут уклоняться от битвы и отступать. И все-таки решил преследовать их только до известного предела. Он говорил Меттерниху: «Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение которых дается терпением. Торжество будет уделом более терпеливого. Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь в Вильне, где будет моя главная квартира в течение ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет сбросить с себя русское иго. И мы увидим, кто из нас двух устанет первый: я от того, что буду содержать свою армию насчет России, или Александр от того, что ему придется кормить мою армию насчет своей страны. И, может быть, я сам уеду на самые суровые месяцы зимы в Париж». Меттерних спросил Наполеона, что он будет делать, если оккупация Литвы не вынудит Александра к миру. Наполеон ответил: «Тогда, перезимовав, я двинусь к центру страны, и в 1813 году буду так же терпелив, как в 1812 г. Все, как я вам сказал, является вопросом времени» (Metlernich, Mem., т. I, 122). Наполеон не хитрил с Меттернихом. Он, действительно, излагал ему тот план, который он решил осуществлять в течение лета и осени 1812 года. И он еще в Вильне держался его твердо. Он говорил там Себастьяни: «Я не перейду Двину. Хотеть идти дальше в течение этого года, значит идти навстречу собственной гибели» (Segur, Hist. de Napoleon et de la grande armee, en 1812, т. I, 264). Мало того, уже в Смоленске Даву услышал от императора следующие слова, так обрадовавшие осторожного маршала: «Теперь моя линия отлично защищена. Остановимся здесь. За этой твердыней я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкреплений и снабжения из Данцига. Польша завоевана и хорошо защищена; это результат достаточный. В два месяца мы пожали такие плоды, которых могли ожидать разве в два года войны. Довольно! До весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армию. Тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем и завоюем его в Москве» (Segur, там же, стр. 265).

Переход через Неман 12 июня 1812 г. (Богетти)
Но он не выдержал этой тактики терпения, и захотел в первую же кампанию добиться того, что он сознательно откладывал до кампании 1813 года. Он не остановился ни в Минске, ни в Смоленске, а пошел на Москву. Что его побудило к этому?
Чтобы остановиться в Смоленске и Минске и зазимовать в Литве и Белоруссии, нужно было, чтобы кампания прошла с таким же блеском, с каким проходили кампании 1805, 1806, 1809 года. Иначе Париж и Европа могли дать знать о себе. Престиж империи требовал, раз война началась, чтобы было то, что сам Наполеон называл un grand coup. Он боялся, что раз война пойдет скучно, будет складываться из множества более или менее нерешительных дел, Франция начнет высказывать недовольство, подвластные и вассальные страны заволнуются. И кто мог предсказать, куда приведет это недовольство, во что выльется это волнение (Zurlinden, Napoleon et ses marechaux, т. I, 181).
Политика путала стратегические расчеты великого полководца[47].

На берегу Немана (Фабер дю-Фор — майор артиллерии Вюртембергской армии)
Переправясь через Неман, Наполеон решил врезаться между расположениями двух наших армий, отрезать, окружить и уничтожить Багратиона. Это было бы одним из тех grands coups, которые ему были нужны. Но Багратион ускользнул; под Смоленском наши армии соединились, и снова двинулись к Витебску. Наполеон обошел левое крыло русской армии и собирался внезапным захватом Смоленска пробить себе дорогу через Днепр, ударить русским в тыл (Mem. ecrits par les generaux sous la dictee de Napoleon, t. IV, 242–243) и разгромить их. Это тоже было бы grand coup, но это тоже не удалось. Помешал Неверовский. Взятие Смоленска стоило больших потерь и в стратегическом отношении крупного значения не имело.
При таких условиях остановиться на зимовку в Смоленске значило оживить все возможные недовольства и волнения во Франции и в Европе. Политика погнала Наполеона дальше и заставила его нарушить свой превосходный первоначальный план.
«Поход из Смоленска в Москву, — говорит Наполеон (там же, стр. 247), — был основан на мысли, что неприятель, для спасения столицы, даст сражение, что он будет разбит, что Москва будет взята, что Александр для ее спасения заключит мир». В случае упорства царя, Наполеон надеялся найти в Москве достаточно ресурсов для зимовки и рассчитывал еще оттуда вызвать крестьянское восстание. Предвидения оказались математически правильными, и взятие Москвы, конечно, было бы тем grand coup, в котором так нуждался Наполеон, если бы не Ростопчин и его красные петухи. Пожар Москвы привел к фиаско все стратегические планы Наполеона.
Александр около месяца уже был в Вильне. Вечером 12 июня он находился на балу у ген. Беннигсена. Тут ему шепотом доложили, что Наполеон в России. Пробыв еще некоторое время, он уехал. На утро появилась за его подписью прокламация к войскам, извещающая о начале войны, и рескрипт фельдмаршалу графу Н. И. Салтыкову, кончавшийся словами: «Оборона отечества, сохранение независимости и чести народной принудили нас препоясаться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». 13-го царь отправил к Наполеону ген.-адъютанта А. Д. Балашова с собственноручным письмом, а 14-го выехал сам в Свенцяны и дальше.
Великая армия быстро подвигалась вперед. Наша армия упорно защищалась, но, несмотря на целый ряд арьергардных стычек (см. указ. статью Поликарпова), не могла задержать наступления. Уже 15-го авангард Мюрата ночевал в Рыконтах, верстах в 20 от Вильны.
На следующий день, 16-го, произошло три небольших дела, завершившие Неман-Виленскую операцию: одно — самое крупное под Велилькомиром, на нашем правом фланге, где Удино опрокинул арьергард Витгенштейна[48], другое на левом, где Жером выбил из Гродно Платова, третье в центре, у самой Вильны, когда главные французские силы с боем вошли в город, тесня арьергард Барклая под начальством кн. Шаховского.
Барклай сначала думал было защищать Вильну. Поэтому он весь день 15-го пробыл еще в городе, подтягивая к себе войска, и только 16-го, под стремительным натиском французов, начал отступление, беспрерывно задерживая неприятеля арьергардными стычками.
Население Вильны встретило Наполеона восторженно. Но Наполеон, не останавливаясь, проехал через город на Свенцянскую дорогу, отдал необходимые приказания о преследовании русской армии, велел снабдить артиллерией командующие высоты и навести мосты на Вилии, и только потом вернулся в Вильну. Здесь 18-го он принял Балашова[49].
Миссия Балашова довольно подробно, но очень тенденциозно, изображена в «Войне и мире». В нашей историографии на нее обыкновенно смотрят, как на последнюю ставку на мир со стороны Александра. Это неверно. Миссия Балашова не была ставкой на мир. Она была лишь неискренней демонстрацией миролюбия. Как истый «византиец», Александр задумал ловкий ход, чтобы перед лицом Европы и России окончательно переложить ответственность за войну на французского императора. Балашов получил такие инструкции, которые делали невозможным открытие мирных переговоров. Он должен был требовать обратного перехода французов через границу. Вынудить Наполеона уйти за Неман, когда он перебросил в Россию полмиллиона вооруженных людей и занял целую русскую область, конечно, было нельзя, и Александр это, вероятно, понимал очень хорошо. Но начать переговоры теперь же, пока французы были еще в Вильне, Наполеон не отказывался. Этого не хотел Александр.
При таких условиях миссия Балашова была заранее обречена на неудачу, и положение его становилось смешным, когда он вынужден был выслушивать справедливые порой упреки Наполеона. Но связанный инструкцией, Балашов молчал и уехал мрачным вестником, как только его отпустили. Ужасы войны стали неотвратимы.
А. Дживелегов
IV. Наполеон и Польша

Пулавы (рис. Вогеля)
1. Занятие Польши
Проф. А. Л. Погодина
 Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.
Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Доминик Радзивил
Все это отлично ценил Наполеон. Придя к убеждению, что война с Россией становится неизбежной, французский император уже в 1811 году отправил в Варшаву резидентом Биньона, который был известен своим сочувствием полякам. На него была возложена миссия подготовить общественное мнение Польши к войне с Россией, и в инструкции, которую дал ему Наполеон, повторялись мысли, особенно дорогие полякам. На нового резидента возлагалась обязанность «дать правительству Герцогства направление, которое подготовило бы его к великим переменам, имеющим быть осуществленными императором на пользу польского народа. Намерение, которое ставил себе император, заключается в организации Польши в пределах целой или части ее передней территории, по возможности избегая войны. С этой целью Его Имп. Величество дал очень обширные полномочия своему послу в Петербурге и выслал в Вену специальное лицо, которое уполномочено вступить в переговоры с главными державами и предложить им большие уступки из территориальных владений Французской империи в виде возмещения тех уступок, которые необходимы для восстановления Польского королевства. Европа разделяется на три больших отдела: Французская империя на западе, Немецкие страны посредине и Российская империя на востоке. Англия может иметь лишь такое влияние на континенте, какое захотят признать за ней иные государства. С помощью сильной организации центра Европы, необходимо предотвратить возможность для России или Франции стараний расширить свои границы и получить перевес над всей остальной Европой. Французская империя переживает теперь расцвет своего могущества. Если она теперь же не создаст политического уклада Европы, завтра она может лишиться выгод своего теперешнего положения и потерять возможность осуществить свои предприятия. Император полагает, что наступит время, и притом в близком будущем, когда будет необходимо возвратить европейским государствам их полную независимость. Центр Европы должен состоять из государств, неравных в смысле своего могущества, имеющих каждое отдельную, лишь ему принадлежащую политику, — таких государств, из которых каждое в силу своего положения и политических отношений будет искать поддержки в защите более сильных держав. Эти государства будут всегда стоять на стороне мира, так как иначе им всегда бы приходилось делаться жертвами войны. В этих видах, создав новые государства и увеличив прежние, император предвидит для укрепления союзной системы еще один предмет, гораздо более важный для него и для Европы, т. е. восстановление Польши. Ибо без восстановления этого королевства Европа не будет иметь границ с этой стороны; Австрия и Германия будут противопоставлены непосредственно сильнейшему государству на свете. Император предвидит, что Польша и Пруссия будут со временем союзниками России; но, если Польша будет обязана ему своим возрождением, соединение этих двух народов наступит так поздно, что за это время новый порядок вещей уже успеет окрепнуть».

Доминик Прадт
Так пела сирена. Истинные намерения Наполеона, по-видимому, были очень далеки от этих блестящих грёз, и в ноте, отправленной в Петербург в то же самое время, было указано, что Россия стремится присоединить к своим владениям Варшавское герцогство, что она продолжает увеличивать свои земли на счет прежней Речи Посполитой, и что со своей стороны император Наполеон охотно гарантировал бы России отказ от всякого предприятия, которое могло бы повести к восстановлению Польши. Но все эти тайные переговоры оставались тайными, и политика французского императора проложила ему широкие пути в Польшу. Как же к этому относился Александр I? Мог ли он спокойно выжидать событий, не предпринимая со своей стороны никаких средств для привлечения на свою сторону Польши. Уже в начале 1811 года Александр вступил на свой обычный путь обещаний и уверений в письме к своему старому другу Черторийскому, с которым сотрудничество императора в сущности было уже прервано, возобновил свои прежние заявления о необходимости восстановить Польское королевство, для чего он ставил, однако, необходимым условием соединение его с Россией, соединение добровольное, подтвержденное подписями самых значительных лиц. Однако кое-какие попытки, сделанные Чарторийским в этом направлении, не привели ни к чему, и уже в апреле 1812 года Александр, по-видимому, ясно отдавал себе отчет в неосуществимости этой задачи при тогдашнем повышенном настроении и надеждах польского общества. И, с другой стороны, однако, он встречал поддержку своим замыслам. Один из влиятельнейших людей Литвы, богач и магнат Михаил Огинский, обратился к императору Александру с проектом особой организации Литвы. Это было в начале 1811 года и в продолжение всего этого года между Огинским, бывшим участником Костюшковского восстания, потом помилованным императором Александром и пожалованным в звание сенатора, и Александром шли переговоры о такой организации Литовского княжества, которая могла бы наиболее сблизить его с Россией. 1 декабря 1811 г. князь Огинский подал Александру мемориал, в котором он говорил уже как бы от имени населения Варшавского герцогства. «Не думаете ли вы, государь, — читаем мы в этом любопытном документе, — что жители Варшавского герцогства или же ваши польские подданные, мечтающие о восстановлении Польши, любят лично Наполеона? Конечно, нет. У них нет никакого основания питать к нему чувств любви и благодарности, но он ласкает их надежды, и они видят в нем воскресителя их Родины. Обратите, государь, это оружие против него, и вы увидите, что он лишится всей симпатии и энтузиазма: тогда их внушат уже ваши личные качества. Считая неоспоримыми истинами, что, во-первых, император Наполеон, в своей ненасытной жажде войн и завоеваний, недолго позволит России наслаждаться благами мира, что, во-вторых, он использует все имеющиеся средства для восстановления всех внешних врагов России и возбуждения умов внутри, что, в-третьих, самое действительное средство, которое он может обратить против России, есть восстановление Польши, — не может быть сомнения, что следует предупредить его намерения, и что сила мер сопротивления должна соответствовать нападению». Огинский предлагал восстановление Польши, под скипетром русского императора, и воссоединение ее с Литовским княжеством. По словам Огинского, мемориал его вызвал самое горячее сочувствие в Александре, который начал с литовским магнатом ту же самую игру, какую он так долго вел с польским. Однако было уже слишком поздно. Война была неизбежна, и исход ее и начало всех последующих реформ могли быть установлены теперь лишь силою оружия.

Тадеуш Матушевич
К войне и готовились теперь энергично оба врага. Наполеону было необходимо развязать себе руки со стороны Пруссии и Австрии, т. е. как раз тех государств, которые участвовали в разделе Польши и для которых восстановление ее было бы большим уроном. И вот он заключает договор с Австрией, в которой включаются тайные пункты о Галиции. Галиция должна остаться и впредь владением Австрии, в случае же, если известная часть ее отойдет к Польскому королевству, Австрия получит возмещение в виде Иллирийских провинций. Во всяком случае, не было и речи о восстановлении Польши в ее прежних границах. В Варшаве об этом не знали и ликовали, ожидая Наполеона.
В Познань, которая входила в состав герцогства Варшавского, Наполеон приехал 30 мая. Он был торжественно встречен делегатами саксонского короля, сенаторами Соболевским и Выбицким, которые сопровождали его до Торна. Отсюда, сделав военные распоряжения, император проехал в Данциг и Кенигсберг, где и остановился до 2 июня. Уже в Познани был выработан план дальнейших действий в Варшавском герцогстве. Не соглашаясь на «посполитое рушенье», обычное явление в прежней Польше, Наполеон допускал образование генеральной конфедерации, которая должна обратиться к нему с просьбой восстановить прежнюю Польшу и уже от себя обратиться к населению всей прежней Речи Посполитой (кроме Галиции) с призывом к восстанию и объединению с герцогством Варшавским. Разумеется, речь шла прежде всего о Литве, восстание которой против России было бы в высшей степени выгодно Наполеону. Чтобы еще более определенно подчеркнуть свое внимание к Польше, французский император решил заменить прежнего резидента Биньона полномочным посланником при герцоге варшавском, короле саксонском, епископом Мерлинским, ксендзом Прадтом. Действие этого назначения на настроение польского общества было громадно; в Варшаве это было понято, говорит историк Варшавского герцогства, Скарбек, как доказательство намерения Наполеона превратить этот город в ближайшем будущем в «столицу большого самостоятельного государства». Правда, Прадт повел себя с самого начала круто и обращался деспотически как с правительством, так и с самыми значительными людьми края, но разве может вести себя иначе посол великого монарха, утешали себя оптимисты? Правление краем перешло в руки совета сенаторов, назначенных герцогом варшавским, но фактически всем распоряжался Прадт. Вообще настроение толпы непосвященных было радостное, исполненное ожиданий; люди более дальновидные и близкие к политике тревожно покачивали головами, но делали вид, что все обстоит благополучно. Сам же Наполеон в своем обращении к солдатам называл предстоящую войну второй польской кампанией и, принимая польских делегатов, не щадил комплиментов и двусмысленных обещаний. Однако сам он со своими войсками, перейдя Неман, вступил в Литву, минуя Варшаву. Вместо него в Варшаву прибыл брат императора Иероним, который вел вестфальский корпус. Трудно было сделать менее удачный выбор. Наполеон точно нарочно хотел сказать полякам, чтобы они не слишком надеялись на него. Иероним распустил своих солдат до такой степени, что они предались грабежу помещичьих усадеб и крестьянских дворов, вызывая нередко вспышки дикой мести со стороны населения; сам же разъезжал со своим двором по имениям польских магнатов, кутил, заставляя содержать всю свою дворню. Только во второй половине июня французские войска очистили Варшаву, двинувшись на север. Вместе с Наполеоном пошли на север и польские войска в числе свыше 66 тыс. человек. Варшавское герцогство, разоренное и истощенное легкомысленной финансовой политикой, имевшее всего 4 миллиона населения, сделало невероятные усилия, чтобы выставить такое многочисленное войско. От французского императора ждали присылки оружия и экипировки. Но не дождались ничего.

Даву Удино (Собр. портретов в Версале)
Народ, переходивший из рук одного властелина к другому, неорганизованный и разбитый, чувствовал приближение новой эпохи в своей истории. Он не ошибся: наполеоновские войны создали для него новые условия существования, но как далеки они были от тех грез, которые сулил Наполеон! Прошли тяжелые десятилетия, прежде чем поляки научились полагаться не на того или другого благодетельного государя, но на собственную стойкость в стремлениях и труде.
А. Погодин

Варшава (рис. Вогеля)
2. Польская конфедерация в 1812 г.
Прив.-доц. В. И. Пичета
 ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.
ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.
Все верили в звезду Наполеона и счастье новой Польши, хотя никто в действительности не знал, каких взглядов держался сам Наполеон относительно будущих политических судеб Польши. Увлечение и вера в Наполеона были так сильны, что польское общество готово было на какие угодно пожертвования, лишь бы только была восстановлена старая Польша. Другого оно не желало, да и не могло желать, так как только полное возвращение оторванных областей могло поднять ресурсы страны и позволило бы Варшавскому герцогству выйти из того тяжелого экономического положения, в котором оно в действительности находилось. Не имея выхода к морю и лишенное самых лучших польских областей, Варшавское герцогство переживало затяжной экономический кризис, еще более обострившийся, благодаря реквизициям Наполеона.
Патриотический подъем был огромный, и, конечно, сторонники союза с Александром должны были отступить назад, перед этим энтузиазмом, которым были охвачены польские патриоты, почти не учитывавшие действительного положения дел. Да и едва ли они могли спокойно и объективно в них разобраться. Все только жили прекрасным будущим, и никто не хотел думать о возможных разочарованиях…
Наполеон пока думал о другом. Национальная идея, охватившая польское общество, могла быть только полезна ему и его планам. Он по-прежнему говорил о будущем Польши полунамеками, которые, тем не менее, укрепляли патриотические надежды, и в то же время имел в виду извлечь из этих неопределенных и неясных политических мечтаний пользу для себя. Ведь Наполеону, собственно, нужна была не возрожденная Польша, а только польская армия, польские средства… Намеки же на возможность восстановления Польши являлись средством взять от Польши все необходимое, вызывая не ропот, а улыбку благодарности и радости…

Лазенки. Летний королевский дворец в Варшаве (Вогеля)
В мае месяце союзные войска уже были в пределах Варшавского герцогства. Положение дел требовало экстренных мер. Указом 26 мая герцог Фридрих-Август возложил всю полноту исполнительной власти на совет министров, под личной ответственностью его членов. Требовалось лишь только условие, чтобы постановления министров утверждались большинством голосов, при перевесе голоса председателя. Совет министров счел нужным узнать голос нации, и 26 мая был опубликован декрет о созыве сейма, правда, с нарушением конституции Варшавского герцогства, так как требуемые сеймики не были собраны за недостатком времени, а обязанности послов и депутатов были возложены на тех, «которые по жребию должны были отказаться от своего звания, но не уволены еще от исполнения своих обязанностей до избрания заместителей, так и тех послов и депутатов, которые на последних сеймиках были выбраны лишь заместителями». Декрет не определял точно предмета занятий будущего сейма, но он выражал полную уверенность в том, что депутаты отнесутся к своим обязанностям с тем вниманием, которого требовало настоящее положение дел. «Помните, — таковы были последние слова довольно напыщенного декрета, — что, когда вы приступите к порогу святыни закона, на вас устремятся взоры всего мира, что судить вас будут не только нынешние, но и будущие поколения». День открытия столь поспешно собранного сейма был назначен на 23 июня.
После проверки выборов, 26 июня состоялось торжественное заседание сейма. Все депутаты были в сборе. Настроение у всех праздничное. Всеми чувствовалось наступление новой страницы польской истории. После молебствия сенаторы и послы ушли в отведенные для них помещения в посольской и сенаторской зале. Затем Маршалом сейма был избран глава политической партии — кн. Адам Чарторыйский. Избрание было единогласное. Затем послы опять вернулись в старый зал, где депутаты заняли назначенные для них места, а Маршал сейма принял установленную присягу.
Заседание сейма открылось речью министра финансов Матушевича, говорившего от имени совета министров. Вся она посвящена характеристике действительного состояния Варшавского герцогства. Министр был довольно откровенен в своей речи. Ему пришлось указать избранникам народа на тяжелое положение финансов герцогства и на возможность банкротства.
Правительство было занято отысканием новых источников налогов и доходов и в то же время думало о сокращении расходов. И то и другое не принесло существенной пользы. А между тем страну постигла засуха. Все посевы были уничтожены, а территория герцогства покрылась войсками. «Голод казался неизбежным… Истощенная казна могла оказать стране самую незначительную помощь». И трудно сказать, что было, если бы население не проявило «безграничной самоотверженности и того необычайного воодушевления, которое вас воодушевляет». В речи Матушевича не было слышно воинственных нот. Ее содержание скорее должно было убедить членов сейма в необходимости мира, но она не обратила на себя внимание сейма. Жажда патриотического подвига отодвинула на задний план всякие сомнения. Она не разбила политических иллюзий, и сейм горячо аплодировал словам министра, что «близок уже тот час, когда железо пожнет посевы на полях ваших, утраченных, благодаря милости Провидения, которое, по-видимому, обещает нам еще большие блага… Земля наша, орошенная кровью и слезами, обещает нам близкий и несомненный урожай… Разве мы не видим туч, которые несут тысячи громов? Меч погибели висит уже над головами виновников наших несчастий, над теми, кто одни противятся нашему счастью. Меч этот висит на одной только нити и, быть может, вскоре мы узнаем, что эта нить порвалась… Господа! вспомните о прошлом, взгляните на окружающее, проникнитесь самыми лучшими чувствами, а главным образом, ознаменуйте символами согласия и единения этот сейм, который навсегда будет памятен вам».
Это было встречено с восторгом. Все ждали скорого наступления золотого века для Польши. Надо было пользоваться политическими обстоятельствами, и поскорее политические мечты превратить в конкретные факты. Это всем казалось таким легким делом. Да и кто мог противодействовать? Государства, разделившие Польшу? Они слишком слабы и ничтожны, раз за спинами польских патриотов скрывался сам Наполеон, эта карающая рука Немезиды.
Вот почему сейм отнесся с энтузиазмом к петиции поляков, поданной 26 июня и подписанной весьма видными представителями польского общества. Петиция требовала от сейма активного выступления — немедленно приступить «к великому делу восстановления родины». «Теперь не время принимать случайные решения, — говорилось в петиции, — сетовать на общие страдания и прибегать к полумерам. Честь, любовь к родине, глас народа возлагают на вас теперь иные обязанности. Вознесите к ним ваши помыслы, все ваше мужество. Никто безнаказанно не упускал полезного случая. Теперь или никогда! Способ выполнения мы всецело вверяем вашему таланту и распоряжению. Вооруженная рука и пылающее мужество ждут только вашего знака. Дерзайте! За дело! Затрачено бесконечно много, нам осталось только одно мужество. Остается лишь достигнуть величайшего в мире блага — вернуть и передать нашим детям родину».
Голос народа был услышан сеймом. Образовалась комиссия для выработки акта конфедерации. Работа была спешная, напряженная и уже 29 июня сейму был представлен соответствующий доклад, являющейся прекрасным отражением воинственных чувств и настроений польского общества. Доклад не гонится за исторической правдой и объективностью. Скорее, неточность даже входила в планы комиссии: раз она звала польское общество на подвиг, к патриотическому служению, раз наступил такой великий исторический момент, который должен был «вывести поляков из лабиринта несчастий»… Кто виновники настоящего состояния Польши? Кто растерзал Польшу? «Россия — виновница всех наших несчастий. Уже полвека гигантскими шагами надвигается она к народам, раньше даже не знавшим ее имени. Польша первая испытала опасность нарождающейся мощи России, — России, которая, будучи ее соседкой, нанесла ей первый и последний удар». Борьба с Россией — это не только гражданский подвиг — это общечеловеческое служение, ибо «кто может соразмерить пределы замыслов России?»

Жозеф Понятовский (Павона)
До настоящего исторического момента, говорят составители доклада, все «слагалось на нашу гибель». Зато теперь «все идет к нашему восстановлению. Польша должна существовать!.. Но что я говорю? Она уже существует, или, вернее, она никогда не переставала существовать! При наличности ее прав, что значат коварство, шум и крик, при которых она пала. Да будет так! Мы восстановляем Польшу на твердыне права, данного нам природой, на объединениях наших предков, на святом праве, признанном всем миром, которое было купелью рода человеческого. Восстановляем Польшу не только мы, вкушающие сладость ее возрождения, но и все жители различных стран, ожидающих своего освобождения… Несмотря на продолжительную отторгнутость, жители Литвы, Белой Руси, Украины, Подолии и Волыни — наши братья. Они поляки, как и мы, они имеют право пока звать себя поляками». В таком настроении приступает сейм к генеральной конфедерации, установленной в тот же день. В самом акте конфедерации уже нет столько резких выходок против России, как в докладе комиссии. Представитель Наполеона — де-Прадт, счел нужным умерить патриотические чувства поляков и редактировал текст в более умеренном тоне. Сейм объявил себя генеральной конфедерацией, провозгласил «Польское королевство восстановленным и польский народ снова соединенным в одно целое». Генеральная конфедерация призывала всех поляков присоединиться к конфедерации «поодиночке или целыми обществами». Все части Польши также приглашались присоединиться к конфедерации, если только позволяет положение дел. После же присоединения, должны быть созваны сеймики, которые «пришлют выборных в генеральный совет для принесения заявления о вступлении в конфедерацию. Эти выборные будут членами объединенного сейма». Конфедерация клялась «Всемогущим Богом и именем всех поляков», что она доведет до конца и приложит все старания к приведению в исполнение великого дела, начатого ею; хотя в то же время возлагала надежды не столько на самое себя, сколько на Наполеона, прося принять его «под свое высокое покровительство колыбель возрожденной Польши»… Делами конфедерации заведует генеральный совет. Заседания сейма прерывались, и его члены распускались по домам.
Вскоре после открытия конфедерации саксонский курфюрст Фридрих-Август объявил манифестом (12 июля) о своем вступлении в генеральную конфедерацию, «желая приложить все усилия к делу восстановления родины».
От имени генеральной конфедерации к Наполеону была послана депутация для изъявления верноподданнических чувств Наполеону. Депутация была встречена милостиво. От их имени старший из депутатов, сенатор Выбицкий обратился к Наполеону с речью. Сенатор сообщал Наполеону об образовании генеральной конфедерации, «ибо пришло время требовать вознаграждения за нанесенные нашему народу обиды, и привести в исполнение важнейшее его намерение». Указав на право поляков на национальное самоопределение, оратор закончил свою речь патетическим обращением к Наполеону: «Неужели ваше величество не одобрите поступка, внушенного долгом поляка? Неужели почтете несправедливым то, что мы обратились к правам нашим? Решение уже принято; с этой минуты отечество наше, Польша, восстановлено! Ее существование обеспечено правом, но будет ли увенчано успехом… Неужели Всевышний не удовольствуется наказанием, ниспосланным за наши несогласия? Ужели захочет он увековечить наше несчастье и полякам, питавшим в сердцах своих любовь к отечеству, суждено будет сойти в гроб в отчаянии и без надежды? Нет, государь! Ты ниспослан Провидением, в тебе проявляется его сила и существованием нашего герцогства мы обязаны твоему могуществу». От имени конфедерации, ее депутат просил Наполеона принять ее под свое покровительство.
Наполеон отвечал на эту речь депутатов. В его словах много уверений в расположении к польскому народу, но нет прямого ответа на поставленный депутатами вопрос… «Я выслушал с большим интересом то, что вы сказали мне. На вашем месте, я думал бы и поступал, как и вы. Я точно так же действовал бы на Варшавском сейме, ибо любовь к отечеству — основная добродетель образованного человека. В моем положении приходится считаться с множеством интересов и выполнять много обязательств. Если бы я царствовал в пору первого и второго и третьего разделов, я вооружил бы весь мой народ, чтобы поддержать вас… Я люблю вашу нацию. Вот уже в течение 16 лет я видел ваших воинов, сражавшихся со мной на полях Италии и Испании. Я аплодирую вашим поступкам. Я одобряю все усилия, которые вы намерены употребить, и сделаю все, от меня зависящее, дабы поддержать ваши намерения. Если старания ваши будут единодушны, можете питать надежду заставить ваших врагов признать ваши права… Но я обещал императору австрийскому неприкосновенность его владений и не могу уполномочить вас ни к каким действиям, клонящимся к нарушению мирного обладания оставшихся в его владении польских областей… Пусть Литва, Самогития, Витебск, Полоцк, Могилев, Волынь, Украина и Подолия одушевляются тем же духом, который встретил я в великой Польше, и Провидение увенчает успехом святое ваше дело». Депутаты были в упоении от речи Наполеона, хотя в ней категорически говорилось о невозможности восстановления Польши в пределах 1772 г. Но эти слова прошли опять незаметно. Всех увлекла нарисованная Наполеоном картина — присоединение к Польше чуть ли не половины России, и никто не сомневался в возможности ее выполнения.

Польский офицер (Рис. Орловского. «Старые годы», 1902 г.)
Затем, издав детальные правила для присоединения к конфедерации и созыве и устройстве сеймиков, генеральная конфедерация приступила к активным подготовительным действиям для предполагаемого восстановления Польши.
Она обратилась с воззванием к полякам, проживавшим в России, с братским советом — присоединиться к конфедерации. Это требуют честь, национальные чувства и политические обстоятельства. Скорее «соединитесь с ними, — говорилось в вышеназванном обращении, — и в отмщение за столько позорных обид и оскорблений, нанесенных вам, обратите оружие против ваших притеснителей. Кровь, кровь врага есть лучшее украшение мужей в глазах отечества. Идите же по следам тех славных соотечественников, которые 18 лет тому назад, повинуясь голосу родины, без колебания, разорвали оковы и через дикие толпы пробрались к ней, устилая путь трупами тех самых рабов, которые теперь стараются удержать вас… Придите же, придите! Вас зовет родина, вас зовут братья ваши, простирая к вам руки, вас ждут их отверстые сердца. Вас ждут: правительство, святыни и родные знамена. Придите!.. Пусть наша родина, прославленная в целом свете любовью и самопожертвованием своих сынов, как нежная мать с ласковой улыбкой созывающая детей, рассеянных по лицу всей земли, в эти дни, на заре своей жизни, не нахмурит своего чела. Пусть не придется ей быть грозной и неумолимой для тех, кто в преступном ослеплении не побоится отречься от нее».

Польские костюмы нач. XIX в. (Racinet)
Одновременно конфедерация обратилась с воззванием к Литве и западным губерниям. Тон и содержание его те же. «Довершите вашим усердием, — говорит риторическое воззвание, — чтобы истосковавшаяся родина узрела всех истинных сынов своих, сплоченных одним духом, одной целью и едиными неразрывными узами. Общий враг расторгнул вечные союзы братства; мы должны надеяться, что общий избавитель возвратит и сплотит их:.. Дадим друг другу руку и решим — единомыслием, доверием, ревностью и общим стремлением к единой цели поддержать святое дело — возрождение отечества»…
Обращение генеральной конфедерации было встречено очень горячо в Литве. Временное литовское правительство немедленно постановило присоединиться к генеральной конфедерации и отправить делегатов в заседание генеральной конфедерации для выражения солидарности с польскими патриотами. 20 августа делегат произнес в совете речь, в которой подчеркнул те крепкие исторические узы, которые неразрывно связали Литву с Польшей. Вот почему «народ Литвы сливается с народом Польши, его стяг неразделен с польским народом, — он поспешно вступает в общую конфедерацию и будет руководиться этим актом, хранить его заветно и клянется ни в чем не отклоняться от общего начала. Примите же, славные поляки, Литву к вашему братскому сердцу». Стали присоединяться к генеральной конфедерации и западные губернии. 3 июля присоединился Брест-Литовск, давая клятву «содействовать всеми доступными человеку силами и способами тем ее предначертаниям, которые касаются дела освобождения всех частей нашей древней земли от неприятельской власти, и в этом полагаем главную цель наших усилий». 4 июля присоединился совет гродненской конфедерации, «ибо теперь разбиты позорные цепи, 18 лет давившие нас. Пора очнуться от тяжелого сна, в который мы были ввержены волей и тиранией насильника. Теперь настало время показать всему миру, что мы поляки, что мы еще не утратили того народного духа, которым гордились наши предки». «С сегодняшнего дня мы стали нацией. Польша уверена в своем существовании?..» Затем присоединились к конфедерации и другие города и провинции Северо-западного края.

Мюрат Ней (Собр. портретов в Версале)
Конфедерация открыла свои действия при самых хороших предзнаменованиях. Все жаждали патриотического подвига — все объединились под сенью Белого Орла. Казалось, скоро мечта воплотится в действительность, и поляки, живя в грезах, сами не жалели ни сил, ни средств, лишь бы удовлетворить требования их покровителя — Наполеона. Но жизнь разбила иллюзии. Рассеялся туман, сопровождавший великую армию. Покинутая своим полководцем, она возвращалась домой с поникшей головой. Теперь конфедерации приходилось уже думать не о возрождении Польши, а о самообороне, и перед этой жестокой необходимостью национальная мечта уходила в вечность… 20 ноября 1812 г. конфедерация издала свое последнее постановление о созыве всеобщего ополчения, ибо теперь, «вместе с чрезвычайными событиями войны, явилась необходимость обеспечить безопасность отечества — честь народа, наш долг и общая клятва того требуют. Дворяне поляки! на коней; к оружию. Вопрос идет о жизни и смерти, о существовании родины, о нашем быте, о судьбах наших потомков… Собирайтесь же по областям и уездам под знамена. Вас ожидает благодарность… Вас ожидают щедрые дары благодарного отечества… Говорим вам это от имени той же дорогой родины, во имя которой требуем от вас помощи. Собирайтесь скорее!»…
Великая армия ушла из Польши. Она не была восстановлена гением Наполеона. В Польшу вступали ее исконные враги. Вот почему приходилось думать о самообороне, временно отказавшись от сладостных грез, в надежде, что настанет некогда день, и Польша снова возродится, когда «великий воскреситель Польши снова придет на нашу землю, с тем же бесчисленным войском, чтобы вернуть нам утраченное в суровую пору невзгод».
В. Пичета

Медаль, выбитая по случаю взятия Вильны

Гр. Жозеф Сераковский (позднее чл. временного правительства в Литве) в Виленском соборе призывает 14 июля 1812 г. население принять сторону Наполеона. (Сераковский не был военным, каким он изображен на картине неизвестного немецкого художника)
Пулавы (рис. Вогеля)
1. Занятие Польши Проф. А. Л. Погодина
 Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.
Польше с нетерпением ждали начала военных действий между русскими и французскими войсками. Причины этого нетерпения были понятны: с первых лет вступления на престол императора Александра I с Россией связывались самые пылкие и восторженные надежды; ведь Александр так открыто выражал порицание разделам Речи Посполитой, так близок был с семьей князей Чарторийских и произносил такие многозначительные, хотя и не слишком ясные, речи в их главной резиденции, Пулавах (теперь посад Новая Александрия, в Люблинской губернии), что на русского императора, как на будущего воскресителя независимой Польши, польское общество привыкло смотреть с доверием и ожиданием. Основание герцогства Варшавского по Тильзитскому миру на время совсем вытеснило Александра из польских сердец, а около имени Наполеона создало легенду, не отжившую доныне, хотя не раз разоблаченную польскими же историками. И, действительно, французский император давал много поводов думать, что судьба Польши его горячо интересует: он подумывал о создании из Галиции отдельного маленького государства, он определил основы конституции герцогства, и не только в Польше, но и за границей в основании герцогства Варшавского видели «воскрешение Польши». Естественно поэтому, что с 1807 года каждый шаг Наполеона комментировался в духе этой легенды, и что популярность его в Польше была громадна. В это время появилась в печати «молитва для произнесения в костелах всех вероисповеданий в воскресные и праздничные дни». Здесь говорилось, между прочим, следующее: «Великий Боже, Ты, который сотворил Наполеона из духа мужества, мудрости и доброты и предназначил ему одной рукой громить врагов Польского Народа, а другой — воздвигнуть его для счастливого существования, борьбы и обладания, прими от народа Твоего глубокую благодарность за чудо воскрешения и за все дары, которые посылает нам благость Твоя. Прими горячие молитвы за Помазанника Твоего великого, Наполеона, Императора и Короля». Подобных молитв и славословий в стихах и прозе ходило множество, и польское общество пользовалось всяким случаем, чтобы выразить Наполеону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Доминик Радзивил
Все это отлично ценил Наполеон. Придя к убеждению, что война с Россией становится неизбежной, французский император уже в 1811 году отправил в Варшаву резидентом Биньона, который был известен своим сочувствием полякам. На него была возложена миссия подготовить общественное мнение Польши к войне с Россией, и в инструкции, которую дал ему Наполеон, повторялись мысли, особенно дорогие полякам. На нового резидента возлагалась обязанность «дать правительству Герцогства направление, которое подготовило бы его к великим переменам, имеющим быть осуществленными императором на пользу польского народа. Намерение, которое ставил себе император, заключается в организации Польши в пределах целой или части ее передней территории, по возможности избегая войны. С этой целью Его Имп. Величество дал очень обширные полномочия своему послу в Петербурге и выслал в Вену специальное лицо, которое уполномочено вступить в переговоры с главными державами и предложить им большие уступки из территориальных владений Французской империи в виде возмещения тех уступок, которые необходимы для восстановления Польского королевства. Европа разделяется на три больших отдела: Французская империя на западе, Немецкие страны посредине и Российская империя на востоке. Англия может иметь лишь такое влияние на континенте, какое захотят признать за ней иные государства. С помощью сильной организации центра Европы, необходимо предотвратить возможность для России или Франции стараний расширить свои границы и получить перевес над всей остальной Европой. Французская империя переживает теперь расцвет своего могущества. Если она теперь же не создаст политического уклада Европы, завтра она может лишиться выгод своего теперешнего положения и потерять возможность осуществить свои предприятия. Император полагает, что наступит время, и притом в близком будущем, когда будет необходимо возвратить европейским государствам их полную независимость. Центр Европы должен состоять из государств, неравных в смысле своего могущества, имеющих каждое отдельную, лишь ему принадлежащую политику, — таких государств, из которых каждое в силу своего положения и политических отношений будет искать поддержки в защите более сильных держав. Эти государства будут всегда стоять на стороне мира, так как иначе им всегда бы приходилось делаться жертвами войны. В этих видах, создав новые государства и увеличив прежние, император предвидит для укрепления союзной системы еще один предмет, гораздо более важный для него и для Европы, т. е. восстановление Польши. Ибо без восстановления этого королевства Европа не будет иметь границ с этой стороны; Австрия и Германия будут противопоставлены непосредственно сильнейшему государству на свете. Император предвидит, что Польша и Пруссия будут со временем союзниками России; но, если Польша будет обязана ему своим возрождением, соединение этих двух народов наступит так поздно, что за это время новый порядок вещей уже успеет окрепнуть».

Доминик Прадт
Так пела сирена. Истинные намерения Наполеона, по-видимому, были очень далеки от этих блестящих грёз, и в ноте, отправленной в Петербург в то же самое время, было указано, что Россия стремится присоединить к своим владениям Варшавское герцогство, что она продолжает увеличивать свои земли на счет прежней Речи Посполитой, и что со своей стороны император Наполеон охотно гарантировал бы России отказ от всякого предприятия, которое могло бы повести к восстановлению Польши. Но все эти тайные переговоры оставались тайными, и политика французского императора проложила ему широкие пути в Польшу. Как же к этому относился Александр I? Мог ли он спокойно выжидать событий, не предпринимая со своей стороны никаких средств для привлечения на свою сторону Польши. Уже в начале 1811 года Александр вступил на свой обычный путь обещаний и уверений в письме к своему старому другу Черторийскому, с которым сотрудничество императора в сущности было уже прервано, возобновил свои прежние заявления о необходимости восстановить Польское королевство, для чего он ставил, однако, необходимым условием соединение его с Россией, соединение добровольное, подтвержденное подписями самых значительных лиц. Однако кое-какие попытки, сделанные Чарторийским в этом направлении, не привели ни к чему, и уже в апреле 1812 года Александр, по-видимому, ясно отдавал себе отчет в неосуществимости этой задачи при тогдашнем повышенном настроении и надеждах польского общества. И, с другой стороны, однако, он встречал поддержку своим замыслам. Один из влиятельнейших людей Литвы, богач и магнат Михаил Огинский, обратился к императору Александру с проектом особой организации Литвы. Это было в начале 1811 года и в продолжение всего этого года между Огинским, бывшим участником Костюшковского восстания, потом помилованным императором Александром и пожалованным в звание сенатора, и Александром шли переговоры о такой организации Литовского княжества, которая могла бы наиболее сблизить его с Россией. 1 декабря 1811 г. князь Огинский подал Александру мемориал, в котором он говорил уже как бы от имени населения Варшавского герцогства. «Не думаете ли вы, государь, — читаем мы в этом любопытном документе, — что жители Варшавского герцогства или же ваши польские подданные, мечтающие о восстановлении Польши, любят лично Наполеона? Конечно, нет. У них нет никакого основания питать к нему чувств любви и благодарности, но он ласкает их надежды, и они видят в нем воскресителя их Родины. Обратите, государь, это оружие против него, и вы увидите, что он лишится всей симпатии и энтузиазма: тогда их внушат уже ваши личные качества. Считая неоспоримыми истинами, что, во-первых, император Наполеон, в своей ненасытной жажде войн и завоеваний, недолго позволит России наслаждаться благами мира, что, во-вторых, он использует все имеющиеся средства для восстановления всех внешних врагов России и возбуждения умов внутри, что, в-третьих, самое действительное средство, которое он может обратить против России, есть восстановление Польши, — не может быть сомнения, что следует предупредить его намерения, и что сила мер сопротивления должна соответствовать нападению». Огинский предлагал восстановление Польши, под скипетром русского императора, и воссоединение ее с Литовским княжеством. По словам Огинского, мемориал его вызвал самое горячее сочувствие в Александре, который начал с литовским магнатом ту же самую игру, какую он так долго вел с польским. Однако было уже слишком поздно. Война была неизбежна, и исход ее и начало всех последующих реформ могли быть установлены теперь лишь силою оружия.

Тадеуш Матушевич
К войне и готовились теперь энергично оба врага. Наполеону было необходимо развязать себе руки со стороны Пруссии и Австрии, т. е. как раз тех государств, которые участвовали в разделе Польши и для которых восстановление ее было бы большим уроном. И вот он заключает договор с Австрией, в которой включаются тайные пункты о Галиции. Галиция должна остаться и впредь владением Австрии, в случае же, если известная часть ее отойдет к Польскому королевству, Австрия получит возмещение в виде Иллирийских провинций. Во всяком случае, не было и речи о восстановлении Польши в ее прежних границах. В Варшаве об этом не знали и ликовали, ожидая Наполеона.
В Познань, которая входила в состав герцогства Варшавского, Наполеон приехал 30 мая. Он был торжественно встречен делегатами саксонского короля, сенаторами Соболевским и Выбицким, которые сопровождали его до Торна. Отсюда, сделав военные распоряжения, император проехал в Данциг и Кенигсберг, где и остановился до 2 июня. Уже в Познани был выработан план дальнейших действий в Варшавском герцогстве. Не соглашаясь на «посполитое рушенье», обычное явление в прежней Польше, Наполеон допускал образование генеральной конфедерации, которая должна обратиться к нему с просьбой восстановить прежнюю Польшу и уже от себя обратиться к населению всей прежней Речи Посполитой (кроме Галиции) с призывом к восстанию и объединению с герцогством Варшавским. Разумеется, речь шла прежде всего о Литве, восстание которой против России было бы в высшей степени выгодно Наполеону. Чтобы еще более определенно подчеркнуть свое внимание к Польше, французский император решил заменить прежнего резидента Биньона полномочным посланником при герцоге варшавском, короле саксонском, епископом Мерлинским, ксендзом Прадтом. Действие этого назначения на настроение польского общества было громадно; в Варшаве это было понято, говорит историк Варшавского герцогства, Скарбек, как доказательство намерения Наполеона превратить этот город в ближайшем будущем в «столицу большого самостоятельного государства». Правда, Прадт повел себя с самого начала круто и обращался деспотически как с правительством, так и с самыми значительными людьми края, но разве может вести себя иначе посол великого монарха, утешали себя оптимисты? Правление краем перешло в руки совета сенаторов, назначенных герцогом варшавским, но фактически всем распоряжался Прадт. Вообще настроение толпы непосвященных было радостное, исполненное ожиданий; люди более дальновидные и близкие к политике тревожно покачивали головами, но делали вид, что все обстоит благополучно. Сам же Наполеон в своем обращении к солдатам называл предстоящую войну второй польской кампанией и, принимая польских делегатов, не щадил комплиментов и двусмысленных обещаний. Однако сам он со своими войсками, перейдя Неман, вступил в Литву, минуя Варшаву. Вместо него в Варшаву прибыл брат императора Иероним, который вел вестфальский корпус. Трудно было сделать менее удачный выбор. Наполеон точно нарочно хотел сказать полякам, чтобы они не слишком надеялись на него. Иероним распустил своих солдат до такой степени, что они предались грабежу помещичьих усадеб и крестьянских дворов, вызывая нередко вспышки дикой мести со стороны населения; сам же разъезжал со своим двором по имениям польских магнатов, кутил, заставляя содержать всю свою дворню. Только во второй половине июня французские войска очистили Варшаву, двинувшись на север. Вместе с Наполеоном пошли на север и польские войска в числе свыше 66 тыс. человек. Варшавское герцогство, разоренное и истощенное легкомысленной финансовой политикой, имевшее всего 4 миллиона населения, сделало невероятные усилия, чтобы выставить такое многочисленное войско. От французского императора ждали присылки оружия и экипировки. Но не дождались ничего.

Даву Удино (Собр. портретов в Версале)
Народ, переходивший из рук одного властелина к другому, неорганизованный и разбитый, чувствовал приближение новой эпохи в своей истории. Он не ошибся: наполеоновские войны создали для него новые условия существования, но как далеки они были от тех грез, которые сулил Наполеон! Прошли тяжелые десятилетия, прежде чем поляки научились полагаться не на того или другого благодетельного государя, но на собственную стойкость в стремлениях и труде.
А. Погодин

Варшава (рис. Вогеля)
2. Польская конфедерация в 1812 г. Прив.-доц. В. И. Пичета
 ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.
ольское общество с нетерпением ожидало начала войны Наполеона с Александром. Оно почти не сомневалось в конечном результате задуманного похода и радостно всматривалось в ближайшее будущее. Перед его глазами не в грёзах и сновидениях, а в реальных очертаниях постоянно стояла возрожденная Польша, в том виде, в каком она находилась до разделов. Патриотические сердца бились в унисон, и никто не хотел обращать внимание на слова и замечания, противоречившие этим надеждам и ожиданиям. Все жили только Наполеоном. Только он царил над умами. Его считали апостолом свободы, воскресителем новой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономических ресурсов страны, доведшую ее до полного разорения.
Все верили в звезду Наполеона и счастье новой Польши, хотя никто в действительности не знал, каких взглядов держался сам Наполеон относительно будущих политических судеб Польши. Увлечение и вера в Наполеона были так сильны, что польское общество готово было на какие угодно пожертвования, лишь бы только была восстановлена старая Польша. Другого оно не желало, да и не могло желать, так как только полное возвращение оторванных областей могло поднять ресурсы страны и позволило бы Варшавскому герцогству выйти из того тяжелого экономического положения, в котором оно в действительности находилось. Не имея выхода к морю и лишенное самых лучших польских областей, Варшавское герцогство переживало затяжной экономический кризис, еще более обострившийся, благодаря реквизициям Наполеона.
Патриотический подъем был огромный, и, конечно, сторонники союза с Александром должны были отступить назад, перед этим энтузиазмом, которым были охвачены польские патриоты, почти не учитывавшие действительного положения дел. Да и едва ли они могли спокойно и объективно в них разобраться. Все только жили прекрасным будущим, и никто не хотел думать о возможных разочарованиях…
Наполеон пока думал о другом. Национальная идея, охватившая польское общество, могла быть только полезна ему и его планам. Он по-прежнему говорил о будущем Польши полунамеками, которые, тем не менее, укрепляли патриотические надежды, и в то же время имел в виду извлечь из этих неопределенных и неясных политических мечтаний пользу для себя. Ведь Наполеону, собственно, нужна была не возрожденная Польша, а только польская армия, польские средства… Намеки же на возможность восстановления Польши являлись средством взять от Польши все необходимое, вызывая не ропот, а улыбку благодарности и радости…

Лазенки. Летний королевский дворец в Варшаве (Вогеля)
В мае месяце союзные войска уже были в пределах Варшавского герцогства. Положение дел требовало экстренных мер. Указом 26 мая герцог Фридрих-Август возложил всю полноту исполнительной власти на совет министров, под личной ответственностью его членов. Требовалось лишь только условие, чтобы постановления министров утверждались большинством голосов, при перевесе голоса председателя. Совет министров счел нужным узнать голос нации, и 26 мая был опубликован декрет о созыве сейма, правда, с нарушением конституции Варшавского герцогства, так как требуемые сеймики не были собраны за недостатком времени, а обязанности послов и депутатов были возложены на тех, «которые по жребию должны были отказаться от своего звания, но не уволены еще от исполнения своих обязанностей до избрания заместителей, так и тех послов и депутатов, которые на последних сеймиках были выбраны лишь заместителями». Декрет не определял точно предмета занятий будущего сейма, но он выражал полную уверенность в том, что депутаты отнесутся к своим обязанностям с тем вниманием, которого требовало настоящее положение дел. «Помните, — таковы были последние слова довольно напыщенного декрета, — что, когда вы приступите к порогу святыни закона, на вас устремятся взоры всего мира, что судить вас будут не только нынешние, но и будущие поколения». День открытия столь поспешно собранного сейма был назначен на 23 июня.
После проверки выборов, 26 июня состоялось торжественное заседание сейма. Все депутаты были в сборе. Настроение у всех праздничное. Всеми чувствовалось наступление новой страницы польской истории. После молебствия сенаторы и послы ушли в отведенные для них помещения в посольской и сенаторской зале. Затем Маршалом сейма был избран глава политической партии — кн. Адам Чарторыйский. Избрание было единогласное. Затем послы опять вернулись в старый зал, где депутаты заняли назначенные для них места, а Маршал сейма принял установленную присягу.
Заседание сейма открылось речью министра финансов Матушевича, говорившего от имени совета министров. Вся она посвящена характеристике действительного состояния Варшавского герцогства. Министр был довольно откровенен в своей речи. Ему пришлось указать избранникам народа на тяжелое положение финансов герцогства и на возможность банкротства.
Правительство было занято отысканием новых источников налогов и доходов и в то же время думало о сокращении расходов. И то и другое не принесло существенной пользы. А между тем страну постигла засуха. Все посевы были уничтожены, а территория герцогства покрылась войсками. «Голод казался неизбежным… Истощенная казна могла оказать стране самую незначительную помощь». И трудно сказать, что было, если бы население не проявило «безграничной самоотверженности и того необычайного воодушевления, которое вас воодушевляет». В речи Матушевича не было слышно воинственных нот. Ее содержание скорее должно было убедить членов сейма в необходимости мира, но она не обратила на себя внимание сейма. Жажда патриотического подвига отодвинула на задний план всякие сомнения. Она не разбила политических иллюзий, и сейм горячо аплодировал словам министра, что «близок уже тот час, когда железо пожнет посевы на полях ваших, утраченных, благодаря милости Провидения, которое, по-видимому, обещает нам еще большие блага… Земля наша, орошенная кровью и слезами, обещает нам близкий и несомненный урожай… Разве мы не видим туч, которые несут тысячи громов? Меч погибели висит уже над головами виновников наших несчастий, над теми, кто одни противятся нашему счастью. Меч этот висит на одной только нити и, быть может, вскоре мы узнаем, что эта нить порвалась… Господа! вспомните о прошлом, взгляните на окружающее, проникнитесь самыми лучшими чувствами, а главным образом, ознаменуйте символами согласия и единения этот сейм, который навсегда будет памятен вам».
Это было встречено с восторгом. Все ждали скорого наступления золотого века для Польши. Надо было пользоваться политическими обстоятельствами, и поскорее политические мечты превратить в конкретные факты. Это всем казалось таким легким делом. Да и кто мог противодействовать? Государства, разделившие Польшу? Они слишком слабы и ничтожны, раз за спинами польских патриотов скрывался сам Наполеон, эта карающая рука Немезиды.
Вот почему сейм отнесся с энтузиазмом к петиции поляков, поданной 26 июня и подписанной весьма видными представителями польского общества. Петиция требовала от сейма активного выступления — немедленно приступить «к великому делу восстановления родины». «Теперь не время принимать случайные решения, — говорилось в петиции, — сетовать на общие страдания и прибегать к полумерам. Честь, любовь к родине, глас народа возлагают на вас теперь иные обязанности. Вознесите к ним ваши помыслы, все ваше мужество. Никто безнаказанно не упускал полезного случая. Теперь или никогда! Способ выполнения мы всецело вверяем вашему таланту и распоряжению. Вооруженная рука и пылающее мужество ждут только вашего знака. Дерзайте! За дело! Затрачено бесконечно много, нам осталось только одно мужество. Остается лишь достигнуть величайшего в мире блага — вернуть и передать нашим детям родину».
Голос народа был услышан сеймом. Образовалась комиссия для выработки акта конфедерации. Работа была спешная, напряженная и уже 29 июня сейму был представлен соответствующий доклад, являющейся прекрасным отражением воинственных чувств и настроений польского общества. Доклад не гонится за исторической правдой и объективностью. Скорее, неточность даже входила в планы комиссии: раз она звала польское общество на подвиг, к патриотическому служению, раз наступил такой великий исторический момент, который должен был «вывести поляков из лабиринта несчастий»… Кто виновники настоящего состояния Польши? Кто растерзал Польшу? «Россия — виновница всех наших несчастий. Уже полвека гигантскими шагами надвигается она к народам, раньше даже не знавшим ее имени. Польша первая испытала опасность нарождающейся мощи России, — России, которая, будучи ее соседкой, нанесла ей первый и последний удар». Борьба с Россией — это не только гражданский подвиг — это общечеловеческое служение, ибо «кто может соразмерить пределы замыслов России?»

Жозеф Понятовский (Павона)
До настоящего исторического момента, говорят составители доклада, все «слагалось на нашу гибель». Зато теперь «все идет к нашему восстановлению. Польша должна существовать!.. Но что я говорю? Она уже существует, или, вернее, она никогда не переставала существовать! При наличности ее прав, что значат коварство, шум и крик, при которых она пала. Да будет так! Мы восстановляем Польшу на твердыне права, данного нам природой, на объединениях наших предков, на святом праве, признанном всем миром, которое было купелью рода человеческого. Восстановляем Польшу не только мы, вкушающие сладость ее возрождения, но и все жители различных стран, ожидающих своего освобождения… Несмотря на продолжительную отторгнутость, жители Литвы, Белой Руси, Украины, Подолии и Волыни — наши братья. Они поляки, как и мы, они имеют право пока звать себя поляками». В таком настроении приступает сейм к генеральной конфедерации, установленной в тот же день. В самом акте конфедерации уже нет столько резких выходок против России, как в докладе комиссии. Представитель Наполеона — де-Прадт, счел нужным умерить патриотические чувства поляков и редактировал текст в более умеренном тоне. Сейм объявил себя генеральной конфедерацией, провозгласил «Польское королевство восстановленным и польский народ снова соединенным в одно целое». Генеральная конфедерация призывала всех поляков присоединиться к конфедерации «поодиночке или целыми обществами». Все части Польши также приглашались присоединиться к конфедерации, если только позволяет положение дел. После же присоединения, должны быть созваны сеймики, которые «пришлют выборных в генеральный совет для принесения заявления о вступлении в конфедерацию. Эти выборные будут членами объединенного сейма». Конфедерация клялась «Всемогущим Богом и именем всех поляков», что она доведет до конца и приложит все старания к приведению в исполнение великого дела, начатого ею; хотя в то же время возлагала надежды не столько на самое себя, сколько на Наполеона, прося принять его «под свое высокое покровительство колыбель возрожденной Польши»… Делами конфедерации заведует генеральный совет. Заседания сейма прерывались, и его члены распускались по домам.
Вскоре после открытия конфедерации саксонский курфюрст Фридрих-Август объявил манифестом (12 июля) о своем вступлении в генеральную конфедерацию, «желая приложить все усилия к делу восстановления родины».
От имени генеральной конфедерации к Наполеону была послана депутация для изъявления верноподданнических чувств Наполеону. Депутация была встречена милостиво. От их имени старший из депутатов, сенатор Выбицкий обратился к Наполеону с речью. Сенатор сообщал Наполеону об образовании генеральной конфедерации, «ибо пришло время требовать вознаграждения за нанесенные нашему народу обиды, и привести в исполнение важнейшее его намерение». Указав на право поляков на национальное самоопределение, оратор закончил свою речь патетическим обращением к Наполеону: «Неужели ваше величество не одобрите поступка, внушенного долгом поляка? Неужели почтете несправедливым то, что мы обратились к правам нашим? Решение уже принято; с этой минуты отечество наше, Польша, восстановлено! Ее существование обеспечено правом, но будет ли увенчано успехом… Неужели Всевышний не удовольствуется наказанием, ниспосланным за наши несогласия? Ужели захочет он увековечить наше несчастье и полякам, питавшим в сердцах своих любовь к отечеству, суждено будет сойти в гроб в отчаянии и без надежды? Нет, государь! Ты ниспослан Провидением, в тебе проявляется его сила и существованием нашего герцогства мы обязаны твоему могуществу». От имени конфедерации, ее депутат просил Наполеона принять ее под свое покровительство.
Наполеон отвечал на эту речь депутатов. В его словах много уверений в расположении к польскому народу, но нет прямого ответа на поставленный депутатами вопрос… «Я выслушал с большим интересом то, что вы сказали мне. На вашем месте, я думал бы и поступал, как и вы. Я точно так же действовал бы на Варшавском сейме, ибо любовь к отечеству — основная добродетель образованного человека. В моем положении приходится считаться с множеством интересов и выполнять много обязательств. Если бы я царствовал в пору первого и второго и третьего разделов, я вооружил бы весь мой народ, чтобы поддержать вас… Я люблю вашу нацию. Вот уже в течение 16 лет я видел ваших воинов, сражавшихся со мной на полях Италии и Испании. Я аплодирую вашим поступкам. Я одобряю все усилия, которые вы намерены употребить, и сделаю все, от меня зависящее, дабы поддержать ваши намерения. Если старания ваши будут единодушны, можете питать надежду заставить ваших врагов признать ваши права… Но я обещал императору австрийскому неприкосновенность его владений и не могу уполномочить вас ни к каким действиям, клонящимся к нарушению мирного обладания оставшихся в его владении польских областей… Пусть Литва, Самогития, Витебск, Полоцк, Могилев, Волынь, Украина и Подолия одушевляются тем же духом, который встретил я в великой Польше, и Провидение увенчает успехом святое ваше дело». Депутаты были в упоении от речи Наполеона, хотя в ней категорически говорилось о невозможности восстановления Польши в пределах 1772 г. Но эти слова прошли опять незаметно. Всех увлекла нарисованная Наполеоном картина — присоединение к Польше чуть ли не половины России, и никто не сомневался в возможности ее выполнения.

Польский офицер (Рис. Орловского. «Старые годы», 1902 г.)
Затем, издав детальные правила для присоединения к конфедерации и созыве и устройстве сеймиков, генеральная конфедерация приступила к активным подготовительным действиям для предполагаемого восстановления Польши.
Она обратилась с воззванием к полякам, проживавшим в России, с братским советом — присоединиться к конфедерации. Это требуют честь, национальные чувства и политические обстоятельства. Скорее «соединитесь с ними, — говорилось в вышеназванном обращении, — и в отмщение за столько позорных обид и оскорблений, нанесенных вам, обратите оружие против ваших притеснителей. Кровь, кровь врага есть лучшее украшение мужей в глазах отечества. Идите же по следам тех славных соотечественников, которые 18 лет тому назад, повинуясь голосу родины, без колебания, разорвали оковы и через дикие толпы пробрались к ней, устилая путь трупами тех самых рабов, которые теперь стараются удержать вас… Придите же, придите! Вас зовет родина, вас зовут братья ваши, простирая к вам руки, вас ждут их отверстые сердца. Вас ждут: правительство, святыни и родные знамена. Придите!.. Пусть наша родина, прославленная в целом свете любовью и самопожертвованием своих сынов, как нежная мать с ласковой улыбкой созывающая детей, рассеянных по лицу всей земли, в эти дни, на заре своей жизни, не нахмурит своего чела. Пусть не придется ей быть грозной и неумолимой для тех, кто в преступном ослеплении не побоится отречься от нее».

Польские костюмы нач. XIX в. (Racinet)
Одновременно конфедерация обратилась с воззванием к Литве и западным губерниям. Тон и содержание его те же. «Довершите вашим усердием, — говорит риторическое воззвание, — чтобы истосковавшаяся родина узрела всех истинных сынов своих, сплоченных одним духом, одной целью и едиными неразрывными узами. Общий враг расторгнул вечные союзы братства; мы должны надеяться, что общий избавитель возвратит и сплотит их:.. Дадим друг другу руку и решим — единомыслием, доверием, ревностью и общим стремлением к единой цели поддержать святое дело — возрождение отечества»…
Обращение генеральной конфедерации было встречено очень горячо в Литве. Временное литовское правительство немедленно постановило присоединиться к генеральной конфедерации и отправить делегатов в заседание генеральной конфедерации для выражения солидарности с польскими патриотами. 20 августа делегат произнес в совете речь, в которой подчеркнул те крепкие исторические узы, которые неразрывно связали Литву с Польшей. Вот почему «народ Литвы сливается с народом Польши, его стяг неразделен с польским народом, — он поспешно вступает в общую конфедерацию и будет руководиться этим актом, хранить его заветно и клянется ни в чем не отклоняться от общего начала. Примите же, славные поляки, Литву к вашему братскому сердцу». Стали присоединяться к генеральной конфедерации и западные губернии. 3 июля присоединился Брест-Литовск, давая клятву «содействовать всеми доступными человеку силами и способами тем ее предначертаниям, которые касаются дела освобождения всех частей нашей древней земли от неприятельской власти, и в этом полагаем главную цель наших усилий». 4 июля присоединился совет гродненской конфедерации, «ибо теперь разбиты позорные цепи, 18 лет давившие нас. Пора очнуться от тяжелого сна, в который мы были ввержены волей и тиранией насильника. Теперь настало время показать всему миру, что мы поляки, что мы еще не утратили того народного духа, которым гордились наши предки». «С сегодняшнего дня мы стали нацией. Польша уверена в своем существовании?..» Затем присоединились к конфедерации и другие города и провинции Северо-западного края.

Мюрат Ней (Собр. портретов в Версале)
Конфедерация открыла свои действия при самых хороших предзнаменованиях. Все жаждали патриотического подвига — все объединились под сенью Белого Орла. Казалось, скоро мечта воплотится в действительность, и поляки, живя в грезах, сами не жалели ни сил, ни средств, лишь бы удовлетворить требования их покровителя — Наполеона. Но жизнь разбила иллюзии. Рассеялся туман, сопровождавший великую армию. Покинутая своим полководцем, она возвращалась домой с поникшей головой. Теперь конфедерации приходилось уже думать не о возрождении Польши, а о самообороне, и перед этой жестокой необходимостью национальная мечта уходила в вечность… 20 ноября 1812 г. конфедерация издала свое последнее постановление о созыве всеобщего ополчения, ибо теперь, «вместе с чрезвычайными событиями войны, явилась необходимость обеспечить безопасность отечества — честь народа, наш долг и общая клятва того требуют. Дворяне поляки! на коней; к оружию. Вопрос идет о жизни и смерти, о существовании родины, о нашем быте, о судьбах наших потомков… Собирайтесь же по областям и уездам под знамена. Вас ожидает благодарность… Вас ожидают щедрые дары благодарного отечества… Говорим вам это от имени той же дорогой родины, во имя которой требуем от вас помощи. Собирайтесь скорее!»…
Великая армия ушла из Польши. Она не была восстановлена гением Наполеона. В Польшу вступали ее исконные враги. Вот почему приходилось думать о самообороне, временно отказавшись от сладостных грез, в надежде, что настанет некогда день, и Польша снова возродится, когда «великий воскреситель Польши снова придет на нашу землю, с тем же бесчисленным войском, чтобы вернуть нам утраченное в суровую пору невзгод».
В. Пичета

Медаль, выбитая по случаю взятия Вильны

Гр. Жозеф Сераковский (позднее чл. временного правительства в Литве) в Виленском соборе призывает 14 июля 1812 г. население принять сторону Наполеона. (Сераковский не был военным, каким он изображен на картине неизвестного немецкого художника)
V. Наполеон и Литва Проф. А. Л. Погодина
 ениальный певец Литвы, Адам Мицкевич, вспоминая в своем «Пане Тадеуше» 1812 год, посвятил ему следующие восторженные стихи: «О весна, как ты памятна тому, кому привелось тебя пережить в тот год в нашем крае, как ты цвела хлебом и травами, как ты блистала людьми, как ты была полна событий и чревата надеждами! Я вижу тебя доныне, как какую-то грезу. Рожденный в неволе, повитый в оковы, только одну такую весну я пережил в своей жизни». «Год войны и урожая» называет Мицкевич в другом месте 1812 год. В воспоминаниях самого Мицкевича, его братьев и сверстников сохранились чрезвычайно яркие картины настроений и ожиданий, связанных с Наполеоном. Здесь ждали его, может быть, еще более страстно, чем в Варшаве, и еще более резки были колебания между Александром и Наполеоном.
ениальный певец Литвы, Адам Мицкевич, вспоминая в своем «Пане Тадеуше» 1812 год, посвятил ему следующие восторженные стихи: «О весна, как ты памятна тому, кому привелось тебя пережить в тот год в нашем крае, как ты цвела хлебом и травами, как ты блистала людьми, как ты была полна событий и чревата надеждами! Я вижу тебя доныне, как какую-то грезу. Рожденный в неволе, повитый в оковы, только одну такую весну я пережил в своей жизни». «Год войны и урожая» называет Мицкевич в другом месте 1812 год. В воспоминаниях самого Мицкевича, его братьев и сверстников сохранились чрезвычайно яркие картины настроений и ожиданий, связанных с Наполеоном. Здесь ждали его, может быть, еще более страстно, чем в Варшаве, и еще более резки были колебания между Александром и Наполеоном.
Состояние Литвы было в высшей степени неопределенное. Вся двойственность политики Александра I отразилась здесь особенно чувствительно. С одной стороны, император содействовал развитию в литовских и белорусских губерниях, присоединенных к России после разделов Речи Посполитой, польской образованности и сохранению общего польского характера административной жизни, с другой же стороны, под влиянием русских националистов он постоянно нарушал этот порядок отдельными распоряжениями и назначениями. Следствием этого являлась неопределенность всех отношений, чрезвычайно тяжело ложившаяся на население. Колебания в области широких политических замыслов, которые постоянно происходили в отношениях Александра I к Польше и Литве, доставались этой последней гораздо тяжелее, чем Польше, так как в герцогстве Варшавском установился все-таки свой государственный строй, тогда как Литва была предоставлена историей в полное распоряжение русской власти. А как широка была амплитуда этих колебаний, видно из того, что Александр постоянно переходил от мысли восстановить княжество Литовское для его последующего воссоединения с Польшей к замыслам совершенно обрусить его. В 1805, 1806, 1807 годах всплывают проекты воскрешения политической полунезависимости Литвы, со стороны императора Александра делаются попытки договориться с литовскими магнатами, попытки, которые ни к чему, однако, не приводят. И сама шляхта, разуверившись в искренности стремлений Александра и объясняя их справедливо лишь соглашением с Наполеоном, вступает в сношение с этим последним, впрочем, также безуспешно. Тильзитский мир на время прекращает всю эту дипломатическую игру, происходящую на почве разоренной Литвы. Несколько неурожаев, несколько походов русских войск через страну, обязательство уплачивать подати по курсу серебряных денег (стоявшему тогда 22:100) истощили страну тем более, что она была лишена возможности после Тильзитского мира вывозить хлеб в Англию. Правительство предписывало выплачивать жалование служащим и производить другие платежи ассигнациями, само же требовало золота, вследствие чего дороговизна возросла чрезвычайно. Жить становилось тяжело.
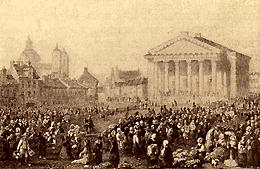
Ратуша в Вильне (совр. рис.)
Такова мрачная картина, которую позволяют нам набросать многочисленные источники того времени. У многих была одна мечта, чтобы как-нибудь это покончилось, чтобы скорее перевес счастья склонился на сторону Наполеона или Александра. Но они оба нуждались в содействии той промежуточной области, которой была Литва, в еще большей степени, чем Польша. Возрождение польской жизни в литовских губерниях, совершившееся здесь при горячем содействии «дней Александровых прекрасного начала», наполнило души польских патриотов сладкой надеждой на воссоединение Литвы с Польшей. Эти надежды еще более возросли после Тильзитского договора, присоединившего к Литве Белостокский округ. И с этого времени между двумя частями прежней Речи Посполитой устанавливается еще более близкая духовная связь. Отмена крепостного права, провозглашенная в герцогстве Варшавском, вызывает стремления подобного же рода и в русских провинциях, и попытки поднять крестьянский вопрос, делающий большую честь польскому дворянству Литвы, тянутся с 1807 до 1817 года. Они не встречают содействия со стороны Петербурга, вызывают иногда прямые репрессии, но возобновляются при всяком удобном случае. Всякое более крупное литературное и общественное движение по ту сторону Буга горячо комментируется в Вильне, как и обратно, литовские настроения, деятельность Чарторийского и Чацкого в Вильне, Кременце, Ковне, надежды литовской шляхты на императора Александра I вызывают сочувствие в Варшаве. Это была очень тесная духовная связь, не разорванная разделами, но, напротив, еще более укрепившаяся с тех пор, как Вильна из провинциального захолустья Речи Посполитой превратилась в столицу большого края, в умственный и политический центр страны, привлекавшей интенсивное внимание русской власти.

Наполеон в Вильне (Томаса — в Рапперсвильском музее)
Конечно, рядом с этим шла агитация и в другом направлении, так сказать, сепаратическом по отношению к герцогству Варшавскому. Распускались слухи о тяжести поборов, об аграрном крахе, вызванном освобождением крестьян (чисто поминальным, однако), сеялась неприязнь к Наполеону. Масса литовского дворянства, жившая в глуши своих деревень, опасалась, как огня, этого пресловутого освобождения крестьян, не испытывала никаких высших стремлений и жила по старине, не ощущая русского господства в крае особенно болезненно, так как система обрусения велась несистематически и ограничивалась разве городами. В мемуарах того времени и в «Пане Тадеуше» Мицкевича мы встречаем картины веселой и шумной помещичьей жизни, идиллии старосветских помещиков. «Плодородная почва, зажиточный крестьянин, мелкопоместная шляхта еще самолюбивая и свободная; в помещичьих домах сердечное, веселое гостеприимство; съезды, охоты, шумные карнавалы, а в приходских костелах смиренные великопостные службы; частые ярмарки, в судах кляузничество, во время пирушек „Kochajmy sic“». Так описывает свое детство один из друзей Мицкевича. И тем не менее, настроение общества было тяжелое. Оно было очень элементарно по существу: люди хотели только, чтобы их не трогали, не очень обирали, не отнимали у них привычных национальных прав, а кто господствует в стране, — это для массы шляхты было довольно безразлично. Она готова была проявить лояльность и проявляла его по отношению к Александру, а через два месяца в такой же мере по отношению к Наполеону, а когда его войска обозлили население мародерством, то ненависти к «французу» не было пределов.
Этим несложным настроением можно было пользоваться, как кто хотел: патриотически воодушевленные люди, по преимуществу духовенство, поддерживали память о независимости и веру в Наполеона, экстра-лойялисты возлагали исключительную надежду на доказанную преданность края русской власти. Первые могли действовать больше под сурдинку, вторые выступали шумно и достигали блестящих результатов, тогда как патриоты-националисты создавали на вид мало проявлявшееся, но упорное настроение.

Мих. Огинский (Рум. М.)
В войне 1809 года участвовали и польские войска. Мыслимо ли было удержать от вступления в ряды их молодежи, которая бежала из литовских и украинских губерний к Наполеону, следуя и жажде подвигов и патриотическому воодушевлению. Бежали и панычи, и простые хлопы, и люди, которые запутались в какое-нибудь тяжелое положение на родине и искали выхода из него в отчаянном шаге. Правительству России приходилось считаться с такими массовыми случаями незаконных переходов через границу, и оно в последние месяцы 1809 года издало ряд постановлений, направленных против них. Однако эти меры, к тому же применяемые русскими полицейскими властями нередко несправедливо, только увеличивали общее неудовольствие. Чарторийский старался убедить императора Александра в необходимости иной, более мягкой, политики, но уклонялся от рассмотрения тех слишком широких и многозначительных проектов, которые выставлял в дружеских беседах с ним Александр. Едва ли Чарторийский уже верил им. Зато явился новый энтузиаст, еще не разуверившийся в искренности Александра, обольщенный его любезностью и либерализмом и к тому же, по-видимому, склонный заменить собой разошедшегося с императором князя Адама Чарторийского. Это был литовский магнат, князь Михаил Огинский, который из Петербурга привез в Вильну самые радужные надежды. Действительно, 6 окт. 1811 года Александр издал указ, удовлетворявший экономические и правовые нужды помещиков Виленской губернии: обещание сравнять Виленскую губернию в податном отношении с другими частями империи, разрешение вывозить хлеб через все сухопутные таможни и т. д. Александр строил планы первостепенной важности: он думал напасть врасплох на Наполеона, занять герцогство Варшавское и объявить себя польским королем. Этот план оказался неудачным, в Варшаве уже не верили обещаниям. Проекты Огинского, которые имели в виду создание полунезависимого Литовского княжества, с наместником во главе, вызывали сочувствие Александра, но были слишком неопределенны, слишком мало считались с действительным положением вещей. Они были хороши разве, как тактический прием на случай войны с Наполеоном, но не более. Огинский сильно суетился, входил в переговоры с выдающимися людьми Литвы, раздавал им будущие министерские портфели и генеральские должности в будущей литовской армии, сообщал о предстоящем назначении на должность наместника того или другого из немецких герцогов, находившихся в родстве с русской династией. Цель, однако, была достигнута. На литовскую знать можно было положиться, а за ней всегда шла и простая шляхта.

Переход через Вилию (Шельминского)
В ноябре 1811 года Огинский имел беседу с Александром, который заявил, что вопрос о будущей организации Вел. Княж. Литовского необходимо отложить на время, пока же следует подумать о том, какую пользу можно извлечь из Литвы на случай войны. 27 янв. 1812 г. Огинский виделся с императором и записал в своих мемуарах, что уже не было и речи об автономии Литвы, а Александр был поглощен иными мыслями. Но всю эту суетню литовских магнатов он думал использовать мастерским образом; рескрипт на имя Огинского, рескрипт с разными обещаниями на имя другого магната, кн. Друцкого-Любецкого, указ в ноябре 1811 г. о разрешении платить часть податей хлебом и т. п. подняли авторитет этих сторонников Александра и позволили им провести чрезвычайно важные меры.

Реквизиция (Фабер дю-Фор)
Однако масса нечиновной и небогатой шляхты не доверяла ни магнатам, ни Александру, но с нетерпением следила за действиями Наполеона. Как отец Мицкевича, большинство помещиков передавало друг другу восторженные слухи о французском императоре, бюллетени великой армии переходили из рук в руки; единомышленники Наполеона среди богатого польского дворянства Литвы вели агитацию в пользу него, более успешную, нежели Любецкий и Огинский. И Александр отлично знал о тревожном настроении Литвы; губернаторы доносили, что с появлением Наполеона все обратится против России; им предписывалось следить особенно внимательно за благонадежностью шляхты. На вид, однако, все было благополучно. 26 апр. 1812 г. император Александр посетил Вильну и был встречен восторженными толпами населения; даже самые большие скептики поддались на этот раз надеждам на крупные реформы, которые произойдут в управлении Литвой, но император на этот счет молчал и ограничивался лишь милостями по отношению к представителям дворянства и необычайной любезностью с аристократией.

На бивуаке 23 июня 1812 г. (Фабер дю-Фор)
Через несколько дней к нему прибыла депутация литовских помещиков, руководимая Любецким. Цель ее была сделать заявление об образовании комитета для доставления средств русской армии, минуя интендантов, и притом совершенно бесплатно. Как полагают польские историки, русская власть, охотно принимая пожертвования литовского края, руководилась не столько соображениями о русской армии, которая была снабжена достаточно хорошо, сколько желанием изъять с пути Наполеона всякую возможность обеспечить свои войска провиантом и фуражом. Это предположение их подтверждается тем фактом, что русские войска, отступая перед Наполеоном, действительно, жгли громадные склады хлеба и фуража, доставленные литовскими помещиками. 24 июня нов. ст. в Вильне был дан роскошный бал, на котором Александр получил известие о переправе Наполеона через Неман. Через два дня он выехал из Вильны, в ночь с 27 на 28 июня последние отряды русского войска вышли из города, а на следующий день Вильна была уже в руках Наполеона.

Марш. Гувион Сен-Сир

Марш. Виктор, герц. Беллунский

Ген. Жюно, герц. Абрантес (Давида)

Марш. Макдональд, герц. Тарентский (Давида)

Ген. Нарбонн

Марш. Груши

Марш. Бертье, кн. Нешательский и Ваграмский

Марш. Мортье, герц. Тревизский

Марш. Лефевр, герц. Данцигский

Марш. Бессьер, герц. Истрийский
Как описывает один очевидец этого события, М. Балинский, в рукописи, «в эту ночь почти никто из жителей города не закрыл глаз. Правда, на улице не было никакого шума, но именно ночью печальный звон оружия, конский топот и глухой стук тяжелых пушек по каменной мостовой, иногда заглушенные голоса командиров заключали в себе что-то поражающее ужасом спокойных жителей, которые, погасив огонь и закрыв окна, прислушивались ко всему происходящему, следя за движениями войск при блеске звезд и месяца. К рассвету это движение несколько уменьшилось, а после семи часов утра наступила даже минута полной тишины. Впереди пешие стрелки шли или, вернее, бежали рысью, чтобы не быть застигнутыми врагом в этих тесных улицах. Потом следовала конная артиллерия из десятка с лишним легких пушек, шествие замыкала кавалерия, гусары и красные гвардейские казаки, из которых каждый держал в руке пистолет с взведенным курком и над ним висящую на темляке обнаженную саблю. Именно этот отряд был первым, который встретился с французами на дороге между Рыконтами и Вильной. Весь этот поход продолжался с полчаса, а потом на улицах сделалось совершенно глухо и пусто. Нигде не было видно ни души, все чувствовали, что в такую решительную минуту было бы опасно вмешиваться среди тех, которые каждую минуту могли вступить в бой. Часть населения не смела высунуться из дома, а более смелые и молодые были уже на Погулянке, чтобы увидеть Наполеона, а около него — своих земляков. Но вскоре за городом, около 9 часов утра, показалось зрелище, ужаснувшее жителей Снипишек: казаки зажгли огромные хлебные магазины, приготовленные для русского войска, и Зеленый мост, уже за день до того обвязанный соломой и облитый смолой». В 12 часов дня Наполеон вступил в Вильну, встреченный громадной толпой, которая приветствовала его, как своего освободителя, как воскресителя прежней Польши. В тот же самый день и час в Варшаве читали манифест о восстановлении Польского королевства и воссоединении двух частей польского народа. Первым полком великой армии, вступившим в столицу Литвы, был восьмой полк польской кавалерии под начальством Доминика Радзивила. Несомненно, это была одна из торжественнейших минут в жизни Вильны и вместе с тем чрезвычайно тонкий тактический прием со стороны Наполеона, который не связывал себя никакими заявлениями и обещаниями по отношению Литвы, но как бы делом свидетельствовал о том, посылая освобождать город от русского владычества потомка литовских князей. В Понарах Наполеона встретила депутация местных граждан, — депутация, которой так тщетно он ждал в Москве.

На окрестностях Корущины 28 июня 1812 г. (Фабер дю-Фор)
Несмотря на внешнюю радость, обязательно проявляемую населением Литвы, действительное настроение ее было тревожное и нерадостное; начались крестьянские бунты, и французским же войскам приходилось там и сям прекращать их. Не было радостно и на душе самого вождя. Под предлогом устройства временного управления в Литовском княжестве, он должен был просто задержаться в Вильне, чтобы достать провиант и фураж для своих войск, так как русские сжигали при отступлении все свои магазины. К тому же лето было дождливое, дороги размокли, а великая армия не могла двигаться вперед так быстро, как этого хотелось Наполеону. Временное управление опиралось, по меткому замечанию старого Скарбека, на мешанине форм французской администрации с местным порядком вещей; оно было поручено местным жителям, но под руководством французов. Нося название правительственной комиссии Литвы, оно состояло из семи видных жителей Литвы и генерального секретаря и стояло в непосредственной зависимости от французского комиссара (Биньона), который должен был служить посредником между Литвой и императором. Власть этой комиссии, распространенной на Виленскую, Гродненскую, Минскую и Белостокскую губернии, ограничивалась заведыванием местными приходами, доставкой провианта и фуража для войска и организацией муниципальной гвардии Вильны и жандармерии во всей Литве. В каждом уезде губернии местные помещики должны были создать по одной роте жандармерии (в 107 человек рота), причем офицерами и унтер-офицерами были местные дворяне, весьма недовольные этой реформой. Указ об этом, подписанный Наполеоном 1 июля (н. ст.), произвел удручающее впечатление на шляхту, которая под русской властью, как и во времена независимости, не несла личной воинской повинности и видела в новом распоряжении оскорбление своего достоинства. Но, кроме того, Наполеон велел образовать и для действительной военной службы несколько полков (9) из жителей Литовского княжества, тогда как жандармерия несла только местную полицейскую службу. Гвардейский уланский полк состоял из одного дворянства, в других полках дворяне назначались офицерами. Впрочем, в значительной мере вся эта организация литовского воинства осталась только на бумаге. Поражение польских войск под Миром вызвало такое охлаждение к Наполеону в литовских губерниях, которого не могли изменить никакие обращения его к литовскому населению, никакие бюллетени с восхвалением духа польских войск. При занятии французскими войсками городов Литовского княжества происходили торжественные встречи, взаимные уверения в верности и любви, провозглашение нового строя в занятой провинции, а затем все возбуждение быстро укладывалось. Результаты сбора пожертвований на Наполеоновскую армию были ничтожны. Когда княжна Радзивил пожертвовала 30 бочек муки, 2 бочки крупы, 10 волов и 12 баранов, об этом щедром пожертвовании кричали, как о чем-то небывалом. Все это было плохим пророчеством для Наполеона. 16 июля (н. ст.) он покинул Вильну и поспешил на север, а уже осенью того же года мародерство французских войск вызвало к ним во всем населении Литвы самую жгучую ненависть.
А. Погодин

Наполеон в русской избе (совр. рис.).
VI. Первые впечатления войны. Манифесты Д. А. Жаринова
 ойна 1812 г. начиналась при условиях, ставивших перед русским правительством ряд крупных затруднений. С одной стороны, в надвигавшейся войне немыслимо было обойтись без содействия общества; с другой — неудача двух предшествующих войн и непопулярный Тильзитский мир породили между правительством и обществом такое взаимное недоверие, которое, на первый взгляд, делало крайне трудным всякое соглашение между ними. Александр — по известному замечанию Вигеля — «разочаровался в своем народе», смотрел на него с досадливым презрением; дворянство в отдельных случаях не отказывалось от пожертвований на войну еще с конца 1811 года, но вместе с тем раздавался нередко ропот на новые налоги, измышляемые будто бы в тягость всему народу Сперанским и Румянцевым; налог объявлялся временным, но этому не хотели верить, «ибо, — говорит в Рыльске уездный стряпчий, — и прежде сего были таковые же налоги в прибавление податей, с уверением: единовременно, но вместо того ныне еще добавили». Еще больше недоверия к правительству в отзыве А. Я. Булгакова, относящемся к февралю 1812 г. «Целый город в унынии, — пишет Булгаков, — десятая часть наших доходов должна обращаться в казну… Подать сама не так бы была отяготительна: в несчастных обстоятельствах, в коих вся Европа находится, почти все государства платят правительствам своим десятину… но больно платить с уверением, что от помощи сей не последует польза… Нет упования в мерах правительства: не получится и отчета в их употреблении. Куда девались страшные пожертвования, в милицию сделанные? Это у нас еще живо в глазах»… В 1810 г. Ростопчин получил негласное поручение составить записку о состоянии Москвы. По описанию его выходит, что Россия не много, не мало, как накануне революции. «Трудное положение России, продолжительные войны, и паче всего пример французской революции производят в благонамеренных уныние, в глупых — равнодушие, а в прочих — вольнодумство». Дерзость в народе — «несуществующая»; того и гляди вспыхнет движение: «начало будет грабежи и убийство иностранных (против коих народ раздражен), а после бунт людей барских, смерть господ и разорение Москвы… Трудно найти в России половину Пожарского; целые сотни есть готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера»… Подобная оценка общественного настроения мало помогала военным приготовлениям, которые, как витиевато выражается один современник, и «не изображали в себе сей душевной силы, какой должно было ожидать от российской нации, призванной на поле чести для свершения великого дела избавления Европы». Войны опасались и начало ее всеми силами оттягивали. В конце концов, несмотря на то, что о военных приготовлениях Наполеона было уже известно с осени 1811 года, переход французов через Неман застал русское правительство и общество почти врасплох; многие, и между ними канцлер Н. П. Румянцев, до последней минуты полагали, что войны не будет и что все кончится уступками с обеих сторон; дворянство в Москве спокойно занято разными ссорами в Английском клубе; свитский полковник Энгельсон, приехавший 24 июня в Пензу, всем рассказывал, что ничего еще не слыхать о разрыве с Наполеоном, что французский посол все еще находится в Петербурге и со многими бьется об заклад, что войны не бывать. Не была еще окончена война с Турцией: неужели найдут силы начать новую войну? «Россия и ее правительство, — замечает современник, — не прежде узнали свои настоящие средства, как уже после исполинской, кратковременной, бессмертной борьбы с Наполеоном»…
ойна 1812 г. начиналась при условиях, ставивших перед русским правительством ряд крупных затруднений. С одной стороны, в надвигавшейся войне немыслимо было обойтись без содействия общества; с другой — неудача двух предшествующих войн и непопулярный Тильзитский мир породили между правительством и обществом такое взаимное недоверие, которое, на первый взгляд, делало крайне трудным всякое соглашение между ними. Александр — по известному замечанию Вигеля — «разочаровался в своем народе», смотрел на него с досадливым презрением; дворянство в отдельных случаях не отказывалось от пожертвований на войну еще с конца 1811 года, но вместе с тем раздавался нередко ропот на новые налоги, измышляемые будто бы в тягость всему народу Сперанским и Румянцевым; налог объявлялся временным, но этому не хотели верить, «ибо, — говорит в Рыльске уездный стряпчий, — и прежде сего были таковые же налоги в прибавление податей, с уверением: единовременно, но вместо того ныне еще добавили». Еще больше недоверия к правительству в отзыве А. Я. Булгакова, относящемся к февралю 1812 г. «Целый город в унынии, — пишет Булгаков, — десятая часть наших доходов должна обращаться в казну… Подать сама не так бы была отяготительна: в несчастных обстоятельствах, в коих вся Европа находится, почти все государства платят правительствам своим десятину… но больно платить с уверением, что от помощи сей не последует польза… Нет упования в мерах правительства: не получится и отчета в их употреблении. Куда девались страшные пожертвования, в милицию сделанные? Это у нас еще живо в глазах»… В 1810 г. Ростопчин получил негласное поручение составить записку о состоянии Москвы. По описанию его выходит, что Россия не много, не мало, как накануне революции. «Трудное положение России, продолжительные войны, и паче всего пример французской революции производят в благонамеренных уныние, в глупых — равнодушие, а в прочих — вольнодумство». Дерзость в народе — «несуществующая»; того и гляди вспыхнет движение: «начало будет грабежи и убийство иностранных (против коих народ раздражен), а после бунт людей барских, смерть господ и разорение Москвы… Трудно найти в России половину Пожарского; целые сотни есть готовых идти по стопам Робеспьера и Сантера»… Подобная оценка общественного настроения мало помогала военным приготовлениям, которые, как витиевато выражается один современник, и «не изображали в себе сей душевной силы, какой должно было ожидать от российской нации, призванной на поле чести для свершения великого дела избавления Европы». Войны опасались и начало ее всеми силами оттягивали. В конце концов, несмотря на то, что о военных приготовлениях Наполеона было уже известно с осени 1811 года, переход французов через Неман застал русское правительство и общество почти врасплох; многие, и между ними канцлер Н. П. Румянцев, до последней минуты полагали, что войны не будет и что все кончится уступками с обеих сторон; дворянство в Москве спокойно занято разными ссорами в Английском клубе; свитский полковник Энгельсон, приехавший 24 июня в Пензу, всем рассказывал, что ничего еще не слыхать о разрыве с Наполеоном, что французский посол все еще находится в Петербурге и со многими бьется об заклад, что войны не бывать. Не была еще окончена война с Турцией: неужели найдут силы начать новую войну? «Россия и ее правительство, — замечает современник, — не прежде узнали свои настоящие средства, как уже после исполинской, кратковременной, бессмертной борьбы с Наполеоном»…

А. С. Шишков (Доу)
Известие о вступлении французов в Россию вызвало суматоху среди русского населения западных губерний. Жители торопливо собираются и укладываются, спасая семьи и имущество; не получая надлежащих распоряжений, чиновники не знают, как быть с казенным имуществом. «Отправив из Гродно гарнизонный баталион здешний и всех земских чиновников, — доносит атаман Платов Багратиону, — равно и казенное имущество с великим затруднением, потому что ничего не было здесь приготовлено, а некоторые даже и повелений об отправлении отсель не имели, кроме что о приготовлении к тому, но и сего не исполнили, я приказал им следовать на Щучин, Балицу, Новогрудок и далее к Минску». Слух о приближении французов к Витебску навел страх и ужас на всех мирных жителей. «Национальные россияне, — пишет современник Добрынин, — начали прежде всех высылать свое имение из домов и из лавок, куда кто мог, а потом и сами удалились. Чиновники, находившиеся в штатской службе, им последовали, а некоторые и упредили». Паника и беспорядок поддерживаются слухами о неимоверно громадных силах Наполеона, доходящих будто бы до миллиона, а равно и слухами о массе возмутителей, возбуждающих народ к бунту, к прекращению полевых работ и избиению помещиков. Слухи эти, по местам подтверждаемые и действительными фактами, проникают и в Москву. Иным уже мерещится пугачевщина: безопасности нет, «потому что, — пишет Поздеев, — и мужики по вкорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию ожидают какой-то вольности». Государя обвиняют в том, что он причиной близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или избежать третьей войны с противником, который уже дважды побеждал его. Царствование Александра находят несчастным, поговаривают о свержении государя и возведении на престол Константина; есть и такие, которые превозносят добродетели императора Павла и сожалеют о времени его царствования. В Петербурге объявление войны, в свою очередь, привело к разнообразным толкам, и, вероятно, не все из них были благоприятны правительству, так как преданный Аракчееву И. А. Пукалов в письме от 20 июня позволяет себе только уклончиво говорить о них. Правительству приходилось считаться с этими проявлениями недовольства. Для успокоения общества давались преувеличенные сведения о русских силах; о многих происшествиях не появлялось никаких сообщений или они были уже черезчур кратки и неопределенны; несколько позже служили благодарственные молебны по случаю мнимых побед под Витебском и Смоленском. Все это мало помогало делу, а частью только обостряло недовольство. Без прямого и откровенного обращения к народу нельзя было восстановить и народного доверия.
Но в народе было не одно недовольство. При ненависти к французам, при той дороговизне, которая была вызвана континентальной системой[50], третья война слишком соответствовала реальным интересам господствующих классов русского общества, чтобы не вызвать и другого, выгодного для правительства, патриотического настроения. Об этом имеем много свидетельств. «При объявлении войны с Бонапартом, — пишет современник Николев, — брат Яков поступил в казаки. Все, что мыслило, заколыхалось для борьбы на жизнь и смерть с завоевателем; все двинулось на битву, а кто того не мог, тот иначе принимал участие в обороне. Отец, будучи уже слеп, пек сухари для войска и бесплатно доставлял их в Комиссариат, а мои сестры принялись за корпию». «Французы уже стояли под Смоленском, — пишет Мартос о начале войны, — они несли опустошение в сердце моего отечества, и не надобно было быть русским, надлежало перестать быть честным человеком, оставшись в сии критические времена пустым зрителем». Чаще и чаще слышатся толки о пожертвованиях, об ополчении; война трудна, неприятель отважен, пылок, но, восклицает дворянин Оленин на собрании смоленских дворян, «мы помним заветное слово Суворова и слабый мой голос повторит его отклик: легкие победы не льстят сердце русское!» С особенной силой проявилось патриотическое воодушевление в Смоленске, при посещении его государем. За два дня до приезда в город государь получил прошение смоленских дворян с предложением выставить и вооружить на счет губернии 20.000 ратников.

Светл. кн. Н. И. Салтыков (рис. Квадаль)
Горожане подняли чудотворную икону Смоленской Богоматери и из Успенского собора перенесли в думу, где была отслужена всенощная. На следующий день состоялся крестный ход вокруг стен города. Военным оказывается особенное внимание. «Невозможно было изъявлять ни более ненависти и злобы к неприятелю, — пишет А. II. Ермолов, — ни более усердия к нам: жители предлагали содействовать, не жалея собственности, не щадя самой жизни».
Правительство не сразу отнеслось с доверием к этому патриотическому воодушевлению. Перед самой войной государь еще отклоняет многие из предложений помощи людьми и деньгами на том основании, «что не таковы еще обстоятельства, чтобы нужно было употреблять все средства». Сомневаясь уже после начала войны в возможности практического осуществления решения смоленских дворян выставить 20.000 ратников, государь, по совещанию с губернатором, надеется лишь на 15.000. Вопреки желанию смольнян назначить им в начальники русского начальником был назначен Винцингероде. Но существование в народе, на ряду с недовольством, и патриотического настроения было, тем не менее, отмечено государем еще до начала войны. «Если только война начнется, — пишет Александр Чарторийскому 1 апреля 1812 г., — здесь решились не складывать оружия. Собранные военные средства весьма значительны, и общее настроение превосходно, в противоположность тому, коего вы были свидетелем первые два раза. Нет уже более того хвастовства, которое заставляло презирать неприятеля. Напротив того, его силу признают и считают неудачи весьма возможными; но, несмотря на то, твердо намерены до последней возможности поддерживать честь империи». Патриотическое настроение имелось, надо было уметь его использовать. Обстоятельства воочию показывали, что без содействия общества обойтись нельзя. Вопрос был только в том, чтобы патриотизм общественный и правительственный пошли рука об руку. Сама собой выдвигалась важная задача: строго обдумать содержание и характер правительственных актов, с которыми приходилось выступать перед обществом по поводу начала войны, равно как и выбрать лицо, которое, при составлении актов, могло бы стать посредником между государем и народом.
Выбор в посредники пал, как известно, на А. С. Шишкова. Вскоре после ссылки Сперанского Шишков был назначен государственным секретарем на его место. «Я читал Рассуждение ваше о любви к отечеству, — сказал государь: — имея таковые чувства, вы можете ему быть полезны».
Сам государь не доверяет обществу — и вначале недоверие это разделяется в значительной степени и Шишковым. «Кто мог предвидеть, — говорит впоследствии Шишков о времени начала войны, — что праведная месть за сожжение столицы и поругание мощей и храмов ее, соединяясь с любовью к отечеству, ополчит руку дворян и народа неутолимым гневом и мужеством?» На народ у Шишкова было мало надежды, хотя и правительственные мероприятия, выработанные в тиши кабинетов, также не утешали его. Только в Смоленске вздохнул он с облегчением: «Нет! Бог милостив; Россия не погибнет!» Перемена в настроении Шишкова соответствовала и перемене, постепенно обнаружившейся в настроении государя, в котором все более и более рассеивались колебания по вопросу об обращении к народу.
Из-под пера государственного секретаря выходит ряд правительственных актов; все они имеют целью поддержать или возбудить в обществе патриотическое чувство; но в соответствии с только что указанной переменой в настроении государя и Шишкова, вызванной ходом событий, акты могут быть разделены на две группы: первую, где правительство не столько старается привлечь общество к активному участию в национальной обороне, сколько оправдать в общественном мнении собственные мероприятия, и вторую — где именно задачей государственных актов становится привлечение общества к активному участию в войне.

А. Я. Булгаков (Горбунов)
Первым манифестом, относящимся к войне, которая тогда еще только надвигалась, был манифест 23 марта 1812 г. — о рекрутском наборе с 500 душ по 2 рекрута. Тон манифеста осторожный и сдержанный: ни в каком случае не следовало подать повод к подозрению России в намерении нарушить мир. Рекруты набираются потому, что «настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения, которое могло бы верным и надежным образом оградить Великую Империю Нашу от всех могущих против нее быть неприязненных покушений… Крепкие о Господе воинские силы Наши уже ополчены и устроены к обороне царства. Мужество и храбрость их всему свету известны. Но жаркий дух их и любовь к Нам и Отечеству да не встретят превосходного против себя числа сил неприятельских». Следующие по времени акты появляются уже после начала войны: это «приказ армиям с объявлением о нашествии французских войск на пределы России» и рескрипты фельдмаршалу графу Салтыкову — оба от 13 июня 1812 г. Первый из этих актов кончается знаменательными словами: «Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог!»; второй — торжественным обещанием государя — не полагать оружия, «доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве». Но со всем тем и здесь, несмотря на смелое упоминание о свободе, тон документов оправдательный: не Россия первая начала войну; к сохранению мира были исчерпаны все средства, совместные с достоинством престола и государственной пользой. Только уже когда «предложения самые умеренные остались без ответа» и «внезапное нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавнем еще времени миролюбивых обещаний», государю не осталось иного, как «поднять оружие» и употребить все врученные ему Провидением способы, «к отражению силы силою». К этому же периоду, когда правительство еще избегает всецело положиться на поддержку общества и стремится, главным образом, только восстановить к себе доверие, относятся и три проекта неизданного манифеста о начале войны, о котором государь, по словам Шишкова, подумал немедленно после выпуска приказа и рескрипта 13 июня, по приезде в Свенцяны. Частые переезды с места на место и отсутствие свободного времени, необходимого для собирания соответствующих справок, помешали Шишкову лично исполнить желание государя, и на долю его достался лишь просмотр проектов, написанных другими лицами. Проектов три: один, написанный по-немецки, принадлежал все еще пользовавшемуся доверием государя Фулю, второй, французский, Анстеду и Нессельроде, третий русский — неизвестному автору. Получив поручение перевести на русский язык проекты Фуля и Нессельроде, Шишков решительно забраковал их оба. В обоих авторы ставят себе целью оправдать в глазах общества отступление русской армии, которым характеризуется начало войны. Французская редакция во многом заимствует свои доводы из немецкой. Предпочтительность отступления доказывается опытом последних войн, положением наших границ, значительностью сил Наполеона; кроме того, указывается и на то, что все наступательные войны против «величайшего из всех известных в истории полководцев» до сих пор оканчивались неудачей. Русским необходимо сосредоточиться ближе к центру: отступление войск и есть выполнение этого заранее выработанного плана. Доводы эти вызывают со стороны Шишкова горячую отповедь. Наполеон успел собрать огромные силы, а чего же медлили русские? «Пусть не хотели выходить из своих пределов, дабы быть зачинщиками (хотя и это, по словам Шишкова, „есть несовместное и вредное для народа снисхождение несомненному врагу“), но когда неприятель стал переправляться через реку, для вступления в нашу землю, то неужели и сей поступок его был еще сомнителен, хочет ли он воевать с нами?» Наполеон, — великий полководец, но, во-первых, в Испании он далеко не оказался таким страшным, как в Германии и Пруссии, а, во-вторых, если он и велик, «то почто превозносить его во время войны с ним? почто, собравшись на него идти, возвеличивать его похвалами? твердить о несметном числе сил его, о непреодолимых приготовленных им средствах, об удивительном его искусстве и тому подобном? Разве для того, чтоб при начале войны с ним прийти тотчас в страх и отчаяние?» Наконец можно ли утверждать, что сосредоточение русских сил в центре соответствует заранее обдуманному плану? Ведь если так, то зачем было придвигаться со всеми войсками к Вильне, завозить туда магазины? «Затем ли только, чтоб сжечь их и преследованным от неприятеля бежать около двухсот верст для занятия оборонительной линии, с начала предназначенной, и которую, следовательно, тогда же, не проходя оную, надлежало занять?» Отступление, по мнению Шишкова, было ошибкой и в манифесте, обращенном к обществу, лучше не говорить о ней. Проекты и не были обнародованы. Третий проект, русский, всецело останавливается не на обстоятельствах начала войны, а на ее причинах. «Всей Европе известны пожертвования наши миру, известны и тяжкие узы, кои мы добровольно на себя для сохранения оного возложили»… Но Наполеон снова грозит общему спокойствию, поработив и разорив союзные с ним державы; он явно намерен восстановить Польшу, приближает войска к русской границе, захватил герцогство Ольденбургское, позволяет себе вмешиваться даже во внутреннюю жизнь России, требуя полного прекращения русской внешней торговли «под предлогом, якобы нейтральные суда, к портам нашим пристающие, служат средством к распространению английской промышленности и ее колоний»… «Тариф, нами в конце 1810 года изданный, послужил также французскому императору к новым укорительным требованиям, яко не выгодный для французских произведений рукодельности». Попытки открыть «негоциации, к спасительному устранению происшедших неудовольствий ведущей», не удались; правительство поставлено в необходимость «взять нужные меры к составлению армии, соразмерной с многолюдством и величием империи, хотя и не равняющейся числом с французским беспредельным ополчением, каковое бы отяготило сверх меры наших верноподданных». К конце этого длинного и многословного проекта возлагается надежда на русский народ, этот народ, сотрясший в младенчестве иго азиатских победоносцев, посреди мятежей и безначалия нашедший в своей беспримерной храбрости средства к изгнанию полчищ иноплеменных, удививший вселенную быстрыми шагами в поприще славы — без сомнения, «не ослабит и ныне усилий своих к защищению земли русской, семейств, стяжания и независимости любезного отечества». Проект сохранился в черновой рукописи[51]; на ней надпись Шишкова: «Читал сей манифест и нахожу оный существом дела, мыслями, связью, слогом прекрасно написанным». Несмотря на это, и русский проект остался только проектом. Как для нас неизвестен автор, так неизвестны и мотивы, помешавшие обнародованию. Мы можем лишь догадываться о них. Манифест, как мы уже сказали, многословен — и эта сторона его мало соответствовала той лихорадочной быстроте, с которой развертывались события по вступлении французов; упоминание о народе в конце проекта могло показаться излишним государю, в июне еще не совсем себе выяснившему неизбежность превращения третьей войны с Наполеоном в войну народную.
Перемену в настроении государя можно отнести к началу июля, когда он решился, наконец, покинуть армию, предоставив главное командование Барклаю-де-Толли, и отправиться во внутрь России. «Решение это, государь, — пишет маркиз Паулуччи из Новгорода, — должно глубоко обрадовать всех, истинно преданных Вам и любящих отечество, так как они увидят в этом гарантию успеха тех усилий, какие для спасения империи может проявить народ». К помощи народа, в конце концов, правительству пришлось обратиться и в первый период, когда еще 3 июня 1812 г. на имя Ростопчина было издано повеление собрать, как можно скорее, «добровольными от всех сословий приношениями», по Московской столице и губернии, миллион рублей на покупку для армии волов. Дворянство и купечество немедленно выразили готовность собрать по 500.000 рублей. Обстоятельства подчеркивали всю целесообразность и необходимость таких обращений к обществу. 6 июля 1812 г. подписаны два манифеста: «Первопрестольной столице нашей Москве» и «Манифест с объявлением о вшествии неприятеля в пределы России и о всеобщем противу него ополчении».

Куманин, городской голова Москвы в 1812 г.
Здесь уже идет речь не об оправдании правительственных мероприятий, не о приобретении доверия общества, а о том, чтобы все общество, без различия сословий, не отказало «единодушным и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений». Правительство обращается к Москве: «она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества для защиты оного. Никогда не настояло в том вящшей надобности, как ныне». В 1810 г. Ростопчин выражал сомнение найти в России хотя половину Пожарского: теперь правительство смело выражает пожелание, чтобы враг встретил Пожарского в каждом дворянине, «в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина… Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».
Манифесты первого периода производили на общество впечатление, но были и такие патриотически-настроенные критики, которым именно не нравился сдержанный тон манифестов: в рескрипте Салтыкову находили, напр., по словам Вигеля, «большую робость, потому что Наполеон в нем не был разруган». Наоборот, по мере приближения к Москве государю все более и более приходилось убеждаться в несравненно большем соответствии народному настроению манифестов 6 июля. Правда, первое известие о манифесте вызвало в Москве испуг. «Мы пропали, мы пропали!» повторяла хозяйка московской квартиры С. Н. Глинки; другого современника, М. И. Маракуева, при беглом прочтении манифеста «пронял холодный пот» — и по свидетельству этого человека, вся Москва пришла в ужас. Но испуг проистекал, главным образом, от неожиданности, и отсутствия точных сведений об опасности, которая, видимо, оказалась сильнее, чем думали; боялись, что Наполеон стоит чуть не за заставой. Весть о предстоящем прибытии государя внесла успокоение, «отдалила, — как говорит Глинка, — мысль о буре, мчавшейся к Москве». Раз еще не все потеряно, народ, особенно высшие классы, готовы были, со своей стороны, организовать оборону. Простой народ разбежался 12 июля из Кремля, встревоженный слухом, что будут насильно забирать всех в рекруты; но этот же народ, собравшись за два дня перед тем встретить государя, намеревался, по свидетельству Глинки, выпрячь из государевой коляски лошадей и донести ее на руках. Показания Глинки, вызывающие некоторое сомнение по чрезмерной патриотической экзальтированности их автора, попавшего за свой патриотизм даже под надзор полиции, подтверждается и другими свидетелями. «Прибытие императора, — говорит Штейн, — взволновало все население Москвы и окрестностей». Бесчисленный, стекшийся со всех сторон народ преисполнен был самым возвышенным религиозным и национальным одушевлением, и «все сословия соперничали в готовности жертвовать собой и всем своим достоянием, дабы на деле доказать свою любовь к государю». «Все колебания, все недоумения, — пишет П. Вяземский, — исчезли; все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля».

В. Д. Арсеньев, московский предвод. дворян
Избегая народных манифестаций, а может быть, все еще не вполне доверяя народной преданности, государь въехал в Москву ночью; тем не менее, по свидетельству гр. Комаровского, «от последней станции к Москве вся дорога была наполнена таким множеством народа, что от бывших у этих желающих видеть своего государя фонарей было светло почти как днем». На 15 июля назначено было торжественное собрание дворянства и купечества в Слободском дворце для выслушания манифеста 6 июля об ополчении и речи государя. Русскому самодержцу предстояло обратиться к обществу, открыто признать, что одно правительство, своими средствами, не может справиться с представившейся ему трудной задачей. Не без некоторого колебания и волнения приступал государь к этому шагу — «тяжелому для всякого властителя», по замечанию Ростопчина. Но он был неизбежен, и прием, оказанный Александру в Москве дворянством и купечеством[52], вознаградил его вполне. «Мой приезд в Москву, — пишет государь, — имел настоящую пользу… нельзя не быть тронутым до слез, видя дух, оживляющий всех, и усердие и готовность каждого содействовать общей пользе»…
В Москве, после 15 июля, издается четыре правительственных акта, из которых важнейший — «Об изъятии некоторых губерний от всеобщего ополчения и об учреждении трех округов» — 18 июля 1812 г. Тон и содержание этого акта указывают на новое положение, занятое по отношению к народу правительством. Это уже не забота о восстановлении доверия и не хлопоты о привлечении общества к содействию. Правительство уверено в народе: его дело распределить и направить народные силы в направлении, наиболее удобном для успеха. Гроза надвинулась, была неизбежна; но чувствовалось, что есть нечто, за что можно будет ухватиться и, если не отвратить, так переждать грозу. Это нечто — было народное настроение…
Д. Жаринов
Манифест Александра I


Манифест Александра I
Первопрестольной столице Нашей Москве
от 6 июля 1812 г.

VII. От Вильны до Смоленска. Взятие Смоленска
Проф. Е. Н. Щепкина

Смоленск с С.-Петербургской дороги.
 оенные действия от Вильны до занятия неприятелем Смоленска не так драматичны, как пребывание французов в Москве, их отступление через Красный или переход чрез Березину. Зато по своему стратегическому значению для всего облика похода 1812 года и его конечного исхода это едва ли не самая важная часть его, наиболее обильная влияниями и последствиями для обеих воюющих сторон. За эти 5–7 недель командующие русской армии высвободились из-под теорий фон-Фуля и под давлением хода событий выработали себе новый план — отступления в глубь страны и сосредоточения войск, вместо дробления их надвое. В ответ на это и Наполеон вместо погони сразу за несколькими возможностями пришел к одному определенному пути для главной массы великой армии — на Витебск, Смоленск и Москву. В Вильне, Витебске и особенно под Смоленском Наполеон сделал, по мнению знатоков военного искусства, наиболее роковые для него стратегические ошибки, которые мог бы затем отчасти исправить разве только ранним выступлением в обратный поход из Москвы.
оенные действия от Вильны до занятия неприятелем Смоленска не так драматичны, как пребывание французов в Москве, их отступление через Красный или переход чрез Березину. Зато по своему стратегическому значению для всего облика похода 1812 года и его конечного исхода это едва ли не самая важная часть его, наиболее обильная влияниями и последствиями для обеих воюющих сторон. За эти 5–7 недель командующие русской армии высвободились из-под теорий фон-Фуля и под давлением хода событий выработали себе новый план — отступления в глубь страны и сосредоточения войск, вместо дробления их надвое. В ответ на это и Наполеон вместо погони сразу за несколькими возможностями пришел к одному определенному пути для главной массы великой армии — на Витебск, Смоленск и Москву. В Вильне, Витебске и особенно под Смоленском Наполеон сделал, по мнению знатоков военного искусства, наиболее роковые для него стратегические ошибки, которые мог бы затем отчасти исправить разве только ранним выступлением в обратный поход из Москвы.
По плану фон-Фуля, при наступлении французов от Немана на Вильну, 1-я (северная) русская армия Барклая-де-Толли должна была отойти к Западной Двине в укрепленный лагерь у Дриссы, а 2-ая (южная) армия Багратиона действовать от Волковыска во фланг и в тыл противнику. Наполеон занял Вильну к полудню (16/28) июня и оставался здесь до вечера (4/16) июля. За эти 18 ночей и 19 дней его главной задачей было врезаться клином между обеими русскими армиями и, уединив Багратиона, поставить его между отрядом Даву, наступающим ему во фланг от Вильны, и вестфальским королем Жеромом, который должен был от Гродна преследовать вторую армию с тыла. Между тем в русской главной квартире еще мечтали о переходе в наступление, носились с мыслью о решительном сражении и уже раскаивались в раздроблении своих сил надвое. Соединение или, по крайней мере, сближение обеих армий становится теперь конечной целью наших военных действий. Из Свенцян Александр I призывает Багратиона идти на Вилейку через Новогрудок или Белицу; только разве перед превосходными силами неприятеля 2-ая армия могла отступать на Минск и Борисов. Платов со своими казаками должен был прикрывать движение Багратиона и в случае необходимости соединиться с ним. Наполеон со своей стороны неудачно расставил сети Багратиону, двигавшемуся через Зельву, Слоним на Новогрудок. В первые же дни после занятия Вильны он поручил наблюдение за 1-ой армией Мюрату, двинутому на Неменчин, а затем в Свенцяны, и Нею, шедшему через Вилькомир к Гедройцам, а Даву во главе трех колонн направил через Ошмяны во фланг армии Багратиона. 20 июня (2 июля) Даву был уже в Ошмянах, но в сущности император не мог дать ему достаточных сил для нанесения верного удара противнику, так как корпус вице-короля Италии Евгения отстал и был задержан непогодой при переправе через Неман. Брат Наполеона, Жером, тоже не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вступив в Гродно еще (18/30) июня, он несколько дней подтягивал сюда запоздавшие части своей армии и только 4 июля (нов. ст.) исполнил приказ императора двинуть легкие войска князя Понятовского вослед Багратиона. Вместо уничтожения 2-ой русской армии наступление Даву и Жерома повело только к тому, что Багратион потерял надежду предупредить французов в Минске, отказался от попытки переправиться на правый берег Немана у Николаева и 25 июня (ст. ст.) в Мире принял решение повернуть через Несвиж и Слуцк на Бобруйск.

Дело донских казаков Платова при Караличах и Мире, Волынской губ., 28 июня 1812 г.
Уже к 24 июня (6 июля), у Наполеона созрел новый план, направленный на этот раз против 1-й русской армии. Даву должен смело идти на Минск, отрезать Багратиона от Витебска и вытеснить его даже за Днепр. Недовольный медлительностью брата Жерома, Наполеон в этот день, на случай соединения его армии с корпусом Даву, подчиняет вестфальского короля главной команде своего маршала. Даву 26 июня (8 июля) действительно занял Минск, но когда он несколько дней спустя послал брату императора приказ, подчинявший Жерома маршалу, то оскорбленный этим вестфальский король сложил с себя в Несвиже команду и уехал затем с театра войны. Однако главное внимание Наполеона было тогда сосредоточено уже на Западной Двине. Император намечает для своей главной квартиры путь на Свенцяны и Глубокое, чтобы оттуда, обходя Дрисский лагерь с востока, идти на Полоцк или Витебск и с переходом через Западную Двину выше Дисны угрожать сразу и Москве и С.-Петербургу. Ради этого он уже 12 и 13 июля (нов. ст.) двигает свою гвардию отчасти через Михайлишки, отчасти через Свенцяны на Глубокое. С левого фланга Ней и Мюрат должны были сосредоточить свои силы у Друи и угрожать там неприятелю тоже переходом через З. Двину и наступлением на С.-Петербург. Еще левее у Динабурга стоял бы Макдональд, пока близость русских мешала ему заняться осадой Риги. С правого фланга Наполеон решил поддержать свой центр корпусом Евгения Богарнэ и дал ему направление на Ошмяны, Сморгонь, Вилейку, Докшицы; далее его предполагалось двинуть тоже на Полоцк или Витебск. Маршалу Даву, шедшему черезъ Игумен на Могилев, поставлена была двойственная задача: не терять из виду Багратиона, но в то же время сдвинуться к северу на линию Борисова, Коханова, Орши, чтобы не только угрожать Смоленску, но и быть наготове идти к Витебску, как только удастся уничтожить или отбросить за Днепр вторую армию. Даже корпусу Жерома, преследовавшему Багратиона по пятам, «l'epee dans les reins», намечался теперь путь в Могилев, и самые отсталые отряды крайнего правого крыла — Реньё и кн. Шварценберга получили разрешение дойти до Слонима и Несвижа. Под влиянием такого сдвига всех французских сил на северо-восток к Западной Двине русские, по мнению Наполеона, должны были очистить лагерь в Дриссе; видя, что стотысячная неприятельская армия двигается на С.-Петербург, а другие сто тысяч — на Москву, они могли или начать отступление на защиту северной столицы, или перейти в наступление против ближайших частей великой армии.

«Дети Парижа» в Витебске 15 июля (Фабер дю-Фор)
Тем временем Александр I под впечатлением докладов фон-Клаузевица, адъютанта самого Фуля, и инженерного полковника Мишо, а также и личного осмотра дрисских укреплений уже разочаровался в достоинствах этой позиции. Созванный им военный совет согласился, что дрисский лагерь следует очистить немедленно же, и принял предложение Барклая отходить с 1-ой армией на Витебск и ожидать там присоединения Багратиона. (2/14) июля русская армия покинула дрисский лагерь и, перейдя на правый берег З. Двины, начала отступление к Полоцку, куда и прибыла (6/18) числа. Здесь вследствие представления графа Аракчеева, Балашова и Шишкова, настаивавших на необходимости присутствия государя внутри империи, Александр I покинул армию; с этих пор Барклай и Багратион превратились в совершенно самостоятельных главнокомандующих частными армиями. Еще собираясь начать движение к Полоцку, Барклай выделил из состава своей армии корпус Витгенштейна, который, оставаясь у Дриссы, должен был прикрывать дорогу на С.-Петербург. Витгенштейн приказал своему авангарду под начальством Кульнева переправиться через З. Двину и 3(15) июля произвести рекогносцировку на левом берегу реки. Недалеко от Друи казаки и гусары внезапно атаковали два полка дивизии Себастьяни, опрокинули их, а часть захватили в плен. Получив на следующий день к вечеру донесение Мюрата об этом переходе русских у Друи, Наполеон принял его за наступление первой армии и решился принять желательное для него сражение. Он решил к ночи выступить из Вильны, чтобы рано утром 5(17) июля быть уже в Свенцянах, а оттуда двинуться или к аванпостам Мюрата у Браслава против якобы наступающих русских, или, если тревога окажется ложной, идти дальше на Глубокое. Император в Витебске и на походе вставал обыкновенно в два часа ночи, а затем высыпался днем. Большую часть пути он совершал в карете, за которой верхом едва поспевали офицеры его свиты.
Наступление русских у Друи, однако, приостановилось, и (6/18) июля Наполеон в полдень достиг Глубокого. Убедившись, что первая русская армия отступила за Полоцк, император останавливается на мысли сосредоточить все свои силы в Бешенковичах, перейти там З. Двину и вызвать Барклая на битву еще до Витебска или, по крайней мере, преградить ему путь на левый берег реки для соединения через Сенно с армией Багратиона. Ради этого на левом фланге Мюрат и Ней получают направление от Дисны через Полоцк к Бешенковичам по левому берегу З. Двины, а правое крыло вице-короля Евгения двинуто туда же через Камень; посредине между ними лежит путь для гвардии на Ушач. На крайнем южном фланге Даву по-прежнему должен отрезывать Багратиона от направления по правому берегу Днепра на Оршу ради соединения с первой армией; для этого сам маршал мог оставаться в Могилеве и только выделить Груши ближе к Евгению Богарнэ на линию от Борисова через Бобр к Коханову; подвигаясь к ним на помощь, Понятовский достигал уже Игумена. Сам Наполеон, следуя за своей гвардией, приехал 11(23) июля в Ушач и затем ночью в Камень. Уже отсюда послан был на следующий день приказ генералу Брюйэру идти с кавалерией на Островно в Витебск в предположении, что всей французской армии придется двинуться туда же. Действительно достигнув еще 12(24) июля Бешенковичей, император лично мог убедиться, что на правом берегу З. Двины главной русской армии более не было. В тот же вечер он велел Мюрату двинуться по левому берегу на Витебск, к рассвету за ним должен был последовать вице-король Италии, выделив только бригаду легкой кавалерии на Сенно ради установления связи с отрядом Груши. Наполеон все еще готовился к попытке Барклая проложить себе путь от Витебска через Оршу на соединение со 2-ой русской армией. Между тем Барклай-де-Толли, в виду движения французов к Бешенковичам, еще в Полоцке почти оставил мысль теперь же пробиваться навстречу Багратиону и, быстро отступив к Витебску, привел туда свою армию уже 11(23) июля. Только отсюда он намеревался идти на Бабиновичи и Оршу в надежде облегчить этим соединение со 2-ой армией и преградить противнику путь из Минска на Смоленск. Барклай сообщил о своем намерении князю Багратиону и настойчиво, ссылаясь на волю государя, требовал, чтобы вторая армия двинулась между Березиной и Днепром и действовала во фланг Наполеону.

Подвиг генерала Неверовского под Красным 2-го августа 1812 года (Гесс)
Багратион, в виду появления у него в тылу Жерома в Новогрудке и занятия маршалом Даву сначала Минска, а затем Игумна и Борисова, продолжал с 28 июня (ст. ст.) отступление от Несвижа на Слуцк и Бобруйск. На всем пути Платов с казаками прикрывал тыл движения 2-ой армии и имел несколько крайне удачных схваток с польской кавалерией из авангарда Жерома, а именно — при Мире 28 июня (ст. ст.) с Рожнецким и при Романове 2 июля (ст. ст.) с Пшепендовским. С подходом 5–6 июля (ст. ст.) к Бобруйску, Багратион уже обладал обеспеченной переправой через Березину и всегда мог положить эту преграду между собой и Жеромом. Ободренный выгодами своего нового положения, он решил двинуться разрешить задачи, поставленные ему раньше императором Александром, т. е. прикрыть направление на Смоленск и соединиться с первой армией, хотя теперь в Бобруйске уже имел разрешение от государя совершить все движение по левому берегу Днепра. (7/19) июля, в день занятия Коханова и Орши частями Груши и накануне захвата Могилева Бордесулем с его авангардом, корпус Раевского выступил по приказу Багратиона на Старый Быхов с казачьим отрядом полковника Сысоева во главе. Вскоре 2-ая армия убедилась, что Даву предупредил ее в Могилеве. Однако Багратион все-таки остался верен своему решению проложить себе дорогу вдоль правого берега Днепра. (10/22) июля он сделал распоряжения для дальнейшего наступления армии на Могилев, а на случай неудачи велел немедленно же приступить к постройке моста через Днепр у Нового Быхова. В этот же день маршал Даву, полный надежд на успех, избрал к югу от Могилева у деревни Салтановки позицию на случай боя. С фронта позиция определялась ручьем, протекавшим в юго-восточном направлении впереди деревушек Фатовой и Салтановки вплоть до своего впадения в Днепр. Плотины и мосты, являвшиеся единственными доступными переходами через болотистые берега ручья, были по указаниям Даву или сломаны, или забаррикадированы. Тем не менее, получив в день битвы у Салтановки 11(23) июля приказ Багратиона атаковать неприятеля и постараться ворваться в Могилев, Раевский двинул весь свой корпус вперед. Однако атаки Паскевича в обход правого фланга французов у Фатовой и самого Раевского — против их левого крыла у Салтановки были отбиты. Трудные условия местности, лишая возможности воспользоваться содействием кавалерии, заставили Раевского прекратить атаки и с разрешения Багратиона отвести войска к Дашковке; наступление ночи вскоре положило конец преследованию Кампана. На следующий день видя еще перед собой передовые посты Раевского, Даву ожидал атаки всей 2-ой русской армии. Но Багратион был уже на пути к Смоленску. 13(25) июля его главная квартира переправилась через Днепр у Нового Быхова и выступила дальше на Пропойск и Мстиславль. Платов с казацкими полками должен был спешить к 1-ой армии кратчайшей дорогой и после удачных набегов на французские отряды в Шклове, Копысе, Орше, уже 17(29) июля достиг Любавичей и вошел затем в связь с войском Барклая. Даву только на другой день после переправы Багратиона узнал, что 2-ая армия за Днепром; но, опасаясь наступления каких-либо свежих русских сил от Смоленска на Оршу, он только через двое суток, дождавшись прибытия Понятовского, двинулся туда от Могилева вверх по реке.
Неудача Багратиона и его отступление за Днепр к Смоленску разъяснили первой армии ее положение под Витебском. Получив донесение о наступлении значительных сил неприятеля вдоль левого берега З. Двины, Барклай в ночь с 12 на 13 июля (ст. ст.) двинул там же по дороге на Бешенковичи пехотный корпус Остермана, усиленный драгунами, гусарами и конной артиллерией. Высылкой этого арьергарда он надеялся задержать противника и выиграть время, чтобы облегчить сближение и соединение со 2-ой армией. Так возник 13(25) июля бой под местечком Островно между французским авангардом Мюрата и отрядом Остермана, задержавший на целый день наступление неаполитанского короля, но кончившийся все-таки отступлением русских на новую позицию. Убедившись из боя при Островне в приближении значительных сил противника по дороге из Бешенковичей, Барклай отказался от опасного при таких условиях движения на Оршу. Чтобы отвлечь, однако, внимание противника от 2-ой армии, которую он сам настоятельно призывал ускорить движение к Орше, Барклай готов был даже принять сражение под Витебском. Впрочем, при ближайшем осмотре позиции и впереди и позади Витебска оказались рискованными для решительной битвы. К тому же в ночь на 15(27) июля адъютант Багратиона привез известие о неудавшейся попытке 2-ой армии боем открыть себе дорогу для соединения с Барклаем. Эта новость освобождала 1-ую армию от необходимости выжидать Багратиона у Витебска под страхом битвы в плохо защищенной от природы местности с превосходными силами противника. Поручив Палену составить арьергард армии и выдвинуть его на левый берег речки Лучосы, Барклай после совещания старших начальников 15(27) июля решил продолжать отступление на Смоленск тремя колоннами через Поречье и Рудню. Наполеон со своей стороны уже 13(25) июля знал из донесения Даву об отражении Раевского у Салтановки. После этого операции главной армии против Барклая были вполне обеспечены с правого фланга. Бой у Островна и самое упорство, с которыми дрались русские арьергарда Остермана, затем 14(26) июля Коновницына и, наконец, 15(27) июля — Палена, все это наводило императора на мысль, что русский главнокомандующий собирается принять генеральное сражение. В первые дни этих авангардных стычек французская армия была еще слишком разбросана, и Наполеон ограничивался рекогносцировкой, предполагая дать давно желанную битву только 16(28) июля, если русские выстоят на месте. Но в назначенный для боя день от русской армии перед ним не осталось и следов. Французы могли только вступить в Витебск, очищенный неприятелем, и на следующий же день двинуть за ним погоню. Сознавая, однако, что надо дать армии отдых дней в 7–8, Наполеон поневоле должен был предоставлять русским почин в наступательных действиях и подготовке битвы. Он ограничился только тем, что занял частями великой армии все узлы дорог на правом берегу Днепра между Витебском, где отдыхала гвардия, и Смоленском. Так, вице-король занимал Сураж и Велиж, Нансути — Поречье, Ней — Лиозну, Мюрат — Колышки и Рудню, Груши — Бабиновичи и Любавичи, Даву — Дубровну.
Между тем обе русские армии, наконец, соединились в Смоленске: 20 июля (1 августа) прибыла туда армия Барклая, которого тотчас же уже на следующий день посетил Багратион, обогнавши свои войска; 22 июля (3 августа) подошла и его 2-ая армия. Поспешность отступления расстроила русские войска, но 1-ая армия все еще насчитывала в своих рядах около 80 тысяч, 2-ая — около 40 тысяч человек. Военный совет старших начальников единодушно высказался теперь за наступление, и Барклай, вопреки собственному убеждению, согласился июля 26 (7 августа) начать движение к Рудне с тем условием, чтобы войска не удалялись от Смоленска далее трех переходов; на всякий случай на левом берегу Днепра от Смоленска к Красному был выдвинут отряд Неверовского. Однако уже на другой же день при первых ложных слухах о сосредоточении французских сил у Поречья, Барклай приостановил наступление. Получив через несколько дней сведения, что Наполеон стянул войска позади Рудни у Любавичей-Бабиновичей и Дубровны, он опять было возобновил движение вперед и 2(14) августа занял крайне выгодную на случай битвы позицию у Волковой в надежде вызвать неприятеля на атаку. Но через сутки обнаружилось, что французы перешли на левый берег Днепра. Теперь Барклаю не оставалось ничего другого, как торопиться вслед за Багратионом назад на защиту Смоленска и сообщений с Москвой.

Бивуак (Фабер дю-Фор)
Наполеон действительно был душевно утомлен этой вечной погоней за решительным сражением и все новым и новым исчезновением неприятеля. Он приходит к решению неожиданным вывертом всего своего наступления от Витебска превзойти все ожидания Барклая и застать, наконец, русских врасплох, как это удалось ему в 1809 году под Ландсгутом с австрийцами. Со свойственной ему легкостью быстро перебрасываться от одной комбинации к другой, император задумывает теперь переправить все свои силы якобы почти в 200.000 человек на левый берег Днепра у Росасны, с налету захватить Смоленск в тылу у русской армии, поразить этим все умы в России и принудить, наконец, противника к решительному бою. Следы этого нового плана ясно заметны у Наполеона уже с 6 августа (н. ст.) после того, как накануне он, наверное, узнал о соединении обеих русских армий в Смоленске. Он советуется с маршалом Даву о преимуществах движения по правому и по левому берегу Днепра, о выгодах переправы у Росасны или дальше у Дубровны, велит, наконец, наводить мосты у Могилева, Орши, Дубровны, Росасны. Однако, когда Платов разбил вдруг 27 июля (8 августа) авангард Себастьяни под Инковым (при Молевом болоте), Наполеон тотчас же опять весь настороже, готов принять битву и на правом берегу Днепра у Лиозны, ждет еще двое суток русского наступления. Только июля 29 (10 августа), когда надежды на атаку Барклая не оправдались, отдаются отдельным французским частям приказы готовиться к походу за Днепр. Ней должен идти через Любавичи и навести мост на Днепре супротив Ляд, дабы затем вместе с Мюратом во главе кавалерии образовать авангард. Даву поручается навести 4 моста у Росасны с тем, чтобы следовать за Неем. Вице-король Евгений двинут черезъ Лиозну к Росасне вслед за Даву. Гвардия, которую император задерживает пока еще на день вследствие дурной погоды, пойдет у Росасны позади Евгения Богарнэ. Для Понятовского намечался путь на Романово или на Боево. В три дня император рассчитывает сосредоточить всю свою армию на Днепре, еще через трое суток — под Смоленском. 1(13) августа в 1 час пополуночи Наполеон в карете выезжает из Витебска в Росасну. К утру Мюрат и Ней направлены уже к Днепру напротив Хомина, к вечеру — и Даву на Росасну. Однако меры предосторожности, принятые Барклаем, а именно — выделение отряда Неверовского к Красному и решение не удаляться от Смоленска далее трех переходов, спасли город от неожиданного захвата и превратили задуманный Наполеоном блестящий удар в азартную игру на авось полководца, избалованного выигрышами на ошибках противников. С утра 2(14) августа авангард кавалерии Мюрата и корпуса Нея были уже за Днепром и после полудня наткнулись на отряд Неверовского, вышедший из Красного и расположившийся в боевом порядке. Мюрат в донесении Наполеону превозносит неустрашимость своей кавалерии в атаках на этого неприятеля, но отдает должное и упорному отпору со стороны русского каре, пролагавшего себе путь для отступления штыками среди французских всадников, которые снова и снова преграждали ему с тылу дорогу. Неверовский потерял в деле под Красным до 1½тысячи человек, но зато задержал на целый день наступление неприятеля на Смоленск. Когда обстоятельства вполне разъяснились, русские главнокомандующие решили как можно скорее спешить на выручку города. Корпус Раевского выступил на поддержку дивизии Неверовского через Смоленск еще в ночь со 2 на 3 августа (ст. ст.) и после полудня соединился с ней к западу от города; русские силы доходили теперь здесь всего до 15 тысяч человек, а потому по предложению Паскевича решено было защищаться в самой крепости.

Перед Смоленском (Фабер дю-Фор)
Смоленск еще при Борисе Годунове был окружен стеной из белого камня и кирпича свыше 5 верст в длину, вышиной не менее 25 футов и толщиной не менее 10 ф.; впереди стены местами имелся прикрытый путь, а за ним везде кругом шел сухой ров. Старых башен сохранилось 17, да еще королевский бастион, пятиугольное насыпное укрепление, построенное Сигизмундом III в юго-западном углу, между Красненским и Мстиславльским предместьями. Предместья эти из деревянных построек опоясывали город с юга от Днепра до Днепра и в порядке с запада на восток назывались Красненское, Мстиславльское, Рославльское, Никольское, Раченка. В стене было несколько проломов и трое ворот — северные Днепровские, восточные Никольские и южные Малаховские.

Под Смоленском 5 авг., 10 час. веч. (Фабер дю-Фор)
3 (15) августа французские войска и императорская квартира были уже в Корытне под самым Смоленском. Предполагая, что город покинут русскими, Наполеон с уверенностью рассчитывал занять его на следующий день без боя, а потому решился даже перебросить кавалерию корпуса Евгения Богарнэ под Хоминым опять назад на правый берег Днепра ради поисков неприятеля. Благодаря такому раздроблению сил, французы 4(16) августа должны были ограничиться только несколькими попытками атак на укрепления Смоленска. С 8 часов утра сюда стала подходить кавалерия Мюрата и корпус Нея, а вскоре после полудня прибыл и Наполеон. Войска Даву появились только с 4 часов дня. Дело ограничилось почти лишь одной канонадой; попытки овладеть королевским бастионом были легко отбиты. К вечеру к Раевскому, потерявшему в этот день свыше тысячи человек, подошли подкрепления и появилась армия Барклая, к которой у города присоединился и Багратион. Перед ночью в русском лагере было решено, что 2-ая армия отступит по московской дороге к Соловьевой переправе, оставив у реки Колодни только особый арьергард под начальством кн. Горчакова. Для прикрытия отступления Багратиона, 1-ая армия будет удерживать Смоленск, после чего она тоже отойдет на московскую дорогу под прикрытием арьергарда кн. Горчакова. Для обороны Смоленска назначен был корпус Дохтурова, усиленный Неверовским, Коновницыным, а затем и другими подкреплениями постепенно до 30 тысяч человек. В течение ночи произошла смена войск Раевского корпусом Дохтурова, а 1-ая армия осталась на правом берегу Днепра и выставила здесь даже батареи в помощь городской артиллерии. Лагерь Наполеона был разбит в 2½ километрах от укреплений города.

Перед стенами Смоленска (Фабер дю-Фор)
На следующий день 5(17) августа Наполеон уже с 8 часов утра знал о появлении русской армии у Смоленска; он рано садится на коня, но все еще до полудня затягивает начало решительного штурма, как бы надеясь на вылазку и битву. В ожидании французские корпуса развертывались против предместий города, Ней — против Красненского, Даву — против Мстиславльского и Рославльского, Понятовский — против Никольского. Около часу дня Ней двинул вюртембергскую дивизию против западного предместья; бригада Гюгеля проникла в Красненское и укрепилась на кладбище. В то же время с юга пошла в атаку дивизия Морана, справа от нее дивизия Фриана, а слева дивизия Гюдена под предводительством самого Даву. Но и здесь французы могли овладеть только Мстиславльским предместьем, а их дальнейшие усилия разбивались о твердыню стены. Император велел было артиллерии пробить брешь в стене, но и эта попытка не удалась, хотя местами палили из пушек почти в упор. Зато удачно брошенные снаряды зажгли и предместья и город. Даву удержал на ночь завоеванную позицию в предместьях и готовился с утра повести атаку через один из проломов в стене. Около 2 часов дня Наполеон велел корпусу Понятовского атаковать Малаховские ворота и восточные предместья вплоть до Днепра, Никольское и Раченку. Поляки легко захватили предместья, но усилия их проникнуть в город остались и здесь бесплодными. Понятовский приказал было большой батарее стрелять по трем мостам на Днепре, чтобы прервать сообщения с 1-ой армией, но русская артиллерия из-за реки поддержала городские орудия и заставила поляков прекратить этот обстрел. Около 5 часов пополудни наступила наиболее страшная минута защитников Смоленска. Войска корпуса Даву при содействии поляков повели настойчивый приступ против Малаховских ворот, переходя через сухой ров и оттесняя русских в город. Но в это время подоспели подкрепления, вытребованные Дохтуровым из 1-ой армии. Принц Евгений Вюртембергский согласился произвести вылазку через ворота; егерский полк снаружи стены устремился в прикрытый путь и залпами остановил натиск французов. Наполеон в 8 часов вечера велел прекратить атаку; он не пожелал ввести в дело молодую гвардию и другие части армии, остававшиеся в резерве. Уложить на месте сразу столько войска, сколько потребовалось бы для взятия города штурмом во что бы то ни стало, еще не входило в его планы. Французы и так потеряли не менее 8–10 тысяч человек и к тому же, по мнению знатоков, без крайней нужды, потому что легче было бы перейти Днепр выше Смоленска, у Шеина Острога или в брод у Прудищева и наступлением между обеими русскими армиями принудить противника очистить город. Русские потери доходили до 6 тысяч убитых и раненых. К полночи Барклай приказал начать отступление из города. Тщетно все главные защитники Смоленска уговаривали его продолжать оборону города, а Багратион, Беннигсен и вел. кн. Константин требовали даже перехода в наступление. Барклай твердо верил, что переправа Наполеона несколько выше по Днепру сделает положение русских отчаянным.

Наполеон под Смоленском 5 августа 1812 г. (Гесс)
За ночь на 6(18) августа русская 1-ая армия отошла на дорогу к Поречью, чтобы обмануть неприятеля надеждой на битву, а Дохтуров успел очистить Смоленск и уничтожить мосты. Однако за отсутствием у русских арьергарда, маршал Ней, проникший с утра в опустевший город, отрядил тотчас же головную дивизию в брод на правый берег Днепра, чтобы скорее овладеть Петербургским предместьем. Здесь бригада Гюгеля заняла редут у реки над бродом и удержала его за собой вместе с выгоревшим предместьем, несмотря на то, что спохватившиеся русские целый день старались выбить вюртембержцев из позиции. Главная квартира Наполеона теперь в Смоленске; но сам император с 10 утра до 6 вечера остается верхом; он лично осматривает батарею за рекой. К следующему утру французы успели навести мост у Смоленска, и 7(19) августа весь корпус Нея перешел на правый берег Днепра. Только теперь Наполеон велел, наконец, корпусу Жюно переправиться и выше города в брод у Прубищева. Однако на этот день император почему-то не взял в свои руки общего руководства военными действиями за рекой против армии Барклая. Он только вечером вернулся с объезда назад в Смоленск, но в сущности предоставил русских разрозненным или недружным атакам Нея, Мюрата, Даву, Жюно. Благодаря этому, 1-ая русская армия стойко выдержала 7(19) августа боевые встречи с французами у Гедеонова, у деревни Валутиной близ реки Колодни, у Лубина за рекой Строганью и, потеряв за этот день еще до 5 тысяч человек, все-таки нашла себе выход на московскую дорогу вослед Багратиону.

Битва под Смоленском 5 августа 1812 г. (литография Адама)
Стратегическое положение великой армии за время похода от Вильны до Смоленска значительно ухудшилось. Обе русские армии теперь объединились, а численное отношение сил Наполеона к войскам Александра I, которое в начале похода было близко к 3:1, уже понизилось до 5:4. Император французов не щадил своей армии; непосильные форсированные переходы и потери убитыми и ранеными свели ее после Смоленска к 130.000 человек. Но он мало выиграл и во времени: продолжительные остановки в Вильне, Витебске, Смоленске все-таки затянули развязку кампании на неблагоприятное время года. При этом, в отличие от походов 1805–7 гг. в Австрию и Пруссию, охрана тыла армии вовсе не была организована; если исключить Вильну и Смоленск, то от Немана до Москвы не было ни гарнизонов, ни магазинов, ни госпиталей. При таких условиях подвоз провианта и препровождение отсталых к их частям были лишены безопасности, а эвакуация раненых и отправка пленных на запад за русскую границу стали просто невозможны. Еще до Вильны случалось, что солдаты по 5, по 6 дней не видали печеного хлеба и питались мукой, которую разводили в кипятке. Между Вильной и Смоленском каждый корпус, каждый полк, каждый батальон сами должны были заботиться о своем пропитании. Стада быков, коров и овец, угнанных у поляков, шли при армии, и мяса одно время было вдоволь. Но на З. Двине вюртембержцы корпуса Нея грабили и жителей и повозки с мукой, назначенные для других частей армии. После занятия Вильны, от дурной погоды и усиленных переходов массами падали лошади, умирали уставшие солдаты. Уход за больными был слаб; в Смоленске госпиталь с сотней раненых 4 дня оставался забытым. Для полководца, ведущего войну методично, уже в Витебске и Смоленске могли возникнуть вопросы: не пора ли приостановить это движение вперед во что бы то ни стало, не отложить ли конец похода на следующий год, а пока не заняться ли закреплением за собой тех областей, которые уже завоеваны? Но Наполеон еще надеялся несколькими устрашающими ударами, как взятие Смоленска, победа над русской армией в решительном сражении, наконец занятие Москвы, принудить Александра I просить о мире. В ночь с 24 на 25 августа (н. ст.) император в карете выехал из Смоленска. Уже в Дорогобуже начались пожары; Вязьма покинута жителями, а через два часа после вступления французов и здесь вспыхивают пожары. Гжатск совершенно пуст. Вся местность, через которую проходит великая армия, опустошена отчасти жителями, отчасти самим неприятелем. Что же может ждать его в Москве!
Евгений Щепкин
Карты действий на Волыни

Карта 1

Карта 2
План похода Наполеона в Россию в 1812 г.

VIII. Действия на флангах К. А. Са-скаго
 то время, как Наполеон с главными силами своей армии вел наступление по дороге к Смоленску, на флангах разыгрывались события, которые оказывали более влияние на общий ход военных действий.
то время, как Наполеон с главными силами своей армии вел наступление по дороге к Смоленску, на флангах разыгрывались события, которые оказывали более влияние на общий ход военных действий.
Наполеон выдвинул на оба фланга своей главной армии сначала только по одному корпусу. На левом фланге Макдональд с X корпусом (32.500 чл.), наступая от Тильзита, должен был захватить Ригу, чтобы обеспечить подвоз провианта и военных припасов с моря и вверх по Двине, а потом угрожать правому флангу армии Барклая. На юге Шварценберг со своими 33.000 австрийцев должен был ограждать пределы Великого герцогства Варшавского и удерживать обсервационную армию Тормасова. События очень быстро показали, что выдвинутых на фланги сил недостаточно. Оба корпуса были составлены из вассальных и союзных войск. У Шварценберга были исключительно австрийцы. У Макдональда — пруссаки (около 20 тыс.), баварцы, вестфальцы, поляки. Поэтому оба корпуса действовали вяло. У Шварценберга были даже, по-видимому, определенные инструкции — не ввязываться в серьезные дела. А Макдональд ничего не мог поделать с пруссаками Йорка. Нет ничего удивительного, что Наполеону скоро пришлось усилить фланги.
Макдональд, выделив часть войск для осады Риги, двинулся вверх по Двине к Якобштадту, чтобы здесь перейти на правый берег реки и броситься на наш правый фланг. Корпусу Макдональда мы могли противопоставить только рижский гарнизон, совершенно иммобилизованный, и трехтысячный отряд в Динабурге.

Перед Полоцком 25 июля 1812 г. (Фабер дю-Фор)
Осада Риги оказалась безуспешной, ибо пруссаки умышленно не проявляли никакой энергии, а обход нашего фланга рядом обстоятельств оказался возложенным на другие части, а не на Макдональда. Витгенштейн был вынужден под Вилькомиром к отступлению[53], та же неудача отрезала его от Вильно-Свенцлинской дороги. Со своим 25-тысячным корпусом он должен был отступить в совершенно противоположную сторону, к Друе (см. ст. полк. Поликарпова в «Нов. Жизни», 1911, X). Вследствие этого он стал самостоятельной частью и получил назначение прикрывать Петербург. Тогда естественно на корпус Удино была возложена задача действовать против Витгенштейна и против Петербурга. У Удино номинально было 37.000 чел., но фактически едва 28.000. Так как одному ему задача была непосильна, то он должен был действовать сообща с Макдональдом. Оба маршала сговорились перейти Двину, соединиться в тылу Витгенштейна, у Себежа, отрезать его от Пскова, его базы, и Петербурга и опрокинуть на главные силы Наполеона. Тогда дорога на Петербург сделалась бы свободной и оба корпуса могли угрожать нашей столице очень опасными неожиданностями. Исполняя этот план, Удино быстро двинулся к дрисскому лагерю, разрушил его, поднялся выше по реке, перешел ее у Полоцка, где учредил свою главную квартиру, и повернул на север. Но Макдональд вместо того, чтобы перейти Двину у Якобштадта и идти навстречу Удино, спустился к Динабургу и там задержался. Этим воспользовался Витгенштейн, который направил все свои силы на Удино. Он двинулся от Росицы, чтобы захватить Клястицы и загородить дорогу французам. И хотя Удино успел предупредить его и занять Клястицы, но для этого ему пришлось оставить на переправе через Дриссу одну из своих трех дивизий. У Витгенштейна получился перевес в силах; 18 июля он выбил неприятеля из его позиции и заставил отступить к югу. Удино сосредоточил свои силы, перешел обратно через Дриссу, уничтожил у Боярщины (20 июля) авангард Кульнева — сам Кульнев был тут смертельно ранен[54] — и попробовал было снова перейти в наступление. Но отбитый при Головщице, 21-го отступил к Полоцку. Витгенштейн, неспокойный насчет Макдональда, передвинулся к западу и стал у Росицы, наблюдая за обоими маршалами. Но Макдональда словно какие-то чары приковали к Динабургу. Он не подавал никаких признаков деятельности, и это спасало Витгенштейна.
Между тем к Удино подошли подкрепления. Наполеон отдал под его начальство войска VI баварского корпуса Гувиона Сен-Сира. При переходе через Неман в нем числилось 25.000 человек. Но Наполеон отобрал от него всю кавалерию, и он так расстроился от недостатка провианта — он шел в хвосте великой армии, — что численность его, когда он прибыл в Полоцк, не превышала 13.000 чел. Но все-таки эта была хорошая поддержка. 30 июля Удино возобновил наступление, но на Свольне был отбит и снова отошел к Полоцку, преследуемый Витгенштейном. Последний 5 августа атаковал французов, занявших позиции в городе и впереди него, но был отбит. Удино, раненый — такова уже была его судьба, что он всюду первый получал рану — сдал команду Сен-Сиру. Этот генерал был человеком другого темперамента. 6-го, обманув Витгенштейна притворным отступлением, он обрушился на него всеми силами, привел в расстройство и заставил только поспешно отступить на север за Дриссу. Но так как он не чувствовал себя достаточно сильным, для дальнейшего наступления, а Макдональд по-прежнему стоял на месте, то его энергия на этом иссякла. Он вернулся в Полоцк, где продолжал оставаться в бездействии: весь август и сентябрь авангарды занимались ленивой перестрелкой.
На юге действия Шварценберга с самого начала казались Наполеону подозрительными, а так как на него ложилась миссия очень ответственная, то император счел за лучшее отозвать его к главным силам, а его задачу возложить на VII саксонский корпус графа Ренье. У Ренье было мало народу, всего около 17.000 человек, в то время как у Тормасова около 47.000, хотя и разбросанных по большому пространству. Ренье повернул от Несвижа к Слониму, в то время как Шварценберг двинул свой корпус в обратном направлении. От Слонима Ренье начал развертывать свои силы, чтобы занять линию Брест — Кобрин — Пинск и тем преградить Тормасову путь к Литве. Сам он с главными силами двинулся к Пинску, а 4-тысячный отряд ген. Клингеля направил к Кобрину и Бресту. Клингель укрепился в Кобрине и послал эскадрон гусар захватить Брест, когда Тормасов, узнав об отходе Шварценберга, решил перейти в наступление. Посланный им авангард Ламберта без труда выгнал саксонских гусар из Бреста. Против Кобрина, занятого Клингелем, Тормасов сосредоточил отряд в 20 тыс. слишком человек. 15 июля, окруженные со всех сторон саксонцы, в числе около 2.500 чел., сложили оружие. Это была первая победа русских над неприятелем.

Сражение при Клястицах 18 июля 1812 г. (Гесс)
Но Тормасов, подобно Макдональду у Динабурга, вместо того, чтобы обрушиться на Ренье и разбить его, вдруг сделался неподвижен и твердо сохранял свою неподвижность до 28 июля. За это время Ренье, не тревожимый серьезно никем, отступил к Скопину, куда на соединение с ним повернул из Несвижа, получивший новые приказания, Шварценберг. Соединившись, оба повели наступление через Пружаны на Кобрин, при чем общая численность австро-саксонского отряда достигала теперь почти 40.000. Авангард Ламберта столкнулся с неприятелем у Пружан 27 июля, был опрокинут, потерял орудие и отступил к Городечне, где соединился с Тормасовым. Этот мудрый генерал, между тем, распорядился так хорошо, что на позиции к моменту боя из 40.000 человек, находившихся под его командой, оказалось всего 18.000. Остальные были где-то в рекогносцировках. Благодаря отличной позиции у Городечны, он 30 июля целый день выдерживал атаку саксонцев Ренье — Шварценберг ограничивался почти исключительно канонадой и очень неохотно помогал своему товарищу. Но угрожаемый охватом превосходных неприятельских сил, 31 июля Тормасов отступил к Луцку. Ренье не мог один его преследовать, а Шварценберг становился все более и более подозрительным по мере того, как на главном театре войны дело шло к затяжке. Так, на правом фланге Наполеона все застыло. В этом застылом состоянии противники находились до тех пор, пока с юга не подошла армия Чичагова, т. е. до первых чисел сентября.
Таким образом, ни на одном фланге военачальники Наполеона не сделали ничего, что могло бы помочь ему в его главной задаче.
Особенно непростительным представляется поведение Макдональда, не говоря, конечно, о почти изменнических действиях Шварценберга. Будь действия на флангах энергичнее, судьба великой армии была бы, быть может, не так плачевна. Ибо если бы на севере трем соединенным корпусам удалось уничтожить Витгенштейна и двинуться на Петербург, а на юге, под Городечной, окружить Тормасова — война приняла бы другой оборот. И если Витгенштейн заслуживает большой похвалы за свои действия, то относительно Тормасова можно сказать, что он сделал все, чтобы испортить свои дела и что спас его только Шварценберг.
К. Са — ский

При Валутиной горе (С карт. Гесса в Зимнем дворце)
IX. Ход войны на главном театре действий в период с 8 по 17 августа[55] Проф. Военной Академии генер.-лейт. Б. М. Колюбакина
8 августа последовало высочайшее назначение генерала-от-инфантерии князя Голенищева-Кутузова единым и общим главнокомандующим над всеми действующими армиями.
День назначения совпал с днем прекращения боев у оставленного нами Смоленска, сосредоточением армий у пересечения р. Днепра с большой Московской дорогой и с постановкой нашими армиями новой цели действий. С этого дня, силой неотвратимых обстоятельств, русская армия была вынуждена раньше или позже, так или иначе, но во всяком случае, в ближайшем будущем, прибегнуть к решительному и генеральному сражению, так как Наполеон объектом дальнейших действий ставил отныне Москву, а мы не могли отдать ее без решительного боя. Открытым оставался только вопрос, когда именно и где именно дадим мы этот решительный отпор Наполеону.
Наполеон и после Смоленска продолжал искать общего и решительного с нами сражения, так как, не сомневаясь в успехе сражения, он получал этим путем полную свободу действий и прежде всего возможность скорейшего и уже беспрепятственного достижения до Москвы — отныне объекта всех его действий. Совершенно противно желаниям Наполеона русская армия должна была ставить целью действий — возможный выигрыш времени, и так как было невозможно оставить Москву без боя, то дать это сражение было выгодно возможно позже на основании тех соображений, что французская армия с каждым днем уменьшалась численно, а мы ожидали не позже восьми дней усиления себя резервами Милорадовича и далее постепенного и прогрессивного увеличения армии. Затем промедление позволяло развиться операциям южной армии на сообщения Наполеона, давало возможность окончить наши вооружения внутри империи и, наконец, протянуть время до наступления холодов.
Этот столь необходимый для нас возможный выигрыш времени достигался созданием всевозможных затруднений следованию Наполеона далее, как путем соответственной подготовки театра предстоящих действий, так и путем возможного задерживания дальнейшего наступления французской армии — системой сильных арьергардов и попутным уничтожением всех средств для жизни, что увеличило бы затруднения и лишения французской армии и, наконец, путем возможного развития нами действий на ее сообщения, что могло вынудить Наполеона даже приостановить свое шествие в Москву. При применении этих мер мы должны были возможно избегать того общего и решительного сражения, которое было так нужно Наполеону, и откладывать его до наступления для нас наивыгоднейших условий силы, места и времени.
Таков, казалось, должен был быть план наших действий вообще и, в частности, такова должна была быть подготовка с нашей стороны этого общего и решительного сражения и естественно, что чем позже бы оно состоялось, тем оно было бы для нас выгоднее во всех отношениях и особенно — в условиях силы, так как мы постепенно сравнивались численно и даже могли со временем и превзойти противника в этом.

В какой мере и в каких условиях была нами выполнена общая задача, видно из представленного очерка хода войны с 8 по 17 августа, когда к армиям прибыл новый главнокомандующий — Кутузов.
На театре действий I и II армий. 8 августа в 4 часа пополуночи (утра) вся первая армия, наконец, сосредоточилась у Соловьевой переправы, в тот же день по четырем мостам переправилась на левый берег р. Днепра и расположилась лагерем у д. Умолье. II армия в это время была расположена у Михайловки и Новоселок. Арьергард под начальством Платова в составе многих казачьих полков; Сумского, Мариупольского, Елизаветградского гусарских и Польского уланского полков оставался на правом берегу Днепра и поддерживал связь с отрядом ген.-ад. Винцингероде, бывшего около г. Духовщины.
В подкрепление и под общее же начальство Платову оставлен на левом берегу Днепра пехотный отряд г.-м. барона Розена в составе 34, 1, 19 и 40 Егерских полков (всего 7 батальонов), полуроты батарейной артиллерии и конной роты Захаржевского. «Платову указано оставаться у самой переправы долее, — свидетельствует Ермолов, — дабы собрались все остальные». Сильные партии должны были отправиться вверх по Днепру, наблюдая, чтобы не беспокоил неприятель отправленные из Смоленска обозы и транспорты через Духовщину на Дорогобуж. Все прочие тяжести и раненые отправлены из Духовщины в Вязьму и были вне опасности.

Сражение под Смоленском 5 августа (Лонглуа)
Князь Багратион, уже достаточно раздраженный бесцельностью операции по соединении армии у Смоленска, форсированием войск при движении на выручку Смоленска, теперь, при дальнейшем спешном движении, в своей пассивной роли, находясь в заднем эшелоне, получая лишь частные слухи о переживаемых отходившей от Смоленска I армии кризисах и об оставлении Смоленска, не имея в добавление никаких известий из главной квартиры I армии в течение целых двух суток, приходит в сильное раздражение и негодование, вылившееся в характерном письме его к Ермолову с марша к Дорогобужу.

II армия перешла в Дорогобуж, I армия оставалась у д. Умолье до вечера и, выступив в 9 часов вечера, перешла на р. Ужу, к дер. Усвятье. Вся кавалерия арьергарда переправилась к вечеру в брод на левый берег Днепра. Неприятель было пытался перейти вслед за кавалерией, но был отражен огнем стрелков и артиллерии (бар. Розена), оставленными на правом берегу[56]. Отряд ген.-ад. Винцингероде оставался у Белой.
Успокоившись от тяжелых впечатлений и забот оставления Смоленска и боев 6 и 7 августа и вынужденный теперь силой обстоятельств на совместные действия со II армией на Московской дороге, Барклай, не испытывая близости противника, начинает проникаться убеждением в возможности дать Наполеону теперь решительное сражение.
Признавая достаточно выгодными местные условия и, конечно, в известной степени под давлением общего желания в армии боя, Барклай принимает решение дать здесь, на р. Уже, генеральное сражение всеми своими силами и отдает ряд соответствующих распоряжений, послав Милорадовичу приказание спешить всеми своими формированиями в Вязьму. «Позиция сия показалась мне выгодной, — свидетельствует сам Барклай, — я решился дождаться на ней неприятельского нападения и предложил князю Багратиону присоединить свою армию к левому флангу первой».
9 августа князь Багратион, находясь уже в Дорогобуже, все еще не получая сведений о намерениях Барклая и не получая ответа на два своих письма Ермолову, продолжает негодовать и на отступление или, вернее, на спешность его, без упорного арьергардного боя, на лишение его известий о дальнейших намерениях, на утомление людей, на казавшееся ему отсутствие распоряжений, и высказывает переживаемые чувства и впечатления в письме Ермолову и в нем же ставит ряд вопросов: «Зачем вы бежите и куда? За что вы мной пренебрегаете, право, не до шуток!» Очутившись теперь в тылу отступающей I армии, на единственной нашей коммуникационной дороге, в струе отступавших обозов, тыловых учреждений и всякого рода транспортов, всякого рода нестроевого люда и перепуганных и спасающихся жителей, князь Багратион негодует еще более. «Здесь навалена бездна обозов и всякой сволочи, равно милиция». Не понимая причин непорядка, сумятицы и переполоха в Дорогобуже и на дороге, враг всякого рода уныния, беспорядка и суеты, князь Багратион пишет: «Тут места открытые, все видно, и у меня казаки в Ельне и на дороге в Рославль».
«Воля ваша, отсюда ни шагу, — заканчивает он, — если вы прочь, то я вам оставлю армию и поеду к государю».
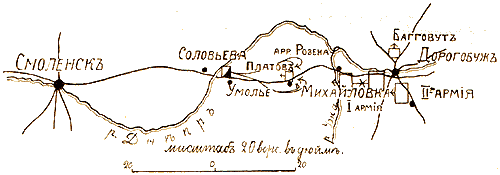
Кутузов, накануне отъезда в армию, сдает дела по начальствованию петербургским ополчением, заканчивает последние сборы и одновременно уже распоряжается, по должности главнокомандующего, рапортует государю, сносится с графом Ростопчиным, управляющим Военным Министерством кн. Горчаковым, ген. Эртелем, графом Орловым и другими должностными лицами, а губернаторов Кологривова, барона Аша и Сумарокова просит заготовить ему на пути лошадей; из сношений Кутузова видно, что он берет с собой чиновников ополчения, Казначеева, Хвостова, Сомова и Даниловского.
На театре действий I и II армии. К утру 10 августа армии расположились: I, имея главную квартиру в с. Андреево, главными силами при д. Усвятье, на правом берегу р. Ужи, II — у Дорогобужа, имея особый отряд на правом берегу р. Днепра для противодействия наступлению сюда с северо-запада IV итальянского корпуса вице-короля Евгения. Арьергард под общим начальством Платова и в том же составе, на левом берегу р. Днепра, у Соловьевой переправы.
Утром Барклай полон решимости дать здесь генеральное сражение. «После отступления армии от Смоленска, нынешнее положение дел таково, — пишет Барклай графу Ростопчину, — чтобы судьба наша была решена генеральным сражением. Мы в необходимости возлагать надежду на генеральное сражение. Все причины, воспретившие давать оное, ныне уничтожаются. Мы принуждены взять сию решительную меру. Отечество может избавиться от опасности общим сражением, к которому мы с князем Багратионом избрали позицию у д. Усвятья».
Далее Барклай просит спешить приготовлением «Московской силы» и сообщает, что указал гр. Милорадовичу сосредоточить свои формирования у Вязьмы.
Однако к полудню эта решимость как бы несколько оставляет Барклая и, вероятно уже позже (но в тот же день), он доносит государю: «чтобы предупредить случайности какого-либо слишком поспешного предприятия, я буду вместе с кн. Багратионом стараться избегать генерального сражения. Однако же мы в таком положении, что сомневаюсь в этом успехе». Следовательно, уже большим успехом считает Барклай достижение возможности избежать боя.
На позиции на р. Уже (у д. Усвятье). По вопросу этой позиции и решимости Барклая принять здесь бой, встречаются некоторые несогласования в показаниях первоисточников, начиная со свидетельств самого Барклая, столь различных в письмах его государю и графу Ростопчину. Получается впечатление, что, пока французы далеко, Барклай полон решимости драться, а с приближением минуты встречи, мужественным в бою Барклаем, под тяготением громадной ответственности, овладевает нерешимость или же берет верх расчет.
После оставления Смоленска идея прекратить отступление и заградить дальнейшее движение Наполеона стала общей во всей армии и, естественно, тому должна была послужить первая встретившаяся позиция, каковой и была таковая на р. Уже. Но дело было не в позиции, а в сомнении своевременности дать бой, в отсутствии единства командования, в постоянных разногласиях между главнокомандующими армиями, а, быть может, и в известной нерешительности Барклая, если только не объяснить это тем, что в решительную минуту расчет брал у него верх над всеми остальными, в области чувств, побуждениями.
С утра оба главнокомандующих со штабами и корпусными командирами, в присутствии великого князя Константина Павловича, выехали на осмотр позиции. Между тем Барклаем, столь было твердо решившимся дать на ней сражение, уже начинает овладевать нерешительность принять его здесь. Он начинает находить недостатки позиции, а князь Багратион вовсе ее бракует. Толь начал возражать князю со свойственной ему самоуверенностью и заносчивостью и довольно резко, если не грубо, что взорвало горячего и раздражительного князя Багратиона и привело к прискорбному инциденту между ними.
Скромный, простой и лишенный в своем положении должного авторитета, Барклай сначала не остановил, а потом не поддержал своего оскорбленного генерал-квартирмейстера; порицание же позиции скорее устраивало Барклая, давая ему лишний предлог к продолжению отступления.
Вечером цесаревич великий князь Константин Павлович выехал в Петербург, получив письма к государю от Барклая и от Ермолова. В этом последнем письме, представляющим документ высокой ценности, Ермолов, справедливо порицая бесцельные операции Барклая к Поречью и Рудне, отдает краткий отчет о военных событиях с 4 по 7 августа и повергает на усмотрение государя вредное влияние на войска непрерывного отступления, тяжесть и бесцельность маршей, вызывающих ропот в войсках и неудовольствие на главнокомандующего, и докладывает о неизбежной необходимости в ближайшем будущем принятия генерального сражения. Далее, дальновидный и проницательный Ермолов, в виду возможности в будущем занятия французами Москвы, как последствия занятия ими Смоленска, приводит свое высокозамечательное личное мнение о значении занятия первопрестольной столицы нашей: «не все Москва в себе заключает, и с падением столицы не разрушаются все государства способы» и заканчивает словами: «дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, еще менее имеющих к нему доверенность, — войска же и совсем ее не имеют».
Смелый голос Ермолова, в числе многих других голосов России, подготовляет почву к назначению единого, общего, популярного в России и в армии главнокомандующего.
Движения и действия арьергарда. С рассветом начинается бой за переправу Днепра у д. Соловьево и вблизи. Французы к утру усиливаются, на переправах и, под прикрытием стрелков и значительной артиллерии, начинают строить мосты. Казачьи посты переходят Днепр. Платов удерживает переправу огнем артиллерии, французы усиливают артиллерию. Платов остается у переправы с одними казачьими полками, а всю регулярную кавалерию с пехотой барон Розен отводит к Михайловке, где и занимает довольно сильную позицию.
Французы строят мосты, и передовые части их авангарда переходят Днепр. Платов с казачьими полками, под напором значительной кавалерии Мюрата, постепенно отходя, в 4 часа дня наводит преследующих его французов на пехоту и артиллерию Розена, скрытно, как бы в засаде, стоявших в боевом порядке у Михайловки. Завязывается упорный бой у Михайловки, где наш арьергард с успехом удерживается до самой ночи. Неприятель отражен на всех пунктах, благодаря искусному пользованию местностью нашими егерскими полками, приученными к действию в рассыпном строю и бою за местные предметы и благодаря содействию нашей артиллерии. Местоположение не допускало действия кавалерии, оставшейся сзади, и сем батальонов егерей, поддержанных огнем 20 орудий, не ограничиваясь огнем в рассыпном строю, ударами в штыки уничтожали все попытки многочисленного неприятеля с большим для него уроном. Взято в плен несколько офицеров и до 60 нижних чинов. Наши егерские полки покрыли себя славой, имея командирами полков известных впоследствии Вуича, Карпенко, Сазонова и др.
План дальнейших действий. Позиция на р. Уже, в конце концов, все же не отвергается вовсе и на следующий день — 11-го: приказано II армию пододвинуть сюда от Дорогобужа. Приняв меры к скорейшему усилению армии формированиями и присоединением их на Московской дороге, Барклай, видимо, сохраняет себе свободу решения и действия и обе армии как бы готовы принять здесь решительное сражение.
В Москве. В письме к Балашову граф Ростопчин, одобрив выбор гр. Моркова начальником формируемой «Московской военной силы», сообщает, что войска этой силы собраны, что на следующий день 11-го три полка «выходят на бивак», откуда будут направлены к Можайску, а прочие полки идут на сборные места поблизости неприятеля. «Публика здешняя ропщет на Барклая, а народ не на него, а на солдата надеется», сообщает гр. Ростопчин далее.

Кутузов выезжает в армию, в 9 часов утра, садится в карету, около дома его на Дворцовой набережной, толпы народа вынуждают его ехать шагом, из толпы идут пожелания счастливого пути и победы. По пути Кутузов посещает Казанский собор, где, стоя на коленях, выслушивает молебствие, возлагает на себя поданный ему образ Казанской Божьей Матери и, выходя из церкви, обращается к священникам со словами: «Молитесь обо мне, ибо посылают меня на великое дело». Ровно через 9 месяцев в тот же собор было доставлено тело Кутузова.
На первой станции, в Ижоре, от проезжего курьера, по данному ему праву вскрывать бумаги из армии, Кутузов узнает о падении Смоленска и говорит: «ключ к Москве взят», а вечером встречает на пути в Петербург великого князя Константина Павловича, от которого узнает подробности. С дороги Кутузов посылает отзывы, запросы, приказы и приказания (управ. Воен. Министр. князю Горчакову, графу Ростопчину, Милорадовичу и др. лицам) в целях оповещения о своем назначении, ориентирования высших властей своими личными воззрениями на положение дел и вернейшими мероприятиями, в целях отдать себе отчет в силах и средствах возможного усиления армии, затребовав сведения о рекрутских депо, новых формированиях регулярной армии и об ополчении, также в целях ускорения всех формирований и вообще приготовлений, наметив пункты сосредоточения этих сил и средств. «Время и обстоятельства подвинут какую-либо сторону к решительным действиям, — пишет Кутузов Милорадовичу; — нынешний предмет состоит в преграждении неприятеля в Москву». Далее он наставляет его местом сосредоточения этих подкреплений, «дабы они не замедлили поддержать и усилить отступающую к Москве главную армию».
На театре действий I и II армии. Сам Барклай так излагает день 11 августа: «11-го арьергард, останавливавший неприятеля почти на каждом шагу, приблизился к I армии. Неприятель вскоре за ним последовал. Вечером он явился со всей силой в виду армии и завел сильную канонаду. Князь Багратион беспокоился о левом своем крыле, подверженном обходу, и утверждал, что в самом городе Дорогобуже позиция была выгоднее. Я должен был сомневаться в сем последнем предположении, ибо офицеры, посланные мною еще от Смоленска для осмотра всего края, упоминали только о позициях при Уже и Цареве-Займище, но по донесениям Винцингероде и Краснова вице-король Италии наступал со своим корпусом по правому берегу Днепра от Духовщины к Дорогобужу и я решил отступить к сему последнему месту». Это решение Барклая произошло при следующих обстоятельствах.
К утру войска сохраняли расположение принятое ими 10-го. Барклай, по внешности, как бы сохраняет намерение дать здесь сражение и II армия притягивается к первой, ставши уступом слева и позади ее, и выдвинув свой авангард под начальством ген.-адъют. Васильчикова. Французы с утра теснят арьергард Платова; в полдень пехота Розена отходит к Усвятью и становится на позиции, а вечером сюда же отходит Платов с кавалерией. Арьергард ген.-адъют. Васильчикова, стоящий левее Платова, ввязывается в бой и VII корпус Раевского получает приказание поддержать Васильчикова, но к ночи бой стихает по всей линии.
Барклай, колебавшийся уже накануне вечером, 10-го, дать здесь сражение, теперь, имея предлогом недостатки позиции, но, главное, принимая в соображение угрожающее движение к Дорогобужу с северо-запада IV итальянского корпуса и признаки обхода французами одновременно и нашего левого фланга, к вечеру окончательно отказывается дать сражение на реке Уже и принимает решение дать таковое лишь у Вязьмы, достигнув этого города четырьмя безостановочными маршами.
Так рушилось первое намерение Барклая дать Наполеону решительное сражение на р. Уже.
В Вязьму решено было командировать полковника Толя и ген. Трузсона с офицерами квартирмейстерской части и инженерными, в целях выбора позиции у Вязьмы и ее укрепления, причем им указано наметить позицию еще и у Гжатска, что показывает намерение Барклая и на дальнейшее от Вязьмы отступление. Первый отступательный марш указано исполнить до Дорогобужа ночью и в следующих условиях: первой выступает II армия и отходит к Бражину, за ней I — к Дорогобужу; арьергарды задерживают противника на р. Уже, дав армиям отойти, после чего располагаются, не доходя, примерно, 7 верст до Дорогобужа. Таким образом, следующим этапом, где Барклай считает возможным принять сражение, явилась Вязьма, и Барклай ставит целью скорейшее достижение Вязьмы, что мотивируется еще и предвзятым, равно и ложным, представлением о возможности со стороны Наполеона маневра упреждения нас у Вязьмы, подобно Смоленскому. Задержки наступления французов на марше армий к Вязьме возлагались на три арьергарда, друг от друга независимых: ген. Крейца на правом крыле, Платова и Розена в центре, ген. Васильчикова, потом Сиверса на левом. В главном — среднем — арьергарде, хотя местность была закрытая, а за Дорогобужем еще и пересеченная, оставлены те же 7 батальонов егерей при 4 пеших орудиях.
Центр же тяжести службы арьергарда ложится на казачьи полки обеих армий.
Распоряжения Барклая о задуманном им общем отступлении к Вязьме последовали уже на следующие дни, постепенно развиваясь на маршах 12, 13 и 14 августа. «Войска, не занимая позиции (на р. Уже), перешли на ночлег, — свидетельствует Ермолов, — не доходя Дорогобужа, а полковнику Толю приказано расположить их на другой день подле города. Между тем село Усвятье заняла пехота арьергарда. Передовые посты были уже недалеко и теснимы неприятелем. Дело кончилось незначащей перестрелкой. Арьергард Платова остался в селе Усвятье, а генерала-адъютанта Васильчикова — на левом крыле».
Частью днем после полудня и частью ночью на 12-е обе армии отходят к Дорогобужу.
Арьергард продолжает стоять на линии р. Ужи остаток дня 11-го и часть следующего дня 12-го, до 5 часов пополудни.

Кутузов, на пути в армию, прибывает к вечеру в Крестцы, будучи всюду встречаем населением. Распорядительная деятельность Кутузова идет непрерывно.
На театре действий I и II армии. По исполнении марша ночью и частью рано утром, обе армии расположены: I у Дорогобужа, II несколько уступом назад, — у Бражино. 2 корпус Багговута и I кавалерийский Уварова выдвинуты на правый берег р. Днепра, в целях противодействия наступающему по этому берегу Днепра IV итальянскому корпусу вице-короля и дальнейшему оттуда следованию, составляя правую колонну на все время отступательного марша в Вязьму.
Остаток дня армии проводят на отдыхе.
Действия арьергардов. Оба независимые в командовании арьергарда, Платова правее и ген.-адъют. Васильчикова левее, занимают в ночь и с утра прежнее расположение на линии р. Ужи и обороняют, главным образом, переправы. Французы стягиваются на противном берегу, дело до 5 часов дня ограничивается стычкой передовых частей между Усвятьем и Дорогобужем и подготовке французами обходов флангов наших арьергардов.
К вечеру арьергард Розена отступил от р. Ужи и стал, не доходя семи верст до Дорогобужа, где и занял боевое расположение; казачьи полки Платова остались на р. Уже и на пути к расположению Розена.

Кутузов на пути в Вышний-Волочок.
На театре, действий I и II армии. Армии продолжают свой отступательный марш к Вязьме и к утру, по совершении перехода, расположены: I армия правой колонной — у Какушкина, левой (главн. силы и главн. кварт.) — у Чоботова; II армия — у Гаврикова (во изменение расположения у Бражина).
Арьергарды к рассвету расположены: Платова — 7 верст не доходя Дорогобужа (имея город в тылу), барона Крейца — между Днепром и с. Какушкиным; II армии — 7 казачьих полков г.-м. Карпова у сел. Пушкина и главные силы (г.-м. Панчулидзев I) — у Бражина.
Движения и действия арьергардов. Платов, имея Дорогобуж позади в семи верстах, утром доносит, что «неприятель (IV итальян. корп.) от Духовщины к Вязьме не тянется, а идет на Дорогобуж и что неприятель имеет направление против левого фланга».
Опасаясь, что корпус вице-короля подойдет к Дорогобужу с того берега Днепра ранее, чем пройдет его арьергард, Платов в 3 часа утра приказал барону Розену выступить с пехотой и регулярной конницей и, пройдя Дорогобуж, остановиться за р. Осьмой. «Посейчас аванпосты мои перед Дорогобужем по Вяземской дороге, — доносит Платов, — однако же неприятель наступает, но не в таких уже силах, как вчера был он». Далее Платов доносит: «Нынешнего утра примечено, что большая часть сил неприятельских потянулась на левый наш фланг, полагательно по дорогам за 2-й армией, меня же преследовал до Дорогобужа, но не с сильным уже наступлением. Я теперь прошел Дорогобуж, нахожусь близ оного; неприятель город занял, но аванпосты мои в виду неприятеля, позади города. Егерские полки, артиллерию и кавалерию регулярную отпустил за первый мост, который имеется в 3 верстах от Дорогобужа; что последует до вечера, то уведомляю».

Марш. Сюше, герц. Альбуферский

Марш. Монсе, герц. Конельяно

Марш. Сульт, герц. Далматский (Давида)

Марш. Мармон, герц. Гагузский

Марш. Дюрок, герц. Фриульский

Марш. Ланн, герц. Монтебелло

Марш. Массена, герц. Риволи, кн. Эсслингенский

Марш. Ней, герц. Эльхингенский, кн. Московский (Брюн)

Евг. Богарне, вице-король Итальянский

Марш. кн. Понятовский
Следовательно, Платов рано утром, при малом сравнительно давлении противника, начал отходить, прошел г. Дорогобуж и, отойдя регулярными войсками за р. Осьму, оставался некоторое время с казачьими полками между Дорогобужем и р. Осьмой. О дальнейших событиях днем и уже вечером Платов донес лишь на следующий день — 14-го: «неприятель хотя и в больших силах и стремительно наступал на меня, но я удержал его, пройдя Дорогобуж, не далее 2½ верст, до самой ночи, чему способствовала и речка (Осьма), через которую лежащий мост сожжен. С 3-х батарей неприятель производил по мне сильную канонаду, но наши орудия действовали удачно. Стрелки егерских и казачьих полков рассажены были на одноверстную дистанцию по над речкой, кроме частей, закрывавших обои наши фланги, которые также до самой ночи имели с неприятельскими егерями перестрелку. Я убитыми и ранеными, хотя и имею урон до 60 человек, но должен был удерживать стремление неприятеля, исполняя волю главнокомандующего, дабы не сблизился он с армией нашей».
В заключение этого донесения Платов пишет: «по окончании ввечеру у Дорогобужа (т. е. на р. Осьме) сражения, в ночь (на 14-е) последовал и нахожусь теперь (т. е. рано утром 14-го) у почтовой станции Славково, оставя от себя арьергард из двух сотен при есауле Пантелееве».
Следовательно, Платов за весь день 13-го отошел с боем к Дорогобужу, прошел Дорогобуж и отошел далее за р. Осьму, где выдержал довольно горячий бой, удержался до вечера, вполне исполнив пока задачу арьергарда.
В 8 часов вечера Платов отвел регулярные войска Розена от р. Осьмы, которые, пройдя Болдино и не останавливаясь на р. Рехте, прошли прямо за р. Б. Костру к Славкову, где и расположились в ночь на 14-е, уступив французскому авангарду значительное пространство, что составило большую ошибку. Казалось, арьергарду нашему следовало задержаться до утра на р. Осьме у Дорогобужа, затем медленно и с боем отойти на линию р. Рехты и здесь дать бой в день 14-го.
В свое время Платов выдержал много нареканий за начальствование арьергардом в период с 8 по 15 августа, но за день 13-го при данной организации службы арьергардов (неподчинение ему правого и левого арьергардов, исполнявших приказания начальников прикрываемых ими колонн) и малочисленности пехоты и артиллерии (7 батальонов и 4 орудия пешей артиллерии), на местности, свойства которой отвечали действию пехоты, за время с 8 по 13, казалось, еще не заслуживал упрека.
Наконец нам неизвестны инструкции, полученные Платовым от Барклая, который мог ему приказать это поспешное отступление или вынудить его к тому своим собственным быстрым отходом с главными силами, не обеспечив арьергард достаточными силами.
Полагаем, что вина в этом, не отвечавшим требованиям обстановки, почти безостановочном отступлении арьергарда ложится скорее на Барклая или штаб I армии.
Важные данные донесений Платова, что IV корпус вице-короля тянется к Дорогобужу и, следовательно, никто уже к Вязьме не направлялся, могли, казалось, побудить Барклая не торопиться к Вязьме, которой ничто не угрожало, а возможно задержать движение французской армии на выгодном для обороны пространстве от Дорогобужа до Вязьмы, пользуясь свойствами местности и выигрывая столь дорогое для нас время.
На остаток дня 13-го и на утро 14-го армиям приказано продолжать отступление: правой колонне в Афанасьево, средней — в Семлево, левой — в Лужки. Арьергардам приказано сообразно задерживать противника, дав армиям отходить на указанную линию.
Князь Багратион остается крайне недоволен оставлением Дорогобужа без боя, после усиленных его просьб стать здесь крепко. «Продолжаются прежние нерешительность и безуспешность, — пишет он графу Ростопчину. — Послезавтра назначено быть обеим армиям в Вязьме, далее же что будет, вовсе не знаю, не могу даже поручиться и за то, что не приведет (Барклай) неприятеля до Москвы. Скажу в утешение, армия наша в довольно хорошем состоянии, и воины русские, горя истинной любовью к своему отечеству, готовы всякий час к отмщению неприятеля за его дерзость, и я ручаюсь, что они не посрамят себя».
В Москве. Граф Ростопчин сообщает в Петербург Балашову, что «Московская военная сила идет к Можайску, и провиант десятидневный везут на обывательских подводах. Воины идут с радостью». Далее сообщает, что все клонится к движению неприятеля в Москву и что это привело всех к унынию. «Я рад, что многие решились к отъезду». «Если злодей вступит в Москву, — продолжает знаменательно Ростопчин, — то я почти уверен, что народ зажжет город». «Все состояния обрадованы поручением Кутузову главного начальства и единое желание, чтобы он скорее принял оное на месте. Ненависть народа к военному министру (Барклаю) произвела его в изменники».

Кутузов на пути в Вышний-Волочок.
В Можайск продолжают спешно стягиваться формирования Милорадовича в составе 7 пехотных полков, 3 рекрутных батальонов и 16 артиллерийских рот; 4 артиллерийские роты находятся уже в Можайске.
На театре действий I и II армий. По совершении ночного перехода, армии к утру достигли и стали: правая колонна (I армии) у сел. Афанасьево, левая (главная сила I армии) — у Семлева (здесь же и главная квартира), II армия — у сел. Лужки (главная квартира); арьергард Платова к полуночи и раннему утру — на р. Большой Костре, у сел. Славково, имея впереди (у Болдина) заставу в 3 сотни есаула Пантелеева; арьергард II армии — у сел. Максимовки, имея казачьи полки в Лежневе.
План дальнейших действий Барклая и его решение дать генеральное сражение у Вязьмы усматривается из его донесения государю утром того же дня 14-го и его сношений с Багратионом и Милорадовичем. «Кажется, теперь настала минута, — доносит Барклай государю, — где война может принять благоприятный вид; неприятель слабеет на каждом шагу, по мере того, как подается вперед, и в каждом сражении с нами. Напротив того, наши войска подкрепляются резервом Милорадовича. Теперь мое намерение поставить у этого города в позиции 20 или 25.000 и так ее укрепить, чтобы этот корпус был в состоянии удержать превосходного неприятеля, чтобы с большей уверенностью можно было действовать наступательно». Далее доносит, что тому ранее препятствовало отсутствие возможности усилить армию резервами, что надо сохранять армии и не подвергать их поражению. «Доселе мы достигли цели, не теряя его из вида. Мы его удерживали на каждом шагу и, вероятно, этим заставим его разделить свои силы. Итак, вот минута, где наше наступление должно начаться». Таков был новый план действий Барклая: создав в Вязьме сильный опорный пункт со значительным, в 25.000 человек, гарнизоном, сохранить свободу действия армии.
Одновременно, необходимость дать время возвести в Вязьме укрепления, дать отдых утомленным войскам, дать время выбраться обозам отступающих жителей и вывезти кое-какие запасы из Вязьмы, при достаточном, казалось, удалении арьергарда, вызвали Барклая на решение дать войскам в этом расположении дневку, т. е. провести дни 14-го и 15-го здесь, отойдя к Вязьме лишь в ночь на 16-е, почему армии и расположились соответственно этим целям.
На усиление арьергарда Платова высланы в Славково 18 и 23 егерские полки с полуротой № 23 батарейной роты, № 23 артиллерийской бригады, чего, конечно, было недостаточно.
Получив извещение об этом новом решении Барклая, кн. Багратион дал свое полное согласие. Стоявший вообще за какое-либо, если, не лучшее, то твердое и определенное решение, он не верил прочности этого намерения, и предчувствия его не обманули.
Дневка, тем не менее, была принята, и Барклай успокоился на этом решении, не усилив, однако, должным образом малочисленный и геройский арьергард Платова и не дав последнему точной и определенной инструкции, где и до какого времени держаться, а если и дал таковую, то она уже запоздала.
Движения и действия арьергардов. К раннему утру 14-го, по приказанию Платова, регулярные войска арьергарда под начальством Розена, выступив в 5 часов утра из Славково, находились на марше от р. Большой Костры и Славково к р. Осьме[57], а сам Платов с казачьими полками переходил на место войск Розена в Славково. К 7 часам утра Розен, усиленный упомянутым подкреплением, подошел со своим отрядом к р. Осьме и у сел. Рыбки узнал, что Семлево еще занято частями I армии, а в с. Беломирском, куда он шел, расположены кавалерийские корпуса, почему Розен временно остался у с. Рыбки и только после полудня перешел в с. Беломирское. Платов с казаками оставался у Славкова, имея 3 сотни у Болдина, а посты на правом берегу р. Осьмы близ Дорогобужа. Между тем французский авангард, оттеснив казачьи посты, занял правый берег р. Осьмы, и затем многочисленная кавалерия Мюрата стремительно двинулась вперед. Опрокинув 3 сотни казаков у Болдина, кавалерия Мюрата быстро достигла Славкова и в 3 часа дня обрушилась на Платова. Отбиваясь огнем и атаками и возможно сдерживая массы кавалерии, казаки отошли от Славкова и, пройдя еще 8 верст, стали на месте, причем Платов донес о происшедшем Барклаю, предупреждая, что если армия «сего вечера не выступит из Семлева», то он не ручается, что не приведет французов на своих плечах в Семлево.
Таким образом, ошибка Платова в незанятии 14-го своей пехотой р. Рехты и уже во всяком случае незанятия левого берега р. Бол. Костры и непринятие здесь боя обнаружилась со всей очевидностью и расстроила соображения Барклая, вынудив далее на более раннее оставление им Семлева, а затем далее и Вязьмы.
События в арьергарде Платова вынудили Барклая отказаться от столь необходимой по многим соображениям дневки у Семлева и, получив второе донесение Платова от 3½ час. дня, он отдал немедленно приказание о дальнейшем, в ночь и раннее утро 15-го, отступлении: I армии — к Вязьме, II — в Скоблево (и Быково), о чем немедленно сообщено кн. Багратиону, а Платову послано приказание: «удерживать неприятеля, сколь можно, не оставляя пехоту без действия».
Одновременно Барклай приказывает «спешно вывезти все из Вязьмы, равно и милицию, предоставив ей конвоировать транспорты и укреплять позиции за Вязьмой». Порядок выступления I армии определен следующий: «V корпусу — равно и артиллерии, которая по дороге — немедленно (т. е. с вечера), III корпусу — в 2 часа (т. е. раннего утра 15-го), VI — в 3 часа, IV — в 4 часа пополуночи», и еще указано: «колонне Багговута (правая) наблюдать идущего за ней в больших силах неприятеля», имея влево связь с арьергардом Платова, а вправо — с г.-м. Красновым, отступая, в случае сильного напора неприятеля, прямо к Вязьме; отряду Краснова I иметь связь вправо с отрядом ген.-ад. Винцингероде, г.-м. Шевичу (2 драгун. полка, 2 грен. бат. и 4 конных орудия) поддерживать Краснова, закрывая дорогу, «дабы дать время обозам и тяжестям I армии пройти в Вязьму».
Получив сообщение о новой перемене действий и о спешном отступлении в Вязьму, начиная уже с вечера, кн. Багратион немедленно пишет в ответ Барклаю: «я уже сего утра приказал графу Сен Приесту объявить Ермолову, что я на все согласен», поясняя, что «желание мое сходственно с вашим, иметь ту единственную цель защищать государство и прежде всего спасти Москву, но не могу утаить, что наше отступление к Дорогобужу уже все привело в волнение, что нас винят единогласно, и когда узнают, что мы приближаемся к Вязьме, вся Москва поднимется против нас». Далее он выражает желание, «чтобы неприятель дал нам время усилиться в Вязьме и соединить с нами войска Милорадовича; позиция в Вязьме хоть и не хороша, но может всегда служить к соединению наших сил, и теперь дело наше не состоит в том, чтобы искать позицию, но, собравши со всех сторон все наши способы, мы будем иметь равное число войск с неприятелем, но можем против него тем смелее действовать, что мы ему гораздо превосходнее духом и единодушием».
Князь Багратион со своей стороны указал II армии порядок отступления: «8 корпусу — в 11 ч. ночи, 7 — в полночь, сводному корпусу князя Горчакова (27 дивизия и егерские полки армии) — в час пополуночи; графу Сиверсу (4 кав. корпус) ждать на месте прибытия отряда г.-м. Панчулидзева I (арьергарда), тогда он выступает; обозам всем выступать с вечера».
Свои впечатления за этот вечер 14-го кн. Багратион так передает в письме к гр. Ростопчину: «Вообразите, какая досада, я просил убедительно министра, чтобы дневать здесь, дабы отдохнуть людям, он и дал слово, а сию минуту прислал сказать, что Платов отступает, и его армия тотчас наступает к Вязьме. Я вас уверяю, приведет к вам Барклай армию через б дней. Милорадович не успеет соединиться с нами в Вязьме, ему 7 маршей, а мы завтра в Вязьме, а неприятель за нами один марш».
Оценивая события дня, следует, помимо Платова, сложить ответственность и на Барклая и на его штаб (Ермолова и Толя), не обеспечивших Платову исполнения данной ему задачи надлежащей организацией службы, численностью и составом арьергарда против многочисленного авангарда французской армии. В подобных условиях арьергард должен был состоять по крайности из целого корпуса (ядро сил арьергарда) при пособии сильной артиллерии, многочисленная же кавалерия Платова (главным образом, казачьи полки) не обладала устойчивостью, не могла проявить необходимого упорства на местности закрытой и пересеченной.
Казалось, и драгунские полки армии нашей могли бы принять в службе арьергарда более деятельное участие.

Кутузов, на пути в армии, прибывает в Вышний-Волочок, где встречается с Беннигсеном, которому сообщает волю государя, чтобы он принял участие в военных действиях, по свидетельству Беннигсена, отклоняет его от намерения все же проехать в Петербург повидать семью и берет с собой[58]. В тот же день Кутузов переезжает в Торжок.
На театре действий I и II армий. В приказе по I армии на 15-е объявлено о назначении его светлости князя Голенищева-Кутузова «главнокомандующим I, II, III и молдавской армиями». Барклаю Кутузов пишет, что в этот день выезжает из Торжка в Старицу и просит его: «ежели бы что до приезда моего случится, то сим трактом уведомить».
Главные силы всех трех колонн обеих армий исполнили переход согласно предположению и беспрепятственно. I и III кавалерийские корпуса отходили, будучи эшелонированы между средней колонной и арьергардом Платова, не принимая участия в боях арьергарда. К раннему утру арьергарды находились: Платова — по обоим берегам р. Осьмы (у сс. Рыбки и Беломирского), Крейца — выше по течению р. Осьмы (точно неизвестно) и II армии (графа Сиверса) — у с. Лужки, имея казачьи полки у с. Максимовки.
На марше колонн армии получены сведения от возвратившихся ген.-лейт. Трузсона и полк. Толя, что нигде вблизи Вязьмы соответствующих позиций не найдено.
«Ген.-лейт. Трузсон, — свидетельствует Ермолов, — не нашел позиции, которая бы закрывала Вязьму. По превосходству сил, неприятель мог, обходя фланг армии, угрожать дороге на Гжатск».
Также не оправдались надежды на прибытие 15-го к Вязьме генер. Милорадовича.
Таким образом, по-видимому, еще на марше в Вязьму решен вопрос об оставлении этого города и намечено новое место для принятия решительного сражения, а именно — в 10 верстах за Вязьмой у сел. Федоровского, «где изрядная позиция».
Движения и действия арьергардов. К раннему утру арьергард Платова был расположен на р. Осьме, по обоим ее берегам, имея главные силы и артиллерию на позиции левого берега у сел. Беломирского, где начальствовал ген.-м. бар. Розен и на правом (неприятельском) берегу далеко впереди были казачьи полки, а два батальона егерей занимали, как передовую позицию, лес и кусты этого правого берега. Левый фланг верстах в трех прикрывался арьергардом II армии под начальством графа Сиверса (кавалерия 4 кавалерийского корпуса), расположенным у села Лужки, а того же арьергарда казачьи полки стали близ сел. Максимовки. Здесь Платов должен был задержать французскую армию до ночи.
Оттеснив казачьи полки на тот берег, многочисленный французский авангард, в 11 часов утра атаковал сначала егерей правого берега, а потом и всю нашу позицию.
Платов выдержал на р. Осьме, по его словам, «жестокое нападение» и сильное и упорное с неприятелем сражение, где он, Платов, «дрался скрутя голову». Дело было горячее, вся артиллерия Платова, в числе 32 орудий, была введена в дело и расстреляла все снаряды.
«Шесть раз на сильную кавалерию неприятеля ходили до пушек и с регулярными полками (пехоты) барона Розена», доносит Платов.
Когда казаки навели неприятеля на позицию арьергарда, французы были встречены егерями двух батальонов, искусно оборонявших лес до часу дня и вынудивших войска французского авангарда к обходу позиции южнее, на броды, где перешли казаки. Все попытки французского авангарда перейти здесь р. Осьму были отбиты сначала казаками, а затем подоспевшей сюда пехотой из резерва при содействии нашей конной артиллерии. Геройское сопротивление малочисленного нашего арьергарда вынудило французов предпринять более глубокий обход, но и здесь они были отбиты казаками с регулярной кавалерией. Вся пехота арьергарда, наши знаменитые егерские полки, была введена в дело, равно и все 32 орудия. Немногочисленные войска нашего здесь арьергарда покрыли себя славой. Потери были весьма значительны. Прибывающие к неприятелю подкрепления побудили Платова в 7 часов пополудни приказать г.-м. Розену отступать к Семлеву, что исполнено было частями искусно и в совершенном порядке. Передовые казачьи посты ночевали на месте боя, а арьергард отошел на ночлег в Семлево, блистательно исполнив свою задачу.
«Участь арьергарда, — доносил Платов, — была на волоске». Потери собственно арьергарда Платова около 500 чел. всех родов войск, взято много пленных. «Сражение сие, — доносит Платов, — уступает одной только баталии кровопролитной»[59].
Граф Сиверс, «приглашенный», по его словам, Платовым к содействию «прикрытия его левого фланга», разделил свой отряд у с. Лужки на три части: первую часть «препоручил храброму полковнику Эмануелю» (Киевский др. и 2 эск. Литовского ул. полка), вторую — «подкрепляющему его полковнику Гогелю», третью — ген.-м. Панчулидзеву I (Новор. др.), «коему поручил прикрывать левый фланг и дорогу, по которой арьергарду по наступлении вечера подлежало следовать за армией».
Пока Платов давал отпор на р. Осьме, на участке сс. Беломирское и Рыбки, гр. Сиверс был атакован под с. Лужками. Полк. Эмануель первый выдержал все покушения неприятельской кавалерии и пехоты, но действиями Киевского драгунского полка, двух эскадронов Литовского уланского и хорошим действием артиллерии с подкреплением Новороссийского драгунского полка и двух рот егерей из 2 колонны, место было удержано до наступления ночи. Таким образом и здесь неприятель был задержан до ночи.
Платов ночью из Семлева доносил, что «ему здесь держаться нет никаких средств от больших сил неприятеля в отдалении от армии».
Гр. Сиверс с войсками арьергарда II армии отступил по приказанию и прошел на ночлег в с. Монино, оставив казачьи полки в с. Нивки.
Арьергард правой колонны под начальством Крейца был все время в виду неприятеля, который «следовал за ним, — говорит Крейц, — были перестрелки, но не наседал».
На ночлег арьергард Крейца стал, пройдя Афанасьево.
Ермолов так характеризует действия арьергарда 15-го: «Французы в сей день сильно атаковали наш арьергард. Пехота дралась упорно. Неприятель с большим уроном оставил село Семлево в наших руках. Часть успеха принадлежит г.-м. бар. Розену, которому атаман Платов предоставил полное действие», и далее добавляет: «Атаман Платов доставил взятого в плен французского полковника» не в свой лагерь попавшего, а ехавшего в Семлево от вице-короля к Мюрату, в расчете, что Мюрат уже занял Семлево.
Барклай остался крайне недоволен действиями арьергарда 14 августа, а может быть и вообще в период с 10-го по 15-е, что остается доподлинно неизвестным, но только Платову (Барклаем) поставлено на вид неумение или нерадение его в командовании, и ему объявлен, по его свидетельству, «выговор, что сближается с армией от одного авангарда малого неприятельского», что, говорит Платов, «сразило меня чуть не до смерти».
За выговором последовало в тот же день решение Барклая устранить Платова от командования арьергардом, заменив его начальником 3 пех. дивизии ген.-лейт. Коновницыным, и составить новый арьергард со значительной на этот раз пехотой и в условиях единства командования всеми арьергардами.
Весьма вероятно, что Платов погрешал в начальствовании арьергардом с 8-го по 15-е, особенно 14 августа, возможно и неумение его употреблять пехоту, но корень зла лежал еще более в недостатках организации службы арьергарда (3 независимых арьергарда), его составе (недостаток пехоты и артиллерии и его малочисленность), но главным образом — причина всех причин — отсутствие общего единого и полновластного главнокомандующего, что отразилось и на деятельности арьергарда.
Вот что говорит о Платове и нареканиях на него участник этого отступления, командир сводной гренадерской бригады гр. Мих. Семенович Воронцов: «Слухи насчет Платова совсем несправедливы; вот вся его история: уже давно в армии были им недовольны, и Барклай и Багратион жаловались, что он ничего не хотел делать и, конечно, он мало делал с тем, что мог, но, с другой стороны, сколько я мог приметить, ему никогда и не приказывали так, как должно; например, отступая от Смоленска, всякий мог ясно видеть, что, ежели Платова с казаками переправить через р. Днепр позади французской армии, он бы сей последней причинил большой вред; все жаловались, что он не умел и не хотел того сделать, вышло же, что он настоящего повеления никогда и не получал. Как бы то ни было, под предлогом, что государь желает Платова видеть в Москве, его удалили, как Кутузов ехал в армию».
Князь Багратион свидетельствует 15-го, что просил приостановиться всем в Вязьме, и Барклай был согласен, но сейчас (вероятно, около полудня) получил от него бумагу, что позиции там нет, а что за 10 верст за Вязьмой по Московской дороге есть позиции, но воды де нет. «Я и примечаю, — добавляет Багратион, — что он (Барклай) хочет (к вам в Москву) бежать».
Распоряжения на остаток дня 15 и 16 августа. На 16-е приказано: «Армии выступить по сделанной диспозиции, в 12 часов пополуночи» и отойти к с. Федоровскому, в 10 верстах от Вязьмы, где выбрана позиция и укрепляется. Арьергарду (Платову) приказано отходить от Семлева, задерживать неприятеля и вообще, «чтобы не ввязываться в серьезное дело, но протягивать бы отступление свое сюда до Вязьмы, до вечера, т. е. чтобы прибыл сюда не прежде, как к вечеру».
С утра 16-го арьергард указано принять в командование г.-л. Коновницыну. «Главнокомандующий, — говорит Ермолов, — пробыв день (15-го) в Вязьме, переехал в с. Федоровское в 10 верстах от Вязьмы. Раненых отправлено большое количество; оставалось еще 1.600 человек, но благодаря деятельности дежурного генерала Кикина, которому много вспомоществовал Ставраков, комендант главной квартиры, ни один из них не достался неприятелю. Успели даже увести сто тысяч аршин холста, которых один купец предложил на госпиталь, и 70 пудов разных лекарств из вольной аптеки. Заметить надобно, что неприятель приближался, и купец, для оказания великодушия защитникам отечества, ожидал сигнала французской пушки. Главнокомандующий занимал прекрасный дом богатого откупщика; в погребе у него было столового хорошего вина более нежели на 20.000 р. и ни за какую цену нельзя было достать одной бутылки. Откупщик опасался высказать, где оно было закопано. Впоследствии расторопные французы дали свет сокрытым сокровищам на сожаление бережливому откупщику и, конечно, не менее всем уездным собеседникам»

Кутузов рано утром переезжает из Торжка в Старицу. В Торжке Кутузов свернул с Московской дороги на Смоленскую на Старицу и Зубцов, где имеет ночлег. С пути Кутузов продолжает давать свои распоряжения.
Торопясь в армию, Кутузов в 8 ч. вечера пишет Барклаю, уже из Зубцова: «Настоящее дождливое время препятствует мне быть завтра к обеду в армии, но едва только с малым рассветом сделается возможным мне продолжать мою дорогу, то я надеюсь с 17 на 18 быть непременно в главной квартире. Сие, однако, короткое замедление ни в чем не препятствует Вашему высокопревосходительству производить в действие предпринимаемый вами план до прибытия моего».
На театре действий I и II армий. К первому свету дня обе армии и арьергарды на ночлегах: I — у Вязьмы, II — у Быкова; арьергарды: правый Крейца, примерно, на полпути из Кокошкина в Вязьму, средний — Платова — у Семлева, имея казачьи посты на левом берегу р. Осьмы, на месте боя 15 августа, левый — гр. Сиверса — у д. Монино, имея казачьи полки г.-м. Карпова у с. Нивки. Обе армии в течение дня перешли: I армия по большой дороге к с. Федоровскому, где Барклаем намечена сильная позиция для решительного сражения, II армия по боковой дороге к с. Максимовке. Арьергардам указано отходить правому и среднему к Вязьме, II армии — на Быково, не допуская противника до г. Вязьмы до утра 17-го. Барклай, впервые с 17 августа, принял намерение установить единство в командовании арьергардами, подчиняя правый и левый авангард начальнику среднего, наметив таковым начальника 3 див. г.-л. Коновницына, которому и указано принять общее командование арьергардами от Вязьмы.
«Главнокомандующий, справедливо недовольный беспорядочным командованием атамана Платова арьергардом, — свидетельствует Ермолов, — уволил его от командования оным; арьергард поручен Коновницыну, и он, отступая от Вязьмы, дрался на каждом шагу».

Брань под Красным (Рис. из лагерной жизни, П. А. Федотова)
Движения и действия арьергардов. С раннего утра противник перешел в наступление против наших арьергардов. Платов, по-видимому, начал отходить, не под особым натиском, оставил р. Осьму и Семлево и довольно быстро отошел к Полянову и (по донесению ген.-адъют. Васильчикова) «к 11 час. утра отошел еще далее версты четыре», где уже и приостановился.
Арьергард II армии под начальством гр. Сиверса, не извещенный своевременно Платовым, остался один, как бы уступом слева и впереди, и начал отходить, уже значительно запоздав в направлении на Быково, где с наступлением темноты и стал на ночлег. Отошедший ранее с пехотой арьергарда Платова Розен в 9 часов вечера, в виду пожара в Вязьме, перешел речку в брод и, пройдя горевший город, стал позади.
Платов отходил к Вязьме и стал с казачьими полками, немного не доходя города. Правый арьергард под начальством полковника Крейца, в составе трех драгунских и казачьего полка и 2-х конных орудий (Сибирский, Оренбургский, Иркутский драгунские полки) отходил также к Вязьме, прикрывая корпус Багговута и в день 16-го также выдержал горячий бой и преследование до ночи и до самого города Вязьмы. По свидетельству Крейца он получил приказание Ермолова: «немедленно отходить и оставаться направо от дороги в 15 верстах от города, дабы дать время всей армии пройти город». Одновременно и Платов прислал повеление «держаться до ночи в своей позиции и сам он (Платов) ударит в дротики». В 12 часу дня Крейц был атакован конницей и стрелками, заняв позицию при деревне (деревня не названа). Крейц оборонялся спешенными драгунами и огнем 2 орудий. Платов слал адъютанта за адъютантом, чтобы Крейц держался, однако пушечные выстрелы стали раздаваться уже позади (вероятно, при отходе Платова за Поляново), и гонцы Крейца перехватывались противником и только третий донес, что «Платов в полном отступлении». При отступлении через дефиле едва было не потеряно орудие, но спасено шт.-кап. Оффенбергом I; фланги были обойдены, и посланный вправо эскадрон Сибирской роты Трукова, казалось, пропал; трудности все увеличивались, особенно к вечеру и приближении к городу. Крейц перед дефиле пошел в атаку с Сибирским полком и дал отойти другим частям. Наступила ночь. Очищаемый город горел. Крейц в 10 часу вечера едва прошел город и стал за ним. На рассвете 17-го Крейц открыл армию и присоединил было пропавший эскадрон Трукова. Казаки же Крейца остались перед городом, прикрывая подступы к городу на пути следования арьергарда Крейца, одновременно с казаками Платова и II армии[60], прикрывавшими город с других сторон.

Брань под Смоленском (Рис. из лагерной жизни, П. А. Федотова)
Под прикрытием арьергардов и почти одновременно с началом их отступления, отошли и главные силы обеих армий 10 верст от г. Вязьмы и, примерно, к полудню стали: I армия — у с. Федоровского, вблизи укрепленной позиции, II — у Максимовки. Еще накануне Барклай уже начал колебаться в решении дать у Федоровского решительное сражение и уже начинал склоняться к дальнейшему отступлению армии к Цареву-Займище и даже к Гжатску, что, помимо сведений об отсутствии воды у Федоровского, было обусловлено важным соображением, что подкрепления Милорадовича могут прибыть к Федоровскому едва только 20-го и 21-го, тогда как к Цареву-Займище они прибудут 19-го и 20-го, и еще сутками раньше к Гжатску. Могло случиться, что Барклай был бы вынужден дать сражение 19-го и даже 18-го и, следовательно, усиление только войсками Милорадовича могло состояться лишь путем дальнейшего отступления к Цареву-Займище, и, вернее, к Гжатску, усиление же армии войсками Московской военной силы требовало отступления еще далее, к Бородину и Можайску.
По прибытии войск к Федоровскому, отсутствие воды обнаружилось и фактически, и Барклай получил резкий отзыв кн. Багратиона: «Позиция здесь никуда не годится, еще хуже, что нет воды».
«Жаль людей и лошадей. Постараться надо идти в Гжатск: город портовый и позиции хорошие должны быть. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уже порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо в Гжатск, нежели быть без воды и без позиции; люди ропщут, что ни пить, ни варить каш не могут. Мне кажется, не мешкав дальше идти, арьергард усилить и уже далее Гжатска ни шагу. К тому месту может прибыть новый главнокомандующий. Вот мое мнение; впрочем, как вам угодно».
На этом письме Барклай собственноручно отметил: «Дать тотчас повеление к отступлению завтра (т. е. 17-го) в 4 часа поутру».
«Позиция при с. Федоровском, — свидетельствует Ермолов, — имела не малые выгоды и уже воздвигнуты укрепления. Недостаток воды — важнейший порок ее. Озеро на левом крыле заключалось в берегах болотистых и топких, с трудом доступных. Полковник Манфреди, по части путей сообщений при армии, сделал насыпь, входящую в озеро, но, по причине отдаления, была она для людей затруднительна. Неприятель, приблизясь к позиции, мог овладеть водопоем, чем воспрепятствовать ему не было возможности. Итак, армия продолжала отступление».
Распоряжения на 17 августа. На 17-е войскам обеих армий в 4 часа раннего утра указано перейти к Цареву-Займище, куда немедленно выслать инженеров и квартирмейстерской части офицеров для выбора и устройства позиции, что применительно исполнить и по отношению города Гжатска.

Кутузов, выехавший из Зубцова, в 11 часов утра был уже в виду Гжатска.
На театре военных действий I и II армий. В приказе по армиям объявлено о прибытии сего 17 августа к армии главнокомандующего его светлости князя Голенищева-Кутузова.
К рассвету армии расположены у с. Федоровского. Арьергард перед г. Вязьмой, имея город у себя в тылу; арьергард II армии — у Быково.
В 4 часа пополуночи обе армии выступили из лагеря у с. Федоровского и исполнили в течение утра переход к Цареву-Займище, где и расположились вблизи подготовляемой к сражению позиции.
Можайск, Руза и Верея назначены пунктами сосредоточения «Московской военной силы», войска которой заканчивают свои приготовления и с 18-го и 19-го начинают следование с разных мест к пунктам сосредоточения.
Барклай как-будто принял на этот раз твердое решение дать здесь решительное сражение.
«Около Царева-Займище усмотрена весьма выгодная позиция, и главнокомандующий определил дать (здесь) сражение, — свидетельствует Ермолов. — Начались работы инженеров, и армия заняла боевое расположение. Места открытые препятствовали неприятелю скрывать его движение. В руках наших возвышения, давая большое превосходство действию нашей артиллерии, затрудняли приближение неприятеля; отступление было удобно. Много раз наша армия, приуготовляемая к сражению, переставала уже верить возможности оного, хотя желала его нетерпеливо; но приостановленное движение армии, ускоряемые работы показывали, что намерение главнокомандующего (Барклая) решительно, и все возвратились к надежде видеть конец отступления.

М. И. Голенищев-Кутузов (Доу)
Получено известие о назначении Кутузова главнокомандующим всеми действующими армиями и о скором прибытии его из Петербурга. Сомнительно, что главнокомандующий не имел известия о назначении князя Кутузова. Ускорение работ на занимаемой им позиции обнаруживает намерение его дать сражение до его приезда. Как военный министр, он знал, что армия никаких подкреплений иметь не будет, что Кутузов, равными, как и он, распоряжая способами, не большую может допускать надежду на успех; решился предупредить его в том, что, конечно, было поставлено на вид одним из важнейших предметов».
Действия Барклая до прибытия к армии Кутузова. В своем труде, составленном для личного пользования государя и озаглавленном: «Изображение военных действий 1812 года», Барклай так описывает свою деятельность утром 17-го: «17-го прибыли сюда (Царево) обе армии; расположенные в небольшом пространстве, имели перед собой открытое место, на коем неприятель не мог скрывать своих движений; в 12 верстах от сей позиции была другая, позади Гжатска, найденная также удобной. Милорадович донес, что прибудет 18-го к Гжатску с частью своих резервов. Все сии причины были достаточны к уготовлению там (т. е. у Царева-Займище) решительного сражения; я твердо решился на сем месте исполнить оное».
Но тут же очень типично для Барклая присовокупляется: «ибо в случае неудачи, мог я удержаться в позиции при Гжатске». Это значительно ослабляет твердость решения, и Барклай уже смотрит опять назад, облюбовывая новую позицию. «Я нашел в оной (при Гжатске) подкрепление Милорадовича из 12 батальонов, 8 эскадронов и нескольких рот артиллерии».
«Губернаторам тульскому, орловскому и черниговскому поручено было доставление в Калугу жизненных и фуражных припасов, заготовленных в сих губерниях, и инженерам обеих армий было немедленно предписано построение нескольких редутов на фронте и флангах. Для подкрепления арьергарда, получившего приказание удерживать неприятеля по возможности на каждом дефиле, отрядил я 3 дивизию и 2 кавалерийский корпус под общим начальством Коновницына», что, заметим, Барклаю следовало исполнить еще 8 августа и тогда армии и население получили бы все необходимое для них время и не было бы всей этой спешки, суеты и неустройств всякого рода.
Офицер квартирмейстерской части Щербинин свидетельствует в своих воспоминаниях об опасности принятия сражения у Царева-Займища. «Приходим в лагерь под Царево-Займище, — говорит Щербинин, — речка с чрезвычайно болотистыми берегами находится непосредственно позади линий наших. Слишком опасно принять сражение в такой позиции. Не менее того Барклай на то решиться хочет. Толь до такой степени убежден был в опасности этого лагеря, что бросается перед Барклаем на колени, чтобы отклонить его от намерения сражаться здесь. Барклай не внимает убеждениям своего обер-квартирмейстера, но вдруг извещают о прибытии генерала Кутузова». Несколько часов спустя по вступлении войск в лагерь у Царева-Займища, Барклай получает Высочайший рескрипт о назначении Кутузова, в котором государь обращается к Барклаю: «Я уверен, что любовь ваша к отечеству и усердие к службе откроет вам и при сем случае путь к новым заслугам».
В тот же день Барклай доносит государю о получении им рескрипта, присовокупляя при этом: «Всякий верноподданный и истинный слуга государя и отечества должен ощущать истинную радость при известии о назначении нового главнокомандующего, который уполномочен все действия вести к одной цели. Примите, всемилостивейший государь, выражение радости, которой я исполнен. Воссылаю мольбы, чтобы успех соответствовал намерениям вашего величества. Что касается до меня, то я ничего иного не желаю, как пожертвованием жизни доказать готовность мою служить отечеству во всяком звании и достоинстве. Не намерен я теперь, когда наступают решительные минуты, распространяться о действиях армии, которая была мне вверена. Успех докажет, мог ли я сделать что-либо лучшее для спасения государства. Если бы я был руководим слепым, безумным честолюбием, то, может быть, ваше императорское величество изволили бы получать донесения о сражениях и, невзирая на то, неприятель находился бы под стенами Москвы, не встречая достаточных сил, которые были бы в состоянии ему сопротивляться».
Прошло сто лет, и действия Барклая за время его командования армиями принадлежат истории.
Мы не разделяем всецело сурового приговора историка Попова, высказанного им по поводу окончания с приездом Кутузова командования Барклая: «Так кончилось командование Барклая, грозившее погибелью обеим армиям, чего император, при всем своем расположении к Михаилу Богдановичу, далее не мог допустить».
Но в этом приговоре была своя доля справедливости.

В Вязьме, 18 авг. 1812 г. (Фабер дю-Фор)
Оценивая только период с 8 по 17 августа, период 9 дней, заметим прежде всего, что на всем протяжении этого времени Барклай не имел строго и ясно определенного плана действий, постоянно отказываясь от первоначального плана и сочиняя новый, вплоть до наступления исполнения, когда бросается и этот и заменяется новым и т. д. вплоть до самого Гжатска. Нигде на выбранных Барклаем местах, ни на р. Уже, ни у Вязьмы, ни у Царева-Займища и Гжатска, принятие генерального сражения не отвечало условиям обстановки.
Наиболее отвечавший обстоятельствам план действий, по-видимому, Барклаем не принимался, а постоянные колебания и перемены привели к тому, что мы с самым малым сопротивлением, спешно и довольно хлопотливо отступая, в течение 9 суток отдали противнику огромное пространство от Соловьевой переправы до Царева-Займища, сражаясь у себя дома и свободные лишать противника всех средств для жизни.
Дорогое в данных условиях время не было выиграно в возможной степени, еще менее удержано пространство, а выигрыш того и другого был совершенно посилен нашей доблестной армии 1812 года и необходим, как важнейшее условие подготовки неизбежно предстоящего общего и решительного сражения, дать которое было нам выгодно возможно позже.
Дал ли бы Барклай сражение у Царева-Займища, если бы не ждал Кутузова, или нет, отошел ли бы к Гжатску, а может, и еще далее, остается неизвестным. Но в это необычайно трудное, состоящее из ряда кризисов, время командования Барклаем армией с 12 июня и далее, по соединении армий у Смоленска, время в столь тяжелых условиях личного своего положения во главе армий, при неимении им полной власти и при общем требовании страны и армии решительного боя, подвергаясь за уклонение от этого боя подозрению в измене, за Барклаем остается вечная заслуга сохранения армии в целости, но эта заслуга была бы громадной и беспредельной, если бы он таковую цельную армию привел к Цареву-Займищу не 17 августа, а неделями двумя, в крайности, хотя бы неделей позже. И тогда еще вопрос, дошел ли бы Наполеон до Москвы?
Мы не говорим здесь о других заслугах почтенного Барклая на протяжении всей войны, так как ограничиваемся оценкой событий и лиц в пределах периода с 8 по 17 августа.
Прибытие Кутузова. Между тем после полудня в лагере обеих армий у Царева-Займища войска находились в давно не испытываемом ими радостном возбуждении; к фронту биваков подъезжал новый главнокомандующий всеми армиями — Кутузов. «День был пасмурный, — свидетельствует очевидец, — но сердца наши прояснялись».
Б. Колюбакин

«Смерть храброго генерал-майора Якова Петровича Кульнева при Клястицах, 20 июля 1812 г.»
(Из книги «Жизнь… Я. П. Кульнева, писанная А. Н. Н-м». Спб. 1815 г.)
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ