ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ ПОВОЛЖЬЯ
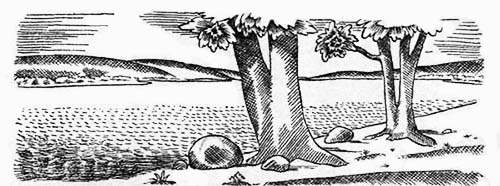
1–8. Про Стеньку Разина
 НЕКОТОРОМ царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем; не далеко было дело от Чечни, близь речки Дону, в тридцати-пяти верстах от Азовского моря, жил в одном селе крестьянин, по прозванью Фомин, а по имени Василий Михайлов. Не старше он был тридцати-восьми годов, народился у него сын, назвали его Михаил. Воспитал он его до шести лет. В одно время в прекрасное он поехал на работу, взял и сына с собой. Напала на них небольшая шайка разбойников, мать с отцом убили, а Михайлу с собой взяли. Привозят они его в свой дом, отдают его атаману. Атаман у них был старик девяноста-пяти лет. Принял он этого Михайлу на место своего дитя, стал его воспитывать и научать своему ремеслу, в три страны велел ему ходить, а в четвертую не велел.
НЕКОТОРОМ царстве, в некотором государстве, именно в том, в котором мы живем; не далеко было дело от Чечни, близь речки Дону, в тридцати-пяти верстах от Азовского моря, жил в одном селе крестьянин, по прозванью Фомин, а по имени Василий Михайлов. Не старше он был тридцати-восьми годов, народился у него сын, назвали его Михаил. Воспитал он его до шести лет. В одно время в прекрасное он поехал на работу, взял и сына с собой. Напала на них небольшая шайка разбойников, мать с отцом убили, а Михайлу с собой взяли. Привозят они его в свой дом, отдают его атаману. Атаман у них был старик девяноста-пяти лет. Принял он этого Михайлу на место своего дитя, стал его воспитывать и научать своему ремеслу, в три страны велел ему ходить, а в четвертую не велел.
Прошло три месяца, атаман Роман вздумал Михаиле имя переменить, собрал шайку, чтобы окрестить его, и назвали его Степаном.
— Ну, топерь ты, мой сын Степан, слушай меня! Вот те шашку и ружье, занимайся охотой, дикой птицею двуногой и с руками и с буйной головой!
Степан вышел со двора и вздумал об родной стороне: «Где-то мамынька моя и родимый тятенька? В поле на меже свою голову скоромили, и я-то, Михайло, остался у разбойников в руках».
Сам заплакал и пошел в ту сторону, куды атаман велел. Вышел на большую поляну, вдруг, увидел себе добычу, лет семнадцати девицу. Он подошел к ней, сказал;
— Здравствуй, красная девица!. Что ты время так ведешь? Сколько я шел и думал, такой добычи мне не попадалось. Ты — пе́рва встреча!
Девка взглянула, испугалась такого вьюноши: увидела у него в руках востру саблю, за плечом — ружье. Стенька снял шапку, перекрестился, вынул шашку из ножны и сказал:
— Дай бог по́мочь мне и булатному ножу!
Возвилася могучая рука с вострою шашкой кверху; снял Стенька голову с красной девушки, положил ее в платок и понес к атаману.
— Здравствуй, тятенька! Ходил я на охоту, убил птичку небольшую. Извольте посмотреть.
Атаман выходя, взглянул на платок; на нем окровелённая голова, красовитое лице.
— Вот, Стеня, люблю за то!
Поцеловал его в голову.
— Я тебя награждаю своим вострым булатом; с ним я ездил семьдесят-пять лет, а топерь ко мне кончина приходит.
Атаман вскоре крепко заболел; собралась в дом его вся шайка. Он своим подданным и говорит;
— Ну, братцы вы мои, выбирайте кого знате, а я вам не слуга.
Вдруг вышел из лесу невысокий старичек, левым глазом он кривой, правым часто подми́гыват. Взглянули на него разбойники и в голос закричали:
— Подойди, старик, сюда!
Он подошел, смеется и говорит:
— Ну, чего вам от меня нужно?
— Ну, старичек, рассуди нам дела: нас вот двенадцать человек; кто из нас будет атаманом?
И он им ответил:
— Вы не выберете из себя. Я — сам главный атаман из такой-то шайки; мои подданные ездили на разбой, плохо сделали, уплощали: перевязали, в казамат посадили. Мне старику владать топерь таким домом не́чего, я и пришел к вам.
Все разбойники вскричали:
— Как? Мы тебя, старик, не знаем!
— Что вы, братцы, неужто вы Василья Савельича не зна́те?
— А вот-вот! Вот нам и атаман! Пущай нами владает!
У них есаул был из татар, повернулся и пошел. Пришел к старому атаману и говорит:
— Мы нашли себе атамана, Василья Савельича.
Атаман говорит едва, едва, только намекает:
— Пошли, мол, его сюда.
Василий Савельич пришел к старику, взял его за правую руку и сказал:
— Прощай!
Тот промолвил одно слово:
— Прими мого сына, Степана по прозванью! Вот еще скажу тебе: в три стороны своих посылай, а в эту вот сторону ни по́ногу не шагай!
После того умер атаман. Коронили его, все запели вечну память.
Стал Василий своими подданными командовать и Степана научать.
— Ну, теперича я тебе, Стенюшка, отец и мать. Слушай меня, что я тебе приказываю. Твой отец мне тебя на руки сдал; в эту сторону не велел ходить.
Прошло три года с новым отцом; Стенька научился на охоту ходить; когда птицу, когда две принесет. Возлюбил его атаман и так его лелеет, паче сына своего.
В одно прекрасное время взял Стенька шашку и ружье, вышел за ворота и думает:
— Куда сегодня итти мне? Да что ж мне отец приказыват в эту сторону не ходить?
Подумал и поглядел на востру шашку в руках.
— Тут дорога опа́сна; моя булатная шашка притупела.
Стенька воротился назад, взял бросил шашку.
— Вот ты мне не слуга! Я выберу но́ву!
Выбрал первую, саму во́стру шашку, перекрестился и пошел по новой дороге. Шел он немного чащей и вышел на большую поляну. Вдруг видит перед собою огромную чу́ду.
— Нет, это не так, — думает; — я здесь теперь должен погибнуть.
Испугался, стоит на одном месте, не знат что делать.
— Куды же мне деться и как от этой чудищи скрыться?
Чудища подняла голову и увидала юношу; дохнула на него и стала двигаться к нему. Стенька заплакал и думает:
— Пропал! Говорил мне атаман: не ходи по этой дороге! Я его слов не послушал.
Стал подходить ближе, вынул вострый меч, положил его на правую бедру.
— Неужто, — думает, — бог мне не поможет срубить Волкодира? Я не буду так трусить, и бог поможет!
Волкодир его тянет и хочет проглону́ть сразу. Стал Стенька шашкой своей владать, все челюсти ему разреза́ть. Когда челюсти ему до ушей разрезал, и нижняя часть отстала, захватить Волкодира силы не стало, развернулся Степан своею шашкой и давай голову рубить, сколько силы его хватало (потому что он был не богатырь). Отрубил голову, — стал брюхо разреза́ть; разрезал брюхо, нашел в кулак камень и дивуется над этим камнем. Повернулся и пошел. Идя он дорогой, думает себе:
— Что это за вещь такая, и какой это камень?
Взял, нечаянно лизнул и узнал все, что есть на свете, ахнул перед собой.
— Вот, — думает. — Этот камень мне дорог!
Пришел домой к отцу.
— Здравствуй, тятенька, я ходил на охоту, и такая была удачна: погубил свого неприятеля, который нам ходу не давал.
Отец ему и говорит:
— Врешь, Степан! Твой прежний отец тут семьдесят-пять лет жил с своими подданными, и то этого не мог сделать, а ты девяти годов мог такого противника погубить?
Степан побожился и поклялся.
— Правду, тятенька, говорю! Хошь сейчас поедем, поглядим!
Под тот час съехалась вся шайка.
— Ну-ка, братцы, — сказал Василий Савельич, — оседлайте лошадей! Стенька говорит, что он нашего неприятеля срубил.
Все в голос закричали:
— Мы жрать хотим!
Атаман и говорит:
— Да, ведь недалеко: скоро вернемся. Если правду говорит, мы пирушку сделам!
Оседлали лошадей. Сел Степан на коня, сам вперед поехал, за нём атаман, Василий Савельич. Доехали до долины, увидели Волкодира с отрубленною головой; закричали все: «Ура!» и Степану честь-хвала. Воротились домой; атаман и говорит:
— Ну, вот топерь, братцы, мы гулям!
Сделали пир, трое суток гуляли и все Степана восхваляли.
— Топерь поживем! — говорит атаман. — Нам топерь воля на все четыре стороны! Кутнем-ка еще, братцы!
Стал Василий шайку набирать и задумал по лесу раз погулять. Сел на доброго коня и поехал вперед, по новой дороге. Выехал он на Азовское море, и увидел он небольшой кораблик.
— Вот, братцы, — говорит, — мы этим никогда не занимались; а хороша была бы нам добыча: и хлеба, и одёжи, и казны вдоволь!
Одни разбойники и говорят:
— Эх, Василий Савельич, это что за добыча? Мой дед и отец в Саранских лесах жил, — так вот там добыча!
— А что?
— Что? Там скот дешев, и народ ремеслен, и всяких заводов много.
— Да нет, надо испытать, — говорит Василий. — Нам уж туды некуда лезть, потому я стар, а вот сядем-ка в легку лодку, да поедем в догон.
На берегу Азовского моря стояла небольшая косоу́ха. Сели в нее все двенадцать человек, взяли весла и грянули догонять кораблик. А на нем был капитан очень хитрый. Подогнал атаман к кораблю, а капитан на борт вышел, поддернул свои портки — их на сорок сажен отбросило. Атаман вскричал громко:
— Ай да, грянем веселее!
Напустились они в другой раз; капитан их вплоть подпу́стил, шибко дернул за штаны — их угнало за полторы версты.
— Нет, братцы, — говорит атаман, — я как этим делом не занимался, и вам не советую.
Взял плюнул в лодку и пошел до коней. С такой досады они сели на коней и поехали домой. С эфтова время заболел атаман, стал подданным говорить:
— Кто моим делом управлять будет? Я советоваю, братцы, Степана в атаманство посадить.
Тут все стали на это роптать:
— Мы сколько лет живем, а этого не видим. Недавно он пришел и атаманом хочет быть!
Степан вышел к товарищам и говорит:
— Если я атаманом не буду, так не хочу с вами служить! Ну, кто чего знат и какие искусства кто покажет? — закричал Степан. — Ну-ка, кто из вас такой ловкий? Преклони весь лес к земле!
Все выпялили на Степана глаза и ни слова не сказали.
— Никто из вас не выбиратся? — крикнул Степан.
— Нет, никто не может.
Вынул и поднял Степан шашку кверху и скомандовал:
— Лес, преклонись к земли!
Глядят разбойники, а лес на земле лежит. Закричали все:
— Быть Степану атаманом!
Степан ответил им:
— Ну, братцы, служить со мной так служить! Покажите, как вы охотитесь, как бьетесь? Мы так жить не будем, а пойдем в привольные стороны.
Разделил Степан свое войско на две части, скомандовал друг на дружку, в шашки. Они так бились и рубились, что никто друг друга не ранил и не убил.
— Ну, братцы, я в надежде; могу итти с вами. Топерь мы здесь не заживемся: в привольны стороны пойдем! Забирайте все свое имущество и выедем мы на Азовско море и отправимся в Саропский лес.
Собрались разбойники, сели на коней и поехали на Азовское море. На берегу нет ни лодки, ни расши́вы; ни виду про них, ни слуху.
— Ну, что же, братцы, будем делать? — говорит Степан. — На чем через море поедем? Давай сюды мою большую кошму!
Степан разостлал ее на море; сделался вдруг большой корабль. Посадил на него шайку и лошадей поставил, громко вскричал:
— Грянем, братцы, веселее!
Только его и видели. Приехал он к Саропскому лесу и говорит:
— Ну, братцы, вы тут постойте, я съезжу, поразгуляюсь.
Они на берегу себе табор сделали, а Степан сел на коня и поехал по́ лесу. Разыскал он себе прекрасное место для дома (стана), вернулся на берег — из семидесяти-пяти человек убежало у него двадцать.
— Куды же они делись? — спрашивает.
— Гулять ушли. (А они сами начальниками захотели быть).
— Ну, да мне и этих будет, — сказал Степан. — Топерь, братцы, пойдем примемся за работу!
Сели на коней и отправились на разысканное место, и выстроили себе дом. Стенька выехал на охоту и увидел перву встречу: красна́ де́вица, от роду семнадцать лет, зовут Афросиньей, а отца Егором, из богатого дома. Размыслился Степан; хотел девицу погубить.
— Да что я ее напрасно погублю, лучше с собой возьму, пусть мне женой она будет.
Взял ее с собой; пожил несколько время, написал письмо, послал к ее отцу, матери.
— Дочери своей больше не ищите.
И сколько родители ни старались, чтобы выручить из Степановых рук свою дочь: деревни четыре собрали народу и весь лес окружили. Подошли к Степанову дому, и разбойники все дома были. Увидал один толпу народу: кто с дубиной, кто с топором, кто с косой и ружьём; взбёг к Степану и говорит:
— Ну, атаман, видно, батюшка, мы пропадем!
— Что такое? Еще не родился на свет тот, кто меня погуби!. Где народ?
— Наш дом они окружили, атаман!
Приубрался Степан в оружию, вышел на крыльцо и громко вскричал:
— Ну-ка, подданные, садитесь скорее верхом! Не видите что у нас?
Сели верхом, Степан вперед поехал, и народ расступился.
Сели и поехали. Вернулся Степан назад к толпе народа и говорит громким голосом им:
— Ну, что вы хотели меня пымать? Разве я зверь какой? Не волк не медведь, разве вы не видите?
Толпа остолбенела: ровно болваны стоят. Взял Степан в руку плеть и погнал их от дома, как овец. Старик и бросил о своей дочери стараться. Степан остался с Афросиньей жить. Прожил он год, и забрюхатела она; родился у них сын. Дал Стенька ему имя Афанасий.
После этого прожил он три года и вздумал выехать на берег Волги разгуляться. Было у него подданных с ним восемь человек. Увидел он, что ба́ржа небольшая бежит.
— Хоша нас, братцы, мало, а силы попро́бовам!
Кидает с себя епанчу, расстилает на воду.
— Садитесь!
Сели на епанчу. Громко вскричал:
— Ну-ка, братцы, грянем!
Догнали баржу, лоцманов в воду покидали, капитана подвесили на дерево и обобрали все имущество.
— Вот нам, братцы, добыча! Мы, так я думаю, поселимся на Волге.
— Как, атаман? Топерь есаул у нас старый; кого выбрать? Он в отставку хочет.
— А разве не́кого? А вон у меня есть Абсаля́мка; будет всеми делами моими управлять!
Уехал Стенька домой и говорит молодой жене:
— Ну, Афросинья, последние дня с тобой живем! Я тебя к отцу отправлю; только я тебя не обижу. Есть у меня семь коней; навьючу на них серебра и меди, а золота-то понюхать и самим нечего.
Девка была его словам рада, ждет не дождется.
Собралась вся шайка, семьдесять-пять человек (во время разъезда пристали); вышел Стенька на крыльцо.
— Ну-ка, братцы, много ли нас?
— Семьдесять-пять человек.
— Ну вот, осталось пятьдесят, а теперь опять прибавка. Ай-да, кто хочет, на Волгу! Кто охотники — вперед!
Все вскричали, кроме есаула:
— Все желаем тебе служить! Пойдем!
— Я желаю подальше выбрать место. Слыхали про Жегулинские горы? А только вот что: есаула надо выбрать.
— Кого желаешь, атаман, того и сажай в есаулы!
Он еще раз подтверждает:
— Вот я желал бы Абсалямку!
— Ну, и мы желаем его! — вскрикнули все. — Он человек хороший и проворный и все искусства знает. Выходи, Абсалямка, вперед! Командовай!
Вышел Абсалямка вперед, крикнул:
— Ну, робята, слушайте как атамана, так и меня! Мы скоро в поход пойдем по деревням; где что попадется, все тащить, зря не бросать!
— Это, — отвечает шайка, — наше дело: мы не проглядим что ви́сло висит!
Степан вскричал громким голосом:
— Оседлайте таких-то лошадей и насыпьте полны мешки серебра и меди, привяжите покрепче, да вот таких-то четыре коровы! Сегодня я отправляю жену на село. Ну, есаул, выведи на дорогу, смотри, чтобы худого ничего не было!
Вывели семь лошадей с мешками и четыре головы коров и привязали друг за дружку; на переднюю лошадь самоё посадили. Есаул вывел на дорогу и указал ее дом. На другой день Степан приказал ехать в Жегулинские горы. Оседлали коней и пошли упорством на Старо-Черкасску губернию; открыли огонь, сделали битву такую, что побили неприятелев триста тысяч и забрали город. Возвратились отту́дова упорством на Саратовскую губернию. Кроволитие тут у них было такое, что побили сто-восемьдесят тысяч человек, забрали Саратов город. Из Саратова выступили в Жегулинские горы, приискали удобное место, покопали себе землянки, устроили все в порядок. Стенька стал выезжать на Волгу, разбивать суда и вздумал раз съездить в Саратов город. Приехал туда и увидел у одного богатеющего купца прекрасную дочь, под названьем Марья Федоровна, и так ему захотелось ее к себе забрать в супружество. Дожидался он, когда она на разгу́лку или на балкон выйдет. Через несколько времени выходят на балкон и выносят большой самовар; купец с купчихой садятся чай кушать, и дочь их выходит. Стенька напустил воды, раскинул кошму и подъехал к балкону; взял купеченскую дочь из-за стола, посадил на кошму и с собой увез в Жегулинские горы. Купец: «Ах, доржи, лови!» Не тут-то было.
Стал Стенька выходить на́ берег и не стал никому давать проходу: ни одной барже, ни расшиве. Стали доносить государю, царю Ивану Васильевичу:
— Царь Иван Васильич! Стенька Разин не дает проходу ни пешему, ни конному и по Волге разбивает баржи, и купеченски и даже казённы.
Отписыват царь Иван Васильич Стеньке:
— Степан, ты разбивай хоть купеченски, а мои не трог, а то я на тебя пойду упорством!
Степан отвечает царю:
— Вы на своих баржах делайте знаки, а если желате итти на меня упорством, милости прошу в Жегулински горы. Если вы хотите мне дань платить, то платите мне за каждый проезд и кладите знаки, а не хотите, я тогда упорством пойду до Москвы!
Подумал царь Иван Васильич над Стенькиными словами:
— Чем хочет взять? Семьдесят-пять человек и до Москвы хочет дойти!
И вздумал то, что он в Старо-Черкасской губернии триста тысяч побил, под Саратовом сто-восемьдесят тысяч.
— Ну, у меня столько силы нет, значит, я в его руках.
Собрал дань и отослал Стеньке.
— Поло́жьте, Степан, сколько за лето возьмете, за прокат — я заплачу́.
Сейчас взял, на казенных баржах сделал знаки, и с того времени Стенька стал казенные баржи пропускать, а купеческая редкая проходила без того, чтоб он на ней не побывал.
В одно прекрасное время вздумал Стенька покататься по Волге. Ехал Волгой вверх, доехал до Спасского уезда, Казанской губернии, до села Болгар. Вздумалось ему тут закусить. Подворотили, вышли на́ берег, идут селом. Попадается им навстречу девка двадцати-семи лет; поздоро́вкался с ней:
— Здравствуйте, красна девица!
— А вы что за люди?
— Мы купцы. Не слыхали чего про Стеньку Разина?
Вдруг девица испугалась, что такой разбойник селом идет.
— Зачем вы сюда идете? Чего вам надо?
— Мы вот есть захотели, не знам куды зайти.
Сквозь зубов девка сказала:
— Милости просим к нам! Я накормлю!
— А где твой дом?
— А вот на берегу Волги угольная хата.
Повела девка в свой дом, посадила за стол, напоила и накормила. Степан и говорит:
— Нельзя ли, голубушка, с тобой познакомиться?
— Отчего же, можно.
И с этого время стал Стенька к ней частенько ездить. Стала девка богата, так что первая на селе, и вздумала как бы его изловить. Раз он приехал к ней и говорит:
— Ну-ка, сходи, принеси четверть водки!
Та побегла́, сказала старшине, что приехали к ней разбойники. Старшина взбулгачился, нарядил народу, и окружили дом. Она принесла водки; они стали пить. Тут гамя́т:
— Давай его сюда! Иди к нему! Чего глядеть-то? Тащи его!
Но никто ничего сделать не мог. Попил Стенька, погулял и опять отправился на свое место. Народ только поглядел на него.
Прожил Стенька в Жегулях семь лет, изобрал себе удобное место напротив Бирючей косы. Места эти не были забраты, он и думает сам себе:
— Если итти упорством, то нам ка́бы осилить, а помоги никакой нет.
Вдруг рано утром приходит неизвестный человек с письмом от Афанасья Степанова:
— Степан Степаныч, прошу вас испытать силы. Я уж стал восемнадцати лет, я забрал город Ленбу́рг.
И думает Степан:
— Неужли́ это сын ко мне пишет?
Отвечает:
— Кто есть ты такой за Афанасий Степаныч?
Сам поехал к Бирючей косе и делает упорство на неприятеля (Турка) и уси́льством сбили их с позиции на Бирючую косу; забрали их в плен живьем. Утром, на солнечном всходе, приходит человек, приносит письмо:
— Любезный мой папаша, я буду к вам в гости, в город Астрахань, а неизвестно когда!
Так он этому письму обрадовался! Взошли они на Теплый остров, построили себе огромный дом. Между тем пока он строил, сын приехал в Астрахань, гуляет по городу, не признает никого, никому шапки не скидат: ни господам, ни чиновникам, ни простонародью. Стали люди замечать, что он не из простых: либо из чиновников, либо из раскольников. Донесли губернатору. Губернатор сказал:
— Когда пойдет, доложите мне.
Вдруг вышел самый этот разбойник. Губернатору слуги доложили, что он идет. Губернатор вышел из ворот и пошел навстречу. Тот ему никакого не отдает почтения.
— Что ты есть за человек?
— А на́што тебе? — отвечает Афанасий.
Закричал губернатор:
— Доржи его и посадить в темницу!
После того Стенька приехал в Астрахань-город и узнал, что сын его в тюрьме, а кто посадил не известно. Долго он жил в городе и все разузнавал. В один праздник ему один человек и сказал, что сына его губернатор посадил. Когда ударили к обедне, стал народ съезжаться, идет губернатор. Стенька стоял на паперти, взял губернатора за руку и повел на колокольню. Взвел его на нее и вскричал:
— Вот! Не ешь сладкую конфету, а попробуй луковицу с хреном!
Взял его в беремя и говорит:
— Ну-ка, как кошка вывёртыватся? Встанешь ли ты на ноги как она?
И спустил его в окно за добродетель сыну своему. Вышел Стенька из церкви и пошел прямо в тюрьму и сына выпустил; подвел его к губернатору и спрашиват:
— Узнал ли ты своего неприятеля? Вот он тебя в тюрьму посадил, а сам летать захотел с колокольни, а садиться-то не умеет!
Попрощались сын с отцом.
— Ну, сын, далеко ли пойдешь?
— Я топерь отправлюсь в Пе́рьму.
— Да как ты ее заберешь?
— А как вы Бирючью косу забрали, так и я заберу.
И пошел Афанасий в свою шайку. (У него немного было: сто-семьдесят пять человек). Приехал в шайку, проздравил себя, что «был де я таким-то губернатором посажен в тюрьму и был в ней семь дней, покуда отец меня не выпустил, а сам губернатор вздумал полетать, а садиться не умел. Теперь, братцы, в Пе́рьму упорством пойдем!»
Собрались и сделали войну — боже упаси! Забрал Афанасий Пе́рьму и шестьсот человек в плен. Когда Стенька узнал об этом, был очень рад и пошел упорством в Самарску губе́рню и забрал небольшую речку Урал. Поселились тут все подданные Стеньки, а он их наградил землею и лугами, и лесом, и рекой Уралом.
— Если кто, — говорит, — будет у вас отбирать, то сделайте упорство!
Больше он в войну не пошел, и задумал Стенька отпустить свою Марью с малыим дитём; поехал в Жегулинские горы домой. Приехал, видит, что Марья лежит на кровати мертвая. «Ну, бог с ней! Ладно, что не захватил». Так и оставил.
После того стало ему скучно.
— Дай поеду на Каспи́цкое море!
Расправил свою толстую кошму, сел на нее и поехал к Каспицкому морю. Ехал не больше трех часов, приехал к столичному городу в Персии; видит: гуляет на балкону прекрасная королева Елена; вздумал; «Как я ущельем к городу проеду? Дорога тесная». Напустил воды, подъехал и взял ее с балкона, посадил на кошму и увез на Теплый остров. Приезжает в дом, встречают его служащие.
— Ну, братцы, проздравляйте меня с победою! Чего желалось, то я получил! Теперь мы займемся пои́наче работать. Надо хлеба на́ зиму заготовить и всего. Съездите-ка в город Астрахань!
Поехали двенадцать человек, тринадцатый есаул, Абсалям. Приезжают; высмотрели богатеющего купца магазин. Вот есаул и говорит:
— Не поживимся ли малость?
Подрезали жестяную крышу и один из ловких влез туда и давай оттуда все переть.
— Что, будет? Кажись все я повыкидал?
— Да вот пошарь-ка, нет ли еще? На одну подводу не хватит.
Стал разбойник шарить и нашел: висит что-то.
— На крюку что-то висит; я вам не выкинул!
А это была кунья шуба с бобровым воротником. Выкинул ее оттуда и сказал Абсалям:
— Вот так шуба! Как бы ее от атамана скрыть, чтобы мы от нее поживились?
Положили на́ воз и отправились домой. Часу в первом ночи остановились лошадей кормить на большой поляне, в лесу, не доезжая пяти верст до Волги. Перед самою зарей вдруг есаул сделал тревогу.
— Что вы, братцы, спите? Мы-то ухачи́-воры, а у нас украли!
Поскакали разбойники в пого́нь, во все стороны. В это время есаул взял, шубу украл. Разбойники вернулись и спрашивают:
— А много ли покражи было?
— Да вот, — говорит есаул, — шубу украли, а она мне всего дороже.
— Ну, делать нечего, — говорят разбойники, — видно нам ею не владать!
Есаул пома́лкиват. Приезжают к атаману, говорят:
— Господин атаман, поздравляй с добычей! Все ездили благополучно, только вот случилась беда: с возу кто-то шубу украл с бобровым воротником и обложену разным прозументом!
— Плохо, — сказал Стенька, — а вот бы и надо ее сейчас! Как украли? Расскажите!
— Да вот мы с устатку на такой-то поляне отдохнуть легли, — начал один разбойник.
Стенька сказал:
— Иди на то место и поищите невдалеке кругом, не будет ли она тут.
Сели двое на лошадей и поехали на поляну; давай шубу искать. Не доезжая до одного небольшого кустика, видят: шуба лежит вверх воротником.
— Эй, Митька, я шубу нашел!
Несет шубу на руке, прямо к атаману. Атаман взял и говорит:
— Да, стали от меня воровать! Неладно, робята! Я на него надеялся, на есаула, ну, а теперь он из веры вышел.
А Абсалям за дверьми стоял да слушал. Приходит в комнату и говорит:
— Атаман, шубу мне отдай!
— Как так? Ты ее украсть хотел?
— Нет, я тебе ее не подарю! — говорит есаул.
Сделалась у них большая ссора. Степан говорит:
— Не быть тебе есаулом!
— Не буду я, — отвечает Абсалям, — есаулом, а буду атаманом!
Встал Степан со стула, рассердился, закричал на него:
— Пошел вон отсюда!
Есаул повернулся, загнул свое рыло и вышел.
— Дай-ка, — думает, — я оседлаю своего коня и поеду куда знаю.
И уехал в Сызрань; прожил в нем три лета, набрал небольшую шайку в девять человек, стал воровать и разбойничать. Узнал про это Стенька.
— Да-ка, я съезжу, разузнаю, как живет Абсалям!
Взял трех с собою и поехал. Приехали в Сызрань, нарядились купцами и спрашивают: где разбойник Абсалямка. Все знали и указали в какой лес ехать. Стенька подошел к его дому. Абсалямка как увидел, испугался и говорит:
— Здравствуй, брат Степан, я очень болен.
— Здорово, Абсалям, вижу я, какая твоя болезнь. Я не за болезнью твоей пришел, а за шубу расплатиться.
— Я топерь весь в твоих руках, — сказал Абсалям с покорной головой. Со стоном говорит Абсалям: — Прости, брат Степан, я такой же атаман!
— Не за тем я к тебе пришел, чтобы простить, а зачем ты от меня ушел?
Вынул Стенька вострую свою шашку и отсек Абсаляму голову; сел на доброго коня и отправился назад. Приехал домой и сказал:
— Ну, ребята, поминайте Абсалямку за покой его души! вот вам жертва!
И отдал им меч.
— Я сегодня брата́лся с нём, снес ему голову своей вострой шашкой, ну, да будет про это толковать! Мы нового заведем. Как бы в Астрахань скорее попасть? Что-то мне скучно! Другого есаула нет, это не беда: мы одни исправим дела!
Оседлали новых коней; Стенька ясным соколом полетел. Проезжает он базаром, сам с улыбкой говорит:
— Я и вновь здесь явился; где же мой губернатор лежит? Я приехал к нему поздоровкаться, сказать: есаула пусть он встречат к себе в дом за его добродетель, чтобы мого сына в тюрьму не сажал (?) Мы после этого разговором займемся. Ну-ка, робята, подглядите, где нам добыча лучше будет! Заберемся мы к богатому купцу; он живет на самом краю, в полукаменном дому. Нам стены каменны нипочем: дочь красавица у него; мы добра и именья набрали, мы красавицу увезли.
Привозил Стенька домой.
— Вот тебе, любезная моя — сестра моя! (Это княжна-то). Я долго не видал сестру, когда бунтовство́ было; я расстался с ней и сел на легку лодку, за тобой поехал; я время в этом проводил, в Персидское царство ездил, всех знакомых я узнал, купе́ченство разорял!
Вздумал Стенька съездить в путь-дорогу, в Казанскую губерню; мимо Болгар проезжал, про прежнюю вспоминал.
— Дай зайду к ней!
Вышел Стенька из лодки и завёртыват в дом, в котором было веселье и гулянье. Он заставил стару девку баню истопить. Истопила она баню и побежала на село и сказала старшине:
— Стенька парится в бане!
На тот случай идет старый старичек.
— Что у вас за сходка? — спрашивает старик.
— Вот мы хотим Стеньку изловить!
— Где вам, братцы, его пымать? Тот еще на свете не рожден. Ра́зи мне старые кости потревожить и показать вам Стеньку?
Снял старик свою шапку, три раз перекстился, подошел к бане и тихим голосом говорит:
— Степан!
Громко Стенька отвечал:
— Эх ты, старый хрен! Не дал ты мне помыться!
Ну, делать нечего, стал он собираться. Вышли они из бани; Степан на все стороны поглядел, перекстился и пошел. Старик тихим голосом сказал:
— Старшина, давай подводу!
Посадил его на телегу, сам сел впереди. Привез до города, спросил полицейских…
— Нате вот вам разбойника Стеньку Разина в казамат!
Весь народ сдивовался, что не простой старичек.
Он спросил исправника:
— Ну, как его сажать?
Исправник говорит:
— Надо в железо его сковать!
Взяли в железо его сковали; Стенька тряхнул ногой, и железы прочь полетели. Старик и говорит:
— Не поможет вам железо, лучше мне его связать!
Взял моченое лыко, ноги, руки ему связал, посадил его в острог. Трое суток он в нем сидел, на четвертые является губернатор: известен был такой разбойник всей ампе́рии. Распале́нный губернатор закричал на него громко:
— Может ли сидеть такой разбойник связан мочалами? Заковать его в железы!
И сказал Степан:
— Ну, топерь, братцы, прощай!
Нарисовал середь полу легку лодку и сказал:
— Садись, робята, со мной!
Полилась из остро́гу вода, отворилась дверь, и уехал Стенька в луга; увез с собой новых двенадцать человек, вернулся домой к молодой своей жене и к названой сестре (Астраханке). И задумал Стенька переправиться в отдаленную дорогу, на Балхи́нско-черно море, на зеленый Сиверский остров; и думат Стенька про свою молоду жену, княгиню:
— Куда ж я ее возьму с собой? Неужли мне, удальцу, там жены не будет?
Разостлал Стенька платок, посадил двух девок с собой; под служащих — большой ковер, и сказал:
— Грянем, робята! Недалеко: мы сегодня в Астрахань, а на утро будем в Рыбинском!
Плыли они путину, молода́ его жена и сказала:
— Куда ты меня завезешь?
— А не хошь ты со мной ехать, полетай с платка долой!
Словом ее огорошил — княгиня полетела вплоть до дна. Ехавши губерниями народ видел его на платке, с девицей. Девица сидит, возмоля́ется:
— Прощайте, нянюшки, мамушки и родимый мой отец!
Он услышал эти слова, подворотил к левой стороне.
— Ох, и город мой родной (Синбирской), уж я в нем и редко был, а все знаю!
Видит: сын навстречу идет, здоро́ватся с ним и называет отцом.
— Ах, сыночек Ванюшка, не знашь ли про свого братца?
— Нету, тятенька, не знаю; я в несчастья нахожусь: архерей меня в тюрьму посадил.
— Ну, какая честь будет ему, хвала? — сказал Стенька сыну. Обнялись, поцеловались.
— Не плачь, сынок, я с ним рассчитаюсь. Я еще не таких видал: Астраханской губернии губернатора с колокольни кидал, и этому не миновать!
Утром рано он встал, сам к заутрени пошел; проходя всеё церковь, перед царскими дверьми встал. Выходит архерей из алтаря, берет его Степан за руку:
— Ну, пойдем со мной за сына рассчитаться!
Взвел его на вышний етаж и крикнул:
— Сейчас получает ваш архерей за моего сына расчет!
Взял его и выбросил из окна. Народ взбунтовался.
— Держи, лови!
Но никто не видал, как Стенька весь народ прошел. Взял он сына своего куды путь лежал, доехал до Рыбинскова: город славный, а стоять нельзя.
— Оставайся, сынок, здесь, а я поеду куда вздумал, по свету похожу, разузнаю, где что есть.
Приехал к морю и сказал:
— Слава богу!
Стеньке от роду было девяносто-семь лет. Переправился он через море на зеленый Сиверский остров, написал он письмо старшему свому сыну:
— Я прощаюсь с вольным светом, и конец мне скоро будет!
Построил себе дом близь большой дороги; имел проживанья три года и кончил Стенька жизнь свою на Сиверском зеленом острове, но дети его не знают, где отец. Пролежал тридцать лет; стень ходила по земле, но народ она пугала и просила, чтобы над ее телом сказали вечну память.
Проезжал один из прикащиков с красным товаром; поднялась гро́зна туча и ударил сильный дождь; он от дождя и заехал в дом Стеньки Разина. Стень подошла и шипом говорит:
— Иди, возьми в такой-то комнате золота мешок и под таким-то звеном, под забором лежит Стенька Разин; скажи над нём вечну память, а прежде сведи коней со двора! (А то землетрясение будет).
Неустрашимый разнощик разыскал золота мешок, навалил его на горб, повез со двора и думает:
— Ладно ли так будет?
Воротился назад, разыскал труп Стеньки Разина, впопыхах скоро сказал три раза вечную память; сам бегом со двора побег, пал на лошадь, тронул коня возжей, но едва отъехал — потряслась земля, и провалился труп Стеньки и закрылся землей.
О Стеньке рассказу конец, а будем говорить о старшем сыне Афоньке.
Услыхал Афонька о смерти отца, и вздумал он съездить на Балхи́нско-черно море, на зеленый Сиверский остров. Подъехал к морю — тихо было; сел в небольшую лодку и отправился сам на остров. Вдруг буря поднялась, раскачала лодку его. Тут-то Афонька страху наимался! Чуть не захлебнулась его лодка. Дошел до отцовского дома — стоят одни голые стены. Посмотрел на эти стены, сам заплакал и пошел; тихо, во слезах, слово сказал:
— Смерть отца я не застал! Ну, прощай, отец! Теперь я до смерти не увижу тебя!
Отправился на́ море; поглядел — лодки нет. Вот беда и горе! Кто-то лодку угнал. Едут два перевощика, он и крикнул:
— Братцы, посадите меня!
Те подъехали и говорят:
— Что дашь за перевоз? Мы отвезем.
— Сколько возьмете?
— Ну, садись!
Он сел в лодку и думает:
— Денег у меня ни гроша, чем я расплачусь с ними?
Один у него в кармане кисте́нь. Вынул он его тихонько; перевощики сидят впереди, веслами гребут и друг на друга глядят. Загляделся один перевощик, взял Афонька цоп его в ухо кистенем! Этого убил до́ смерти, а другого из лодки вы́шиб, сам сел в весла и поехал куды надо. Приезжает на сву́ сторону, идет путем дорогой, попада́тся ему артель средних мужиков; идут с золотых приисков. Афонька говорит:
— Здравствуйте, робята! Куда ходили?
— Идем с работы.
— А мне таких людей надо! Я иду третий день не жрамши, хоть на кусок хлеба добьюсь себе!
Мужики друг на дружку взглянули и говорят:
— Неужто мы живые одному в руки дадимся? Это вздор!
— Ну, как же, мужики, денег много у вас?
— Да есть у кажняго по сотняжке, — смеются между собою.
— Ну что же давайте мне на дорогу! — говорит Афонька.
— Эх ты, дурак! Мы сами глядим где бы взять.
— Да ведь с вами нечего так говорить: вы не знате, кто я! Вынул из кармана кистень и говорит:
— Ну-ка, я примусь за прежнюю работу!
Тут Афонька развернул руку и дал одному кистенем плюху, а трое с испугу упали.
— Я с вами вот как обойдусь!
Поколотил всю артель, деньги отобрал.
— Будет мне на дорогу!
Идет и посме́иватся, сам себе говорит:
— Я теперь где ни взойду, голодом не умру.
Пришел в свой дом: запустел, никого нет… И так досада его взяла, что из терпенья он вышел.
— Где мои подданные товарищи, которые со мной были? Вздохнул он тяжело и скрозь слезы сказал:
— Прощай, моя изба! Больше я в тебя не приду!
Забрал все добро, сел на доброго коня. Проехал не больше пяти верст; стоит в лесу огромный дом. Он взъехал в него, выбегат к нему на встречу его есаул и говорит:
— Здравствуй, брат Афанасий! Как твое здоровье? Где ты столько время был?
— Неужто ты, брат, не знашь, где я был? Я отца хоронил.
— Ну, милости просим в наш дом! Мы свой выстроили.
— А много ли вас здесь?
— Да не много: двадцать-пять человек, — сказал есаул.
— Так что же? И меня в артель принимайте!
— А, милости просим!
Но так его досада берет, что он из атаманов в подданные идет и говорит есаулу:
— Ну, что, атаман, здесь служить неловко: добычи мало! Поедемте в привольные стороны, где отец работал.
— И я думаю туда же отправиться.
В одно прекрасное время съехалась вся шайка; начали говорить:
— Кто на Волгу хочет в город Симбирской?
Один из работников говорит:
— Да ведь не знай как мы попадем в Симбирской: там заве́дыват Ванька (брат Афоньки).
А Афонька говорит:
— Вот мне и хочется узнать. Забирайте ограбленное добро!
Забрали, лошадей оседлали, сели поехали. Приехали на берег Волги в небольшое село, по прозванью Майну, разыскали тут удобство (небольшую рытвину), прежний готовый дом, остановились на время жить. Разузнали все дела, как живет Ванька, командоват своими войсками и гордится, управляет всей Волгой; занимает должность отца старика: суда́ разбивает, лоцманов в воду кидает.
— Ну, это он незаконно, — сказал Афонька. — Пусть бы он деньги и добро брал, а лоцманов в воду кидать незачем. Попробую силу его!
Написал Афонька письмо:
— Ожидай меня в гости!
Ванька отвечал:
— Милости прошу, незнакомый человек!
Собрались двадцать-пять человек, разостлал Афонька епанчу, сели вместо лодки и поплыли в Синбирск.
Ванька встретил гостя и говорит:
— Какие вы люди?
— Мы — дети Стеньки Разинова, первый сын Афанасий.
Он этому делу не верит, хочет по шее из дому прогнать.
— Врешь! У меня не такой брат!
Произошел шум и драка; открыли огонь, и Афонька упорством пошел, прогнал Ваньку из Синбирскова во Рязанскую губернию. Остался Афонька в Синбирском свою жизнь продолжать и научился, как баржи разбивать. Вот плохая тут удача: народ хитрый нынче стал. Однажды погнался за маненькой баржей. Лоцман был не промах: сам рулем правит, рукой по голове гладит. На голове волоса были длинны: как назад их закинет, и Афоньку с Волги на́ берег кинет.
— Эх, — говорит Афонька, — это, братцы, не так! Тут не поживёшься! Поедем дальше за ними!
На путине баржа приотдохнуть и встала. Афонька — следом.
— Вот где нам владать им, этим лоцманом! — шепнул Афонька.
— Айда, братцы, за работу!
Взошли на баржу: лоцман стоит в своей хате. Отворил Афонька дверь и крикнул:
— Эй ты, сонный тетеря, не отворишь нам двери!
С испугу лоцман вскочил, вы́бег на верхний борт, ножом горло перехватил. Разбили они эту баржу; златом и серебром лодку нагрузили и отправились домой.
Получает Афонька письмо неизвестно откуда; стал его читать: письмо — от родного брата.
— Эх, братец, не знал я, что ты был у меня в гостях и войну упорную сделал. Я теперь третий месяц в несчастья: в тюрьме сижу.
Афоньке жаль стало: он и поехал в Рязанску губерню, розыскал брата в тюрьме. Увидел весь народ, что самый тот разбойник в таком-то году архерея с колокольни бросил (лицом схож был).
— Давай, держи, лови!
Шум поднялся и гвалт, а Афонька подошел тихо к за́мку, выпустил свово брата и отправился в свое место.
— Бросим это все дело! — сказал Иван брату. — Будет, брат, погрешили, пора на покаяние!
— Нет, — сказал Афонька, — я до смерти свои дела не брошу!
Отправился на сво́ место, на разбойное дело. Недолго ему царить досталось: нагрянуло войско; пымали Афоньку в темном лесу, посадили его в тюрьму. Решил его суд сквозь тысячного строя три раза провести. Забили Афоньку до́ смерти, а Иван пустился во моленье и покаялся в девяносто семи людских душах.

Один из атамановых полковников, передает народная память, по имени Чювич, был разбит наголову, на том самом месте, в Симбирске, где теперь находится Макин сад. В отчаянии, не зная как спастись от неприятеля, он кинулся в реку и утонул. С того времени проток между островом и берегом стал называться Чювичем.

Не Стеньку под Синбирском разбили, а его есаула, татарина. Стенька был в это время в Дербенте. А разбили есаула его потому, что он, тата́рска лопатка, вздумал озоровать и допусти́л выстрелить пулей в соборный крест. Стенька видит: дело плохо (он ведун был), помчался из Дербента, да уж дело опоздано было. А взял Синбирск сын его, Афонька.
На выезде из города к реке там и стена стоит, на стене написано; «Взял Синбирск Афонька».
Все одно как на Каспицком море есть столб, где прописано, как его Петр Первый высек плетьми за то, чтоб оно не смело его вперед топить.

Симбирск Стенька потому не взял, что против бога пошел. По стенам крестный ход шел, а он стоит да смеется.
— Ишь чем, — говорит, — испугать хотят!
Взял и выстрелил в святой крест. Как выстрелил, так весь своей кровью облился, а заговорёный был да не от этого. Испугался и побежал.

Под Василём напали стрельцы на уда́лых молодцев Стеньки Разина. При шайке был сам атаман с есаулом. Вот начали они биться, и не берут разбойников ни железо, ни пули, потому что они все заговорёны. Из шайки все живы, никто не ранен, а стрельцы так и валятся. Один сержант и догадайся: зарядил пищаль крестом (с шеи снял) да в есаула и выпалил. Тот как сноп свалился. Стенька видит, что делать нечего, крикнул ребятам:
— Вода! (спасайся, значит).
Подбежали к Волге, сели на кошму́ и уплыли, а есаулово тело тут на берегу в лесу бросили, и три месяца его земля не брала, ни зверь не трогал, ни птица.
Вот раз кто-то из прихожих мужиков подошел да и говорит:
— Собаке, — говорит, — собачья и смерть!
Как только эти слова сказал, мертвый есаул вскочил на ноги и убежал бог весть куда.

Стенька начальству раз сам дался, руки протянул, и заковали его в желе́зы. После положили и зачали пытать: и иголками кололи, и кошками били — ничего не берет. Стенька знай только себе хохочет. Вот и выискался один знающий человек и говорит: — Да вы чего бьете-то? Ведь вы не Стеньку бьете, и не он у вас в кандалах, а чурбан! Он вам глаза отвел да и хохочет.
Сказал этот человек такое слово — глядит начальство, а и в самом деле не Стенька лежит, а чурбан. Ну, после Стенька уж не мог вырваться; положили его при том человеке, стали бить — про́брали. А то бы он вовсе глаза отвел.

За Волгой, на Синих горах, при самой дороге, трубка Стенькина лежит. Кто тоё трубку покурит, станет заговорёный, и клады все ему дадутся и всё; будет словно сам Стенька. Только такого смелого человека не выискивается до сей поры.

Когда на Волге были ходовые суда, ссадил хозяин в Жегулях одного больного бурлака (таков был, действительно, бесчеловечный обычай прежнего времени), и пошел он, хворый, по траве в лес. Долго ли, мало ли шел, только попал бурлак в страшную трущобу. Дело было к вечеру; устал, а приютиться негде. Призадумался бедняк, и застала его в дороге темная ночь. Вдруг впереди, из заросшего оврага, сверкнул огонек. Собравшись с последними силами, путник пошел на него и увидал землянку в непроходимой чаще. Постучался в нее и сотворил молитву. Вышел старый старик, волосами инда весь оброс, такой высокий.
— Дед, укрой меня от темной ночи.
— Ступай своею дорогой, — грубо молвил старик, — нечего тебе здесь делать, или ты страху не видал?
— Чего мне бояться, — отвечал бурлак, — я хворый, устал, взять у меня нечего.
Он думал, что пустынник про разбойников говорит, — в ту пору по Жегулям сильно пошаливали.
— Ну, пожалуй, коли не страшно, так переночуй, — сказал старик и пустил бурлака в землянку.
Вошел он, видит, что келья большая и старик в ней один, — и никого больше нет. «Верно спасаться удалился сюда какой святой человек», — подумал бурлак, лег в уголок и заснул, с устатка, крепким сном. Только около полуночи просыпается от страшного шума, кругом лес трещит от сильного ветра, по лесу гам идет, крик около землянки, свист. У старика огонь теплится; сидит старик, дожидается чего-то. И налетела вдруг в землянку всякая нечисть. Начала темная сила тискать и рвать старика, что есть мочи. А у него груди, словно у бабы, большие. Двое чертей давай эти груди мять, припали к ним, сосут. Бурлак все время лежал ни жив, ни мертв от страха. Вся хворь пропала. Чуть не до самого света тискали нечистые старика, потом вылетели из землянки. Только перед рассветом дед продохнул, дух перевел и говорит бурлаку:
— Знаешь ли кто я, и за что они меня в этих горах мучают?.. — Я — Степан Разин — это все за свои грехи я покою и смерти себе не знаю. Смерть моя — в ружье, заряженном спрыг-травой.
И дал Степан бурлаку запись о кладе в селе Шатрашанах, Симбирской губернии. Значилось в записи: «40 маленок (пудовок) золота, многое множество сундуков с жемчугами. На все деньги, которые в кладе, можно всю губернию сорок раз выжечь и сорок раз обстроить лучше прежнего. Вот сколько денег. Ни пропить, говорит, их, ни проесть всей губернии Симбирской. Как дороешься до железной двери и войдешь через нее, то не бросайся ни на золото, ни на серебро, ни на самоцветные каменья, а бери икону божией матери. Тут же стоят и заступ, и лопаты, и ружье, заряженное спрыг-травой. 40 000 награбленных у одного купца, раздай по сорока церквам. Пять рублей меди, брата моего Ивана, раздели между нищею братией. Возьми ружье и, выстрелив из него, скажи три раза: „Степану Разину вечная память!“ Тогда я умру и кончатся мои жестокие муки». Взял бурлак запись и выбрался из Жегулевских гор. Был он, конечно, неграмотный и отдал бумагу мельнику, а тот на ней табак нюхательный сеял. Воспользовались прохожие-грамотники и стали рыть клад. В записи говорилось, что при рытье ударит 12 громов, явится всякое войско, и конное, и пешее, только бояться этого не надо. Долго рыли, бывало как праздник, так и роют. Осыпался вал и осела дверь. Выход был выкладен жжеными дубовыми досками. Может и дорылись бы, да оплошали в одном слове, — клад-то и не дался. Подходит, этот раз, служивый.
— Что, ребята, роете?
Те и ответили:
— Петров крест.
Все в ту же минуту и пропало. Так Стенька и по сю пору мучается.

9. Про Пугача
В Самарской губернии, Ставропольского уезда, в селе Старом Урайкине побывал Пугач и с помещиками обращался круто: кого повесит, которого забором придавит (приподымет забор, голову помещичью сунет под него, да и опустит забор на шею). Была в Урайкине помещица Петрова, до крестьян очень добрая (весь доход с именья с ними делила), когда Пугач появился, крестьяне пожалели ее, одели барыню в крестьянское платье и таскали с собой на работы, чтобы загорела и узнать ее нельзя было, а то бы и ей казни не миновать от Пугача.

10. Пугачев в Симбирске
Когда Пугачев сидел в Симбирске, заключенный в клетку, много народа приходило на него смотреть. В числе зрителей был один помещик (по другим рассказам исправник), необыкновенно толстый и короткошея. Не видя в фигуре Пугачева ничего страшного и величественного, он сильно изумился.
— Так это Пугачев, — сказал он громко, — ах ты дрянь какая! А я думал он бог весть как страшен!
Зверь зверем стал Пугачев, когда услыхал эти слова, кинулся к помещику, даже вся клетка затряслась, да как заревет:
— Ну счастлив твой бог! Попадись ты мне раньше, так я бы у тебя шею-то из-за плеч повытянул!
При этом заключенный так поглядел на помещика, что с тем сделалось дурно.

11. Расправа с пугачевцами
Фома дворовый был пугачевец, и его решили повесить. Поставили рели, вздернули Фому, только веревка под ним оборвалась… Упал Фома с релей, а барин подошел и спрашивает:
— Что, Фома, горька смерть?
— Ох, горька! — говорит.
Все думали, что барин помилует, потому что видимо божья воля была на то, чтобы крепкая веревка да вдруг оборвалась. Нет, — не помиловал, велел другую навязать. Опять повесили, — и на этот раз Фома сорвался. Барин подошел к нему, опять спрашивает:
— Что, Фома, горька смерть?
— Ох, горька, — чуть слышно прохрипел Фома.
— Вздернуть его в третий раз! Нет ему милости!
И так, счетом, повесили барского человека три раза.

12. Шарюк
Шарюк был татарин. Родился он в Алатырском уезде, Симбирской губернии, в селе Лома́ты, и разбойничал верст на семьдесят кругом, избегая нападать на соседние села. Он боялся мордвы и условился не трогать их. В двадцати верстах от Ломат был большой лес (Николаевский бор), продолжение огромных Сурских лесов. Шарюк обладал необыкновенною силой и умел выскользать из рук; он бегал несколько раз из острога и каторги. Это его прославило. Окрестное население боялось его как огня. В Ломатах у него была своя изба. В базарный день он ходил по селу, и никто не смел его тронуть. Шарюк заходил в окрестные кабаки и спрашивал при всех вина. Посетители расступались и пропускали его к стойке. Расплачивался он щедро: давал втрое и больше чем следовало; до рубля не брал сдачи. Выходя из кабака, он делал пять-шесть выстрелов из револьвера. (Это было всего лет пятнадцать назад). У него было их два и один двенадцатизарядный. Шайка Шарюка́ состояла из тридцати человек, все больше татары, но были и русские. Не любил Шарюк богатых, чем либо теснивших народ; попов тоже не любил. Священник села Дубенок (верст двенадцать от Домат) не из трусливых, а все-таки побаивался Шарюка и держал при себе всегда заряженный пистолет и два ружья. Когда прослышал про Шарюка, так даже сына на охоту не пускал. Кроме того, он дал такой приказ караульщику:
— Если в поповом дому выстрелят, беги на выстрел, или бей в набат.
К церкви он приставил четырех караульных. В Промзине тоже сильно побаивались Шарюка; говорили, что он дорогой почту ограбил, да верст за шестьдесят от того места попа обобрал. Переходы Шарюк делал необыкновенно быстрые. Вез раз мужик бочку с дегтем, встретил его Шарюк с своею шайкой и заставил вылить деготь на дорогу. Время было жаркое.
— Ну-ка, поваляйся! — скомандовал Шарюк. Мужик, боясь ослушаться, начал кататься в пыли и в дегтю. После этого Шарюк дал ему за бочку вдвое.
Полиция не могла поспеть за Шарюком, и в народе говорили даже, что губернатор послал на Шарюка войско. Татарам из шайки Шарюка, попадавшимся в воровстве, мордва начала грозить и раз жестоко наказала одного вора за кражу пшеницы из амбара: ему пудовою гирей расплющили пальцы об стену, и вдруг Шарюк затих. Никто не знает, куда он делся, куда исчез. Молва о нем и прежде затихала иногда, но не на такое долгое время. Обыкновенно после некоторого перерыва он начинал еще смелее разбойничать. Все ждали, что вот-вот Шарюк опять появится. Говорили, будто его убили сами ломатские татары, потому что многие из его шайки грабили в непоказанных местах. Вдобавок прошла молва, что из окрестных сел, в рабочую пору, выгонят народ ловить Шарюка, и исправник грозился ломатским татарам, что если они не поймают разбойника, то село у них сроют, а их расселят по окружным селам. Мордва говорила, что просто запалит Ломаты с четырех концов, и шабаш. Все это сильно вооружило татар против Шарюка, они его поймали, убили и похоронили под корнем дерева в лесу.

13. Серебряков
В селе Порецком (Симбирской губернии) Серебряков-разбойник жил; у него шайка была. Раз он управителя убил: уж очень он крестьян одолевал загоном скотины и притеснял всячески. Жил управитель на краю села, с женой и дочерью. Вот как-то среди дня присылают к нему разбойники мужика и наказывают с ним:
— Жди, мол, нас, в такую-то ночь, в гости.
Управитель мужику пригрозил, а сам на всякий случай строгий караул около дома поставил. В назначенный день, ночью (и лунная ночь-то была) восемь человек нагрянуло, кто с чем: один с саблей, другой с кинжалом; и кистени были. Управитель из окна завидел их, кинулся за саблей, да второпях забыл ее из ножён вынуть, и выбежал; а они у крыльца затомошили. Выдернул, зачал саблей махать — палец одному отсек. Ну, а те не робеют, в двери лезут. Он опять в комнаты кинулся. Тем временем один разбойник юркнул в сени следом, за дверь и спрятался. Как только управитель вышел, он ему на плечи сзади и сел. Возня началась. Другие подоспели, давай бить, выволокли на луговину (а ночь такая светлая, что урони иголку, и ту видно). Народ сбежался смотреть, а шаг ступить боится. Караульных и след простыл; а разбойники расправляются да кричат:
— Не ворохо́бьтесь, с….. дети! Не ваше дело!
— Мы — люди подневольные, — говорят мужики, — в ответе будем.
— Неужто же он вам не надоел, управитель-то? Коли хотите — подавайте явки, а сюда ни шагу!
Так на лугу и закололи, а на крыльце все больше кистенями молотили. Вошли в дом, зажгли бумаги какие были, хотели на огне хозяйку пожарить, чтобы показала где деньги, только атаман не допустил, потому она на сносях была. Ушли. После слышно, ловить их стали. В шайке той атаманом Серебряков был. Его больше Безруким звали, потому ручной кисти у него не хватало, и он кистень к мослу́ ремнем прикручивал. На Свияге у него стан был. В то время (с полсотни лет назад) по реке кустья большие росли, и говорят, будто две женщины к разбойникам пищу доставляли. Раз на пашне мужики ночевать легли под телегами, только видят — двое верховых едут по полю к ним. Один сошел, оперся на саблю и говорит:
— Вы зачем, с….. дети, наших изловили?
Мужики им говорят, что они люди подневольные.
— Смотрите, — говорит, — как начнем вот вас косить, так узнаете!
А когда управителя резали, так пожаром стращали, говорили, что в одном месте зажгут, в десяти загорится (потому у них фитили). После, сказывают, изловили Безрукого. Ткач один взял его. Сцепились они на ножах биться. Безрукий ударил ткача, да угодил в подол рубахи, а ткач оцара́пил Безрукому бок. Взял атаман, бросил орудие на землю и сдался.
— Не в том платье меня застали, — говорит.
Потом его бичевкой удавило на ешефе́те начальство. Ткач-то, что его взял, знал:
— Бей, — говорит, — меня!

14. Костычев
На правом берегу Волги, верстах в семи от гор. Сенгилея, виднеется покрытая липовым лесом Шиловская шишка. На этой горе, лет тому за восемьдесят или за сто, жил разбойник Костычев с своею шайкой. Он следил отсюда за появлением в этом плёсе парусных судов и нападал на них с луговой стороны, с своею вооруженною шайкой, на лодке, с криком:
— Сарынь на кичку!
Бурлаки на судне падали ниц, а хозяин судна и водолив, или прикащик, подавали ему чалку. Он с шайкой входил на судно, прибирал деньги; его и шайку угощали вином, и он отпускал судно в путь. На караваны судов никогда не нападал. Грабил также проезжающих по Тушнинской дороге. Долгое время разбойничал Костычев, наконец был пойман сенгилеевским городничим Касторским, у своей любовницы, в Бектяшинском лесу (теперь его нет), у жены полесовщика.
Городничий сделал из крестьян соседних с городом деревень облаву на Костычева и подкупил его любовницу, которая и выдала его, сообщив городничему о том, когда Костычев будет один, без шайки, у нее ночевать.
Костычев, окруженный со всех сторон народом, и убив свою любовницу, долго не сдавался; но видя, что его шайка не является к нему, сдался городничему с тем, чтобы тот не вязал его и прежде всего дал бы ему два стакана хорошего вина.
Касторский сам поднес в окошко Костычеву вина; он его выпил и вышел из караулки к городничему, оба сели в тарантас и поехали в город, а за ними — народ с дубьём. Весь Сенгилей от мала до велика встретил их. Касторский с Костычевым слезли с тарантаса и шли оба пьяные под руку вплоть до полиции.
Костычев был в шелковой красной рубахе и бархатных шароварах, в сапогах с напуском; на голове его была надета кучерская летняя шапка с павлиньим пером, воткнутым и серебряную бляху. Был он, по рассказам, среднего роста, коренастый, русый, с карими глазами, чистым и круглым лицом, с небольшой бородкой и густыми короткими усами. Улыбка была у него приятная, ласковая, глаза веселые.
Грабил он только богатых, а бедных сам награждал деньгами; часто вытаскивал мужикам на дороге увязнувших с возами лошадей. И бедняки говорили, что они Костычева только знают понаслышке, как доброго разбойника; а богачи уверяли, что он похабник и страшный озорник, в доказательство чего приводили пример, что он велел разнагишаться дочери какого-то богатого попа, зимой, встать на карачки; сел на нее верхом, как на лошадь, и будто ехал на ней до Шиловки. Пойманный Костычев в Симбирске был прогнан сквозь шпицрутены на́ смерть.

15. (Аханщиков)
Аха́нщиков (дед рассказчика — П. С. Полуэктова) жил в лесу около Василя́, лет около ста назад; сеял пшеницу и этим кормился. Овец еще держал; и жила с ним одна дочь, такая рослая да здоровая. Она до тридцати лет в мужичьем платье ходила. Время разбойничье было, кругом леса, поневоле за мужика и на работу шла и везде.
В тридцать лет она замуж вышла и плакалась, что робенком к венцу ведут. Вот раз вышел дед в поле, а ходил он всегда без шапки. Все его в округе знали и прозвали Ко́лышком; так Ко́лышком и кликали. Попадаются встречу разбойники:
— Кто идет? Стой!
А дело утром было, на заре.
— Ах, да это ты, Колышек, нам пе́рва встреча! Разве не знаешь что первой встрече, кто бы ни был, голову долой?
— Как, батюшка, не знать? Что же делать-то, рубите! Вот она!
Ну, вот они возьмут (не раз это с ним было) долгий шест, смеряю в его рост, лишнюю-то вершинку отрубят и искрошат шест на ме́лки части, а его пустят.
— Ну, ступай, да вдругорядь не попадайся, а то убьем!
А почему они его не били? Больно он добр был и не корыстен. Бывало, придут, овцу у него зарежут и уйдут — он и не взыскивает. Денег давали ему — не брал.
— Нет, куды мне? Не надо.
Раз и говорят разбойники:
— Эй, Ко́лышек, поди-ка — мы лодку на Суре в песке оставили с медными деньгами. Поди возьми!
— Куды мне, батюшка? Не надо!
Так и не взял, а после целую лодку водой вы́мыло, и кому-то вся казна досталась.
16. Быков
В Казанской губернии, Спасского уезда, в селе Кожа́вка, жил был мужик Быков. Имел себе состояние, дом богатеющий, жил себе в одиночестве, только с женой. Звали его Михайло Павлов. Прожил одиннадцать лет с женой Марфой Сергевной, имел сына Петра. Воспитали до семнадцати лет — он бросил отца, пошел в город Спасск, нанялся к купцу в работники и жил честно. Три месяца ничего никто за ним не замечал. Пришел к нему товарищ Роман.
— Послушай, Петруха, пойдем со мной!
— Куды?
— Я вещь нашел.
Роман повел его на исток; на истоке небольшой мост, под мостом — сундук со всеми вещами: рубашки, холсты и две тысячи рублей. Петруха, не зная ничего, испугался и говорит:
— Надо объявить.
Роман не советовал:
— На нас, — говорит, — хватит!
Забрали деньги, сундук разбили, и после того Петруха Быков начал пьянствовать и пошаливать. Бросил он ходить по работникам, начал лошадей воровать, по клетям лазить, а потом отправился в лес. Не имел себе товарищей. Начал разбойничать, убивать людей, грабить на дорогах, разбивать возки разнощиков и разбойничал он в Кожа́вском лесу тридцать один год. Своих не трогал. В одно время вздумалось ему, что «я сколько людей убил, а не знаю как робенок в чреве лежит!» Пошел на дорогу, попадается на первой встрече родная сестра брюхата.
— Ты, сестра, перва встреча! Не спущу тебе!
Взял, подвесил ее, разрезал ей брюхо, не поспел взглянуть, а выпал робенок. Только ахнул, что не видал как, а бабу сгубил! Пошел дальше, идут двое шерстобитов по лугам. Он сказал им:
— Куда идете?
— Шерсть бить.
— Подходи!
Подошли они к стогу.
— Скидайте рубахи и портки! Привязывайте лучки к стогу! Начинайте бить!
И до тех пор около стогу мучал, что сил ихних не хватает. Весь стог без малого избили. Видит Быков, что с них не только пот, а и кровь выступает, крикнул:
— Довольно, спасибо вам! Нате пять рублей за работу!
Стал так Быков шалить, что одни бабы в поле боялись работать: пугает; хлеб убирает, скидает одёжу, на огне жжет. Вознегодовали все окольные деревни, как бы его изловить? Собралось несколько деревень в город Спасск, объявили исправнику, что надо поймать Быкова. Тот приказал поймать. Сделали облаву, разослали лазутчиков подглядывать за ним. Пошли по Кожавскому лесу кругом, но он сметил и ушел в окольный лес. Нельзя его было тут поймать. Один из Измерских татар видел его в окольном лесу, приехал к исправнику: так и так. Потревожили всеё облаву в тот лес. А он спал под кизилевым кустом. Шли, гайкали, дошли до куста. Быков услыхал, что народ крутом, вскочил и хотел убежать, но не тут-то было. Хотел сделать упорство на народ, пробиться, да нельзя: много очень народу. Ударил свой нож в землю по самый черен, и тут его забрали; представили в Спасский город, посадили в острог. Вздумал Быков убежать, разломал печку, выбрал пол и пролез в коридор, подошел к стене оградной, посмотрел на нее, а часовой увидал человека, закричал дурным голосом — выскочил караул, сделали тревогу. Видят: печь разломана. Всю ночь он был под караулом, на другой день решенье вышло отослать его в Казань. Повезли с двумя казаками, сабли наголо! Через несколько время вышло решенье прогнать скрозь строя пятисотельного полка. С трех раз палач убил его, а солдаты только строем стояли, караулили. Мертвого все-таки провезли, и стоми́ли,[20] отобрали его шкелет и поставили в приводный упокой, в зверёвище. В один праздник пришла губернаторская дочь посмотреть зверей, отворила дверь в покой, а в ней сидит Быков с шашкой. Она наступила ногой на доску, под котору была подведена пружина, он вдруг и вскочил со стула. Перепугалась девица и тут же кончилась. Отменили после того эту доску, чтобы Быков не соскакивал.

17. (О поимке разбойников)
Раз из Рыбинска на пробеге шло бурлаков человек семьдесят, и с ними офицер с денщиком сел. Вот плывут мимо Жегулей и остановились у берега. Офицер взял ружье:
— Пойду, — говорит, — уток поищу!
Только сошел, вдруг из-за кустов и выходят пятеро разбойников.
— Стой! — кричат.
У бурлаков и душа в пятки ушла от страха, а офицер и говорит:
— Как стой! Да смеете ли, — говорит, — вы это говорить? Вот я вас!
Прицелился в переднего из ружья, а тот тоже целится. Офицер выпалил — тот и свалился; остальные — ну, бежать. Офицер-то кричит:
— Вяжите его!
Бурлаки сбежали с судна, смотрят, а он разбойнику мелкой дробью всю рожу изгадил и ружье-то у разбойника без замка (с меша́лкой пугать-то выходил). Не будь офицера, по рублю бы отдали ему, мошеннику, ну, а тут, как связали — в Самару представили.

18. Про Никитушку Ломова
На Волге, в тридцатых годах, ходил силач-бурлак, Никитушка Ломов; родился он в Пензенской губернии. Хозяева судов дорожили его страшной силой: работал он за четверых и получал паек тоже за четверых. Про силу его на Волге рассказывают чудеса; памятен он и на Каспийском море. Плыл он раз по этому морю и ночью выпало ему быть вахтенным на хозяйском судне. Кругом пошаливали трухменцы и частенько грабили русских: надо было держать ухо востро́. Товарищи уснули; ходит Ломов по палубе и посматривает; вдруг видит лодку с трухменцами, человек с двадцать. Он подпустил их вплоть; трухменцы полезли из лодки на борт, а Ломов тем временем, не будя товарищей, распорядился по-своему: взял шест, в руку толщиной, и ждет. Как только показалось с десяток трухменских голов, он размахнулся вдоль борта и смел их в воду. Другие полезли — то-же. Те, что, в лодке остались, пошли наутёк, но и их Ломов в покое не оставил: взял небольшой запасной якорь с кормы да в лодку и кинул. Якорь был пудов пятнадцать; лодка с трухменцами потонула. Утром на судне проснулись, он им все и рассказал.
— Что же ты нас не разбудил?
— Да чего, — говорит, — будить-то? Я сам с ними управился.
В другой раз взъехал он где-то на постоялый двор, а после него обозчики нагрянули. Ему пора выезжать с двора, а те возов перед воротами наставили — ходу нет.
Пустите, братцы, — говорит Ломов, — я раньше вас приехал, мне пора. Впрягите лошадей и отодвиньте воза!
— Станем мы, — говорят возчики, — для тебя лошадей впрягать! Подождешь!
Никитушка Ломов видит, что словами ничего не поделаешь; подошел к воротам, взял подворотню и давай ей возы раскидывать во все стороны. Раскидал и выехал.
С одним купцом на Волге он хорошую шутку сыграл. Идет как-то берегом, подходит к городу (уездному). Стоит город на высокой горе, а внизу пристань. Вот идет он и видит: мужики около чего-то возятся.
— Чего вы, братцы, делаете?
— Да вот такой-то купец нанял нас якорь вытащить.
— За много ли нанялись?
— Да всего за три рубля.
— Дайте-ка, я вам помогу.
Подошел, раза три качнул (а якорь не меньше как в двадцать пять пудов) и выворотил якорь с землей вместе. Мужики подивились такой силе. Бежит с горы купец, начал на Ломова и на мужиков кричать.
— Ты зачем, — говорит, — им помогал? Я тебя рядил?
Вынул вместо трех рублей один рубль и отдал мужикам. Те чуть не плачут.
— Будет, — говорит, — с вас!
Сам ушел домой. Ломов и говорит:
— Не печальтесь! Я с ним сыграю штуку; только после как деньги получите водки мне штоф поставьте.
Взял якорь на плечо и попер его в гору. Навстречу баба с ведрами попалась (дело было к вечеру), увидала она Ломова, думала, что сам нечистый идет, вскрикнула и упала за́мертво. Ломов взошел на гору, подошел к купцову дому и повесил якорь на ворота. Вернулся к мужикам и говорит:
— Ну, братцы, теперь он и тремя рублями не отделается; снимать-то вы же будете! Смотрите, дешево не берите!
Мужики его поблагодарили и после большие деньги взяли с купца.
На Волге, бывало, Ломов шутки с бурлаками шутил.
— Ну, братцы, кто меня перегонит? Идет на полштоф?
— Идет.
— Я побегу бечевой, под каждую руку по девятипудовому Тсулю возьму, а вы бегите порожние!
Ударятся бежать и всегда Ломов выигрывал.

19–22. Про постоялые дворы
Взъехал мужик на постоялый двор, на шестеро́м, спросил поесть, потом поужинал; съел много: один за четверых, стал рассчитываться. Рассчитался. Встал в известную пору ехать.
У старика хозяина трое сыновей, и стали они совещаться между себя:
— Выпустим, — говорят, — его из деревни, да укокошим!
Отпустили его верст на пять, нагоняют. Подъехали.
— Стой!
— Чего стоять-то? Я рассчитался с вами.
— Стой, говорят тебе!
Один сошел да цоп его по спине дубиной.
— Да вы шутите, — говорит, — что ли?
Слез да всех троих дубиной и уложил, а старику (он с ними же был) и говорит:
— А тебя и бить не стоит. Никогда, — говорит, — на одного не нападай, смотри!
Выволок его в лес, подвел к дереву, собрал все волосы в пучок, да к нагнутой березе и привязал; потом взял ножичек, подрезал около волос всю кожу и выпустил ветку из рук. Старику все с головы-то и сняло напрочь. После, долго спустя, проезжающие увидали этого старика: сидит вовсе без волос.
— Что, — спрашивают, — это?
Он и покаялся в грехе.
— Проучили, — говорит.

Взъехала на постоялый двор барыня с своим кучером, а кучер здоровый такой; а хозяин-то с сыновьями разбойничал. Ворота за ними заперли, и слышит барыня, что они промеж себя переговариваются. Говорит барыня кучеру:
— Я, — говорит, — в повозке лучше лягу.
— Нет, — тот ей говорит, — не бойтесь! В повозке я лягу, а вы ложитесь в избе.
Лег он в повозку; разбойники это видели. А он в нее наложил одной одёжи, а сам под повозку залез, ждет. Подошел ночью один разбойник с ножом и ну в одёжу тыкать, а кучер выскочил из-под повозки да как свиснул его шишкой от безмена, у того и дух вон.
Снял с разбойника че́рес (пояс), все деньги оттуда вынул, а самого за поленницу дров засунул и спать лег. Утром хозяин ходит да посвистывает:
— Жучка, жучка!
— Что, хозяин, собачку что ли потерял?
— Да! Да собака-то недорога, а ошейник дорог.
И стал после того кучер и с деньгами, да и разбойника-то убил. Весной его только за поленницей нашли. Поутру встала барыня и уехала целёхонька; а убили бы его, и ей бы живой не быть.

Раз один торговец остановился в деревне, в крайней избенке переночевать, и слышит вечером на дворе разговоры (соседи говорят хозяину):
— Какой ты счастливец! Какого молодца-то залучил!
А вот-то он и отвечает им:
— Ах вы, с….. дети, да остановись он у вас, я бы о́цепом и лошадей-то из-под навеса перетаскал, а теперь суньтесь-ка ко мне! Он у меня остановился — я ничего не возьму, и вам тронуть не дам!
Торговец, слыша эти речи, поставил вору полуштоф, а тот и говорит ему:
— Не бойся, все в сохранности будет: своих гостей мы не трогаем и другим в обиду не даем.

Одно село все было воровское; подо всем селом крытые ходы были прорыты. В одном конце коня укра́дут, смотришь — они в другом. Вот раз в одной избе проезжую семью и стали хозяева резать. Всех старших перерезали, одна девочка осталась. Прибежала она к попу (к кому же больше?) и говорит:
— Батюшка, у нас всех зарезали!
— Где? — говорит.
— Да вон в той избе, где огонек-то светится.
Поп пошел, подошел к окошку, постучал и говорит:
— Эй, Федор, чтой-то вы свиней-то колете, а поросят распуска́те? На те вот!

23–25. Про клады
Портной один на краю города, у реки Камы жил; вода под самые стены подходила. Были у него работники. Вот раз идет он по базару и попадается ему чувашенин.
— Слушай, — говорит, — у тебя, портной, в доме клад есть.
Тот смеется.
— Где это?
— Да в хлеве, как войдешь так направо, в углу, к реке.
— Врешь ты, — говорит, — все, старый хрыч! Какой у меня клад?
— Нет, не вру. Отрой его — богат будешь!
— Ну, — говорит, — тебя! Вот выдумал! — и пошел домой.
— Ну, коли не хочешь, как хочешь. После каяться будешь, станешь меня искать. — И пропал из виду.
Дома портной и раздумался:
— А что не попытать? Дай, норою.
Пошел искать этого чувашенина; нашел. Тот согласился.
— Только с условием, — говорит, — с рабочими поделись; не поделишься — не дастся, и если в мысль тебе придет не делиться, клад уйдет, когда копать будешь.
— Хорошо.
— Достань икону, три свечки и заступ, а работника одного рыть заставь.
Вот пришел портной домой, одного работника оставил на ночь дома. Праздник был, все гулять ушли, он ему и говорит:
— Останься, ты мне понадобишься; не ходи нынче гулять. Будем клад рыть.
— Ладно.
Пришел ночью чувашенин, пошли в хлев, икону поставили, свечи зажгли. Работник с хозяином роют яму в углу, а чувашенин молитвы читает заговорные, чтобы клад остановить. Только портной роет и думает:
— Что это я, неужто своим добром с работником буду делиться? Чай на моем дворе-то, а не на его?
Как подумал про это, поднялся шум, икону за́ дверь выкинуло, свечки потухли, и загудел клад, в землю пошел. Стало темно, и давай этого портного по земле возить; возит да возит (нечистая сила). Чувашенин говорит работнику:
— Кинься на него! Упади!
Тот упал на хозяина: их двоих стало из угла в угол таскать. Насилу знахарь остановил заговорною молитвой. Клад ушел, а чувашенин после и говорит портному:
— Вот не хотел поделиться, он и не дался тебе; а теперь в этом доме тебе не житье: нечистая сила тебе в нем не даст — все растащит.
Портной видит, что плохо дело, взял да от реки и переселился выше, в другое место и опять, как был бедный, таким же и остался. Не умел взять.

Недалеко от Тагая (Симбирская губ.) мужик раз лошадь искал. Шел, шел, доходит до крутой горы. Видит: в ней дверь; он вошел. В первой комнате все лодки с золотом; пошел дальше (а комнат много), в последней комнате стол накрыт, а за ним сидит немая девица. На столе — вино и закуска. Вот он подошел, взял золотую чарку, налил вина и выпил; кубок — за пазуху и во все места золота из лодок насыпал. Выходит, а над дверями серебряные наборные уздечки висят. Он взял одну; как только вышел, напал на него конный народ, в роде казаков, избили его и отняли деньги. Уцелел один кубок да несколько золотых. Принес он кубок к таганскому попу и рассказал все. На кубке был вензель Петров и на деньгах тоже. После все это у судейских пропало.

Две хлебницы рыли по на́слуху, недалеко от Конной слободы, на валу́. Когда эти хлебницы уже вырыли кинжал и пистолет, вдруг услыхали, что по горе, от храма Иоанна Предтечи пошел сильный гул. Было это около полудня, летом. Взглянули они по направлению гула и увидали тройку лихих коней, которая скакала во весь дух с горы и быстро, с треском и шумом выехала из Конной слободы на большую московскую дорогу. Тройкой правил красивый кучер средних лет, одетый в черную бархатную безрукавку, в бархатных штанах, в поярковой шляпе с красными лентами. С ним рядом на козлах сидел красавец-казачек, а в само́й коляске — важный барин. Выехала тройка на дорогу, остановилась; барин слез с коляски, казачек спрыгнул с козел и пошел вдоль дороги в присядку плясать; барин заложил руки назад, склонил голову и пошел впереди лошадей, а кучер шагом поехал за ним. Казачек так лихо, так чудно плясал, что хлебницы на него засмотрелись, да еще думали в это время и о том, как бы о себе не дать барину подозрения к тому, что они роют деньги, и чтоб он из любопытства их не спросил. Лишь тройка поровнялась с ними, они увидали, что из реки Свияги вылез страшного роста солдат, подошел к казачку, схватил его на руки и понес в омут, под водяную мельницу. Барин сел на лошадей; кучер ударил по всем по трем возжами, гаркнул на них и с по́свистом молодецким тройка полетела вдоль дороги столбовой, только пыль взвилась за нею столбом!
Солдат дошел с казачком до омута, бросился туда и пропал. Это видение так испугало кладоискательниц, что они перестали рыть клад и почувствовали, что сердца у них замирают, руки и ноги дрожат; они отправились домой, однако яму завалили снова и рассудили так, что это им клад давался, да не сумели они его взять, подойти к нему с молитвой и дотронуться.
После этого нашли они одного начётчика-чернокнижника, который по черной книге им прочитал, чтоб они отправились этот клад рыть на Пасху, между заутреней и обедней, и взяли с собой по яичку, и кто бы с ними на валу не встретился, тотчас же похристосовались. Они испекли себе по три яичка, окрасили их и положили в подоткнутые передники, чтоб им скорее можно было похристосоваться. Пришли на вал, начали рыть клад, и спустя короткое время, заступом стали задевать за чугунную доску.

И пошел от Баратаевки гул, зык, рев такой, что земля под ним задрожала!.. Услыхали они страшный крик, и видят — по валу идет к ним медведь не медведь, человек не человек, а сами не могут понять что за чудовище. По одежде будто солдат! Глазищи — как плошки; так и прядают, как свечи; рот до ушей, нос кривой, как чекушка, ручищи — что твои грабли; рыло все на сторону скошено… Идет это чудовище, кривляется на разные манеры и ревет так, что земля стонет и гудит. Вот они встали рядом, оперлись на заступы, припасли яички и думают:
— Только подойдет этот клад, мы ту же секунду с ним и похристосуемся.
Чудовище медленно подошло, да как топнет, да рявкнет:
— Вот я вас, шкуры барабанные! Так тут-то вы ребятишек зарывате!
Поднял над ними престрашный кулачище; они испугались, бросились от него бежать что есть духу, а чудовище все топало да кричало:
— Вот я вас, шкуры эдакие!
Бежали они до паперти храма Иоанна Предтечи; тут без памяти и упали. Их добрые люди отпрыскали водой и привели в чувство, думая, что с усердными христианами случился обморок в храме. Когда те опомнились, пришли домой, чернокнижник сказал им, что они уж больше не найдут этого клада, что он ушел в землю, и что узнал он об этом по гулу, который раздавался по большой дороге.

26. Про Лешего и Водяного
В одном лесу глухое озеро было. В озере Водяной жил, а в лесу Леший, и жили они дружно, с уговором друг друга не трогать. Леший выходил к озеру с Водяным разговоры разговаривать; вдруг лиха беда попутала: раз вышел из лесу медведь и давай из озера воду пить. Сом увидал, да в рыло ему и вцепился. Медведь вытащил сома на берег, загрыз его и сам помер.
С той поры Леший раздружился с Водяным и перевел лес выше в гору, а озеро в степи осталось.

27. Про Лешего
Нашински мужики не однова́ в лесу Лешего видали, как в ночное ездили. Он месячные ночи больно любит: сидит, старик старый, на пеньке, лапти поковыриват, да на месяц поглядыват. Как месяц за тучку забежит, темно ему, знашь, — он поднимет голову-то, да глухо таково: «Свети, светило», говорит.

28. Мельник-знахарь
В селе Новиковке мельник жил. Петром Васильичем звали. Такой дока был, страсть! Был он отдан господами в ученье к одному барину, а барин в Жегулевских горах жил, на Волге. Не русские у него все там были мастера; у них Петр все дела и перенял. После, как пять лет проучился, стал он у своего барина дела делать: четыре водяные мельницы держал, подрядную рожь на них молол; когда подряда нет, мирщину молол. Барин любил мельника и напрасно не обижал, и на прикащиков-идолов не менял. И Петр Васильич их не любил: бывало, если не в духе, так на мельницу к нему прикащик и не ходи.
Раз железным ломом чуть одного не убил, да увернулся. Лет с десяток он мельницами заведывал, потом и помер. Мало таких мастеров было. Лучше его муки во всей округе не было. А почему так? У него было четыре моргулю́гки, да в Жегулях спрыг-траву достал. Достал он себе в работники моргулюток потому, что без них ни одну мельницу не удержишь, да и времена были барские, страшные, а мельниц-то четыре.
Раз один прикащик взял да и нажаловался барину, что он мошенничает, муку продает; а барин-то сам приехать не мог и приказал прикащику распорядиться на счет мельника. Он, плутский сын, приехал в село, взял дворовых, вошел к Петру-то Васильичу в дом и заковал его в железы.
— Это за что? — спрашивает мельник. — Разве я душегуб?
— Барин, — говорит, — приказал в солдаты тебя везти, а железы для того, чтобы ты не убежал.
— Так не́што ты думаешь они меня удержат, коли я не захочу? Они у тебя, говорит, пересохли!
Как махнет ногами-то, они и улетели вверх.
— Вот тебе, — говорит, — и железы! Для тебя они железы, а для меня тлен. А хочешь, если по-дружески, так не куй меня и вези. Я не сбегу. Прямо некованого вези, а то ты меня и не увидишь, коли закуешь!
Прикащик-то и смяк. Мужики пришли к Петру Васильичу прощаться. Сидит Петруха веселый.
— Слышали мы, — говорят мужики, — про твое несчастье.
— Нет, — говорит, — братцы, у меня несчастья.
— В город, слышно, тебя в солдаты везут?
— Нет, — говорит, — не в солдаты, а городского калача поесть да водки городской попить; потом я опять здесь буду у барина мельницы делать и вам работёшки дам.
Мужики молчат, да на него глядят. Полна изба народу.
— Идол-то вот, — говорит, — не велел меня из избы выпущать; боится, что сбегу, да я своих меньших братьев пошлю! Ступайте, — говорит, — эй, вы! Столкните ле́жень со свай-то! Там не сладят: он крепко положен на шипы-то…
Мужики смотрят, диву даются с кем это он. А Петруха опять:
— Ну! ребята, идите, пособите идолу-то спустить нижние-то мельницы! Верхнюю-то перекувыркнуло, да как ловко! Пущай трудно было: земля-то больно мёрзла, а другую-то завтра; третью, когда я на половине дороги буду, а четвертую, как в город приеду.
Мужики постояли, потом простились и по домам пошли.
— Не прощайтесь: свидимся скоро! — говорит.
Идут; а прикащик навстречу верхом едет.
— Братцы, — говорит, — помогите! У меня верхнюю мельницу прорвало… Опустим вершники у низовых-то! Поскорей!
Подошли к мельнице — ее совсем переворотило. На заре, как мельника увезли, другую прорвало, к обеду — третью, а на третий день — четвертую. Прикащик хлеба лишился.
— Погиб, — говорит.
Как две-то сломало, к барину послал. Барин когда приехал, ни одной мельницы уж не было. Горячий был барин.
— Где Петряй?
— Его, — ему докладывают, — в солдаты увезли.
Он как ногами затопает…
— Кто распорядился?
Да на прикащика-то с кулаками, а не ударил, потому тот тоже из благородных. Так он кулаки-то все об стол оббил.
— Живо тройку!
И поехал в город за Петром, мельником. Приходит на его фатеру.
— Что ты, — говорит, — Петряй, меня покинуть хочешь?
— Нет, барин, это видно вы хотите, а я нет. Уж видно божья воля на то! Уж видно царю надо послужить; вам довольно послужил.
— Нет, Петряй, поедем со мной.
— Нет уж, барин, я по вашему желанью видно здесь останусь. Трудно в лодчёнке, барин, отчаливать от берегу: страшна середина, а когда переедешь реку, то все равно: земля-то что там, что здесь, и трава-то так же растет.
— Будет ломаться, Петряй, поедем!
— Нет, барин, оттолкнулся в лодке, без весел, так водой унесет, не догонишь. Иду охотой служить! Простимся!
Барин и так и сяк; не едет. На хитрости барин пустился: подговорил молодцев с ним гулять, денег на это дал. Они его напоили да и опохмеляли все время, покуда приемка-то шла, а как кончилась, барин и говорит:
— Будет, по́пил городского-то вина! Поедем работать!
— Нет, барин, я в солдаты иду!
— А коли, — говорит, — гордыбачить будешь, так я тебя в полиции выпороть велю!
Ну, он розог-то испугался и поехал. В один месяц Петр Васильич ему три мельницы справил, а одна до весны осталась. Спрыг-трава ему да моргулютки помогали.
Достал он спрыг-траву в Жегулевских горах, на самой на вершинке. Там озера есть, и в этих озерах нет ни одного червячка, и от ветра озера никогда не колышатся. Вода в них словно стекло, и скрозь нее все видно, что есть на дне. Только такое озеро не скоро найдешь; иные его ищут по месяцу, да не находят. Спрыг-трава там и растет. Цветет спрыг-трава на Ивана Купала, в полно́чь. В эту ночь все дно озера видно: жемчуг, словно жар горит, индо в небе от него зарево стоит. Серебро, золото и каралы на дне — все есть. Каралы и черные и красные, и все вы́чужены. Итти за спрыг-травой, надо молитву особую знать, а то в клочки разорвут; и итти надо не оглядываясь, а то от черных не сдобровать. Доставать спрыг-траву больно мудрено, и при этом страх большой. Рассказывал Петр Васильич про себя, как доставал, так:
— Накануне Купалина дня вымылся я, говорит, в бане, как можно чище, надел чистую рубаху и штаны, и ничего не ел, а молился богу. Заснули все в деревне, я и пошел к тому месту, где озеро. Пришел туда раньше полуночи, встал и стою, дожидаюсь, слушаю что будет. Вот слышу шум по лесу страшный, какие-то звери дерутся; в другом месте стук, чего-то делают, потом словно земля вся начинает кончаться. Стою я дрожкой дрожу, а сам все молитву творю. Волосы дыбом у меня, и я ни жив, ни мертв. Вот слышу страшный шум и треск по́ лесу; потом вдруг набежал ви́хорь страшный и все осветилось. Пришла полночь, папоротник расцвел. Я схватил несколько цветов с правой стороны, завернул их в беленький платочек, повернулся на правую сторону и пошел. Откуда ни возьмись два жандарма, на меня саблями так и машут.
— Брось, — кричат, — а то голову долой!
И за руки хотят схватить, а не хватают. А траву-то я завернул, да — под правую мышку. Долго они приставали, приказывали бросить и пропали. Потом начальники явились, с светлыми шапками, с саблями тоже, и начали опять приставать:
— Брось, — говорят, — а то голову долой сейчас снесем!
Долго стращали, после тоже бросили. А я все иду. Вижу вдруг около меня война началась; такая пошла, что резня беда! Из пушек так и палят, раненые валятся и кричат мне:
— Из-за тебя проливаем кровь! Брось!
Потом и это пропало. Вижу — зажгли нашу деревню. Горит она передо мной, и вот вижу свой дом, как он горит, и семья моя горит там, а черные-то все кричат:
— Не пускай! Не пускай его-то родню! Пускай горят там! Он не бросат!
И вот запылала передо мной вся деревня. Ветер так и воет, бревна подкидывает кверху и уносит далеко, а я иду среди самого пожара. Все мне кричат и умоляют бросить эту траву.
— Мы, — говорит, — через нее погибаем!
Вдруг около меня проваливается земля, а я остаюсь на одной кочке, а то все водой заливает. Как шагнешь, так и в воде, а остановиться нельзя, не то как раз разорвут. Буря на воде страшная: волны эти так и хлещут выше избы, а потом снег пошел с бурей, кочка качается… Вдруг пропало все, и появилась высокая каменная стена, и в ней воткнуты копья, прямо перед глазами, того гляди выколют. Потом и это пропало; показалось, будто солнце падает на землю, и земля горит страшным пламенем, народ тоже горит и стонет, кричит и просит бросить спрыг-траву.
— А то, — говорит, — измаялись наши душеньки.
Наконец все сгорело, ничего не видать, только одно пламя, да я на кочке стою и все иду. Огонь этот всего дольше продолжался; потом явилась целая толпа монахов, встала передо мной, и просит кинуть цветок папоротника; так вот и увещают не губить свою душу в таком грехе. Как только я дошел до своих ворот и взялся за скобу, все пропало, а как вошел во двор, так опять ко мне пристали.
— Не отстанем, — говорят, — если не бросишь!
Представили мне ад, где мучаются грешники, и где я себе место приготовил. Ужась как там маются, а мне всех хуже. Они и говорят:
— Если бросишь, то вот тебе место в раю и такая хорошая жизнь, что сказать нельзя.
Смотрю я: лес зеленый, пташки на разные голоса поют, заслушаешься. Я было уж бросить хотел, да петухи спели, они и провалились. Очутился я в избе весь вымоченный: роса в ту ночь была сильная, а я за кусты задевал, шел.
С разрыв-травой больно хорошо ходить: в ночь и в полночь ничего не случится, везде ходи. Идет, бывало, Петр Васильич на мельницу, а ключи у прикащиков; подойдет с этой травой: и замок сам отпирается. Моргулюток-то этих спрыг-трава служить заставляет хорошо. Если что́ сломать на мельнице надо, они сейчас сломают. Мельник этот и лекарем был: бесов выгонял, и брал за это мало. Верст за триста привозили к нему. Когда к нему бесноватого, бывало, везли, так бес-то за пятнадцать верст чуял Петра Васильича и кричал:
— Зачем вы меня везете к этому подлецу?
Ругательски его ругал; а как, бывало, выйдет Петр Васильич, он и присмиреет, и Петр-то Васильич нахмурится, да такой сердитый сделается — беда. Возьмет его за руку и скажет:
— Смирно! Тихо! Пойдем ко мне в гости: у меня есть твои товарищи.
Введет бесноватого к себе в избу, положит на конник, и лежит бесноватый у него несколько суток, глядя по болезни. Петр Васильич в это время не пил и не ел, все сердитый ходил. Начнет беса из больного выгонять, а тот кричит:
— Куды я пойду?
А он сказыват куды итти, где поселиться и что́ сделать. Места, куда он черного посылает, больному не известны: в другую совсем сторону.
В это время Петр Васильич всех из избы выгонял. Когда бес выходил, больной потел, а Петр Васильич его еще теплее одевал, пока бес из него не выйдет. После того больной долго спал. Когда просыпался, Петр Васильич ему чаю пить давал, потом есть. После этого больному становилось легче; он некоторое время оставался у Петра Васильича, а потом уезжал домой. Брал Петр Васильич всегда половину того, что ему давали, а много никогда не брал. При прощаньи наказывал беречи себя, не ходить раздевши и без молитвы не выходить за ворота, быть осторожным в пище, не показанного не есть.
— А ежели ты не убережешься и опять захвораешь, так опять приезжай, только не той дорогой, как в первый раз, а другой.
Домой тоже должен больной ехать другой дорогой, а не той, которой приехал, не то бес может воротиться и опять вселиться в него. Как больного, бывало, проводит, после того дни четыре пьянствует.
Век свой Петр Васильич не спокойно прожил: с моргулютками тяжело ладить. Они знали свое дело и сильно его донимали, особливо пьяного, да когда с бабенками захороводится. Они ему и спать не давали. Давай да давай им работы! В самую полночь всего сильнее донимали, будили его и приставали всячески. Посылал он их песок считать, пеньки в лесах (самое трудное для беса: иной пенек ведь с молитвой рублен; дойдет до него бес и со счету собьется, опять начнет считать), воду в море перемеривать или ветряную мельницу строить (у ней ведь крылья накрест). Станут у мельницы вершину класть — у них все и разлетится.
— Хорошо, — говаривал Петр Васильич, — с моргулютками жить, только надо быть хитрым и шустрым, а то как раз головы не снесешь.
Долго бы он еще прожил, кабы не ведьма Матрёшка: сгубила его беднягу ни за́ што, без соли съела, плутская дочь, да и самой бог переду-то не дал: в Сибирь пошла. Солдатка она была и такая красавица, что страсть, а Петр Васильич и приволокнись за ней. Она поддалась, да у пьяного-то и унесла спрыг-траву. Тут его моргулютки и доняли. Через четыре года Петр Васильич весь высох, как лучина стал. Так и помер бедняга: больно уж они ему по ночам спать не давали.

29. Марина-Русалка
Лет со сто тому назад, в Симбирске, жил под горой, у Спаса, Иван Курчавый, с отцом и с матерью. Церковь Спаса старинная была и вся расписана по стенам разными житиями. На одном образе написана была царица-красавица: румяная да такая полная, и едет она на лебедях: одной рукой правит, а в другой держит ключи. Иван Курчавый часто говаривал в хороводе:
— Мне невесту нужно эдаку, как писана царица на лебедях.
А он был красавец, пи́саный глазо́к! Голова вся была курчава, а эти волосы, как кольца золотые вились. Белый, румяный, полный, кровь с молоком: одно слово молодец! А уж бандурист был какой — заслушаешься! Плясовую заиграет — не удержишься! Весь, бывало, хоровод распотешит. А бывало девушки да молодые вдовушки сберутся весной в хоровод в белых кисейных рукавах да в станду́плевых или штофных сарафанах, как лазорев и маков цвет, любо посмотреть!
Недалеко от Курчавого жила молодая вдова Марина. Год, почитай, она жила с мужем и, поговаривали, извела его. Суровая была, а красивая: сдобная, чернобровая, черноглазая; лицо, что твой фарфор, а румянец во всю щеку так и играл, и играл; взгляд был пронзительный. Она в хоровод не ходила, а редко, в праздник, после обеда; выдет за ворота, сядет на заваленку, да издали на хоровод и любуется, да все и смотрит, и смотрит на Ивана Курчавого, и теперича если заметит, что котора девушка ему приглянется, так вся и покраснеет, до ушей разгорится, а глазами так на него взмахнет — кажись готова съесть. Такой-то у ней был взгляд: насквозь человека пронзит.
Иван Курчавый, бывало, даже побледнеет. Диковинное дело, какие глаза бывают! От иного глазу захворать даже можно. У меня баушка хорошо от глазу лечила: почерпнет с молитвой ковшичек чистой воды, положит туда из горнушки холодных углей, прочита́т раза три «Богородицу», да нечаянно и спрыснет водой, чтобы у тебя от испугу мурашки по телу-то забегали — ну, и легче от этого. И глаз глазу рознь бывает: от сильного глаза холодные угли, как горячие, шипят.
У нас была золовка Овдотья, так та теленка сглазила: на другой же день околел. И глазища у ней были серы, ехидны эдакие. Ну, вот видишь ли ты, должно быть, Марина этого Ивана Курчавого любила и ревновала ко всякой девке и бабе, а говорят, лютущий был Курчавый до баб, и поговаривали, что он к ней, Марине, по ночам похаживает и с ней любится.
Это отцу с матерью стало известно, и задумали они сына женить, и нашли они ему невесту хорошего роду и племени, и богатых родителев, девицу красивую, степенную. Только что узнала Марина и начала колдовать, и чего только не делала, по рассказам, так индо у́шеньки вянут. Вынимала она у невесты и след, и на кладбище его хоронила, и на соль-то наговаривала с причитанием: «Боли у раба божия Ивана сердце обо мне так жарко от печали, как соль эта будет гореть в печи». Раскалит печку до́ красна, да туда нао́тмашь и бросит горсть соли; то, слышь, снимет с себя ношну́ рубашку, обмакнет в пиво или вино, выжмет, да помоями-то этими и напоит его. Это все не действовало. Она взяла да из восковой свечи вынула светильню, отрезала ленту коленкору и написала на коленкоре: «Гори сердце у раба божия Ивана обо мне, как эта свечка горит перед тобою, пресвятая богородица!» Да эту свечку-то у Спаса запрестольной божьей матери и поставила. Так эдаким родом она Ивана Курчавого к себе приворожила, что стал он Марину во сне видеть и только ей грезить. Ну, родителям не хотелось ее в невестки себе взять; боялись Марины, али хотели взять за него девицу. Верно что девицу, потому ее всякий муж по свому́ карахтеру может переделать, а вдову не перевернешь, все равно, что упряму лошадь; а у Марины знали, что у ней карахтер крутой был, и она старше была летами Ивана Курчавого и что что красавица — все-таки вдова, а не девка. Поди ты, что эта Марина с Иваном Курчавым наделала! Беды!
На другой день рукобитья приехал он домой от невесты, отпрёг лошадь, поставил в конюшню и вошел к себе в избу. Отец с матерью посмотрели на своего Ивана и с ди́ву дались: бледный, помучнел весь, а глазами так страшно ворочает, словно что потерял да ищет. Спросили его:
— Что с тобою, Ванюшка?
А он как бросится с хохотом из избы в сени за дверь и давай руками-то все шарить. Уж шарил, шарил, побежал в конюшню тоже за дверь, и там давай шарить. Отец с матерью перепугались: видят — дело худо, их Иван сбесился; а он с конюшни бросился на сеновал. Они там его и заперли, вскричали соседей, чтоб им помогли его связать, кабы он чего с собой и с ними не поделал. Тут пришли человек пять соседних извощиков и ломовых, и выездных, кое-как его стащили с сеновала за руки и за ноги, а он бьется, брыкается, удержать не могут и пять человек. Вот так силища была! Не смотря, что извощики парни дюжи — молодец к молодцу, кажись в плечах по сажени будет, а он их так на себе и носит. Кое-как связали возжами руки назад, повалили на спину; один стал держать за голову, другой рукой придавил ему брюхо, а трое стали ноги вязать; как он плечами-то понатужится да ахнет — возжи-то, как нитки, хрустнули!
Не знают, что с ним делать. Случился тут у Курчавых чувашенин (с хлебом к ним приехал), подошел к извощикам да и говорит:
— Надевай, ребя, на него хомут вон с моей-то потной лошади.
Те рты разинули; молчат.
— Надевай знай, надевай! Небось не тронет! Хозяин-отец! Ищи бабу брюхату, вели ей Ваньку держать за хомут! Смирней будет, все пройдет! Над ним гораздо баба шутила; ишь шайтана в него садила!
И случись тут моя матушка, царство ей небесное, из-за калитки смотрела, как Иван Курчавый бесился (а она, слышь, мной была беременна), давай ее упрашивать, чтоб она подержала; ну, баушка и соседки уговорили ее, чтобы она помогла спасти душу христианскую. Обрядили Ивана Курчавого в хомут с шлеей, как лошадь, мать стала держать — не пошелохнулся даже; появилася у рту пена, отерли; стал засыпать и захрапел, а чувашенин все что-то бормотал, и заклинал шайтана. Оставили Ивана в хомуте до утра, и спал он до полудня. Проснулся как угорелый и спрашивает:
— Где я?
Сняли с него хомут, вошел в избу, перекрестился, сел за стол, попросил квасу, напился. Его стали расспрашивать, что с ним случилось; он все и рассказал.
— Еду, — говорит, — от невесты; меня на Завьяловой горе и встретила Марина, и говорит: «Ванюшка, домой что ли едешь?» «Домой», — говорю. «Довези меня, голубчик!» «Садись, довезу». Кое о чем с ней поговорили насчет себя, и я ее привез к себе домой, да за дверь в конюшню и спрятал, чтобы не видал никто, а потом стал Марину искать; и так и сяк — нет, не могу найти… Дальше что со мной было, и не помню.
Ивану Курчавому полегчало, зато Марина заболела. Ударит ее, говорили, чортова немочь, и лежит Марина без языка, вся бледная и простоволосая, а груди на себе руками так и теребит, рубашку в лоскутки изорвет… Билась, билась, да в день свадьбы Ивана Курчавого в Волгу и бросилась. Как сумасшедшая выбежала на берег нагишом, косы распущены — и поплыла на середину, да там на дно и опустилась. Искали и неводом и снастями — не могли найти. После пошли слухи, что Марина оборотилась русалкой, да по вечерам и выходит на берег. Сядет на огру́док, или на конец плота́ и все моет голову, да расчесывает свои косы, а сама смотрит на́ избу, где живет Иван Курчавый с молодой женой; потом вдруг застонет да заохает жалобно, прежалобно и бросится в воду со всего маху. Многие ее видели, даже слышали, как она горько плачет и поет заунывно, тихо — индо за́ сердце берет:
Ах ты, Ванюшка,
Ты мой батюшка!
Ты меня разлюбил!
Ты меня погубил!
Ненаглядный ты мой!
Дорогой ты мой!
Стали про Марину-Русалку поговаривать в городе. И Иван Курчавый слышал, что Марина от любви к нему утопилась в Волге, стала русалкой и живет в страшном омуте, где и в бурю и в тиху погоду вода как в котле кипит, белый вал ходит. Ну, будто бы Марина-Русалка с каким-то седым стариком в этом валу и появляются и лодки опрокидывают. Рыбаки поговаривали, что видели иногда Марину-Русалку на песках, против Симбирска. Плывет кажется лебедь, тихо; выйдет на песок, взмахнет, да ударит крыльями и превратится в красавицу бабу и развалится на песке, как мертвая. Вечерком многих пугала.
А Ивану Курчавому что-то не жилось с молодой женой, хоть и красавица была; да видно душе не мила: начал все тосковать и повадился, в полночь, один-одинешенек на буда́рке ездить к омуту, с гуслями, да играть разны песенки. Сам то заплачет, то засвищет, то как леший захохочет, то затянет заунывную песню, да таким зычным голосом, что она по всей Волге так и разольется:
Иссушила меня молодца
Зла тоска жестокая!
Сокрушила меня молодца
Моя милая, серде́шная,
Моя милая, что задушевная!
Ты возьми, возьми, моя милая,
Меня в Волгу-матушку глубокую,
Обойми меня рукой белою,
Прижми к груди ты близёхонько,
Поцелуй меня малёхонько!
Ну, слышь, Марина-Русалка вынырнет из воды, бросится в лодку к Ивану Курчавому и давай с ним миловаться да обниматься и хохотать, да так страшно! Ездил, ездил Иван Курчавый в полночь на омут, да так и след его простыл; ни его, ни бандуры не нашли, только весла, да лодка у берега. Осталась его молодая жена; стала по муже плакать да тосковать и раз, слышь, он ночью к ней приходил и сказал:
— Не тужи обо мне, женушка! Мне с Мариной жить на дне Волги-матушки весело: меня полюбил Водяной Волно́к; угощат меня разными яствами и питиями, и живет он во дворце изумрудном и все просит ему играть на бандуре. Заиграю — он распляшется, со всеми женами русалками, а как перестану — остановится. Обещался наградить меня на этом свете: отпустить вместе с Мариною, моею полюбовницей. Никому только ты об этом ни-ни, не сказывай!
После этого видения вдова Ивана Курчавого вдруг сделалась при смерти больна, да родным и рассказала, что она свого́ мужа ночью видела. Как рассказала, у ней язык отнялся и тут же дух вон.

30. Пряничная гора
За Волгой, недалеко от границы Симбирской и Самарской губернии, возле слободы Часовни тянутся небольшие горы и в одном месте перерываются овражком. В старые годы, сказывают, на этом месте Пряничная гора была. Шел один великан и захотел ее скусить; взял в рот (а у него зуб-то со щербинкой был), откусил, а щербинкой-то борозду и провел; так она и по сие время осталась.

31. Волга и Кама
Кама с Волгой спорила: не хотела в нее течь. Сначала хотела ее воду отбить; до половины реки отбила, а дальше не смогла. Поднялась Кама на хитрости; уговорилась она с коршуном:
— Ты, коршун, крикни, когда я на той стороне буду, чтобы я слышала; а я под Волгу подроюсь и выйду в другом месте.
— Ладно.
Вот Кама и начала рыться под Волгу. Рылась, рылась, а тем временем коршуна беркут заприметил и погнался за ним. Тот испугался и закричал, как раз над серединой Волги. Кама думала, что уж она на том берегу, выскочила из-под земли и прямо в Волгу попала.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ