Часть II Калимантан, 1969–1970

Глава 4
«Полумавас»

Дома, в Оксфорде, мне оставалось получить ученую степень по зоологии, но, как только я сдам последние экзамены, можно будет начинать подготовку к следующей экспедиции. Мне даже повезло — я получил or Королевского общества стипендию Леверхюльма, которая обеспечила мне еще год наблюдений за орангами в Улу-Сегама.
Целый год в джунглях — это вовсе не то, что временный выезд на три месяца, и в связи с этим возникали совсем другие проблемы. Я решил, что лагерь должен больше походить на дом, чем на обитель отшельника, закаляющего себя лишениями. Это было особенно важно потому, что я должен был прибыть туда незадолго до начала сезона зимних муссонных дождей, когда ливни и холод могут сделать работу в джунглях и тяжелой, и неприятной. Мой лагерь будет прочным и недоступным для тропических дождей, и я решил позволить себе еще и такие предметы роскоши, как походная кровать, противомоскитная сетка и радио, которое донесет до меня вести из внешнего мира. Я также настаивал на выделении средств на подвесной мотор — это значительно облегчит и ускорит наши поездки, особенно по рекам, вздувшимся от зимних ливней.
Ровно через год с того дня, когда я покинул Сегаму после первой своей экспедиции, я снова плыл вверх по реке. Новый сампан резво бежал вперед, подгоняемый небольшим мотором, и, так как Ликад и Тулонг не могли меня сопровождать, у меня были новые спутники: Пингас, молодой холостяк, и Бахат, опытный «речной волк» и отец семерых детей. Мое пребывание в Англии, как полузабытый сон, уже отходило на задний план, и мне стало казаться, что я отсюда и не уезжал.
Галечная отмель в устье реки Боле осталась точь-в-точь такой же, какой она мне запомнилась, но наш первый лагерь уже зарос высокой травой и густым кустарником. Несколько ночей мы провели на берегу, пока мои помощники расчищали участок для постоянного лагеря. Так как я собирался провести здесь долгое время, нужно было устроиться значительно выше уровня паводков. Бахат и Пингас принялись вырубать деревья на опушке леса, расчищая небольшой участок для трех жилых домиков. Бахат собирался привезти сюда жену с семейством, и это была неплохая мысль — наш лагерь станет больше похож на нормальный семейный дом. У нас тогда будет собственный «мини-кампонг» в дебрях Улу. Жена Бахата будет стирать одежду, готовить пищу и следить за порядком в лагере, когда мужчины отправятся на рыбалку или на охоту, а я уйду в лес к своим орангам. Новые палатки, которые я привез с собой, оказались не такими водонепроницаемыми, как мне хотелось бы, а у меня было довольно много дорогих и хрупких приборов, нуждавшихся в защите, так что пришлось послать Бахата обратно в город за листами рифленого железа. Через несколько дней он вернулся вместе со своей женой Шереван и пятью детьми. Он захватил и свою лодку, и обе лодки были нагружены листами железа.
Старший его сын, Дейнал, был слепой, но оказался могучим гребцом и мастером на все руки. Он работал очень охотно, собирал топливо, разводил костер, стирал, плел корзины и вырезал из дерева ручки для ножей. Его младшие братья, Шингит и Латиг, помогли Бахату соорудить крышу, охотно бегая за гвоздями, когда они были нужны. Двое малышей, совсем недавно научившиеся ходить, помогали матери на кухне или плескались и резвились в реке.
Как я в общем-то и ожидал, в первый месяц орангов было маловато. Я обнаружил только трех на северном берегу Сегамы и вторую тройку — на другом берегу. Не говоря уж о бурной радости, которая охватила меня, когда я вновь встретился с орангами после столь долгого отсутствия, в этой новой встрече самым захватывающим был момент, когда я вдруг понял, что вторая из встреченных мной групп не кто иные, как мои старые друзья Маргарет и Мидж! Мидж сильно подрос, но оставался тем же клоуном с пуговичными глазками, каким он мне запомнился, и Маргарет тоже выдали бы ее блестящие, пронзительные глаза, но в этом не было нужды — она встретила меня своими руладами «лорков», которых никто, кроме нее, не издавал.
К моему удивлению, сезон созревания плодов был совсем с похож на прошлогодний. Многие деревья, плодоносившие тогда, в этом году остались пустыми, а другие, совершенно бесплодные, теперь буквально ломились от плодов, так что вся земля под ними была усеяна кожурой. И не только отдельные деревья неожиданно начали плодоносить — я нашел новые и неизвестные мне виды. Поразительно, но плодов мангустанов, рамбутанов, лансиума и мата кучинга не было и в помине, а ведь они были излюбленной пищей орангов в прошлом году. Но если лес в каких-то отношениях и изменился, то в других оставался на удивление неизменным. Тропы, проложенные мной, отлично сохранились. Они совсем не заросли, и надломленные мной молодые деревца так и болтались с совершенно зелеными листьями. Те же упавшие деревья лежали среди лиственной лесной подстилки. От нашего лагеря не осталось никаких следов, но я разглядел почерневшие, еще покрытые листьями остатки гнезд орангов, которые они делали на моих глазах год назад. Но больше всего меня поразил толстый ствол сваленного железного дерева, на котором сохранились шрамы в тех местах, откуда кто-то вырубил широкие лопасти для весел. Щепки валялись на земле в том же порядке, как я их запомнил. Не веря своим глазам, я рассказал о находке Бахагу, а он ответил, что эти щепки пролежали там не один год, а больше двадцати лет. Бахат был одним из тех дусунов, которые бежали от японцев во время оккупации и скрывались в джунглях как раз в этих местах. Из этого самого дерева они вырубили себе весла. Щепки железного дерева были слишком тяжелы, поэтому их не смыли тропические ливни, и так плотны, что не поддались гниению в насыщенной влагой атмосфере. Дусуны умели выбрать отличную древесину для прочных и долговечных весел.
Словно повинуясь внезапному сигналу, орангутаны разом возвратились в низины. Несколько дней о них не было ни слуху ни духу, а в начале ноября сразу несколько небольших групп пришли в наши места с запада. Предводителем первого отряда был великолепный мощный самец, которого я назвал Королем Людовиком. Я шел следом за Людовиком четыре дня, и оба мы большую часть времени провели, укрываясь от дождя: он — под нагроможденными сучьями, а я — под своим брезентовым плащом. Как только дождь немного стихал, Людовик выбирался наружу и подкреплялся крупными желудями литокарпуса, которые он разгрызал с таким оглушительным хрустом, что я слышал его за сотню метров. Людовик проводил много времени в тех местах, которые принадлежали в прошлом году Гарольду, но у него были раздутые щечные валики и более длинная борода, так что я не сомневался, что это другое животное.
Людовик меня невзлюбил и не собирался это скрывать. В первый день он еще немного стеснялся, но на второй с шумом и треском направился прямо ко мне, спускаясь вниз по мере того, как подходил ближе. Я позорно отступил, и это настолько придало ему смелости, что он тут же слез на землю и пустился за мной в погоню. Все последующие встречи были довольно неприятными: он уже знал, что его боятся, и бросался на меня, не раздумывая, а мне не хотелось вызывать его на открытую стычку и приходилось поспешно ретироваться. Такие отношения с объектом наблюдений никуда не годились, и пора было что-то предпринимать.
Я выбрал момент, когда Людовик устроился отдохнуть на удобной, низко расположенной ветке. Самым устрашающим из подручных средств мне показался мой солидный телефотообъектив, и я, размахивая им, как стволом ружья, и напустив на себя самый свирепый и решительный вид, с максимальным шумом и треском устремился прямо на Людовика. Добежав до дерева, я нацелил сверкающий объектив прямо ему в лицо. Напуганный моей невесть откуда взявшейся отвагой, Людовик с достоинством вскарабкался повыше, подозрительно озираясь на мой громадный «глаз». Чтобы закрепить полученное преимущество, я сделал вид, что лезу вслед за ним, и Людовик, уже не на шутку встревоженный, вскарабкался на самый верхний сук. Примерно час после этого Людовик дулся, как напроказивший школьник, получивший нахлобучку. А я тем временем оглядывался с пренебрежительным видом, притворяясь, что мне совершенно неинтересно знаться с таким ничтожеством, как струсивший оранг. Мы каким-то образом пришли к соглашению, что если он не будет слезать на землю и пугать меня, то я со своей стороны перестану докучать ему, карабкаясь на деревья. Когда Людовик отправился в свой вечерний поход на поиски пищи, он больше не обращал на меня никакого внимания, хотя я шел за ним по пятам, и впоследствии всегда держался в моем присутствии с полной непринужденностью. После установления таких мирных отношений было особенно обидно узнать, что он только временный гость в этих местах: на следующий день оранг отправился странствовать дальше — и мне не пришлось больше встретиться с Королем Людовиком.
Плоды на дереве бубок позади моего дома начали созревать, и на эту сладкую приманку клюнул Десмонд, единственный оранг, у которого хватило нахальства забраться прямо в наш лагерь. Как-то поздним вечером Десмонд, красивый молодой самец с длинной золотисто-рыжей шерстью, решил отведать плодов с нашего дерева. Он закончил свой обед через несколько часов после наступления темноты и устроился на ночь в большом гнезде. Я думал использовать эту блестящую возможность для съемок, но Десмонд, не дожидаясь рассвета, ускользнул из лагеря и отправился восвояси. Следующий его налет на нашу территорию кончился форменным сражением. Возвращаясь в лагерь, я услышал неистовый шум: собаки заливались лаем, а оранг отвечал им визгом. Я помчался вперед и увидел Десмонда, попавшего в засаду на стоящем отдельно дереве, вокруг которого с лаем носились собаки. Разъяренный оранг уже начал спускаться к озверевшим собакам, и мне даже страшно было подумать, чем все это могло кончиться, если бы я предоставил им возможность схватиться «врукопашную». Мне вовсе не улыбалась возможность стать свидетелем кровопролития, и я разогнал собак, швыряя в них обломки сучьев. Как только они разбежались, Десмонд воспользовался моментом и, поспешно преодолев открытое место, скрылся в надежной лесной крепости. Но все это свидетельствует о необычайной привлекательности плодов бубока, потому что не прошло и нескольких часов, как Десмонд, несмотря на все пережитое, снова вернулся в лагерь и принялся самозабвенно уплетать плоды того же дерева. На этот раз он обобрал все оставшиеся соблазнительные плоды подчистую и таким образом избавился от искушения нанести нам еще один опасный визит.
Многим крупным самцам, как и Десмонду, приходилось иногда спускаться и передвигаться по земле, но самки и молодые оранги могли жить на деревьях, буквально не ступая на землю. Однако и эти более легкие животные временами отваживались спускаться вниз, чтобы добраться до богатой минеральными солями почвы. На северной границе моего участка возвышался известняковый утес, под прикрытием которого скопилась куча твердой красноватой земли. Эта почва носила на себе следы — несомненно, отпечатки зубов орангутанов. Примерно раз в месяц там появлялись свежие отметины — значит, очередной оранг приходил на этот «лизунец». Анализы показали, что эта почва богата калием и натрием — элементами, которых почти нет в кислом лесном перегное, а именно их так не хватает всем крупным млекопитающим. То, что оранги часто посещали столь укромное местечко, еще раз доказывало, что географию этих мест они выучили назубок.
К началу декабря я уже знал нескольких орангов, поселившихся в моем районе. И хотя наблюдения шли неплохо, фруктов становилось все меньше, и погода портилась. Вряд ли найдется что-нибудь более страшное, чем гроза в джунглях. Яростные порывы ветра немилосердно раскачивают деревья во все стороны. Сучья сыплются сверху, как серии бомб, с грохотом ударяются о землю, целые деревья валятся вниз с оглушительным треском, увлекая в сокрушающем шквале своих более мелких соседей, выдирая из сплошного навеса крон неровные лоскутья и нагромождая непроходимые завалы. Я всегда считал, что падающие сучья и деревья — самая серьезная опасность в джунглях, и несколько раз мне чудом удавалось избежать этих летящих сверху убийственных снарядов. Как-то раз, когда мы плыли по реке, высоченное дерево вдруг просто опрокинулось на нас с берега и чуть было не утопило лодку.

Самцы орангутанов разделяли мою неприязнь к падающей древесине и выражали свое возмущение громким ревом каждый раз, когда подобное событие нарушало их покой. Когда я отчаивался разыскать орангутанов всеми другими известными мне способами, я просто усаживался где-нибудь в лесу, ожидая, пока упадет дерево, и если тут же раздавались возмущенные вопли протеста — я знал, что пока еще не даром ем свой хлеб.
Подобными вокальными упражнениями занимаются большие старые самцы. Эти самого высокого ранга животные вдвое крупнее взрослой самки, и их высокое положение подтверждается такими атрибутами, как длинная шерсть, борода, высокий шлемообразный череп, необъятные раздувающиеся горловые мешки и разросшиеся жирные щечные валики. Где бы они ни появлялись, всюду громогласно оповещали всех о своем присутствии, предупреждая других самцов, чтобы те убирались подобру-поздорову. Соперники могут бросить вызов крикуну ответным ревом, и по временам лесную тишину сотрясают крики не менее трех самцов, старающихся перекричать и устрашить друг друга далеко разносящимися воплями.
На северной стороне Сегамы обитало особенно рьяное трио — Гарольд, Рыжая Борода и Раймонд. Я встретил Гарольда возле Скалы-Зубца, и он выглядел точно так же, как и в прошлом году: те же несгибающиеся пальцы и безволосая спина. Несколько месяцев подряд я встречался с ним очень часто, и, так как он меня совсем не боялся, наблюдать за ним было одно удовольствие. Рыжая Борода оказался орешком потверже, и в первые наши встречи я натерпелся страху. Он был неисправимый любитель бродить по земле, и стоило ему меня заметить, как он тут же бросался в атаку. Три раза он гнался за мной, и три раза мне пришлось от него удирать, прежде чем я пустил в ход тот же тактический прием, что и с Королем Людовиком, и нагнал на Рыжую Бороду достаточно страху, чтобы он относился ко мне с подобающим почтением. Эта пара разделила между собой весь район. Гарольд царил к западу от Центрального гребня, а владения Рыжей Бороды простирались к востоку. Единственный узкий гребень, служивший границей, стал ареной неистовых звуковых сражений: Гарольд вел шквальный обстрел воплями в восточном направлении, а Рыжая Борода — обернувшись на запад, но каждый из них старательно избегал пограничных конфликтов.
Раймонд был гораздо более мирным орангом, несмотря на свои колоссальные размеры. Он не часто появлялся в этих местах, но зато не обращал ни малейшего внимания на границу, установленную Гарольдом и Рыжей Бородой, и, не ведая страха перед этими героями, безмятежно бродил по обе стороны гребня. Это было особенно смешно потому, что меня он панически боялся, и стоило мне приблизиться, как он затаивался на верхушке высокого дерева и замирал. Как-то, когда Гарольд целую неделю кряду держал оборону на Центральном гребне и возвещал об этом по нескольку раз в день, неподалеку мы услышали звуки, которые возвещали о приближении Раймонда. Его единственный мощный рык произвел поистине драматический эффект: прошло десять ей, прежде чем Гарольд снова посмел открыть рот. Рыжая Борода тоже спасовал. Услышав голос Раймонда вдалеке, он откликнулся, как будто подпевая, и устремился навстречу этому наглому пришельцу. Когда Рыжая Борода был уже совсем близко, Раймонд снова заревел. На этот раз Рыжая Борода, как видно, понял, с кем имеет дело, потому что он развернулся на сто восемьдесят градусов и спасся бегством в обратном направлении. Самцов явно раздирали ревность и соперничество. Звуковые сигналы, несомненно, были отличным приспособлением для их распределения в популяции, так как взрослые самцы практически никогда не встречались лицом к лицу. В тех редких случаях, когда они сталкивались, происходили устрашающие сцены: противники трясли сучья, пока один из них не обращался в бегство. Возможно, что громадные размеры, длинная шерсть, раздутые физиономии и жуткие гримасы самцов орангутанов служили одной цели — нагнать страху на противников. Однако здесь природа, очевидно, немного переборщила, потому что самки тоже боятся своих грозных собратьев и весь успех у дам выпадает на долю молодых, полувзрослых самцов. Взрослые самки иногда кормились неподалеку от Рыжей Бороды, но Раймонд и Гарольд всегда оставались в полном одиночестве. Да Гарольд и не скучал по такому легкомысленному обществу: однажды, услышав, что к нему приближается самка с подростком-детенышем, он аккуратно слез на землю и потихоньку улизнул, прежде чем они успели его обнаружить.
С некоторыми орангами я познакомился так же хорошо, как и с Гарольдом, и постепенно узнал их личные привычки и пристрастия. Но многие животные оказались временными посетителями, которых я наблюдал два-три дня, после чего они покидали наши леса надолго, если не навсегда. За это время я установил собственные владения, собственную сеть тропинок и личные излюбленные уголки для привалов. У меня были места, где я всегда пил из ручьев или срезал ветки и пил их освежающий сладкий сок. У меня были специальные наблюдательные пункты и точки для подслушивания, излюбленные стволы для отдыха и деревья, служившие мне укрытием. С помощью Бахата и Пингаса я устроил несколько крытых пластиком убежищ в удобных местах по всему району. Там у меня хранились запасы консервов, так что, где бы я ни работал, и еда, и кров всегда были где-нибудь поблизости.
Каждое местечко в лесу напоминало мне о прежних событиях, хороших или плохих. Постепенно я стал неотторжимой частицей джунглей и чувствовал себя там как дома. Я перестал ненавидеть ротан, покрытый острыми шипами: теперь я знал, как могут пригодиться его гибкие плети; я научился использовать для постройки своих убежищ кору лианы. Даже непроходимую чащобу подлеска я тоже обрати себе на пользу — под ее прикрытием я мог незаметно подкрадываться к орангам, не нарушая их покоя. Мало того, она еще доставляла мне и пропитание — превкусные фрукты и съедобные грибы. Моя неприязнь к джунглям куда-то испарилась. Лес стал не врагом, а другом. Пиявки и те были чем-то полезны. Если пиявку насадить на гибкий побег лианы и опустить в заводь ручейка, ни одна мелкая рыбешка не устоит перед такой приманкой. А когда рыбка поймет, что это соблазнительное лакомство вовсе не червяк, будет уже поздно: пиявка намертво вопьется в нее своими присосками. А аппетитный ломтик поджаренной над костром рыбы всегда вносил приятное разнообразие в мою довольно однообразную диету.
Я привык к уединению, и мне не было ни скучно, ни одиноко в собственном обществе. Порой я себя баловал: вел синхронный репортаж собственных достижений или громогласно поносил пиявок, отдирая их от своих ног. Я шел следом за животными, которые бродили в одиночестве, и сам тоже превратился в одинокого бродягу. Я шел, когда мои оранги пускались в путь, ел, когда они кормились, и спал, когда они спали. Мне частенько приходила на память история о человеке, который так долго бродил по джунглям, что превратился в орангутана; уж не превращаюсь ли я сам в «полумаваса»?
Глава 5
Свиной дождь и пещера сокровищ
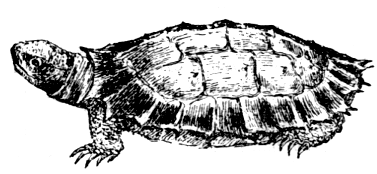
Черные тучи громоздились на горизонте, и верхушки деревьев уже тревожно шумели в предчувствии грозы. Было еще довольно рано, но мне не хотелось попадать под зимний ливень, и я отправился домой. В нашем лагере пока еще только легкая изморось туманом стояла над рекой, и люди сновали туда и сюда. Бахат, Пингас и Шингит торопливо разыскивали наши весла и длинные копья с широкими лезвиями. Я спросил Бахата, куда это все собираются. Он вскинул голову, указывая подбородком вверх по течению: «Гайан-баби (свиной дождь), туан».
Я бросил походный мешок у хижины, схватил свое личное весло из черного железного дерева и помчался за ними на берег. Мы вскочили в самую маленькую лодку и принялись грести, с трудом продвигаясь против течения по вздувшейся реке. Две собаки, во что бы то ни стало хотевшие сопровождать нас, с истерическим лаем бежали вдоль берега. Но все же, убедившись, что мы не собираемся брать их в лодку, и испугавшись дождя, они стали понемногу отставать и в конце концов вернулись в лагерь. Наш маленький сампан бесшумно, но упорно продвигался вперед, наполовину скрываясь в густой заросли топких речных берегов. Мои спутники показали мне примятые папоротники в тех местах, где кабаны проложили себе путь из леса к берегу реки, и глубокие ямы на противоположном берегу, где они выкарабкивались из воды после опасной переправы. Целый час мы гребли без передышки, пока не добрались до Пулау-Пин-Пин — маленького, поросшего кустарником островка посередине реки. Ярдов на сто выше небольшой галечной отмели мы спрятали лодку под нависшими кустами противоположного берега. Проплывая мимо отмели, заметили следы кабанов — значит, уже не одно семейство переправилось через реку в этом месте. Но Бахат уверил меня, что кабаны будут мигрировать еще два месяца.
Двадцать минут мы прождали в тишине, как вдруг Шингит молча качнул борт лодки, и мы все пригнулись и затаились.
Поначалу я ничего не замечал, но вот до нас донеслось издали басистое похрюкивание кабанов, потом высокие папоротники слегка зашевелились, и кабаны цепочкой вышли на отмель. Большой кабан шел впереди, но вдруг повернулся и яростно бросился на более молодого кабанчика, который сунулся к нему слишком близко, позабыв о субординации. Кабанчик с визгом отскочил, и старый вожак снова подошел к воде. Подняв голову с длинной щетинистой бородой, он понюхал воздух справа и слева, потом подозрительно уставился сквозь струи дождя на тот берег, где прятались мы. Его длинные белые клыки блеснули, когда он повернулся и с громким издевательским фырканьем побежал рысцой прочь от реки, ломясь сквозь заросли папоротников; стадо следовало за ним на почтительном расстоянии. Десять минут спустя мы увидели, как они быстро переплывают реку ниже по течению — в полной безопасности. Бахат выругал старого кабана за бдительность, и мы снова стали настороженно прислушиваться. Через несколько минут второе стадо кабанов переправилось через реку, но снова чересчур далеко от нас. Они удивительно прытко доплыли до берега, вскарабкались на скользкий откос и растворились в лесу.
Уже темнело, когда я почувствовал, что борт лодки снова дернулся. Мы скорчились и застыли, как мертвые, а десяток кабанов тем временем бесшумно, словно на пуантах, прошли по отмели и выстроились в ряд у самой воды. Старый кабан вошел в воду, потом бултыхнулся и поплыл, а остальные так и посыпались следом за ним. Мы высвободили нос лодки из кустов и принялись грести, как сумасшедшие, выбираясь на стремнину, которая подхватила нас и понесла в сторону плывущих животных. Лодка летела стрелой, но кабаны были уж на середине реки. Мы бешено работали веслами. Бахат внезапно изменил курс, стараясь отпугнуть кабанов от берега. Они повернули и поплыли по течению, нам удалось выиграть несколько драгоценных секунд, и мы их настигли. Когда мы налетели на них, передовые уже с треском ломились через кустарник, но замыкающие еще не доплыли до берега. Бахат наклонился и заколол одну свинью прямо в воде, а я бросил свое копье и попал в другую, уже вскарабкавшуюся до середины откоса. Она скатилась обратно в воду, и Пингас, выпрыгнув из лодки, схватил ее за хвост. Животное попыталось обернуться и отделаться от него, но тут копье Шингита без промаха поразило кабана прямо в сердце. Бахат уже потрошил свою добычу, а Пингас и Шингит, в то время как я подгонял лодку к берегу, взялись за вторую. Наступила ночь. Очень довольные нашей вечерней добычей, мы с громкими шутками плыли по течению, и Бахат весело дымил немного подмокшей самокруткой из пальмового листа.
Никто на свете не знает, почему кабаны мигрируют, откуда они идут и куда направляются. Они мигрируют не каждый год, и не всегда в одно и то же время, но предсказание Бахата сбылось точно, и целых два месяца они шли на север непрерывным потоком, словно сам дьявол гнался за ними по пятам. Во многих стадах бежали верещащие полосатые поросята не больше одной-двух недель от роду, а убитые нами животные все были в отличном виде и прежирные. Мужчины целые дни проводили на охоте, а Шереван и дети оставались в лагере и резали мясо и жирные шкуры, поджаривая куски в больших круглых котлах. Мясо и жир укладывали в банки из-под китайских галет, перевязывали ротановыми побегами и складывали под домами. Мясо, залитое жиром, остается съедобным несколько лет, и за два месяца у нас накопилась внушительная куча этих «консервов». В прежние времена свиное сало стоило на рынке очень дорого, но с распространением мусульманства и посадок масличной пальмы в Сабахе сбыт сала упал, поэтому наши запасы предназначались только для дусунских деревень.
Большую часть года в такую даль вверх по реке добирались редкие гости, но, пока кабаны переправлялись через реку, дусуны в лодках поднимались от своих кампонгов вверх по течению и устраивали на них засады. Крокодилы тоже стали спускаться вниз по течению вздувшейся от дождей реки, покидая свои тихие заводи с теми же кровожадными намерениями. Несколько раз мы замечали их грозные силуэты среди плавника, который несло мимо нашего лагеря, а порой по течению плыли и наполовину съеденные трупы кабанов со страшными ранами: крокодилы вырывали целые куски из их крупов и брюха и лакомились внутренностями.
В конце декабря я пролежал три дня в своей хижине — у меня на ноге был нарыв, но к рождеству я уже снова мог ходить. В лагере не оказалось свежих припасов, и мы взяли лодку и отправились на поиски чего-нибудь подходящего для праздничной трапезы. Пройдя несколько миль к западу, мы оказались у Буток-Бату, где река резко сворачивает влево, и оттуда пошли на веслах к югу.
Мы спугнули семейку выдр, которые резвились на берегу; они катались кубарем и кусались, гонялись друг за другом и съезжали с берега в воду, пока один выдренок не заметил нас и не испустил резкий свист. Пять черных гибких тел по-змеиному скользнули вверх по откосу и скрылись в джунглях. Немного спустя мы вышли из-за поворота как раз в тот момент, когда лодка, полная отчаянно гребущих дусунов, отчаливала от чего-то, что мы сначала приняли за громадный валун посередине реки. Но когда мы подошли ближе, то с удивлением увидели, что это только что убитая слониха. Небольшая дыра в боку, где толстую кожу пробили крупные свинцовые дробины самодельного патрона, и несколько глубоких ран от копий неопровержимо доказывали каким образом она была убита. Слониха увлекла за собой в реку вырванные с корнем кусты с того места, где она билась в последних предсмертных судорогах. Меня поразили убойная сила самодельного оружия и отвага людей, которые осмелились с таким жалким снаряжением напасть на самое могучее животное джунглей. Однако слоны находятся под охраной закона, и, когда мы повернули за следующую излучину, браконьеров и след простыл. Они, как видно, затаились в какой-нибудь из мелких проток, опасаясь, что я сообщу о них местному охотинспсктору. Они даже не успели срезать мясо со своей добычи.
Вторую половину дня я провел, пытаясь сфотографировать в глубокой заводи пару весьма осмотрительных крокодилов, но единственное, что мне удалось увидеть, — это их глаза и ноздри. Под вечер мы сплавились по течению к громадной слоновьей туше и запаслись несколькими большими кусками мяса, которое весьма кстати пополнило наши припасы. Поздно вечером мы сидели вокруг костра в лагере, поглощая далеко не традиционное для рождественского обеда блюдо. Мясо было поразительно нежное, и Бахат уверял, что слоновье мясо всегда легко продать, потому что никто не может отличить его от оленины.
За эти несколько месяцев я отведал мясо многих необычных животных — как приятных, так и малоприятных. Мясо дикобразов было отличным на вкус, отменно вкусным было и мясо черных древесных ящериц-варанов, обитавших в лесу. А громадных водяных варанов приходилось тушить по нескольку часов, настолько жесткое было у них мясо. Мы частенько лакомились сухопутными или речными черепахами и лягушками. У обезьян тонкотелов, которых ловили наши собаки, мясо было вполне сносное, но желтый жир несколько портил мне аппетит, а однажды я страшно перепугался, увидев в котле целую голову. Но я думаю, что самым изысканным деликатесом были яйца большой речной мягкотелой черепахи, которые мы выкапывали из прибрежного песка. Я держал кладку таких яиц у себя в доме, и в свой срок из яиц вылупилось сорок крохотных черепашек. Несколько часов подряд я экспериментировал, выясняя, как они находят дорогу обратно к реке, и у них это получалось безошибочно. Они двигались по уклону берега вниз, а в случае сомнения направлялись в сторону светлого участка неба и каждый раз довольно скоро оказывались в воде. Шереван просто влюбилась в этих черепашек и с нежностью прижимала их к груди. Мы поселили их всех в большом бочонке с водой, и Шереван на ночь брала и бочонок, и всех его сорок обитателей с собой в постель, пока Бахат не пресек это самым решительным образом. Когда подросшим черепашкам стало тесно в общем домике, мы выпустили всех в реку, и их приемная мать с грустным видом следила, как ее любимцы опустились вниз, к топкому дну, закопались в ил и навсегда скрылись от нас.
Шереван оказалась страстной огородницей, и у нас вскоре стало вдоволь кукурузы, батата, жгучего перца и огурцов. Вдобавок она захватила с собой из кампонга славную пару — петушка и курочку. Петух кричал всю ночь напролет с интервалами в три часа, и я чувствовал, что начинаю его люто ненавидеть. Других петухов поблизости не было, и перекликаться было не с кем, зато орел, гнездившийся на том берегу реки, вступил в странную связь с нашим глупым крикуном и в ответ на его кукареканье нес какую-то протестующую невнятицу. В один прекрасный день нашего петуха не могли дозваться, не пришел он и на другой день; мы уже считали его пропавшим без вести. Однако на третье утро нас разбудило кукареканье, доносившееся с противоположного берега. Целых два дня мы ловили бедолагу, который совершенно одичал, и, когда он наконец оказался в наших руках, весь потрепанный и побитый, в его хвосте недоставало множества блестящих перьев. Летать он не умел, и мы так и не узнали, как он переправился через реку, но я до сих пор подозреваю, что орел, его приятель, приложил лапу к этому делу. Невзирая на эти злоключения, петух очень серьезно относился к своим семейным обязанностям, и вскоре его супруга отложила несколько кладок яиц, из которых вылупились чирикающие комочки пуха. Но стоило только появиться на свет очередной стайке цыплят, как их ряды начинали неуклонно редеть: сначала исчезали белые цыплята, а следом за ними бурые — это змеи и вараны брали свою дань. В конце концов, отчаявшись, Шереван собрала всех уцелевших кур и цыплят и отвезла их домой в деревню, после этого мы снова спали мирно спать по ночам.
Бахат никогда не пил чай с сахаром, но обожал мед диких пчел. Каждый раз, перед тем как отправиться на сбор меда, он целую неделю вел лихорадочную подготовку. Обнаружив дерево, с которого свисали пчелиные соты, Бахат начинал собирать длинные плети ротановой пальмы, из которых обычно плетут кресла и корзины. Для экспедиции за медом требовалось триста футов ротана — из них сплетали крепкий канат, чтобы привязывать большую банку для сбора меда. Вдобавок нужно было приготовить сотни две бамбуковых колышков, а чтобы выстругать и заострить каждый колышек, требовалось несколько минут. Нужны были также крепкий молоток из железного дерева, несметное количество веревочек из крепких волокон лианы, тридцать острых кольев и растрепанная на мелкие волокна и связанная в пучок лиана — для дымокура. Нередко Бахат даже строил на месте проведения операции специальный маленький домик в честь этого великого события.
Мы все были готовы к нашей первой экспедиции за медом. Пингас и слепой Дайнал скатали на берегу ротановый канат, а Бахат и Шингит навьючили на себя бамбуковые колышки, банки для меда и прочее снаряжение. Мы оставили собак в лагере и переправились через реку возле устья Малой Боле. Через двадцать минут быстрого хода по тропе, которую Бахат вырубил специально для этого случая, мы оказались у подножия громадного дерева менгарис, верхушка которого была футах в двухстах тридцати от земли. На месте нас ждали небольшая хижина и заранее подготовленные шесты, и Бахат с Дайналом сразу же принялись за сооружение лестницы. Пингас и Шингит расчистили площадку возле дерева, чтобы мы могли свободно передвигаться и принимать спущенные сверху банки с медом, даже если нас застанет ночь. Высоко над нашими головами свисали восемь прикрепленных к ветвям громадных сотов, из-за которых и разгорелась вся эта кипучая деятельность.
Бахат построил вокруг основания дерева крепкий помост, и началось медленное сооружение лестницы. Слепой Дайнал ощупью находил на стволе место для опоры и, размахивая молотком из железного дерева, загонял в ствол бамбуковый колышек. Углубив его всего на два дюйма, Дайнал брал вертикальный шест и накрепко привязывал его к колышку (лиановыми волокнами. Затем он взбирался на одну ступеньку и повторял все сызнова. Это было наводящее ужас зрелище — слепой человек на середине гладкого ствола, невозмутимо заколачивающий колышки и связывающий лестницу. Когда он добирался до конца длинного шеста, ему снизу подавали следующий, который он прикреплял к предыдущему и снова привязывал к маленьким колышкам. Эти колышки прикреплялись с интервалами в три фута, но сами по себе они не выдерживали веса человека. Только вся конструкция в целом — все шесты и все колышки, на которых они держались, обеспечивала надежную опору, и карабкающийся вверх человек должен был держаться за шесты, а не за колья, чтобы все сооружение не отделилось от дерева и не свалилось вниз. Я подумал о том, чувствует ли Дайнал, какая жуткая; пропасть разверзается под ним, и решил, что в этом случае слепота даже кстати. Взобравшись примерно на сто футов, Дайнал спустился, и Бахат продолжил эту страшноватую работу. Наконец он добрался до нижних ветвей громадного дерева и тоже спустился вниз передохнуть.
Уже стемнело, но Бахат хотел дождаться, пока зайдет луна, чтобы пчелы его не заметили. Далеко за полночь он взобрался наверх, продолжил лестницу до самых сучьев и после передышки предпринял последнюю и решительную атаку на пчелиное гнездо. На этот раз он захватил конец ротанового каната и тлеющий лиановый трут, который горел, как кончик великанской сигареты. Возле первых сотов он вдруг принялся неистово размахивать тлеющим факелом, чертя на фоне неба причудливые, диковинные узоры. Трут занялся пламенем, и, когда Бахат ударил им по гнезду, пламя брызнуло и рассыпалось целым каскадом искр, которые, кружась, летели к земле вместе с тысячами разозленных пчел. Мы бросились в темноту, как в укрытие, потому что пчелы неслись прямо на костер в отчаянной самоубийственной атаке. Услышав вопли и завывания Бахата, мы поняли, что, невзирая на принятые предосторожности, пчелы добрались-таки до своего злодея. Но он, не обращая внимания на боль, срезал соты деревянным ножом, сложил их в четырехгаллонную[9] банку и благополучно спустил ее на землю, а мы вынули драгоценный груз. И так продолжалось всю ночь: банку поднимали и опускали вновь, до краев наполненную сотами, медом и личинками пчел. Бахат атаковал гнезда, устраивая все новые праздничные фейерверки, и каждый раз его жалили пчелы. Я радовался, что на мне ботинки, потому что земля вокруг была покрыта шевелящимся ковром заблудившихся и опаленных пчел, которые то и дело жалили Пингаса и Шингита. К двум часам мы закончили сбор, Бахат спустил последнюю банку с медом и слез к нам вниз. Мы поспешно побежали к лодкам и вскоре вернулись в лагерь с награбленной добычей. Бедняга Бахат так распух от укусов, что почти ничего не видел, и я дал ему перед сном пару сильных антигистаминных таблеток. К завтраку он был в полном здравии и с наслаждением объедался восковыми сотами прямо с личинками, в натуральном виде. Мне поднесли целую миску этой тошнотворной каши, но я сумел съесть только немного чистого меду. Он и вправду был удивительно вкусным и ничего общего не имел с медом домашних пчел, только оказался слишком приторным, так что много сразу не съешь. Очень скоро вокруг нас закружились тучи пчел, слетевшихся на запах и сообщивших подругам эту приятную новость. Мы собрали около четырех галлонов чистого меда, но все же мне казалось, что он стоил несоразмерных трудов, напряжения и риска, и я понял, как высоко люди ценили природные источники сладкого, пока не научились возделывать сахарный тростник. Может быть, единственные сладости, которые знал доисторический человек острова Калимантан, — это мед и спелые фрукты.
Но Бахат был вовсе не одинок в своем желании рискнуть своей шкурой ради дикого меда. Бируанг, малайский медведь, также добывал себе пропитание, карабкаясь вверх за сотами, и стволы деревьев носили шрамы от его острых кривых когтей. Даже оранги не оставались равнодушными к пчелиным гнездам, и я как-то раз стал свидетелем поразительного зрелища: старый оранг ухитрился взобраться на верхушку дерева менгарис. Он сидел выше пчелиного гнезда и пригоршню за пригоршней отправлял в рот куски, вырванные из сотов. Вокруг него кружилась туча разъяренных пчел, но он только отмахивался от них свободной рукой да жмурился, открывая глаза только на минутку, чтобы высмотреть очередной кусочек поаппетитнее, но вообще-то не обращал на них ни малейшего внимания.
Я занимал ответственный пост врача в нашем лагере, вот только мои непрерывные болезни делали эту роль довольно смехотворной. Обычно мои обязанности сводились к раздаче аспирина, противомалярийных таблеток или глистогонных лекарств, но порой требовалось и хирургическое вмешательство. Бахата на охоте сильно ранил кабан, и его, истекающего кровью, принесли в лагерь. Однако он мог сгибать и разгибать пальцы, и я решил, что главные нервы и сухожилия уцелели. Я дал ему для анестезии несколько таблеток морфина и принялся за жуткую работу — надо было зашивать все это месиво. Я согнул обыкновенную швейную иглу, заточил конец и простерилизовал ее. Тонкие нити, надерганные из нейлонового каната, служили заменой хирургического шелка. С нескольких попыток я научился делать узлы, которые легко завязывались и не расходились. Затем, едва справляясь с волнением, я наложил на L-образную рану пять швов. Несколько дней Бахату было очень плохо, и я держал его на антибиотиках, чтобы предотвратить нагноение раны. Наконец рана затянулась, и я с чувством облегчения снял швы. От зияющей раны остался только небольшой выпуклый шрам, который оказался совершенно нечувствительным к боли и на всех последующих празднествах неизменно пользовался громадным успехом. Бахат превозносил меня за твердость моей руки и представлял с мельчайшими подробностями, как трясся доктор в Тавау, «штопавший» его в тот раз, когда его потрепал медведь.
От обычных болезней у дусунов есть свои средства, как правило связанные с суевериями, но некоторые из них, очевидно, вполне надежны и с точки зрения фармакологии. Бахат и Шереван неустанно собирали растения, из которых получалось «хорошее лекарство», а Пингас мечтал отыскать орлиные яйца: по его словам, это было колдовское зелье громадной силы. Некоторые из их приемов тоже оказывались очень эффективными. Несомненно, что у наших собак улучшалось охотничье чутье после того, как их носы окуривали дымом тлеющих трав и потом слегка натирали перьями.
Заехав в кампонг по дороге в город, я присутствовал на церемонии излечения от лихорадки. На это представление собралось множество народу, и оно превратилось в настоящее событие. Больной лежал в углу дома, а главный колдун с двумя учениками развел костер и жег над ним коренья, напевая при этом что-то неразборчивое. Они накинули на головы полы своих ярких одежд и пустились в дикий пляс, похожий на игру в жмурки, под ритмичные удары гонгов. Этот диковинный ритуал длился несколько часов, причем главный колдун время от времени прерывал танец и то натирал больного сырыми яйцами, то «высасывал» злых духов из его тела. Несмотря на то что танцоры без отдыха плясали до самого рассвета, выглядели они совершенно свеженькими. Пациент заявил, что ему гораздо лучше, и присутствующие искренне радовались.
Ввиду того что за подобные услуги плата не назначается, пациент должен поднести колдуну какой-нибудь дар, чаще всего курицу. И пренебрегать этим не следует, потому что колдун может не только изгнать хворь, но и наслать ее. Дусуны неукоснительно применяли поначалу свое средство от болезней. И только если оно не помогало, больного доставляли в больницу в Лахатдату или Тавау.
Дусуны — истинные анимисты, они верят в существование самых разнообразных духов и ужасных сверхъестественных существ. Как и другие племена Калимантана, они хранят целую мифологию — комплекс ярких легенд и притч, изустно передаваемый из поколения в поколение. Как-то поздним вечером, когда мы, сидя за ужином, ели курятину с рисом, один из мужчин вдруг вскочил, выбежал наружу, вопя во все горло, и принялся колотить сковородкой по железной бочке для воды, производя оглушительный шум и трезвон. Вся деревня тут же подхватила сигнал, и грохот распространился вдоль всей реки. Я спросил, по какому поводу подняли такой тарарам, и мой хозяин объяснил мне, что лаби-лаби — большая мягкотелая пресноводная черепаха — глотает луну и ее необходимо прогнать. Я вышел и увидел собственными лазами, что из луны, которая только что была полной, словно выхвачен солидный ломоть. Затмение продолжалось, захватывая все большую часть луны. Но, как только затемненная часть снова стала освобождаться от тени, в ночи прозвучал громкий пронзительный вопль «Буах кадиль!» (так называют плоды, которые отпугивают лаби-лаби), и вся деревня принялась кричать и распевать, колотя в свои звонкие гонги. Торжества в честь возвращения луны и посрамления черепахи продолжались до поздней ночи, и я, разумеется, не имел никакого права да и желания бороться с их заблуждениями.

Дусунские деревни совсем не похожи на более широко известные деревни с общинным домом, как в Сараваке. Каждая семья живет в собственном небольшом домике, ярдах в ста от ближайшего соседа. Кампонг располагается на берегу реки, и дома на сваях стоят так, что для них не опасно половодье. Несмотря на это, необычайно обильные разливы смывают и дома, и посевы, так что дусунам часто приходится начинать все сначала. Вокруг каждого дома земля очищена от леса, и на ней выращивается огромное разнообразие овощей и фруктов: тапиока, батат, кукуруза, ананасы, папайя, лайма, жгучий перец, гуаява, бетель и кокосовые пальмы. Ряды алых плодоносящих рамбутанов перемежаются ароматными мангустанами, горьковато-сладкими лансиумами, желтыми и красными бананами и пахучими дурианами. В грязи копошатся куры; собаки, козы и свиньи бродят по ладангам[10] в поисках пищи. Дальше расположены поля горного риса (пади), которые возделываются совместно несколькими семьями. Здесь выращивают горный рис, потому что он не нуждается в залитых водой полях и требует меньше ухода, чем равнинный рис (сава).
В каждом хозяйстве имеется хотя бы одна лодка — необходимое средство сообщения и орудие для ловли рыбы, которая в этих местах представляет собой главный источник животного белка. В кампонге всего четверо орантуа, то есть старост, и один деревенский голова, или оти. Эти люди исполняют обряды на свадьбах и похоронах и разрешают споры между односельчанами. Женщины обладают многими правами и распоряжаются своей собственностью после вступления в брак. Разводы здесь — обычное дело и не представляют никакой трудности. Женщина, желающая развестись с мужем, должна убедить деревенского оти в том, что муж совершил хотя бы одно из великого множества нарушений деревенской законности. Если его признают виновным, развод разрешается, и муж теряет свои ванг-казех, то есть «деньги любви», которые он уплатил отцу невесты перед свадьбой. Однако, если разводятся по инициативе мужа и он сумеет доказать, что согрешила жена, муж получает обратно почти все свои ванг-казех. Сумма, выплачиваемая за невесту, уменьшается в зависимости от ее возраста и числа предыдущих браков. Из-за частых разводов родственные связи дусунов оказываются очень запутанными, и все дети остаются с матерью, даже если она снова выходит замуж. У Бахата и Шереван уже были другие семьи, и, с тех пор как они поженились, они расходились и снова соединялись уже четыре раза!
Однажды вечером меня пригласили на деревенскую свадьбу. Невеста и жених, разодетые в пух и прах, восседали в тесной комнатке, набитой гордыми родичами невесты. Сюда приходили односельчане — принести свои поздравления перед тем, как присоединиться к общему пиру и веселью. Женщины пели и без умолку болтали, а мужчины тем временем сидели на корточках вокруг громадных горшков с напитком тапи попивая и обмениваясь шутками. Тапи приготавливают из перебродивших корней тапиоки, которые укладывают в горшки, покрывают слоем банановых листьев, а сверху заливают доверху водой. Поначалу напиток очень крепок, но затем его все больше разбавляют, доливая в горшок воду. Человек заранее решает, сколько он выпьет, и наливает в банку соответствующее количество воды. По мере того как он сосет тапи через бамбуковую «соломинку», его приятель доливает в горшок отмеренную воду. Это позволяет каждому точно знать, сколько он выпил, и возникают азартные состязания — кто кого перепьет, неизменно связанные с беспардонным «водным мошенничеством».
Пингас уже несколько месяцев вздыхал по одной девушке из кампонга: после двухмесячных переговоров с ее отцом он получил разрешение жениться на Сипойок, и была назначена свадьба. Сама Сипойок не особенно горела желанием выйти за него, но на ее отца произвело глубокое впечатление регулярное жалованье Пингаса, а это очень важно для дусунского брака. Накануне назначенного дня свадьбы Пингас сел в нашу большую лодку с подвесным мотором и отправился вниз по реке к кампонгу. Я сказал ему, что он может взять отпуск, и принес подобающие поздравления. Он получил также разрешение привезти с собой молодую жену.
Через четыре дня Пингас возвратился один-одинешенек и вовсе не был похож на счастливого молодожена. Свадьба-то была отличная, и вся деревня веселилась и пировала. Да, Сипойок была прелестна и все время радовалась. Ее отец был очень доволен своим зятем и подарил молодым небольшой участок земли под постройку дома. Но молодожены были выставлены на всеобщее обозрение и днем и ночью и не только не могли уединиться, но им даже вздремнуть не удалось. У Пингаса был измученный вид, и я решил, что будет лучше всего, если он опять съездит в кампонг и вернется к нам вместе с женой. Но во второй раз он вернулся с еще более убитым видом. На вопрос, в чем дело, он ответил, что не смог осуществить свои супружеские права. Пингас был уверен, что Сипойок напустила на него порчу, потому что вовсе не хотела за него замуж, и с самого дня своей свадьбы он совершенно ничего не мог. Он клялся, что до сих пор этого с ним никогда не случалось и он не раз пользовался радостями, которые ему дарили китайские девушки в городе.
И вот Пингас отправился вниз по реке в третий раз: на этот раз он вез письмо от меня к доктору-индийцу в местную больницу. Получив от доктора ответ, что никаких физических недостатков он не нашел, я убедился, что все дело тут в психологической травме. Тогда я совершил собственный маленький колдовской ритуал. Покопавшись в своей аптечке, я извлек оттуда пузырек с пилюлями от воспаления мочевыводящих путей. На этикетке была надпись: «Вниманию пациентов: ваша моча во время приема лекарства приобретет ярко-красный цвет. Это вполне нормально».
— Пингас, — провозгласил я. — Ты будешь принимать по две таблетки три раза в течение двух дней. Они вылечат тебя от импотенции и выгонят злое колдовство вместе с твоей мочой.
На следующий день Пингас сообщил мне, что мои пилюли, кажется, действуют, и с каждым днем он становился все веселее. Через неделю я опять послал его в кампонг за припасами и почтой, и, когда он вернулся, я спросил, осуществил ли он свои права.
— Да, мало-мало, туан, — ответствовал он.
Пингас так и не привез свою жену в наш лесной лагерь. Она оставалась в кампонге, помогая отцу строить новый дом и сажая кукурузу и овощи. Пингас был весел, но всегда с нетерпением ждал очередной поездки с поручениями в город.
Прошло, однако, несколько месяцев, прежде чем я вновь увидел Сипойок. Однажды, когда я снова гостил в деревне, она зашла со мной поздороваться.
— Благодарю вас за все, туан, — сказала она с лукавой улыбкой и снова ускользнула к себе на кухню.
Однажды утром в наш лагерь приплыла лодка, и мы узнали печальную новость: Зина, двоюродная сестра Бахата, приказала долго жить. Бахат должен был вернуться в кампонг. Он сказал мне, что муж покойницы приглашает и меня на похоронные торжества. Было интересно посмотреть на дусунский похоронный обряд, и я приготовился к отъезду вместе с Бахатом и Шереван.
Бахат обещал убить кабана для угощения, и Шереван уселась на носу лодки, взяв наперевес грозное с виду самодельное ружье. Мы тихо дрейфовали вниз по реке, направляя лодку в самые сильные струи течения, чтобы поберечь мотор. Два раза мы причаливали к берегу в подходящих местах, и Бахат сразу же устремлялся в лес на поиски кабанов, но оба раза возвращался с пустыми руками. Наконец мы заметили крупного кабана, выкапывавшего корни тростника. Бахат бесшумно направил лодку к берегу, потихоньку подбираясь все ближе к увлеченному кормом животному. Шереван встала на колени на носу лодки и прицелилась в кабана. Когда мы были всего в двадцати ярдах, кабан поднял голову и повернулся, готовый дать стрекача. Раздался оглушительный выстрел, и лодка едва не перевернулась, когда Шереван опрокинуло отдачей, но кабан тоже свалился как подкошенный, и мы продолжали свой путь, везя обещанный дар. За час до сумерек мы прибыли в кампонг.
На илистой отмели возле дома покойной уже было множество лодок. Четверо ее сыновей встретили нас и вскоре ушли очень довольные, чтобы приготовить кабана. Мы прошли сквозь покрытые ярко-красными цветами заросли гибискуса к большому дому на сваях. В дом поднимались не по лестнице, а по стволу старинной бронзовой пушки, свидетельницы тех дней, когда деревне приходилось отражать нападения морских пиратов. Влезли на платформу и вошли в просторную темноватую комнату, где вокруг гроба из железного дерева расселись на корточках соболезнующие. Гроб был вытесан из целого ствола дерева мербау и покрыт пятнами, потому что многие годы пролежал закопанный в землю под домом в ожидании того дня, когда смерть посетит семью. Поначалу гроб оставили открытым, чтобы друзья и родные могли взглянуть на покойную в последний раз, но теперь шел уже третий день, и крышку закрыли, а шов замазали расплавленной смолой дамара[11].
Позади гроба, скрестив ноги и накинув на голову белое покрывало, сидел осиротевший муж, Сунал. Бахат подошел к нему и сказал несколько утешительных слов, а затем Сунал обратил ко мне лицо, залитое слезами, горячо пожал мне руку и сказал, что я оказал большую честь ему и его сыновьям своим присутствием в такой час. Я ответил на его приветствие и поблагодарил за приглашение, затем поздоровался с остальными мужчинами деревни, которые сидели вокруг нас. Позади них на корточках сидели группки женщин с детьми. Мы с Бахатом вышли из дому — окунуться в реке. Огонь пылал под громадным почерневшим котлом, в котором тушился наш кабан. Двое мужчин, согнувшись от тяжести, носили с перегруженной лодки восьмигаллонные горшки, наполненные тапи. Жители деревни все прибывали и прибывали — у берега собралась целая флотилия лодок. Когда мы вернулись в дом, были зажжены масляные светильники и звучала грустная однообразная мелодия, выстукиваемая на гонгах. Открыли два горшка с тапи и приступили к ночным торжествам.
Я направился в угол, где заметил знакомое лицо, и приветствовал моего старого друга Тулонга. Глаза у Тулонга покраснели, а рука заметно дрожала. Он сильно потолстел, и мне не верилось, что это тот самый мужественный, мускулистый человек, который работал у меня в прошлом году. Я упрекнул его в том, что он слишком много пьет.
— Да, туан, теперь я пью много, но что в этом плохого?
— Может, ты и прав, — ответил я, — но, если тебе захочется избавиться от этого брюха, мы всегда будем рады принять тебя в компанию.
— Благодарю вас, туан, я об этом подумаю. А теперь вы должны выпить со мной.
Тулонг сунул мне в руку бамбуковую трубочку и провел меня к горшкам с тапи.
Пол застелили циновками, и женщины внесли большие миски с рисом, тушеной свининой и местным деликатесом баби джерук — кусочками свинины, выдержанными в желе из тапиоки, подсоленном и заправленном кислыми фруктами; по вкусу они походили на анчоусы. Трапеза завершалась чаем, десертом из фруктов и водой, подаваемой в ковшиках. С циновок все было быстро убрано, затем их снова накрыли, потому что предстояло накормить более двухсот человек.
Кое-кто хватил лишку и теперь в превеселом настроении колотил в гонги чуть поодаль, извлекая бодрые и мелодичные звуки. Если бы посередине комнаты не стоял большой гроб, мне было бы очень трудно не спутать происходящее с очередной свадьбой. И вправду, никто не допускал, чтобы печальный повод, собравший всех в эту ночь, испортил людям праздник. Принесли новые горшки с тапи, когда жидкость в прежних стала чересчур разбавленной. Я не привык к этому крепчайшему напитку и очень скоро расплатился за это невыносимой головной болью, которая заставила меня прибегнуть к самым вежливым извинениям, какие только можно было придумать, и выбыть из соревнования.
Женщины пели монотонные дусунские песни или жевали бетель вычерненными зубами. На двух длинных потолочных балках были подвешены в саронгах [12] грудные младенцы — числом не меньше сорока. Когда малыш начинал реветь, мать вставала и укачивала его, пока он не засыпал, а на обратном пути успевала качнуть и всех остальных.
С одной стороны к дому была пристроена широкая платформа, чтобы поместились все гости. Крыша над ней была довольно хлипкая, и я радовался, что небо совершенно безоблачно. Посередине комнаты стояла ступка, куда засыпали рис. Четверо мужчин, вооруженные большими деревянными пестами, стояли вокруг нее. Начал толочь зерно один, за ним другой, и постепенно все втянулись в ритм; раз, два, три, четыре… раз, два, три, четыре… С интервалами в несколько минут девушка аккуратно выскребала муку самого тонкого помола и засыпала новую порцию риса. Муку уносили и готовили из нее нечто вроде размазни под названием «бубор», которую тут же подавали гостям. Пир и попойка продолжались до самого утра, но я заблаговременно забрался в тихий уголок. Вскоре на платформе для сна скопилось такое множество людей, что они чуть ли не лежали друг на друге.
Стиснутый со всех сторон и оглушенный непрерывным шумом, я так и не сомкнул глаз в эту ночь.
Туманный рассвет занялся под кукареканье десятка петухов, и я спустился к реке искупаться. На завтрак давали очень слабый чай и невероятно крепкий кофе, а к нему — остатки остывшего к утру бубора. Гроб обернули цветными кусками материи и перевязали расщепленными вдоль ротановыми плетями. Бахат оказался местным знатоком ротанового плетения и был по горло занят сложнейшими узлами, которые входили в традиционное убранство. Гроб женщины следовало перевязывать иначе, чем мужские гробы, но разгорелись нескончаемые споры о том, как именно это полагается делать; прошло больше двух часов, прежде чем важное дело было закончено. Над гробом раскрыли зонтик, и мелодичные гонги снова затянули свою ритмичную перекличку.
Женщины принялись рыдать и голосить, мужчины вскоре тоже присоединились к их причитаниям. Ритм, подгоняемый гонгами, все нарастал, и плакальщики приходили все в большее неистовство. Это настроение оказалось настолько заразительным, что и я тоже стал оплакивать женщину, которую ни разу не видел живой. Двое мужчин потеряли сознание, а одна женщина забилась в истерике, затем свалилась на пол и только тихо постанывала. Без особой спешки было сделано отверстие в стене дома, и сыновья покойной подняли гроб. Он угрожающе раскачивался, словно пьяный, пока они продвигали его наружу, но им удалось без всяких приключений протащить его в отверстие и снести вниз к реке. За ними следом шли остальные провожающие, неся зонтик и развевающиеся цветные флажки. Гонги бешено гудели, был дан салют из ружей, еще кое-кто упал в обморок, и вопли: «Зина, Зина!» — звенели в воздухе. Печальная фигура Сунала, одетого в белое, маячила позади гроба.
Были приготовлены две лодки, и первая, принявшая тяжеленный гроб, осела так, что мутная вода едва не перелилась через борт. Сунал сел рядом с гробом, держа зонтик над останками своей жены. Сыновья взялись за весла и принялись грести против течения. Вторая лодка была битком набита родственниками, и один их них все еще стучал в маленький гонг. Право сопровождать мертвых к месту их упокоения в лесных пещерах принадлежит только мужчинам, и женщины, столпившиеся на берегу, провожали свою дорогую Зину громкими рыданиями. Несколько друзей сели в нашу с Бахатом лодку, замыкавшую эту маленькую похоронную флотилию. И все мы направились к грандиозным известняковым пещерам, которые уже много веков служили местом погребения дусунов.
Примерно через час лодки причалили к мощенному камнями причалу Бату-Балус, от которого рукой подать до самых больших пещер Тападонга. Под аккомпанемент гонга гроб подняли и понесли через отверстие в скале по опасной извивающейся тропе. Эта тропка привела к расчищенному углублению, обрамленному высокой стеной из известняковых скал, над которым нависали, как полог, ветви деревьев. Примерно на шестьдесят футов вверх по склону к отверстию большой пещеры вела колоссальная лестница, связанная из тонких деревьев и веток наподобие оснастки какого-нибудь старинного галеона. Гроб поднимали наверх ступенька за ступенькой, втягивая на ротановых канатах, а снизу его поддерживали руки множества добровольных помощников. Сунал печально смотрел, как гроб поднимается к зеву пещеры, обрамленному разноцветными флажками для отпугивания лесных духов.
В пещере стоял сильный запах разложения, и дно ее было устлано пылью из рассыпавшихся в прах костей и дерева. Вдоль одной стены высился гигантский штабель из сотен и сотен гробов, а рядом накопились многовековые наслоения разных предметов. Я был потрясен и не мог оторвать глаз от ножей и мечей, украшенных чудесными узорами, от тончайшей резьбы на веслах и прославленных древнекитайских фарфоровых чаш и блюд. Просто не верилось, что дусуны, живущие в такой нищете, оставляют все эти несметные сокровища своим мертвецам. Но эти реликвии давно стали священными, и никто не смел выносить их отсюда. Об этом позаботится вечно бдительный Манои Салонг. Я с любопытством взглянул на углубление в потолке — хранилище головы Манои Салонга, единственной части его тела, которую принесли в пещеру после того, как он был убит на пути к реке Кинабатонган. Гроб другого героя стоял на большом плоском камне возле входа. Ему придали форму головы буйвола и расписали яркими красками.
Гроб Зины поставили на высокий штабель. Над ним укрепили зонтик, и Сунал на гроб положил миску, ложку и саронг, а также немного риса и воды, чтобы ее дух мог всем этим воспользоваться. Старик три раза ударил по гробу ротановой плетью и пропел старинную молитву, призывая дух Зины упокоиться с миром здесь, не возвращаться в кампонг и не докучать семье.
Сравнивая недавно виденные мной дешевые пластмассовое тарелки и жестяные кружки с драгоценными дарами нижних рядов, я чувствовал, что присутствую не только на похоронах Зины, жены Сунала, но и на похоронах целой цивилизации. Дусуны некогда были гордым народом и жили довольно богато, собирая урожай со своих полей, пользуясь дарами джунглей и реки. Их охотничье снаряжение состояло из духовых трубок, копий, ловушек и крючков. Они убивали носорогов ради их рогов, слонов — ради бивней, а крокодилов — ради их ценной кожи. В прибрежных городах они сбывали мясо оленей, кабанов и жирную рыбу тарпа. В лесу они собирали ротановые плети, ароматную смолу дамара, дикие пряности, сладкие плоды дуриана и крепкое красное железное дерево. Они промывали золото из речной гальки, и у них были хорошо обработанные рисовые поля и фруктовые посадки, приносившие высокие урожаи на илистой, плодородной почве. Они обменивали свою лесную добычу на нужные им ткани и ножи, и единственными их врагами были бродячие «охотники за головами» да морские пираты. Сокровища, собранные в пещерах, и то, с каким размахом проводились торжественные церемонии, служили доказательством того, что этот народ лишь недавно впал в нищету. Теперь получить регулярный заработок мужчина может только в городе. Тяжелые времена и свирепствовавшие наводнения и холера унесли множество жизней. Дамар и свинина больше не находят сбыта на рынке, а охота на прочую дичь и продажа древесины теперь считаются браконьерством. Богатство в наши дни приносят каучуковые и кокосовые плантации или крупные лесопромышленные компании. Дальние прибрежные деревни остались ныне вне главной в хозяйственном отношении магистрали.
Когда мы спускались по бесконечной лестнице, Бахат показал мне вход в меньшую пещеру внизу, под нами. Среди костей и остатков гробов скалил зубы человеческий череп.
— Вон там ибаны и кайаны хоронят своих мертвых. Только дусуны используют главную пещеру, — с гордостью сказал он.
— Значит, если я умру, вы положите меня туда? — поинтересовался я. Он был шокирован и воскликнул:
— О нет, туан, вас мы будем считать дусуном!
Мы были готовы вернуться в кампонг, где предстояло пировать еще две ночи, чтобы завершить ритуал почитания усопшей. Перед тем как отчалить, каждый из сопровождающих сорвал зеленый побег и прикрепил его к одежде или засунул в волосы. Их выбросят во время церемонии омовения после нашего возвращения, но мне показалось вполне естественным, после того как на Бату-Балус принесены останки жизни отцветшей, унести с собой в обратный путь свежие побеги новой жизни.
Глава 6
Таинственные существа

Холодные и промозглые зимние месяцы тянулись медленно, но постепенно грозы становились все реже, вода в реке снова стала совершенно прозрачной, и в ней можно было ловить креветок. Громадные деревья одно за другим покрывались цветами, белыми, желтыми и розовыми, и вскоре их подножия были усыпаны, как конфетти, нежными лепестками. Муравьи так и сновали внизу, собирая урожай опавших цветов, тащили их в свои подземные жилища, где у них выращивалась особая грибница. Над головой проносились гудящие рои пчел — они искали прочные сучья, на которые можно будет подвесить тяжелые желтые соты с медом. Над рекой и по берегам кружились в танце несметные карнавальные хороводы ярких бабочек: быстро проносились махаоны, сверкали зелеными крыльями парусники, лениво скользили в воздухе пятнистые данаиды и тучи белянок и лимонниц. Они обрамляли края луж и песчаные отмели живым трепещущим ковром, но стоило мне подойти, как они взлетали вверх вьюгой оживших снежинок.
Необычайное разнообразие насекомых, их хитроумные уловки и тончайшие приспособления служили для меня неистощимым и отрадным развлечением, спасая от скуки в долгие часы одиночества в джунглях. Из отдельных случайно подмеченных мной за долгие месяцы черточек у меня сложилась полная картина их сложного развития и тесных взаимосвязей. Синие бабочки с отливающими металлическим блеском крыльями несли на них сверкающие ложные «глазки» и длинные белые «шлейфы», которые отвлекали внимание хищников от их незащищенного тельца, однако и охотники не уступали им в изобретательности, и множество манящих цветков при ближайшем рассмотрении оборачивалось чем-то совсем иным. Белые пауки-бокоходы затаивались среди лепестков орхидей, терпеливо подстерегая и хватая залетных бабочек, но еще занимательнее были богомолы. Растопырив свои яркие крылья, они становились так похожи на цветы, что неосторожные насекомые влетали прямо в их распростертые объятия.
Муравьи-портные, вооруженные мощными челюстями, шарили в лесной подстилке, охотясь за тараканами и сверчками, которых они тащили волоком в свои гнезда на верхушках деревьев, причем несколько муравьев дружно волокли тяжелую добычу вверх по стволу и вдоль сучьев к бдительно охраняемому входу. При малейшей тревоге сотня воинственных муравьев бросалась вперед, ограждая свой дом защитными рядами разверстых челюстей. Гнезда этих муравьев сделаны из широких зеленых листьев, скрепленных шелковой нитью, но сами взрослые муравьи не могут выделять эту прочную паутину. Выделяющие шелк железы есть только у муравьиных личинок, и муравьи-работники «сшивают» листья, держа в челюстях личинку и двигая ею взад-вперед, как челноком в ткацком станке.
Черные с желтым пилюльные осы рыскали среди листвы и нападали на мелких пауков, парализуя их уколом жала. Затем начинался сложный цикл развития личинки: обездвиженные жертвы помещались в слепленные из глины ячейки на древесных стволах, и оса откладывала сверху одно-единственное яичко, а затем запечатывала отверстие. Личинка, развиваясь, постепенно съедает свои «живые консервы», которые не портятся в тропическую жару. Когда с запасом покончено, личинка окукливается, и в свое время молодая оса прокладывает себе путь наружу из глиняной ячейки.
Но случается, что на свет появляется вовсе не молодая пилюльная оса, а черная с красным и белым оса-«немка», которая, подобно кукушкам, откладывает яйца в гнезда, построенные и снабженные запасами пищи другими видами насекомых. Личинки осы-«немки» вылупляются раньше и первым делом расправляются с яичком законного хозяина, а затем эти хищники принимаются уписывать незаконно присвоенных жирных пауков. Самцы «немок» крылаты, а бескрылые самки очень напоминают муравьев. Они пребольно жалят, и у них такая яркая предостерегающая окраска, что все хищники очень быстро перестают их трогать. Другие насекомые извлекают из этого пользу и наряжаются в те же броские угрожающие цвета, так что и их никто в рот не берет. Я собрал множество жуков, ос, кузнечиков, древесных клопов, пауков и даже бабочек, и все они, как один, подражают пестроте ос-«немок», точно копируя не только сочетание цветов, но и резкие, скользящие движения своих жалящих «моделей».
Но самые, быть может, поразительные существа, которых встречал, — это лесные планеристы. Ведь основные пищевые припасы — фрукты, листья и насекомые — находятся наверху, в кронах, и поэтому, естественно, те животные, которые могут без труда перемещаться среди крон, не спускаясь на землю, получают бесспорные преимущества перед остальными. У орангутана есть свой способ: он раскачивает верхушки деревьев до тех пор, пока сможет перелететь через разделяющее деревья пространство, но этот образ жизни довели до виртуозного совершенства маленькие подвижные существа: животные с отличным чувством равновесия и легким прыжком — мартышки, белки, куница-харза, циветты и длинноногие ящерицы-агамы. Приобретя парашюты или летательные перепонки, они неимоверно увеличивают длину прыжка, и им уже не грозит опасность падения. У ведущих ночной образ жизни белок-летяг широкая складка кожи соединяет передние и задние лапки. Используя свои длинные хвосты вместо рулей и стабилизаторов, эти словно невесомые существа скользят по воздуху сотни ярдов. Я часто вечерами наблюдал, как белки-летяги выходят на поиски пищи. Не раз они перелетали через всю широкую реку Сегаму, опускались в крону на дальнем берегу, неуклюже взбирались на вершину и снова парили над лесом. Два раза я видел, как спящие белки, потревоженные любопытными орангутанами, снимались с места и летели в поисках более надежных укрытий и их золотисто-рыжий мех переливался в ярких лучах полуденного солнца.
Среди планеристов был и редчайший летающий шерстокрыл, которого мне удалось увидеть всего пять раз за все время. У него, как и у белки, складка кожи соединяет передние и задние лапы, но захватывает еще и хвост и все фаланги пальцев, так что на лету он смахивает на треугольного воздушного змея. Прижавшись к стволу, в своей пятнистой, отливающей зеленью шкурке шерстокрыл становится невидимкой, наростом, покрытым лишайником. Его выдают только блестящие глаза да розовые ушки, и стоит постучать по дереву, как он срывается и начинает выделывать в воздухе акробатические трюки. Шерстокрыл — зоологическая загадка, потому что у него нет близких родственников среди ныне существующих животных. У него голова оленька, мех кролика и крылья летучей мыши, и он совершенно уникален — одна из самых причудливых выдумок природы[13].
Но не думайте, что лесные парашютисты встречаются только среди млекопитающих. У многих древесных лягушек на пальцах имеются похожие на бородавки присоски, которыми они накрепко вцепляются в ветки и листья, приземляясь после прыжка. У одного из редких видов веслоногих лягушек, описанного великим натуралистом Альфредом Расселом Уоллесом, исследовавшим Малайский архипелаг, пальцы очень длинные и снабжены перепонками, так что лягушка пользуется растопыренными ладошками, как маленькими парашютами. Боковые оборки из кожи позволяют «летать» одному из видов полупалых гекконов. В покое эти оборки сходятся на брюхе, как жилетик, когда геккон сидит, прижавшись к стволу дерева. Это диковинное существо может менять цвет своей пятнистой кожи и даже радужной оболочки глаз, словно растворяясь на фоне коры. Не думаю, чтобы это были такие уж редкие животные, но они настолько хорошо скрываются, что я обнаружил всего несколько штук.
Из парящих рептилий самой эффектной была ящерица летучий дракон. Их несколько видов, и самый большой в длину достигает более фута. Они живут на вертикальных древесных стволах — там они лазят, ловя и поедая пробегающих мимо муравьев. Самцы защищают свою территорию, неистово сигналя друг другу, причем в качестве резонатора все они используют раздувающийся горловой кожистый мешок — ярко-красного, желтого или черного с белым цветов. Иногда они пускаются в отчаянную погоню, отпугивая незваного гостя от своего насиженного местечка. Самочки одеты более скромно, у них на шее и у горла топорщатся лишь небольшие голубенькие оборочки. Они, как и летающий геккон, могут менять цвет, сливаясь с фоном, но если самки пользуются неброскими бурыми и серыми оттенками, то самцы отдают предпочтение ярким зеленым и желтым тонам. Тонкие, похожие на палки, животные неторопливо взбираются вверх по стволу и, добравшись до вершины, неожиданно и резко дергают головой, выбирая дерево, перед тем как броситься вниз. Поддерживаемые широкими красными перепончатыми складками по бокам тела, они скользят вниз и мягко приземляются, очень медленно снижаясь и с необычайной ловкостью маневрируя вокруг препятствий, иногда даже описывают в воздухе замкнутые петли. «Крылья» натягиваются на выступающие с боков концы ребер и могут произвольно раскрываться или складываться вдоль боков. Эти животные совершенно забывают о земле, кормясь в кронах и передвигаясь в воздухе, но самке приходится спускаться на землю, чтобы отложить яйца. После того как пройдет дождь, она спускается, выкапывает небольшую ямку, откладывает туда три-четыре яйца, поспешно утрамбовывает землю головой и торопится обратно в древесный мир, где ей ничто не угрожает.
Украшенная змея, изгибаясь, плывет в воздухе, как можно больше уплощая свое тело, чтобы увеличить дальность полета. Эти змеи с удивительной скоростью летают среди ветвей, и я видел, как они перепрыгивают расстояния более пятнадцати ярдов. Как-то я нашел одну такую змею, сплетенную в смертельном объятии с крупным гекконом. Змея сжала ящерицу в своих плотных кольцах, но умирающий геккон вцепился в своего врага, и его пасть сомкнулась на голове змеи. Трупное окоченение превратило мертвого геккона в капкан, так что змея не могла ни высвободиться, ни съесть свою добычу. Я разнял челюсти мертвого геккона ножом и освободил змею. Она не обратила на меня ни малейшего внимания и тут же принялась заглатывать свою добычу, которая была значительно крупнее ее самой. Совершив это титаническое усилие, она непринужденно скользнула вверх по ближайшему дереву, нимало не отягощенная дополнительным грузом.
Змеи всегда вызывали у меня завораживающий интерес, и в джунглях их было великое множество. Обычно они настолько неприметны, что я их не видел, но стоило мне заметить одну, как я обязательно встречал в этот день еще нескольких, потому что мой мозг и глаза как бы «настраивались» на соответствующий «поисковый образ». На Калимантане водится тридцать видов ядовитых змей, но почти все они живут на деревьях, так что в джунглях Юго-Восточной Азии подвергаешься меньшей опасности от укуса, чем где-нибудь в Африке, Индии или Австралии. Реальную опасность для человека представляют только черно-желтые крайты (бунгары) да королевские кобры, достигающие в длину более двенадцати футов. Обычно кобры спешили убраться с моей дороги, но однажды я услышал шорох и тут же увидел, как кобра бросилась на меня. Я отскочил в сторону, и кобра промахнулась на несколько дюймов. Она снова взметнулась вверх и бросилась, но я уже был вне досягаемости. Другую крупную кобру я изловил с помощью палки и принес в лагерь, где дал ей несколько раз укусить свою шляпу, чтобы она выпустила яд, а потом отпустил ее. Я снял несколько эффектных кадров разъяренной змеи с раздутым капюшоном, раз за разом бросавшейся на мою кинокамеру.
В реке жили сетчатые питоны колоссальных размеров, и мы не раз видели змей длиннее двадцати футов. Молодые питончики, выгнанные половодьем из своих темных нор, сворачивались в ветвях нависающих над мутной рекой деревьев, и мы их не раз замечали. Я держал пару таких змей в пашем лагере в специальной клетке и кормил их крысами, которых у нас было видимо-невидимо. Мои спутники так и не поверили, что эти змеи неядовиты, даже после того, как одна из них укусила меня и со мной ничего не случилось. Они были уверены, что у меня есть колдовское противоядие, поэтому я для них не мог служить убедительным примером, а испытать укус на себе никто не желал.
Однажды Бахат нашел целую тушу кабана, брошенную питоном. Вся туша была исполосована синими и зелеными-кровоподтеками в тех местах, где ее сжимали железные объятия змеи, задушившей свою жертву. Несколько дней спустя мы вышли на охоту, как вдруг до нас донесся лай и визг одной из наших собак. Мы помчались на звук и увидели несчастное, трясущееся от ужаса животное, которое обвил гибкими кольцами громадный питон. Пингас подскочил и отсек змее хвост. Питон тут же бросил свою жертву и пустился наутек к реке. Бахат, вне себя от ярости, бросился за ним в погоню, чтобы расквитаться с ним. Удивительное дело — он нашел змею, схоронившуюся под речным обрывом, и безжалостно заколол ее копьем. Не обращая никакого внимания на мои просьбы сохранить шкуру, он разил ее снова и снова, пока не превратил в кровавое месиво. У собаки оказалась глубокая кровоточащая рана на шее, куда питон укусил ее, но она удивительно быстро оправилась.
Другую нашу собаку маленькая ядовитая змея укусила прямо в лагере, и собака дня два сильно болела и температурила, а потом тоже выздоровела. Трое наших четвероногих друзей бесследно исчезли, но эта потеря была восполнена с лихвой: две наши суки ушли в лес, выкопали норы, где и произвели на свет в общей сложности девять щенят. Дети души не чаяли в этих щенках, хотя это вовсе не значит, что они с ними хорошо обращались.
Как-то во время своих дневных скитаний я проходил мимо громадного дерева с большим дуплом возле корней. Оттуда слышалось громкое фырканье. Пока я разглядывал дупло, из него высунулась голова дикобраза. Заметив меня, перепуганное животное поставило торчком свои иглы и одновременно попыталось дать задний ход, но встопорщенные иголки препятствовали этому маневру. Дикобразу ничего не оставалось, как со свирепым хрюканьем рвануться вперед, промчаться галопом вокруг дерева и снова юркнуть головой вперед в свою нору. Ну и потешное же было зрелище!
Еще одно животное, которое может нагнать страху на зеленого новичка в джунглях, — это мунтжак. Этот маленький рыжий олень — совершенно безобидное существо, но, если его спугнешь, он разражается таким грозным рыком или ревом, что кажется, будто в кустах скрывается по меньшей мере тигр. Самцы защищают этим рыком свою территорию, и дусуны научились подражать этому звуку, сильно дуя в два сложенных листа. Так они подманивают или самца мунтжака, готового встретить противника, или самочку, ищущую пару.
Самый крупный олень джунглей — замбар, достигающий в холке примерно трех футов. Днем эти животные затаиваются в чащобе, и их редко удается увидеть, но по ночам они выходят пастись среди травы и папоротника, растущих по берегам реки. У меня было разрешение убивать одного оленя в месяц нам на пропитание, и Бахат выходил на охоту за ними, когда темнело. Бесшумно скользя в лодке вниз по течению, он освещал берега светом небольшой керосиновой лампы, пока не замечал тускло-красного свечения глаз намеченной жертвы.
Самый крохотный азиатский оленек-кончил в отличие от своего рослого родича постоянно живет в лесу и питается опавшими плодами. Когда я бродил по ночам, это робкое создание часто попадало в луч моего карманного фонарика. Ослепленный, оленек замирал, как изваяние, глядя на меня громадными испуганными глазами.
Ночной образ жизни ведут также бесшумно скользящие полосатые циветты, бинтуронги с кисточками на хвосте и забавные чешуйчатые панголины. Панголины питаются муравьиными яйцами и так ловко лазят по деревьям, что добираются до гнезд на самых верхушках с той же легкостью, как и до наземных муравейников. Мощными передними лапами этот зверек раскапывает муравейник, а его длинный липкий язык так и мелькает туда-сюда, захватывая яйца, прежде чем полчища кусачих муравьев заставят его поспешно ретироваться. Я попытался держать у себя в лагере мать с младенцем. Малыш был очаровательный и уверенно держался на хвосте у матери, когда она передвигалась. К сожалению, они «разобрали» как-то ночью свой ящик и удрали при лунном свете. Мне принесли еще одного молодого панголина, и я почти все время собирал муравьиные гнезда, чтобы раздобыть для него пропитание. Но, когда он стал кукситься и отказался от еды, я решил выпустить и его. К счастью, он вполне оправился на свободе и через несколько недель забрел в наш лагерь здоровый и веселый, как и прежде [14].
Еще одно любопытное ночное животное — мунрат (гимнур). Эта большая и медлительная землеройка так отвратительно пахнет, что никто не смеет ее тронуть. Поэтому бояться ей нечего, и землеройка вовсе не пытается скрываться. Похожая на белое привидение, она бродит в лесном мраке, поводя длиннющим носом из стороны в сторону в поисках своей добычи — жуков.

Крик кавау, фазана-аргуса, — один из самых привычных звуков в джунглях Юго-Восточной Азии, но сама птица очень редко попадается на глаза. В 1869 году Уоллес писал: «Это была страна большого фазана-аргуса, и мы все время слышали его крики. Когда я попросил старика малайца застрелить для меня одного фазана, он ответил, что охотится на птиц в этих лесах вот уже двадцать лет и за все это время ни разу не добыл ни одного такого фазана, да и видел его один только раз, и то уже пойманного». Ночевать фазаны устраиваются на нижних сучьях деревьев, а весь день проводят на земле. Петух расчищает от опавшей листвы и мелкого подроста танцевальный круг диаметром около семи ярдов. Некоторые из таких танцевальных площадок служат птицам уже сотни лет, и земля на них утрамбована, как камень. С восьми утра до полудня петух сидит на своем кругу и периодически кричит. Птица представляет собой настолько легкую и беззащитную добычу для любой кошки или циветты, которая тоже умеет подкрадываться, что ей пришлось обзавестись необычайно острым слухом и зрением. Я часто подкрадывался к кругу с превеликой осторожностью и обнаруживал, что птица уже скрылась, или успевал увидеть, как она мелькнула, спасаясь по одному из своих потайных ходов в чаще кустарника. Совершенно невозможно и устроить засидку возле круга, потому что птица настолько наблюдательна, что замечает малейшие изменения в окружающей обстановке и уходит с круга, возле которого я что-то нарушил. Только два раза я видел, как петух поет на своем кругу, сопровождая двойным кивком звонкую песенку из двух нот. Птицы кричали каждые восемь секунд в течение нескольких минут, а затем сидели и отдыхали или расхаживали по кругу, убирая опавшие листья, перед тем как начать новую песню. Вне кругов фазаны бродят по лесу и тоже поют, но при этом издают отчетливые трели из примерно тридцати отдельных нот, следующих быстро одна за другой.
И лишь в ритуальном танце перед курочкой фазан показывает во всей красе свой роскошный хвост и длинные перья крыльев. Один раз мне сказочно повезло, и я увидел своими глазами это редкостное зрелище — петух был слишком поглощен своим ухаживанием и не обратил внимания на мое присутствие. Подходя к его кругу, я услышал странный звук, похожий на трещотку. Я потихоньку подкрался и увидел вышагивающую по середине круга птицу, которая ритмично клевала танцевальную площадку у себя под ногами, держа хвост трубой. Внезапно петух распахнул длинные перья на крыльях так, что они образовали широкий веер у него перед носом. Как в хвосте павлина, перья его крыльев были испещрены изумительными глазчатыми пятнами, которые должны были наповал сразить его подругу. Он держал крылья развернутыми несколько секунд, затем начал складывать их, медленно потряхивая ими взад-вперед, — это и был источник того странного трескучего звука, который привлек мое внимание. Он повторил это диковинное представление еще три раза, и на этом все кончилось. Может быть, его дама сердца увидела меня и спаслась бегством, только он высоко вскинул свою синюю головку, огляделся вокруг, да и был таков.
В лесу обитало множество других интересных птиц: празднично окрашенные питты и серые кустарницы прыгали по земле, сладкоголосые дронго и ослепительные щурки порхали среди листвы. Многие из них строили очень забавные гнезда. Птицы-портные делали гнезда из листьев, ловко сшивая листья нитями, раздобытыми из паучьих сетей, а стрижи — салонганы и лягушкороты вообще не строили гнезд, а просто прикрепляли свои яйца чем-то вроде замазки к тонким ветвям. Но самыми поразительными строителями были носороги — большие, крикливые и фантастически разукрашенные птицы, которые устраивали совершенно необычайные гнезда. Облюбовав подходящее дупло, самец замуровывает входное отверстие, оставляя свою подругу в заключении, и лишь через маленькую щелку он ежедневно передает ей кусочки фруктов. В своей тесной камере, которую она выстилает собственным пухом, самка откладывает яйца. Они откладываются с интервалом в несколько дней, так что птенец из первого яйца вылупляется первым. Когда все птенцы вылупились, самка выбирается из своей тюрьмы и вновь замуровывает выход. Родители кормят своих неоперившихся птенчиков через то же отверстие, и каждый птенец, оперившись, в свою очередь вырывается на свободу, но стена тут же восстанавливается — и так до тех пор, пока последний слеток не вылетит из гнезда. Видов птиц-носорогов очень много, некоторые из них держатся стаями, как, например, черный носорог и крикливые пестрые носороги, но более крупные виды ведут одинокий образ жизни. Клюв шлемоносного носорога увенчан гребнем цвета слоновой кости, который так ценится китайскими резчиками, что в наиболее населенных районах эта птица почти исчезла. Пегий (рогатый) носорог, с другой стороны получил свое имя за неописуемый изогнутый рог на макушке. Эта птица почитается священной у даяков-ибанов, которые создают сложные скульптуры и исполняют волнующие танцы в ее честь.
Как даяки, так и дусуны приписывают птицам важную роль посланцев всесильных духов, и создана целая наука толкования предзнаменований, чтобы правильно расшифровывать приносимые ими послания. Я сам потерял из-за этого несколько дней, и, как я ни бесился, даяки отказывались работать, услышав тревожный крик зимородка или алой щурки. Идти на охоту после такого предостережения значило навлечь на свою голову неотвратимую беду или даже верную смерть.
Другое животное, связанное с великими суевериями, — это крохотный долгопят. Мне ужасно хотелось отыскать хоть несколько экземпляров этих редкостных существ с громадными глазами, но сделать это не удалось, более того — я не мог добиться ни малейшего содействия в поисках, потому что увидеть это животное — очень дурная примета, сулящая всякие несчастья.
А вот одно забавное существо встречалось в изобилии — необыкновенная носатая обезьяна. В прибрежных областях эти уродливые крупные обезьяны обитают в мангровых зарослях, но они живут и в глубине джунглей Улу-Сегама, их там несколько громадных стай, не меньше сотни обезьян в каждой. За висячие красные распухшие носы самцов эти обезьяны получили местное прозвище «кера беланда» (обезьяны-голландцы), и старые самцы имеют совершенно неописуемый вид — кроме смешных носов у них еще и короткая прическа ежиком! По ночам рассеянные в лесу группки скликаются довольно неприличными гнусавыми звуками, напоминающими автомобильный клаксон. Возможно, обезьяньи носы помогают издавать столь необычные звукоподражания, но они, кроме того, служат сильнодействующим зрительным раздражителем и угрожающе выставляются навстречу любому противнику, будь то обезьяна или человек. Вообще этих обезьян никак не назовешь приветливыми зверюшками — стоило им меня заметить, как они начинали носиться у меня над головой, заливая меня потоками вонючей мочи. Признаться, от них так несло, что я вполне мог отыскать этих животных на довольно большом расстоянии, принюхиваясь к их запаху. Передвигались стаи с таким шумом, что иногда я думал, что ко мне ломится сквозь чащу стадо слонов. Среди «талантов» носатых обезьян не последнее место занимает умение плавать. Это не единственная обезьяна, которая охотно плещется в воде, — случалось видеть, как длиннохвостые макаки переплывают реки, но подвиги носатой обезьяны оставляют далеко позади всех ее сородичей. Несколько раз, когда мы вспугивали их во время кормежки на прибрежных деревьях, они совершали головоломные прыжки в воду и исчезали в ней с головой. Может быть, запас воздуха в носовых полостях позволяет им подолгу оставаться под водой, но нет сомнения, что подобные способности очень полезны в болотах и прибрежных лесах, где они обитают. До сих пор об этих удивительных животных очень мало известно, и дальнейшее изучение даст много интересного.
Хотя в лесу было множество малайских медведей, они вели себя очень робко, и я редко сталкивался с ними. При первой встрече я не сразу разобрал, с кем меня свела судьба. Я увидел, как две какие-то черные тени бегают среди кустарников и при этом булькают, словно паровые котлы. Я подумал, что наткнулся на пару индюшек, но, когда играющие животные выкатились на открытое место, понял, что эта пара малайских медведей-бируангов. Один был крупный, фунтов в двести весом, а другой примерно вдвое меньше. Я решил, что это, должно быть, медведица с медвежонком. Они носились как сумасшедшие вокруг дерева своей резвой развалистой походкой, но вдруг повернулись и со всех ног бросились ко мне. Самка, бежавшая впереди, заметила меня, когда сворачивать было уже поздно. Она взревела и бросилась напролом. Я выхватил свой паранг и взмахнул им над ее головой в тот момент, когда она поднялась на дыбы. Она увернулась от удара, и мне пришлось поспешно спасаться от ее острых когтей. Она по инерции пронеслась мимо меня, но я сам потерял равновесие и упал. Ее отпрыск счел этот момент самым подходящим и бросился в атаку. Я взмахнул своим мечом и задел его по плечу. Он отступил с воем, и я обернулся — как раз вовремя, потому что его мамаша снова неслась на меня. Когда она была совсем близко, я испустил оглушительный боевой вопль, и она проскочила мимо. Я воспользовался моментом и резво вскарабкался вверх по холму, тревожно озираясь — не гонится ли медведица за мной по пятам. Она с ревом и рычанием бегала взад и вперед вокруг раненого малыша, а я поспешил удрать подальше; я почувствовал себя очень скверно, как только голос рассудка) снова возобладал над инстинктом. Мать схватила своего орущего младенца за шиворот и, двигаясь задом, утащила его волоком через небольшой ручеек и вверх на склон противоположного холма.
Мне пришлось присесть на несколько минут, пока у меня перестали дрожать руки и ноги и хватило сил отправиться восвояси. Я вспомнил, как Мань говорил мне, что медведь — самое опасное животное в джунглях и причиной всему то, что он подслеповат. Многие животные охотно сворачивают с дороги, чтобы обойти человека, а медведь прет напролом, так что оказывается чересчур близко, пугается и в панической ярости разит направо и налево своими смертоносными когтищами. Если подумать, то мне еще повезло, что я ушел невредимым. У Бахата, моего лодочника, нога так и не сгибалась — память о встрече с медведем, а другие, менее везучие, вообще распростились с жизнью. В дальнейшем, как только я замечал издали этих животных, я вооружался молодым деревцем и принимался отчаянно размахивать им над головой, одновременно крича во весь голос, — это был способ сообщить медведям о своем присутствии и дать им время уйти с моего пути.
Больше я не боялся ни одного животного, кроме слонов. Тех мест, где они находились, я старался избегать, а громкий треск кустарников в чаще служил для меня сигналом уносить ноги подальше; я сворачивал в сторону и далеко обходил это место. Внизу, у ручейка, невдалеке от одного из моих лесных убежищ, я подвесил на дереве две банки для питья. Как-то утром, проходя мимо этого места, я увидел, что мои сосуды исчезли и все истоптано следами громадного слона. Ярдах в пятидесяти я заметил в воде что-то блестящее и выудил одну из своих банок, расплющенную в лепешку. Недалеко валялась и вторая, которую постигла та же участь. Я так и не узнал, что привлекло внимание слона — их блеск или запах человека, но, как он относится к мусору в своих владениях, слон дал мне понять весьма недвусмысленно.
После того как в течение нескольких месяцев я старательно избегал громадных животных или успевал только мельком увидеть их, трусливо оглядываясь во время бегства, я решил, пора мне все же взять себя в руки и попытаться подойти к слонам достаточно близко, чтобы снять их на кинопленку, провел в лесу беспокойную ночь, прислушиваясь к громкому треску и трубным кликам внизу под холмом, а поутру пошел по следам животных со своей кинокамерой. Оставленные ими кучи помета еще угрожающе дымились, и следы пересекались в разных направлениях, выдавая присутствие нескольких животных. Наконец я услышал их впереди — оттуда доносилось какое-то странное гулкое постукивание с неравными интервалами. У меня дрожали коленки, и меня так и подмывало удрать подальше, но я заставил себя идти вперед, пока не увидел слонов в ручье под холмом, на котором я находился. Подкрадываясь еще ближе, я высматривал на всякий случай подходящие деревья, на которые можно было бы влезть. С превеликой осторожностью я подобрался к краю обрыва и стал подсматривать под прикрытием кустарника. В русле ручья задом ко мне стояла большая слониха, а перед ней — маленький слоненок, и оба уплетали вьющиеся растения. Слониха дергала хоботом покрытые плодами ветви и запихивала их в рот. При этом она покачивала головой из стороны в сторону и переминалась с ноги на ногу так, что валуны в ручье ударялись друг о друга с тем самым странным звуком, который я уже слышал. Я попытался поднять камеру и снимать с рук, но руки у меня так дрожали, что пришлось опереться руками на сук. Я отснял несколько метров и поспешно ретировался, боясь, что звук камеры встревожил слонов. Только через полмили сердце у меня перестало бешено колотиться, и я немного перевел дух.
Опасным слывет еще одно животное — бантенг, или дикий бык. Это очень редкое, строго охраняемое законом животное. Размером оно с домашнего буйвола. Бык поражает своим нарядом — у него черная шкура, белый круп и «носки» на ногах. Коровы гораздо меньше, и шерсть у них теплого каштаново-рыжего цвета. Следы этих животных очень напоминают следы домашнего скота, но в джунглях их встретишь не часто. Я видел этих животных всего три раза, и всегда они проявляли нескрываемое любопытство, стояли и глазели на меня, а потом, отбежав галопом подальше, снова останавливались. Однажды мы обнаружили возле реки вытоптанную траву и следы крови — опять браконьеры, как видно, взялись за свое дело. В папоротниках оказались спрятанными голова и потроха крупного быка-бантенга. Бахат сказал мне, что за мясо в городе дадут хорошую цену — оно сойдет за говядину.
Одно из самых редких животных в тропическом лесу — двурогий носорог, который очень высоко ценится за свои пресловутые рога: они якобы обладают великими целительными свойствами и являются могучим средством для поддержания мужской силы. В начале века в районе реки Сегамы водилось довольно много носорогов, и дусуны часто охотились на них с духовыми трубками и копьями, но с появлением; огнестрельного оружия численность носорогов резко пошла на убыль. Их осталось так мало, что даже дусунов, видевших в наши дни хотя бы следы животных, не говоря уж о самих носорогах, насчитываются единицы. Ибаны из Саравака до сих пор живут за счет браконьерской охоты на носорогов, которых они иногда выслеживают неделями. И хотя свежие следы носорога попались мне на третий день пребывания в джунглях, за все шестнадцать месяцев моей работы в Улу-Сегама я видел еще не больше дюжины таких следов. Обычно они попадались на глаза возле грязевых ванн с дождевой водой, приютившихся среди холмов на севере моего исследовательского участка. Я ни разу толком не видел самого носорога, хотя один раз спугнул большое животное, которое с треском бросилось от меня вниз по склону. Несмотря на все усилия, ближе, чем тогда, мне не пришлось подходить к этому редкому существу. В другой раз я больше часа шел по следу двух носорогов в надежде их наконец увидеть. На пути все еще держался резкий запах животных, а так что было ясно, что они ушли недалеко. Я замечал вытоптанный невысокий кустарник, где они щипали листья, и мазки грязи на древесных стволах там, где они проходили. Было очень обидно, когда следы вывели меня к твердому галечнику, и, как я ни старался прочесать местность далеко в обе стороны, след затерялся, и преследование пришлось прекратить.
Носорог, конечно, редчайшее животное, но оно по крайней мере всем известно и занесено в научные книги, а вот о батутуте этого не скажешь. Я шел вдоль цепи холмов на противоположном берегу реки, куда ранее не решался выбираться. Тропа была отличная, хотя и грязноватая, и я беззаботно топал по ней. Вдруг меня словно молнией поразило. Опустившись на колени, я увидел отпечаток стопы, похожий на след человека и в то же время настолько нечеловеческий, что мурашки поползли по коже, я едва поборол сильнейшее желание спастись бегством. След по форме вписывался в треугольник, длина его была шесть дюймов (пятнадцать сантиметров), а ширина — четыре дюйма (десять сантиметров). Пальцы были точь-в-точь как у человека, пятка тоже ясно отпечаталась, но сама стопа была слишком короткой и широкой, а большой палец оказался не с той стороны, где следовало.
Следы вели все дальше, и я пошел по ним, всматриваясь в отпечатки. Различались и правая, и левая нога, только отпечатки их оказались так странно разбросаны, что трудно было сообразить, где же правая, а где левая. Многие следы были уже затоптаны недавно пробежавшими свиньями, но несколько отпечатков прекрасно сохранились, и я их зарисовал, отметив их положение относительно друг друга. В общем и целом я нашел две дюжины следов на расстоянии примерно десяти ярдов. После этого открытия всю мою беззаботность как рукой сняло, и я пошел дальше по гребню, пока не добрался до хорошо знакомых мест.
Должно быть, я слишком задумался о посторонних вещах, потому что никак не мог отыскать следы орангутанов. Я даже обрадовался, когда пришлось прервать это занятие и спрятаться под наклонным стволом, пережидая невесть откуда налетевшую грозу. Все еще в глубокой задумчивости, я пробрался через мокрый после грозы лес к реке, где ждал меня в лодке Бахат.
Когда мы вернулись в лагерь, я показал ему свои наброски и спросил, какое животное оставило эти следы. Он уверенно выпалил: «Батутут!» Но, когда я попросил описать это животное, он ответил, что это вовсе не животное, а такой дух. Бахат очень похоже изобразил его крик — протяжное «туу-туу-туу», за который он и получил свое прозвище, и рассказал мне кучу разных историй про это загадочное ночное существо, которое обитает в лесной глуши и питается улитками, разбивая раковины камнем. Как он мне рассказал, батутут ростом около четырех футов (один метр двадцать сантиметров), ходит на двух ногах, как человек, и у него длинная черная грива. Говорят, что он очень любит детей и заманивает их в лес, но вреда им не причиняет. Однако взрослым он никогда не показывается, но иногда находят людей, которых батутут убил и разорвал, чтобы полакомиться их печенью (у малайцев печень считается средоточием всех чувств, как у европейцев — сердце). Подобно всем остальным духам джунглей, это существо очень боится света и огня. Бахат сказал, что в молодости он тоже видел следы батутута, да и другие односельчане время от времени на них набредают.
Когда я высказал предположение, что это следы медведя, самолюбивый Бахат был уязвлен.
— Они слишком велики для медведя, да и когтей у него нет. Кроме того, медведь совсем по-другому ступает! — взглянув на свою левую ногу, он добавил: — Я-то знаю, мне приходилось иметь дело с медведями, туан.
Когда я порасспросил жителей кампонга, оказалось, что они прекрасно знают батутута, и их рассказы подтвердили все, что мне говорил Бахат. Я достал фотографии стоп малайского медведя, и они действительно оказались слишком маленькими и отличными по форме от тех следов, которые я видел. Впоследствии я видел гипсовые слепки следов более крупного существа из Малайи, которое там зовут «орангпендек», то есть «коротышка». И там тоже рассказывают о небольшом существе с длинными волосами, которое ходит на двух ногах, как человек. Рисунки и даже фотографии подобных отпечатков на Суматре считают следами «седаны», или «уманга», небольшого, боязливого, длинноволосого и двуногого существа, живущего в самой недоступной глубине джунглей. Во всех этих рассказах есть интересная подробность: говорят, что стопы этого уманга перевернуты задом наперед; я думаю, эта мысль возникла из-за расположения большого пальца на месте мизинца. У медведей самый большой палец, как правило, находится с внешней стороны, и широкая стопа имеет треугольную форму. Однако только значительно более крупный медведь, чем малайский, мог бы оставить подобные следы. Может быть, в джунглях Юго-Восточной Азии до сих пор скрывается неописанный вид медведя или нам всерьез придется поверить сказкам о маленьком народе, поедающем улиток?
Глава 7
Урожай плодов

В течение марта и апреля кабаны понемногу стали возвращаться, но в таком виде, что их едва можно было узнать: от гладких, здоровых животных, которые всего несколько месяцев назад стремились на север, почти ничего не осталось. Они настолько отощали, что множество пало от голода, и стали такими злобными, что приходилось все время быть начеку, чтобы они на меня не напали. Пингас заколол копьем свинью неподалеку от лагеря, но на этом живом скелете оказалось так мало мяса, что ее не стоило и тащить в лагерь. Назавтра от туши не осталось и следа. Изголодавшиеся соплеменники разорвали ее на куски, растащив даже кости и зубы. Кабаны были в таком неистовстве от голода, что научились даже караулить под плодовыми деревьями и с жадностью пожирали все мелкие объедки, которые роняли кормящиеся обезьяны или белки. Голодные свиньи устраивали бешеные сражения, но лакомки наверху не обращали на них внимания. Орангутаны относились к этим шумным сотрапезникам совершенно хладнокровно, и я даже обиделся, что они так терпеливо сносят этих нахальных нарушителей спокойствия, а когда я совершенно тихо приближался к ним, это им не нравилось, и они начинали беспокоиться. Уж не вмешаться ли и мне в свару из-за упавших объедков?
В июне вся популяция внезапно стала очень активной. Самцы начали яростно перекликаться, и с запада прибыло множество незнакомых мне орангов. Первой с этими чужаками встретилась Сара, одинокая самка. Она завизжала и стала изо всех сил трясти ветки, увидев чужую самку с подростком-детенышем. Через полчаса появилась еще одна самка с двумя детенышами, а за ней проследовали два крупных самца, которые возвещали о своем прибытии обычными демонстрациями и тоже трясли сучья. Рыжий полувзрослый оранг, которому, как видно, надоели злобные нападки старшего самца, решил выместить свое недовольство на Саре, которая удрала с громкими криками протеста против подобной несправедливости. А громадный черный самец решил, что я более доступная жертва. Поблизости собралось восемь орангов, и это был бесподобный случай для наблюдения, но, когда грозная обезьяна спустилась с дерева, чтобы свести со мной счеты, я решил, что пора убираться подобру-поздорову.
Примерно в миле от этой неприветливой компании я заметил знакомое шоколадное существо, прижавшееся к белой коре ствола полиальтии. Мидж сидел на несколько футов ниже своей матери, и оба с наслаждением жевали полоски коры, высасывая сладкий сок и сплевывая жвачку, точь-в-точь как старики, жующие табак. Казалось, что они чувствуют себя совершенно спокойно и привольно, но вряд ли они долго не догадывались о присутствии других орангов, потому что следующие три дня их то и дело тревожили гулкие вопли злобного черного самца. Маргарет и Мидж потихоньку пробирались к своим излюбленным местам на Гребне-Подкове. Их осторожность и черепаший темп в конце концов мне порядком надоели, и я снова отправился к северу — посмотреть, что там делают пришлые обезьяны. Я провел еще один необыкновенно плодотворный день, потому что обезьяны по-прежнему путешествовали группой, и мне удалось наблюдать за девятью животными одновременно. По большей части это были робкие самки со своими отпрысками, зато полу взрослый самец — уверен, что это был мой прошлогодний Хэмфри, — оказался очень ручным и позволил мне сидеть рядом, пока он с завидным аппетитом закусывал.
Дни шли, и я следовал за разными особями этой группы, которая медленно двигалась на восток. Отдельные обезьяны уходили далеко на север и на юг, но в группе явно существовало центральное ядро, в котором в любое время можно было застать примерно половину всех переселенцев. Такого я не видел ни разу за целый год полевых наблюдений. Еще раз я мельком увидел своего черного врага — он вихрем пронесся мимо меня по земле, настолько поглощенный своими делами, что не заметил ни меня, ни двух орангутанов, раскачивавшихся в кроне. Больше я его не встречал, но остальные путешественники упорно шли вперед и, перевалив через Центральный гребень, оказались во владениях Рыжей Бороды. Рыжая Борода, как видно, поджидал их — я слышал его крики несколько раз за неделю до их прибытия. Конечно, он встретил их с «распростертыми объятиями» — пронесся, как смерч, сквозь кроны деревьев и напал на двух беззащитных самок с детенышами. Они с визгом бросились наутек по узкой лощине, но Рыжая Борода гнался за ними, не зная жалости. Настигнув меньшую из двух самок, он стащил несчастную нарушительницу на землю, задал ей трепку и успел воспользоваться ее беспомощным положением, а потом отправился дальше вдоль гребня, победоносно вопя во все горло.
Бородатым кабанам очень не повезло в это голодное для них время — по иронии судьбы орангутаны и мартышки успевали слопать сладкие плоды, до которых кабаны такие же охотники, прежде чем они успевали упасть на землю. Даже менее аппетитных маслянистых семян двукрылоплодника, которыми кабаны питались в другие сезоны, и то не хватало.
Климат во влажном тропическом лесу в течение года почти не меняется. Несмотря на то что в сухой сезон выпадает примерно вдвое меньше осадков, чем в сезон дождей, сумрачные джунгли всегда пропитаны сыростью, и температура там держится почти на одном уровне, поднимаясь в полуденную жару до 33 °C. Влажность так велика, что кожаные изделия расползаются, а на линзах объективов разрастаются целые плантации грибов. И все же, несмотря на то что весь год сохраняются примерно одинаковая температура и влажность, можно отметить отдельные сезоны, не менее четко различимые, чем в умеренных широтах.
Многие деревья цветут, плодоносят и одеваются свежей листвой в определенной последовательности, так что самые многочисленные их виды определяют характер джунглей. Когда цветут деревья мелапи, целые склоны холмов утопают в их белых цветах, а молодые листья на ветвях рамуса придают всему лесу красноватый оттенок. Многие семена созревают с апреля по ноябрь, так что можно отличить сезон плодоношения от более умеренного «летнего» сезона. Наступление этого сезона изобилия возвещает вадан, высокий ползучий бамбук, жесткие, похожие на орехи плоды которого представляют собой обычный и очень важный продукт питания орангов. С каждым месяцем один за другим поспевают и приносят щедрый урожай дикие сливы, личжи, нефели-умы, тарапы, лансиум, фиги и дурианы. Но с приближением дождливого сезона разнообразие и изобилие плодов начинают неуклонно уменьшаться, так что животным приходится собирать богатый урожай, пока он еще доступен.
Во время созревания плодов оранги наедаются до отвала, тучнея на сладкой диете, и заплывают жиром, набирая его про запас на зиму, когда им снова придется довольствоваться голодным пайком — листьями, корой да сердцевиной стеблей. Именно из-за того, что доступное количество пищи так сильно варьирует в зависимости от сезона, орангутаны и выработали способность накапливать про запас такую уйму жира, но этот же самый защитный механизм приводит к тому, что в неволе оранги чудовищно жиреют, если их весь год вволю кормят фруктами.
Несмотря на то, что сезон созревания фруктов можно назвать сезоном изобилия, урожай распределен очень неравномерно. В одном месте поспел богатейший урожай нефели-ума, а в другом месте деревья усыпаны спелыми фигами. И мало того что каждый вид плодоносит в свое время, еще и отдельные деревья одного и того же вида, но растущие в разных местах приносят урожай в разные сроки. Так что животные, которым нужно извлечь максимум пользы из щедрого урожая плодов, должны собирать плоды, передвигаясь по лесу, да так, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Вот почему именно в этот сезон орангутаны больше всего перемещаются, предпринимая далекие походы за пищей в пределах своего местообитания.
В начале сезона оранги далеко не уходили, и это дало мне возможность близко наблюдать за несколькими постоянными обитателями района. На дальней восточной окраине моего участка обитали две самки, у одной был детеныш-подросток, а другой — подросток и малыш. И хотя они никогда не бродили вместе, я часто видел, как они кормились на одном дереве, поэтому думал, что они из одной семьи. Быть может, самки были сестрами или это даже были мать и дочь. Маргарет и Мидж все еще жили на окраине моих владений, но эта парочка от меня пряталась, и я видел их очень редко. Где-то в глуши затаилась еще одна одинокая самка, было и несколько самцов, но их перемещения было гораздо труднее предвидеть. Рыжая Борода царил на северо-востоке, и временами нам наносил визиты Раймонд, а вот Гарольд как в воду канул. Ненадолго заглядывали к нам и другие патриархи, но все они тяжеловесно ломились дальше сквозь чащу, продолжая намеченный путь.
Вверх по долине бок о бок стояли два дерева: на одном созревали горькие дикие мангустаны, а второе ломилось от сочных фиг, которые еще не дозрели. Холм лежал как раз на пути миграции орангутанов, и я решил, вместо того чтобы бродить по всему лесу в поисках орангов, обосноваться в этом плодородном местечке и посмотреть, кто на меня выйдет. Оказалось, я рассудил как нельзя лучше: трудов у меня значительно поубавилось, а за неделю ко мне пожаловали двенадцать разных орангов. Когда через мой пост прошли последние отставшие обезьяны, я обошел эту группу на марше и примерно в миле к востоку вышел на соединение с авангардом. Рыжая Борода принял на себя обязанности главного организатора, и когда я слышал его рев, то мог быть в полной уверенности, что найду нескольких обезьян и смогу за ними понаблюдать.
По мере того как начали созревать плоды на ползучих фикусах, путь странников отклонился к северу. Растения, на которых зреют плоды, по сути ползучие паразиты, оплетающие другие деревья в поисках опоры; они спускаются вниз из полога крон, постепенно душа и убивая поддерживающие их деревья по мере того, как сами разрастаются и все шире простирают свои одетые листьями ветви. У некоторых из этих фикусов-душителей образуется масса воздушных корней, которые расширяются по направлению к земле, как подвесные контрфорсы, но тот вид, который сейчас был центром внимания, выбрасывает один-единственный белый корень. Так что толстый ствол, поддерживающий тяжелую, усыпанную фигами крону, — это всего лишь мертвая подпорка, а источником жизни для всей этой зеленой массы служит тонкий корень, свисающий вниз, как любая другая лиана. На одном из таких деревьев корень тянулся больше чем на сто футов и достигал земли далеко от основания поддерживающего ствола. Это дерево стояло поодаль от своих рослых соседей, и оранги могли добраться до соблазнительных плодов только одним способом — раскачавшись на висячей лиане. Орангутану нужно было около трех минут, чтобы взобраться по этому тонкому канату, и примерно столько же на обратный путь. Это была идеальная мизансцена для эффектных кинокадров, и я ругательски ругал свою кинокамеру, завод у которой кончался ровно через пятнадцать секунд.
Но меня ждали впереди еще более поразительные зрелища: через несколько дней, когда по соседству на одном фикусе созрели плоды, я побил все рекорды в наблюдениях за орангами. Мои рыжие друзья пронюхали про богатый урожай раньше меня, и среди высоких крон уже красовались четыре больших свежих гнезда из зеленых ветвей. Однако на дереве оставалось множество плодов, а орангутанов на нем не оказалось. Был полдень, и стояла удушливая жара. Тут я заметил, что из-за края самого нижнего гнезда торчит пучок ярко-рыжей шерсти. Целый час все было неподвижно, потом показался подбородок, такой мощный и характерный, что не было ни малейшего сомнения в том, кому он принадлежит. Старый верный друг — Рыжая Борода — опять оказался в самом центре событий. Он не торопился вылезать, но мало-помалу явился из гнезда во всем своем великолепии. Ухватившись за ветку одной рукой, он непринужденно раскачался и перемахнул на более тонкую ветку, словно не замечая собственного веса в две сотни фунтов. Он уверенно продвигался вдоль ветки, выбирая только самые спелые плоды.
Сытый и довольный, он возвратился на свое ложе и предался заслуженному отдыху. Так и проходил день; после того как, он вкусно поел, ему полагалось немного соснуть, и это повторялось снова и снова до бесконечности. В вечерней прохладе к нему присоединились голуби — целая стая, воркуя и хлопая крыльями, набросилась на обильное угощение. Когда совсем стемнело, голуби улетели, и я думал, что Рыжая Борода уйдет с дерева и построит себе ночное гнездо на дереве поменьше. Но он и не подумал спускаться, а вопреки ожиданиям обследовал свое прежнее спальное место и в конце концов устроился в том же гнезде, где дремал в течение дня.
С первыми проблесками рассвета оказалось, что на дереве уже полно кормящихся животных. Рыжая Борода восседал среди сучьев, как на троне, и величественно созерцал своих подданных. Вернулись голуби, а с ними пара черных гигантских белок и несколько кудахтающих птиц-носорогов. На почтительном расстоянии, собирая плоды с дальних сучьев, расположились еще двое орангутанов — мать и маленький детеныш. Малыш имел возможность обогатиться драгоценным опытом в борьбе за существование: он никак не поспевал за своей матерью, которая с неимоверной быстротой двигалась вперед, хватая самые лакомые плоды. Воркование и хлопанье крыльев привлекло новую стаю голубей; тройка гиббонов с уханьем перемахнула через широкий промежуток, разделяющий деревья, и присоединилась к толпе пирующих. Они пользовались ветвями, как трамплинами, раскачиваясь вверх и вниз, прежде чем взлететь в головоломном прыжке. Гиббоны работали очень прытко, хватая одну за другой красные фиги и запихивая их и в без того до отказа набитые рты. Молодой гиббон, отстав от старших, попробовал увлечь маленького оранга игрой в пятнашки или «догонялки», но, хотя младенец ростом и был под стать гиббончику, на такие трюки у него еще не хватало ловкости, и он удрал под защиту своей мамаши. Молниеносно обшарив все дерево, гиббоны умчались дальше длинными прыжками.
Прибыла еще одна самка орангутана в сопровождении подростка и начала взбираться по сплетению корней фикуса, как по лестнице. Первая мать семейства решила, что место становится чересчур многолюдным и беспокойным и пора уходить. Перехватывая лиану руками, она спустилась вниз, все время оглядываясь, чтобы убедиться, что все спокойно. Малыш, не обратив ни малейшего внимания на тщательные предосторожности матери, кубарем скатился вслед за ней и съехал вниз по тонкому корню, как заправский пожарник.
Становилось все жарче, и первыми улетели голуби и птицы-носороги, а за ними постепенно разбрелись и остальные животные, оставив Рыжую Бороду полноправным и явственным владельцем дерева. Он же переменил спальню и теперь отдыхал в другом гнезде. Под вечер на угощение пожаловали новые гости — самка орангутана с двумя детьми и стайка болтливых птиц-носорогов. Полувзрослый самец оранга начал было взбираться по тонкому канату, но Рыжая Борода встретил его руладой басистых булькающих звуков, грозно предупреждая, чтобы тот держался подальше. Не дерзая ослушаться, незадачливый юнец отправился на поиски пропитания в другое место. Вечером толпа гостей поредела, и мать с малышом вернулась перекусить перед сном.
Я никак не мог поверить своей удаче. Вот так сидеть и наблюдать за множеством орангутанов — это было просто невероятно! Целый год я продирался сквозь адские дебри, чтобы несколько часов понаблюдать в одном месте или мельком увидеть орангов в другом. Я считал, что мне сказочно повезло, если удавалось следовать за животными три-четыре дня кряду, но мои наблюдения складывались по кусочкам, месяцами, и редко я видел больше одного-двух животных одновременно. А теперь мне оставалось только сидеть на одном месте да строчить в блокнот свои записи — и все дела! Это было легче легкого. За одну неделю я провел, наблюдая за орангутанами, восемьдесят часов, и за месяц видел больше встреч между отдельными подгруппами, чем за весь предыдущий год. Но даже теперь оранги практически не обращали внимания друг на друга и вели себя так, словно они кормятся в гордом одиночестве. Однако они поддерживали явный контакт друг с другом внутри групп в полном противоречии с моими прежними наблюдениями. Можно ли делать какие-то общие выводы о жизни орангутанов, если они обнаруживают подобные контрасты в поведении, и кто скажет, какие еще тайные грани их характеров остаются скрытыми от наблюдателя?
Может быть, мои противоречивые открытия можно объяснить, учитывая то, что в местности к северу от Сегамы покой животных нарушил лесоповал милях в двадцати от наших мест. Обычно здесь обитали несколько оседлых особей, державшихся на почтительном расстоянии друг от друга, а теперь сюда хлынули чужие орангутаны, которым пришлось искать новый дом после того, как из прежних владений их выжил лесоповал. Безусловно, этим можно объяснить появление на моем участке множества животных, которые пробыли здесь недолго и больше никогда не возвращались. Эти пришельцы своим появлением создали в моем представлении довольно путаную картину нормального территориального поведения орангутанов. При этом они, как видно, внесли такую сумятицу в местную популяцию, что старые самцы стали кричать гораздо активнее, и вследствие этого рождаемость здесь резко снизилась.

В прошлом году я пропустил сезон созревания дуриана, но нынче в июле колючие плоды снова стали наливаться соком. Дуриановые деревья — большая редкость, и на моем участке их оказалось всего восемнадцать. Различают три разновидности плодов: лампоон — продолговатые зеленые плоды с кремовой мякотью; дидинджи — очень редкая форма с круглыми красными плодами и приторной ароматной желтой мякотью и мераан — круглые желтые плоды с сочной красной сердцевиной. Последний очень любят дусуны, но китайцы высоко ценят как раз дидинджи и лампоон и дают за них хорошую цену на местных рынках. Бахат собирал дуриан тем же способом, что и мед, поэтому он снова возился с тем же снаряжением.
Для меня начало сезона ознаменовалось первой встречей с крупным молодым самцом оранга — он сидел высоко в кроне лампоона на южном берегу реки и лакомился плодами. Мы вытащили лодку на отмель и целый час наблюдали, как объедался этот гурман, но он с таким упоением уплетал сочную мякоть, что ни разу даже головы не поднял, словно нас тут и не было. Я запретил Бахату обирать плоды с деревьев, которые были видны с рек Боле и Сегама, и вообще в пределах участка, где я проводил наблюдения. Я регулярно осматривал эти деревья, проверяя, добрались ли до них мои оранги. Когда обезьяна кормится, она бросает вниз колючую кожуру плодов, и на земле кожура постепенно буреет, затем чернеет, так что по цвету кожуры можно узнать, сколько дней прошло с тех пор, как здесь побывали обезьяны.
После целой недели ненастья погибло множество недозрелых плодов, и мы не дождались того сказочного урожая, на который надеялся Бахат, зато деревья помогли мне довольно точно определить, сколько орангов обитает на том или ином участке леса. К северу от Сегамы многие дурианы подвергались набегам орангов по пять-шесть раз, поэтому плоды не успели дозреть, а вот на южном берегу их посещали не больше одного-двух раз, и там плоды достигли полной спелости. К востоку от реки Боле дурианы вообще сохранились почти в полной неприкосновенности — верный признак того, что в этих местах очень мало орангутанов: я в жизни еще не встречал ни одной рыжей обезьяны, способной устоять перед такой соблазнительной приманкой; стоит ли удивляться, что мне так не везло в этих местах! На севере своих владений я расчистил от подлеска участки возле деревьев, которые больше всего привлекали обезьян, так что мне было отлично видно кормящихся животных. Оранги прекрасно знали расположение деревьев, и как-то раз я шел следом за Хэмфри по хорошо разработанному маршруту — он умудрился включить в обход не меньше половины всех местных дурианов.
Свежая кожура мераана, разбросанная под деревьями на востоке моего участка, недвусмысленно свидетельствовала о присутствии орангов, но самих орангов я отыскать не мог. Однако на следующий день я встретил самку Джоэль, которая вместе со своими двумя отпрысками направлялась вдоль гребня к усыпанному плодами дереву. Я уже было решил, что это и есть главные налетчики, когда подоспели еще два оранга — Рита и ее сын-подросток Рой. Рита держалась поодаль, а Рой помчался играть с остальной детворой. Рита потихоньку ускользнула и ушла вниз по долине, вскоре ее уже не было видно. Когда Рой заметил ее отсутствие, он бросил своих товарищей и понесся вниз по склону искать мать, жалобно повизгивая на бегу. Я пошел за оставшимися тремя орангами прямо к мераану. Как и следовало ожидать, земля была густо усеяна кожурой дуриана, и Джоэль с семейством пришлось довольствоваться Ритиными объедками. Не удивительно, что Рита так смутилась, встретив их по дороге.
Когда дурианы отошли, богатый урожай кожистых зеленых стручков на жестких белых стволах мербау не дал орангам скучать. В лесу поспевало множество других плодов, так что оранги жили привольно: хочешь — проводи время в блаженном безделье, а хочешь — пируй в свое удовольствие. Из-за этого повсеместного изобилия оранги опять рассеялись по лесу, и мне пришлось ограничиться наблюдениями за одинокими самцами или за самками с потомством. Рыжая Борода куда-то подевался, и пришлый самец, Алекс, беспрепятственно разгуливал по его владениям. Маргарет не уходила из наших мест, а Джоэль оставалась в своей долине. С едой теперь никаких проблем не было, и каждое животное смогло вернуться в свой излюбленный уголок леса, чтобы жить в свое удовольствие той спокойной, беспечной и лишенной забот отшельнической жизнью, которая так характерна для этого вида.
Лишь в те периоды, когда пищи становилось мало, оранги покидали свои привычные уголки и отправлялись в дальние странствия в поисках более плодородных угодий. Только в такое время они следовали за ревущими самцами, потому что эти животные накопили богатый жизненный опыт, лучше всех знали лес и помнили прежние урожаи. Если уж кто-нибудь и найдет еду, то в первую очередь ревущие самцы, да только лучше держаться подальше от этих сварливых патриархов, которые не выносят толпы, привлеченной их же собственными воплями.
Почти у самого лагеря я наткнулся на маленькую самочку оранга. Мне встречалось несколько бродячих одиноких подростков, но обычно такой образ жизни вели более самостоятельные самцы. Может быть, мать малышки погибла, или попала в беду, или у нее просто не по возрасту независимый характер? Она увидела Риту с Роем у вершины гребня и направилась к ним. Риту она побаивалась, но охотно согласилась поиграть с Роем, и вскоре они уже носились как угорелые среди свисающих плетей лиан. Они гонялись друг за другом, мелькая то тут то там, раскачивались, как на качелях, сливаясь в оранжево-шоколадный вихрь, а довольная мать отдыхала, раскинувшись на ветке в высокой густолиственной кроне. Три дня подряд маленькая странница держалась рядом с Ритой и Роем, проводя время в играх или деля с ними трапезу из сочных спелых тарапов. Потом Рита с сыном шли дальше, и маленькая самочка осталась в одиночестве — немногие оставшиеся плоды ей приходилось добывать в соперничестве с гиббонами. Она оказалась последним диким орангом, которого я видел на Калимантане, — на следующий день мы погрузились в лодки и в последний раз отправились вниз по реке.
Течение несло меня мимо знакомых островков, холмов и извилистых ручьев, которые я успел полюбить. В нескольких милях выше пещер Тападонга мы повстречали плодоядных крыланов — главную достопримечательность моего первого путешествия на реку Сегаму. Наши лодки вспугнули их, и они тучами взмыли над освободившимися от тяжести их тел сучьями. Тысячи перепончатых крыльев отбивали прихотливый ритм, вздымая все выше по крутой спирали мохнатые тельца, издающие непрерывный резкий крик. Быстрое течение безостановочно несло нас дальше, и мили через две, оглянувшись назад, я увидел незабываемое зрелище. Солнце садилось в алом зареве между темным лесом и громоздящимися на горизонте горами, и в небе клубилось несметное множество летучих мышей. Насколько хватало глаз, они тянулись нескончаемой колеблющейся лентой, точно следуя всем поворотам извилистой Сегамы. Передовые уже были почти над нашей головой, словно провожающий нас почетный эскорт, когда эта туча внезапно рассеялась. По двое и по трое, девятками и десятками, они разлетелись мелкими эскадрильями на поиски молодой листвы и сладких плодов, которых было вдоволь в черных сумрачных джунглях.
Глава 8
Интермедия: гиббоны

Орангутан — далеко не единственный вид обезьян в Юго-Восточной Азии. Он делит необозримые пространства джунглей со своими родичами — обычными гиббонами и гиббонами сиамангами. Мелодичное пение грациозных гиббонов очень украшало джунгли Калимантана, и за время своей работы я многое узнал об этих очаровательных существах. Они тоже живут на деревьях и питаются плодами, но в отличие от своих рыжих собратьев это некрупные животные, ловкие и удивительно подвижные. Бродячее существование орангов их не привлекает. Гиббоны образуют пары на всю жизнь и живут маленькими, тесно спаянными семьями — самец, его подруга и один-два детеныша, ревниво охраняя свои небольшие владения площадью около пятидесяти акров. По утрам каждый самец ведет, так сказать, артподготовку, осыпая соседей целыми очередями уханья, а те принимают вызов и отвечают громкими криками и прыжками, достойными циркового представления. Постепенно накал нарастает, и в хор вступают самки, разливаясь все более и более частыми завываниями, переходящими в какую-то неописуемую трель, — я с трудом поверил, что такие звуки издает млекопитающее. Временами эти перебранки переходят в яростные схватки, когда животные гоняются друг за другом за нарушение невидимой границы в листве поднебесных крон, но чаще всего угрожающих песнопений оказывается вполне достаточно, чтобы держать противников на расстоянии, и все обходится миром.
Когда требования чести соблюдены и их владениям не грозит вторжение непрошеных гостей, семейство отправляется на поиски спелых плодов, которые составляют основной продукт их питания. Независимо от сезона разные виды фикусов плодоносят круглый год. Гиббонам приходится ежедневно обходить большую часть своей территории, проверяя урожай на деревьях, чтобы извлечь максимальную пользу из каждого поспевающего урожая. Перехватываясь руками, они летают под куполом крон, как труппа отлично тренированных акробатов, и с небрежной легкостью перемахивают с ветки на ветку через зияющие воздушные пропасти. Впереди обычно несутся переполненные энергией юные подростки, от них не отстает отец, а замыкает шествие мать с уцепившимся за нее младенцем.
Самки гиббонов — очень нежные матери, неусыпно заботятся о своих младенцах, тщательно ухаживают за их шерсткой и стараются позабавить их игрой. Время от времени старый самец подходит поближе — проверить, все ли хорошо в детской. Но мне больше всего пришлись по сердцу молодые гиббончики. Я любил следить за ними, когда они носились в листве крон, раскачивались и скользили вниз, прыгали и карабкались вверх или бесстрашно раскачивались на тончайшей веточке над бездной — потрясающее представление головокружительной скоростной акробатики.
Но по мере того, как молодые животные подрастают, отец становится с ними все строже и строже. В конце концов его нетерпимость им надоедает, и они уходят из семьи, чтобы начать самостоятельную жизнь, как правило держась на границах территории родителей. Я часто встречал таких одиноких гиббонов во время своих лесных походов, и если они не путались под ногами у законных владельцев, то с их присутствием мирились, даже когда они начинали сами распевать по утрам.
Но если можно смотреть сквозь пальцы на одиночку-изгнанника, то мириться с присутствием соперника — совсем другое дело. Когда один бедняга подманил к себе самочку, их утренний дуэт навлек на них яростное нападение возмущенных владельцев этих мест — они даже бросили завтрак и помчались на место происшествия. Молодую пару разогнали, и юноше придется оставаться одиноким холостяком, пока он не найдет свободный участок или пока не освободится место после смерти одного из правящих самодержцев.
Хотя гиббоны — самые широко распространенные приматы в джунглях Калимантана и наблюдать за ними — необыкновенное удовольствие, они настолько осторожны, что подкрасться к ним чрезвычайно трудно. Заметив меня, они тут же спасались бегством на самые высочайшие деревья и из этих неприступных укрытий осыпали меня оскорблениями, поднимая оглушительную какофонию издевательских воплей, пока я не убирался прочь, не выдержав этой нескончаемой лавины поношений.
Сиаманги, или большие черные гиббоны Малайи и Суматры, давно тревожили мое воображение. Их название звучало так необычно и они так редко встречались в зоологических коллекциях, что превратились в моих глазах в самых таинственных животных [15]. Английский зоолог Чиверс только что закончил двухлетнее изучение сиамангов в Паханге, и я решил перед возвращением в Англию взглянуть на этих необыкновенных обезьян собственными глазами. Времени было мало, но я решил выкроить два дня и посетить охотничий резерват Крау, где работал Дэвид.
К сожалению, вылет моего самолета с Калимантана задержался, и я опоздал на ночной поезд из Сингапура в Малайзию. Но это меня не остановило, и рассвет застал меня в следующем поезде, который несся к северу через многочисленные протоки. Путешествие продолжалось на лендровере управления охоты, и уже через несколько минут после моего прибытия маленький улыбающийся малаец Кассим вел меня по скользкой тропе в страну сиамангов. Здешние джунгли были совершенно не похожи на лес в Сабахе; здесь были другие деревья, а фикусы и нефелиумы росли в изобилии, какого мне еще не приходилось видеть.
Часа два мы шли, поворачивая то туда то сюда, по лабиринту узких тропинок, пересекающих территорию резервата. Пиявок было великое множество, но они казались мелкими и убогими по сравнению с яркими полосатыми красавицами, которые терзали меня на Калимантане. Мы спугнули несколько стай болтливых обезьян, два вида были мне незнакомы. Полосатые тонкотелы выглядели очень элегантно — серая спинка, белый жилет и черные лицо и руки. Пожалуй, еще более необычны на вид — дымчатые тонкотелы: их диковинный гнусавый крик напоминает ослиный рев. Лицо у них черное, а вокруг глаз белые круги, как у клоуна; вид страшноватый, и обезьянка сильно смахивает на жутковатое привидение.
Местные гиббоны тоже непохожи на своих родственников с Калимантана. Их масть варьирует от медового до темно-шоколадного цвета, выглядят они очень нарядно: руки и ноги белые, а вокруг лица белый ореол. Поразительно, что гиббоны и сиаманги, несмотря на то что они ведут одинаковый образ жизни и питаются теми же плодами, могут мирно сосуществовать друг с другом, жить на одной территории и кормиться теми же плодами.
Мы продолжали поиски, и, по мере того как день вступал в свои права, треск цикад становился все оглушительнее. Время от времени нам попадались высокие деревья-каучуконосы, на стволах которых были видны V-образные зарубки, сделанные малайцами, — они собирают сладкий белый сок, из которого делают жевательную резинку.

Далеко впереди вдруг начался дикий гвалт — жуткая какофония с уханьем и воплями.
— Сиаманг! — радостно воскликнул мой провожатый.
Мы сошли с тропы и поспешно зашагали в ту сторону, откуда доносился шум, увязая в болоте и путаясь в коварных петлях лиан. Но прошло двадцать минут, а мы все еще продирались сквозь заросли и не видели животных, до которых, казалось, было рукой подать. Мы выбрались на берег широкой бурной реки, но, увы, сиаманги оказались на другом берегу, и мы их не увидели. Кассим повел меня дальше, к мосту, и мы стали удаляться от воплей и улюлюканья, которые неслись нам вслед со все нарастающей мощью. Нам явно не везло. Мост снесло паводком, и когда черные обезьяны замолкли, нам ничего не оставалось, как вернуться обратно в сторожку егеря. Я был огорчен и разочарован. Было от чего прийти в отчаяние — мы подошли так близко и не видели их, а ведь на поиски у меня оставался один-единственный день! Но мой спутник был настроен оптимистически и заверил меня, что я непременно увижу сиамангов до отъезда.
И вправду, не успел рассеяться утренний туман, как я увидел поразительное зрелище. Большая черная обезьяна с привычной небрежностью перепрыгнула на извилистую лиану и повисла, растянувшись во весь рост, принимая мое внимание как нечто само собой разумеющееся. Когда этот самец отправился дальше в свой утренний обход, за ним, перехватываясь за те же ветви, проследовали два более мелких сиаманга. Животные были мощные, и мне приходилось почти бежать, чтобы не отстать от них. Сильными бросками, раскачиваясь то на одной, то на другой руке, с болтающимися из стороны в сторону ногами, они пролетали над головой в легком, плавном ритме. Это было доведенное до совершенства искусство воздушного полета: не медлительное, осторожное карабканье орангутанов и не головоломные прыжки мелких гиббонов, раскачивающихся на руках, а мощное, уверенное движение вперед вдоль отлично изученной системы переплетающихся ветвей. Добравшись до цели, они с полчаса объедались липкими красными плодами. Затем, как по сигналу, закончили обед и перешли в ажурную крону туаланга. Там были две взрослые и две молодые обезьяны. Самец принялся разбирать шерсть подростка, обследуя ее тщательно, волосок за волоском, а мать с малышом отдыхала неподалеку, очень довольная, что отец снял с нее часть забот. Самец сиаманга очень серьезно относится к своим обязанностям и принимает гораздо большее участие в воспитании потомства, чем самцы других видов обезьян. Детеныши старше года обычно путешествуют верхом на своем отце и возвращаются к матери только на ночь. Этот подросток уже давно вышел из возраста, когда малышей так балуют и лелеют, но отец до сих пор относился к нему с подобающим родителю интересом.
Внезапно группа рассыпалась, и животные принялись возбужденно кружить в кроне дерева. Горловые мешки самцов раздулись, как большие розовые шары, и самка тоже надула свой более скромный горловой мешок. Троекратное рявканье разнеслось по лесу как пулеметная очередь, и они всерьез взялись за свое неописуемое хоровое пение. Отец и сын, бешено ухающие в унисон, — это было нечто не поддающееся описанию. Мать вторила их гулким, булькающим воплям, усиленным реверберацией горловых мешков, лающей трелью, которая словно подхлестывала их, и они разражались новыми неистовыми воплями. Несколько раз крики как будто затихали, и я думал, что вот-вот они прекратятся, но каждый раз животные принимались снова орать во всю мочь, скача среди голых сучьев, как одержимые. Хор смолк так же внезапно, как и начался, и обезьяны расселись, мирно закусывая, словно они не имели к этому бедламу никакого отношения. Вдали на севере и на востоке крик подхватили другие группы, возвещая о своем местонахождении и утверждая свои права на участок.
Эти великолепные животные очень напоминали легко приходящих в возбуждение диких шимпанзе, которых я наблюдал в Танзании. Сиаманги поменьше, и руки у них невероятной длины, но обе обезьяны переполнены одинаковой яростной одержимостью, которую не встретишь ни у меланхоличных орангутанов, ни у грациозных гиббонов. Разумеется, в других отношениях они сильно различаются. Шимпанзе живут большими, расчлененными сообществами, и отдельные группы соединяются или расходятся в зависимости от внешних условий. Сиаманги, как и другие гиббоны, живут небольшими семейными группами, охраняя свои владения регулярными громогласными перебранками. Жизнь шимпанзе насыщена точно разработанными приветствиями и приемами общения, которые необходимы для поддержания их сложной иерархии, а сиаманги живут в такой тесноте, что им не до светских условностей. Каждый член семьи всегда знает, что в данный момент происходит, и не нуждается в дополнительных разъяснениях.
Я наслаждался два часа, наблюдая за этим забавным квартетом, а потом поспешил в управление резервата, где меня уже ждал лендровер, который подбросил меня на станцию. Вскоре я уже снова мчался на юг, а еще через день вылетел навстречу леденящему холоду очередной зимы в Англии.
Я вернулся в Оксфорд, где сразу же пришлось развить бурную деятельность. Мне нужно было записать свои наблюдения и открытия на Калимантане, и я затратил массу времени на семинары и демонстрации фильмов в ученых кругах и среди поборников охраны природы. Сверх того я еще старался раздобыть средства и разрешение на новое путешествие в Юго-Восточную Азию. Короткое знакомство с сиамангами в Малайе пробудило во мне жгучее желание посетить единственную область, где границы ареалов орангутанов и сиамангов пересекаются. Оба вида встречаются на севере Суматры, там же водятся и гиббоны. Мне очень хотелось узнать, как могут сосуществовать три вида, питающиеся плодами. Могут ли они сожительствовать мирно или это приводит к ужасным стычкам между видами? Приспособился ли оранг на Суматре к жизни бок о бок с сиамангами или он не менял свои привычки и живет точно так же, как его родич на Калимантане? На эти вопросы можно ответить только в полевых условиях.
Необходимо было испросить разрешение великого множества индонезийских организаций, а тут еще меня задержал долгая забастовка почтовых работников в Англии, так что прошло несколько изматывающих месяцев, прежде чем я получил возможность продолжать работу. Однако эта задержка даже пошла мне на пользу — я лег в больницу на полное обследование. Я так и не выздоровел окончательно после зимы, проведенной в джунглях, и теперь расплачивался за это, кровью — буквально литрами крови, которые я вынужден был отдавать на исследование в лаборатории, рассеянные по всей стране. Список необычных заболеваний, которыми я страдал все рос и рос, пока не превратился в привычную мишень для шуток больничного персонала. Как только очередную болезнь диагностировали, ее тут же вылечивали, но я все еще чувствовал себя прескверно и вынужден был терпеть еще одно унижение — я сделался экспонатом номер один для всех студентов-медиков. Тому, кто первый поставит диагноз, предлагалась в награду кружка пива, но на выпивку никто не претендовал, так как самый главный эскулап решил попробовать новый тест и обнаружил, что я стал хозяином гельминта, до сих пор известного исключительно у собак! Но, когда покончили и с этим, всего две недели спустя чудовищный приступ малярии снова уложил меня на больничную койку. Совершенно ясно, что в таком состоянии я не смог устоять перед очаровательной блондинкой, которая навещала меня каждый божий день. Мы с Кэти обручились за несколько дней до того, как я вылетел в Сингапур; она обещала приехать ко мне осенью, и мы собирались пожениться в Индонезии.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ