КОНТЕКСТЫ
Марко Саббатини
Д. А. ПРИГОВ И КОНЦЕПТУАЛИЗМ
в самиздате Ленинграда
Для восприятия московского концептуализма в ленинградском андеграунде необходимо понять сущность независимой действительности в северной столице, в которой развивался самиздат 1970–1980-х гг. Как известно, самиздат — это один из наиболее показательных признаков позднесоветской неофициальной культуры, связанный с восприятием и распространением разнообразных литературных вкусов и эстетических импульсов к творчеству. Для реализации условий независимого культурного движения в Ленинграде проводились квартирные чтения и выставки, работали семинары и студии, все более широкое распространение получали самиздатские публикации[384]. Приближение неофициальной Москвы ко «второй» культурной действительности Ленинграда происходило именно в середине 1970-х гг., когда сформировалось единое ленинградское независимое движение.
Подобно Москве, в те годы в Ленинграде в квартирах и в мастерских художников[385] проводились неофициальные выставки[386], но здесь, в отличие от московского андеграунда, очень активно проходили также поэтические чтения, религиозно-философские и филологические семинары, которые способствовали возникновению самиздатских журналов и укреплению неофициального движения как независимого, самодостаточного культурного явления. Особенно в 1975 г., после неудачного опыта с публикацией антологии ленинградских неофициальных поэтов «Лепта», стало ясно антитетическое положение официальной и неофициальной действительности и довольно четко проявилась борьба свободного слова с властью. Поэтому с 1976 г. в Ленинграде начинают издаваться независимые толстые периодические издания, из них самые известные — литературно-художественный и религиозно-философский журнал Виктора Кривулина «37» (редакторы В. Кривулин, Т. Горичева и Л. Рудкевич) и альманах Бориса Иванова «Часы»[387]. Сам факт существования журналов «37» и «Часы», отражающих культурное ленинградское движение, указывал на демократизацию и внутренний плюрализм, которые были невозможны в контексте официальной культуры. Благодаря распространению самиздатских журналов неофициальное движение в Ленинграде приобрело свой «текст» и «язык», которые также способствовали постоянному диалогу с неофициальными московскими писателями и художниками.
В том же 1976 г. из Ленинграда в Москву переехал Борис Гройс, который вместе с философом Татьяной Горичевой (в то время женой Виктора Кривулина) являлся одним из наиболее активных участников квартирных философских семинаров Ленинграда. Будучи тогда студентом-математиком, Борис Гройс посещал различные семинары, был знаком со многими деятелями неофициального движения и разделял интеллектуальные запросы этой культурной среды. После приезда в Москву он продолжал поддерживать сотрудничество с ленинградским самиздатом. Доклады и статьи Бориса Гройса свидетельствуют о его активном и довольно влиятельном участии в журналах «37» и «Часы». Особенно большой резонанс в неофициальной культуре Ленинграда имел журнал «37», его копии распространялись также во многих городах Советского Союза и на Западе. В течение своего пятилетнего существования (1976–1981) журнал развивался под руководством В. Кривулина и под влиянием Бориса Гройса. Почти в каждом номере журнала «37» Б. Гройс публиковал свои работы о философии, литературе и современном искусстве, часто под псевдонимом (Глебов, Иноземцев, Суицидов)[388]. Структура журнала отражала в основном две темы — религиозно-философскую и поэтическую (появлялись также литературоведческие и публицистические работы, а художественная проза публиковалась редко). В первых номерах журнала «37» преобладали произведения таких ленинградских поэтов, как Александр Миронов, Олег Охапкин, Сергей Стратановский и Елена Шварц[389]. Со временем направление журнала «37» несколько меняется, и с конца 1977 г. почти в каждом номере публикуются статьи, рецензии и дискуссии о творчестве самых выдающихся русских поэтов того времени — от Бродского до Пригова. Вместе с поэтическими произведениями ленинградцев появляются достаточно представительные подборки стихов московских неофициальных поэтов нового поколения. В № 10 журнала «37» за 1977 г. был полностью опубликован сборник стихов Ольги Седаковой, в № 15 появились впервые стихи концептуалиста Льва Рубинштейна и лианозовца Всеволода Некрасова[390]. Импульсом к восприятию московских поэтов является оригинальное развитие литературной критики в поэтическом разделе «37» и публикация знаменитых «Сонетов на рубашках» Генриха Сапгира, стихов Всеволода Некрасова, Ивана Жданова, Дмитрия Александровича Пригова, Льва Рубинштейна вместе с акциями «Коллективных действий» Андрея Монастырского и перформансами Франциско Инфантэ[391], что свидетельствует о возрастающем интересе в Ленинграде к московским поэтам, особенно к лианозовцам и концептуалистам.
В последние три года существования журнала «37» все большее место в нем занимают переводы философских и поэтических произведений зарубежных авторов. Здесь обращает на себя особое внимание статья Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства», написанная на основе изучения творчества Хорхе Луиса Борхеса. Работа Гройса была опубликована в 1977 г., в № 12 журнала «37» под псевдонимом И. Суицидов и послужила поводом к знакомству автора с московскими неофициальными художниками — Виктором Пивоваровым, Эдуардом Штейнбергом, Ильей Кабаковым и др. В результате данной публикации происходит окончательное сближение Б. Гройса с концептуальной идеей неофициального искусства и написание знаменитой работы «Московский романтический концептуализм», давшей имя всему московскому авангардному направлению. Благодаря Виктору Кривулину[392] текст данной статьи был впервые опубликован в № 15 журнала «37» за 1978 г. и распространен в самиздате[393].
«Сочетание слов „романтический концептуализм“ звучит, разумеется, чудовищно. И все же я не знаю лучшего способа обозначить то, что происходит сейчас в Москве. Слово „концептуализм“ можно понимать и достаточно узко, как название определенного художественного направления, ограниченного временем и местом появления и числом участников, и можно понимать его более широко. При широком понимании „концептуализм“ будет обозначать любую попытку отойти от делания предметов искусства как материальных объектов, предназначенных для созерцания и эстетической оценки, и перейти к выявлению и формированию тех условий, которые диктуют восприятие произведений искусства, процедуру их порождения художником, их соотношение с элементами окружающей среды, их временной статус, и т. д.»[394]
В статье Б. Гройс рассматривает творчество нескольких художников и поэтов, которых, по словам самого автора, «довольно искусственно можно отнести к романтическим концептуалистам»[395]. В кратком заключении (с. 64–65) он сопоставляет московский романтический концептуализм с западным концептуализмом и выделяет магическую, почти духовную сущность русского явления:
«Художники, о которых говорилось выше, не религиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры. Как чистая возможность существования, как чистая представленность (откровение, несокрытость) или как знак, подаваемый свыше и требующий толкования, — в любом случае, искусство есть для них вторжение мира иного в наш мир, подлежащее осмыслению»[396].
Кроме статьи Б. Гройса, раздел «Московский концептуализм: (Теория и практика)» включает подборку стихов Льва Рубинштейна («Из программы работ» (1974–1976))[397] и краткое к ней предисловие Михаила Шейнкера[398]. А вышеупомянутые стихи Всеволода Некрасова («Ленинградские стихи», «Пушкин и Пушкин», «Картинки с выставки Ильи Глазунова») опубликованы в отдельном разделе журнала под названием «Поэзия»[399].
В следующем, 16-м номере журнала «37» за тот же 1978 г. в разделе «Философия» под названием «Московский концептуализм: (Теория и практика)» появляются новые материалы, манифесты и программы изобразительного искусства концептуалистов. В полунасмешливом заключении последнего текста читаем следующие слова: «Возможно, что этот документальный материал раскрывает иное содержание для постороннего комментатора» (А. Монастырский, Н. Алексеев, Н. Панитков, Г. Кизевальтер. Москва, май 1978 г.). Здесь представляет особый интерес и дополнительный комментарий Александра Монастырского с некоторыми уточнениями и размышлениями над статьей Бориса Гройса о московском романтическом концептуализме[400]. Этот текст является первой публичной реакцией со стороны концептуалистов на работу критика и философа. Как подчеркнуто в интервью с Эриком Булатовым «Экзистенциальное пространство картины» («37». 1979. № 18), в концепции Б. Гройса показана тесная связь между философскими экзистенциальными размышлениями и восприятием их как в изобразительном искусстве, так и в поэтическом творчестве. В этом плане обращает на себя особое внимание вступительная статья Бориса Гройса «Поэзия, культура и смерть в городе Москва» о творчестве Д. А. Пригова и Всеволода Некрасова, опубликованная в № 17 журнала «37»[401] и перепечатанная в парижском журнале «Ковчег» (1980. № 5)[402]. Как вспоминает сам автор: «Я тогда уже какое-то время жил в Москве, и мне хотелось познакомить моих ленинградских друзей с московскими поэтами, которые казались мне особенно интересными»[403]. В этой статье 1979 г. Борис Гройс сопоставляет поэзию московского концептуализма с поэзией ленинградского андеграунда:
«Условное деление современной поэзии на московскую и ленинградскую отмечает присутствие этого разделения в умах читателей. Московская поэзия не желает сообщить миру особых поэтических истин и стремится освоить язык повседневности, а ленинградская поэзия — как говорится — наоборот»[404].
Гройс очень четко выделяет особенности московской поэзии, которая, по его мнению, отличается от ленинградской традиции целостного, коллективного явления. Поэзия в Москве
«не развивается в русле единой школы, она раздроблена на относительно замкнутые кружки, и имена в ней значат больше, чем даты и этапы общего движения. Всех нынешних московских поэтов, однако, объединяет напряженный интерес к тому, что лежит за пределами традиционно русской поэзии»[405].
В центре внимания Бориса Гройса особо выделяется фигура Дмитрия Александровича Пригова — поэта, который «совершил настоящую революцию в русской поэзии <…> поместил поэзию в новое пространство культуры, нашел для нее новую социальную роль»[406]. Эти слова еще раз свидетельствуют о роли Б. Гройса-критика в успешном распространении концептуального искусства, в том числе творчества Д. А. Пригова.
Работы Б. Гройса и тексты московских концептуалистов частично были опубликованы в самиздатском журнале «Часы», основанном Борисом Ивановым в 1976 г. В отличие от кривулинского журнала «37», ведущим разделом «Часов» являлась проза[407]. Интерес к концептуализму проявился в № 15 «Часов» за 1978 г., в котором Борис Иванов в своей статье «Экспериментальная поэма Льва Рубинштейна» рассказывает о выступлении в Ленинграде московского концептуалиста[408].
«В ноябре московский поэт Лев Рубинштейн выступил в Ленинграде с чтением „Программы работ“, — произведение, которое невозможно назвать ни поэмой, ни собранием афоризмов, ни вариантом ритмической прозы, — это именно „программа“, система последовательных высказываний, подразумевающая свои собственные определения и нарушающая их по правилам <…>»[409].
Иванов высказывает свою положительную оценку и пытается описывать реакцию публики на необычную манеру чтения Рубинштейном своих текстов: «Тот, кто присутствовал на чтениях Рубинштейна, чувствовал себя „уловленным текстом“, зафиксированным в некоей своей интеллектуальной или психологической точке <…>»[410].
В том же № 15 за 1978 г. были опубликованы материалы о первом вручении премии Андрея Белого. По инициативе редакции журнала «Часы», где вместе с Б. Ивановым сотрудничали Борис Останин и Юрий Новиков, родилась идея вручения первой независимой литературной премии в Советском Союзе[411]. Наличие этой инициативы говорит о роли редакции журнала «Часы» в плане объединения отдельных литературных течений Ленинграда и Москвы. Несмотря на то что неофициальная литература была основана на личном общении писателей разного эстетического направления, премия Андрея Белого вручалась независимо от места их проживания и от того, являются они авторами журнала или нет[412]. Как отметила редакция журнала «Часы» 13 декабря 1978 г., премия — диплом и символический рубль — были вручены поэту В. Кривулину, стихи которого «получили широкое признание и являются наиболее классическим развитием петербургско-ленинградской поэтической традиции»[413], прозаику А. Драгомощенко за роман «Расположение в домах и деревьях», Б. Гройсу — автору статей о московских живописцах, о концептуальном искусстве. По словам редакции, эти статьи выдвинули Б. Гройса «в число наиболее глубоких и проницательных исследователей современного отечественного авангарда»[414]. Свою речь при получении премии Борис Гройс начинает следующими словами:
«Все мои последние статьи были посвящены художникам и поэтам Москвы и Ленинграда, вообще — современному искусству. Но я хочу сказать о вещах, о которых вряд ли буду когда-нибудь писать. До знакомства с неофициальным искусством я был воспитан на образцах европейской культуры. Жить в европейской культуре — это значит разделять ее общий контекст и быть свободным в жизненных проявлениях. Это значит — жить в пространстве, большая часть которого освоена. Неофициальная культура развивается не так — здесь связи между людьми на высших уровнях смысла отсутствуют, но люди сохраняют общее в своих личных проявлениях <…>»[415].
Эти слова еще раз свидетельствуют о необыкновенном внимании литературного критика и философа к неофициальной культуре. В конце семидесятых годов направление деятельности Бориса Гройса указывает на особое отношение между ленинградским и московским андеграундом. Это подчеркнуто в последних выпусках журнала «37». В 1979 г. Виктор Кривулин все больше привлекал к сотрудничеству в журнале авторов из Москвы. После отъезда Татьяны Горичевой в 1980 г. в Париж в составе редакции произошли изменения, и, как указано на обложке № 20, журнал стал издаваться уже в двух столицах — в Москве и Ленинграде. Редакцию возглавили Виктор Кривулин, Борис Гройс, Леонид Жмудь и Сурен Тахтаджян. Если вначале у этого ленинградского машинописного издания было преимущественно литературное и философское направление, то теперь последние номера, собранные в Москве Борисом Гройсом, стали иметь также социологическое и культурологическое направление[416]. В 1981 г. вышел в свет № 21, но после ряда обысков на квартирах редакторов и отъезда Бориса Гройса в Германию журнал «37» был окончательно закрыт одновременно с журналом «Северная почта»[417].
Возбудив глубокий интерес и достигнув успеха в Ленинграде, творчество московских концептуалистов, особенно Д. А. Пригова и Л. Рубинштейна, находит свое особое место также в ленинградских машинописных изданиях 1980-х гг., в основном в журналах «Обводный канал», «Транспонанс» и «Митин журнал»[418]. Особенно обращает на себя внимание литературно-критический журнал «Обводный канал» (1981–1993), созданный по инициативе Кирилла Бутырина и поэта Сергея Стратановского. Это произошло в 1981 г. как альтернатива журналу «Часы», почти одновременно с закрытием журнала «37» и возникновением «Ленинградского профессионального творческого объединения литераторов — Клуб-81»[419]. Журнал «Обводный канал» отличался от остальных самиздатских изданий более строгим отбором художественных произведений и более четкой эстетической позицией. Наряду с прозой, социологическими и религиозно-философскими текстами в нем выделяется раздел поэзии под редакцией Сергея Стратановского. В № 2 журнала за 1982 г. раздел поэзии был полностью посвящен московским поэтам Ю. Кублановскому, О. Седаковой, Б. Кенжееву и Дмитрию Александровичу Пригову с его стихами из книг «Весьма нищенские утешения» (с. 21–26); «Преуведомительная беседа» (с. 27–29); «Кровь и слезы и все прочее» (с. 30–37); «Из стихов 1981 г.» (с. 39–48)[420]. Эта публикация в № 2 «Обводного канала» основана на материалах поэтического вечера московских поэтов 11 мая 1982 г. в ленинградском «Клубе-81», где выступили Л. Рубинштейн, В. Лён и вышеуказанные авторы.
Еще одна важная публикация Д. А. Пригова была напечатана в № 4 «Обводного канала» за 1983 г. В разделе поэзии данного номера отдельное место занимают «Тексты московских концептуалистов» — Д. Пригова («Стихи и проза») и Л. Рубинштейна («Тридцать пять новых стихов» (декабрь 1981 г.), с. 47–82; «Алфавитный указатель поэзии», с. 82–84)[421]. В частности, выделяются известные стихотворения Д. А. Пригова 1981 г. из сборника «Терроризм с человеческим лицом», таких как «Милицанер вот террориста встретил…» (с. 20), «Чем больше родину мы любим…» (с. 29), а также «Что есть поэт? Он есть таковский…» (с. 36), «С Пушкиным тут дело сложно…» (с. 37). Здесь находит свое место и проза Д. А. Пригова с рассказом «Неодолимая сила слова или невозмутимые воды синей реки» (с. 40–46). В этих произведениях даются характерные особенности приговского поэтического героя — как рядового советского гражданина, так и почти еретического блаженного поэта, носителя профетического слова[422]. Это последняя публикация произведений Пригова в журнале «Обводный канал». В № 9 за 1986 г. обращает на себя особое внимание литературная анкета «Велимир Хлебников сегодня», в ответах на которую принял участие и Д. А. Пригов, в качестве поэта-художника и единственного представителя московских концептуалистов, с текстом «Осмелюсь сказать о Хлебникове»[423]. Жанр литературной анкеты, который пользовался успехом в самиздате тех лет[424], выделяет напряженный интеллектуальный поиск многих забытых или запрещенных тенденций русской литературы прошлого в неофициальной культуре. Загадочная и привлекательная фигура Велимира Хлебникова могла только послужить причиной ряда интересных, хотя и противоречивых и иногда спорных отношений представителей новых авангардных течений в андеграунде, в том числе и Д. А. Пригова[425].
Несмотря на то что Д. А. Пригов «никогда не принимал» утопические проекты футуристов и Хлебникова, в своей статье «Осмелюсь сказать о Хлебникове» он их подробно обсуждает и понимает «как некий эзотерический опыт эстетической эйфории». Статья Д. А. Пригова также свидетельствует об остроумном поэтическом и художественном поведении автора-концептуалиста, благодаря чему он обеспечил себе дополнительный резонанс и особое положение среди неофициальных авторов Ленинграда того времени[426].
В заключение можно подчеркнуть, что с конца семидесятых годов Д. А. Пригов завоевал заслуженную известность как в литературном, так и в художественном андеграунде не только Москвы, но и Ленинграда. Это произошло благодаря самиздату и деятельности Бориса Гройса[427]. Пересмотр неофициальной культуры Москвы сквозь призму ленинградского андеграунда более полно отражает настоящее лицо концептуалистов. Процесс проникновения альтернативного творчества Д. А. Пригова в неофициальную среду Ленинграда помог восприятию его как особого явления современной русской литературы, и в конечном счете через ленинградский самиздат укрепилась самоидентификация всех московских концептуалистов.
Приложение
В приложении — вопросы литературной анкеты «Велимир Хлебников сегодня» (с. 113) и текст Д. А. Пригова «Осмелюсь сказать о Хлебникове» («Обводный канал». 1986. № 9. С. 133–135. Из личного архива Сергея Стратановского). Составитель Марко Саббатини.
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ СЕГОДНЯ
(литературная анкета)
В преддверии столетия со дня рождения Велимира Хлебникова редакция «Обводного канала» решила обратиться к поэтам, художникам и критикам с рядом вопросов. Не хотелось, чтобы эти вопросы воспринимались в качестве юбилейной анкеты, т. е. приглашения принять участие в определенной торжественной церемонии. Поэзия Хлебникова кому-то может нравиться, кому-то нет. В данном случае столетний юбилей Хлебникова — хороший повод просто поговорить на живую, еще не ставшую академической тему, разобраться в собственном эстетическом опыте.
1. Как Вы относитесь к творчеству Хлебникова? К его личности? Не находите ли Вы, что «образ» поэта-гения, поэта-дервиша, легенда о поэте в какой-то мере определяют отношение к его текстам?
2. Какая область творческого наследия Хлебникова: стихи, проза, теория, проекты — Вам наиболее близка, интересна?
3. Какие реформы, или, скажем так, — сдвиги, осуществленные Хлебниковым в сфере поэтического языка, Вы считаете наиболее важными?
4. Согласны ли Вы с мнением, что Хлебников это поэт для поэтов, а его творчество это своего рода лаборатория, склад поэтических идей, заготовок (или все обстоит наоборот)?
5. Насколько тесно связана для Вас судьба наследия Хлебникова с судьбой русского художественного авангарда, включая и современный нам авангард?
6. Вообще, независимо от тех или иных эстетических установок, насколько современен для нас сегодня Хлебников?
7. Как Вы относитесь к социально-утопическому аспекту творчества Хлебникова? «Вопреки» или «благодаря» вовлеченности в Утопию поэзия Хлебникова сохраняет для Вас значение и ценность?
8. Когда Вы по-настоящему открыли для себя Хлебникова (если это, конечно, вообще произошло)? Какую роль в понимании Вами Хлебникова сыграла литература о нем? Не могли бы Вы назвать лучшее из прочитанного?
9. Чего Вы ждете от Хлебниковского юбилея? И как его следовало бы отметить, на Ваш взгляд?
Д. Пригов
Осмелюсь сказать о Хлебникове
Как собственно, как и должно быть личности на сломе стиля, Хлебников — личность кентаврическая. Это, пожалуй, и отражается в неуклюжем слове, определяющем для меня его стилевую принадлежность — пост-символизм. Переходный период от одного большого стиля к другому — от модерна к конструктивизму — породил титанов, которые неимоверными личностными усилиями завоевывали то, что потом стало скучной нормой обыденного сознания. Пожалуй, почти все представители кубо- и эго-футуризма (за редким исключением, как Крученых, Матюшин и некоторые другие), а также раннего акмеизма и есть пост-символисты, с рудиментами символистических аппеляций (sic!) к надчеловеческому, сверхчеловеческому, подчеловеческому, правда помещаемые пост-символистами в весьма экзотических (для канонической культуры 19 века) местах и пространствах. И вообще, весь стиль, манера поведения, поэтическая поза их, т. е. основной способ объявления, манифестации поэзии в мире через пост-символистов можно назвать экзотизация всех привычных до того параметров как поэтической речи, так и поэтического поведения. Это принципиально отличает пост-символизм от футуризма (конструктивизма), весьма мало у нас известного, ну, разве по отдельным произведениям Чичерина, Зданевича, Крученых, Гнедова, Труфанова, Терентьева. Пафосом зрелого футуризма стало отыскание предельных онтологических единиц текста и предельных истинных законов оперирования этими единицами с целью конструирования единственно истинных предметов как искусства, так и быта, и еще дальше — истинных пространств жизни, смерти и мироздания. Совпадая с символизмом и пост-символизмом в глобальности своих претензий, футуризм отличался от первых позой, выправкой кадрового рабочего, холодным и прицельным взглядом инженера, аккуратной прической и строгостью манер руководителя крупного предприятия и непреклонностью, даже жестокостью провозглашателя новой, не терпящей никаких возражений и отступлений, программы перестройки всего, чего только можно найти в этом мире, во всем, чего еще нельзя найти нигде, но скоро можно будет найти везде, собственно, только это и можно будет найти. А где-то там, уже вдали, бродили затянутые в черные сюртуки-сутаны экстатические старцы-юноши символисты, а рядышком, между ног, шаловливые Северянины, обряженные индейцами Гумилевы, хулиганы маяковские и лохматые безумцы-визионеры Хлебниковы.
Но нет, нет, не подумайте, что я идентифицирую себя с этими инженерами человеческого счастья. Они для меня такие же персонажи в вековечной драме культуры.
Надо сказать, что все утопические проекты футуристов, во всяком случае, их пафос переустройства культуры и искусства и мира целиком на основе экономных законов геометрии и мысли как породительницы чистых геометрий всех сфер бытия, я никогда не принимал, но понимал как некий эзотерический опыт эстетической эйфории. Точно так же отношусь я и к научным изысканиям Хлебникова, в большинство которых я никогда не вчитывался, хотя, в отличие от футуристов, аппеляция (sic!) к надмирным, высшим, тайным силам, с неким штейнеровским прищуром и дрожью Блаватской, оставляли меня в недоумении, заставляя предполагать род мистификации, но уже выходящей за пределы поэтического образа, т. е. аналогично тому (не буквально, а типологически), как футуристы надели кожанки и взялись за пистолеты. И, как мне представляется, этот внепоэтический утопизм сыграл существенную роль в том, что Хлебников обрел статус «поэта для поэтов». То есть, в его поэзии отсутствует пласт, который условно, беря в пример «Евгения Онегина», можно назвать «Таня полюбила Женю». То есть, у Хлебникова отсутствует поп-пласт (не словечки, не цитаты, не тропы, а именно пласт поп-сознания с его определенными константами взаимоотношения жизни-искусства, требующий появления самых жизненно-важных идей в кринолинах и фижмах, а не в безжалостной обнаженности). Надо сказать, что высокомерное отношение к этому пласту в поэтическом языке, или просто игнорирование его, весьма плачевно сказывается на поэте и его творчестве, во-первых, отсекая от него громадную часть читающего населения, во-вторых, мешает культуре пластифицировать поэзию, т. е. сделать ее языком жизни, способом языкового мышления, в-третьих, лишает саму поэзию одного из героев драматургического действа <—> самого стиха. (Надо заметить, что, скажем, у Есенина отсутствует, например, пласт высокоумственных красот и духовных прозрений). Но являемый Хлебниковым образ безумца и пророка как бы отрицательным способом несколько компенсирует этот недостаток — «что взять с безумца!»
Еще могу сказать, что, читая Хлебникова (как и Лермонтова), я испытываю безумный восторг и чувство собственной ничтожности, но, отложив книгу, тут же забываю все, не будучи способен даже припоминать, о чем там говорится. В этом отношении я предпочитаю Блока.
Из всего, что я читал о Хлебникове, наибольшее впечатление на меня произвели воспоминания Митурича.
А вообще-то, что и говорить, Хлебников — гений!
Для восприятия московского концептуализма в ленинградском андеграунде необходимо понять сущность независимой действительности в северной столице, в которой развивался самиздат 1970–1980-х гг. Как известно, самиздат — это один из наиболее показательных признаков позднесоветской неофициальной культуры, связанный с восприятием и распространением разнообразных литературных вкусов и эстетических импульсов к творчеству. Для реализации условий независимого культурного движения в Ленинграде проводились квартирные чтения и выставки, работали семинары и студии, все более широкое распространение получали самиздатские публикации[384]. Приближение неофициальной Москвы ко «второй» культурной действительности Ленинграда происходило именно в середине 1970-х гг., когда сформировалось единое ленинградское независимое движение.
Подобно Москве, в те годы в Ленинграде в квартирах и в мастерских художников[385] проводились неофициальные выставки[386], но здесь, в отличие от московского андеграунда, очень активно проходили также поэтические чтения, религиозно-философские и филологические семинары, которые способствовали возникновению самиздатских журналов и укреплению неофициального движения как независимого, самодостаточного культурного явления. Особенно в 1975 г., после неудачного опыта с публикацией антологии ленинградских неофициальных поэтов «Лепта», стало ясно антитетическое положение официальной и неофициальной действительности и довольно четко проявилась борьба свободного слова с властью. Поэтому с 1976 г. в Ленинграде начинают издаваться независимые толстые периодические издания, из них самые известные — литературно-художественный и религиозно-философский журнал Виктора Кривулина «37» (редакторы В. Кривулин, Т. Горичева и Л. Рудкевич) и альманах Бориса Иванова «Часы»[387]. Сам факт существования журналов «37» и «Часы», отражающих культурное ленинградское движение, указывал на демократизацию и внутренний плюрализм, которые были невозможны в контексте официальной культуры. Благодаря распространению самиздатских журналов неофициальное движение в Ленинграде приобрело свой «текст» и «язык», которые также способствовали постоянному диалогу с неофициальными московскими писателями и художниками.
В том же 1976 г. из Ленинграда в Москву переехал Борис Гройс, который вместе с философом Татьяной Горичевой (в то время женой Виктора Кривулина) являлся одним из наиболее активных участников квартирных философских семинаров Ленинграда. Будучи тогда студентом-математиком, Борис Гройс посещал различные семинары, был знаком со многими деятелями неофициального движения и разделял интеллектуальные запросы этой культурной среды. После приезда в Москву он продолжал поддерживать сотрудничество с ленинградским самиздатом. Доклады и статьи Бориса Гройса свидетельствуют о его активном и довольно влиятельном участии в журналах «37» и «Часы». Особенно большой резонанс в неофициальной культуре Ленинграда имел журнал «37», его копии распространялись также во многих городах Советского Союза и на Западе. В течение своего пятилетнего существования (1976–1981) журнал развивался под руководством В. Кривулина и под влиянием Бориса Гройса. Почти в каждом номере журнала «37» Б. Гройс публиковал свои работы о философии, литературе и современном искусстве, часто под псевдонимом (Глебов, Иноземцев, Суицидов)[388]. Структура журнала отражала в основном две темы — религиозно-философскую и поэтическую (появлялись также литературоведческие и публицистические работы, а художественная проза публиковалась редко). В первых номерах журнала «37» преобладали произведения таких ленинградских поэтов, как Александр Миронов, Олег Охапкин, Сергей Стратановский и Елена Шварц[389]. Со временем направление журнала «37» несколько меняется, и с конца 1977 г. почти в каждом номере публикуются статьи, рецензии и дискуссии о творчестве самых выдающихся русских поэтов того времени — от Бродского до Пригова. Вместе с поэтическими произведениями ленинградцев появляются достаточно представительные подборки стихов московских неофициальных поэтов нового поколения. В № 10 журнала «37» за 1977 г. был полностью опубликован сборник стихов Ольги Седаковой, в № 15 появились впервые стихи концептуалиста Льва Рубинштейна и лианозовца Всеволода Некрасова[390]. Импульсом к восприятию московских поэтов является оригинальное развитие литературной критики в поэтическом разделе «37» и публикация знаменитых «Сонетов на рубашках» Генриха Сапгира, стихов Всеволода Некрасова, Ивана Жданова, Дмитрия Александровича Пригова, Льва Рубинштейна вместе с акциями «Коллективных действий» Андрея Монастырского и перформансами Франциско Инфантэ[391], что свидетельствует о возрастающем интересе в Ленинграде к московским поэтам, особенно к лианозовцам и концептуалистам.
В последние три года существования журнала «37» все большее место в нем занимают переводы философских и поэтических произведений зарубежных авторов. Здесь обращает на себя особое внимание статья Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства», написанная на основе изучения творчества Хорхе Луиса Борхеса. Работа Гройса была опубликована в 1977 г., в № 12 журнала «37» под псевдонимом И. Суицидов и послужила поводом к знакомству автора с московскими неофициальными художниками — Виктором Пивоваровым, Эдуардом Штейнбергом, Ильей Кабаковым и др. В результате данной публикации происходит окончательное сближение Б. Гройса с концептуальной идеей неофициального искусства и написание знаменитой работы «Московский романтический концептуализм», давшей имя всему московскому авангардному направлению. Благодаря Виктору Кривулину[392] текст данной статьи был впервые опубликован в № 15 журнала «37» за 1978 г. и распространен в самиздате[393].
«Сочетание слов „романтический концептуализм“ звучит, разумеется, чудовищно. И все же я не знаю лучшего способа обозначить то, что происходит сейчас в Москве. Слово „концептуализм“ можно понимать и достаточно узко, как название определенного художественного направления, ограниченного временем и местом появления и числом участников, и можно понимать его более широко. При широком понимании „концептуализм“ будет обозначать любую попытку отойти от делания предметов искусства как материальных объектов, предназначенных для созерцания и эстетической оценки, и перейти к выявлению и формированию тех условий, которые диктуют восприятие произведений искусства, процедуру их порождения художником, их соотношение с элементами окружающей среды, их временной статус, и т. д.»[394]
В статье Б. Гройс рассматривает творчество нескольких художников и поэтов, которых, по словам самого автора, «довольно искусственно можно отнести к романтическим концептуалистам»[395]. В кратком заключении (с. 64–65) он сопоставляет московский романтический концептуализм с западным концептуализмом и выделяет магическую, почти духовную сущность русского явления:
«Художники, о которых говорилось выше, не религиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры. Как чистая возможность существования, как чистая представленность (откровение, несокрытость) или как знак, подаваемый свыше и требующий толкования, — в любом случае, искусство есть для них вторжение мира иного в наш мир, подлежащее осмыслению»[396].
Кроме статьи Б. Гройса, раздел «Московский концептуализм: (Теория и практика)» включает подборку стихов Льва Рубинштейна («Из программы работ» (1974–1976))[397] и краткое к ней предисловие Михаила Шейнкера[398]. А вышеупомянутые стихи Всеволода Некрасова («Ленинградские стихи», «Пушкин и Пушкин», «Картинки с выставки Ильи Глазунова») опубликованы в отдельном разделе журнала под названием «Поэзия»[399].
В следующем, 16-м номере журнала «37» за тот же 1978 г. в разделе «Философия» под названием «Московский концептуализм: (Теория и практика)» появляются новые материалы, манифесты и программы изобразительного искусства концептуалистов. В полунасмешливом заключении последнего текста читаем следующие слова: «Возможно, что этот документальный материал раскрывает иное содержание для постороннего комментатора» (А. Монастырский, Н. Алексеев, Н. Панитков, Г. Кизевальтер. Москва, май 1978 г.). Здесь представляет особый интерес и дополнительный комментарий Александра Монастырского с некоторыми уточнениями и размышлениями над статьей Бориса Гройса о московском романтическом концептуализме[400]. Этот текст является первой публичной реакцией со стороны концептуалистов на работу критика и философа. Как подчеркнуто в интервью с Эриком Булатовым «Экзистенциальное пространство картины» («37». 1979. № 18), в концепции Б. Гройса показана тесная связь между философскими экзистенциальными размышлениями и восприятием их как в изобразительном искусстве, так и в поэтическом творчестве. В этом плане обращает на себя особое внимание вступительная статья Бориса Гройса «Поэзия, культура и смерть в городе Москва» о творчестве Д. А. Пригова и Всеволода Некрасова, опубликованная в № 17 журнала «37»[401] и перепечатанная в парижском журнале «Ковчег» (1980. № 5)[402]. Как вспоминает сам автор: «Я тогда уже какое-то время жил в Москве, и мне хотелось познакомить моих ленинградских друзей с московскими поэтами, которые казались мне особенно интересными»[403]. В этой статье 1979 г. Борис Гройс сопоставляет поэзию московского концептуализма с поэзией ленинградского андеграунда:
«Условное деление современной поэзии на московскую и ленинградскую отмечает присутствие этого разделения в умах читателей. Московская поэзия не желает сообщить миру особых поэтических истин и стремится освоить язык повседневности, а ленинградская поэзия — как говорится — наоборот»[404].
Гройс очень четко выделяет особенности московской поэзии, которая, по его мнению, отличается от ленинградской традиции целостного, коллективного явления. Поэзия в Москве
«не развивается в русле единой школы, она раздроблена на относительно замкнутые кружки, и имена в ней значат больше, чем даты и этапы общего движения. Всех нынешних московских поэтов, однако, объединяет напряженный интерес к тому, что лежит за пределами традиционно русской поэзии»[405].
В центре внимания Бориса Гройса особо выделяется фигура Дмитрия Александровича Пригова — поэта, который «совершил настоящую революцию в русской поэзии <…> поместил поэзию в новое пространство культуры, нашел для нее новую социальную роль»[406]. Эти слова еще раз свидетельствуют о роли Б. Гройса-критика в успешном распространении концептуального искусства, в том числе творчества Д. А. Пригова.
Работы Б. Гройса и тексты московских концептуалистов частично были опубликованы в самиздатском журнале «Часы», основанном Борисом Ивановым в 1976 г. В отличие от кривулинского журнала «37», ведущим разделом «Часов» являлась проза[407]. Интерес к концептуализму проявился в № 15 «Часов» за 1978 г., в котором Борис Иванов в своей статье «Экспериментальная поэма Льва Рубинштейна» рассказывает о выступлении в Ленинграде московского концептуалиста[408].
«В ноябре московский поэт Лев Рубинштейн выступил в Ленинграде с чтением „Программы работ“, — произведение, которое невозможно назвать ни поэмой, ни собранием афоризмов, ни вариантом ритмической прозы, — это именно „программа“, система последовательных высказываний, подразумевающая свои собственные определения и нарушающая их по правилам <…>»[409].
Иванов высказывает свою положительную оценку и пытается описывать реакцию публики на необычную манеру чтения Рубинштейном своих текстов: «Тот, кто присутствовал на чтениях Рубинштейна, чувствовал себя „уловленным текстом“, зафиксированным в некоей своей интеллектуальной или психологической точке <…>»[410].
В том же № 15 за 1978 г. были опубликованы материалы о первом вручении премии Андрея Белого. По инициативе редакции журнала «Часы», где вместе с Б. Ивановым сотрудничали Борис Останин и Юрий Новиков, родилась идея вручения первой независимой литературной премии в Советском Союзе[411]. Наличие этой инициативы говорит о роли редакции журнала «Часы» в плане объединения отдельных литературных течений Ленинграда и Москвы. Несмотря на то что неофициальная литература была основана на личном общении писателей разного эстетического направления, премия Андрея Белого вручалась независимо от места их проживания и от того, являются они авторами журнала или нет[412]. Как отметила редакция журнала «Часы» 13 декабря 1978 г., премия — диплом и символический рубль — были вручены поэту В. Кривулину, стихи которого «получили широкое признание и являются наиболее классическим развитием петербургско-ленинградской поэтической традиции»[413], прозаику А. Драгомощенко за роман «Расположение в домах и деревьях», Б. Гройсу — автору статей о московских живописцах, о концептуальном искусстве. По словам редакции, эти статьи выдвинули Б. Гройса «в число наиболее глубоких и проницательных исследователей современного отечественного авангарда»[414]. Свою речь при получении премии Борис Гройс начинает следующими словами:
«Все мои последние статьи были посвящены художникам и поэтам Москвы и Ленинграда, вообще — современному искусству. Но я хочу сказать о вещах, о которых вряд ли буду когда-нибудь писать. До знакомства с неофициальным искусством я был воспитан на образцах европейской культуры. Жить в европейской культуре — это значит разделять ее общий контекст и быть свободным в жизненных проявлениях. Это значит — жить в пространстве, большая часть которого освоена. Неофициальная культура развивается не так — здесь связи между людьми на высших уровнях смысла отсутствуют, но люди сохраняют общее в своих личных проявлениях <…>»[415].
Эти слова еще раз свидетельствуют о необыкновенном внимании литературного критика и философа к неофициальной культуре. В конце семидесятых годов направление деятельности Бориса Гройса указывает на особое отношение между ленинградским и московским андеграундом. Это подчеркнуто в последних выпусках журнала «37». В 1979 г. Виктор Кривулин все больше привлекал к сотрудничеству в журнале авторов из Москвы. После отъезда Татьяны Горичевой в 1980 г. в Париж в составе редакции произошли изменения, и, как указано на обложке № 20, журнал стал издаваться уже в двух столицах — в Москве и Ленинграде. Редакцию возглавили Виктор Кривулин, Борис Гройс, Леонид Жмудь и Сурен Тахтаджян. Если вначале у этого ленинградского машинописного издания было преимущественно литературное и философское направление, то теперь последние номера, собранные в Москве Борисом Гройсом, стали иметь также социологическое и культурологическое направление[416]. В 1981 г. вышел в свет № 21, но после ряда обысков на квартирах редакторов и отъезда Бориса Гройса в Германию журнал «37» был окончательно закрыт одновременно с журналом «Северная почта»[417].
Возбудив глубокий интерес и достигнув успеха в Ленинграде, творчество московских концептуалистов, особенно Д. А. Пригова и Л. Рубинштейна, находит свое особое место также в ленинградских машинописных изданиях 1980-х гг., в основном в журналах «Обводный канал», «Транспонанс» и «Митин журнал»[418]. Особенно обращает на себя внимание литературно-критический журнал «Обводный канал» (1981–1993), созданный по инициативе Кирилла Бутырина и поэта Сергея Стратановского. Это произошло в 1981 г. как альтернатива журналу «Часы», почти одновременно с закрытием журнала «37» и возникновением «Ленинградского профессионального творческого объединения литераторов — Клуб-81»[419]. Журнал «Обводный канал» отличался от остальных самиздатских изданий более строгим отбором художественных произведений и более четкой эстетической позицией. Наряду с прозой, социологическими и религиозно-философскими текстами в нем выделяется раздел поэзии под редакцией Сергея Стратановского. В № 2 журнала за 1982 г. раздел поэзии был полностью посвящен московским поэтам Ю. Кублановскому, О. Седаковой, Б. Кенжееву и Дмитрию Александровичу Пригову с его стихами из книг «Весьма нищенские утешения» (с. 21–26); «Преуведомительная беседа» (с. 27–29); «Кровь и слезы и все прочее» (с. 30–37); «Из стихов 1981 г.» (с. 39–48)[420]. Эта публикация в № 2 «Обводного канала» основана на материалах поэтического вечера московских поэтов 11 мая 1982 г. в ленинградском «Клубе-81», где выступили Л. Рубинштейн, В. Лён и вышеуказанные авторы.
Еще одна важная публикация Д. А. Пригова была напечатана в № 4 «Обводного канала» за 1983 г. В разделе поэзии данного номера отдельное место занимают «Тексты московских концептуалистов» — Д. Пригова («Стихи и проза») и Л. Рубинштейна («Тридцать пять новых стихов» (декабрь 1981 г.), с. 47–82; «Алфавитный указатель поэзии», с. 82–84)[421]. В частности, выделяются известные стихотворения Д. А. Пригова 1981 г. из сборника «Терроризм с человеческим лицом», таких как «Милицанер вот террориста встретил…» (с. 20), «Чем больше родину мы любим…» (с. 29), а также «Что есть поэт? Он есть таковский…» (с. 36), «С Пушкиным тут дело сложно…» (с. 37). Здесь находит свое место и проза Д. А. Пригова с рассказом «Неодолимая сила слова или невозмутимые воды синей реки» (с. 40–46). В этих произведениях даются характерные особенности приговского поэтического героя — как рядового советского гражданина, так и почти еретического блаженного поэта, носителя профетического слова[422]. Это последняя публикация произведений Пригова в журнале «Обводный канал». В № 9 за 1986 г. обращает на себя особое внимание литературная анкета «Велимир Хлебников сегодня», в ответах на которую принял участие и Д. А. Пригов, в качестве поэта-художника и единственного представителя московских концептуалистов, с текстом «Осмелюсь сказать о Хлебникове»[423]. Жанр литературной анкеты, который пользовался успехом в самиздате тех лет[424], выделяет напряженный интеллектуальный поиск многих забытых или запрещенных тенденций русской литературы прошлого в неофициальной культуре. Загадочная и привлекательная фигура Велимира Хлебникова могла только послужить причиной ряда интересных, хотя и противоречивых и иногда спорных отношений представителей новых авангардных течений в андеграунде, в том числе и Д. А. Пригова[425].
Несмотря на то что Д. А. Пригов «никогда не принимал» утопические проекты футуристов и Хлебникова, в своей статье «Осмелюсь сказать о Хлебникове» он их подробно обсуждает и понимает «как некий эзотерический опыт эстетической эйфории». Статья Д. А. Пригова также свидетельствует об остроумном поэтическом и художественном поведении автора-концептуалиста, благодаря чему он обеспечил себе дополнительный резонанс и особое положение среди неофициальных авторов Ленинграда того времени[426].
В заключение можно подчеркнуть, что с конца семидесятых годов Д. А. Пригов завоевал заслуженную известность как в литературном, так и в художественном андеграунде не только Москвы, но и Ленинграда. Это произошло благодаря самиздату и деятельности Бориса Гройса[427]. Пересмотр неофициальной культуры Москвы сквозь призму ленинградского андеграунда более полно отражает настоящее лицо концептуалистов. Процесс проникновения альтернативного творчества Д. А. Пригова в неофициальную среду Ленинграда помог восприятию его как особого явления современной русской литературы, и в конечном счете через ленинградский самиздат укрепилась самоидентификация всех московских концептуалистов.
Приложение
В приложении — вопросы литературной анкеты «Велимир Хлебников сегодня» (с. 113) и текст Д. А. Пригова «Осмелюсь сказать о Хлебникове» («Обводный канал». 1986. № 9. С. 133–135. Из личного архива Сергея Стратановского). Составитель Марко Саббатини.
В преддверии столетия со дня рождения Велимира Хлебникова редакция «Обводного канала» решила обратиться к поэтам, художникам и критикам с рядом вопросов. Не хотелось, чтобы эти вопросы воспринимались в качестве юбилейной анкеты, т. е. приглашения принять участие в определенной торжественной церемонии. Поэзия Хлебникова кому-то может нравиться, кому-то нет. В данном случае столетний юбилей Хлебникова — хороший повод просто поговорить на живую, еще не ставшую академической тему, разобраться в собственном эстетическом опыте.
1. Как Вы относитесь к творчеству Хлебникова? К его личности? Не находите ли Вы, что «образ» поэта-гения, поэта-дервиша, легенда о поэте в какой-то мере определяют отношение к его текстам?
2. Какая область творческого наследия Хлебникова: стихи, проза, теория, проекты — Вам наиболее близка, интересна?
3. Какие реформы, или, скажем так, — сдвиги, осуществленные Хлебниковым в сфере поэтического языка, Вы считаете наиболее важными?
4. Согласны ли Вы с мнением, что Хлебников это поэт для поэтов, а его творчество это своего рода лаборатория, склад поэтических идей, заготовок (или все обстоит наоборот)?
5. Насколько тесно связана для Вас судьба наследия Хлебникова с судьбой русского художественного авангарда, включая и современный нам авангард?
6. Вообще, независимо от тех или иных эстетических установок, насколько современен для нас сегодня Хлебников?
7. Как Вы относитесь к социально-утопическому аспекту творчества Хлебникова? «Вопреки» или «благодаря» вовлеченности в Утопию поэзия Хлебникова сохраняет для Вас значение и ценность?
8. Когда Вы по-настоящему открыли для себя Хлебникова (если это, конечно, вообще произошло)? Какую роль в понимании Вами Хлебникова сыграла литература о нем? Не могли бы Вы назвать лучшее из прочитанного?
9. Чего Вы ждете от Хлебниковского юбилея? И как его следовало бы отметить, на Ваш взгляд?
Как собственно, как и должно быть личности на сломе стиля, Хлебников — личность кентаврическая. Это, пожалуй, и отражается в неуклюжем слове, определяющем для меня его стилевую принадлежность — пост-символизм. Переходный период от одного большого стиля к другому — от модерна к конструктивизму — породил титанов, которые неимоверными личностными усилиями завоевывали то, что потом стало скучной нормой обыденного сознания. Пожалуй, почти все представители кубо- и эго-футуризма (за редким исключением, как Крученых, Матюшин и некоторые другие), а также раннего акмеизма и есть пост-символисты, с рудиментами символистических аппеляций (sic!) к надчеловеческому, сверхчеловеческому, подчеловеческому, правда помещаемые пост-символистами в весьма экзотических (для канонической культуры 19 века) местах и пространствах. И вообще, весь стиль, манера поведения, поэтическая поза их, т. е. основной способ объявления, манифестации поэзии в мире через пост-символистов можно назвать экзотизация всех привычных до того параметров как поэтической речи, так и поэтического поведения. Это принципиально отличает пост-символизм от футуризма (конструктивизма), весьма мало у нас известного, ну, разве по отдельным произведениям Чичерина, Зданевича, Крученых, Гнедова, Труфанова, Терентьева. Пафосом зрелого футуризма стало отыскание предельных онтологических единиц текста и предельных истинных законов оперирования этими единицами с целью конструирования единственно истинных предметов как искусства, так и быта, и еще дальше — истинных пространств жизни, смерти и мироздания. Совпадая с символизмом и пост-символизмом в глобальности своих претензий, футуризм отличался от первых позой, выправкой кадрового рабочего, холодным и прицельным взглядом инженера, аккуратной прической и строгостью манер руководителя крупного предприятия и непреклонностью, даже жестокостью провозглашателя новой, не терпящей никаких возражений и отступлений, программы перестройки всего, чего только можно найти в этом мире, во всем, чего еще нельзя найти нигде, но скоро можно будет найти везде, собственно, только это и можно будет найти. А где-то там, уже вдали, бродили затянутые в черные сюртуки-сутаны экстатические старцы-юноши символисты, а рядышком, между ног, шаловливые Северянины, обряженные индейцами Гумилевы, хулиганы маяковские и лохматые безумцы-визионеры Хлебниковы.
Но нет, нет, не подумайте, что я идентифицирую себя с этими инженерами человеческого счастья. Они для меня такие же персонажи в вековечной драме культуры.
Надо сказать, что все утопические проекты футуристов, во всяком случае, их пафос переустройства культуры и искусства и мира целиком на основе экономных законов геометрии и мысли как породительницы чистых геометрий всех сфер бытия, я никогда не принимал, но понимал как некий эзотерический опыт эстетической эйфории. Точно так же отношусь я и к научным изысканиям Хлебникова, в большинство которых я никогда не вчитывался, хотя, в отличие от футуристов, аппеляция (sic!) к надмирным, высшим, тайным силам, с неким штейнеровским прищуром и дрожью Блаватской, оставляли меня в недоумении, заставляя предполагать род мистификации, но уже выходящей за пределы поэтического образа, т. е. аналогично тому (не буквально, а типологически), как футуристы надели кожанки и взялись за пистолеты. И, как мне представляется, этот внепоэтический утопизм сыграл существенную роль в том, что Хлебников обрел статус «поэта для поэтов». То есть, в его поэзии отсутствует пласт, который условно, беря в пример «Евгения Онегина», можно назвать «Таня полюбила Женю». То есть, у Хлебникова отсутствует поп-пласт (не словечки, не цитаты, не тропы, а именно пласт поп-сознания с его определенными константами взаимоотношения жизни-искусства, требующий появления самых жизненно-важных идей в кринолинах и фижмах, а не в безжалостной обнаженности). Надо сказать, что высокомерное отношение к этому пласту в поэтическом языке, или просто игнорирование его, весьма плачевно сказывается на поэте и его творчестве, во-первых, отсекая от него громадную часть читающего населения, во-вторых, мешает культуре пластифицировать поэзию, т. е. сделать ее языком жизни, способом языкового мышления, в-третьих, лишает саму поэзию одного из героев драматургического действа <—> самого стиха. (Надо заметить, что, скажем, у Есенина отсутствует, например, пласт высокоумственных красот и духовных прозрений). Но являемый Хлебниковым образ безумца и пророка как бы отрицательным способом несколько компенсирует этот недостаток — «что взять с безумца!»
Еще могу сказать, что, читая Хлебникова (как и Лермонтова), я испытываю безумный восторг и чувство собственной ничтожности, но, отложив книгу, тут же забываю все, не будучи способен даже припоминать, о чем там говорится. В этом отношении я предпочитаю Блока.
Из всего, что я читал о Хлебникове, наибольшее впечатление на меня произвели воспоминания Митурича.
А вообще-то, что и говорить, Хлебников — гений!
Илья Кукулин
Д. А. ПРИГОВ И ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ:
Два варианта эстетической утопии[428]
1
Одна из важнейших фигур, необходимых для понимания генезиса поэтики Д. А. Пригова, — поэт и теоретик искусства Всеволод Некрасов (1934–2009). Однако изучение литературного взаимодействия Пригова и Некрасова наталкивается на серьезные этические препятствия. В последние два десятилетия жизни — в 1990-е, а особенно в 2000-е годы — Некрасов отзывался о Пригове резко негативно и регулярно обвинял его в «плагиате», «захвате чужого места», в реализации властных установок, якобы продолжавших функцию советской власти по вытеснению неподцензурных писателей из публичного поля[429].
ну вы и новые
новые борзые
новые новые
но и не новые
<…>
ничего
орава в систему
живо выровняется
было бы криво
в Пригова
поиграв поиграв
Пригова тут
Пригова там
Пригова Пригова Пригова
В своих критических эссе и полемических стихотворениях-эпиграммах Некрасов ввел в употребление слово «пригота», обозначающее мафиозные, по его мнению, методы культурного поведения поэтов и художников-авангардистов, получивших известность в неофициальном искусстве 1970-х гг. и занявших центральные позиции в постмодернистской культуре 1990-х.
деррида для приготы
пригота для деррида
пригота пур ле деррида
деррида пур ля пригота
а ворья-то тут
курля и мурля
ворья
Обвинения в плагиате и «захвате места» были, на мой взгляд, совершенно несправедливыми. Степень же их резкости была такова, что и сегодня они ретроспективно затрудняют анализ интенсивного взаимодействия между творчеством двух этих авторов, которое шло и на уровне поэтики, и на уровне художественных установок на протяжении 1970–2000-х гг.
Конечно, для этой многолетней «разоблачительной» кампании легко подобрать простые психологические объяснения. Например, счесть высказывания Некрасова следствием элементарной зависти к успеху Пригова, или результатом мании преследования, или заподозрить, что их основа — стремление Некрасова доказать свое первенство в разработке эстетики концептуализма. Впрочем, в литературе были предложены более изощренные объяснения, одновременно психологические и историко-культурные. Владимир Губайловский предположил, что для Некрасова имел первостепенное значение авангардистский принцип «абсолютной новизны», предполагающий, что именно приоритет эстетического открытия определяет существенную часть значимости того или иного произведения[431], но эта идея наталкивается на противоречие, отмеченное еще в 1990 г. Вл. Кулаковым: поэтика Некрасова является постмодернистской по своей природе, поэтому любое отождествление ее с классическим авангардом требует как минимум дополнительной аргументации[432]. Александр Житенев интерпретировал «этос нетерпимости» Некрасова как культивирование характерного для ранней стадии неофициального искусства деления на «своих» и «чужих»[433]. Георг Витте предположил, что некрасовские диатрибы — следствие установки поэта на поиск тех сфер повседневного языка, в которых возможны неотчужденный пафос и личная, максимально контекстуализированная в пространстве и во времени эмоция[434]. Михаил Павловец выдвинул гипотезу, согласно которой отстаивание своего «места» — «это отстаивание права искусства на эстетическое пространство, отграниченное от пространства внеэстетического», куда, по мнению Некрасова, затаскивали Пригов и Рубинштейн, тем самым оспаривая право и искусства, и Некрасова на собственное «место»[435].
Эти объяснения вполне вероятны, однако, как мне представляется, не исчерпывают всей сложности причин, породивших «анти-приговскую» кампанию со стороны Некрасова. Прежде всего следует обратить внимание на позицию самого Пригова, который не только не отвечал на некрасовские выпады, но и на протяжении многих лет неизменно включал Некрасова в список любимых авторов. В одном из первых интернет-интервью Пригова конца 1990-х гг. можно видеть такой обмен репликами:
«<Vedushij> Братья Дивановы: Ваше отношение к другим поэтам-концептуалистам, если они еще живы. Спасибо!
<DAPrigov> Поэтов-концептуалистов очень немного, это была всегда одна компания. Мое отношение к ним самое нежнейшее, смесь зависти, обожания и нежности.
<…>
<redeye> Вы можете назвать их имена?
<DAPrigov> Могу. Я. Рубинштейн. Некрасов. И не поэт, но концептуалист, литератор, прозаик Сорокин. Это список не всех, кого я люблю, но концептуалистов, которых я люблю»[436].
В 1984 г. Пригов включал Некрасова в канон московских концептуалистов, перечисленных в работе «Азбука 11 сакральных вопросов и ответов», где он выступает как один из пародийных собеседников — наряду с иными близкими Пригову художниками (Эриком Булатовым, Ильей Кабаковым, Борисом Орловым) и писателями (Львом Рубинштейном), а также персонажами внешнего мира — «женщиной», «зверем», Рональдом Рейганом и абиссинским негусом Хайле Селассие. При этом Некрасов упомянут в самом начале этого стихотворения, сразу после Рубинштейна.
В 1990–2000-е гг. Некрасов клеймил в своих статьях и стихах все большее и большее количество людей из своего прежнего окружения, но два человека, которые явно вызывали у него наибольшую ярость, — это Д. А. Пригов и И. Кабаков. Можно предположить, что причин для такого выбора было несколько. В частности потому, что Пригов избрал в конце 1980-х гг. экспансионистскую политику в публичном пространстве, став (во многом по собственной воле, но отчасти просто благодаря своим психофизическим свойствам и особенностям своего таланта) своего рода олицетворением авангардной поэзии в перестроечных и постсоветских либеральных медиа. Насколько можно судить, в конце 1980-х Пригова увлекла перспектива превращения в карнавализированную публичную фигуру, легко меняющую маски — то саксофониста пародийной рок-группы «Среднерусская возвышенность», то поэта-ироника в фуражке «милицанера», то защитника современного искусства в медийном пространстве — таким он выступил в телевизионном диспуте со скульптором-почвенником Вячеславом Клыковым. Но уже во второй половине 1990-х этот соблазн, насколько можно судить, постепенно становился для Пригова все менее действенным, о чем свидетельствует мрачновато-стоический тон тогдашней приговской эссеистики.
До начала 2000-х еще можно было считать, что главной целью поэта является экспансия в другие сферы искусств и стремление к публичному успеху. Более того, Пригов сознательно культивировал имидж востребованного автора. Однако Михаил Айзенберг уже в 1994 г. осторожно усомнился в безусловности этой приговской амбиции:
«Пригов — автор <…> нового типа. Он принимает необходимость успеха без всяких оговорок. И может быть, именно эта безоговорочная капитуляция перед требованиями общества постепенно выворачивает наизнанку тему свободы.
Впрочем, протеизм Пригова абсолютен, и со временем не может не обнаружиться некий эзотерический род авторства, не доступный капитуляции. Где-то в конце восьмидесятых годов, то есть в период полного и очевидного успеха, стало ощущаться это эстетическое раздваивание. В „Алмазной азбуке“ внезапно возник новый голос — надсадный и звонкий, с отголоском безумия.
О чем это? О чем это? — спрашивает Георгий, Григорий, Влк! —
Влк! — тихо! Глафира, Генрих, Волк выходят к струям прозрачным
воды бегущей! — О чем это? О чем это? — вскрикивает Гуннар,
Гвидо, Голландия, Гибралтар, Галина, Гудруна,
Я хочу Ааанннууу! Я хочууу Аааанннууу!»[437]
В годы перестройки Пригов воспринимался как своего рода популист от современного искусства. Это восприятие по инерции действовало и в 1990-е, хотя и в это десятилетие, и в предыдущее Пригов писал и публиковал тексты совсем не популистского характера — например, поздние «Азбуки» или «Тема Штирлица в балете „Лебединое озеро“». Но уже в конце 1990-х и особенно в 2000-е Пригов все больше отказывается от популизма как художественной и социальной стратегии: он создает романы, насыщенные культурными аллюзиями, участвует в визуально-музыкальных перформансах Ираиды Юсуповой и Александра Долгина, сложных по своей поэтике и рассчитанных на подготовленного слушателя / зрителя[438], начинает писать политическую публицистику и все чаще предстает в медиа не как автор постсоветского мейнстрима, а как оппозиционер, отстаивающий либеральные ценности в политике и культуре и противостоящий новому популизму[439].
Этот отход от, казалось бы, раз навсегда взятых на себя обязательств искажал в 1990–2000-е гг. восприятие приговской позиции и создавал когнитивный диссонанс — по крайней мере у тех авторов и аналитиков, кто привык считать поэта пародистом особого, утонченного рода: им было непонятно, «зачем теперь Пригов все это делает»[440]. У Некрасова же никакого диссонанса не было: постсоветской эволюции Пригова он не замечал принципиально. Начиная с середины 1990-х гг. Пригов для него неизменно оставался автором, получившим незаслуженную известность во времена перестройки.
В нападках Некрасова были свои резоны, но обусловленные, как теперь видно из исторической перспективы, не столько творчеством и публичными стратегиями Пригова, сколько его критической и медийной рецепцией в конце 1980-х и в 1990-х гг. Некрасов в самом деле был одним из основателей российской версии концептуализма[441]. Но почти ничего не знавшие о неподцензурной литературе советские критики во времена перестройки обращали внимание в первую очередь на тех поэтов, которые тогда проявляли публичную активность — в спектаклях поэтической группы «Альманах», на «сборных» поэтических вечерах или в разного рода перформансах. А Некрасов уже тогда тщательно дозировал свое проникновение в печать. В частности, в 1990 г. он отказался от моего предложения передать его тексты для публикации в рижский журнал «Родник», который тогда был одним из главных журналов, печатавших произведения неофициальной культуры. Некрасов объяснял это тем, что в «Роднике» к тому времени уже успели напечататься авторы, вульгаризировавшие открытия, сделанные в рамках этой культуры. Поэтому и Некрасов, и многие другие поэты, живые и умершие, не были оценены по достоинству теми, кто во времена перестройки не следил за относительно малотиражными публикациями — например, за статьями Михаила Айзенберга — или не знал «тамиздатских» работ Бориса Гройса советского времени.
Призывы Некрасова реконструировать историю неподцензурной литературы были обоснованными и методологически продуктивными — такие реконструкции помогали лучше понять и контекст творчества тех поэтов и прозаиков, которые во время перестройки оказались «на виду», в том числе и Пригова. Поэтому нападки Некрасова на филологов, обращавших внимание только на поэтов, присутствовавших в медиа и на эстраде, в 1990-е гг. были фактически призывами бороться с энтропийным разрушением знания о прошлом (несмотря на резкий тон). Функционально эти призывы были очень похожи на полемические замечания поздней А. Ахматовой: в своей эссеистике конца 1950-х и 1960-х гг. она постоянно требовала от исследователей воздерживаться от спекуляций при обсуждении истории Серебряного века и биографий его важнейших деятелей, с которыми она была большей частью знакома лично[442]. Несмотря на известную склонность Ахматовой к мифологизации собственной биографии, ее упреки имели важное значение: благодаря им филологи могли понять, насколько искаженной и требовавшей реконструкции была в ту пору история русской культуры пореволюционного времени.
Но в 2000-е диатрибы Некрасова потеряли свою конструктивную функцию — когда Некрасов стал обрушиваться уже не на неосведомленных журналистов и филологов, а на тех, кто изучал его творчество, и в целом на людей, в чьей добросовестности прежде не сомневался — например, на Михаила Айзенберга.
2
Если мы присмотримся повнимательнее к жалобам Некрасова на «захват» Приговым его места, эти выпады покажутся тем более удивительными, что поэтические интенции Некрасова и Пригова выглядят совершенно противоположными. Некрасов — это автор, который стремится организовать пространство «речи как она хочет»:
речь
ночью
можно так сказать иначе говоря
речь речь
как она есть чего она хочет
По-видимому, его идеалом было «поэтическое высказывание, раздвигающее окружающую его рутину и знающее эту рутину» (из выступления Вс. Некрасова на вечере памяти Яна Сатуновского в Библиотеке иностранной литературы в 1994 г.).
Машинообразным, с точки зрения Некрасова, является не личное, а властное идеологическое высказывание, которое превращается в своего рода овеществленный невроз навязчивых действий:
Рост
Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий
По
Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий
По
Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий
По
Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий
Идеологическое высказывание может превратиться в поэтическое, если изменить правила, по которым оно функционирует, например включить его в ряд паронимической аттракции или переосмыслить, включив в контекст совершенно иного языка и стиля:
слава
слава это не совсем то слово
а право слова
в этом все дело
свои слова
вот у них
свои бывают права
мои
и думаете они нисколько не ваши?
граждане
Эту интенцию Некрасова — по сути, утопическую — анализировал Владислав Кулаков в речи по случаю присуждению Некрасову премии Андрея Белого:
«Функциональные модусы языка — обиходные разговорные клише, журналистские штампы, идеологическая риторика, политические лозунги и т. п. — преобразуются в концептуальных коллажах и ассамбляжах Некрасова в живую, интонированную прямую авторскую речь, актуализирующую выразительные средства речи обиходной, устной, которая, как выяснилось, обладает мощным потенциалом стихийной поэтичности. Некрасов выводит поэзию из речи, и речь ведет его поэзию. Стихотворение развивается как цепная реакция речи, квантово-речевых превращений. <…> Цепная реакция речи, конечно, управляемая. Но никакого насилия над природой речи, ее естественным ходом не допускается. Автор формирует лишь интенцию, общее направление, а речь сама выбирает себе русло»[443].
Напротив, для Пригова машинообразным и идеологизированным выглядит потенциально любое высказывание. Пригов — автор, постоянно демонстрирующий искусственность, сделанность любого стиля, с годами все больше переносивший акцент с пустотности готовых дискурсов — прежде всего советского — на эстетические перспективы оформления и превращения в такой пустотный дискурс любых воображаемых, еще даже не сложившихся в русской литературе стилистик: от гей-поэзии («Запредельные любовники», 1995) до анализа приятных переживаний через поиски их числовых эквивалентов («Расчеты с жизнью», 1995). Эволюция Пригова в 1990-е гг. шла по линии эстетического осмысления любого дискурса как возможного (а не необходимого) и отчужденного[444]. Поэтому к Некрасову можно было бы обратить вопрос: как может апологет искусственности «отбивать хлеб» у апологета естественности?
В интересе к подчеркиванию отчужденности любых форм речи предшественником Пригова был не Всеволод Некрасов, а скорее другой автор «лианозовской школы» — Эдуард Лимонов[445]. В своих стихотворениях конца 1960-х — начала 1970-х гг. он разработал утрированную гротескную интонацию, соединявшую грамматические и лексические элементы «высокой» поэзии XIX в., советских клише и позднесоветской повседневной речи, которые взаимно остраняли друг друга:
И что же баба ныне вижу я
Печальное разрушенное ты строение
Все в тебе баба валится все рушится
Скоро баба ты очистишь свое место
Скоро ты на тот свет отправишься
Да товарищ — годы смутные несловимые
Разрушают мое тело прежде первоклассное
Да гражданин — они меня бабу скрючили
петушком загнули тело мне
Но товарищ и ты не избежишь того
— Да баба и я не избегну того
(Последнюю строчку этого стихотворения я всегда слышу произносимой голосом Пригова.)
3
Для того чтобы объяснить смысл нападок Некрасова на Пригова, можно предположить, что они были парадоксальным выражением историко-культурной преемственности от Некрасова к Пригову. Необходимо, однако, выяснить, что именно было здесь предметом наследования: как уже было показано, поэтики этих двух авторов в некоторых отношениях не только не близки, но полярно противоположны.
Самая заметная перекличка между Некрасовым и Приговым — свойственное обоим внимание к пространственным аспектам поэзии и понимание стихотворения как особого рода пространственного объекта. В целом поэтика пространства в московском концептуализме очень важна. Пространство предстает как самостоятельное «действующее лицо» и в картинах Рабина — одного из художников, повлиявших на становление концептуалистской эстетики, и в работах безусловно принадлежащих к концептуализму Эрика Булатова и особенно Олега Васильева. У Некрасова выражением пространственности становятся пробелы внутри стихотворения, между строфами и строками, разделение стихотворения на параллельные «рукава». Все эти особенности поэтики описываются в его статьях в пространственных метафорах.
«По-моему, простые пары двустиший, скажем, могут выглядеть куда как выразительно: так и видишь, как слово рождается не из инерции стихового потока, а из молчания, паузы, того, что за речью
(курсив[446] мой. — И.К.)
[447]. И все-таки где начинается визуальность как принцип? Очевидно, там, где плоскость листа не просто привычный способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми ее возможностями… Где возникает идея преодолеть косную временную последовательность, принудительность порядка в ряде — идея одновременного текста („сказать все сразу“) и множественности, плюралистичности. Здесь застаем сам момент перехода временного явления в пространственное…
<…> часть текста норовит отделиться и всплыть, стать наряду с другой частью — и ничего с этим не поделаешь. Вот так же, говорят, устроены и работают и две половины человеческого мозга[448]. Иногда это двойственность, а иногда парность. Тут и начинается не текст-вещь, а текст-ситуация. И возникает пространство возможностей и отношений, диалога…
<…>
Характерное пространственное мышление у Мандельштама с теми же „тройчатками“…», —
писал Вс. Некрасов в своем манифесте «Объяснительная записка» (1979–1980)[449].
Эта пространственность поэтики Некрасова редко становилась предметом осмысления. Среди тех немногих, кто о ней говорил подробно, — философ Владимир Библер в своем докладе, прочитанном на семинаре «Архэ» в 1994 г.:
«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, говоря о поэтике Некрасова, об этом типе поэтики, это — значение пустот… <…> Молчание для любой поэзии существенно, но синтаксически непрерывный поток сбивает это молчание; в поэзии Всеволода Некрасова молчание вводится как необходимый, специальный компонент речи, причем расталкивающий остальные и особенно сосредотачивающий внимание на том слове, которое предшествовало молчанию, которое потребовало молчания, и на том слове, которое вновь возникло тогда, когда молчание невозможно и оно кончается.
С этим же связан следующий момент, опять же характеризующий пустоты. Это — подчеркнутая вариативность текста»[450].
Это воображаемое пространство — не трансцендентное, а только невербальное. Само представление о таком пространстве основано на эстетической концепции, согласно которой слова в каждом стихотворении не выражают — потенциально — всю окружающую человека реальность, а лишь указывают на ее отдельные фрагменты, остальное же находится в пространстве невысказываемого. Трансцендентное же находится по ту сторону и слов, и стоящей за ними «пустоты».
* * *
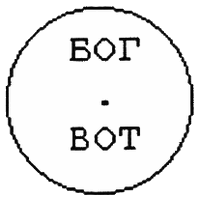
Только это не Бог
Вот-вот
А Бог
Больше
У Пригова тоже стихи организованы не только синтагматически, но и парадигматически: во многих сборниках они начинаются с близких или эквивалентных фраз или имеют аналогичную грамматическую структуру и поэтому словно бы размещены в едином пространстве. Эти стихи, как и многие другие сочинения концептуалистов, имеют характер не только синтагматически развертывающегося текста, но и реализации воображаемой смысловой парадигмы, имеющей симультанный, пространственный характер[451]:
Его не трогали и все не могли до конца игнорировать! —
А вы апофатику не пробовали? — спрашивали самые опасливые
Нет, не пробовали, но, кстати, — это был бы чересчур радикальный выход
Его прославляли и все не могли по-настоящему прославить! —
А вы смертью не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Пробовали, пробовали, и, кстати, — это вполне может быть паллиативом
истинного выхода
Его заменяли на другого и все не могли до конца заменить! —
А вы новую антропологию не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Нет, не пробовали и, кстати, — это был бы выход,
если бы кто-то имел о ней хоть какое-то понятие
Его понимали, понимали и все не могли до конца понять!
А вы разумным способом не пробовали? — спрашивали разумные
Нет, не пробовали, кстати — это неплохой, хотя, конечно, и не местный выход
Пригов вообще очень интересовался структурами, которые объединяют в себе парадигматические и синтагматические свойства — например, алфавитом, порядок которого породил его многочисленные «Азбуки»; на Пригова в этом смысле явно повлиял тот факт, что именно русская азбука заканчивается шифтером, указывающим на говорящего субъекта — буквой / местоимением «я».
Несуществующий общий исток каждой группы стихотворений Пригова, объединенных в цикл-сборник (вспомним, что говорил о мифологизации истока Ж. Деррида в книге «О грамматологии»), обычно бывал иронически «помечен» предуведомлением к сборнику.
Пространственность была свойственна и другим концептуалистам в поэзии: все они вводили в текст дополнительное членение на фрагменты (в случае Л. Рубинштейна — визуально «разнесенные» по карточкам), которое, в соответствии со стиховедческой концепцией М. Шапира, может быть описано как введение в текст дополнительного квазипространственного измерения[452]. О пространственности у Льва Рубинштейна в сопоставлении с этим же аспектом поэтики Некрасова писал Михаил Павловец в недавней работе[453]. Но и сам Некрасов в одном из мемуарных эссе проанализировал переклички между своими стихотворениями конца 1960–1970-х гг. и творчеством Рубинштейна.
«<…> тексты фрагментами пошли у меня года с 67–68. Иногда — довольно похоже на будущего Рубинштейна, сериями — только короткими — в несколько единиц. Иногда с деформацией, редукцией — до минимума: хвостик слова на отдельной табличке. Эти мини-тексты рассаживались по ячейкам таблиц, таблицы могли разрезаться на совсем маленькие странички — величину определял шрифт пишущей машинки. <…> мне хотелось предела фрагментарности, чтоб на перепаде-перескоке между этими живыми по краям, на изломе текстами-фрагментами искрило бы то самое затекстовое поле. Из-за материи текста выглядывала бы энергия <…>»[454].
С точки зрения Некрасова, современная поэзия должна радикально обновлять восприятие языка, прежде искаженного тоталитарными режимами и «большими идеологиями», и опосредованно — восприятие физического мира.
Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это
А
Водички
Понимание «пространственности» стихотворения у Некрасова, таким образом, существенно отличалось от приговского (хотя бы и не выраженного эксплицитно): для Некрасова «пространственность» означала проблематизацию материальности текста, для Пригова — онтологическую неполноту любого высказывания в искусстве («Нет последних истин — все истины предпоследние / И в смысле истинности и в смысле порядка следования…» — из стихотворения «Нет последних истин…», до 1989). Такое отношение к пространственности текста и к процессу творчества Некрасов воспринимал как механизацию приема и отказ от желания прорваться от «материи» к «энергии», т. е. как сдачу эстетических позиций.
Однако с другой позиции подход Пригова может быть понят как обновление, а не отказ. Отношение к языку в его творчестве было гораздо более отчужденным, чем у Некрасова. Это давало Пригову гораздо большую гибкость в моделировании уже существующих и новых языков и в исследовании их границ. В произведениях Некрасова язык по степени чуждости его авторскому «я» может быть разделен в целом всего на три уровня: личный язык — язык общества — язык власти: групп, которые претендуют на власть или уже находятся у власти (для Некрасова между ними было мало разницы). Для стихотворений Пригова такая классификация была бы гораздо более гибкой — именно потому, что в зрелый период для него личного языка не было, или, точнее, язык, который Пригов мог бы воспринимать как «личный», оказывался для него столь же отчужденным, как и все остальные.
4
Выше уже кратко было сказано о том, что поэтика Некрасова была утопична по своим задачам. Утопизм Некрасова очевиден из его поэзии и публицистики, но сложен по своему составу. Прежде всего, это утопизм «естественного» языка, надежда на полное понимание «негромкого» художественного жеста со стороны читателя, требование совершенно равноправных, основанных только на «гамбургском счете» отношений в литературно-художественной среде. В этом утопизме Некрасов — шестидесятник (что и признавал в последние годы жизни[455]), только неподцензурный и даже на фоне других шестидесятников выделявшийся последовательностью своего утопизма, который был чертой не идеологии, а поэтики.
Однако в эстетике Некрасова присутствовал еще один утопический элемент — стремление создать, выработать, вообразить нового автора, чье творчество могло бы изменить отношения в обществе. В московском концептуализме именно Некрасов и Пригов больше всех остальных стремились осмыслить, как может измениться позиция «автора стихотворений» в современной художественной ситуации. Именно эта общность интересов и стала причиной ревнивого и, в последние два десятилетия жизни, неприязненного отношения Некрасова к Пригову.
Некрасов постоянно возвращался в своих статьях к идее о том, что постмодернизм — это не только течение в искусстве, а «состояние умов», которое «нажить нужно, наработать»[456]. Пригов, начиная с еще относительно ранних теоретических сочинений[457], неоднократно писал, что в культуре происходит радикальный антропологический переход, вызванный завершением всех великих проектов Нового времени — в том числе и «человека» как проекта. В этой постановке вопроса можно усмотреть перекличку со знаменитым финалом трактата Мишеля Фуко «Слова и вещи» — о том, что нововременная концепция человека «исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[458]; недаром в 2000-е гг. Пригов все чаще употреблял для обозначения своих задач словосочетание «новая антропология». В этих условиях художник должен «пойти на опережение» и отрефлексировать задачи, которые встанут перед обществом завтра.
В своем интервью «Отходы деятельности центрального фантома» Пригов предполагал, что центральным в его деятельности является сотворение нового типа авторства:
«<…> для меня все [мои] виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП — Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома. В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для отслеживания данного фантома. Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности. Современное литературоведение обладает оптикой слежения только за текстами. А когда оно смотрит в эту самую обозначенную центральную зону, перед ним просто несфокусированное мутное пятно. Литературоведы не могут ничего разобрать. Посему они и занимаются отдельными окаменевшими текстами. Но если со временем наука или исследователи изобретут оптику, которая могла бы считывать вот эту центральную зону, тогда все остальное, как и было сказано, предстанет им как пусть порой и привлекательные и даже кажущиеся самоотдельными, но все-таки случайные отходы деятельности вот этой центральной зоны, где происходят основные поведенческие события»[459].
Приговская поэтика тоже была утопичной: она предполагала свободу «я», «парящего» между различными самоидентификациями. Такая свобода давала возможность остранять любой авторский стиль. Из беседы Д. А. Пригова с А. Парщиковым 1997 г.:
«Есть некоторые, кто говорит, что поэт — это тот, кто тонко чувствует, поэт — это тот, кто пробуждает светлые чувства, каждый по-своему. Поэт — это тот… а ты что делаешь? Мне [в таких случаях] всегда приходит [в голову] такой анекдот: приехал портной и написал, что он лучший портной в городе, потом другой о себе написал: лучший портной Европы, приехал следующий и написал: лучший портной в мире… А еще один написал, что он лучший портной на этой улице. Я, в отличие от всех поэтов, [определяю себя иначе: поэт — ] это тот, кто ведет себя поэтически. [Понимание поэта как] поведенческой модели ставит в положение частного случая все остальные образы поэта в обществе.
Искусство пришло к ситуации, когда оно уперлось в идентификацию творческой личности; [искусство — ] это только твое личное поведение, которое может быть сформировано как поэтическое [поведение], как художническое, как [поведение] музыканта, как угодно. Предельный уровень явлен наконец — но и уровни теряют смысл, есть только смысл некой конвенции. Вот кто-то приехал и претендовал на [место] лучшего в городе, лучшего в Европе, во всем мире, а [потом] приехал последний [портной] и сказал: я лучший только потому, что в наших пределах принята такая конвенция. Я себя осмысленно веду, и мои амбиции в этом отношении выше не потому, что я территориальный претендент, а потому, что я претендую на вас на всех. Я являю вас всех! Вот так этот анекдот как-то отражает картину в современном искусстве»[460].
Необходимым условием такой свободы был утопически понимаемый профессионализм — способность Пригова, владея техникой наивного письма, все же строить тексты последовательно выдерживаемого стиля и размера. Характерно, что Пригов, используя приемы наивного письма, чаще «подрубает» слово под заданный ритм («милицанер»), чем расшатывает уже имеющийся. Если же ритм расшатан, то это всегда выглядит как очень нарочитый жест.
Эта утопия профессионализма бросается в глаза при сравнении с одним из литературных «детей» и оппонентов Пригова — Германом Лукомниковым, который в начале 2000-х публично спросил у него на литературном вечере: «Вы говорите, Дмитрий Александрович, что вы каждый день пишете по три стихотворения. Прочтите, пожалуйста, стихотворение, написанное сегодня». Пригов замялся и ответил, что предъявить такое произведение не может, так как написанное им в этот день еще не отредактировано. Лукомников сказал: «А вот я могу», — и прочитал несколько стихотворений. На своих выступлениях первой половины 2000-х после этого диалога Лукомников читал сначала новые стихи, а потом черновые записи и варианты. Такая организация литературного вечера напоминала оглавление тома из воображаемого академического собрания сочинений и в то же время призвана была показать, что между автором и слушателями нет никаких опосредующих культурных преград[461]. Впрочем, тут нет противоречия: публикация черновиков и вариантов в академических изданиях в сегодняшнем их понимании как раз и необходима для более точного понимания генезиса текста, а через него — самосознания публикуемого автора, т. е. — для большей проницаемости культурных барьеров[462].
Пригов, вероятно, в самом деле писал каждый день (подобно тому как он, по свидетельству сразу нескольких мемуаристов, каждую ночь рисовал), хотя вряд ли каждый день именно по три стихотворения. Но потом он дорабатывал тексты и строил из них циклы. Ему скорее был важен образ художника, который пишет каждый день, чем образ человека, который находится в процессе непрерывного сотворения текстов в режиме «потока сознания».
Постоянные энергичные рассуждения Пригова о крахе всех утопий и проектов Нового времени уравновешивались его собственным утопизмом, пусть и постмодернистским по своему происхождению, — надеждой на самосозидание, которое остраняет любые инкарнации и любые возможности редукции творчества к национальной культуре и физической телесности. Усилие самостроения не могло быть сведено ни к каким коллективным проектам и конвенциям, которые казались Пригову гносеологически недостаточными, «предпоследними».
Уместно сравнить Пригова с другой центральной фигурой московского концептуализма (и в то же время — другим «главным раздражителем» Некрасова) — Ильей Кабаковым. В центре поэтики Кабакова и его теории искусства — понятие тотальной инсталляции, т. е. нового вида произведения, а не нового типа автора, что для этого художника является вторичным. Автор в творчестве Кабакова — демиург, абсолютно трансцендентный произведению, как каббалистический Эн Соф по отношению к сотворенному миру. Для своих тотальных инсталляций Кабаков изобретает персонажей, которые уже потом будут творить это пространство[463], что, опять же, напоминает гностико-каббалистическую модель мира: «подставные» авторы Кабакова соответствуют сфиротам — эманациям Высшего начала.
Ни у Пригова, ни у Некрасова этого нет. Пригову важны не только «подставные» авторы его стихотворений, но и тот, кто за ними стоит, тот «режиссер», который их держит за невидимые ниточки. Пригов настаивал на том, что для адекватного восприятия его творчества необходимо восприятие «центрального фантома» — субъекта жизнетворчества, который стоит за каждым его произведением — текстом, или перформансом, или инсталляцией.
Однако в понимании авторства визуальные и текстуальные работы Пригова несколько отличаются друг от друга. Идея литературной работы Пригова — максимальное разнообразие и быстрое эксплицитное реагирование на то, что автор считал новейшими эстетическими проблемами эпохи (не общественными, а именно эстетическими: его интересовала деформированная телесность, связь тела и идентичности «я» в произведениях искусства, «серийность» и коммерциализация эмоциональной жизни, которую изучает модная сегодня «экономика впечатлений»[464], — Пригов первым освоил ее проблематику в российском искусстве…). Визуальные же работы Пригова в гораздо большей степени, чем его стихи и романы, были основаны на сознательном варьировании одних и тех же образов и мотивов, чтобы, как он сам постоянно говорил, с одного взгляда сразу становилось бы понятно: «Это — Пригов», — использование газет в качестве основы произведения, возвращающиеся образы глаза, занавеса, уборщицы с ведром, квазисакрального пространства[465].
В целом различие между трактовками авторства у Некрасова и Пригова связано с их представлением о единстве / расподоблении автора и произведения. Некрасов придерживался романтического по своему происхождению представления о том, что автор (в терминологии М. М. Бахтина — «первичный автор», т. е. инстанция, порождающая текст) составляет единое целое со своим произведением, и на этом единстве основана ответственность эстетического высказывания. Пригов полагал, что автор всегда отчужден от собственного произведения и что ответственность высказывания всегда проблематична. (Эта проблематизация породила в следующем литературном поколении сложную рефлексию о том, каким образом в современных условиях — после концептуализма — может быть переосмыслена и «переизобретена» этическая связь литератора с собственными произведениями[466].)
Можно построить следующую шкалу отношения к авторству в пространстве московского концептуализма:
Акцент на авторстве // Акцент на произведении
 Д. А. Пригов как Вс. Некрасов // Д. А. Пригов как И. Кабаков поэт-художник
Д. А. Пригов как Вс. Некрасов // Д. А. Пригов как И. Кабаков поэт-художник
Пригов и Некрасов реализуют две интенции постмодернистской культуры, которые можно метафорически назвать «экологической» и «киберпанковской». Напомню, что один из манифестов Некрасова назывался «Экология искусства»[467]. Под «киберпанком» я подразумеваю представление о «киборге» как о гибридном существе, которое преобразует себя через совмещение организма с компьютером или иными, внечеловеческими сущностями — в духе манифеста киберфеминизма Донны Харауэй[468]. Пригов очень интересовался кинематографом, который исследует границы человеческого, — такими фильмами, как «Чужой» или «Face/Off»[469].
Именно эта разница в типах утопизма была, как мне кажется, глубинным нервом странной и агрессивной полемики Некрасова с Приговым и Кабаковым. Некрасова возмущало не покушение на его место в литературе, а замена утопизма. В его представлении, утопизмов могло быть только два: властный и его контрвластный (это анализировал Александр Житенев в своей статье об этосе нетерпимости у Некрасова). Пригов, создавший в русской культуре новый, ранее не предусмотренный тип утопизма — абсолютно свободного автора, — казался ему в этой ситуации лишним, как и Кабаков, создавший утопию тотальной инсталляции. Однако ретроспективно позиция этих художников не выглядит взаимоисключающей. Они просто ориентируются на разные тенденции, сосуществующие внутри постмодернистской культуры. Были ли они взаимодополнительными, возможно, станет ясно со временем.
1
Одна из важнейших фигур, необходимых для понимания генезиса поэтики Д. А. Пригова, — поэт и теоретик искусства Всеволод Некрасов (1934–2009). Однако изучение литературного взаимодействия Пригова и Некрасова наталкивается на серьезные этические препятствия. В последние два десятилетия жизни — в 1990-е, а особенно в 2000-е годы — Некрасов отзывался о Пригове резко негативно и регулярно обвинял его в «плагиате», «захвате чужого места», в реализации властных установок, якобы продолжавших функцию советской власти по вытеснению неподцензурных писателей из публичного поля[429].
ну вы и новые
новые борзые
новые новые
но и не новые
<…>
ничего
орава в систему
живо выровняется
было бы криво
в Пригова
поиграв поиграв
Пригова тут
Пригова там
Пригова Пригова Пригова
В своих критических эссе и полемических стихотворениях-эпиграммах Некрасов ввел в употребление слово «пригота», обозначающее мафиозные, по его мнению, методы культурного поведения поэтов и художников-авангардистов, получивших известность в неофициальном искусстве 1970-х гг. и занявших центральные позиции в постмодернистской культуре 1990-х.
деррида для приготы
пригота для деррида
пригота пур ле деррида
деррида пур ля пригота
а ворья-то тут
курля и мурля
ворья
Обвинения в плагиате и «захвате места» были, на мой взгляд, совершенно несправедливыми. Степень же их резкости была такова, что и сегодня они ретроспективно затрудняют анализ интенсивного взаимодействия между творчеством двух этих авторов, которое шло и на уровне поэтики, и на уровне художественных установок на протяжении 1970–2000-х гг.
Конечно, для этой многолетней «разоблачительной» кампании легко подобрать простые психологические объяснения. Например, счесть высказывания Некрасова следствием элементарной зависти к успеху Пригова, или результатом мании преследования, или заподозрить, что их основа — стремление Некрасова доказать свое первенство в разработке эстетики концептуализма. Впрочем, в литературе были предложены более изощренные объяснения, одновременно психологические и историко-культурные. Владимир Губайловский предположил, что для Некрасова имел первостепенное значение авангардистский принцип «абсолютной новизны», предполагающий, что именно приоритет эстетического открытия определяет существенную часть значимости того или иного произведения[431], но эта идея наталкивается на противоречие, отмеченное еще в 1990 г. Вл. Кулаковым: поэтика Некрасова является постмодернистской по своей природе, поэтому любое отождествление ее с классическим авангардом требует как минимум дополнительной аргументации[432]. Александр Житенев интерпретировал «этос нетерпимости» Некрасова как культивирование характерного для ранней стадии неофициального искусства деления на «своих» и «чужих»[433]. Георг Витте предположил, что некрасовские диатрибы — следствие установки поэта на поиск тех сфер повседневного языка, в которых возможны неотчужденный пафос и личная, максимально контекстуализированная в пространстве и во времени эмоция[434]. Михаил Павловец выдвинул гипотезу, согласно которой отстаивание своего «места» — «это отстаивание права искусства на эстетическое пространство, отграниченное от пространства внеэстетического», куда, по мнению Некрасова, затаскивали Пригов и Рубинштейн, тем самым оспаривая право и искусства, и Некрасова на собственное «место»[435].
Эти объяснения вполне вероятны, однако, как мне представляется, не исчерпывают всей сложности причин, породивших «анти-приговскую» кампанию со стороны Некрасова. Прежде всего следует обратить внимание на позицию самого Пригова, который не только не отвечал на некрасовские выпады, но и на протяжении многих лет неизменно включал Некрасова в список любимых авторов. В одном из первых интернет-интервью Пригова конца 1990-х гг. можно видеть такой обмен репликами:
«<Vedushij> Братья Дивановы: Ваше отношение к другим поэтам-концептуалистам, если они еще живы. Спасибо!
<DAPrigov> Поэтов-концептуалистов очень немного, это была всегда одна компания. Мое отношение к ним самое нежнейшее, смесь зависти, обожания и нежности.
<…>
<redeye> Вы можете назвать их имена?
<DAPrigov> Могу. Я. Рубинштейн. Некрасов. И не поэт, но концептуалист, литератор, прозаик Сорокин. Это список не всех, кого я люблю, но концептуалистов, которых я люблю»[436].
В 1984 г. Пригов включал Некрасова в канон московских концептуалистов, перечисленных в работе «Азбука 11 сакральных вопросов и ответов», где он выступает как один из пародийных собеседников — наряду с иными близкими Пригову художниками (Эриком Булатовым, Ильей Кабаковым, Борисом Орловым) и писателями (Львом Рубинштейном), а также персонажами внешнего мира — «женщиной», «зверем», Рональдом Рейганом и абиссинским негусом Хайле Селассие. При этом Некрасов упомянут в самом начале этого стихотворения, сразу после Рубинштейна.
В 1990–2000-е гг. Некрасов клеймил в своих статьях и стихах все большее и большее количество людей из своего прежнего окружения, но два человека, которые явно вызывали у него наибольшую ярость, — это Д. А. Пригов и И. Кабаков. Можно предположить, что причин для такого выбора было несколько. В частности потому, что Пригов избрал в конце 1980-х гг. экспансионистскую политику в публичном пространстве, став (во многом по собственной воле, но отчасти просто благодаря своим психофизическим свойствам и особенностям своего таланта) своего рода олицетворением авангардной поэзии в перестроечных и постсоветских либеральных медиа. Насколько можно судить, в конце 1980-х Пригова увлекла перспектива превращения в карнавализированную публичную фигуру, легко меняющую маски — то саксофониста пародийной рок-группы «Среднерусская возвышенность», то поэта-ироника в фуражке «милицанера», то защитника современного искусства в медийном пространстве — таким он выступил в телевизионном диспуте со скульптором-почвенником Вячеславом Клыковым. Но уже во второй половине 1990-х этот соблазн, насколько можно судить, постепенно становился для Пригова все менее действенным, о чем свидетельствует мрачновато-стоический тон тогдашней приговской эссеистики.
До начала 2000-х еще можно было считать, что главной целью поэта является экспансия в другие сферы искусств и стремление к публичному успеху. Более того, Пригов сознательно культивировал имидж востребованного автора. Однако Михаил Айзенберг уже в 1994 г. осторожно усомнился в безусловности этой приговской амбиции:
«Пригов — автор <…> нового типа. Он принимает необходимость успеха без всяких оговорок. И может быть, именно эта безоговорочная капитуляция перед требованиями общества постепенно выворачивает наизнанку тему свободы.
Впрочем, протеизм Пригова абсолютен, и со временем не может не обнаружиться некий эзотерический род авторства, не доступный капитуляции. Где-то в конце восьмидесятых годов, то есть в период полного и очевидного успеха, стало ощущаться это эстетическое раздваивание. В „Алмазной азбуке“ внезапно возник новый голос — надсадный и звонкий, с отголоском безумия.
О чем это? О чем это? — спрашивает Георгий, Григорий, Влк! —
Влк! — тихо! Глафира, Генрих, Волк выходят к струям прозрачным
воды бегущей! — О чем это? О чем это? — вскрикивает Гуннар,
Гвидо, Голландия, Гибралтар, Галина, Гудруна,
Я хочу Ааанннууу! Я хочууу Аааанннууу!»[437]
В годы перестройки Пригов воспринимался как своего рода популист от современного искусства. Это восприятие по инерции действовало и в 1990-е, хотя и в это десятилетие, и в предыдущее Пригов писал и публиковал тексты совсем не популистского характера — например, поздние «Азбуки» или «Тема Штирлица в балете „Лебединое озеро“». Но уже в конце 1990-х и особенно в 2000-е Пригов все больше отказывается от популизма как художественной и социальной стратегии: он создает романы, насыщенные культурными аллюзиями, участвует в визуально-музыкальных перформансах Ираиды Юсуповой и Александра Долгина, сложных по своей поэтике и рассчитанных на подготовленного слушателя / зрителя[438], начинает писать политическую публицистику и все чаще предстает в медиа не как автор постсоветского мейнстрима, а как оппозиционер, отстаивающий либеральные ценности в политике и культуре и противостоящий новому популизму[439].
Этот отход от, казалось бы, раз навсегда взятых на себя обязательств искажал в 1990–2000-е гг. восприятие приговской позиции и создавал когнитивный диссонанс — по крайней мере у тех авторов и аналитиков, кто привык считать поэта пародистом особого, утонченного рода: им было непонятно, «зачем теперь Пригов все это делает»[440]. У Некрасова же никакого диссонанса не было: постсоветской эволюции Пригова он не замечал принципиально. Начиная с середины 1990-х гг. Пригов для него неизменно оставался автором, получившим незаслуженную известность во времена перестройки.
В нападках Некрасова были свои резоны, но обусловленные, как теперь видно из исторической перспективы, не столько творчеством и публичными стратегиями Пригова, сколько его критической и медийной рецепцией в конце 1980-х и в 1990-х гг. Некрасов в самом деле был одним из основателей российской версии концептуализма[441]. Но почти ничего не знавшие о неподцензурной литературе советские критики во времена перестройки обращали внимание в первую очередь на тех поэтов, которые тогда проявляли публичную активность — в спектаклях поэтической группы «Альманах», на «сборных» поэтических вечерах или в разного рода перформансах. А Некрасов уже тогда тщательно дозировал свое проникновение в печать. В частности, в 1990 г. он отказался от моего предложения передать его тексты для публикации в рижский журнал «Родник», который тогда был одним из главных журналов, печатавших произведения неофициальной культуры. Некрасов объяснял это тем, что в «Роднике» к тому времени уже успели напечататься авторы, вульгаризировавшие открытия, сделанные в рамках этой культуры. Поэтому и Некрасов, и многие другие поэты, живые и умершие, не были оценены по достоинству теми, кто во времена перестройки не следил за относительно малотиражными публикациями — например, за статьями Михаила Айзенберга — или не знал «тамиздатских» работ Бориса Гройса советского времени.
Призывы Некрасова реконструировать историю неподцензурной литературы были обоснованными и методологически продуктивными — такие реконструкции помогали лучше понять и контекст творчества тех поэтов и прозаиков, которые во время перестройки оказались «на виду», в том числе и Пригова. Поэтому нападки Некрасова на филологов, обращавших внимание только на поэтов, присутствовавших в медиа и на эстраде, в 1990-е гг. были фактически призывами бороться с энтропийным разрушением знания о прошлом (несмотря на резкий тон). Функционально эти призывы были очень похожи на полемические замечания поздней А. Ахматовой: в своей эссеистике конца 1950-х и 1960-х гг. она постоянно требовала от исследователей воздерживаться от спекуляций при обсуждении истории Серебряного века и биографий его важнейших деятелей, с которыми она была большей частью знакома лично[442]. Несмотря на известную склонность Ахматовой к мифологизации собственной биографии, ее упреки имели важное значение: благодаря им филологи могли понять, насколько искаженной и требовавшей реконструкции была в ту пору история русской культуры пореволюционного времени.
Но в 2000-е диатрибы Некрасова потеряли свою конструктивную функцию — когда Некрасов стал обрушиваться уже не на неосведомленных журналистов и филологов, а на тех, кто изучал его творчество, и в целом на людей, в чьей добросовестности прежде не сомневался — например, на Михаила Айзенберга.
2
Если мы присмотримся повнимательнее к жалобам Некрасова на «захват» Приговым его места, эти выпады покажутся тем более удивительными, что поэтические интенции Некрасова и Пригова выглядят совершенно противоположными. Некрасов — это автор, который стремится организовать пространство «речи как она хочет»:
речь
ночью
можно так сказать иначе говоря
речь речь
как она есть чего она хочет
По-видимому, его идеалом было «поэтическое высказывание, раздвигающее окружающую его рутину и знающее эту рутину» (из выступления Вс. Некрасова на вечере памяти Яна Сатуновского в Библиотеке иностранной литературы в 1994 г.).
Машинообразным, с точки зрения Некрасова, является не личное, а властное идеологическое высказывание, которое превращается в своего рода овеществленный невроз навязчивых действий:
Рост
Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий
По
Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий
По
Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий
По
Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий
Идеологическое высказывание может превратиться в поэтическое, если изменить правила, по которым оно функционирует, например включить его в ряд паронимической аттракции или переосмыслить, включив в контекст совершенно иного языка и стиля:
слава
слава это не совсем то слово
а право слова
в этом все дело
свои слова
вот у них
свои бывают права
мои
и думаете они нисколько не ваши?
граждане
Эту интенцию Некрасова — по сути, утопическую — анализировал Владислав Кулаков в речи по случаю присуждению Некрасову премии Андрея Белого:
«Функциональные модусы языка — обиходные разговорные клише, журналистские штампы, идеологическая риторика, политические лозунги и т. п. — преобразуются в концептуальных коллажах и ассамбляжах Некрасова в живую, интонированную прямую авторскую речь, актуализирующую выразительные средства речи обиходной, устной, которая, как выяснилось, обладает мощным потенциалом стихийной поэтичности. Некрасов выводит поэзию из речи, и речь ведет его поэзию. Стихотворение развивается как цепная реакция речи, квантово-речевых превращений. <…> Цепная реакция речи, конечно, управляемая. Но никакого насилия над природой речи, ее естественным ходом не допускается. Автор формирует лишь интенцию, общее направление, а речь сама выбирает себе русло»[443].
Напротив, для Пригова машинообразным и идеологизированным выглядит потенциально любое высказывание. Пригов — автор, постоянно демонстрирующий искусственность, сделанность любого стиля, с годами все больше переносивший акцент с пустотности готовых дискурсов — прежде всего советского — на эстетические перспективы оформления и превращения в такой пустотный дискурс любых воображаемых, еще даже не сложившихся в русской литературе стилистик: от гей-поэзии («Запредельные любовники», 1995) до анализа приятных переживаний через поиски их числовых эквивалентов («Расчеты с жизнью», 1995). Эволюция Пригова в 1990-е гг. шла по линии эстетического осмысления любого дискурса как возможного (а не необходимого) и отчужденного[444]. Поэтому к Некрасову можно было бы обратить вопрос: как может апологет искусственности «отбивать хлеб» у апологета естественности?
В интересе к подчеркиванию отчужденности любых форм речи предшественником Пригова был не Всеволод Некрасов, а скорее другой автор «лианозовской школы» — Эдуард Лимонов[445]. В своих стихотворениях конца 1960-х — начала 1970-х гг. он разработал утрированную гротескную интонацию, соединявшую грамматические и лексические элементы «высокой» поэзии XIX в., советских клише и позднесоветской повседневной речи, которые взаимно остраняли друг друга:
И что же баба ныне вижу я
Печальное разрушенное ты строение
Все в тебе баба валится все рушится
Скоро баба ты очистишь свое место
Скоро ты на тот свет отправишься
Да товарищ — годы смутные несловимые
Разрушают мое тело прежде первоклассное
Да гражданин — они меня бабу скрючили
петушком загнули тело мне
Но товарищ и ты не избежишь того
— Да баба и я не избегну того
(Последнюю строчку этого стихотворения я всегда слышу произносимой голосом Пригова.)
3
Для того чтобы объяснить смысл нападок Некрасова на Пригова, можно предположить, что они были парадоксальным выражением историко-культурной преемственности от Некрасова к Пригову. Необходимо, однако, выяснить, что именно было здесь предметом наследования: как уже было показано, поэтики этих двух авторов в некоторых отношениях не только не близки, но полярно противоположны.
Самая заметная перекличка между Некрасовым и Приговым — свойственное обоим внимание к пространственным аспектам поэзии и понимание стихотворения как особого рода пространственного объекта. В целом поэтика пространства в московском концептуализме очень важна. Пространство предстает как самостоятельное «действующее лицо» и в картинах Рабина — одного из художников, повлиявших на становление концептуалистской эстетики, и в работах безусловно принадлежащих к концептуализму Эрика Булатова и особенно Олега Васильева. У Некрасова выражением пространственности становятся пробелы внутри стихотворения, между строфами и строками, разделение стихотворения на параллельные «рукава». Все эти особенности поэтики описываются в его статьях в пространственных метафорах.
«По-моему, простые пары двустиший, скажем, могут выглядеть куда как выразительно: так и видишь, как слово рождается не из инерции стихового потока, а из молчания, паузы, того, что за речью
(курсив[446] мой. — И.К.)<…> часть текста норовит отделиться и всплыть, стать наряду с другой частью — и ничего с этим не поделаешь. Вот так же, говорят, устроены и работают и две половины человеческого мозга[448]. Иногда это двойственность, а иногда парность. Тут и начинается не текст-вещь, а текст-ситуация. И возникает пространство возможностей и отношений, диалога…
<…>
Характерное пространственное мышление у Мандельштама с теми же „тройчатками“…», —
писал Вс. Некрасов в своем манифесте «Объяснительная записка» (1979–1980)[449].
Эта пространственность поэтики Некрасова редко становилась предметом осмысления. Среди тех немногих, кто о ней говорил подробно, — философ Владимир Библер в своем докладе, прочитанном на семинаре «Архэ» в 1994 г.:
«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, говоря о поэтике Некрасова, об этом типе поэтики, это — значение пустот… <…> Молчание для любой поэзии существенно, но синтаксически непрерывный поток сбивает это молчание; в поэзии Всеволода Некрасова молчание вводится как необходимый, специальный компонент речи, причем расталкивающий остальные и особенно сосредотачивающий внимание на том слове, которое предшествовало молчанию, которое потребовало молчания, и на том слове, которое вновь возникло тогда, когда молчание невозможно и оно кончается.
С этим же связан следующий момент, опять же характеризующий пустоты. Это — подчеркнутая вариативность текста»[450].
Это воображаемое пространство — не трансцендентное, а только невербальное. Само представление о таком пространстве основано на эстетической концепции, согласно которой слова в каждом стихотворении не выражают — потенциально — всю окружающую человека реальность, а лишь указывают на ее отдельные фрагменты, остальное же находится в пространстве невысказываемого. Трансцендентное же находится по ту сторону и слов, и стоящей за ними «пустоты».
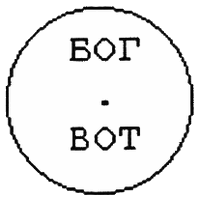
Только это не Бог
Вот-вот
А Бог
Больше
У Пригова тоже стихи организованы не только синтагматически, но и парадигматически: во многих сборниках они начинаются с близких или эквивалентных фраз или имеют аналогичную грамматическую структуру и поэтому словно бы размещены в едином пространстве. Эти стихи, как и многие другие сочинения концептуалистов, имеют характер не только синтагматически развертывающегося текста, но и реализации воображаемой смысловой парадигмы, имеющей симультанный, пространственный характер[451]:
Его не трогали и все не могли до конца игнорировать! —
А вы апофатику не пробовали? — спрашивали самые опасливые
Нет, не пробовали, но, кстати, — это был бы чересчур радикальный выход
Его прославляли и все не могли по-настоящему прославить! —
А вы смертью не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Пробовали, пробовали, и, кстати, — это вполне может быть паллиативом
истинного выхода
Его заменяли на другого и все не могли до конца заменить! —
А вы новую антропологию не пробовали? — спрашивали забегающие вперед
Нет, не пробовали и, кстати, — это был бы выход,
если бы кто-то имел о ней хоть какое-то понятие
Его понимали, понимали и все не могли до конца понять!
А вы разумным способом не пробовали? — спрашивали разумные
Нет, не пробовали, кстати — это неплохой, хотя, конечно, и не местный выход
Пригов вообще очень интересовался структурами, которые объединяют в себе парадигматические и синтагматические свойства — например, алфавитом, порядок которого породил его многочисленные «Азбуки»; на Пригова в этом смысле явно повлиял тот факт, что именно русская азбука заканчивается шифтером, указывающим на говорящего субъекта — буквой / местоимением «я».
Несуществующий общий исток каждой группы стихотворений Пригова, объединенных в цикл-сборник (вспомним, что говорил о мифологизации истока Ж. Деррида в книге «О грамматологии»), обычно бывал иронически «помечен» предуведомлением к сборнику.
Пространственность была свойственна и другим концептуалистам в поэзии: все они вводили в текст дополнительное членение на фрагменты (в случае Л. Рубинштейна — визуально «разнесенные» по карточкам), которое, в соответствии со стиховедческой концепцией М. Шапира, может быть описано как введение в текст дополнительного квазипространственного измерения[452]. О пространственности у Льва Рубинштейна в сопоставлении с этим же аспектом поэтики Некрасова писал Михаил Павловец в недавней работе[453]. Но и сам Некрасов в одном из мемуарных эссе проанализировал переклички между своими стихотворениями конца 1960–1970-х гг. и творчеством Рубинштейна.
«<…> тексты фрагментами пошли у меня года с 67–68. Иногда — довольно похоже на будущего Рубинштейна, сериями — только короткими — в несколько единиц. Иногда с деформацией, редукцией — до минимума: хвостик слова на отдельной табличке. Эти мини-тексты рассаживались по ячейкам таблиц, таблицы могли разрезаться на совсем маленькие странички — величину определял шрифт пишущей машинки. <…> мне хотелось предела фрагментарности, чтоб на перепаде-перескоке между этими живыми по краям, на изломе текстами-фрагментами искрило бы то самое затекстовое поле. Из-за материи текста выглядывала бы энергия <…>»[454].
С точки зрения Некрасова, современная поэзия должна радикально обновлять восприятие языка, прежде искаженного тоталитарными режимами и «большими идеологиями», и опосредованно — восприятие физического мира.
Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это
А
Водички
Понимание «пространственности» стихотворения у Некрасова, таким образом, существенно отличалось от приговского (хотя бы и не выраженного эксплицитно): для Некрасова «пространственность» означала проблематизацию материальности текста, для Пригова — онтологическую неполноту любого высказывания в искусстве («Нет последних истин — все истины предпоследние / И в смысле истинности и в смысле порядка следования…» — из стихотворения «Нет последних истин…», до 1989). Такое отношение к пространственности текста и к процессу творчества Некрасов воспринимал как механизацию приема и отказ от желания прорваться от «материи» к «энергии», т. е. как сдачу эстетических позиций.
Однако с другой позиции подход Пригова может быть понят как обновление, а не отказ. Отношение к языку в его творчестве было гораздо более отчужденным, чем у Некрасова. Это давало Пригову гораздо большую гибкость в моделировании уже существующих и новых языков и в исследовании их границ. В произведениях Некрасова язык по степени чуждости его авторскому «я» может быть разделен в целом всего на три уровня: личный язык — язык общества — язык власти: групп, которые претендуют на власть или уже находятся у власти (для Некрасова между ними было мало разницы). Для стихотворений Пригова такая классификация была бы гораздо более гибкой — именно потому, что в зрелый период для него личного языка не было, или, точнее, язык, который Пригов мог бы воспринимать как «личный», оказывался для него столь же отчужденным, как и все остальные.
4
Выше уже кратко было сказано о том, что поэтика Некрасова была утопична по своим задачам. Утопизм Некрасова очевиден из его поэзии и публицистики, но сложен по своему составу. Прежде всего, это утопизм «естественного» языка, надежда на полное понимание «негромкого» художественного жеста со стороны читателя, требование совершенно равноправных, основанных только на «гамбургском счете» отношений в литературно-художественной среде. В этом утопизме Некрасов — шестидесятник (что и признавал в последние годы жизни[455]), только неподцензурный и даже на фоне других шестидесятников выделявшийся последовательностью своего утопизма, который был чертой не идеологии, а поэтики.
Однако в эстетике Некрасова присутствовал еще один утопический элемент — стремление создать, выработать, вообразить нового автора, чье творчество могло бы изменить отношения в обществе. В московском концептуализме именно Некрасов и Пригов больше всех остальных стремились осмыслить, как может измениться позиция «автора стихотворений» в современной художественной ситуации. Именно эта общность интересов и стала причиной ревнивого и, в последние два десятилетия жизни, неприязненного отношения Некрасова к Пригову.
Некрасов постоянно возвращался в своих статьях к идее о том, что постмодернизм — это не только течение в искусстве, а «состояние умов», которое «нажить нужно, наработать»[456]. Пригов, начиная с еще относительно ранних теоретических сочинений[457], неоднократно писал, что в культуре происходит радикальный антропологический переход, вызванный завершением всех великих проектов Нового времени — в том числе и «человека» как проекта. В этой постановке вопроса можно усмотреть перекличку со знаменитым финалом трактата Мишеля Фуко «Слова и вещи» — о том, что нововременная концепция человека «исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[458]; недаром в 2000-е гг. Пригов все чаще употреблял для обозначения своих задач словосочетание «новая антропология». В этих условиях художник должен «пойти на опережение» и отрефлексировать задачи, которые встанут перед обществом завтра.
В своем интервью «Отходы деятельности центрального фантома» Пригов предполагал, что центральным в его деятельности является сотворение нового типа авторства:
«<…> для меня все [мои] виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП — Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома. В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для отслеживания данного фантома. Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности. Современное литературоведение обладает оптикой слежения только за текстами. А когда оно смотрит в эту самую обозначенную центральную зону, перед ним просто несфокусированное мутное пятно. Литературоведы не могут ничего разобрать. Посему они и занимаются отдельными окаменевшими текстами. Но если со временем наука или исследователи изобретут оптику, которая могла бы считывать вот эту центральную зону, тогда все остальное, как и было сказано, предстанет им как пусть порой и привлекательные и даже кажущиеся самоотдельными, но все-таки случайные отходы деятельности вот этой центральной зоны, где происходят основные поведенческие события»[459].
Приговская поэтика тоже была утопичной: она предполагала свободу «я», «парящего» между различными самоидентификациями. Такая свобода давала возможность остранять любой авторский стиль. Из беседы Д. А. Пригова с А. Парщиковым 1997 г.:
«Есть некоторые, кто говорит, что поэт — это тот, кто тонко чувствует, поэт — это тот, кто пробуждает светлые чувства, каждый по-своему. Поэт — это тот… а ты что делаешь? Мне [в таких случаях] всегда приходит [в голову] такой анекдот: приехал портной и написал, что он лучший портной в городе, потом другой о себе написал: лучший портной Европы, приехал следующий и написал: лучший портной в мире… А еще один написал, что он лучший портной на этой улице. Я, в отличие от всех поэтов, [определяю себя иначе: поэт — ] это тот, кто ведет себя поэтически. [Понимание поэта как] поведенческой модели ставит в положение частного случая все остальные образы поэта в обществе.
Искусство пришло к ситуации, когда оно уперлось в идентификацию творческой личности; [искусство — ] это только твое личное поведение, которое может быть сформировано как поэтическое [поведение], как художническое, как [поведение] музыканта, как угодно. Предельный уровень явлен наконец — но и уровни теряют смысл, есть только смысл некой конвенции. Вот кто-то приехал и претендовал на [место] лучшего в городе, лучшего в Европе, во всем мире, а [потом] приехал последний [портной] и сказал: я лучший только потому, что в наших пределах принята такая конвенция. Я себя осмысленно веду, и мои амбиции в этом отношении выше не потому, что я территориальный претендент, а потому, что я претендую на вас на всех. Я являю вас всех! Вот так этот анекдот как-то отражает картину в современном искусстве»[460].
Необходимым условием такой свободы был утопически понимаемый профессионализм — способность Пригова, владея техникой наивного письма, все же строить тексты последовательно выдерживаемого стиля и размера. Характерно, что Пригов, используя приемы наивного письма, чаще «подрубает» слово под заданный ритм («милицанер»), чем расшатывает уже имеющийся. Если же ритм расшатан, то это всегда выглядит как очень нарочитый жест.
Эта утопия профессионализма бросается в глаза при сравнении с одним из литературных «детей» и оппонентов Пригова — Германом Лукомниковым, который в начале 2000-х публично спросил у него на литературном вечере: «Вы говорите, Дмитрий Александрович, что вы каждый день пишете по три стихотворения. Прочтите, пожалуйста, стихотворение, написанное сегодня». Пригов замялся и ответил, что предъявить такое произведение не может, так как написанное им в этот день еще не отредактировано. Лукомников сказал: «А вот я могу», — и прочитал несколько стихотворений. На своих выступлениях первой половины 2000-х после этого диалога Лукомников читал сначала новые стихи, а потом черновые записи и варианты. Такая организация литературного вечера напоминала оглавление тома из воображаемого академического собрания сочинений и в то же время призвана была показать, что между автором и слушателями нет никаких опосредующих культурных преград[461]. Впрочем, тут нет противоречия: публикация черновиков и вариантов в академических изданиях в сегодняшнем их понимании как раз и необходима для более точного понимания генезиса текста, а через него — самосознания публикуемого автора, т. е. — для большей проницаемости культурных барьеров[462].
Пригов, вероятно, в самом деле писал каждый день (подобно тому как он, по свидетельству сразу нескольких мемуаристов, каждую ночь рисовал), хотя вряд ли каждый день именно по три стихотворения. Но потом он дорабатывал тексты и строил из них циклы. Ему скорее был важен образ художника, который пишет каждый день, чем образ человека, который находится в процессе непрерывного сотворения текстов в режиме «потока сознания».
Постоянные энергичные рассуждения Пригова о крахе всех утопий и проектов Нового времени уравновешивались его собственным утопизмом, пусть и постмодернистским по своему происхождению, — надеждой на самосозидание, которое остраняет любые инкарнации и любые возможности редукции творчества к национальной культуре и физической телесности. Усилие самостроения не могло быть сведено ни к каким коллективным проектам и конвенциям, которые казались Пригову гносеологически недостаточными, «предпоследними».
Уместно сравнить Пригова с другой центральной фигурой московского концептуализма (и в то же время — другим «главным раздражителем» Некрасова) — Ильей Кабаковым. В центре поэтики Кабакова и его теории искусства — понятие тотальной инсталляции, т. е. нового вида произведения, а не нового типа автора, что для этого художника является вторичным. Автор в творчестве Кабакова — демиург, абсолютно трансцендентный произведению, как каббалистический Эн Соф по отношению к сотворенному миру. Для своих тотальных инсталляций Кабаков изобретает персонажей, которые уже потом будут творить это пространство[463], что, опять же, напоминает гностико-каббалистическую модель мира: «подставные» авторы Кабакова соответствуют сфиротам — эманациям Высшего начала.
Ни у Пригова, ни у Некрасова этого нет. Пригову важны не только «подставные» авторы его стихотворений, но и тот, кто за ними стоит, тот «режиссер», который их держит за невидимые ниточки. Пригов настаивал на том, что для адекватного восприятия его творчества необходимо восприятие «центрального фантома» — субъекта жизнетворчества, который стоит за каждым его произведением — текстом, или перформансом, или инсталляцией.
Однако в понимании авторства визуальные и текстуальные работы Пригова несколько отличаются друг от друга. Идея литературной работы Пригова — максимальное разнообразие и быстрое эксплицитное реагирование на то, что автор считал новейшими эстетическими проблемами эпохи (не общественными, а именно эстетическими: его интересовала деформированная телесность, связь тела и идентичности «я» в произведениях искусства, «серийность» и коммерциализация эмоциональной жизни, которую изучает модная сегодня «экономика впечатлений»[464], — Пригов первым освоил ее проблематику в российском искусстве…). Визуальные же работы Пригова в гораздо большей степени, чем его стихи и романы, были основаны на сознательном варьировании одних и тех же образов и мотивов, чтобы, как он сам постоянно говорил, с одного взгляда сразу становилось бы понятно: «Это — Пригов», — использование газет в качестве основы произведения, возвращающиеся образы глаза, занавеса, уборщицы с ведром, квазисакрального пространства[465].
В целом различие между трактовками авторства у Некрасова и Пригова связано с их представлением о единстве / расподоблении автора и произведения. Некрасов придерживался романтического по своему происхождению представления о том, что автор (в терминологии М. М. Бахтина — «первичный автор», т. е. инстанция, порождающая текст) составляет единое целое со своим произведением, и на этом единстве основана ответственность эстетического высказывания. Пригов полагал, что автор всегда отчужден от собственного произведения и что ответственность высказывания всегда проблематична. (Эта проблематизация породила в следующем литературном поколении сложную рефлексию о том, каким образом в современных условиях — после концептуализма — может быть переосмыслена и «переизобретена» этическая связь литератора с собственными произведениями[466].)
Можно построить следующую шкалу отношения к авторству в пространстве московского концептуализма:

Пригов и Некрасов реализуют две интенции постмодернистской культуры, которые можно метафорически назвать «экологической» и «киберпанковской». Напомню, что один из манифестов Некрасова назывался «Экология искусства»[467]. Под «киберпанком» я подразумеваю представление о «киборге» как о гибридном существе, которое преобразует себя через совмещение организма с компьютером или иными, внечеловеческими сущностями — в духе манифеста киберфеминизма Донны Харауэй[468]. Пригов очень интересовался кинематографом, который исследует границы человеческого, — такими фильмами, как «Чужой» или «Face/Off»[469].
Именно эта разница в типах утопизма была, как мне кажется, глубинным нервом странной и агрессивной полемики Некрасова с Приговым и Кабаковым. Некрасова возмущало не покушение на его место в литературе, а замена утопизма. В его представлении, утопизмов могло быть только два: властный и его контрвластный (это анализировал Александр Житенев в своей статье об этосе нетерпимости у Некрасова). Пригов, создавший в русской культуре новый, ранее не предусмотренный тип утопизма — абсолютно свободного автора, — казался ему в этой ситуации лишним, как и Кабаков, создавший утопию тотальной инсталляции. Однако ретроспективно позиция этих художников не выглядит взаимоисключающей. Они просто ориентируются на разные тенденции, сосуществующие внутри постмодернистской культуры. Были ли они взаимодополнительными, возможно, станет ясно со временем.
Джейкоб Эдмонд
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Д. А. ПРИГОВА
в контексте глобального концептуализма
Работы Дмитрия Александровича Пригова в основном читаются в контексте русской литературы и культуры, каждодневной советской и постсоветской жизни и советского и постсоветского русского национализма. Тем не менее с самого начала подход Пригова к этому национальному контексту был тесно связан с его отношением к остальному миру. Например, в своей практике самиздатских публикаций он совмещает две тенденции: присущую русским интеллигентам фетишизацию универсальной ценности, содержащейся в этих хрупких, тщательно воспроизведенных текстах, и практику дублирования и копирования, широко распространенную среди зарубежных представителей концептуализма. Вместо того чтобы просто противопоставить местную культуру и глобальный язык современного искусства, Пригов соединяет различные местные и транснациональные языки и культурные системы в своем «глобальном проекте»[470]. Связывая разнообразные дискурсы, жанры и медиаискусства, он позволяет им выражаться по-новому — это он неоднократно называет «пересечением»[471]. Он разрушает претензии каждой системы на абсолютную полноту, сталкивая с другой такой же системой. Расширяя представления Михаила Бахтина о том, что владение и манипуляции жанрами являются формой свободы, Пригов подчеркивает как ограниченность бесконечного повторения, так и свободу каждого жеста среди бесконечных возможностей пересекающихся систем и языков[472]. Он настаивает на том, что, по его собственным словам, «ни один язык не может овладеть человеком полностью»[473].
1. Милицанер
Любимый многими поэтический персонаж Пригова, Милицанер, показывает, что даже в 1970-е гг. его работа имела глобальную перспективу. Его персонаж милиционера, тесно связанный с национальными традициями и с советской идеологией и мифологией, позволяет Пригову исследовать глобальные амбиции этих местных дискурсивных систем. Один из его самых известных стихов про Милицанера подчеркивает этот глобальный охват:
Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли…
Да он и не скрывается
Здесь «Милицанер» становится архетипической фигурой власти и силы, которая охватывает весь земной шар: «Запад и Восток», «с неба» и «с моря». Упоминание в стихотворении Внуково, в котором находится один из международных аэропортов Москвы, усиливает впечатление взаимодействия между русской местностью и остальным миром. Пригов объясняет позже, что в главном художественном проекте он стремился создать «идеального поэта», который «охватывает весь мир его словами»[474].
В это время Пригов исследовал мифологию русской литературной традиции, повторяя ее дословно. В «Продолговатый сборник» (1978) он включил полное пословное повторение первых строчек «Евгения Онегина» Пушкина — метод, который станет особенностью его творчества, повторяющийся в сотнях или даже тысячах его работ в различных жанрах на протяжении всей его жизни. Освоение данного подхода Приговым совпало в 1977 г. с публикацией многовлиятельной статьи Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства» в самиздатском журнале «37». Статья Гройса знакомила читателя с западным концептуальным искусством на примере борхесовского Пьера Менара, который стремился воспроизвести Дон Кихота «слово в слово и строка в строку»[475]. Фактически Гройс описал подход Пригова и предугадал его будущие более радикальные дословные репродукции[476].
В своей следующей статье «Московский романтический концептуализм» Гройс впервые применил термин концептуалист для описания писателей и художников из среды Пригова. В этой статье, отметив, что концептуальная практика возникла на Западе, Гройс выделяет особые элементы в русском концептуализме: «сохраняющее единство русской души» и «мистический опыт». Эта статья, однако, не упоминает Пригова, чей концептуальный «милицанер» и репродукция Онегина акцентирует те же клише русскости, что сформировали русскую культурную мифологию поэта и художника, к которому обращается Гройс[477]. Для обоих, Гройса и Пригова, то, что приходит после публикации этой статьи и становится известным как московский концептуализм, зависит от советской и русской культурной мифологии и текстов, которые рассматриваются с точки зрения связи с Западом. Несмотря на это, Пригов отказался ограничиться культурными представлениями о России и Западе, присутствовавшими в анализе Гройса. Там, где Гройс хочет сохранить границы между русским и западным концептуализмом, Пригов гораздо больше заинтересован исследованием клише о силе русской литературы и советского государства вместе с другими путями национального самосознания. Он является динамической фигурой посредника, который стоит между Востоком и Западом на перекрестке многих языков, культур и традиций.
Картина Пригова 1982 г. «Небо и море» является почти прямым ответом на попытку Гройса охватить московский концептуализм в рамках одной теории и определить его отличие от Запада. Пригов использовал термин «концептуализм» в первый раз в 1982 г., отвечая на критику своих работ как якобы не достающих до международного масштаба, как чего-то «робкого, недостаточного и доморощенного». Он ответил на эту критику тем, что «концептуализм берет готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка», что «если раньше художник был — „Стиль“, являлся полностью в пределах созданной им по особым законам изобразительной или текстовой реальности, то теперь художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки»[478]. С учетом этого понимания концептуализма, «Небо и море» объединяет конкретный контекст России с более широким, в большинстве своем западным миром, пользуясь соединением русского и английского языков. Так же и «милицанер» Пригова находится в центре мира, определенного и осью холодной войны Востока с Западом, и пределами природного мира, как в стихах Пригова: «И с моря виден Милиционер / И с неба». Мир изобразительной работы определяется естественными пределами своего названия и повторения слов «небо» и «море», сополагая Восток и Запад с помощью противопоставления английского и русского языков, латинского и кириллического алфавитов. В отличие от английского «sky» и «sea», большое русское «море», центральное «небо» и в особенности единственный красный «дух» выходят из четко ограниченного участка изображения и его различения между Востоком и Западом, небом и морем, черным и белым, русским и английским языками. Производя пересечения между этими предполагаемыми противоположностями, эта работа одновременно ставит под вопрос знакомое понятие коллективной русской души и предполагаемые высшие духовные ценности Запада. То же само понятие, которым Гройс пользовался на три года раньше, сравнивая западный и русский концептуализм.
2. Загробная жизнь
В 1989 г. Пригов принял участие в конференции «Язык — Сознание — Общество». На этой конференции были многие американские писатели. Один из этих писателей, Майкл Дэвидсон, описывает получение «небольшого скрепленного со всех сторон пакета, содержащего, [как Пригов] говорит, фрагменты его стихотворений, разорванные в мелкое конфетти». Для Дэвидсона этот пакет был метафорой разорванного города, заполненного «окопами и выбоинами», и «изменения погоды». Эти изменения в политическом климате позволили писателям, ранее разделенным железным занавесом, встретиться. В это же время наряду с Дэвидсоном в книге «Ленинград» другая американская поэтесса, Лин Хеджинян, интерпретирует подарок Пригова в двух контекстах — советской цензуры и социальной вражды к поэзии. Интерпретации Хеджинян подсказывают, что работа эта нравилась определенному кругу диссидентских советских литераторов за рубежом и также могла рассматриваться в прото-постсоветском контексте[479].
В то же время приговские «Гробики отринутых стихов» оказались вновь актуальны в постсоветское время, когда Пригов стал одновременно пародировать и восхвалять культуру советского самиздата. Они выступили за ее сохранение во время либерализации издательской деятельности. Они также отразили собственное восстановление (перестройку) Пригова и повторение этой культуры в его работах, которые обращаются не к обменной цене слов на листе бумаги, а к современному искусству, работающему в глобализированной рыночной системе. Как иронично отметил Дэвидсон, визитная карточка, которую Пригов дал ему, была «написана латинскими буквами, как будто для западного экспорта». В этом смысле «Гробики» являются единственно возможным экспортным продуктом для местного поэта, чья работа в другом случае была бы ограничена русскими слушателями. Их никто не может и, по сути, не должен читать. «Гробики» находятся на пересечении нескольких систем между советской культурой самиздата и международным рынком искусства и, таким образом, дают возможность загробной жизни, так же как предложенные ответы этих американских поэтов. Самой загробной формой и паразитарной связью с «умершими» стихами «Гробики» соотносятся с концепцией Беньямина о «загробной жизни», или «Nachleben». В соответствии с этой идеей, постсоветская загробная жизнь «Гробиков» прерывает данное, подчеркивая непрерывную переработку исторического понимания в момент исторических, социальных и геополитических перемен[480]. «Гробики» сейчас читаются в контексте глобализации, в виде переосмысления фетишизированного текста самиздата, как показатели хрупкости «человеческой жизни», увлечения каждым словом поэта или художника, образной и буквальной смерти поэта в русской литературной традиции[481]. Это похороненное стихотворение самиздата пережило сам текст самиздата во время постсоветской эпохи, став своего рода визитной карточкой позиции Пригова на стыке между поздним советским диссидентством, советской идеологией, постсоветским русским национализмом и глобальным рынком искусства.
Когда я интервьюировал Пригова в Москве в 2006 г., всего за год до его смерти, он настаивал, что поэзия сама была частью прошлого, что он писал не стихи, a «contemporary art» (современное искусство), переходя на английский, чтобы выразить это правильными словами[482]. Позже в своей видеоопере «Россия» Пригов возвращается к своей связи с западным концептуализмом, чтобы подчеркнуть этот отказ от поэзии (который он, конечно, никогда не осуществил полностью). Он опять отмечает столкновение национальных традиций и мирового искусства. В сопровождении романтической медленной фортепианной музыки, короткометражный фильм включает в себя попытки Пригова научить кошку говорить слово «Россия» для комического эффекта. Фильм заканчивается, когда к Пригову присоединяется его сын, и они оба тогда поют «Россия». Этот фильм ссылается на «Интервью с кошкой» (1970) Марселя Бротарса, который, так же как «Гробики» Пригова, описывает переход от поэта к художнику, сменившему свои книги на скульптурные работы, которые делают эти книги нечитаемыми. Но в отличие от Бротарса, который разговаривает со своей кошкой о концептуальном искусстве, Пригов связывает концептуальную практику Запада с без конца повторяющейся националистической идеологией[483].
Возвращение Пригова к предмету его интереса — русскому национализму и западному концептуальному искусству — совпадает с возрождением концептуализма не как художественной, а как литературной практики в Соединенных Штатах. Концептуальное письменное искусство, которое ввели такие писатели, как Кеннет Голдсмит (так же как и Пригов, скульптор, ставший поэтом), и которое отмечалось такими влиятельными критиками, как Марджори Перлофф, в качестве новой поэзии XXI века, стало самым влиятельным авангардом англоязычной поэзии в первое десятилетие нового века. Несмотря на то что Голдсмит и Перлофф настаивают, что концептуальная поэзия основывается на исторических прецедентах из разных стран и принимает принципиальный «неоригинальный» или «нетворческий» подход, никто не ссылается на прецедент Пригова[484]. То, что Перлофф не упоминает Пригова, возможно, отражает ее убеждение в начале девяностых годов, что концептуализм Пригова зависит от романтической концепции «психологической глубины» и является «почти антитезисом концептуализма наших (т. е. американских. — Дж. Э.) шестидесятых и семидесятых годов, которые полностью отвергли понятие скрытого смысла». Эта разница происходит от противопоставления, которое зародилось в статье Гройса, написанной более чем за два десятилетия до возникновения американской концептуальной письменной формы[485]. Когда в предисловии к новой американской антологии концептуальной поэзии «Против выражения» Крейг Дворкин упоминает пример Пригова, это неудивительно, потому что он делает это, только чтобы предупредить, что Пригов «не должен быть запутанным» в концептуальной письменной форме[486]. И это несмотря на то, что Дворкин, как и Гройс за тридцать четыре года до того, цитирует акт копирования Менара «слово в слово и строка в строку» как образец предтечи концептуальной практики[487].
Эта разница между русским и западным концептуализмом продолжает резонировать сегодня, хотя сама игриво пародируется во многих работах Пригова. Несмотря на претензии Перлофф, что концептуальное письменное искусство отражает новую «неопределенность <…> места размещения объекта» в век интернета, противопоставление демонстрирует сохранение национальных различий и противоположностей, рожденных холодной войной между Востоком и Западом, в дискурсе глобализации[488]. Отвергая эти противоположности, Пригов предлагает сложную зарисовку разных традиций и дискурсивных систем, каждую со своими местными ассоциациями и глобальными амбициями. Он подчеркивает, по его выражению, «абсурдность общей амбиции, свойственной каждому желанию <…>, захватить и описать весь мир»[489]. Он отказывается от любой национальной позиции или от глобального зрения, создавая много языков медиаискусства, экономики, идеологии и истории, чьи особые точки пересечения в конечном счете не определены.
Работы Дмитрия Александровича Пригова в основном читаются в контексте русской литературы и культуры, каждодневной советской и постсоветской жизни и советского и постсоветского русского национализма. Тем не менее с самого начала подход Пригова к этому национальному контексту был тесно связан с его отношением к остальному миру. Например, в своей практике самиздатских публикаций он совмещает две тенденции: присущую русским интеллигентам фетишизацию универсальной ценности, содержащейся в этих хрупких, тщательно воспроизведенных текстах, и практику дублирования и копирования, широко распространенную среди зарубежных представителей концептуализма. Вместо того чтобы просто противопоставить местную культуру и глобальный язык современного искусства, Пригов соединяет различные местные и транснациональные языки и культурные системы в своем «глобальном проекте»[470]. Связывая разнообразные дискурсы, жанры и медиаискусства, он позволяет им выражаться по-новому — это он неоднократно называет «пересечением»[471]. Он разрушает претензии каждой системы на абсолютную полноту, сталкивая с другой такой же системой. Расширяя представления Михаила Бахтина о том, что владение и манипуляции жанрами являются формой свободы, Пригов подчеркивает как ограниченность бесконечного повторения, так и свободу каждого жеста среди бесконечных возможностей пересекающихся систем и языков[472]. Он настаивает на том, что, по его собственным словам, «ни один язык не может овладеть человеком полностью»[473].
1. Милицанер
Любимый многими поэтический персонаж Пригова, Милицанер, показывает, что даже в 1970-е гг. его работа имела глобальную перспективу. Его персонаж милиционера, тесно связанный с национальными традициями и с советской идеологией и мифологией, позволяет Пригову исследовать глобальные амбиции этих местных дискурсивных систем. Один из его самых известных стихов про Милицанера подчеркивает этот глобальный охват:
Когда здесь на посту стоит Милицанер
Ему до Внуково простор весь открывается
На Запад и Восток глядит Милицанер
И пустота за ними открывается
И центр, где стоит Милицанер —
Взгляд на него отвсюду открывается
Отвсюду виден Милиционер
С Востока виден Милиционер
И с Юга виден Милиционер
И с моря виден Милиционер
И с неба виден Милиционер
И с-под земли…
Да он и не скрывается
Здесь «Милицанер» становится архетипической фигурой власти и силы, которая охватывает весь земной шар: «Запад и Восток», «с неба» и «с моря». Упоминание в стихотворении Внуково, в котором находится один из международных аэропортов Москвы, усиливает впечатление взаимодействия между русской местностью и остальным миром. Пригов объясняет позже, что в главном художественном проекте он стремился создать «идеального поэта», который «охватывает весь мир его словами»[474].
В это время Пригов исследовал мифологию русской литературной традиции, повторяя ее дословно. В «Продолговатый сборник» (1978) он включил полное пословное повторение первых строчек «Евгения Онегина» Пушкина — метод, который станет особенностью его творчества, повторяющийся в сотнях или даже тысячах его работ в различных жанрах на протяжении всей его жизни. Освоение данного подхода Приговым совпало в 1977 г. с публикацией многовлиятельной статьи Бориса Гройса «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства» в самиздатском журнале «37». Статья Гройса знакомила читателя с западным концептуальным искусством на примере борхесовского Пьера Менара, который стремился воспроизвести Дон Кихота «слово в слово и строка в строку»[475]. Фактически Гройс описал подход Пригова и предугадал его будущие более радикальные дословные репродукции[476].
В своей следующей статье «Московский романтический концептуализм» Гройс впервые применил термин концептуалист для описания писателей и художников из среды Пригова. В этой статье, отметив, что концептуальная практика возникла на Западе, Гройс выделяет особые элементы в русском концептуализме: «сохраняющее единство русской души» и «мистический опыт». Эта статья, однако, не упоминает Пригова, чей концептуальный «милицанер» и репродукция Онегина акцентирует те же клише русскости, что сформировали русскую культурную мифологию поэта и художника, к которому обращается Гройс[477]. Для обоих, Гройса и Пригова, то, что приходит после публикации этой статьи и становится известным как московский концептуализм, зависит от советской и русской культурной мифологии и текстов, которые рассматриваются с точки зрения связи с Западом. Несмотря на это, Пригов отказался ограничиться культурными представлениями о России и Западе, присутствовавшими в анализе Гройса. Там, где Гройс хочет сохранить границы между русским и западным концептуализмом, Пригов гораздо больше заинтересован исследованием клише о силе русской литературы и советского государства вместе с другими путями национального самосознания. Он является динамической фигурой посредника, который стоит между Востоком и Западом на перекрестке многих языков, культур и традиций.
Картина Пригова 1982 г. «Небо и море» является почти прямым ответом на попытку Гройса охватить московский концептуализм в рамках одной теории и определить его отличие от Запада. Пригов использовал термин «концептуализм» в первый раз в 1982 г., отвечая на критику своих работ как якобы не достающих до международного масштаба, как чего-то «робкого, недостаточного и доморощенного». Он ответил на эту критику тем, что «концептуализм берет готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка», что «если раньше художник был — „Стиль“, являлся полностью в пределах созданной им по особым законам изобразительной или текстовой реальности, то теперь художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки»[478]. С учетом этого понимания концептуализма, «Небо и море» объединяет конкретный контекст России с более широким, в большинстве своем западным миром, пользуясь соединением русского и английского языков. Так же и «милицанер» Пригова находится в центре мира, определенного и осью холодной войны Востока с Западом, и пределами природного мира, как в стихах Пригова: «И с моря виден Милиционер / И с неба». Мир изобразительной работы определяется естественными пределами своего названия и повторения слов «небо» и «море», сополагая Восток и Запад с помощью противопоставления английского и русского языков, латинского и кириллического алфавитов. В отличие от английского «sky» и «sea», большое русское «море», центральное «небо» и в особенности единственный красный «дух» выходят из четко ограниченного участка изображения и его различения между Востоком и Западом, небом и морем, черным и белым, русским и английским языками. Производя пересечения между этими предполагаемыми противоположностями, эта работа одновременно ставит под вопрос знакомое понятие коллективной русской души и предполагаемые высшие духовные ценности Запада. То же само понятие, которым Гройс пользовался на три года раньше, сравнивая западный и русский концептуализм.
2. Загробная жизнь
В 1989 г. Пригов принял участие в конференции «Язык — Сознание — Общество». На этой конференции были многие американские писатели. Один из этих писателей, Майкл Дэвидсон, описывает получение «небольшого скрепленного со всех сторон пакета, содержащего, [как Пригов] говорит, фрагменты его стихотворений, разорванные в мелкое конфетти». Для Дэвидсона этот пакет был метафорой разорванного города, заполненного «окопами и выбоинами», и «изменения погоды». Эти изменения в политическом климате позволили писателям, ранее разделенным железным занавесом, встретиться. В это же время наряду с Дэвидсоном в книге «Ленинград» другая американская поэтесса, Лин Хеджинян, интерпретирует подарок Пригова в двух контекстах — советской цензуры и социальной вражды к поэзии. Интерпретации Хеджинян подсказывают, что работа эта нравилась определенному кругу диссидентских советских литераторов за рубежом и также могла рассматриваться в прото-постсоветском контексте[479].
В то же время приговские «Гробики отринутых стихов» оказались вновь актуальны в постсоветское время, когда Пригов стал одновременно пародировать и восхвалять культуру советского самиздата. Они выступили за ее сохранение во время либерализации издательской деятельности. Они также отразили собственное восстановление (перестройку) Пригова и повторение этой культуры в его работах, которые обращаются не к обменной цене слов на листе бумаги, а к современному искусству, работающему в глобализированной рыночной системе. Как иронично отметил Дэвидсон, визитная карточка, которую Пригов дал ему, была «написана латинскими буквами, как будто для западного экспорта». В этом смысле «Гробики» являются единственно возможным экспортным продуктом для местного поэта, чья работа в другом случае была бы ограничена русскими слушателями. Их никто не может и, по сути, не должен читать. «Гробики» находятся на пересечении нескольких систем между советской культурой самиздата и международным рынком искусства и, таким образом, дают возможность загробной жизни, так же как предложенные ответы этих американских поэтов. Самой загробной формой и паразитарной связью с «умершими» стихами «Гробики» соотносятся с концепцией Беньямина о «загробной жизни», или «Nachleben». В соответствии с этой идеей, постсоветская загробная жизнь «Гробиков» прерывает данное, подчеркивая непрерывную переработку исторического понимания в момент исторических, социальных и геополитических перемен[480]. «Гробики» сейчас читаются в контексте глобализации, в виде переосмысления фетишизированного текста самиздата, как показатели хрупкости «человеческой жизни», увлечения каждым словом поэта или художника, образной и буквальной смерти поэта в русской литературной традиции[481]. Это похороненное стихотворение самиздата пережило сам текст самиздата во время постсоветской эпохи, став своего рода визитной карточкой позиции Пригова на стыке между поздним советским диссидентством, советской идеологией, постсоветским русским национализмом и глобальным рынком искусства.
Когда я интервьюировал Пригова в Москве в 2006 г., всего за год до его смерти, он настаивал, что поэзия сама была частью прошлого, что он писал не стихи, a «contemporary art» (современное искусство), переходя на английский, чтобы выразить это правильными словами[482]. Позже в своей видеоопере «Россия» Пригов возвращается к своей связи с западным концептуализмом, чтобы подчеркнуть этот отказ от поэзии (который он, конечно, никогда не осуществил полностью). Он опять отмечает столкновение национальных традиций и мирового искусства. В сопровождении романтической медленной фортепианной музыки, короткометражный фильм включает в себя попытки Пригова научить кошку говорить слово «Россия» для комического эффекта. Фильм заканчивается, когда к Пригову присоединяется его сын, и они оба тогда поют «Россия». Этот фильм ссылается на «Интервью с кошкой» (1970) Марселя Бротарса, который, так же как «Гробики» Пригова, описывает переход от поэта к художнику, сменившему свои книги на скульптурные работы, которые делают эти книги нечитаемыми. Но в отличие от Бротарса, который разговаривает со своей кошкой о концептуальном искусстве, Пригов связывает концептуальную практику Запада с без конца повторяющейся националистической идеологией[483].
Возвращение Пригова к предмету его интереса — русскому национализму и западному концептуальному искусству — совпадает с возрождением концептуализма не как художественной, а как литературной практики в Соединенных Штатах. Концептуальное письменное искусство, которое ввели такие писатели, как Кеннет Голдсмит (так же как и Пригов, скульптор, ставший поэтом), и которое отмечалось такими влиятельными критиками, как Марджори Перлофф, в качестве новой поэзии XXI века, стало самым влиятельным авангардом англоязычной поэзии в первое десятилетие нового века. Несмотря на то что Голдсмит и Перлофф настаивают, что концептуальная поэзия основывается на исторических прецедентах из разных стран и принимает принципиальный «неоригинальный» или «нетворческий» подход, никто не ссылается на прецедент Пригова[484]. То, что Перлофф не упоминает Пригова, возможно, отражает ее убеждение в начале девяностых годов, что концептуализм Пригова зависит от романтической концепции «психологической глубины» и является «почти антитезисом концептуализма наших (т. е. американских. — Дж. Э.) шестидесятых и семидесятых годов, которые полностью отвергли понятие скрытого смысла». Эта разница происходит от противопоставления, которое зародилось в статье Гройса, написанной более чем за два десятилетия до возникновения американской концептуальной письменной формы[485]. Когда в предисловии к новой американской антологии концептуальной поэзии «Против выражения» Крейг Дворкин упоминает пример Пригова, это неудивительно, потому что он делает это, только чтобы предупредить, что Пригов «не должен быть запутанным» в концептуальной письменной форме[486]. И это несмотря на то, что Дворкин, как и Гройс за тридцать четыре года до того, цитирует акт копирования Менара «слово в слово и строка в строку» как образец предтечи концептуальной практики[487].
Эта разница между русским и западным концептуализмом продолжает резонировать сегодня, хотя сама игриво пародируется во многих работах Пригова. Несмотря на претензии Перлофф, что концептуальное письменное искусство отражает новую «неопределенность <…> места размещения объекта» в век интернета, противопоставление демонстрирует сохранение национальных различий и противоположностей, рожденных холодной войной между Востоком и Западом, в дискурсе глобализации[488]. Отвергая эти противоположности, Пригов предлагает сложную зарисовку разных традиций и дискурсивных систем, каждую со своими местными ассоциациями и глобальными амбициями. Он подчеркивает, по его выражению, «абсурдность общей амбиции, свойственной каждому желанию <…>, захватить и описать весь мир»[489]. Он отказывается от любой национальной позиции или от глобального зрения, создавая много языков медиаискусства, экономики, идеологии и истории, чьи особые точки пересечения в конечном счете не определены.
Александр Житенев ДВЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТУАЛИЗМА: Всеволод Некрасов и Борис Гройс[490]
Среди многочисленных публикаций, посвященных московскому концептуализму, сравнительно немного работ, исследующих его теорию. По умолчанию предполагается, что концептуалистский дискурс непротиворечив и полностью «прозрачен» для интерпретации. Между тем обращение к материалам, ставшим доступными благодаря публикации архивов, заставляет в этом сомневаться. Не будет преувеличением сказать, что круг устоявшихся представлений о содержании концептуалистской работы далеко не всегда соотносим с реальностью.
Так, одним из исследовательских априори является тезис о тотальности самоописания, делающего невозможной любую метапозицию, поскольку «абсолютная рефлексивность концептуализма не оставляет места рефлексии, идущей из другого источника»[491]. Между тем концептуалистская рефлексивность не предполагает создания какого-либо понятийного аппарата, кроме «инструментального», поскольку нацеленность на «получение духовного опыта, по существу своему не знакового»[492], допускает лишь феноменологическое описание.
Не менее очевидной, как правило, представляется и мысль о том, что для концептуализма решающее значение имеет деструкция предметности и завершенности: «Московский концептуализм отрицает вещную природу объекта. Ось субъект — объект воспринимается как несправедливая, неполиткорректная»; «искусства нет, есть непрерывное производство идей, род проектирования»[493]. Однако на уровне деклараций можно найти высказывания, прямо отрицающие бытие концепта вне воплощения: «О концептуализме часто говорят, что это искусство не создания форм, а искусство понятий», однако «существует пластика текста — дескрипций, дискурса и нарратива <…>, сочетания контекстов имеют определенную форму, которая и становится, в конце концов, произведением искусства»[494].
Весьма расхожим в кругах исследователей является и тезис о том, что концептуализм — это искусство, абсолютизирующее негативистскую, критическую функцию рефлексии: «Концептуализм — новая форма условности, <…> разлагающая всякую целостность как ложную. <…> Концептуализм — это поэтика голых понятий, <…> поэтика схем и стереотипов»[495]. Радикализм подобного вывода, однако, во многом корректируется указанием на то, что концептуализм не столько отрицает эстетическое, сколько переопределяет его границы, исследуя область взаимоперехода «культурного, исторического и социального» и «„живой среды“, ждущей все втянуть в себя, все поглотить и растворить»[496].
Закономерно, что в последние годы предпринимаются попытки историзации прошлого, ориентированные на уточнение представлений, сложившихся в пору ограниченного доступа к источникам. Вместе с тем далеко не все значимые материалы по истории московского концептуализма введены сегодня в оборот[497], а из тех, что введены, — отрефлексированы, в сущности, очень немногие. В этой связи может представлять интерес попытка выявить конфронтационные, оппозитивно противопоставленные линии в концептуализме. В рамках данной работы мы охарактеризуем только одну линию такого рода: оппозицию «Б. Гройс / Вс. Некрасов».
Принципиальные различия обнаруживаются уже в интерпретации художественного произведения. Гройс исходит из предпосылки о «двуслойности» «поэтических произведений», так как они «являются прообразом тех ситуаций, которые люди узнают в окружающей жизни» (что позволяет видеть в них «сакральные первообразы» бытия) и в то же время «присутствуют как определенные сущие в мире» («профанная» роль явлений среди явлений)[498]. Существенно, что «в качестве сакрального первообраза мира поэтическое произведение предшествует всем видам деятельности», а качестве «профанического» «может быть изготовлено по определенному рецепту». Эта двойственность задает возможность «фальсифицирования» высказывания.
Как следствие, «поэтические произведения» характеризуются также двойственным характером функционирования: им сопутствует или «спонтанное узнавание», или «профаническая» процедура «сличения» с образцами[499]. В этом смысле «искусство не может быть ложным, но оно может быть лживым»: первое предопределено логикой творчества, утверждающей «новое» высказывание, второе — антипсихологическим характером «фальсификации»[500]. «Подделка» в искусстве связана не с авторским намерением, а с особым модусом диалога с традицией, при котором, как отмечает Гройс, на первый план выходит нерефлексивное воспроизведение шаблона: «Творческий акт состоит в преодолении лицемерия, но новая форма осваивается человеческой практикой и ситуация лицемерия восстанавливается»[501].
Искусство, как полагает Гройс, «инструментально»: оно «служит устранению лицемерия» — создание всякого «нового произведения искусства есть создание нового орудия, гарантирующего искренность человеческой речи»[502]. Эта процедура, создавая ситуацию конфронтации с традицией, заведомо «кенотична»: «Творческий акт, — констатирует философ, — есть низведение искусства из сферы ясного и раскрытого смысла до непонятного». Это жертва, и жертва, напрямую связанная с экзистенциальным выбором художника. Философия, решая проблему, «искренности», противопоставляет этому пути «нисхождения» путь «восхождения»: «воспитание и дисциплину»[503].
Вс. Некрасов расставляет акценты совершенно иным образом. Для него определяющее значение имеет оппозиция «язык» / «речь», которой он придает внесемиотическую трактовку. «Язык» — поле заданного, предшествующего творческому акту, набор жанрово-стилевых норм; «речь» — ситуативно-определенная связь выражения и выражаемого. По Некрасову, это весьма жесткий критерий различения «подлинного»: «язык выучить можно, речью надо овладеть»[504].
Эта базовая оппозиция варьируется в противопоставлениях искусства-«суммы сведений» и искусства-«умения» (априорно-теоретического знания о том, что такое искусство, и подсказанного творческой практикой понимания его границ)[505], искусства — «рода занятий» и искусства — «качества» (формального набора признаков художественности — интуитивно ощущаемого открытия)[506]. В эссе-истине Вс. Некрасова момент выхода к «подлинному» связан с категорией «точного». «Точное», в интерпретации поэта, — это то, что наиболее остро выражает оппозицию литературы / литературности. «Точность» — это «не оценка, а качественная характеристика», выражающая исполнение жестко заданных ситуацией требований к оформлению. «Точность» — критерий восприимчивости, эквивалент «вкуса»: для современного поэта, «для его фразы найти единственную точную линию поведения — вопрос жизни, вопрос выживания»[507].
Очевидно, что, в отличие от Гройса, Некрасов акцентирует не обязательную двухуровневость («сакральное» / «профанное») каждого текста, а два модуса художественности («язык» / «речь»), которые в одном тексте пересекаться не могут. Это различие усилится еще больше, если сопоставить трактовки художественного акта, которые предлагают два теоретика.
Для Б. Гройса основной проблемой современного искусства оказывается изменение режима художественной рецепции, из которой исчезает непосредственность. Смысловой плюрализм контемпорариарта связан с конфронтацией разных представлений об искусстве как деятельности. Современный зритель растерян, поскольку опыт искусства перестает быть «беспредпосылочным». Понимание предшествует эстетическому переживанию, в восприятии искусства на первый план выходит проблема «понимания», связанная с потребностью зрителя «увидеть произведение в правильном свете», погрузить его в тот контекст, в котором оно имеет смысл[508].
Закономерно, что с этой точки зрения творчество — это прежде всего объяснение:
«Давая объяснение, объясняющий творит новый язык. Акт объяснения тождествен акту творчества. Новый язык не объясняет по-новому уже имеющийся мир, но проектирует новый мир. Всякое объяснение есть технический проект и открывает дорогу технической реализации»[509].
В этом смысле авангард — «дело теоретиков, а не художников»[510]. «Искусство, — пишет Б. Гройс, — никогда не воспринимается по его собственным законам. Оно всегда понимается по законам другого произведения искусства, созданного для того, чтобы сделать понятным первое»[511]. Очевидно, что деятельность интерпретатора нацелена как раз на создание искусства «второго порядка». Именно в этой связи концептуалистская практика получает соотнесенность с рефлексивностью, с продуцированием проблем, а не решений, концептов, а не форм, а художественная практика — устойчивую связь с философской работой.
Художника и философа, полагает Гройс, более всего роднит метафорический характер мышления. Основанием для интерпретации философской позиции как «метафорической» оказывается тот факт, что «каждый философ начинает с того, что придает словам новый смысл и начинает его описывать, благодаря чему философия оказывается в состоянии сформировать новую ситуацию»[512]. Метафора, в отличие от любого «внутритеоретического» высказывания, носит «продуктивный характер», поскольку позволяет оказаться там, где «до метафоры было только молчание»[513].
Логика рассуждений Вс. Некрасова движется в противоположном направлении. Развитием противопоставления «язык» / «речь» оказывается в его концепции противопоставление «вещи» и «ситуации». Новое, концептуалистское искусство — это искусство «ситуации», а не «предмета», а «ситуацию не прочитывают, в нее входят»[514]. Неизбежность искусства «ситуации» предопределена пониманием того, что «автоматически к поэзии ничто не приводит»[515], и только опыт радикального пересоздания эстетических рамок, «переизобретения» искусства способен порождать художественный эффект. Некрасов акцентирует «точку нарушения», момент «осознания»[516] эстетического потенциала материала, взятого из обыденности, из сферы «профанного».
«Концепт» демократизирует искусство, противопоставляет жреческому «поэтическому языку» живую поэтическую речь; освобождая текст от искусственности, требуя непрерывной проверки на живую реакцию: «Чтобы не было блата, чтобы искусство было нашим, общим, творческим делом. И пока искусство в опыте, в общении — т. е. в реальности, тревожиться нечего»[517]. Некрасов особенно настаивает на том, что в «ситуативном» прочтении искусства концептуализма нет и не может быть места никакому априоризму: «Кто может положить границу искусству — до сих пор и не дальше? Граница кладется практически делом, для себя»[518]. Из этой констатации проистекают два следствия: запрет на абсолютизацию рефлексии и запрет на исключительное доверие к непосредственному. «Невозможно всерьез прилагать обязательный анализ к рисунку или стихотворению на манер технической характеристики изделия. <…> Искусство — факт сознания, а сознание себя исчерпать не может», — замечает Некрасов и предостерегает от противоположной крайности: «Чувственное замыкание на предмет — самое короткое. Непосредственней некуда», но такие «игры» «напоминают радение»[519].
Зыбкость «рамки», смещение акцента с произведения на реакцию реципиента чреваты возможностью впасть в «экзальтацию» (и игровую профанацию «концепта») или «конвенциональность» (теоретизирование по поводу художественной акции). Но
«в том-то и специфика, и интерес концепта, что раз его материал — кусок действительности, то рамка становится невидима, налицо тенденция к бесконечному размыванию и экспансии. Рамка словно и впрямь захватывает в свое поле все окружающее. Но исчезать на самом деле — никогда»[520].
Очевидно, что в этом аспекте различия Б. Гройса и Вс. Некрасова наиболее заметны. Для Гройса концептуализм — это крайний случай авангардной тяги к замене воплощения — идеей, а потому — всецело интеллектуальное, «головное» искусство. Некрасов убежден в обратном, прямо декларируя запрет на овеществление и конечную смысловую определенность «концепта», воспринимаемого им скорее «сенсуалистически», чувственно, как «рамка» переживания. Антагонистический характер двух моделей концептуализма оказывается не менее очевиден при обращении к еще одному значимому аспекту — интерпретации «нового» в искусстве.
Для Гройса, как было сказано, проблема истины редуцируется к проблеме искренности, понимаемой не «традиционно эмпирически, как соответствие слов говорящего его мыслям», а как некая «вынужденность», «невольность» высказывания. Эта «вынужденность» с наибольшей наглядностью реализуется в опыте искусства, где «предикат „искренний“ употребляется без особых затруднений»: «здесь критерий искренности вполне объективен: истинно то, что по-истине ново»[521]. При этом художник, выстраивая «собственную сферу суждения и выражения», оказывается в парадоксальной позиции: он одновременно «в традиции и вне ее», что может быть интерпретировано и как «лицемерие», и как апелляция к более «глубокому» опыту, нежели уже освоенный культурой. Критерием разделения полярных интерпретаций оказывается возможность признать, что автор «нашел конечную форму для выражения своих душевных движений»[522].
У искусства концептуализма, доводящего до предела авангардный посыл к рефлексивному опосредованию, есть своя специфика. В нем — в силу изъятия произведения из универсальных жанрово-стилевых конвенций — «акт искусства превращается в событие внутренней жизни человека»[523]. Одновременно с этим происходит и еще одна значимая трансформация. Традиционно художник указывает на «просто вещи», которые изымаются из орудийного, прикладного контекста и наполняются эстетическим смыслом. Однако, замечает Гройс, «в мире нет „просто вещи“», а «есть лишь определенные вещи»[524]. В этом смысле художник всегда создает не столько «просто вещь», сколько ракурс, позволяющий увидеть предмет в этом качестве. Нюанс, связанный с советским контекстом, состоит в том, что в нем нет места для «просто вещей», как и вообще нет места для вещей, не «съеденных» идеологией. Любой контакт с реальностью идеологически опосредован, поэтому «поиск элементарного „всего“ оказывается иллюзорным»; оттого в современном контексте «сама идеология становится предметом искусства»[525].
Уравнивая образ и слово, художник-концептуалист проверяет «денотативную обеспеченность» идеологического высказывания, делает явной его «иллюзионистскую природу». «Все» может стать предметом искусства только через соотнесение иллюзии и реальности, а это, как полагает Гройс, «точка смерти», «ничто мыслительной деятельности». В этом смысле современное искусство ищет «не формы связи, а формы разрыва», оно стремится выстроить «уравнение с нулевым решением»[526].
Рассуждения Вс. Некрасова на тему «нового» носят более частный характер. В поэзии, с его точки зрения, воплощением «точности» оказывается способность создать поэзию минимальными средствами, сделав точкой отсчета «речевую абсолютность»[527], «подслушанность» поэтической фразы. Зерно современной поэтической речи — это «обрывки, словечки»[528] — будничное слово, изъятое из контекста бытования и наделенное вторым ассоциативным планом. Опыт повседневности, взятый как «художественная величина», видится Вс. Некрасову неисчерпаемым ресурсом художественности, а вместе с тем — гарантом успешного диалога с читателем, поскольку является общим «common sense»[529], универсальной сферой здравого смысла. Очевидно, что Некрасов, в отличие от Гройса, отнюдь не стремится к тому, чтобы свести концептуализм к деструкции «идеологического»; концептуализм противопоставлен клишированности сознания, но из этого не следует, что сфера «советского» является его материалом. Закономерно, что и «новое» трактуется несхожим образом: как выхолощенное идеологическое (Гройс) и остраненное бытовое (Некрасов). Эти различия получают продолжение, когда речь заходит о спецификации концептуалистской практики.
Стремясь к «новой гарантированности смысла», художник, полагает Гройс, «делает наглядным тот язык», на котором формулировалась предшествующая гарантия, «схватывает логическую структуру языка, на котором мы говорим о прекрасном, и предъявляет ее нам как прекрасное произведение искусства»[530]. В этом смысле «концептуалистское» начало всегда присутствует в искусстве, выступая условием перехода от одного «стандарта прекрасного» к другому. Специфика «овнешнения» «языка ограничений» демонстрируется Гройсом на примере героев Х.-Л. Борхеса.
Опыт Борхеса интересен для Гройса тем, что представляет собой последовательную ревизию романтической эстетики, рудиментарно присутствующей в современном искусстве. Персонажи Борхеса — это художники, сумевшие стать «экзистенциальными героями», т. е. отказаться и от «игровой смены масок», и от «пассивного воспроизведения „зова бытия“».
Эстетик более не «хозяин» в собственной творческой практике; стремясь «выйти к предельным ситуациям и понять свое подлинное место в мире», он «подчиняет себя определенной форме», демонстрирует «решимость» следовать раз и навсегда сделанному выбору[531]. Борхесовские герои ничего не создают, да и не могут создать «в материале». Избираемые ими поведенческие программы «не могут быть реализованы в пределах конечного земного времени»; «они не объективируются, не овеществляются, требуя отношение не созерцания, а участия».
При этом именно в силу «необъективируемости» и «тотальности» эти программы сводятся к презентации «концепта» или «алгоритма» творческой деятельности. Тем самым концептуализм, в интерпретации Гройса, оказывается мотивирован экзистенциалистским видением мира, стремлением последовательно реализовать некий «принцип, организующий человеческую жизнь», безотносительно к тому, как — в том числе самим художником — воспринимается его содержание. Художники-концептуалисты — это «появившиеся во плоти герои Борхеса».
Концептуалист предлагает «некий принцип, следуя которому, порождается произведение искусства». Принцип этот «прозрачен для зрителя (читателя)»; «его понимание не требует герменевтических усилий»[532]. Сдвиг от непредсказуемости к заданности радикально меняет и содержание произведения искусства, и рецептивные правила, которые оно диктует. «Господство концепта сделало труд художника механистичным», более того, ориентированным на то, чтобы «вызвать скуку и у творца, и у зрителя»[533]. Это искусство, которое «держится лишь экзистенциальной решимостью». Объект его интереса — «онтологическая дифференция» между сущим и бытием, фундаментальная несамотождественность человека как «вот-бытия». Невозможность ясно и четко разделить «подлинное» и «неподлинное» тематизируется в интересе к повседневности, при этом «повседневность, прожитая „еще раз“», трактуется как «повседневность, понятая как смысл».
Запечатлевая самые обыденные, «профанические» черты существования, художник-концептуалист открывает в нем возможность «иного», эстетически наполненного и предельно осмысленного бытия. В этом отношении «отрешенная скука или состояние „ненастроенности“, — полагает Гройс, — есть свидетельство прекрасного, ибо благодаря ему зритель изымается из сферы надежды и озабоченности и оказывается лицом к лицу с чистым смыслом»[534]. То, что различает здесь «удачу и неудачу, есть не некая норма, но переживание прекрасного».
Тем самым теория концептуализма парадоксально сочетает устремленность к закрытому для обозрения и анализа переживанию и тягу к максимально рефлексивной организации творческого процесса, стремление к уходу от «объективации» и «овеществления» замысла и едва ли не полное погружение в «профанный» и обесцененный вещный мир, установку на преодоление стереотипов и клише и «алгоритмическую» заданность творческого процесса.
«Язык искусства отличается тем, что говорит о мире ином, о котором может сказать только он один»[535], — полагает Гройс. Отечественные концептуалисты «нерелигиозны, но насквозь проникнуты пониманием искусства как веры». Именно это позволяет им дешифровать искаженную социальную реальность, открывая в ней отблеск «иного», это же делает современное искусство выражением «нашей собственной историчности, открытой здесь и сейчас»[536].
Некрасов, в противоположность Гройсу, акцентирует не раз и навсегда выбранную «форму», которой следует себя подчинить, но невоспроизводимость художественности. В его эссе на первом плане находится не декларация «намерений», но пафос «осуществленности», пафос контекста, в который можно попасть, а можно и не попасть: «Автоматически к поэзии, к искусству ничто не приводит — ни реквизит, ни темы, ни намерения»; «тут либо пан, либо пропал»[537].
Вхождение в новый опыт связывается с двумя процедурами: «изживания материала» (преодоления внеэстетической косности) и «овладения материалом»[538] (обнаружения в нем ассоциативного потенциала). Осуществление этих процедур неотделимо от нескольких творческих установок. Первая — отказ от «сотворения» в пользу «открытия»[539] (акцентирование минимальности авторского вмешательства в материал). Вторая — отказ от «нажима» в пользу «расслабленности» (от волевого художественного поиска в пользу озарения): «Избегаю форсировать метод, лучше понимаю усилие, нераздельное с расслаблением»[540]. Третья — замена «усилия» «умением»[541] (рефлексивностью, неотделимой от творческого акта, — «рефлексия мешает импульсу стать идолом»).
Конкретные модели, позволяющие достичь желаемого, — «репетитивная техника», техника нюансов и смысловых оттенков, визуализация поэтического текста:
«Где начинается визуальность как принцип? Очевидно, там, где плоскость листа не просто привычный способ развертки текста-линии, а именно плоскость со всеми ее возможностями. <…> Где возникает потребность преодолеть косную временную последовательность, принудительность порядка в ряде»[542].
Реализация этих принципов, с точки зрения Вс. Некрасова, помогает достичь новой формы художественной речи, соединяющей «свободу» и «ответственность».
Таким образом, осмысление концептуализма на уровне перехода от эстетики к поэтике у Гройса и Некрасова тоже радикально разнится. Если первый подчеркивает проективную сторону художественного движения, нацеленность на реализацию заведомо известного «концепта», то второй, напротив, обращает внимание на заключение в скобки любых попыток найти «готовый» ответ, «готовую» форму, «готовый» оценочный ракурс. Закономерно, что и финальные выводы о характерных опознаваемых признаках концептуализма у двух теоретиков разнятся. Для Гройса концептуализм — это «прозрачное» для интерпретации искусство с предъявленной зрителю «моделью для сборки». Для Некрасова скорее — искусство «непрозрачное», исключающее любой априоризм, любую самоочевидность.
Дарья Барышникова
ПОЭТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ П. П. УЛИТИНА
в контексте литературы московского концептуализма
1960–1970-е гг
«Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение…»
«Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение…»
Контексты отечественной неофициальной литературы 1970-х гг. традиционно связываются с концептуализмом, который сегодня часто выглядит как если не главное, то основное направление в художественной культуре того времени. При этом неисследованным пока остается ряд маргинальных направлений, что связано, конечно, и с небольшой временной дистанцией, отделяющей исследователя от текстов, и с отсутствием систематизации (а часто и публикации) материала.
Я бы хотела схематично рассмотреть и кратко сопоставить поэтику и художественные стратегии писателя Павла Павловича Улитина (1918–1986) с принципами концептуальной литературы, с тем чтобы показать другие возможные способы существования постмодернистского дискурса в литературе. Поэтика Улитина анализируется здесь на материале трех опубликованных книг, созданных в 1960–1970-е гг.: «Разговор о рыбе» (1967)[543], «Макаров чешет затылок» (1967)[544] и «Путешествие без Надежды» (1975)[545].
Предложенное сопоставление может, как мне представляется, несколько расширить контексты указанной эпохи (и не только во временном плане — рассматриваемые тексты Улитина относятся к чуть более раннему периоду, — но и в концептуальном). Для этого мне представляется продуктивным обратить внимание, с одной стороны, на специфику концептуализма как литературного течения (выделяемого очень условно), а с другой — на ключевые характеристики текстуальных художественных практик и «стилистику скрытого сюжета» Павла Улитина как новый принцип организации прозы. Не ставя пока вопрос о влияниях и взаимодействиях, я бы хотела попытаться очертить некий, если угодно, фрагмент интеллектуального ландшафта литературного процесса 1970-х.
Литературу указанного периода можно относить к постмодернизму в том смысле, как трактует это направление Марк Липовецкий[546], считая, что постмодернистский дискурс формируется в русской культуре конца 1960-х — 1970-х гг. на пересечении двух тенденций: критики советских метанарративов и попыток возродить прерванные (в официальной культуре) дискурсы исторического авангарда. Постмодернизм рассматривается здесь как одна из фаз в развитии модернизма, не завершенного и поныне, возникшего внутри тоталитарной культуры и развивавшегося в диалоге с ней. Итак, в постмодернистской литературе выделяются следующие специфические черты: подрыв формальной организации, алеаторная структура повествования, иллюзия хаоса, спонтанная игра дискурсов и обломков былых символических порядков. Это ситуация, когда связность текста становится невозможной или фиктивной. С другой стороны, обособленные замкнутые эстетические объекты «приходят в движение», размыкаясь в пространство неэстетического, внехудожественного[547]. Параллельно происходит сдвиг от практик создания самодостаточных эстетических объектов к исследованию условий их существования, функционирования, системы отношений с контекстом и восприятия. Это связано и с включением в художественное произведение рефлексивной позиции — по отношению к языку и материалу, к собственным художественным стратегиям.
Концептуализм в рамках постмодернизма может рассматриваться не столько как стилистическое направление (термин использовался сначала применительно к визуальным художественным практикам, затем распространился на литературу[548]), сколько как идеология, центром которой была проблематизация самого понятия «искусство». Для концептуалистской литературы важной задачей становится работа с пустыми формами языка: клише, устаревшие средства выражения, потерявшие способность к выражению чего-то нового.
Павел Улитин[549] не был особенно широко известным писателем, его тексты при жизни публиковались в зарубежной периодике, ранние сочинения практически не сохранились (изъяты при обыске 1962 г.), значительная часть до сих пор не опубликована. Его проза описывается как «стенограмма общего разговора, в котором участвуют товарищи по учебе в ИФЛИ и случайные собеседники в московском кафе, соседи по бутырской камере и герои западной литературы»[550].
Если говорить о характере прозы Улитина, то тут на первый взгляд проблематизируется сама возможность коммуникации, сообщения и обнажается механизм художественного творчества:
«Я копировал. Я переводил с языка радости на язык чужих слов. Нужен совершенно другой язык. Тебе приходилось замечать. В другом месте на большом формате два слова для другого человека. Как мало от нас осталось. Тебя там нет. Меня там нет. Там нет ни слова о нас с тобой. Я ехал на этом трамвае. Эти имена ничего не значат. Какой-то другой язык. Неужели самое интересное — цитаты из чужой книги? Странное впечатление. Я не сижу, я не порчу, я не размахиваю. Чем дальше сегодня, тем хуже будет завтра. Пустое место на первый взгляд»[551].
Тексты строятся / выстраиваются фрагментарно. Улитин называл свою технику «уклейкой» — это принцип монтажа, сводящий в один, но дискретный поток сознания («наш русский Джеймс Джойс») воспоминания, фрагменты монологов, диалогов, цитаты разного рода и на разных языках. Текст отказывается от рамок сюжета и организуется лейтмотивами, соединяемыми ассоциативной логикой:
«Как, ничего не сказал? Два часа проговорил и ничего не сказал. А по его мнению, он все сказал. Это вы ничего не услышали. Что именно я хочу извлечь из чужой радости, ЧТО? Я понять его не хочу, смысла в нем не ищу. Странная жадность. Вот эту одну страницу и надо найти. Он хотел твоих усилий на алтарь освободительного движения. В каком смысле вышел из игры? В смысле вина? Нет, пить я буду. <…> Так много наговорили, что уже ничего не хочется. Just the time to come back. Свирепость апостолов из-за неуверенности в своей силе»[552].
Повествователь в этом тексте рассказывает истории, которые не столь важны сами по себе — это даже и не истории, а обрывки и фрагменты. Важно, кто рассказывает историю, хотя где кончается оригинал и начинается копия, не всегда понятно. Вероятно, еще важнее само обстоятельство, что история рассказывается, фрагменты речи упорядочиваются произвольно. В определенном смысле это не «литература», а запечатленный процесс ее становления, в котором внехудожественное трансформируется в произведение. Зиновий Зиник отмечает это «<…> открытие, сделанное П. Улитиным в прозе: те реплики, которые остаются невысказанными в момент разговора, они — переводные картинки услышанного и собранные вместе, встраиваются в новый разговор — литературу»[553]. При этом происходит не размыкание замкнутого эстетического объекта в область, искусству не принадлежащую, как это происходит (будет происходить) в концептуализме, но сам этот художественный объект (оформленная книга) заключает в себе не повествование, не сюжет, не историю, но само ее становление, это и не разговор о чем-то, но разговор как таковой. Не записанный монолог, но слова, полные, как пишет Михаил Айзенберг, «внутренней значительности и странного напряжения»[554].
Один из главных «предметов» прозы Улитина — чужой язык и его стереотипы. Как пишет в предисловии к «Разговору о рыбе» Зиник[555], Улитин предпочитал говорить о собственном опыте чужими словами, потому что «у него отняли и его интимные слова и его интимную жизнь». Это фиксация опыта, о котором невозможно рассказывать. Причины этой невозможности лежат за пределами текста, и здесь я не буду вдаваться в их подробности. В тексте же получается культ необязательности, случайности, культ черновика.
Из разговоров извлекаются ключевые фразы, а такой фразой может стать любая, значение не важно, важны скорее ритм и интонации. Драматургия повествования («повествование», конечно же, условно: никаких событий как историй, т. е. изменений состояния — как определяется событие в смысле ключевой характеристики повествования в классической нарратологии — тут не происходит) организуется паузами и лакунами, логическими пропусками и смысловыми провалами:
«Что это? Каталог непрочитанных книг. Выписки из каталога. Шутка старика-читателя. Меньше всего там было продолжение Книги с большой буквы. Заглянув в сборник цитат, увидишь: два шага назад. Сделал свои выводы, ничего не скажешь. Это немножко похоже на указатель.
He’s het up, but I’d say Tom Betterton’s as sane as you or I (p. 186 Destination Unknown by Agatha Christie).
Verbotene Liebe. Verlorenes Leben. Was sagst du dazu? Да, это из каталога. Вот какие были волнующие впечатления. Непосредственно после этого я прошел мимо „Иллюзиона“, чтобы остановиться и прочитать названия кинофильмов[556]».
В прозе Улитина язык используется не для описания и даже не для преобразования мира. Этот язык (языки?) как бы и есть мир невозможной прямой речи, в котором существует писатель, чья речевая позиция декларируется так: «Я хочу найти слова, которые не имеют прибавочной стоимости». Эти стратегии, изначально маргинальные, и в дальнейшем не получили широкого распространения в «литературном процессе». Практика концептуальной литературы предполагала несколько иные принципы работы с текстом, словом, языком.
Однако можно обнаружить некие если не параллели, то параллельные места в этих двух достаточно разных подходах. Д. А. Пригов, рассуждая о концептуализме, выделяет следующие его характеристики: сведение в одном произведении разных языковых пластов (по сути — различных дискурсов), «высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого на тотальное описание мира»; существенным становится использование неконвенциональных текстов не в качестве цитат, а в качестве структурной основы нового произведения. Подчеркивается ключевое значение жеста — определяющего, назначающего. И, наконец, режиссерское отношение к тексту: «герои этих спектаклей — не персонажи, но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора»[557].
Таким образом, в текстах Улитина язык используется в практически «нулевой степени письма» — по крайней мере, декларируется такое намерение. Все эти «чужие слова», цитаты и пересказы используются не для демистификации или десакрализации доминирующих в культуре дискурсов (советского или антисоветского), но скорее, как представляется, для фиксации того опыта, который невозможно передать «своими словами»: не отстраняясь от языка, разрушая его, но пребывая в языке, распространяя дискретность мышления на связность текста, замещая и вытесняя эту связность в пространство до произведения, фиксируя на бумаге не столько его создание, но представляя сознание в процессе подготовки мысли. В декларируемо-художественные тексты Улитиным вводится нехудожественное для того, чтобы стала возможной фиксация такого опыта (переживания), для которого недостаточно языка как упорядочивающего логоса. В этих текстах важна не семантика — смысл может быть вполне произвольным, — но ритмическая организация текста. Этот «условно пригодный» разговор, не выстраиваемый линейно во времени, а как бы рассеиваемый вокруг, становится пространством существования не смысловых единиц, но определенной возможной (невозможной?) общности переживания.
Ада Раев ПОД ЗНАКОМ ГЛАЗА: Дмитрий Пригов и Карлфридрих Клаус
Статья посвящена двум художникам, которые, каждый по-своему, внесли важный вклад в концептуальное искусство — один в России, другой в Германии. Не случайно и Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007), и Карлфридриха Клауса (1930–1998) считают важными фигурами искусства позднего XX в., сравнивают с Йозефом Бойсом. Лично они не были знакомы, хотя теоретически могли бы встретиться во время пребывания Дмитрия Пригова в Берлине в 1990–1991 гг., когда он был стипендиатом организации DAAD (Германская служба академических обменов). Пригов тогда выставлялся в Берлине и в Кельне, а выставка «Carlfriedrich Claus. Erwachen am Augenblick. Sprachblätter» («Карлфридрих Клаус. Просыпание у мгновения. Языковые листы») именно в это время шла по очереди в разных городах Германии.
Если бы они встретились, то обнаружили бы неожиданные параллели и точки соприкосновения как в своих биографиях, так и в творческих интересах. Вероятно, они заметили бы прежде всего, что их объединяет постоянное увлечение, даже страсть к мотиву глаза. Об этом уже писали в Германии: Герхард Вольф и Аннетте Гильберт — о Клаусе[558], Клаус Бах и Катрин Мундт — о Пригове[559]. Меня же интересует вопрос о степени сопоставимости или же различия обращения Клауса (Илл. 1) и Пригова (Илл. 2) к мотиву глаза.

Илл. 1.

Илл. 2.
В этой связи полезно припомнить некоторые схожие факты их биографий и моменты самоопределения[560]. Оба они родились до начала Второй мировой войны — Клаус в 1930 г. в городе Аннаберг в Тюрингии, Пригов в 1940 г. в Москве. Соответственно, их творчество в немалой степени развивалось в условиях тоталитарных режимов — нацистской Германии и ГДР и, с другой стороны, Советского Союза. Кроме того, их объединяет то, что они сознательно держались в стороне от официально востребованного искусства соцреализма. Оба они рано занялись одновременно и литературой, и изобразительным искусством и вообще чувствовали себя свободными от каких-либо эстетических и жанровых ограничений. Устно или письменно они общались с людьми, разделяющими их незаурядные интересы относительно истории, науки и философии. Интересно к тому же отметить, что каждый из них интересовался явлениями культуры другой страны. Клаус еще мальчиком, в период нацизма в Германии, дома тайком выучил кириллический алфавит и позже многое черпал из поэтических опытов русских футуристов Алексея Крученых и Велимира Хлебникова[561]. Пригов, кстати с немецкими корнями, в свою очередь, ценил немецких романтиков и в ряде работ тематизировал немецкую историю. К примерам его обращения к немецкой культурной традиции относятся, например, его перформанс-опера «Мой Вагнер» (2000) и первая его инсталляция в Третьяковской галерее под названием «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета» (2004). Обоим не были чужды идеи мистиков разных эпох и народов, которые позволяли им отодвинуть границы сфер своего познавательного и эстетического опыта далеко за пределы собственного времени и привычного культурного пространства. В целом оба склонялись к тому, чтобы на первое место ставить свое литературное творчество, работу с текстами. Но это не мешало им помимо языковых образов искать способы выражения непосредственно изобразительным путем. Конечно, каждый из них прошел свой индивидуальный путь развития в искусстве.
Карлфридрих Клаус вырос в культурной семье в немецкой провинции. У его родителей был магазин художественных репродукций и канцелярских изделий, который сыграл важную роль в его художественном развитии. Именно здесь он еще ребенком учился печатать на пишущей машинке и видел репродукции запрещенных тогда художников авангарда. Профессионального художественного образования он впоследствии не получил, но рано начал интересоваться искусством и поэзией. Он писал художественные и театральные рецензии для местной прессы, сочинял стихи и в начале 1950-х гг. увлекался фотографией[562]. Его тексты не всегда печатали из-за слишком независимой точки зрения их автора[563]. Он переписывался с поэтом Францем Моном, философом Эрнстом Блохом, художниками Паулем Клее, Раулем Хаусманном и Фернаном Леже, маршаном Даниэлем-Анри Канвейлером и многими другими; сохранилось около 20 000 писем. Позже он начал увлекаться звуковыми экспериментами на основе собственного голоса и дыхания. От этих занятий сохранились аудио- и видеозаписи. После смерти матери в 1969 г. и без того сложная личная ситуация Клауса — он жил как бы отшельником — становилась все хуже. Лишь в 1974 г. друзья-художники добились того, что его приняли в Союз художников ГДР. Год спустя в Восточном Берлине в галерее «Galerie Arkade» состоялась его первая персональная выставка. Власти хотели заставить его покинуть ГДР. Клаус, однако, остался в родном Аннаберге, прекрасно понимая, что изначальное место создания любого произведения искусства — это голова художника[564].
В его изобразительном наследии важное место занимают графические циклы. Особенность некоторых из них (Илл. 3) состоит в том, что они напечатаны и нарисованы на прозрачной бумаге с двух сторон, соединяя шрифтовые и знаково-иконические элементы. Позже он их переносил на плитки из оргстекла (плексигласа). Из этих плиток он строил пространственные композиции, внутри которых зритель может двигаться. Именно эти работы, а также более поздние живописные работы и являются носителями многочисленных глаз, которые начали появляться у Клауса в начале 1960-х гг.

Илл. 3.
Пригов, будучи на десять лет моложе своего немецкого коллеги, также рано, с 1963 г., писал стихи[565], но в отличие от Клауса получил и профессиональное художественное образование, закончив скульптурное отделение Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановского). Уже здесь он проявил свое свободолюбие, когда вступился за несправедливо отчисленную студентку, вследствие чего и сам был на год исключен из училища. Подобно многим представителям московского концептуализма, он много лет состоял на службе — в Главном архитектурном управлении Москвы, где курировал окраску фасадов. Когда Пригова в 1975 г. приняли в Союз художников как скульптора, за этим формальным актом, однако, не последовала большая карьера в этой сфере художественной деятельности, столь выгодной при социализме в финансовом плане. Вместо того чтобы лепить монументальные скульптурные памятники, он усиленно работал в области малых форм, используя хрупкие материалы и повседневные предметы. Памятники же в его текстах — например, в стихотворении «Вот вижу: памятник Ленину в Ташкенте стоит…»[566] — указывают на абсурдность советской идеологии[567]. Кроме того, именно с этого времени Пригов начал приобретать нарастающую известность перформансами-чтениями собственных текстов, например, в мастерских Бориса Орлова и Ильи Кабакова, а также в своей квартире, куда приглашал многих ныне известных единомышленников. Десять лет спустя он начал сотрудничать с музыкантами — с Сергеем Летовым и особенно с Владимиром Тарасовым. В период перестройки и в последующие годы появились такие важные графические серии, как «Газеты», «Бестиариум» и другие[568]. В них, в многочисленных проектах инсталляций (Илл. 4) и в более поздних работах, основанных на фотографиях и репродукциях, непременно присутствует мотив глаза.

Илл. 4.
Если сравнить изображения глаза в работах Клауса и Пригова, то, несмотря на постоянное их присутствие и на присущую им общую знаковую упрощенность, быстро обнаруживаются и их различия. Многообразию, динамизму и экспрессивной манере изображения глаз у Клауса противостоят программная схожесть и статичность тщательно нарисованных глаз у Пригова. Дело тут не в разных темпераментах или в индивидуальном почерке этих двух художников. Их обращение к мотиву глаза и его истолкование коренятся, как мне кажется, в разных, в чем-то противоположных культурных традициях, в которых они выросли и действовали.
Еще в начале творческого пути, в 1956 г., мысли Клауса вращались вокруг чудесного и драгоценного органа чувств человека, который в состоянии воспринять лучи света:
Landschaft
Ganz zart
zieht der Strahl
die Rundung des Auges nach
Zwischen
Schrägen und Steilen
geteilten Geraden
die zitternde Linie
Ganz leicht
umläuft sie das Auge[569]
При этом его интересовал познавательный потенциал глаза, и он задумывался о принципиально разных, но равноценных способах восприятия мира — рациональном и иррациональном:
Ein Auge ist klar
Das andere schwimmt in den Nebeln
Die immer dichter
es tragen
Das eine ist klar
Das andere
auch
Nur
ganz anders[570]
Тогда же его волновало и соотношение внешнего и внутреннего мира человека, существующих и взаимодействующих перед и за закрытыми веками:
In das Dunkel
geschlossener Lider
spiegelt
das Blut
pulsierend
Licht
In dem Dunkel
geschlossener Lider
bildet
Licht
Kristallenen Strom[571]
Поэтому неудивительно, что начиная с 1962 г. глаз в изобразительном наследии Клауса встречается в самых разных ипостасях и состояниях: есть единичные и парные глаза, есть правые и левые глаза, глаза с ресницами и без них, глаза со зрачками или без них, есть прямо смотрящие, и косые, и даже закрытые глаза; есть глаза сияющие и есть взирающие внутрь, встречаются глаз циклопа и глаз шамана. Иногда они находятся на «естественном» месте — на лице человекоподобных фигур или животных; порою скопления глаз покрывают тело или спину (Илл. 5), а в других случаях они парят в бесконечном пространстве неясной глубины или вырастают из сети штрихов и шрифта. При этом различные знаки глаза для Клауса, как он подчеркивал, всегда имели точную функцию.

Илл. 5.
Например, на листе «Отчуждение» 1992 г., исполненном черной тушью и графитным карандашом на прозрачной бумаге с двух сторон и акриловыми красками с одной стороны, глаз намекает на состояние человека в ситуации бегства, равной положению вне закона, когда требуется постоянное внимание в состоянии между бодрствованием и сном[572].
В целом глаз у него фигурирует как самый важный орган мировосприятия и самопознания человека на разных уровнях, будь то ясновидение, страх, боль или смутные ощущения. Он его понимает как орган коммуникации между внутренним и внешним человеком, как свидетельство фрагментирования сознания в процессе мышления и особенно в процессе написания[573], как орган общения между людьми (Илл. 6) и между человеком и миром в целом.

Илл. 6.
Многократное обращение Клауса к мотиву глаза в немалой степени связано с чтением как Парацельса (Теофраста фон Гогенгейма), так и Валентина Вейгеля (1533–1588). Последний — саксонский мистик XVI в., лютеранский пастор из города Чопау — утверждал в своей книге «Erkenne dich selbst» («Познай самого себя»), «что человек сам является глазом, и через него видятся и познаются все видимые и невидимые явления»[574]. По представлению Вейгеля, человек обладает тремя глазами: «oculus carnis», т. е. глаз плоти, «с которым смотрят на мир и на все, что относится к кухне», «oculus rationis», т. е. «глаз разума», «с которым смотрят и делают или изобретают искусства и исполняют все разумные работы и ремесла», и «третий и высший глаз», «oculus mentus seu intellectus», т. е. «глаз рассуждения, с которым смотрят на Бога»[575]. Идеи Вейгеля привлекали Клауса в особенности тем, что тот воспринимал человека, мир и Бога как единое целое, как «ein und alles». Подобно этому и Клаус ощущал себя и человека вообще как часть мироздания и исторического процесса, как взирающего и действующего одновременно. Поэтому глаза в его листах то появлялись, то исчезали в процессе работы и иногда перекликались с мотивами руки и рта.
В этой связи небезынтересно, что его отец был членом масонской ложи в Гамбурге, а у масонов, как известно, глаз является одним из главных символов[576]. Появившееся в эпоху барокко Всевидящее око в ореоле из лучей репрезентирует истину, которая требует мудрости и перед которой совесть обязана отчитываться. Правда, ярко выраженное Всевидящее око, вписанное в треугольник с венцом или полувенцом световых лучей, на листах Клауса не встречается, но это не означает, что присущий масонскому духу нравственный момент его не интересовал. Он внимательно следил за социальными движениями и политическими событиями во всем мире — от Вьетнама до Южной Америки, от США до Африки и Польши — и фиксировал свои размышления на листах, покрытых большими глазами, как бы парящими в небе и носящими названия «Политпсихологическое эссе: Африканское сознание» или «Политпсихологическое эссе: Афроамериканское сосредоточие сил» (оба — 1971).

Илл. 7.
В целом творчество Клауса посвящено процессу самосознания человека (Илл. 7) и поиску его места в бесконечности мира и в истории, впрочем, с точки зрения коммунистической утопии, которую Клаус связывал с разнообразными метафизическими учениями.
У Дмитрия Пригова дела обстоят по-другому:
«Речь идет, за некоторыми исключениями, об огромном, изолированном, то есть бестелесном левом глазе, смотрящем прямо на зрителя. Большей частью он тщательно написан тушью или нарисован фломастером в типичной для Пригова манере и выделяется из заштрихованного черным „облака“; в некоторых поздних инсталляциях он представлен только в виде контура — черной краской на белом фоне»[577].

Илл. 8.
Прямота взгляда исключает дистанцированное восприятие. Нередко на нижнем веке висит красно-кровавая слеза[578], своего рода опознавательный знак приговского глаза (Илл. 8). В отличие от Клауса, у которого глаза блуждают в беспокойном движении по поверхности листа, глаз у Пригова в большинстве случаев занимает устойчивое и весьма проминентное место: на главной оси и в верхней половине композиции, будь то плоскость листа или инсталляционное пространство. Иногда по сторонам его висит занавес. Всем этим подчеркивается его особое значение. Можно даже говорить о намеренной сакральности этого мотива у Пригова. Такое прочтение тем более уместно, что глаз в его работах порою находится в красном углу, т. е. на традиционном месте иконы в жилых помещениях в России.
К традиции размещения икон обратился в свое время и Казимир Малевич, когда на выставке «Последняя футуристическая выставка 0,10» он поместил свой «Черный квадрат» в одном из верхних углов выставочного помещения[579]. Не случайно Дмитрий Пригов не раз ссылался на основоположника супрематизма, который видел себя в роли Пророка, т. е. зрящего. Малевич много писал о природе и смысле супрематической живописи и связанных с ней метафизическом видении и мировосприятием, как, например, в письме Михаилу Гершензону в 1920 г.:
«Я уже супрематизм не рассматриваю как живописец или как форму, мною вынесенную из темного черепа, я стою перед ним как посторонний, созерцающий явление. Много лет я был занят движением своим в красках, оставив в сторону религию духа, и прошло двадцать пять лет, и теперь я вернулся или вошел в Мир религиозный, не знаю, почему так совершилось, я посещаю церкви, смотрю на святых и на весь действующий духовный Мир, и вот вижу в себе, а может быть в целом мире, что наступает момент смены религии, я увидел, что как Живопись шла к своей чистой форме действа, так и Мир религий идет к религии Чистого действа <…>»[580].
Александра Шатских обратила внимание на двойственность обращения Малевича к иконной традиции:
«Общеизвестное вознесение „Черного квадрата“ в „красный угол“, имевшее место на „0,10“, — оно, скорее всего, было импровизационным, импульсивным, родившимся во время развески картин. Однако вся экспозиция супрематических работ мгновенно была перекодирована этим амбивалентным жестом, сакральным и в то же время святотатственным»[581].
Подобную двойственность можно обнаружить и в употреблении мотива глаза со стороны Пригова по отношению к советской идеологии.
Клаус Бах подчеркнул возможность политического прочтения глаза у Пригова:
«Взгляд уже в дохристианскую эпоху является символом божества, в христианстве же он — символ Бога-отца или Бога триединого. Но если исходить из репрессивных отношений, существовавших в России, напрашивается ассоциация с вездесущим контролем, и западному зрителю приходится подумать о „большом брате“ Оруэлла. Пригов часто рисует глаз с красными слезами, так что он превращается в знак боли и печали»[582].

Илл. 9.
Этому слою значений глаза у Пригова соответствует выбор художником именно левого глаза, который по традиции является воплощением пассивности и прошлого[583]. В нашем случае приходит на ум испытанное или причиненное страдание, которым так полна и русская, и особенно советская история. Примечательны в этом смысле интерьеры с каплями и потоками крови из цикла «Рисунки на репродукциях», созданные в 1994 г. (Илл. 9): в углу дворцовых интерьеров, по всей вероятности, отреставрированных тогда интерьеров Большого Кремлевского дворца, с псевдобарочной мебелью и с роскошными, позолоченными сводами, под карнизом или в глубине анфилад присутствует глаз с кровавой слезой. Недобрый его смысл еще усиливается окружающим его облаком из черных штрихов и помещенной над ним, как знак кармы, красной точкой[584]. Если в этих цветных листах просвечивает кровавая история Российской империи, то в черно-белых листах — как, например, «Закат», в котором черное облако с красной точкой поднимается над видом Красной площади с высотным зданием на горизонте, — дана пессимистическая оценка советской истории. То же самое можно сказать и о серии «Сталин-кошмар», тематизирующей длинную тень сталинской эпохи[585]. Дело не в том, что художник использовал страницы газеты «Правда» 1980-х гг., напечатанных спустя 30 лет после конца сталинского террора. Введением божьего глаза он удлинил последствия сталинизма как бы в бесконечность. В этом смысле Пригов другими средствами совершил такое же святотатство, как Малевич почти век тому назад, но с очевидной политической направленностью, как это полагается концептуалисту.

Илл. 10.
Пригов прекрасно разбирался в истории, что не мешало ему остро воспринимать и настоящее, сущее. Но на какие бы конкретные исторические моменты или социокультурные явления он ни реагировал, делал он это преимущественно из эсхатологической перспективы, столь характерной для русской культурной традиции с конца XIX в. Он ее ощущал, в частности, и в русской пейзажной живописи (Илл. 10), включив в известные пейзажи Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Архипа Куинджи и Казимира Малевича божий глаз[586]. Таким образом он определил и естественное, и культурное пространства России как сферы, находящиеся под воздействием знака божей воли. И именно на то далекое время, когда совершится божья воля, намекает приговский глаз независимо от ситуации и места его появления.
В этом истолковании мотива глаза Пригов существенно отличается от немецкого художника. Для Клауса человеческое бытие представлялось, как мы видели, открытым процессом, в котором появляются все новые, неожиданные точки зрения, возможности и перспективы, и светлые и мрачные. Поэтому на его листах такое количество разнообразных глаз. Они так же, как и бесконечные ленты трудно читаемых мельчайших букв и слов, свидетельствуют о постоянных изменениях, которые отдельный, могущий рассчитывать только на себя человек — протагонист западной цивилизации нового времени — старается постигнуть.
Пригов был не менее чувствительным к явлениям жизни; может быть, он даже больше интересовался конкретными явлениями и артефактами прошлого и настоящего и их комментировал. Примером этого является и знаменитая серия рисунков «Бестиариум», над которой он работал начиная с 1970-х гг. На фоне этих своеобразных портретов знаменитых людей прошлого и современников, в которых портретируемые личности имеют одновременно и человеческие и животные черты, а также и мужские и женские половые органы, непременно как бы дежурит божий глаз. Для Пригова, вышедшего из православной традиции, масштабом оценки служило абсолютное, представленное в виде божьего глаза. Часто этот глаз и исходящий от него взгляд в работах Пригова оказываются роковыми — в смысле беспощадными. На человеческом лице третий глаз не только является таинственным знаком, а фатальным образом прямо-таки врезается в череп и деформирует его, как можно увидеть на обработанных фотопортретах из серии «Третий глаз» 1997 г.[587] Именно мотив глаза был для Пригова действенным универсальным и одновременно очень русским средством, позволяющим ему исполнить миссию концептуализма в смысле создания искусства соотношений. От утопии он был далек.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ