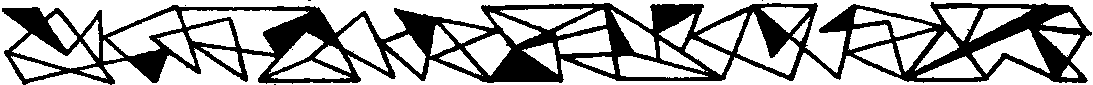 Нильс Барфуд
(р. 1931)
Нильс Барфуд
(р. 1931)
ИЗЮМИНКА НА СОЛНЦЕ
© Gyldendal Publishers, 1983.
Перевод А. Афиногеновой
© Gyldendal Publishers, 1983.
Перевод А. Афиногеновой
Он одет по-летнему, небольшая темная шляпа с загнутыми вниз полями и кожаная куртка, вероятно, та самая старая куртка (она висела в шкафу, когда он умер). Короткие брюки натянулись на согнутых в коленях ногах. Он сидит на корточках за большим верстовым камнем (с отметкой 35 км.), положив на него руки. Он приготовился прыгать через камень. Под шляпой угадываются смеющиеся глаза, взгляд устремлен в объектив. За спиной видны песчанки, кусты, а еще дальше — белая пена или, может быть, это просто купальные мостки, шаткие доски которых спускаются в воду. Если бы он прыгнул, он пропал бы из кадра и исчез.
Летом он изредка ходил с нами купаться. Мать всегда брала с собой его плавки, но он упорно отказывался снимать свои старые трусы. Мы стояли у кромки воды и смотрели, как он, скрестив на груди руки, медленно входит в воду. Резкий взмах головой — и мы напряженно вглядываемся в гладь в нескольких метрах от берега. И неизменно он выныривал чуть позже и на два-три метра дальше, чем мы ожидали. Вот наконец над водой появляется его голова, лицом к стоящим на берегу. Он встряхивает головой, откидывая волосы с глаз, и по-моему, в эту секунду ему очень хочется потянуться за сигаретой, как он делал, просыпаясь по утрам, или когда приходил с работы и усаживался в кресло, или когда заканчивал обед и просил нас включить радио.
Он ложился на спину, опустив голову в воду, чтобы убрать волосы со лба, неторопливо описывал круг и уплывал по прямой вдаль. Однажды он доплыл до первых свай, на которые крепились садки, и пришел домой с кровоточащей ногой — сваи были облеплены множеством мелких ракушек. Мы неотступно следовали за ним. Остальные сидели в дюнах, там же валялись наши вещи. Отец уже был в таком месте, где мы не доставали до дна, да и он наверняка тоже. Он был далеко от нас всех, от кучек одежды и башмаков, от велосипедов с их обжигающе горячими шинами и неработавшими звонками, кроме звонка на велосипеде моего брата — тот обычно смазывал звонок и тщательно оберегал от ударов.
Я переворачиваю фотографию и смотрю, нет ли на обороте даты — хотя бы года или еще чего-нибудь, что могло прояснить, когда она сделана. Но там пусто. На уголках — следы высохшего клея, которым она была приклеена к страницам альбома.
…И в ту же секунду я осознаю, что не надо поднимать глаз. Сведенные с утра мышцы расслабляются, и я говорю:
— Добро пожаловать.
И немного погодя продолжаю еще тише:
— Хочешь чего-нибудь? Совсем ничего? Точно?
Я вскидываю глаза. В углу рядом с умывальником привычно белеет полотенце. В кресле сидит отец.
— Значит, ты живешь здесь? — Он откашливается. — А я думал… — Он вытягивает ноги и роется в кармане в поисках сигарет. Руки чуть дрожат, когда он ногтями переламывает сигарету пополам.
— Я уже давно здесь живу. Разве ты не знал?
Сигаретный дым устремляется к окну мансарды, выходящему на площадь. Я сам дал ему прикурить, хотя мне не слишком улыбалось подходить к нему так близко. Там внизу подъезжает к остановке автобус, и от этого слегка вибрирует пол — едва ощутимая дрожь или это все-таки поезд метро? Солнце в комнату не заглядывает, поэтому дым, не рассеиваемый его лучами, тенью висит в воздухе. С улицы, наверное, кажется, будто дым идет из-под крыши. Мне он напоминает дым от взрыва гранат в Ливане на экране телевизора.
— Куда тебя отвезти? У меня ведь машина. Я купил автомобиль, папа.
Он смотрит на меня недоверчиво и в то же время с надеждой. Губы чуть кривятся.
— Я поеду на трамвае. Дай мне только… — Он встает. Его состояние гораздо хуже, чем я предполагал: сперва руки на колени, короткая передышка, и наконец он распрямляется, стараясь сохранить равновесие.
— У тебя здесь хорошо, — говорит он, глядя на свои ботинки. В пепельнице испускает последнее колечко дыма окурок. Отец проводит рукой по волосам и по лбу.
— Папа, с тобой все в порядке?
Его лоб бледнее, чем раньше, а ладонь, которую он пристально рассматривает, влажная. Я тоже поднимаюсь и осторожно беру его под локоть. От него слабо пахнет мылом для бритья, тем самым мылом, которым он пользовался всю жизнь. Я помню этот запах с детства — так пахло от его подушки, так пахло в ванной после того, как он заканчивал свой туалет. Правда, тогда к этому запаху примешивался запах сигареты — он имел привычку класть окурок в пепельницу, не гася, как сейчас.
— Давай я хоть провожу тебя.
Он вынимает из заднего кармана брюк бумажник и открывает его. Большим и указательным пальцами выуживает стокроновую бумажку.
— Пригодится. Вы же в отпуск собираетесь. — Он всовывает бумажку мне в кулак. Лишь сейчас я замечаю, что стою с протянутой рукой.
— Спасибо большое… А тебе самому-то хватит?
— У меня всего одна пересадка, да еще только цветы купить.
Автобус с тарахтеньем трогается с места.
Я был тогда молод — так мне теперь кажется. В те годы мы жили в пригороде Копенгагена, в квартале, застроенном сблокированными малоэтажными домами. Вокруг было голо, и я ждал, когда подрастут посаженные недавно деревья, появится тень и мягче станут краски. На открытых террасах пестрела новенькая садовая мебель. Бегали кошки, кое-где у бордюрных камней вымощенных дорожек стояли детские трехколесные велосипеды.
Трава в садике позади дома росла так буйно, что скосить ее не было никакой возможности, но зато раз в году там зацветала карликовая китайская вишня. Ростом она была с маленького ребенка, и первые годы мы в шутку пересчитывали ее цветы.
Я купил подержанную спортивную машину, деньги на которую мне неожиданно достались от скончавшейся тетки. Ее дом был похож на огромный сейф, и, чтобы проникнуть туда, пришлось чуть ли не взрывать дверь. И денег там оказалось достаточно. Моей жене перепали кое-какие драгоценности и котелок, который моя тетушка хранила в память о своем муже, убитом во время войны прямо на улице. Котелок отдали детям. А я заимел автомобиль и в первое же воскресенье начертил мелом на дороге извилистые линии и, высунувшись из окна, медленно повел машину по этому слаломному маршруту. Детей и их товарищей я расставил в разных местах дороги, и, если они кричали, что я «заехал», я давал задний ход и повторял попытку.
Стояло жаркое лето середины 60-х годов. В первое воскресенье после покупки машины я откинул ее брезентовый верх, швырнул на заднее сиденье свитер и отправился в город. Недалеко от Вибенсхюс Рунддель меня обогнал желтый «фольксваген» с четырьмя молодыми пассажирами, и из открытого окна до меня донеслись несколько слов песни: «The world is at your command…»[15]
Я кивнул сам себе и поехал в центр. Передние колеса мягко прыгали по булыжнику, среди скопления светлых домов было жарко.
Из телефона-автомата на углу я позвонил домой.
— Бабушка звонила, — сказал мой младшенький.
— Позови маму.
Голос жены звучал издалека, когда она наконец подошла к телефону, придя из сада. Я слышал, как скрипели под ее ногами цементные крошки, занесенные с террасы, на полу прихожей.
— Ты где?
— Как раз это я и собирался сообщить. Я схожу в кино.
Она не спросила, на какой фильм. Наступила пауза.
— Ты еще что-нибудь хотел сказать?
Я тщетно пытался услышать хоть малейший признак недовольства в ее голосе.
— Да нет, — ответил я чуточку обиженно — просто не мог удержаться. — После кино приеду домой.
— Прекрасно, тогда до свидания.
И опять никакого раздражения. Снаружи стоял человек, ожидая своей очереди.
— Подожди, звонила мама?
— Да. Сказала, что они купили новый радиоприемник. Ей кажется, что их обманули. Он вроде плохо работает…
— О’кей. Я должен бежать, тут уже ждут…
— И еще — твоему отцу сильно нездоровится.
— О’кей. So long[16].
Я выбрал фильм «Изюминка на солнце». Он шел в кинотеатре «Дагмар» на самом раннем вечернем сеансе. Рубашка и тело еще сохраняли тепло летнего дня, но в зале было прохладно, и я начал мерзнуть. Сидни Пуатье играл старшего сына, который уже выбрал свою дорогу в жизни, семья недовольна, но это не меняет их отношения к нему — его любят по-прежнему. А он не может поступить иначе. Несколько раз даже ссорится с матерью. У него есть младшие братья и сестры. Один раз у меня подкатил комок к горлу, не помню, в каком именно месте, думаю, просто из-за общего настроения фильма. Потому что его герои были по-настоящему близкими друг другу людьми, и брат был настоящим братом, а сестра — настоящей сестрой, и пусть не во всем они были согласны, зато намерения у них всегда были самые добрые и чистые. Зло обреталось вне их семьи, в окружавшей их жизни, и они боролись с ним, придерживаясь собственных правил, помогавших им выжить. «Изюминка на солнце». Я уже не помню точно, что это значило. Но образ этот использовался в фильме. В одном из самых напряженных моментов кто-то говорит: «Я точно изюминка на солнце. Да в общем это и не важно. Когда-то ты был виноградиной, а теперь, сморщенная и липкая, лежишь не в пакетике, а all alone[17]под палящим солнцем где-нибудь на обочине».
В ресторан заходить не хотелось, хотя в одном из них наверняка сидел кто-нибудь из нашей конторы. Тогда это еще не было так широко принято, но в последние годы некоторые из моих ровесников уже начали вести более светский образ жизни. Новые веяния проникли и в другие сферы. Мой новый шеф — сорокалетний мужчина с сединой — был противником НАТО и сделал даже несколько антиядерных плакатов. Я и сам внес лепту в эту кампанию, раздобыв парочку хороших снимков. Фирма совершенно изменила свое лицо, если сравнивать ее с той, где я делал свои первые шаги. Белое вино вытесняло постепенно вечерний кофе и пиво, и никто не жаловался на дороговизну. У нас появился новый сотрудник, который, как говорили, имел обыкновение снимать на несколько дней номер в гостинице «Сковсховед» и, прихватив с собой девушку и ящик шампанского, выдавал оттуда по телефону свои идеи. Шефа это даже забавляло. Раньше подобные вещи были бы просто немыслимы. На столе у шефа лежал «Пентхаус», и он утверждал, что в этом издании можно почерпнуть много полезного. Я чувствовал себя как человек, отставший от поезда и не представляющий себе, как ему этот поезд догнать. Возможно, именно поэтому, идя по Скиндергаде, я видел перед собой ту самую изюминку на солнце.
Тогда я был молод, как мне теперь кажется, и все же у меня было отчетливое ощущение, с тех пор регулярно посещающее меня, что в моей голове слишком много идей и они никогда не дадут мне покоя.
Проходя мимо Пассажа Йорка, я вдруг опять увидел себя сидящим в одиночестве в каком-то загородном доме. То был мой давний сон наяву. И видение это было каким-то образом неизменно связано с лугом возле Квистгорда, недалеко от шоссе. Там вроде была лесная опушка и старый, низкий… да, пожалуй, это был крестьянский дом. Однажды я видел его; не помню, при каких обстоятельствах, однажды, много лет назад, наверняка я ездил туда с родителями. Вполне возможно, что там жил приятель моего отца, один из его друзей-художников. Так или иначе, во сне я сижу в этом доме и курю трубку. Стены, как и полагается, уставлены книгами. В окна с частым переплетом видны пламенеющие мальвы. В комнату проникают приглушенные лучи багрового солнца, высвечивая вьющийся из трубки дым. Я медленно опускаю книгу на колени и обдумываю, не сходить ли мне за дровами. В доме я совсем один. В этот момент картина меняется. Теперь я нахожусь вне дома и вижу его перед собой, как на экране телевизора. С той только разницей, что экрана нет и изображение не имеет границ. Картинка отдаляется с протяжным свистом, напоминающим свист, издаваемый при запуске ракет с мыса Канаверал, или звук рушащейся дымовой трубы на старой фабрике. Солнце светит прямо на дом, и на стекле беззвучно хлопающего окна играют солнечные блики. В это мгновение камера замирает — и дом взлетает на воздух. Кругом огонь и дым (все происходит беззвучно), над местом пожара набухает огромное иссиня-черное облако, оно разрастается, отрывается от земли и устремляется, как потерявший контуры шар, в синеву вечернего неба. Когда передо мной возникает это видение, я, как правило, словно отключаюсь от действительности и могу, например, налететь на уличный фонарь или забыть, зачем я звонил, и, услышав ответ на другом конце провода, мне приходится вешать трубку. В остальном же этот сон наяву не причиняет мне особого беспокойства.
На том отрезке Скиндергаде, по которому я шел, не было, к счастью, фонарей, да и видение длилось, я думаю, каких-нибудь две-три секунды, хотя и показалось значительно длиннее, так что я в целости и сохранности добрался до автомобиля и обрадовался, услышав шум заработавшего двигателя.
Доехав до Вибенсхюс Рунддель и остановившись на красный свет — в ожидании зеленого у предыдущего светофора я натянул на себя свитер, — я развернулся под сердитые гудки задних машин, поскольку разворот в этом месте запрещен, и поехал обратно. В затылок мне возмущенно мигали передние фары ехавших за мной автомобилей.
Я уже успел снять свитер, и тут из комнаты отца раздался необычный звук.
Когда я позвонил в дверь, мать слушала радио, раскладывая пасьянс, и курила свою двадцать вторую сигарету. Она имела обыкновение вообще не вынимать сигареты изо рта без крайней необходимости, ну, например, если окурок обжигал губы или, шипя, гас в слюне.
— Вот, посмотри сам, — сказала она, отдирая окурок с нижней губы, на что потребовалось некоторое время, чтобы не содрать кожу. — Работает из рук вон плохо. — Она покачала головой, как будто новый приемник был еще одним подтверждением того, что «что-то» в мире идет не так, как нужно.
— А как у них дела? — спросил я, желая отвлечь ее от купленного отцом дешевого приемника в бакелитовом корпусе, который красовался на столике красного дерева вместо старого массивного Телефункена.
— У них так, как и следовало ожидать, — ответила она и смешала карты. — Отец сказал, что-то там не в порядке с молоком. А все потому, что она чересчур много работает. Мне так кажется. Нельзя гнаться за двумя зайцами.
— Ты тоже работала.
— Это совсем другое дело. И время было другое, и помогали нам. Она слишком нервная. И курит непомерно много. Когда отец их навещал, она и при нем курила, — добавила мать и посмотрела на меня поверх очков.
Дверь в столовую была закрыта. Ложась спать — они спали в разных комнатах, — отец обычно открывал ее. Якобы воздуха не хватало или было слишком жарко. Иногда летом — я был тогда молод, — приходя домой под утро, я заставал отца врасплох. Он сидел на том стуле, на котором сидел сейчас я, и через открытую дверь заглядывал в столовую. Окна этой комнаты выходят на восток, и первые горизонтальные лучи солнца слепили его, высвечивали табачный дым, обои и картины на стенах. Распахнутые створки окна хлопали на ветру, отец курил свою привычную половинку сигареты. Гладкая прядь свисала на лоб, а на затылке волосы стояли дыбом. На нам был старый халат в пятнах ржавчины.
— Это ты? — обычно бормотал он, когда я, стараясь не шуметь, пробирался через столовую.
— Я, папа.
— Неужели нельзя ложиться спать вовремя…
А зимой на пол столовой ложились пепельно-серые лунные квадраты, и мы не осмеливались на них наступать.
Как только я переступил порог отцовской комнаты, он с силой перекатился на другой бок, лицом к стене. Еще до этого он, очевидно, ударился головой о тумбочку, из ранки на виске сочилась кровь. Вдруг тело его медленно начало заваливаться на спину. Бледный лоб, блестящий от пота, с прилипшим клоком черных волос, приобрел легкий свинцовый оттенок.
— Нет, только не это, — вырвалось у меня.
Глаза его были закрыты. Он умер во сне, и мне показалось, что лицо его приобрело какое-то детское выражение. Он уже начал холодеть, я почувствовал это, взяв его за руку, чуть повыше кисти. Рукав пижамы задрался, обнажив татуировку — три круглых пятнышка, посеревших и расплывшихся от времени. А может, это был просто холодный пот.
Я поправил абажур ночника. Он съехал набок, и лампа отбрасывала мертвенный свет на стену, где висел портрет моей бабушки. Она смотрела на нас из-под полей большой шляпы с несколько критической улыбкой. Я услышал, как за стеной закашлялась мать, подошел к двери, по возможности естественно прикрыл ее, чтобы мать не заподозрила неладное, вернулся обратно и присел на узкую кровать отца. Мне хотелось побыть с ним немножко и подумать, что же делать дальше, но в голове было пусто. И вдруг в мозгу возникли слова — всего на долю секунды — «изюминка на солнце», и сразу хлынули скопившиеся в глазах и горле слезы, которые я сдерживал, сколько мог, чтобы не услышала мать.
Когда кто-нибудь умирает, время останавливается, а потом начинает нестись еще быстрее. Приходят незнакомые люди, занимаются какими-то делами. Так было, по крайней мере, в тот вечер: врач, что-то пишущий на краешке стола, могучего сложения дама в бело-синем наряде, снующая с тазами и простынями. Мать сидела на стуле, один глаз у нее безумно сверкал, и это выражение, предвещающее катастрофу, было памятно мне с детства. Глаз казался совсем белым, и не из-за косоглазия, просто он как бы светился изнутри. Она сидела, широко расставив ноги, закрытые серой юбкой со следами пепла, и напоминала брошенную куклу. Меня поразило, что она не плакала, хотя я, конечно, меньше всего желал бы видеть ее слезы. Я думал, насколько они всегда были близки друг другу, пусть даже не в том особенном, сокровенном смысле этого слова, который в моем сознании был связан с определенной свободой и покоем. Они срослись, как два одиноких деревца.
Долгой совместной жизни, размышлял я, когда-нибудь обязательно приходит конец — либо семья распадается, либо остается этот другой вариант. И мне хотелось от нее отнюдь не каких-то особых знаков внимания к покойному, чтобы она, скажем, зажгла свечу или поставила на стол его фотографию. Я уже не помню отчетливо, какие чувства меня тогда обуревали, знаю только, что разозлился, обнаружив, что она скорее растерянна, чем убита горем. Кажется, она все-таки была у него в комнате, но к кровати не подошла, лишь неотступно туда смотрела. Я наверняка несправедлив к ней, потому что лицо у нее было пепельно-серое, и она забыла, что во рту у нее горящая сигарета, и зажгла новую. Но после того, как все ушли — врач и остальные, — злость моя начала перерастать в гнев. Мать принялась хвалить отца. Говорила о нем такое, чего я прежде никогда от нее не слышал. Я и теперь, как и в юности, легко прихожу в бешенство и часто набрасываюсь на мать. Порой она представляется мне похожей на глухую стену, — сложенную из чего? — я считал, из глупости. Но я ведь знал, что передо мной стена, способная выдержать любой натиск, — так к чему тратить зря силы? И тем не менее я упрямо бросался на этот бесполезный штурм, не надеясь на успех и лишь давая выход своему гневу — до следующего раза. Я не могу сказать, каким образом сложился этот стереотип, которому я с такой легкостью поддавался и от которого не в состоянии был избавиться. А может быть, в этом нет ничего необычного. Человеку ведь всегда хочется, чтобы его сомнительные качества носили оттенок заурядности, а положительные стороны его личности имели бы характер исключительный и редкий.
— Он был вообще-то такой… милый, твой отец.
— Конечно, мама.
— И может быть, если бы мы не…
— Возможно, но не будем сейчас об этом. Тебе надо лечь. Я останусь ночевать. Подумай, кому нужно позвонить, а я пойду к отцу.
Я испытал настоящее потрясение. Отцу подвязали подбородок. Белая полотняная повязка, из-под которой в беспорядке выбивались волосы, была стянута узлом на макушке, большие кроличьи уши стояли торчком. Нижняя челюсть криво прилегала к верхней, отчего на лице у него застыла странная усмешка — наглая и в то же время по-детски мягкая. В изголовье — гора подушек, и потому голова неестественно круто вздымалась над одеялом. Я пробыл у отца не больше минуты. Он уже перешел в иные сферы. Казалось, будто его подвергли чудовищной операции по промывке мозгов, что в общем-то соответствовало действительности — в определенном смысле. Постель, сияющая белизной, без единой морщинки, выглядела так, словно он никогда в ней не лежал, словно она не имела к нему никакого отношения. Руки — на животе, каждая сама по себе. Я дотронулся до них кончиками пальцев — скорее для порядка, и вышел.
С матерью мы больше не разговаривали. Немножко убрались, опорожнили пепельницы, и я позвонил домой. Разговор был краток, поскольку я безумно устал. Раскладушку мне поставили в столовой, в той самой угловой комнате, лунной комнате. Если что и может причинить мне страдания, так это короткая и узкая кровать. Когда я улегся, подложив руки под голову, локти свисали с краев моего ложа, а пальцы ног торчали сквозь прутья решетки. В окно светила летняя луна, на улице постепенно замирала жизнь. Когда-то здесь, под откидной лавкой, прятали коробки с рождественским печеньем и открывать их запрещалось. В некоторые печеньица добавляли изюм, и мы любили их обкусывать с разных сторон, добираясь до изюминок, похожих на крошечные айсберги.
В прихожей валяются детские вещи, двери нараспашку. Бенедикт сидит в комнате за письменным столом, задумчиво ероша волосы.
— Вот так-то, — сказал я, присаживаясь на краешек стула. — Где дети?
— Гуляют. Как там? — Утром я говорил с женой еще раз и просил ее позвонить в контору.
— Так себе. Не может никак привыкнуть.
— Еще бы. — Бенедикт отложила карандаш и загнула уголок страницы.
Мы отправились на кухню завтракать. Бенедикт приготовила бутерброды и для детей, разложив их на тарелке в форме звезды. Я поглощал свои бутерброды в том же темпе, в каком их делал, и поэтому, когда я закончил трапезу и вышел, на столе оставался один-единственный бутерброд с сыром.
Мы устроились на солнце, глаза у меня слипались — мне ведь так и не удалось как следует поспать этой ночью.
— Детям я все рассказала. Они восприняли это весьма спокойно. Больше всего интересовались, можно ли им будет пойти на похороны.
— Естественно. Но я могу уточнить.
— И еще спрашивали, привезут ли малышку. Я сказала, что вряд ли. Им хочется поскорее увидеть ее.
Бенедикт жевала, неторопливо, сосредоточенно, жмурясь на солнце. Потом отставила тарелку, закатала рукава и оттянула вырез блузки, давая доступ солнечным лучам. И тут на меня навалилась усталость, я даже был не в состоянии проглотить последний кусок бутерброда. Я распустил ремень, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
— У нас есть пиво?
— Кажется, только портер.
— Устал как собака. А уснуть не могу.
— Как обычно, — дружелюбно откликнулась жена.
— Почему это?
— С тобой ведь такое часто бывает, разве нет?
— Часто? Не знаю. Отец не каждый день умирает.
— Пойди и ляг.
Я последовал ее совету. Не раздеваясь, забрался под одеяло и, прислушиваясь к биению сердца под простыней, смотрел на обои в цветочек — когда-то я сам их выбирал. Цветочки-близняшки молча таращились на комнату, точно не понимая, как они тут оказались.
Да, тогда я был молод. Деревья в нашем предместье выросли, затенив террасы, и садовая мебель поблекла, как того и следовало ожидать.
На столе у нас появилось белое вино, и мы с увлечением занимались поисками самых лучших марок среди относительно недорогих сортов. По ночам мы провожали до калитки друзей и мерзли в легкой одежде, дожидаясь, пока не скроются за углом фары их велосипедов. Я перешел работать в другую фирму и не жалел об этом. У меня появилось больше забот, о которых нужно было помнить, поэтому нередко рано утром я усаживался с сигаретой в столовой и записывал то, что предстояло сделать в течение дня. Просыпаясь потом через два-три часа крепкого сна и обнаружив на столе свой список, я приходил к выводу, что кое-какие дела были совершенно необязательны. День должен был быть заполнен до отказа, зато остальные обитатели дома из этих списков мало-помалу исчезали. Для них не хватало места. И однажды не хватило места и для меня самого.
Я забыл чековую книжку и был вынужден вернуться. Навстречу неслись автобусы, похожие на неуклюжих рычащих животных, город представлялся какой-то необозримой пятнисто-серой враждебной массой, сквозь которую мне предстояло пробиться еще раз. Вчера, идя по улицам, я чувствовал себя на голову выше всего, что меня окружало. А сейчас паутина бессонницы затянула глаза, мышцы свело, и хотелось обругать каждого встречного. Еще ночью я отказался от мысли попасть утром в бассейн.
— Ну что, у тебя один из тех самых дней? — спросил Кристиансен, когда я спустился вниз и положил ключ на стойку. Он всегда задает один и тот же вопрос, если я выхожу раньше обычного. Он взял ключ одной рукой и телефонную трубку — другой.
— Отель «Гарден», добрый день.
Я жестом показал ему, что пошел завтракать, если кто-нибудь будет звонить. Кристиансен понимающе кивнул и, прижимая плечом трубку, протянул мне газету. У нас как раз шла довольно глупая тяжба с одним из наших клиентов. Он считал, что мы не уложились в срок. Мы так не думали, но у меня было чувство, что наши шансы слабее, ибо я, кажется, «дошел» до того, что перепутал числа, и теперь опасался, не заинтересовались ли этим делом газеты. Естественно, нет. Я сложил газету и принялся за кофе, безуспешно пытаясь поудобнее устроиться на стуле.
Как-то, еще учась в школе, я сказал учителю математики, что домашнее задание приготовил, только тетрадь дома забыл. По-моему, ты вполне успеешь до звонка сходить за ней и вернуться обратно, ответил он, и я не понял, говорил ли он серьезно или испытывал меня. Тем не менее я отправился домой. Задания я, конечно, не сделал. Я шел привычной дорогой в необычное время, и Тиетгенсгаде казалась мне длинным тоннелем, трубой с избыточным давлением, все было другое — и тени, и машины. Я представил себе, как выводят к мачте совершившего преступление матроса с завязанными глазами. Я не только совершил преступление — но и сам завязал себе глаза.
Я уже прошел несколько кварталов и лишь тогда удосужился вытянуть листок с записями, чтобы посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь купить по дороге на работу. Это был один из старых листков, где кое-какие пункты были вычеркнуты, но еще оставались дела, которые я не успел сделать вчера и позавчера… Так и есть, зайти в химчистку. Чековая книжка!
Дверь за мной захлопывается, я иду через вестибюль и сразу же замечаю, что в моей ячейке что-то лежит, косо прислонившись к стенке, в гостиницах так обычно кладут письма. Вместе с ключом мне вручают конверт, и я запираюсь в своей угловой комнате на четвертом этаже с видом на площадь.
Я открываю конверт — отправитель не указан, адрес написан старческой рукой, — и из него падает пачка фотографий. Снимки старые, некоторые изогнуты, как ломтики сыра, долго пролежавшие на солнце. Целая пачка фотографий и письмо от Вильхельмины, тетушки Вильхельмины. Она нашла их в дядином потайном ящике. Их никогда не вынимали оттуда, поскольку отношения между моим отцом и его братом были весьма натянутые, пишет она. Там есть фотография моей матери — не совсем анфас, но глаза смотрят в камеру, и в одном — беловатое пятнышко. А вот маленькие снимки моих брата и сестры и меня самого, сделанные аппаратом «стелланова». Мне кажется, я не похож на ребенка, хотя тогда мне было, наверное, около трех лет. Я похож на сморщенное существо из другого мира, может быть, на гнома, с чувственным лоснящимся старческим ртом, и я не могу удержаться от смеха. И отец на фотографии тоже не может, он сидит на корточках, приготовившись прыгать через верстовой камень. Он похож на ребенка.
ФОТОАППАРАТ
© Gyldendal Publishers, 1983.
Навстречу ему, освещенная солнцем, шла женщина. Это была его дочь.
Он припарковался, но, как всегда, оказалось, что у него нет однокроновых монет для счетчика. Служащая банка, покачивая головой, разменяла ему деньги, но особого неудовольствия при этом не выразила. Он заглянул в машину и выудил из перчаточного отделения фотоаппарат, отказавшись от мысли навести порядок на заднем сиденье, заваленном грудой пакетов и одежды.
В тот день, когда он купил машину и хозяин фирмы доставил ее — новенькую и сверкающую (тогда этот человек, помнится, почему-то ужасно спешил и уделил ему гораздо меньше времени, чем во время покупки), он решил содержать свой автомобиль в образцовом порядке. С тех пор прошло всего несколько месяцев. И он вспомнил об этом решении лишь теперь, когда попал в Хельсинге и у него выпал час свободного времени, поскольку он быстрее, чем рассчитывал, сделал нужные ему снимки.
Он купил жетон (мойка № 8), поставил автомобиль на платформу, всунул жетон в щель автомата, и, убедившись, что аппарат заработал, прошел в магазинчик. Продавщица в белой майке с названием фирмы поперек груди вместе с ним порадовалась хорошей погоде. Издали доносился шум моечного автомата, под навесами из алюминия и пластика над бензоколонками сновали ласточки, и он поделился с девушкой за прилавком своим недоумением по поводу такого непонятного поведения птиц. На этом разговор и закончился, он поблагодарил, взял покупки — таблетки «сорбитс» и газету «Экстра блад», повесил на плечо фотоаппарат и, выходя, украдкой скользнул взглядом по обернутым в целлофан порнографическим журналам, разложенным на полке под прилавком.
Автомобиль понуро, как побитая собака, стоял в моечном зале. Подача воды была отключена, щетки методично обрабатывали поверхность. Он включил зажигание и выехал на солнце. Машина потускнела, точно по ней с механической основательностью прошлись наждаком.
Ему надо было быть в городе через три четверти часа, и он успел бы только зайти в магазинчик, позвонить и рассказать о том, что произошло, — девушка-продавщица наверняка бы не поняла, о чем идет речь, — и дать понять, что он бы хотел вернуться к этому вопросу. Но ничего этого он не сделал. Ибо когда еще представится возможность — до выхода на пенсию — провести день в Хельсинге?
Навстречу шла женщина в мешковатых брюках на полных, низких бедрах и туфлях без каблука. Сверху на ней были надеты несколько рубашек, жилетка и куртка. Он узнал Нанну.
— Привет, папочка! — воскликнула она, чмокнула его влажными губами в щеку и погладила по плечу. — Как дела?
— Спасибо, хорошо. А что ты здесь делаешь?
Они зашли в кондитерскую поблизости, и он подумал о том, что, расплачиваясь, надо не забыть попросить сдачу однокроновыми монетами.
— Я искала работу.
— Ты же работаешь.
Она сняла парочку кофт. Одну из них он вспомнил. Это была рубаха с пуговицами впереди, которую он когда-то прихватил с собой, выписавшись из больницы. Воспоминание на мгновение развеселило его. Им тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы выставить его вон. Он довольно долго симулировал неполадки с желудком, якобы возникшие после операции, пока его случайно не застигли в туалете этажом ниже.
Дочь, как ему показалось, побледнела, но на ее лице по-прежнему иногда появлялась та странная детская улыбка — одним уголком рта, которую он так любил. Она закурила.
— Разве тебе не нравится твоя теперешняя работа? Кстати, где это?
— В доме для престарелых, ты же знаешь.
— Ну, разумеется, но где он находится? — поспешил он добавить.
— В Вэрлёсе. Обстановка там ужасная. Вчера мне пришлось одной чистить картошку, потому что напарница не явилась — и даже не позвонила. Сплошные скандалы, и к старикам нас не подпускают. По-моему, это неправильно. Нам не разрешают даже относить им наверх еду. Домой я пришла на два часа позже. Ни в какие ворота не лезет. Не хочу больше.
Она стряхнула пепел в пепельницу. Между ними возникла какая-то неловкость, и это мешало ему сосредоточиться на мысли о том, как ей помочь. Если она вообще нуждалась в помощи. Откуда ему было знать? Он проверил, на месте ли фотоаппарат, который он повесил на спинку стула.
Отца и дочь связывали долгие годы, проведенные под одной крышей, ее жизнь укладывалась в них целиком, и они, каждый по-своему, были открыты друг для друга и потому осторожны. Он знал, что бывал суров с ней, когда она была ребенком, и как-то раз даже напугал ее по-настоящему. Знал он также, что если и не все, то многое в их отношениях уже упущено. И от этого им никуда не уйти.
— Папа, ты не был вчера в Фэллед-парке?
— Нет.
Однажды они встретились в Фэллед-парке. Он стоял, облокотившись на свой велосипед, и слушал доносившуюся с эстрады музыку. Вокруг на подстилках расположилась молодежь. Кое-кто танцевал. За спиной у него пускали летающие тарелки, а люди постарше завтракали на траве. Она подбежала к нему. Оба смутились, ему не хотелось идти к ее друзьям, но он поцеловал ее.
— А мы были. Все наши — Мартин, Трю, Стрессен и Ладда. И я. Ничего особенного.
— А Дэвид? Он не был с вами?
— Нет, он неважно себя чувствовал. Опять начал колоть антабус.
— Он нашел работу?
— Найти-то нашел, да его выставили. Они же не могут держать человека, который то и дело исчезает.
— Да, ну тут уж винить некого, — сказал он и украдкой взглянул на часы.
— Конечно, а я и не виню.
— А где он сейчас?
— Дома.
Он посмотрел в окно. Солнце освещало здание банка. Распахнулись двери, и из банка вышел его шеф в сопровождении представителя другой фирмы. Видимо, они спешили и поэтому остановили такси. До того как двери захлопнулись, он успел мельком увидеть женщину, менявшую ему деньги. Она руками расправила платье и лишь потом уселась на свое место за перегородкой.
— Черт знает что. Так дальше продолжаться не может. Значит, он просто слоняется без дела целыми днями?
— Иногда в кино ходит.
— Вот как.
— Он хорошо ко мне относится.
— Уже кое-что.
— Очень много.
Разговор зашел в тупик. Нужно срочно сменить тему, иначе они рискуют вновь оказаться у той черты, переступать которую было нежелательно.
— Возможно, но когда-нибудь ты все-таки должна заняться чем-нибудь, что…
— Папа…
Он чуть отодвинулся от стола, как обычно делал его отец, покончив с едой. Фотоаппарат ударился о ножку стула.
— Я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду. Мне и самой хотелось бы получить образование. Но не теперь. Я хочу уехать. Скопить денег на путешествие.
— Путешествовать можно и летом.
— Да я вовсе не о каникулах говорю. Мы с Грю собираемся поехать в Южную Америку. У нее там двоюродный брат. В Боливии.
Планы дочери приводили его в такое же замешательство, как и те задания, которые он получал на работе: попытайся сфотографировать новые молочные пакеты так, чтобы на заднем плане была пашня, а в середине — корова. Чаще всего он был не в состоянии зрительно представить себе идеи, приходившие в голову его шефам. Он сдвинул очки в стальной оправе на лоб и, теребя уголок салфетки, произнес:
— Я… — Он еще раз обдумал свою мысль и наконец решился: — О’кей, я, пожалуй, смогу немного пополнить вашу кассу…
— Ой, как здорово! — Она подняла глаза от тарелки с пирожными и уселась поудобнее…
— …на одном условии.
— Каком? — Она вся напряглась, уголок рта ожидающе изогнулся.
— Откровенно говоря, я считаю, что тебе… следует порвать с Дэвидом.
Ну вот, они и оказались у черты, к которой неизбежно должны были подойти.
Она встала.
— Не желаю слушать эти глупости, — сказала она тихо, почти про себя.
— Перестань! Ты ведь знаешь, что я хотел сказать.
— Не желаю. Неужели ты не можешь этого понять? — В глазах у нее стояли слезы.
Она взяла со стола сигареты и зажигалку.
— Я пошла.
Две дамы — одна, несмотря на жару, в меховой шляпке — с интересом следили за происходящим. На мгновение у него возникла мысль сфотографировать их. За окном, освещенная солнцем, торопливо прошла его дочь.
Покончив с писательницей — у нее царил ужасающий беспорядок, и вообще не стоило тратить на нее время, но пришлось — заказ одной шведской газеты, — он свернул на Вестербругаде и припарковался. Отыскал цветочный магазин, купил шесть тюльпанов и вошел во двор, где был всего один раз — когда дочь переезжала и ей потребовался автомобиль.
Табличка на двери представляла собой деревянную пластинку, на которой вязальной спицей была точками выжжена фамилия дочери. Трогательные сердечки и веточки обрамляли буквы. Дверь открыл Дэвид.
— Привет, она там. — Он мотнул головой.
По дороге в комнату Дэвид загасил окурок в пепельнице, стоявшей на этажерке. Этажерка обреталась на том же месте, куда он поставил ее при переезде. На стене он заметил свою старую фотографию. Волосы аккуратно подстрижены, на носу очки-оглобли. У него был вид человека женатого на даме из банка, менявшей ему деньги.
— Хорошо… что ты пришел, — всхлипывая, сказала дочь, закрыв лицо руками. Он вспомнил, как она плакала, когда была ребенком, и ощутил такое же бессилие, бессилие, смешанное с сочувствием и неприязнью.
— Чем я могу тебе помочь?
— Ничем.
Он сдвинул грязную одежду, валявшуюся на диване, сел рядом с дочерью и тронул ее за плечо. Из кухни донеслись звуки воды, наливаемой в чайник.
За свою жизнь он навидался плачущих людей, и не всегда он один был причиной их слез, хотя — теперь он понимал — именно этого ему и хотелось. А добившись желаемого, он становился холоден, и попытки примирения, обычно кончавшиеся депрессией, еще больше отделяли их друг от друга. Но сейчас дочь плакала всерьез, и, что самое ужасное, он не имел ни малейшего отношения к ее слезам.
Поэтому, когда она вдруг начала смеяться сквозь слезы, он испытал облегчение. Она справилась сама. Без его помощи.
— Ну вот, все и прошло! — улыбнулась она. — Дэвид, сделай нам чай!
— Уже готово!
— Сынок, иди-ка сюда! — позвал он, откинувшись на спинку дивана.
Замызганные джинсы Дэвида соскользнули вниз и воротником легли ему на плечи. Он сидел, стараясь припомнить, спрятал ли он фотоаппарат в отделение для перчаток или же оставил его на сиденье, и гадал, оштрафуют ли его за стоянку в неположенном месте.
— У тебя есть братья и сестры? — спросил он Дэвида, который как раз вошел в комнату и уселся на пол.
Дэвид показал растопыренную пятерню. Пятеро! Трое в Америке, двое во Франции. And here am I[18]. Дэвид говорил с мягким, сонорным акцентом. Те два-три раза, когда ему пришлось общаться с Дэвидом, они забавы ради переходили на английский.
— Want some, pop?[19] — Дэвид свободной рукой протянул ему чай и пододвинул керамический чайник. Другой рукой он обхватил лодыжку Нанны.
— Что же ты совершил за свою долгую жизнь, сынок?
— You name it![20] Насколько я понимаю, ничего. Можно сказать, только и делал, что переезжал с места на место. Сперва с отцом, потом с матерью.
Он заметил, как начал нервничать Дэвид, осознав, что взятый ими легкий тон не удержать. Возникла пауза, он лихорадочно пытался придумать какой-нибудь шутливый, ни к чему не обязывающий вопрос, который не был бы неприятен Дэвиду. Ничего путного в голову не приходило. Он поднял с пола книгу и протянул ее Дэвиду.
— Читал? — Это был «Властелин кольца». Дочь получила когда-то эту книгу в подарок от матери.
— Не-а, — ответил Дэвид. — Зато вот это читал! — Он взял из стопки комикс и поднял над головой таким жестом, точно состоял в секте «Свидетели Иеговы». — Тридцать раз! — добавил он без тени улыбки. — А ты читал?
— Нет, — ответил он, смеясь. — Я и не знал, что у нас такое можно купить.
— You certainly can[21]. Отвергая подобную литературу, ты обманываешь самого себя. Нужно иметь мужество быть откровенным.
Все трое рассмеялись.
— Не бери в голову, папа, — сказала его дочь снисходительно. — Он просто дурачится.
Прощаясь с ним, они стояли в дверях, обняв друг друга за талию. Прежде чем сесть в машину, он купил в ближайшей закусочной два пакета с разными деликатесами, вернулся обратно и положил их на то место, где должен был бы лежать коврик. Потом позвонил и, быстро сбежав по лестнице вниз, замер. Дверь не открыли.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ