СЫН ЛИТЕЙЩИКА

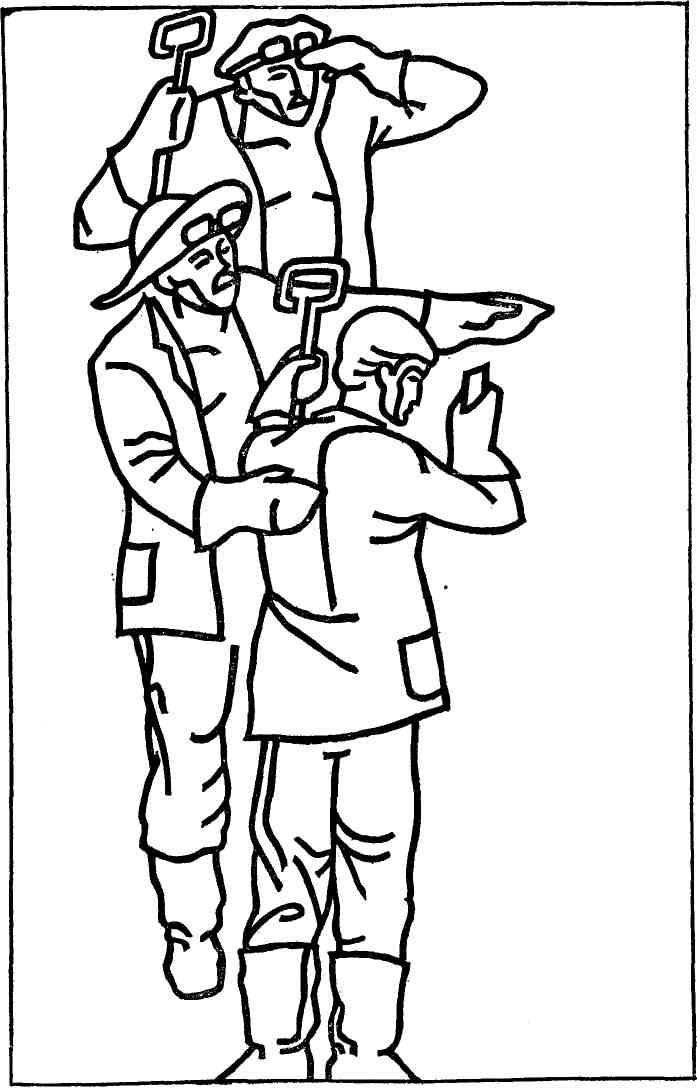
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
ЗМЕЕЙ УЖАЛЕННЫЙ
В свой черный день человеку свойственно думать о самом прекрасном, что было в его жизни. И тогда лучи минувших светлых дней разгоняют мрак, заполнивший его душу. А что самой яркой, светозарной звездой всегда сияет в памяти человека? Любовь. Она живет в сердце до той поры, пока оно не перестанет биться. Жизнь без нее мрачна и неинтересна. Не потому ли человек так бережно хранит память о любви, единственной, неповторимой…
О чем только не передумал за последние дни Арслан. Но лишь думы о Барчин, о давно-давно минувших днях, подаривших им радость знакомства и первых встреч, приносили ему малую долю облегчения.
В одной из комнат опустевшей квартиры, где вот уже несколько дней царит тоскливое безмолвие, на старенькой бекасамовой курпаче[26], постланной прямо на пол, в глубоком раздумье лежит Арслан. Много пережил он за эти дни, осунулся, нос его еще более заострился, виски, присыпанные сединой, запали, а под глазами пролегли тени. Вокруг разбросаны газеты, рядом пиала с остывшим чаем.
Крупная муха беспрестанно бьется о стекло, ошалело носится по комнате и вновь наскакивает на окно так злобно, будто намерена вдребезги разнести невидимую преграду и вырваться наружу. Назойливое жужжание этой твари несносно действует Арслану на нервы. Встать бы да прихлопнуть это проклятое насекомое или, на худой конец, открыть форточку. Но не хочется даже пошевелить рукой. Все тело налилось свинцом. Он чувствовал себя так, будто повержен тяжким недугом.
На столе, что посредине комнаты, полбуханки хлеба, алюминиевый чайник, пачка сахара, из которой высыпалось несколько кусочков. В комнатах давно никто не прибирал. С того дня, как ушла Барчин, Арслан ни разу не зашел ни в спальню, ни в свой кабинет. Временами ему чудилось, что он не в собственной квартире, а на необитаемом острове, один-одинешенек в целом свете. Этот простор, простор трехкомнатной секции, где он остался теперь один, угнетал его.
Муха села на кусок сахара. Арслан свернул газету. Но не успел подняться, как эта прегадкая тварь, с утра изводившая его, взлетела и с размаху ударилась об оконное стекло. Арслан хлопнул газетой. Удовлетворенный своей маленькой победой, он вновь вытянулся на курпаче. И опять навалились тягостные думы. Может, выйти прогуляться?
Арслану припомнился случай, поведанный некогда матерью. Ее постигло какое-то горе. Погруженная в беспросветную печаль, она возвращалась как-то из загородного сада. Проходя мимо холма Кургантеги, она увидела на обочине пучок скатавшихся хворостинок. Она подобрала этот пучок и перекинула через левое плечо, подумав при этом: «Пусть все мои горести и печали развеются, как эти былинки по ветру!» И на душе у нее посветлело. Найти бы и Арслану волшебную штуковину! Но нет, слишком велика печаль Арслана. Она представляется ему беспорядочным нагромождением огромных скал, она видится ему непреодолимой сказочной горой Кухи-Каф. Ему кажется порой, что стоит он над бездной, — был бы птицей, перелетел.
Какие муки испытывает человек, ужаленный змеей? Арслан уверен, его муки страшней. Если бы Арслана ужалила змея, он лечился бы снадобьями из трав и в конце концов избавился бы от недуга. Но не змея всему виной. Недаром говорят, что слова, слетевшие с языка недоброго человека, жалят больнее гадюки. И нет от этих страданий целебных трав.
Арслан распахнул окно и закурил.
На лестничной площадке что-то глухо стукнуло, и тотчас раздался пронзительный плач ребенка. Арслан бросился к двери. На площадке третьего этажа плакал Бабур, трехлетний соседский сынишка. Арслан подхватил его на руки, стал утешать. На лбу у мальчика появилась багровая шишка. Арслан поцеловал его в лоб, вернулся в комнату и принялся расхаживать из угла в угол, приговаривая ласковые слова. Пошарив в ящике кухонного стола, нашел карамельку. Бабур перестал плакать. Жаль, что в доме нет ни одной игрушки, которой можно было бы развлечь малыша. Арслан снял с чернильницы блестящую металлическую крышку и стал стучать ею о мраморную подставку. Переливчатый звон заинтересовал Бабура. Он с любопытством посмотрел на дядю и улыбнулся. Потом потрогал шишку на лбу и показал рукой в сторону наружной двери:
— Больно… Там… ступенька…
— А вот мы ее сейчас!
Арслан вышел с ребенком на руках на лестничную площадку и несколько раз топнул ногой по ступеньке, приговаривая:
— Вот я тебя! На, получай! Ты зачем нашего Бабура обидела?
Проделки дяденьки-соседа, видимо, чрезвычайно понравились мальчику. Он развеселился и стал проситься в комнату, где осталась блестящая крышка чернильницы. Арслан усадил его на стол и, расположившись напротив, стал беседовать с ним, как со взрослым.
Вскоре снаружи послышались чьи-то шаги. Арслан, решив, что это, должно быть, отец Бабура, взял мальчика на руки и поднялся на четвертый этаж. Постучал. Дверь была открыта, но никто не откликнулся.
— Джамшидбек! Эй, Джамшидбек! — позвал он.
Было тихо.
Он впустил Бабура в комнату и стал спускаться по лестнице. На том самом месте, где мальчик ушибся, он повстречал запыхавшуюся Махсудахон.
— Я отнес Бабура, а там что, никого нет?
— Здравствуйте. Я ищу его, с ног сбилась, — сказала молодая женщина. Несмотря на то что родила четверых детей, она была ладной и обаятельной. — Ну никак не сидится ему дома. Стоит отвернуться, как он тут же исчезает. Прогулки с четвертого этажа вниз для него развлечение, а мне хлопоты.
— Мой друг Бабур малость расстроены. Они упали и набили на лбу шишку, — шутливо сообщил Арслан. Теперь-то уж, когда малыш успокоился, можно и пошутить.
— Ах, вон оно что?! — всплеснула руками Махсудахон.
— Вы уж не ругайте его. Он молодец, настоящий джигит.
— Не защищайте. Я так перепугалась, обнаружив, что его нет дома. Сейчас я ему задам…
— Ну, зачем же так? Не забывайте: Бабур — царь Мавераннахра.
Они рассмеялись. Женщина заспешила к себе.
Всякий раз, когда встречал эту женщину или ее мужа Джамшида, Арслан чувствовал себя неловко. Более года прошло с тех пор, как они оба были у него на приеме в райисполкоме, и он тогда заверил их, что они получат новую квартиру. Но не успел для них ничего сделать. По-прежнему теснятся они в двух комнатах, но молчат, не попрекают.
Арслан медленно спустился на свой этаж и, зайдя к себе, притворил дверь. И опять словно отгородился от всего сущего толстыми стенами. Снова навалились тяжелые думы…
«Говорят, в давние времена это было. Человек приручил рыбку. И куда бы ни пошел, повсюду, как талисман, была с ним рыбка. Однажды, когда человек проходил через мост, рыбка выскользнула в воду…
Я лишен должности. Ну и что же? Разве все время я был председателем райисполкома? Разве на моих ладонях никогда не было трудовых, благородных мозолей? Разве я и теперь не буду принят в дружную рабочую семью — в родной коллектив завода? Так чего же я волнуюсь? Завод — моя стихия. Я не отвык от нею. Втайне я всегда тосковал по заводу, как по воде та рыбка».
Арслан подошел к окну. А город-то живет полнокровной жизнью. Среди сочной зелени виднеются красные, серые крыши домов. И солнце ласково светит людям. По улице снуют машины. Тротуары подобны муравьиным дорожкам: люди спешат невесть куда, каждый чем-то озабочен.
Нет, Арслан не боится лишиться должности. Все это время, пока он был на руководящей работе, руки его тосковали по настоящему делу, которым, как он считал, был занят лишь на родном заводе. Скучал по заводскому шуму, по ребятам, с которыми не один пуд соли съел.
Только не хотел Арслан остаться побежденным, потому что чувствовал, что прав. А можно ли добровольно уступать позиции? Нет, нельзя.
Сохранять хладнокровие в тягостные минуты жизни, верить в свою силу, правоту — эти качества не наследуются. Они обретаются в борьбе, исход которой зависит от твоей подготовленности и присутствия духа в решающие минуты.
Перед мысленным взором возникло отвратительное, круглое, лоснящееся лицо. Мокрая губа насмешливо оттопырена, а сузившиеся в щелки глаза будто говорят: «Пусть все теперь знают, каков ты есть! До скончания века своего не сможешь ходить с поднятой головой! Ты, глупец, схватился с нами, вот и пожинай плоды! Ты повержен! Твои же друзья станут презирать тебя! Точно паршивую кошку, станут гнать тебя от своих дверей!.. Мы свалили тебя, и ты больше не встанешь. Вот это называется кураш[27]. Вот это и есть наша победа! Эх ты, жалкий человечек, считавший нас похороненными! Ты поступал по-ребячьи, не желая считаться с нашими интересами. Вот и побит ты, как поганая кошка…»
«Нет! Ошибаетесь, если думаете, что борьба на этом закончена. Она только начинается на тропинке моей жизни. Все, что было в прошлом, пустяки по сравнению с этим испытанием. Еще не утеряли силу мои руки, которые не так давно играючи управлялись у доменной печи. И не угасло в сердце пламя, зажженное из ее горнила! Что ж, потягаемся!»
Проведя весь день в раздумьях, Арслан не заметил, как наступил вечер. На лестничной площадке опять что-то глухо стукнуло, и послышался пронзительный плач ребенка. «Бабур снова упал», — подумал Арслан, вскакивая с места. В мгновение он выскочил за дверь. Так и есть. На ступеньке вниз лицом лежал Бабур. Арслан схватил мальчика и по обыкновению топнул несколько раз по ступеньке, приговаривая:
— Вот тебе! Попробуй-ка еще раз наставить шишку на лбу у нашего Бабурчика!
Мальчик, вытирая кулачком глаза, улыбнулся. Арслан снова принес его к себе. Бабур уже привык бывать в гостях у дяди и не очень переживал разлуку со своими шумливыми братьями и сестричками. Он попросился на пол и стал бегать по пустым комнатам. Выскочил на балкон.
— Тебе у меня нравится? — спросил Арслан у малыша.
Мальчик кивнул. Еще бы, здесь такой простор! А у них всего две комнаты — не разыграешься. Куда ни сунься, только и слышишь мамин голос: «Нельзя!.. Не трогай!» Вот и хочется Бабуру убежать всякий раз на улицу, на волю. Братья и сестры — те постарше, они весь день пропадают то в школе, то во дворе. А его, Бабура, никуда не отпускают одного. Только у этого доброго дяди он гостит время от времени. У него привольно, можно ходить из комнаты в комнату, и он ни разу еще не сказал: «Нельзя!»
— А хочешь, я тебе подарю эти комнаты? — спросил Арслан, поглаживая мальчика.
Бабур ничего не понял. Он с интересом смотрел во двор, где его братья и другие мальчишки гоняли футбольный мяч.
— Папа дома? — спросил Арслан.
Мальчик кивнул. Арслан поднял его на руки.
— Идем-ка, поговорю я с твоим папой.
Они поднялись на четвертый этаж, постучали в дверь, на которой карандашом было написано: «Бабур».
— Кто это написал? — спросил Арслан.
— Адолат, — сказал мальчик.
— Скажи сестре, что она хорошо придумала: если кто-нибудь придет, сразу же узнает, что здесь живет Бабур.
В дверях появилась Махсудахон.
— Опять упал? — сказала она, стягивая халат на груди.
— Да, великий царь Ферганы, Мавераннахра и Индии опять упали, — улыбаясь, сказал Арслан. — А Джамшидбек дома?
— Дома. Пожалуйста, входите.
— Дело у меня к нему. — Арслан с Бабуром на руках перешагнул порог.
Джамшид, широкоплечий мужчина, лежал на диване и читал газету. Увидев Арслана, вскочил, заспешил навстречу.
— Прошу вас, Арслан-ака, — сказал он, здороваясь за руку. Рука у него была твердая, как у всякого, кто занимается физическим трудом. Джамшидбек работал на заводе, где некогда трудился и Арслан.
— Как поживаете? — осведомился гость.
— Рахмат! Как сами? Слышал, приболели немного? Как теперь себя чувствуете?
Конечно же хозяин дома был осведомлен и о том, в какие передряги угодил Арслан, и о разладах в его семье, но из уважения к нему не касался этой темы. Да и кто в районе нынче не знает о том, что дело председателя райисполкома Ульмасбаева расследует специальная комиссия. И хотя Арслан пока не отстранен от занимаемой должности, он сидит дома, не показывается на людях. И неизвестно, что доставляет Арслану больше переживаний — неприятности на работе или то, что вдобавок ко всему от него ушла Барчиной. Женщины с длинными языками судачили о всяком. Но Джамшидбек не верит слухам. Человек, вышедший из рабочей среды, не способен на дурные дела.
Арслан сел на предложенный хозяином стул:
— Чувствую себя лучше, рахмат. Давление поначалу подскочило. Но теперь приближается к норме. Главное — головные боли прекратились… — Арслан посидел молча, как бы обдумывая, с чего начать разговор, потом, взглянув на хозяина, решительно сказал: — У меня предложение к вам, Джамшидбек. Я рассчитываю, что вы согласитесь со мной. Только заранее прошу: не считайте это благодеянием каким, не надо благодарностей…
— Я слушаю…
— Я не смог выполнить обещания… А сейчас предлагаю: давайте поменяемся квартирами. Вы с ребятишками и отцом вашим теснитесь здесь. А я один остался в трех комнатах…
— Как же это? — удивился Джамшидбек. Жена, появившаяся в дверях, замерла на пороге.
— Очень просто, — улыбнулся Арслан. — Я вселяюсь в вашу, двухкомнатную, а вы занимаете мою. Вот и все!
— Нет, нет, это невозможно, — возразил Джамшидбек, хотя и он, и отец его, и Махсудахон только и мечтали о том, чтобы переселиться в квартиру попросторнее. — Ведь так, запросто, разве это делается?
— Оформить документы дело простое. Я еще не ушел с работы, просто болею…
— Да и не уйдете вы с работы! — вырвалось у Джамшидбека. — Все люди в нашем районе только того и хотят, чтобы вы остались на своем месте. А кто вам доверил эту работу? Люди. Сможете ли вы без их желания покинуть свой пост?
Арслан грустно улыбнулся. Ему было приятно услышать от соседа эти слова. Главное — в них он не уловил фальши.
— А когда вернется Барчиной, не возмутится ли она великим переселением? — спросила Махсудахон, но тут же замолкла заметив, что лицо Арслана потемнело, брови сошлись у него на переносице.
Сделав вид, что он не услышал ее замечания, Арслан сказал:
— Мне достаточно и двухкомнатной…
— Я не могу ничего сказать… Решать вам, — сказал Джамшидбек, зная, что, если сосед предложил ему такое, следовательно, все давно обдумал. Если сейчас отказаться, значит, глубоко его обидеть.
— Да, как сами знаете, — согласилась Махсудахон.
— Выходит, договорились. Завтра с утра вы переселяетесь в мою квартиру, — сказал Арслан, хлопнув себя по коленям, и поднялся.
— Ох, да что ж это я — даже чаю не предложила! — засуетилась Махсудахон. — Я сейчас, пять минут — и чайник закипит. Посидите, Арслан-ака.
Она побежала в кухню, но Арслан поблагодарил и, попрощавшись, ушел.
На следующий день семья Джамшидбека переселилась на второй этаж. Отец Джамшидбека, Муса-ата, под вечер вернулся из района, где два дня пробыл на свадьбе, и очень удивился, застав своих на новом месте. За угощением, приготовленным в честь новоселья, старик произнес длинную благодарственную молитву и пожелал благородному и щедрому соседу скорейшего избавления от всяческих бед, пожелал бодрости и силы духа. «Аминь», — сказал он под конец и провел по лицу ладонями.
В среду, в день, когда, по мусульманскому верованию, исполняются сокровенные желания, пришла Мадина-хола. Она была крайне удивлена тем, что сын поменял квартиру. Но расспрашивать ни о чем не стала. И так ему тяжело. Сердце ее изнывало оттого, что сын ее целыми днями лежит, как поверженный минарет. Столько лет мечтала она о внуке, о том, как она, обняв младенца, тихо будет петь ему колыбельные песни. И то, что аллах не подарил ей внука, она считала наказанием господним. Не думала, не гадала, что в жизни сына, а значит и в ее жизни, будут такие черные дни.
Хоть Арслану не хотелось показываться на людях, мать все же уговорила его пойти с ней в их дом, в дом, где он родился и вырос.
— Для других-то ты, может, и большой человек, а для меня ты маленький, каким был. Сейчас же вставай! — сказала она строго.
Арслан скрепя сердце повиновался.
Возвратился в воскресенье. Выло раннее утро. Чтобы не ждать, когда принесут почту, в киоске, что неподалеку от дома, купил газеты. На улице, такой шумной и многолюдной в будни, сегодня было тихо. Только изредка прошелестит по асфальту легковая машина или, урча, протащится неповоротливый автобус. И опять тишина.
Арслан, зажав газеты под мышкой, скорыми шагами направился к своему подъезду. Ему казалось, что изо всех окон глядит на него осуждающе и злорадно. Вот кто-то, сверля его взглядом, подзывает жену: «Иди-ка сюда скорее, погляди на Ульмасбаева, полюбуйся на него! Небритый, одежда помятая! А недавно, бывало, в нечищеных туфлях порога не перешагивал…» В другом окне дородная женщина, прижав к щеке руку, скорбно качает головой: «До чего довели бедняжку…» А вот кто-то злорадствует: «К чему приводит спесь и зазнайство! Как только человек становится начальником, пелена глаза ему заволакивает, даже близких перестает узнавать!» За четвертым окном две старушенции перешептываются: «Хорош, видно, этот Ульмасбаев, если от него жена ушла!..»
Арслану хотелось бегом взбежать по лестнице на четвертый этаж и запереться в своей квартире. В груди кольнуло, едва он взялся за перила. Остановился, чтобы перевести дух.
Вспомнился Аббасхан Худжаханов, его заместитель. Этот человек с постоянно улыбающимся лицом почему-то то и дело возникает перед его взором. Странный он какой-то, этот Худжаханов. Вот уж сколько времени Арслан с ним работает, а он никогда не был до конца откровенным. Говорит, а что-то не договаривает, раскрывает, кажется, душу, а что-то таит. Взгляд его никогда не выражает ни гнева, ни радости. А что у него в сердце — поди-ка разберись… Говорит обычно Худжаханов обтекаемо, продумывая каждое слово и улыбаясь при этом. Острых разговоров избегает.
С подчиненными Аббасхан Худжаханов разговаривал высокомерно, иной раз даже не скрывая презрения. Арслан несколько раз, как бы между прочим, укорял в этом своего заместителя. И тот в присутствии Арслана старался казаться скромным и деловитым… Ну что ж, человек есть человек, у каждого свои слабости. Но Арслан никак не может взять в толк, почему Худжаханов стал покровительствовать Мусавату Кари. Сейчас, конечно, трудно это понять, и заместитель делает вид, что не имеет никакого отношения к тому, что нежданно-негаданно обрушилось на голову председателя райисполкома. Но когда Арслан анализирует поступки Мусавата Кари, понимает, что рядом с этим человеком незримо действует и его заместитель, Аббасхан Худжаханов. Надо же — еще одна загадка!
Высокая, статная фигура заместителя, загадочная ухмылка и обнажающиеся при этом золотые зубы нет-нет и возникали перед Арсланом.
Прежде Арслану было непонятно, почему его заместитель в присутствии дружков-приятелей Мусавата Кари держится с ним независимо, а как только они остаются наедине, начинает заискивать. Только теперь кое-что начинает проясняться. «Можно ли быть таким простаком! Дожив до седин, не научиться отличать добро от зла… Сам с открытым сердцем — считаешь, что и у других душа нараспашку…»
Арслан множество раз анализировал свою жизнь. Заново оценивал поступки. Нет, он ни в чем не мог упрекнуть себя. Совесть его чиста. Словно жаркий огонь вагранок, у которых не один год простоял он, когда работал на заводе Ташсельмаш, очищал ее.
Арслан машинально вынул из кармана ключ и остановился перед дверью на втором этаже. Но тут же спохватился и, держась за перила, поднялся на площадку четвертого этажа. Отпер свою дверь. А в голове мельтешили в беспорядке одни и те же мысли.
Арслан понимал, что нельзя ему сейчас сидеть сложа руки. Стоит на мгновенье расслабиться — тотчас окажешься на лопатках. А то, что сейчас происходит, — это борьба! Невидимая глазу, сопровождающаяся, быть может, улыбочками соперников, обменом взаимными любезностями и даже рукопожатиями, но яростная и беспощадная борьба. Арслан никак не мог заставить себя идти куда-то и что-то доказывать — искать союзников. Но имеет ли он право бездействовать, полагаясь только на силу правды, которая в конце концов, конечно, победит?
Где бы Арслан ни находился и что бы ни делал, его одолевали сомнения. С газетами под мышкой он зашел на кухню. Наполнил жестяной чайник водой и поставил на плиту. Вернулся в большую комнату и, удобно усевшись в кресле, углубился в чтение, забыв при этом зажечь плиту.
Через некоторое время вышел на кухню, чтобы заварить чай, усмехнулся. Стал рассеян… Как ветры, непрестанно облизывая скалы, стирают их с лица земли, так печаль и горькие думы могут лишить человека рассудка… Однако скалы беспомощны. А человек наделен огромной волей.
Воля и непреклонность!
Нельзя терять самообладание, даже очутившись над пропастью. Только человек сильной воли может одолеть врага.
— Ну, хватит философии! — вслух сказал себе Арслан. — Не раскисать, дорогой друг! Сейчас же надо принять ванну, побриться, выгладить костюм! Потом принести из магазина… Да, что же надо принести из магазина? Хозяйством всегда занималась Барчиной. Надо же — я даже забыл, что покупают в магазине в первую очередь! Ну конечно же я принесу чай, сливочное масло, яйца…
Однако, перекусив тем, что удалось найти в буфете, он забыл о своих намерениях. Вытянулся на курпаче подле окна и начал читать газету. Не заметил, как уснул. Вскоре он вздрогнул и проснулся. Ему приснился блаженный Атати, свалявшиеся, грязные волосы которого спадали до плеч. Этого Атати, который бегал по узким, кривым улочкам махаллей и беспрестанно кричал несуразное, отчего на краешках его рта постоянно пенилась слюна, Арслан видел лет этак тридцать назад и премного был наслышан о нем в детстве. С чего это вдруг он ему привиделся?.. Арслан даже явственно услышал его крик: «Ё-э-э, лу-у-у!..» Блаженный Атати бродил, выпрашивая себе милостыню, по махаллям Кургантеги, Сакичмон, Хаджимал, Узгат, Хиябан, Дегрезлик, Чигатай, Кесак-Курган. И летом, и зимой Атати-блаженный ходил полуголый, босиком и при этом цедил сквозь зубы звук «взз-взз», словно его пронизывал холод. Он был безобидный, этот Атати. Отец как-то рассказывал, как Атати появился в торговых рядах и, выкрикивая свое неизменное: «Ё-ху-у-у! Ё-ху-у-у!», обхватил один из толстенных столбов, подпиравших навес, и пытался его свалить, чем немало напугал торговцев… Он утверждал, что Атати большей частью бродит вокруг медресе Бегларбеги, Кукалдаш, гробницы Каффал-Шаши, мечетей Сирлимечеть, Хотинмечеть, а ночует он якобы в большом полуразвалившемся тандыре на пустыре, где когда-то, как говорят, был чей-то обширный двор, впоследствии заброшенный и разоренный.
Иногда Атати не было видно дней пять-шесть. И все знали, что он отправился в сторону Шибли. Возвращаясь назад, он непременно выбирал путь через кладбище Шахидантепа, расположенное на берегу небольшого пруда Кайковус, и недвижно лежал там несколько дней, обняв какую-то могилу…
Вспоминают, что Атати родился в семье ремесленника и в юности был вполне приличным джигитом. Звали его Асадуллахан. Он женился, и у него родилась девочка. Но однажды сын Иноят-байбачи, водившийся с кимарбозами[28], похитил его молодую жену. Спустя несколько дней нашли ее мертвой. Вскоре умерла и дочка. И стал Асадуллахан, не найдя справедливости, бродить по улицам, хватаясь за ворот рубахи, будто жгло его что-то изнутри, и громко вздыхать: «Ё-ху-у-у!..»
«И мое сердце сейчас будто в огне, — подумал Арслан. — Этак недолго и мне спятить…»
В пятницу Муса-ата привел пожилого человека, который, как оказалось, постучался в его бывшую квартиру на втором этаже. Арслан пригласил стариков в комнату.
— Здравствуйте, Нишан-ака! — обрадовался он гостю. — Как поживаете? Здоровы ли дети, внуки?
— Благодарю, все здоровы. Сам-то как, дружище?
— Да вот… приболел немного, — промолвил Арслан, опустив голову. — Теперь, кажется, дело идет на поправку.
Помолчали.
Муса-ата почувствовал, что гостю и хозяину надо поговорить о чем-то важном, попрощался и вышел.
Нишан-ака, покручивая кончики пушистых усов, улыбнулся. Хоть и неказист был с виду гость, но держался всегда горделиво.
Нишан-ака, не сводя с Арслана глаз, бросил под язык щепотку насвая[29]. Бог не очень позаботился о внешности этого человека. И речь у него нескладная. Он смугл, худощав. Когда облачается в светло-желтый чекмень и повязывается поясным платком, становится похожим на таджика, уроженца местечка Матчо, что в горах Таджикистана.
Арслан уже знает: когда Нишан-ака предается раздумью или чем-то расстроен, он непременно извлекает из внутреннего кармана чекменя красивый пузырек, заменяющий ему табакерку, и, отсыпав на ладонь щепотку насвая, отправляет ее под язык. Затем снимает с головы тюбетейку и без надобности начинает стряхивать с нее пыль, легонько ударяя по ней ладонью. Должно быть, сам он не замечает этого…
В детстве Нишану-ака не довелось учиться грамоте. Но память у него отменная. Если узнал что новое, оно крепко западает ему в голову. Он неразговорчив, вспыльчив и прямолинеен. Если уж кого из махаллинцев не жалует, то и разговаривать с ним вовсе не станет. Таков характер.
Каждый день, возвращаясь с завода, он заходит в махаллинскую чайхану. Любит, не спеша отхлебывая из пиалы специально для него заваренный, крепкий чай, потолковать с приятелями. Те же, кого Нишан-ака недолюбливает, между собой называют его «племянником советской власти», намекая на то, что предки этого человека батрачили на баев, а этот гордец работает нынче на заводе и держится с достоинством.
Прозвище в конце концов коснулось ушей и самого Нишана-ака. Догадался, что это выдумка Мусавата Кари. Но ссориться не стал. Наоборот, даже ухмыльнулся и подумал: «Точно подмечено…» И однажды в чайхане громко, чтобы услышал Мусават Кари, сказал друзьям:
— Выслушайте-ка, что вам скажет племянник советской власти…
Мусават Кари удивленно оглядел присутствующих, точно хотел сказать: «Послушайте-ка, что молвит этот человек!» И, усмехнувшись, произнес:
— Вы больше похожи на Мансура Халаджа. Тот тоже заявил: «Я бог». А его вывели на площадь и повесили.
— Мне это не грозит, — парировал Нишан-ака. — Ибо тех, кто вешал, уж давно развеяли по ветру.
Мусават Кари только подумал: «Вы темные, как телята, и дальше хлева все равно не побежите», — но ничего не сказал, дабы не выйти из границ приличия и ссорой не осрамить себя перед людьми.
— Интересный ты человек, Ульмасбаев! — сказал Нишан-ака. — Чудной какой-то… Лучше меня знаешь, как трудно получить лишний метр жилой площади, и отдаешь свою квартиру, даже глазом не моргнув.
— Потому и отдал, что трудно. Обещал я им — понимаете? — да не смог.
— Но тебе же государство дало жилье!
— А государство — это мы с вами, Нишан-ака.
— Хм! — усмехнулся гость. — А тебе не кажется, что ты вот-вот очутишься за пределами… гм…
Арслан пристально посмотрел на Нишана-ака, у которого подергивался левый глаз, что выдавало его волнение. Можно бы и ответить, но не хочется обижать человека. Безрассудство не одного глупца погубило.
Арслан пожал плечами. Придвинув гостю стул, сказал:
— Садитесь. Сейчас поставлю чай.
— У тебя есть время чаи распивать? — вспылил Нишан-ака.
— А что же делать?.. Я не знаю, что делать, Нишан-ака, — признался Арслан.
— А Кари знает, что делать. Говорят, каждый день там трется. И еще кое-кто из твоих «приятелей» частенько захаживает. Говорят, есть некто, поучающий их… Ведь все они ткут паутину вокруг тебя! А ты что, так и будешь лежать?
— А что вы предлагаете?
— Я ничего не предлагаю. Но знаю, что медлить нельзя! Саидбекову известно обо всем?
— Известно.
— А Барчин? Барчин знает?
— Вряд ли… Я полагаюсь только на добросовестность членов комиссии.
— Как в народе говорят? На бога надейся, а сам не плошай! Надо действовать, Арслан. Ведь ты всегда был полон энергии! В драку лез за свою правду — я же тебя с пеленок знаю. Что же теперь — шпага твоя сломалась или щит продырявлен? Или ослаб, немощен стал? Выкладывай правду! Ты все время был мне как сын. А теперь я за тебя в большем ответе, чем отец, — я дал тебе рекомендацию в партию! Если ты обманул меня, сверну тебе шею, так и знай!
Арслан, сидевший на стуле как провинившийся мальчишка, глубже втянул голову в плечи. Помолчали.
— От Барчин есть вести? — спросил Нишан-ака, немного успокоившись.
Арслан отрицательно покачал головой.
— Она решила… Она не вернется ко мне…
Левая щека Нишана-ака задергалась так, что даже ус запрыгал. Снова воцарилось молчание.
Нишану-ака около шестидесяти. Из них сорок лет жизни он посвятил работе на заводе Ташсельмаш. Еще в те времена, когда в Ташкенте ходила конка, он пришел на этот завод чернорабочим. А нынче известный мастер. В двадцать первом году там же его приняли в партию. Еще в те времена он был ближайшим другом старого литейщика Мирюсуфа, отца Арслана. И вообще все сложилось как-то так — характерами ли сошлись, взглядами ли на жизнь, — что он водил дружбу с дегрезами своей махалли Исраилом, Муслимом, Адылом, прозванным «Варшав» за то, что некогда, еще до революции, проходил военную службу в Варшаве и любил кстати и некстати ввернуть словечко про этот город, Хайитбаем-аксакалом, Ахмадом-палваном[30] и Абдуллой-граммофоном, который откуда-то привез в махаллю чудо-ящик, умевший говорить и петь по-человечески. Взрослые и мальчишки со всей махалли сбегались, помнится, послушать поющий ящик, который хозяин с гордостью именовал граммофоном. К нему и пристала затем кличка.
Арслан улыбнулся, вспомнив историю Ахмада-палвана, о которой долго судачили жители махалли. В те годы окраину Ташкента охватила эпидемия тяжкой болезни, не было, казалось, от нее избавления. Люди метались, теряя сознание от боли в животе, и умирали. Мечети были переполнены народом, молящим аллаха послать людям исцеление. Но всевышний то ли оставался глухим к их просьбам, то ли сам был бессилен перед таким несчастьем, и людей косил мор…
А из Петрограда приехала в ту пору группа врачей. Среди них была красивая молодая женщина. Махаллинцы с почтением называли ее Доктор-апа. И как не почитать, как не боготворить ее, если бог ничего не мог сделать с проклятущей болезнью, а она вылечивала людей, спасала от смерти…
Так вот этот самый Ахмад-палван возьми да и влюбись в эту Доктор-апа. То одного махаллинца просит стать его сватом, то другого. Но никто не соглашается, считая, что Доктор-апа, такая красивая, ученая, только посмеется над ними. Ее всегда видели в белом, как снег, халате, без единого пятнышка. А Ахмад-палван, занятый в своей мастерской литейным делом, всегда ходит в грязной одежде, прожженной искрами. Но Ахмад-палван заявил: «Если не женюсь на ней, покончу с собой. Не нужна мне жизнь без нее!» — «Ну и проклятущий ты человек, точно шейх Санон[31]», — сказали люди и вынуждены были пойти в дом Доктора-апа сватами.
Доктора-апа недаром все считали умнейшей женщиной. За лоснящейся от грязи спецовкой Ахмада она разглядела человека с добрым, отзывчивым сердцем.
Прошло какое-то время, и старики прочитали свадебную молитву, соединили их сердца в вечном союзе…
Услышав голос Нишана-ака, Арслан вздрогнул, словно забыл о его присутствии.
— Что же сказать тебе, друг мой? В такую тяжелую пору рядом должен быть близкий друг. А самый близкий тебе друг — Барчин. Подави в себе гордость, сообщи ей, в какое положение ты попал. Уверен я, она не оставит тебя одного…
Арслан молчал. Может, Нишан-ака и прав. Он и сам больше, чем кто другой, знает, как ему трудно без Барчин. Он все время думает о ней. Хочет заставить себя не думать, но в мыслях вновь и вновь возвращается к своей Барчин. Говорят, человек на смертном одре думает о цветах, воображает сад или полыхающий яркими цветами луг. Так и он не переставая думает о Барчин.
А она? Вспоминает ли она его? Может, и вспоминает, но с негодованием. Он не оправдал ее надежд. Пренебрег ее уговорами, мольбами. Решил настоять на своем, уподобясь валуну, упавшему в русло горной реки. А может ли камень остановить течение воды? Барчин своевольна, как горная речка. Не смог Арслан удержать ее. Ушла она от него. Навсегда ушла…
— Если ты задумался, это хорошо. Славно, когда человек задумывается, и плохо, если ни о чем не думает… Что ж, дружище, думай, хорошенько думай, а я пойду, — сказал Нишан-ака, поднимаясь с места. — Если ты и виноват в чем, все равно не лежи пластом. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Я ни в чем не виноват, — проговорил Арслан, взглянув в упор на Нишана-ака.
— Вижу, твои слова идут от сердца. Спасибо. Я тебе верю. Я пришел, чтобы услышать от тебя это. А то, судя по тому, что ты спрятался и боишься показаться на людях, можно подумать, за тобой и впрямь грех какой-то…
Арслан проводил Нишана-ака до автобусной остановки. Возвращаясь, увидел на балконе второго этажа улыбающихся Бабура и Махсудахон. Они приветливо помахали ему рукой.
Поднимаясь по ступенькам, Арслан подумал о том, что вот уже более недели не подает голоса Зейтуна, секретарь райисполкома. Поначалу-то она звонила, рассказывала, как идут дела, пересылала с курьером письма, телеграммы, поступающие на его имя. Последний раз она ему прислала записку, в которой уведомляла о том, что ему необходимо пойти на завод и повидаться с Нургалиевым. И после этого ни слуху ни духу от нее… Может, Аббасхан Худжаханов запретил?
Однажды, сидя в чайхане, Мусават Кари сказал Махсуму: «Честности цена три копейки. А Аббасхан Худжаханов бывалый и хитрый охотник. Он хочет не какого-то там гуся, а орла подстрелить. И языком попусту не молотит, с умом дела вершит. Сейчас как раз настало время таких высокообразованных людей…» Об этом прослышала среди людей Мадина-хола. Тут же заторопилась домой, поведала сыну. Он вспылил. «Знаете, мама, людям рта не закроешь, — строго сказал он. — У многих ум подчинен языку. Поэтому пусть болтают что хотят. А вы не собирайте этот сор и не носите мне». — «Ладно, пусть будет по-твоему, сынок», — обиженно пролепетала Мадина-хола.
Арслан достал из ящика письменного стола записку Зейтуны:
«Приходили рабочие из литейного цеха, справлялись о вас. Вам необходимо пойти на завод и встретиться с Нургалиевым.
Значит, на родном заводе не забыли его. А он… Сколько времени он не был там?
Пока герой нашего романа находится дома и предается размышлениям, послушайте, что вам расскажет о нем человек, постоянно бывающий в самой гуще людей.
Порой случается так, что в круговороте дел, повседневных хлопот не находишь времени проведать даже родителей. Скучаешь, беспокоишься, но всякий раз откладываешь визит на следующий день. От тоски сжимается сердце, и слух ваш улавливает укоряющий голос матери: «Бренна земля, недолговечна жизнь, надо ценить, детка, привязанность сердца…» И наконец, бросив все, спешишь проведать своих милых, дорогих сердцу стариков…
Вот и я в прошлую субботу, накупив в гастрономе сладостей, в галантерейном выбрав соответствующий возрасту мамы подарок, явился в свой старый дом, где родился, рос. Старушка моя сидела на айване — просторной террасе — и что-то шила. Завидев меня, она отложила работу. Выпростав из-за ушей проволочные дужки, сняла очки и положила их на низенький столик. Просияв вся, быстро поднялась, обняла меня и, похлопывая по спине моей ладонями, молвила: «Наконец-то дождалась я тебя, сынок! Каждый твой приход для меня лучший праздник…»
Я посетовал на занятость, заметив при этом, что она и сама могла бы время от времени приезжать ко мне. На что мать ответила: «Ой, сынок, глаза мои уже видят плохо. Если бы дорога, когда-то заасфальтированная нашим Арсланом, не стала столь ухабиста, и пешком добралась бы до ваших мест и отыскала твой дом. Ко всему мост через Кайковус так и ходит под тобой, едва на него ступишь…» Она призналась, что очень стосковалась по внукам и, если бы я прислал за ней машину, она не прочь пожить недельку в «осиных сотах», как она именовала нашу квартиру в высотном доме. Я напомнил ей, что месяца два назад она смогла всего три дня прожить у нас, а на четвертый настояла отвезти ее к себе. Причем просила ехать не через расшатанный деревянный мост, а через Актепа, где Арслан Ульмасбаев несколько лет назад построил каменный мост.
Мама вскипятила чай, и принесенные мной сладости были очень кстати. Мы просидели вместе более двух часов. Моя старушка осталась очень довольна нашей встречей, тоска ее и обида развеялись, точно туман…
Проводив меня до калитки, она, тихонечко вздохнув, проговорила: «О-о, сынок, некоторые люди и луну считают чумазой, заприметив на ней пятна… — Уловив мой вопросительный взгляд, добавила: — У нашего председателя райисполкома, сказывают, нашли невесть какую ошибку и сняли его с работы. А нам бы лучше иметь бывшего «плохого» председателя, чем нынешнего «хорошего» — Худжаханова…»
Распрощавшись с матерью, я зашагал наискосок через рощу и вышел к берегу Кайковуса. За густой зеленью взору неожиданно открылась чайхана. У самой воды были сколочены из досок сури, покрытые паласом, на которых сидели, услаждая себя чаем, несколько человек. Кто-то меня окликнул: «Эй, уважаемый, пожалуйста, к нам! Выпейте пиалушку чая!» Как бы ни был занят человек, он, по обычаю, не может отказываться от искреннего приглашения. Я подошел, поздоровался с сидящими на сури за руку. Присел на край помоста. Мне подали пиалушку горячего янтарного чая.
Я оглянулся вокруг. Мое детство прошло в этих местах. Здесь я бегал босоногим мальчишкой. Сейчас мне показалось, что речка Кайковус, несшаяся в прежние времена с шумом и ревом, в изобилии снабжавшая водой близлежащие земли, нынче сузилась, притихла. Толстые сваи, на которых держался противоположный край помоста, были вбиты в дно реки, и вода почти полностью скрывала их, чуть не касаясь макушками волн самого помоста. Нынче же эти сваи почти полностью оказались на суше, потрескались от солнца. Да и сама чайхана, когда-то казавшаяся прелестным уголком, нынче была неуютной.
— Вот на этом месте, кажется, был хауз?[32] — спросил я у собеседника, наливавшего мне чаю.
— Да, прекрасный был хауз, — вздохнув, ответил тот.
— Ульмасбаев, бывало, приходил сюда в обеденный перерыв. Поесть плову или самсы, чайком побаловаться, а главное — с людьми побеседовать. Вокруг хауза были расставлены шесть широких сури — помостов с перильцами. Знали бы вы, как приятно было здесь посидеть вечером, послушать соловьев, облюбовавших эту таловую рощу для гнезд. Да и певцы из самодеятельности нередко жаловали сюда, пели под аккомпанемент рубабов и дойры… А нынче видите, что творится… Эх, нет хорошего хозяина! Если нет присмотра, цветущий сад в пустыню может обратиться, братишка… Хауз никто не чистил, вода в нем позеленела, заросла тиной и стала распространять смрад. Его и закопали… Что поделаешь, если люди не ценят того, что имеют, и вкус к красоте утеряли… Вот если был бы здоров председатель райисполкома, дело совсем бы по-другому обернулось…
Сегодня я уже вторично слышал об этом человеке. Когда мать хвалила прежнего председателя и укоряла нового, я решил было, что старушка чего-то недопонимает, показалось ей что-то не так, вот и честит нынешнего. Но этот пожилой человек, борода которого уже наполовину поседела, мне говорит о том же.
Пока мы осушали чайник, мой новый знакомый поведал мне об одной встрече Ахунбабаева, первого президента нашей республики, с некоей личностью, ищущей выгодную должность.
Давно то было. Ата[33], как называли Ахунбабаева простые люди, ходил по хлопковым полям, осматривая посевы. Устав, завернул в нашу чайхану — отдохнуть в прохладной тени вот этого карагача. А человек тот, тщедушный такой, с приплюснутым носом, тут как тут. Давно, видно, искал этой встречи, чтобы выпросить себе выгодную должность. Подсел к Ата, в пиалушку его налил чаю и между делом обращается к нему:
«Я работал там-то тем-то, а меня освободили. Пусть простят на этот раз и восстановят…»
А Ата и спрашивает:
«Кто посадил вот этот карагач?»
«Его в стародавние времена посадил некий Амин-бува, ныне уже покойный», — ответствовал тот.
«А кто вырыл хауз?»
«Дехканин Аликул-ата».
«А что оставите вы после себя? Хоть бы бревнышко положили поперек арыка, чтобы люди могли перейти!»
Человек молча уставился в землю.
«Выходит, справедливо отстранили вас от должности, — продолжал Ата. — Чин украшает человека, который служит людям».
— Что вы на это скажете? — обратился ко мне мой собеседник и, не дождавшись вразумительного ответа, отрезал: — Ульмасбаев как раз служил людям!..
В минувшую пятницу меня оповестили, что в нашей махалле, где прожили свой век все мои предки, умер старик Кулмат-бува, и тело будут выносить в два часа пополудни. Оставив все дела, я поспешил на похороны. Пронеся какое-то расстояние на плечах гроб в коем лежал бува, не доживший трех лет до девяноста каждый исполнил свой человеческий долг. Кладбище было обнесено кирпичным забором. Для тех, кто посещает могилы своих близких, были построены навесы, где они могли спрятаться от палящего солнца и предаваться воспоминаниям о покойном. Еще на моей памяти неприглядный вид этого кладбища. Некогда оно было сплошь заросшее янтаком — колючим кустарником, среди которого водились шакалы и дикие кошки. Люди, чуть стемнеет, боялись проходить мимо этого кладбища. А нынче оно похоже на ухоженный сад. Дорожки посыпаны песком, по краям их посажены цветы. И тут люди, разговаривая, вспомнили председателя райисполкома Арслана Ульмасбаева. Оказывается, по его личной инициативе кладбищу был придан надлежащий вид…
Порой случается, что лицом к лицу встречаешься с человеком, о котором только что подумал. Или неожиданно вспоминаешь давным-давно забытые имена. Случайно ли это?
Нет, не случайно.
В одном из писем, поступивших в нашу редакцию, мать джигита, погибшего на фронте, жаловалась на бездушие некоторых людей. Она давно подала в райисполком заявление с просьбой отремонтировать дом, но до сих пор ничего не добилась. «Работал бы сейчас наш Арслан Ульмасбаев, давным-давно все было бы сделано и душа моя бы успокоилась», — писала старуха.
И когда я бываю в тех местах, где родился, рос, куда ни повернусь, всюду слышу это имя.
Можно только дивиться!
Недавно на банкете я повстречал своего старого знакомого. Узнав, что он, хотя давно уже ему перевалило за шестьдесят, до сих пор не может оформить документов на пенсию, я упрекнул его в лени. Мой знакомый грустно покачал головой. «Был бы сейчас на месте Ульмасбаев, зашел бы я к нему и оформил все без всяких проволочек. А к нынешнему председателю ведь труднее попасть, чем к министру. Весь день можешь просидеть в приемной, а он еще и не примет», — сказал он. Потом усмехнулся и рассказал о происшествии, приключившемся недавно в приемной райисполкома. Председатель, как сказала девушка-секретарь, был очень занят и часа два никого не принимал. Собралось полно людей, желающих попасть к нему. Один старик, думая скоротать время, изливал перед сидящими душу:
— В нынешние времена хаузы в нашем городе нужны не для того, чтобы в них собирать питьевую воду. Нам и водопроводов хватает. Но хаузы, согласитесь, смягчали климат нашего города, благотворно влияли на рост деревьев, а мы, люди, находили возле них прохладу. А тут какой-то чинуша, занимающий высокий пост, порешил, что, дескать, коль имеем водопровод, ни к чему нам хаузы, распорядился их закопать. Осталось плодовые сады порушить… Вы строите, много строите — это хорошо! Эх, неразумные, строите-то вы, нередко разрушая то, что уже есть. Строили бы вы на свободных местах — вот тогда я восхищался бы вами!..
Пока старик разглагольствовал, в приемной появился молодой человек в шляпе, с холеным лицом, одетый с иголочки. В руках он держал желтый кожаный портфель. Даже не взглянув на сидящих, он приблизился к девушке-секретарю и, кивнув на дверь, спросил:
— У себя?
— Да, — ответила та.
Высокомерно прошагав по ковровой дорожке, он отворил обитую дерматином дверь и исчез в кабинете. Люди переглянулись. Старик умолк на полуслове. Именно он должен был сейчас зайти по очереди. Потом, отставив палку, на которую опирался подбородком, он спросил у секретаря:
— Доченька, кто этот почтенный?
— Доцент, — услышал он в ответ.
— Жаль, жаль! — проговорил с сожалением старик. — Он получил знания, но остался невоспитанным. Одно дело — образованность, другое — благонравие. Когда в человеке сочетаются и то, и другое, тогда он по-настоящему просвещенный. Что вы на это скажете?.. Был бы сейчас Ульмасбаев, он бы меня принял, старика…
Словом, куда бы ни шел я, меня всюду незримо сопровождал герой моего романа. Казалось, нет места, куда бы не ступала его нога.
Один многодетный ахун[34], кочующий из города в город вместе со своим семейством, обычно ютился у тех, кто, сжалившись, пускал его на время в свой дом. Получив же квартиру, он останавливал прохожих на улице и, вне себя от радости, кричал: «Вот Арслан-ака дал мне родину! Теперь я отсюда ни на шаг!..»
Люди, видевшие Ульмасбаева накануне его ухода с работы, говорят, что в последнее время он стал несколько нервным. А также говорят, что в этом не последнюю роль сыграл кое-кто из окружавших его личностей, которые науськивали на него других — «заинтересованных», «недовольных», — сами стараясь оставаться в тени. Кто-то слышал, как он в сердцах говорил кому-то по телефону: «Я думал, что вы просто равнодушны ко всему. Оказывается, вы далеко не такой, когда дело касается ваших личных интересов! Вы же знаете, что я не выношу лицемеров!..»
Иду я сейчас по той части города, где совсем недавно лепились одна к другой глиняные мазанки, и взор мой любуется многоэтажными домами, молодыми, недавно разбитыми скверами, красивыми фонтанами на площадях. В гуще цветника я увидел сунбул. Этот цветок растет в равнинных местах, открытых солнцу. Распускается он ранней весной и буйно идет в рост. Живет он семь-восемь лет и цветет всего один раз — в последний год своей жизни.
Почему-то этот цветок мне напомнил Арслана.
Глава вторая
ФОРТУНА
Весна. Взбухли почки на ветвях алычи, зацвели урючины, трава в газонах светло-зеленая, как бархат. Небо ярко-голубое, ни облачка на нем. Во всем приметно пробуждение природы. Разве усидишь в такую пору дома? Но Аббасхан Худжаханов сегодня еще не выходил во двор. Сидит неподвижно, потонув в мягком кресле, обшитом красным плюшем, погружен в невеселые раздумья. Застекленная просторная веранда полна солнечного света. А на душе — мрак. Пора бы на службу, но жена с утра уехала на машине в магазин и все еще не вернулась. Какая-то непонятная тревога болью отдавалась в сердце. Стараясь отвлечься, Худжаханов устремляет тяжелый взгляд на молодую зелень деревьев, едва развернувших свои клейкие листочки, на шумливых ребятишек, резвящихся во дворе, на парящих высоко в поднебесье птиц. «Вот и весна пришла. Потом — лето… Старики сказывают, будто сережки тополей, коим суждено осыпаться, говорят между собой: «Если на твердую землю падем, ребрышки себе сломаем, — хорошо бы упасть на мягкий, пушистый снежок». Но тогда не родить плодов деревьям, которые уже зацвели… Нет, пусть сережки тополей падут на землю», — думает Худжаханов.
Его пронизывает, заставив вздрогнуть, мысль о том, что и на работе у него то же самое. Вот отчего тревога в сердце — от неуверенности. Его предшественник еще может вернуться. «Лишь бы сережки тополей пали на землю! Лишь бы на землю…» — шепчет Худжаханов. Руки бессознательно гладят чехол на подлокотниках кресла. Чехол этот сшила его первая жена. Да и кресло это они ходили покупать вместе. Впрочем, здесь все напоминает о ней. И дом этот был отстроен в то время, когда они дружно жили. И веранду он пристроил и застеклил тогда. И этот ныне цветущий сад был посажен при ней…
Шум автомобиля, остановившегося у ворот, прервал его мысли.
Худжаханов быстро поднялся и, попрощавшись со старшей дочерью, прибиравшейся в комнате, вышел на улицу. Шофер распахнул перед ним дверцу и, не дожидаясь, пока ему сделают замечание за опоздание, затараторил:
— Я несколько раз напоминал, что вы в одиннадцать должны быть на работе, а жена ваша все не выходила из магазина. Потом попросила отвезти в ювелирный, потом — на работу…
Худжаханов промолчал. Сев на заднее сиденье, захлопнул дверцу.
…Совещание, намеченное на одиннадцать, началось на час позже. Во время совещания, несмотря на то что он предупредил секретаря не впускать к нему никого и не подключать телефон, она заглянула в дверь, знаками объяснив, что ему обязательно надо снять трубку.
Послышался звонкий голос жены:
— Милый, раздобудьте где-нибудь четыреста рублей. В ювелирном я видела колечко с бриллиантовым глазком, точь-в-точь как у моей подруги Шахзадахон! Вы меня слышите?.. Ну что вы молчите, как в рот воды набрали? Ведь вы же обещали!
— Идет собрание исполкома, — с расстановкой проговорил Худжаханов, стараясь скрыть раздражение. — Вам все понятно?
— Исполком, исполком… Не забудьте про деньги!
Худжаханов положил трубку. Он был бледен и растерян. Хотелось, чтобы собравшиеся не поняли, чем он расстроен. Однако взгляды присутствующих были устремлены на него, и по насмешливым улыбкам он понял, что большинство знает, почему у него испортилось настроение.
Совещание закончилось до обеденного перерыва. Сотрудники и председатели махаллинских Советов разошлись. И по обыкновению секретарь принесла чайник свежезаваренного чая. Взяв со стола пиалушки, помыла их и принесла обратно.
— Нет ли у вас валидола? — спросил он у нее. — Сердце что-то покалывает.
— Сейчас раздобуду. У Зейтуны, кажется, был.
Она выбежала из кабинета, вскоре вернулась с таблеткой.
— Пожалуйста, в течение часа пусть никто ко мне не заходит.
— Хорошо. Как раз скоро обеденный перерыв. Никто и не зайдет.
— Ульмасбаев все еще болен? Или ему лучше? — справился Худжаханов. — Что говорит Зейтуна?
— Арслану Мирюсуфовичу, кажется, опять стало хуже.
— Хм! — усмехнулся Аббасхан Худжаханов. — А по-моему, он совершенно здоров. Хитрит только.
Сунув под язык таблетку, он опустился в кресло и подпер щеки руками. Секретарь, ступая на цыпочки, удалилась.
Опять перед глазами предстала Рихсиниса, первая жена. Душа у нее была чиста, как воздух широкого, раздольного поля, она никогда не опускалась до мелочных разговоров и не терпела сплетен. Не умея красиво и много говорить, она в минуты гнева молчала, замыкалась в себе. А у нее немало было поводов расстраиваться, гневаться на мужа…
Нарядами Рихсиниса не интересовалась. Наденет, бывало, простенькое платьице, засучит рукава и весь день вертится, как белка в колесе, — стирает, прибирает, готовит. Работящая была женщина, никогда не знала покоя. Она была покорна мужу, была к нему внимательна и охотно ухаживала за ним. Ни разу не отпустила она своего Аббасхана на работу в несвежей сорочке. Потому ли, что, потеряв в войну отца, она не видела отцовской ласки, а может, следовала строгим наставлениям матери, — перед мужем она благоговела.
Дети у них росли здоровыми. Аббасхан вскоре окончил институт и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Рихсиниса, справедливо считая, что в благоденствии их семьи и ее немалая доля, чувствовала себя чрезвычайно счастливой. И не будь у нее разладов с родичами Аббасхана, была бы на верху блаженства. Но спесивые тетушки мужа, посмеиваясь над простодушной кишлачной женщиной, бывало, говаривали: «Кто твой отец? Тыквенная башка! А кто твоя мать? Брови как лапша!»
Рихсиниса старалась не обращать на них внимания. Однажды, когда ее упрекнули в дехканском происхождении, она горделиво выпрямилась и сказала: «Коль разрешили бы в городе держать коров, завела бы двух буренок, и было бы в доме вдоволь молока и сливок. А вы что умеете, кроме как наряжаться да лясы точить?»
Женщины, не ожидавшие от нее такой дерзости, изумились, а потом принялись хохотать, задорно хлопая по своим жирным ляжкам ладонями. «Как бы она не залепила все вокруг кизяками! — приговаривали они. — Неужели не нашлось для нашего ученого красавца-племянника девушки покультурнее?»
Родичи между собой называли невестку «темнота». Кое-кто иногда пробовал вступиться за нее, говоря: «Эх, милые, хоть и темнота, а тоже человек. Не нападайте на нее, бедняжку, не гневите аллаха. Должно же иногда в жизни везти и темным, неухоженным девкам».
Слова эти дошли и до Аббасхана Худжаханова. Рихсиниса, занятая хлопотами по дому, никогда не употребляла всякую там косметику, без которой не обходились его тетушки. Однажды, побывав в Москве, он привез ей дорогие духи. Рихсиниса была очень довольна. Но скоро она забыла про них. И тут рассерженный Аббасхан сказал ей:
— Эй, мать, от тебя пахнет выменем коровы! Для чего я тебе духи купил? Пользуйся. Ведь ты, кажется, женщина!..
Слова мужа больно ранили Рихсинису. Она уединилась в одной из комнат и долго сидела там, прижав к груди ребенка. И на второй день не разговаривала с мужем. А потом, поразмыслив, поняла, что, советуя пользоваться духами, муж ведь не желает ей ничего худого. Просто хочет, чтобы его жена была не хуже других женщин. И в тот же день ко времени возвращения мужа с работы она заплела толстую косу и красиво уложила ее вокруг головы, подвела брови и ресницы. Надев свое любимое платье из хонатласа, стала дожидаться мужа. Даже надела на палец золотой перстенек. И стала такой красивой!..
Особенно были рады дети, увидев мать красиво одетой, помолодевшей. Они прыгали вокруг нее, резвились, щупали ее платье руками, словно не верили, что это их мать.
— Ну вот, видишь, оказывается, и ты у меня красивая, — с улыбкой сказал Аббасхан, возвратись с работы.
— Зато я не успела приготовить ужин, и будем довольствоваться чаем, — нарочито весело сказала Рихсиниса.
Опять на лицо Аббасхана набежала тень. Но жена обняла его и поцеловала в щеку. И как рукой сняло обиду…
Дети выросли. Аббасхан занимал ответственную должность, стал почитаемым в городе человеком. В доме у него теперь частенько собирались друзья. Старый отцовский дом с двумя комнатенками и земляным полом, застланным циновками, теперь казался тесным и неуютным. Муж и жена посоветовались и решили взять участок и построить дом. Рихсиниса с радостью приняла это предложение мужа. Но сестры мужа и тетушки, проведав об этом, страшно рассердились. Перестали разговаривать с Рихсинисой, только злобно ворчали, проходя мимо нее.
— Вы только поглядите, какой номер выкинула эта лохматая девка, — говорили они. — Отбирает сына у отца, разлучает брата с сестрами — решила отделиться от нас!
Одна из тетушек Аббасхана громко, чтобы услышала Рихсиниса, сказала:
— Мы ее считали темной, а она, оказывается, себе на уме была все это время. Ой, как горько мне, что племянничек мой лучшие свои годы губит с такой шельмой! А за него ведь не один почтенный в округе, высокородный человек пожелал бы выдать свою дочь…
Бедная Рихсиниса молча сносила все обиды, чтобы не давать родичам мужа повода еще больше распускать языки. И стала торопить Аббасхана с получением участка.
Наконец им выделили участок в стороне Аклана, в одном из самых красивых мест пригорода. И жена, можно сказать, сама возглавила строительство. Только теперь Аббасхан Худжаханов начал понимать, почему жена проявила столько рвения. Сама наняла рабочих, которые сделали из глины кирпичи, сама раздобыла доски, балки, шифер, рамы. Продала, не пожалела, три нитки своего жемчуга, некоторые свои золотые украшения, доставшиеся ей от матери.
Пока дом строился, они обнесли двор изгородью, из досок и фанеры сколотили времянку и все лето прожили в ней. Иногда, если выпадало свободное время, Рихсиниса усаживала на коврике в тени детишек, а сама принималась помогать мастерам — таскала кирпичи, подавала в ведрах глину.
К концу осени они соорудили крышу, оштукатурили стены, застеклили окна, благо погода была теплая. Перед самыми заморозками вселились в новый дом, еще не побеленный. Всю зиму продолжались работы, и они ютились в одной маленькой комнатке. Постепенно настелили пол, покрасили его, провели электричество. День ото дня их дом становился все удобнее и привлекательнее. Рихсиниса не могла наглядеться на него и нарадоваться. Весной сама посадила во дворе яблони, абрикосы, вишни, и вскоре зазеленел молодой садик, взращенный ее руками.
Муж часто навещал родных, но те за два года ни разу не удосужились побывать у них. Столь велика была их обида на Рихсинису, они и видеть теперь ее не желали.
Аббасхана Худжаханова опять повысили в должности. Каждое утро за ним приезжала легковая машина и отвозила его на работу. Теперь даже близкие знакомые, друзья, повстречав на улице, величали его по имени и отчеству — Аббасхан Тураевич — и склоняли голову в поклоне. На тоях обычно его усаживали на самое почетное место и всегда поручали произнести первый тост.
Аббасхан Тураевич, казалось, доволен был и домом, и работой. Но, как говорится, пути господни неисповедимы. Однажды, посетив своего друга, он увидел в приемной у него молодую женщину, которая на машинке перепечатывала какие-то бумаги. Она была прекрасна! Перестав печатать, она сверкнула черными, как виноград чараз, глазами и вопросительно приподняла брови.
Аббасхан так и застыл посреди комнаты, глядя на нее. Потом не совсем членораздельно объяснил, что ее начальник, его друг, ждет его.
Девушка приветливо улыбнулась, не сводя с посетителя глаз. Догадавшись, какое произвела на него впечатление, разрешила пройти в кабинет шефа.
Долго потом Аббасхан Тураевич не мог решиться ей позвонить. Несколько раз снимал трубку, но в последний момент не хватало духу, и он снова опускал трубку на место. И наконец решился. Услыхав ее мелодичный грудной голос, он в первое мгновение забыл, что, собственно, собирался сказать. И был одновременно удивлен и обрадован, когда она согласилась с ним встретиться…
После этого они встречались часто. Иногда Латофат звонила сама и томным голосом сообщала, что очень соскучилась и у нее не хватает терпения дождаться того дня, когда они должны увидеться. Рихсиниса в то время была беременна. Сердце ее чувствовало что-то неладное. Она мучилась подозрениями, но не решалась ни о чем спросить мужа, боясь его обидеть. Но сердце есть сердце, оно изнывало от недоброго предчувствия.
Рихсиниса благополучно родила. У них появилась еще одна дочь. Но вскоре после родов Рихсиниса слегла, — видно, надорвалась во время строительства. Из кишлака приехали ее старики, чтобы присмотреть за больной дочерью.
Аббасхан обычно по служебному телефону вызывал на дом врача, а после работы ехал на свидание к Латофатхон. Домой возвращался за полночь, а то и вовсе не приезжал. Нередко утром от Латофатхон ехал прямо на работу…
К болезни Рихсинисы прибавились еще и душевные муки. Ничто теперь не радовало ее — ни великолепный дом, ни ковры, которыми были обвешаны все стоны и устланы полы. Она чувствовала себя цветком, подрезанным под корень и поставленным в красивую вазу. И, как цветок, она медленно увядала.
В день похорон Аббасхан был безутешен. А спустя три месяца привел в дом Латофатхон. С приходом в дом новой жены расходы увеличились значительно. Очень любила Латофатхон наряды. А семья все-таки немалая, на одну зарплату не проживешь, хоть и получал Аббасхан каждый месяц солидную сумму. Приезжали к нему из колхозов председатели, агрономы, районные ветеринары, инженеры сельхозтехники. И у всех какие-то просьбы. Не жалел себя Худжаханов, всех ублажал. И они благодарили. А как же иначе: ты делаешь добро — и тебе платят тем же. Но в своем же коллективе, черт бы их побрал, нашлись завистники, которые повернули дело так, что его, Аббасхана Худжаханова, понизили в должности. Но, кажется, скоро снова фортуна улыбнется Худжаханову: не сегодня-завтра станет он председателем. Ульмасбаев над пропастью — надо только чуть-чуть подтолкнуть. А там уж Худжаханова не остановишь, он быстро зашагает по должностным ступенькам вверх…
…Аббасхан Тураевич, погруженный в раздумья, сидел в кресле, держась левой рукой за сердце. Он даже не заметил, как в кабинет вошла секретарь. Приблизившись, она негромко сказала:
— Аббасхан Тураевич, в приемной собралось много народу. Вы будете сегодня принимать?
Худжаханов устало провел по лицу ладонью и недовольно произнес:
— Приглашайте…
Вечером вернулся он домой в плохом настроении. Не раздобыл денег, которые просила Латофатхон.
Едва вышел из машины и перешагнул порог калитки, на веранде появилась улыбающаяся Латофат. Помахав рукой, она вопросительно кивнула, что означало: «Привезли, что я просила?»
Аббасхан Тураевич отрицательно покачал головой и опустил глаза. Улыбка на лице жены исчезла, брови ее грозно сошлись над переносицей. Она постояла минуту, уперев руки в бока, сверля благоверного взглядом, и, резко повернувшись, исчезла во внутренних покоях.
Это не укрылось от внимания детей. Предчувствуя ссору между отцом и мачехой, они переглядывались с тревогой.
Аббасхан Тураевич умылся, позвал детей к столу и поужинал вместе с ними. Латофатхон не вышла из своей комнаты. Утром она нарядилась и ушла на работу.
Когда случались ссоры с женой, Аббасхан Тураевич не мог спокойно работать. Вот и сейчас, не выдержав, из райисполкома позвонил ей на службу. Сказали, что она еще не пришла. Он насторожился. Тут же вспомнилось, как однажды, ехидно улыбаясь, ему сказали: «Только что видели вашу жену. Шла с симпатичным молодым человеком. Усатенький такой… Хи-хи-хи!..» Он приказал секретарю никого к нему не впускать и принялся названивать Латофатхон. Лишь в половине двенадцатого она подошла к телефону. Сухо сказала, что встретила подругу и задержалась с ней. Потом злобно добавила: «И не надо мне устраивать проверки!..»
Вечером, вернувшись домой, Аббасхан Тураевич внимательнее, чем всегда, посмотрел на жену. Она показалась ему похудевшей. Вокруг глаз пролегли тени. В томных движениях была заметна усталость. Уловив его изучающий взгляд, Латофатхон заставила себя улыбнуться и спросила:
— Принести вам что-нибудь поесть?
— Благодарю, я сыт.
Аббасхан Тураевич стоял на веранде и нетерпеливо поглядывал на часы. Машина задерживалась. Солнце уже высоко поднялось над землей.
В калитку постучали. Не успел хозяин ответить, во двор вошел всеми уважаемый в махалле аксакал Нишан-ака.
— Ассалам алейкум! Хорошо, что я вас застал. Боялся, что вы уже ушли на работу, — сказал он, приближаясь быстрыми шагами. — Много времени у вас не отниму. Минут пять, не более…
— Алейкум ассалам! Пожалуйста, Нишан-ака, проходите, — приветствовал гостя Аббасхан Тураевич и, крепко пожав ему руку, жестом указал на один из стульев около стола: — Прошу сюда.
Заглянув в комнату, попросил старшую дочь заварить свежий чай и расстелить дастархан. Хатира всем выдалась в покойную мать — и радушием, и проворством. И внешне она была похожа на нее, такая же миловидная.
Прошла минута, и дастархан был расстелен. Хозяин и гость пили чай и тихо беседовали.
Через полчаса Хатира принесла горячую самсу — хрустящие пирожки, испеченные в тандыре. Отец сидел мрачнее тучи. Заметив, что мешает разговору, она поспешно вышла.
— Вы возьмите себя в руки, — тихо продолжал Нишан-ака. — Я сказал вам, чтобы вы узнали об этом не последним, когда будет поздно что-либо менять. У вас дети, им нужна добрая, внимательная мать…
— Когда-то моя Рихсиниса говорила мне: «Ты мое счастье!» Не дал я ей никакого счастья, — сдавленным голосом проговорил Аббасхан Тураевич. — Это я не ценил своего счастья. Я потерял ее. Нет теперь у меня счастья… Все это, — хозяин обвел вокруг рукой, — создала она. Достаток в доме был благодаря ей. А эта начинает крушить все с краешка… Не знаю, как мне быть, что делать, Нишан-ака.
— Я понимаю, что нельзя вмешиваться в чужие семейные дела. Но мы живем в одной махалле и должны беречь честь друг друга. Смотрите, чтобы она вас не ославила. Вы же мужчина.
Аббасхан Тураевич тяжело вздохнул. В какой бы угол двора он ни взглянул, всюду ему виделась Рихсиниса. Вдруг он явственно услышал ее голос… Ах, да это же Хатира успокаивает разыгравшихся братьев и сестричку!
— Братец, слышал я, что вы недавно проведали Арслана Ульмасбаева, — осторожно заговорил Нишан-ака, устремив на собеседника пытливый взгляд. — Как он себя чувствует?.. Вы правильно поступили. Люди, родившиеся и выросшие в одной махалле, должны заботиться друг о дружке. Скоро ли он выйдет на работу? Все-таки… райисполком без председателя…
— Лаббай? — перебил Аббасхан Тураевич гостя, вздрогнув, будто его окатили ушатом холодной воды. — Что вы изволили сказать?.. Я и не думал его проведывать!.. Слышал я, что он продавал квартиру, предоставленную ему государством, и живет сейчас на эти деньги. Распущенный он человек. Жену выгнал из дома… Вы знаете его жену?..
— Знаю.
— Дочь покойного Хумаюна Саидбекова, которого вся республика знала. Наш секретарь горкома партии Марат Саидбеков ее брат. И такого человека выгнать!
— Дело-то обстоит совсем не так…
— Когда мне рассказали про такое, я ушам своим не поверил! До чего же может опуститься человек! Немало и другого мне порассказали о нем. Вы, Нишан-ака, не очень-то похаживайте к нему, поберегите свой авторитет. Вы же рабочий человек, старый член партии. А о нем со временем мы еще многое узнаем…
— Что именно?
— Такое, от чего другой бы постеснялся знакомым в глаза смотреть.
— Кто вам наговорил всякую чушь? — вспылил Нишан-ака.
— Э-э, дорогой мой человек, не будьте простаком. Комиссия-то недаром работает.
— Клевета все это!
— Что клевета?
— Все! И то, что «мы узнаем»!
— Я сказал, что слышал. А если это клевета, подите докажите.
— Кому доказывать-то? — почти закричал Нишан-ака.
— Комиссии, разумеется.
— Надо будет — докажу! Я думал, братишка Худжаханов, вы еще не совсем утеряли совесть, и по простоте душевной беспокоился о вашей чести. А честь-то свою вы, оказывается, давно потеряли… В народе говорят: «Ничто не проходит бесследно». Так что зря вы в такие дни покинули его, зря!..
Аббасхан Тураевич сидел, облокотившись о стол и обхватив голову руками. Он не проронил более ни слова, хотя упреки Нишана-ака крепко задели его. Теперь он желал одного — чтобы его гость поскорее ушел. Другого, может, обругал бы и даже выгнал, а этого нельзя. Все в махалле его уважают. Все на его стороне будут. Оскорби он аксакала, с ним, Аббасханом Тураевичем Худжахановым, никто в махалле и здороваться не будет. Да и на заводе, где он работает более четверти века, у него все друзья. Нет, лучше поостеречься.
Нишан-ака встал и вышел из-за стола. Хозяин не пошевелился. Он не пошел, как положено, проводить гостя до калитки. Это сделала дочка.
Нишан-ака вышел на улицу и затворил за собой калитку.
Почти тотчас послышался сигнал автомобиля. Аббасхан Тураевич усмехнулся и проговорил вслух:
— Но в народе еще и так говорят: «С должностным лицом поспоришь — беду на себя накличешь». Я тебе припомню это!
Едва Худжаханов ввалился в кабину, шофер начал объяснить, что в пути у него испортилась машина. Худжаханов махнул рукой:
— Поехали!
Глава третья
ПЛОДАМ ПРЕДШЕСТВУЮТ ЦВЕТЫ
О чем только не думает человек, оставшись один. А тем более — если он пребывает в одиночестве третий месяц.
Перед глазами Арслана прошла вся его жизнь.
…Была ранняя весна 1939 года. Все чаще, разрывая сырой полог туч, выглядывало и щедро пригревало землю солнце. На обочинах дорог дотаивали грязные сугробы. От них разбегались и впитывались в землю ручейки. Одинокая ворона сидела на макушке тополя и каркала: кар, кар![35] Но мальчишки швырнули в нее камень и прогнали прочь злую провозвестницу. Она перелетала с тополя на шелковицу, с шелковицы на орешину и, озираясь вокруг, вторила свое кар-кар. Видя, что не в силах остановить природу, она нырнула вниз с купола мечети и, едва не коснувшись грудью мокрой земли, взмыла снова и унеслась в неведомую даль.
…В одну из суббот июня в педагогическом институте распространился слух о том, что все студенты, кроме выпускников, отправятся на строительство Каттакурганского водохранилища.
В коридоре у доски объявлений собрались студенты. Арслан протиснулся между ними и увидел большой лист ватмана, исписанный крупными красными буквами.
Когда третьекурсники сидели в ожидании преподавателя, в аудитории появился недавно избранный секретарем комсомольской организации института худенький, невысокий паренек Бурхан. Он объявил, что в понедельник все должны явиться с необходимыми вещами и что они выезжают на полтора месяца на стройку.
Предстоящая дорога, поездка в поезде, работа на крупном строительстве, о котором писали в последнее время все газеты республики, ежедневно говорили по радио, привела Арслана в неописуемый восторг. Теперь надо подумать о том, что он возьмет с собой. Одеяло, чехол для матраца — там набьет его соломой. Кружку, ложку и алюминиевую миску. А еще он непременно захватит с собой томик стихов Лермонтова и толстую тетрадку в коленкоровой обложке, куда он записывает собственные стихи, афоризмы, высказывания великих людей. Да, как бы не забыть свой любимый маленький кинжальчик с костяной инкрустированной ручкой…
Для Арслана, не выезжавшего никуда далее окраин Ташкента, поездка на стройку Каттакурганского водохранилища была великим событием, представлялась ему чем-то необыкновенным. В те годы по всей стране гремела слава героев, покоряющих Северный полюс. Отважные летчики спасли челюскинцев, папанинцы высадились на дрейфующей льдине, Чкалов с экипажем перелетел через Северный полюс в Америку. И комсомолец Арслан Ульмасбаев горел желанием хоть чем-то походить на овеянных славой героев.
Собрались в просторном конференц-зале. Перед студентами с краткой речью выступил директор института. Он упомянул, какие великие стройки развернулись в настоящее время в нашей стране, рассказал о значении будущего водохранилища для нашей хлопкосеющей республики и призвал студентов к трудовым победам.
Затем выступили преподаватели и студенты старших курсов. А поэт Зафар Дияр прочитал несколько своих стихотворений. Арслан, с трудом протиснувшийся в зал, стоял сжатый со всех сторон и с волнением внимал каждому слову поэта. Строчку из его стихотворения: «В скромности сокрыто совершенство, в спеси прячется порок…» — Арслан записал в свою тетрадку.
Слово взяла студентка русской группы Елена Стемповская. Арслан давно симпатизировал этой девушке, а потом они подружились. Елена учила Арслана русскому языку, а Арслан учил ее разговаривать по-узбекски. Он даже написал стихотворение «Елене Стемповской» и поместил его в стенной газете. Елена прыгала от радости и даже, обняв его, поцеловала в щеку.
Узнав, что Арслан пишет стихи, Елена подарила ему книги Тютчева, Байрона и Лермонтова. Вручила со словами: «Пусть они будут твоими учителями».
По узбекскому обычаю полагается, получив подарок, ответить тем же. Арслан долго думал, что подарить Елене. В один из дней он принес ей вышитую сестрой красивую тюбетейку и на перемене, когда Елена разговаривала с подругами, надел ей на голову.
Арслан и Елена дружили давно. Но ни разу нигде не были вдвоем. Наконец он решился пригласить ее в кино. Вечером они встретились у кинотеатра «Хива» и пошли на кинофильм «Если завтра война…». Провожая девушку домой, он хотел поцеловать ее, но она обиделась. Сказав, чтобы он дальше ее не провожал, она ушла не попрощавшись. Арслан долго стоял на месте смущенный…
Студенты, одетые по-дорожному, собрались во дворе института. Они разделились на группы и ждали машин, которые должны были везти их на вокзал. Арслан с товарищами сидел на мешках и пил горячий чай, наливая из термоса. В группе девушек, проходящих мимо, он увидел Елену. Передал термос Захиди и, вскочив, окликнул девушку. Они поздоровались. Арслан, не глядя ей в лицо, спросил:
— Ты на меня все еще сердишься?
— Ну что ты! — сказала Елена и засмеялась. — Мы еще не ссорились.
Они постояли молча. Потом Елена спохватилась, будто о чем-то вспомнила, пожелала ему счастливого пути и заспешила к дожидавшимся ее в сторонке подружкам.
Арслан смотрел ей вслед, пока она не затерялась среди пестрой толпы студентов.
Машины доставили их на вокзал как раз к поезду. Молодые строители ехали в Каттакурган. Каких-нибудь два-три месяца назад Арслан не знал о существовании такого города в его краю. А теперь вряд ли найдется в республике человек, не слыхавший о строительстве огромного водохранилища около Каттакургана.
За окном мелькали огни полустанков, за которыми угадывался необъятный простор неосвоенных земель. Сколько еще надо провести каналов, соорудить водохранилищ, чтобы оживить эти места…
Ребята пели песни, резались в карты, рассказывали анекдоты. Далеко за полночь их сморил сон. Были заняты все полки. Даже самые верхние, предназначенные для чемоданов. Место себе Арслан отыскал с трудом. Вскарабкавшись наверх, сдвинул на край чьи-то узлы, бросил телогрейку, лег на нее и скоро уснул, убаюканный мерным постукиванием колес.
Арслану показалось, что он только что уснул, что и минуты не прошло, как он закрыл глаза, и вдруг резкий голос: «Подъезжаем! Подъ-ем!..» — заставил его вскочить. В окна смотрелось розовое небо. За песчаными барханами вставало солнце.
Ребята сползали со своих полок, собирали вещи. Через несколько минут поезд подкатил к станции Каттакурган. Студенты высыпали из вагонов на перрон.
Встретивший их представитель штаба строительства, взобравшись на высокую двухколесную арбу, произнес короткую речь. Он объявил, что студентам Ташкентского пединститута предстоит работать на Янгикурганском участке. Прибывшие отправились на свой участок пешком, погрузив вещи на специально присланные арбы и на ослов.
От Каттакургана к кишлаку два пути: дорога переваливала через пологий холм и тянулась степью, а берегом реки извивалась тропка. Прибывших строителей повели по дороге. Ноги проваливались в мягкую пыль. Погромыхивали арбы, перекликались возницы. Над степью плыло желтое облако пыли и медленно оседало на жухлую полынь.
Как только поднялись на холм, увидели вдалеке небольшой кишлачок. Сопровождающий сказал, что это и есть Янгикурганча. Он уютно расположился на берегу поблескивающей вдалеке Карадарьи. С одной стороны окаймлен холмами, по другую его сторону, то разделяясь на несколько рукавов, то снова сливаясь в одно русло, течет быстрая Карадарья.
Отсюда были видны приземистые глинобитные домики с плоскими крышами, на которых сушились фрукты и были сложены небольшие стога сена. Во дворах росли деревья, виноградники. Ветер доносил запах кизячного дыма. То в одном конце кишлака, то в другом ревели, перекликаясь, ослы. Арслан сразу же отметил, что тут очень уж много ослов. Кто бы ни повстречался им по дороге — старик ли, женщина, малыш ли, — никто не шел пешком, обязательно ехали на осле. Видимо, эти неприхотливые, трудолюбивые животные сами добывали себе корм, бродя по необъятной, выжженной солнцем степи, а утолив голод, возвращались домой и служили хозяину.
Студентов разместили в клубе и в домах колхозников, которые выделили для них свободные комнаты.
Землянки, вырытые у самого подножья холма, уже были заняты колхозниками, прибывшими из Кызылтепинского района Бухарской области.
На рассвете в кишлаке Янгикурган заревели карнаи[36]. Тысячи людей с кетменями, кирками, лопатами на плечах направились в холмистую степь, чтобы копать землю. Работы развернулись на трассе протяженностью в пятнадцать километров. Предстояло «рассечь» высокие холмы и провести сквозь них канал, по которому вода поступит из Карадарьи в водохранилище.
Через несколько дней Арслана назначили десятником. Работая со всеми наравне, он еще и вел учет работы, выполненной каждым, выпускал боевой листок. Каждый вечер, когда все шли в лагерь, где их ожидал ужин и отдых, он отправлялся в штаб и давал сведения главному прорабу.
А потом, когда на землю опускалась ночная прохлада, когда все вокруг стихало и лишь цикады продолжали свою звонкую песню, Арслан, Захиди и Бурхан отправлялись к реке. Нередко туда же Арслан брал и свой остывший ужин, оставленный для него друзьями. Они подолгу сиживали на берегу, любуясь отраженными в воде звездами, луной, поверяя друг другу мечты. Им очень хотелось приехать сюда этак лет через пять — десять и увидеть, как преобразился край.
Иногда друзья уходили. А Арслан оставался один, сославшись на то, что нужно кое о чем подумать. И думал. Об отце, о матери. О Елене тоже. Почему-то, когда он думал о Елене, в голову приходили стихи. Чаще совсем не связанные с ней, просто стихи о природе. И он записывал их. Чтобы позже послать девушке…
В кишлак Янгикурганча прибыли первые номера многотиражки «Каттакурган хавузи». Редактором ее был студент Самаркандского государственного университета Рашидов, с которым Арслан недавно познакомился в штабе. Арслан еще не знал, что джигит, которого интересовало все, даже мельчайшие подробности о стройке на Янгикурганском участке, — редактор газеты. Между ними завязался оживленный разговор. Собеседник его был высок, строен. Иссиня-черные, слегка вьющиеся волосы зачесаны назад. Разговаривая, смотрит в глаза, будто хочет узнать и то, что собеседник, может быть, забыл сказать.
К ним подошел плечистый, коренастый парень. Рашидов хлопнул его по плечу и представил Арслану.
— А это Аскар, — весело сказал он. — Корреспондент нашей газеты и поэт. Так что, если он попадет на ваш участок, прошу любить и жаловать!
С этими словами джигит отошел, оставив их вдвоем с Аскаром. Они разговорились о поэзии и любимых поэтах. От Аскара-то Арслан и узнал, что только что беседовал с редактором «Каттакурган хавузи», с которым давно искал встречи, чтобы показать свои стихи. Аскар согласился сам ознакомиться с его стихами, и Арслан отдал их ему, вырвав из блокнота несколько исписанных листков.
Через несколько дней одно из его стихотворений появилось в газете. После этого в ней часто печатались корреспонденции о передовиках строительства, под которыми значилась подпись — А. Ульмасбаев.
…Трое джигитов, трудившихся в поте лица, вечером пришли по обыкновению к реке. Стоя по колено в воде, умылись. Может, поплавали бы, отыскав тихую заводь, да не было сил. Вода неслась, будто спешила покинуть эту знойную землю, где так нещадно палит солнце. Невдомек ей, что она сама может взрастить могучие деревья, целые рощи и фруктовые сады, и тогда они будут оберегать ее, воду, своей тенью. Что ж, ей помогут люди. Не зря же они прибыли сюда…
— О чем замечтался? — крикнул Захиди с берега.
Арслан обнаружил, что стоит в реке один и пристально смотрит на воду. Его друзья уже оделись и устроились, свесив ноги, на сури, поставленном неподалеку от берега.
Арслан вытер лицо и, неторопливо надевая рубаху, подошел к ним.
Бурхан был мастер рассказывать анекдоты. Вот и сейчас ему вспомнился пикантный анекдот о Насреддине-афанди, который он не преминул тут же рассказать. Друзья смеялись, слушая, как попал впросак незадачливый жених Насреддин-афанди.
В этот момент на берегу появилась девушка с ведром. На ней был белый халат. В сумерках ее нельзя было рассмотреть, но скорее всего это была медсестра из амбулатории.
— Ай да красавица, легка на помине! — воскликнул Арслан, хлопнув в ладони. — Быть бы мне на месте Насреддина-афанди, а тебе на месте его суженой, я бы не растерялся!..
И опять втроем громко рассмеялись. И вдруг разом умолкли. Теперь на их лицах было больше растерянности и испуга, чем веселья. Потому что девушка обернулась и, даже не набрав воды, направилась к ним. «Сейчас подойдет и влепит пощечину!» — подумал Арслан.
Но девушка остановилась в трех шагах от веселой компании и спросила:
— Вы мне что-то сказали, Арслан-ака?
Парни переглянулись. Они часто встречали на строительных участках эту молоденькую девушку, ходившую неизменно в белом халате и с белым чемоданчиком, на котором был выведен маленький крестик. Конечно, там, где редко встречаешь женщину, и некрасивая привлекает взгляд. А эта была стройна, красива, брови черные, как крылья ласточки, а глаза что спелый виноград. Не один джигит вздыхал, когда она проходила мимо, и, приостановив работу, долго смотрел ей вслед. Но взгляд у девушки был строг, и никто не смел заговорить с ней. И они считали счастливцем того, кто поранил себе руку или ногу, а девушка, отвлекая пострадавшего оживленным разговором, делала перевязку.
Как услышал Арслан свое имя из уст ее, у него к горлу подступил комок, и он не смог произнести ни слова.
Девушка усмехнулась, пожала плечами и, повернувшись, вновь пошла к реке.
Бурхан больно ткнул Арслана локтем:
— Сказал бы словечко, растяпа! Ты что, онемел? Сама, своими ножками, притопала, а ты как в рот воды набрал! Эх, ты!..
— Хватай за хвост птицу счастья, коль вьется над тобой! — поддержал приятеля Захиди.
Арслан резко встал и направился к клубу, где они сейчас жили, откуда доносились звуки рубаба и чья-то песня. Поразмыслив, свернул в сторону степи. Казалось, что в груди у него пылает огонь, — может, степной ветер погасит его…
Но степной ветер не погасил огня, вспыхнувшего в тот вечер в сердце Арслана. Вот уже сколько дней прошло, а он все думал о девушке. Видел ее нежное лицо, настороженный, внимательный взгляд… Расспрашивал у друзей, откуда приехала эта девушка. Никто этого не знал.
Наконец решившись, во время обеденного перерыва он спустился к основанию холма, прикрывшего от знойного ветра выстроившиеся в ряд палатки, отыскал нужную ему палатку. Он узнал знакомый голос, доносившийся изнутри. И вдруг растерялся, обнаружив, что нет двери и постучать некуда. Вместо этого он кашлянул и, взявшись за полог, спросил:
— Можно?
В палатке стояли рядышком две раскладушки. На них сидели друг против друга знакомая девушка и пожилая русская женщина, тоже в белом халате. Они ели бутерброд, запивая чаем, и беседовали. При появлении Арслана они обернулись, вопросительно посмотрели на него. Он поздоровался и продолжал топтаться у входа, не зная, что делать дальше. Выручила его девушка.
— Вам нездоровится? — спросила она и, быстро встав, придвинула ему табуретку.
— Угу, — солгал Арслан. — Знобит… Голова болит…
— Поставьте ему градусник, — сказала врач, стряхивая в ладонь крошки с газеты, разостланной у нее на коленях.
— Сейчас, — сказала девушка и, еще раз окинув Арслана взглядом, отчего его действительно бросило в жар, взяла из стакана градусник и протянула ему: — Поставьте.
— Откуда вы меня знаете? — спросил Арслан.
Девушка улыбнулась, глаза ее лукаво блеснули.
— Вы же все время на виду, как звезда во лбу коня. Обращаешься к кому-нибудь: «Нет ли на участке больных?» — отвечают: «Спросите у Арслана Ульмасбаева!» — «Довольны ли жильем, питанием?» — «Это Ульмасбаев знает!» Кроме того, я читала ваши стихи в газете. Мне всегда казалось, что стихи пишут необыкновенные люди.
— И разочаровались, не найдя во мне ничего необыкновенного?
Девушка улыбнулась.
— Почему же? Нашла…
— Что?
— Вы настолько высокомерны, что не хотите признавать соседей.
— Я!.. Да что вы! — теперь рассмеялся Арслан. — Каких еще соседей?
— Меня, например.
— Ва-ас?
— В Ташкенте вы живете в махалле Оклон, а я в той махалле, что рядом. Когда вы ходили в школу, всегда проходили мимо нашего дома. Я видела вас то в окно, то играя на улице с подружками… А однажды я набрала в саду полный подол груш и, перепрыгнув через арык, рассыпала все в пыль. Вы как раз проходили мимо и помогли мне собрать. Неужели не помните? — сказала девушка и, заметив, как у Арслана от изумления все более вытягивается лицо, рассмеялась. — А сейчас я учу ребятишек в той же школе, где учились вы. Во время каникул решила потрудиться на стройке…
Он смутно припоминал босую девочку в выгоревшем ситцевом платьице и вылинявшей тюбетейке, едва не упавшую тогда в арык…
— А как вас зовут? — еле слышно спросил он, дивясь тому, как время преображает людей.
— Барчин.
— Красивое имя.
— А сама я разве не красива? Приглядитесь-ка получше! — засмеялась девушка, стараясь придать разговору шутливый тон.
Что ж, в каждой шутке есть доля правды. И Арслан выпалил:
— Вы столь красивы, что подходите только такому молодцу, как я.
— Ого, смелый джигит, не слишком ли много вы на себя берете? — сказала Барчин, залившись краской. — Давайте градусник!
Арслан подал.
— Температура у вас нормальная. И здоровье прекрасное. Ступайте и найдите занятие для своих рук, вместо того чтобы болтать языком!
В субботу он снова встретил Барчин. Она появилась на трассе со своим чемоданчиком. Девушка приветливо кивала знакомым, улыбалась. С трудом пробираясь между грудами земли, она заметила Арслана. Кивнула ему, как старому знакомому. Только хотел было он подойти к ней, как около нее появился какой-то долговязый парень в темных очках и пестрой рубашке навыпуск. Он взял ее за руку и, разговаривая, не выпускал ее ладошку, хотя девушка пыталась освободить ее. Арслана взяла досада на этого фасонистого парня. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не подойти и не сказать: «Послушайте-ка, оставьте девушку в покое!»
Парень и Барчин, о чем-то разговаривая, медленно удалились и вскоре скрылись за пеленой желтой ныли.
«Кто же этот парень?» Арслан понял, что не найти ему покоя, пока не узнает этого.
Вечером, изменив привычке, он не стал засиживаться на берегу Карадарьи, а, оставив Захиди и Бурхана одних, поспешил к тропинке, по которой Барчин обычно возвращалась в свою палатку. Ждать пришлось недолго. Увидев его, Барчин остановилась. Потом они медленно пошли рядом.
— Кто этот парень, с которым вы так задушевно сегодня беседовали? — спросил наконец Арслан, когда они подошли к палатке.
— Корреспондент. А что?
— Вы давно с ним знакомы?
— Второй день… А почему это вас интересует?
— Мы же соседи, — грустно улыбнулся Арслан и взял ее за руку, — а соседке положено покровительствовать.
Девушка окинула его удивленным взглядом, освободила руку и, ничего не сказав, исчезла за пологом.
Арслан минуту постоял, ошеломленный внезапно пришедшей мыслью: «Лжет, что второй день знакомы! Наверно, давно встречаются. Степь широкая, далеко можно уйти от любопытных глаз…» Он резко повернулся и зашагал прочь.
Странной особенностью обладает девичья натура. Если девушка замечает, что джигит проявляет к ней интерес, она напускает на себя безразличие. И чем больше внимания ей джигит оказывает, тем она становится высокомернее. Но стоит вниманию этому ослабнуть…
Вот и Барчин гадала нынче, почему Арслан не смотрит в ее сторону, когда она проходит мимо. Так увлечен работой, что ничего вокруг не видит?
Барчин несколько дней кряду намеренно ходила на участок, где работал Арслан. Он ни разу не подошел. «Ну и не надо!» — подумала Барчин, с трудом удерживая слезы.
Отец говорил Арслану, приучая его рано вставать: «Поздняя птичка корм ищет, а ранняя уже клювик чистит». Но Арслан по утрам всегда поднимался с трудом. То ли дело их староста Захиди — встает еще затемно. Правда, он постарше своих товарищей, в армии уже отслужил, видно, там и приучили рано вставать. Перекусив, он тут же отправлялся на трассу, не дожидаясь, пока встанут товарищи. Арслан в первое время гадал, какую же работу табельщик находит там, если все строители еще в постелях. И потом только узнал, что Захиди совершает прогулки по степи, дышит прохладным, чистым утренним воздухом, когда сильно пахнет джувшан — степная полынь. Прогуливаясь, он напевает один и тот же куплет:
Обними меня, тонкобровая,
Не робей, черноокая!
Заласкай до беспамятства,
Пусть тоски в душе не останется!..
Другой песни он, видно, не знал.
Сложением Захиди обладал батырским. Поэтому нередко ему доводилось слышать упреки: «Вот помахал бы тут кетменем с наше, узнал бы, что такое настоящая работа…» Захиди обычно подобные колкости пропускал мимо ушей и вымеривал шагами степь, как говорится, в ус не дуя.
Арслан не замечал, скучает ли Захиди когда-нибудь по своей семье, оставшейся в Ташкенте. Был он медлителен, но уверен в себе и не вздыхал по пустякам.
И теперь, стараясь подавить в себе вспыхнувшее чувство к Барчин, Арслан хотел уподобиться Захиди — ни о чем не думать, знать только свое дело. Он понял также, что у таких людей имеется своя философия, которой они неукоснительно следуют.
Арслан даже стал, шутки ради, записывать некоторые высказывания Захиди в той самой тетради, куда вносил афоризмы древних поэтов, прославленных философов.
Как знать? Может, Захиди и прав. Кому не ясно, что лучше жить спокойно, без всяких треволнений, чем страдать по всякому поводу.
В голове назойливо звучало:
…Заласкай до беспамятства,
Пусть тоски в душе не останется!..
За окном начинала заниматься заря. Арслан, как бы желая избавиться от тягостных мыслей, откинул одеяло и вскочил. Захватив полотенце, побежал к Карадарье. Хорошо по утрам освежиться в реке. Не просто умыть лицо, а с разбегу плюхнуться в воду. Арслан снял почти на ходу спортивный трикотажный костюм и, бросив его на влажную от росы траву, сильно оттолкнулся от берега. Вода ожгла тело. Здесь было не очень глубоко, и он руками коснулся дна. Через минуту выскочил на берег и стал обтираться полотенцем. Тело сделалось красным. Он торопливо оделся и припустился обратно бегом, чтобы согреться.
Наскоро перекусив, Арслан сунул в карман книжицу-табель и, вскинув на плечо кетмень, направился на трассу. Ребята еще только выходили из домов и направлялись к реке умываться. Но Арслану хотелось приступить к работе чуть пораньше, чтобы пораньше освободиться: ведь пока не выполнишь норму, не уйдешь с трассы, а ему нужно еще и в штаб поспеть засветло.
Пыльная тропинка, по которой он шел, обогнула холм. Наверху он увидел Захиди, стоявшего в одних трусах. Он выбрасывал вперед руки и приседал — делал зарядку. Розовые лучи восходящего солнца коснулись холма и осветили фигуру Захиди, которая напоминала греческого бога Зевса, с высоты Олимпа обозревавшего свои владения.
Захиди рукой поманил к себе Арслана. Пока Арслан карабкался по склону, оскальзываясь, цепляясь за уступы камней и ветки кустарника, он успел одеться.
— Погляди, — сказал Захиди, поведя вокруг себя рукой.
На трассе еще было безлюдно. По ее бокам возвышались горы красноватой земли, похожие издалека на кучки, возводимые кротами у своих норок. Канал изо дня в день углублялся и приближался к городу Каттакурган. На дне канала лежали брошенные с вечера тачки, носилки, сиротливо стояли наклонившиеся набок арбы. Правее, подле холма, похожего на отдыхающего верблюда, виднелись землянки, юрты строителей. Между ними спиралью вились к небу синеватые струйки дыма. И всюду были люди. Одни суетились около очагов, готовя еду, другие сгоняли из степи напасшихся за ночь ослов, которым тоже предстояло приниматься за работу.
Арслан подумал, что в степи, которая в течение веков слышала только пенье птиц, писк сусликов да стрекотанье кузнечиков, сейчас многолюднее, пожалуй, чем в городе.
Он и Захиди долго стояли рядом и молча смотрели на трассу, по которой проляжет канал. Потом не спеша спустились с холма и направились на свой участок. Здесь они застали нескольких человек, тоже предпочитавших начинать работу, пока прохлада не сменилась жарой.
Друзья разошлись по своим местам. Арслан поплевал на ладони и принялся за дело. Он работал не спеша, экономил силы, чтобы их хватило до конца дня. Кетменем взмахивал плавно, как учил отец, и, опуская его, не прилагал усилий, чтобы он врезался в землю от собственной тяжести. Потом рывком отбрасывал землю назад. Теперь у него был некоторый опыт. А в первый день он торопился. Пока работавший рядом колхозник раз взмахнет кетменем, Арслан успевал дважды. По пороху в нем только до полдня и хватило. Ладони покрылись волдырями. Теперь же они стали жесткими и блестели, как полированные. И плечи не так болят. Главное — не спешить, и все пойдет на лад. Поднимать кетмень при вдохе, опускать при выдохе. Вот так — р-раз!.. Р-раз!.. Как учил отец.
Когда увлечешься работой, не замечаешь, как проходит время. И вообще ничего не замечаешь вокруг. Арслан вот не заметил, когда это здесь собралось столько народу. Поставил кетмень, чтобы перевести дух да пот с лица смахнуть, и вдруг увидел, что вокруг работа кипит. Сотни, нет, тысячи кетменей мелькали вокруг. Где каменистая почва не поддавалась, долбили ее кирками. Одни тащили землю наверх, высыпали и снова возвращались уже по другой тропе. Другие заполняли землей хурджины и возили их на ослах. Наверно, таким же способом сотни лет назад древние египтяне возводили пирамиды. Но что толку с тех пирамид? Ради чего было пролито столько пота? Загадка… А канал даст жизнь степи. Ради этого стоит потрудиться.
Арслан опять поплевал на ладони и взялся за кетмень.
До обеденного перерыва оставалось несколько минут. Арслана окликнули. Сказали, что его кто-то ищет. Арслан увидел приближающегося к нему Аскара и пошел ему навстречу. Они поздоровались за руку, как давнишние друзья. Аскар, оказывается, приехал за Арсланом. Сказал, что с ним хочет побеседовать редактор газеты и им необходимо сейчас же поехать в Каттакурган. Для чего — Аскар не знал или просто не хотел заранее говорить. Они вместе разыскали прораба участка и, получив у него разрешение, поехали в Каттакурган. Аскар, оказывается, попросил шофера колхозной полуторки, чтобы тот их подождал. Машина как раз ехала в Каттакурган за продуктами.
Машина то, натужно ревя, взбиралась на холмы, то стремительно неслась под уклон. Ребята стояли в кузове, держась за крышу кабины. Встречный ветер холодил вспотевшее тело. Дорога петляла, огибая увалы. Вдоль трассы нависло слоистое облако пыли, по нему можно было определить направление канала. Машина бежала, то чуть отдаляясь от трассы, то снова приближаясь к ней.
Впереди из желтого марева появились деревья и прятавшиеся между ними мазанки. Показалось белое здание с железной крышей, и около него стоял товарный поезд. Арслан догадался, что они подъезжают к станции.
Аскар положил руку приятелю на плечо и сказал:
— Мы едем по дну моря. — Заметив недоумение во взгляде Арслана, добавил: — Эти места останутся под будущим водохранилищем. — Вскинув руку и посмотрев куда-то вверх, крикнул: — Здесь будут разгуливать волны! Настоящие, морские!.. В кабинете нашего редактора висит проект.
— А как же те кишлаки?
— Людей переселят.
— Весь город переселят? Ведь его тоже затопит вода…
— Не-ет! Взгляни во-он туда! Видишь людей?
— Вижу. Копают канал…
— Ничего подобного. Это вы копаете канал. А здесь возводится дамба. При этом используются и естественные холмы. Таких дамб будет несколько, чтобы удержать воду в этом огромном резервуаре. Об этом печатался мой очерк в газете. Не читал?
Арслан промолчал. Тот номер газеты он, видно, пропустил. Не всегда бывает время почитать.
— Значит, это море будет моложе нас, — сказал он задумчиво. — На двадцать лет…
Аскар хлопнул его по плечу:
— Ха! Молодец! Хороший заголовок ты мне дал для очерка — «Море, которое моложе нас!». Редактору поправится. — И неожиданно сказал: — Сегодня утром приехали Усман Юсупов и Юлдаш Ахунбабаев.
— Почему же нам никто не сказал? — удивился и даже обиделся Арслан.
— Усман-ака не велел. «Пусть, говорит, люди спокойно работают». А вечером состоится митинг. Мне надо подготовить выступление нескольких колхозников. Ты поможешь?
— Охотно. Для этого ты и привез меня сюда?
— Не только. Потерпи — узнаешь.
— А почему надо готовить кому-то выступления? Разве люди сами не могут сказать то, что они хотят, как умеют?
— Ну, понимаешь, нужно, чтобы складно…
— Складно, да чужие, не свои мысли…
— А зачем свои? Они должны сказать то, о чем все думают, весь наш огромный коллектив строителей!
— Не знаю. — Арслан пожал плечами. — Во всяком случае, меня настораживает, когда человек выступает, поминутно поглядывая в шпаргалку. Будто в голове у него ничего нет, все на бумаге.
Они ехали по неширокой тенистой улице. Аскар вдруг спохватился и постучал по крыше кабины. Машина резко затормозила. Друзья спрыгнули на землю, поблагодарили шофера, и полуторка поехала дальше, на базу.
Редакция располагалась в небольшом домике на краю базара. Знакомый уже Арслану редактор приветливо встретил его. Жестом указал на свободный стул. В его тесном кабинете сидело еще несколько молодых ребят, по-видимому, студенты.
— Так вот, — произнес Рашидов, сев на свое место и продолжая прерванную появлением Арслана и Аскара беседу. — Я сегодня пригласил вас, наиболее активных корреспондентов нашей газеты. Мне нравится, что вы умеете подметить главное…
Арслан знал, что Рашидов сам только студент четвертого курса, и теперь дивился тому, как хорошо он, несмотря на свою молодость, умеет организовать дело. Как многоопытный товарищ, дает советы молодым корреспондентам, поясняет, что и как отбирать из внешне однообразной жизни, чтобы материалы не были схожи один с другим.
Редактор потребовал присылать побольше хорошего материала о строителях канала.
Примерно час длилась эта беседа. В заключение редактор сказал, что в пять часов состоится митинг и желательно, чтобы все присутствующие там были.
Когда все стали расходиться, Рашидов остановил Арслана. Взяв его под руку, заметил:
— А вы давно нам не присылали своих стихов.
Арслан не нашелся, что ответить. Не скажешь же, что нет настроения. С тех пор, как он разочаровался в Барчин, ни одной строчки не написал.
— Ну ладно, — сказал редактор, добродушно улыбаясь. — Я понимаю, что стихи заказывать нельзя. А корреспонденции шлите чаще.
— Договорились, — улыбнулся Арслан.
— Вот и хорошо.
Около пяти часов со всех сторон к площади напротив штаба строительства стали стекаться люди. Они шли прямо с работы, с кетменями, кирками. Знакомого встретишь, да не узнаешь — на пыльных лицах блестят глаза да зубы.
Напротив трибуны, наскоро сколоченной из досок и обтянутой кумачом, землекопы сидели прямо на земле, скрестив ноги. Те, кто был подальше, стояли. С каждой минутой становилось теснее. Люди все тли и шли.
Над многотысячной толпой стоял гул. И вдруг люди замерли. На трибуну поднялись председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана Юлдаш Ахунбабаев, секретарь ЦК партии Узбекистана Усман Юсупов, председатель Совета народных комиссаров республики Абдуджаббар Абдурахманов. Вслед за ними поднялись руководители стройки. И вдруг тишину разорвал гром рукоплесканий.
Усман Юсупов поднял руку, требуя тишины. И когда стало тихо, он зачитал письмо, присланное И. В. Сталиным на имя строителей первого в Средней Азии водохранилища. После этого Усман-ака выступил перед собравшимися с пламенной речью.
Арслан и Аскар стояли неподалеку от трибуны. Им было хорошо видно сидящих за столом Ахунбабаева, Калюжника, Саидбекова. О последнем Арслан много слышал. Он часто посещал участки строительства, лично отдавал распоряжения. Но видел его так близко впервые. Вот Саидбеков снял очки и потер двумя пальцами переносицу. Его лицо кого-то напоминало. Кого же?.. Арслан стал перебирать в памяти знакомых. Может, тоже встречал когда-нибудь в своей махалле или в соседней, да забыл?..
— Саидбеков до этого жил в Ташкенте? — спросил Арслан.
— Да, — отозвался Аскар. — Хумаюн Саидбеков чрезвычайно интеллигентный человек. Придешь к нему, — как бы он ни был занят, всегда найдет время для беседы. По профессии он, говорят, учитель истории. Но его выдвинули на партийную работу. Прекрасный человек, ко всем одинаково относится. Даже дочке исключения не делает. Может ведь ее устроить, чтобы со всеми удобствами. А нет, живет она в палатке, как все. Кстати, вон она. Весьма смазливая девочка.
Арслан посмотрел в ту сторону, куда указал Аскар.
— Во-он, около женщины в белом халате… Настояла, чтобы отец взял ее с собой. Романтика, видишь ли, влечет. На одном из участков работает медсестрой. Не пялься на нее, приятель, она тоже в нашу сторону смотрит.
Арслан вдруг встретился взглядом с Барчин. Она улыбнулась и едва заметно кивнула Арслану.
— Ого, да ты знаком с ней! — удивился Аскар. — Я вижу, ты даром времени не теряешь.
— Ты весьма наблюдателен. Может, и мысли читать умеешь?
— Почти. Профессия такая. Надо людей понимать с полуслова, по взгляду.
— Тогда угадай, о чем я сейчас думаю.
— О, это не так уж трудно, — усмехнулся Аскар. — Ты думаешь о том, как бы положить руки на талию этой девушки и привлечь ее к себе.
— Примитивно… Я думаю, где бы поживиться стаканчиком холодной воды.
— Залить пожар в сердце? — засмеялся Аскар.
— Утром позавтракал всухомятку.
Арслан опять поймал на себе взгляд Барчин. Сладостное волнение наполнило его. Ему хотелось сию минуту выбраться из толпы и подойти к ней, поздороваться, расспросить, что она все эти дни делала. Но это было не просто. На него бы заворчали. Внимание людей было устремлено к трибуне, где стоял Усман Юсупов и, слегка подавшись вперед, произносил речь. Его голос разносился далеко вокруг. Слова он выговаривал неторопливо, отчетливо, чтобы слышали все. Он рассказал, какое значение имеет Каттакурганское водохранилище для развития хлопководства в республике, пожелал успехов батырам-строителям. Было вручено переходящее красное знамя передовому участку.
После митинга Аскар пошел проводить Арслана до дороги, где они могли остановить попутную машину. Неподалеку от редакции они встретили Рашидова. Редактор пригласил их в чайхану попить зеленого чая. Арслану все еще хотелось пить. Он мечтал поскорее добраться до реки, лечь на берегу и, погрузив голову в воду, пить, пить досыта.
В чайхане они просидели до сумерек. Беседовали, обменивались мыслями о появившихся за последнее время произведениях видных писателей. Затем Рашидов и Аскар проводили Арслана до станции. Здесь ждать пришлось недолго. Они остановили машину, отправлявшуюся на Янгикурганский участок.
Снова степной ветер бил в лицо. На небе зажглись первые звезды. Они вечны, эти звезды. И это море, которое сейчас люди создают своими руками, будет вечным. Интересно все же видеть рождение моря!.. Пройдут сотни лет. Ни Арслана, ни Барчин уже на свете не будет. А море это останется таким же, каким они его сейчас создадут. А вместе с рукотворным морем будет жить и память о его создателях. Те, кто много веков спустя будут пить отсюда воду, ловить рыбу, выезжать на прогулку в лодке, наслаждаться прохладой садов, лакомиться персиками, виноградом, гранатами, будут вспоминать их, этих людей, трудившихся в поте лица, копошившихся на дне котлована. Или будут есть виноград, пить нектар, а про садовода и не спросят? Нет, этого не может быть. О славных деяниях батыров ведь слагаются дастаны[37] и передаются из уст в уста, из поколения в поколение. А этакое — сотворить море! — под силу ли обыкновенным людям? Это под силу батырам! Значит, будут о них жить легенды в веках…
Грохотавшая и подпрыгивавшая на ухабах машина выехала со дна будущего моря и поднялась на склон холма. И снова в синеватых сумерках открылась взору Арслана трасса. Люди, закончив работу, медленно расходились. Вокруг землянок, юрт и палаток горели костры, на которых готовился ужин.
Вспомнилась ему Барчин. Она, наверное, давно вернулась… Ему теперь было понятно, почему эта девушка, недавно окончившая десятилетку, решила приехать в эти глухие места. Ей было с кого брать пример — с отца. Знает ли кто-нибудь, что она дочь одного из руководителей стройки? Завидное качество, особенно для девушки, суметь умолчать об этом. Что ж, это говорит о том, что она умница.
Машина, прикатив на Янгикурганский участок строительства, остановилась около землянок. Арслан спрыгнул на землю. До кишлака отсюда идти минут десять. Он поблагодарил шофера и зашагал по дороге. Неподалеку двое мужчин, закатав рукава до локтей, свежевали зарезанную телку. Днем, когда он проезжал тут с Аскаром на машине, телка эта лежала, привязанная к колышку, и спокойно жевала жвачку. Перед ней лежал сноп свежезеленых стеблей джугары. С тоской глядя им вслед, она даже промычала: умм!.. Взгляд Арслана на секунду задержался на голове животного, лежавшего на траве: глаза были открыты, и ему показалось, что сейчас телка опять скажет ему: уммм!.. Он даже отчетливо услышал ее голос, в котором ему почудился упрек. Арслан быстро отвернулся и ускорил шаги, продолжая рассуждать: «Да, ничто на земле не может сравниться с человеком ни в доброте, ни в жестокости, ни в умении созидать и строить, ни в пристрастии разрушать… Бедное животное несколько часов назад радовалось жизни, благодарно смотрело на тех, кто оставил ей корм, а теперь спустя час-другой будет съедена… Тигр — кровожадный хищник, и корова об этом знает, потому при опасности бежит от него, спасаясь, а если может, оказывает сопротивление. От человека же она не убегает, как от хищника. Напротив, привязывается к своему защитнику, покровителю — и не замечает, как становится его жертвой. Что и говорить, каждый день здесь режут не менее сотни голов скота. Иначе нельзя. Люди трудятся, отдавая все силы до капли. Чтобы на следующий день суметь так же орудовать огромным кетменем, толкать по дощатому настилу тяжелые тачки с землей, нужно плотно поесть. Наверное, правда, что все, что ни есть на свете, — все для человека…»
Едва Арслан вошел в дом, ребята набросились с упреками. Они, оказывается, беспокоились, не зная, куда мог исчезнуть их друг. Даже еще не садились за ужин. Но его появление тут же приподняло у всех настроение, укоры перешли в шутки. Пока Арслан сидел молча, делая вид, что обиделся, каждый стал высказывать предположение, где он мог весь день пропадать. Комната оглашалась громким смехом.
— Если будете проявлять своеволие и бросать работу, когда вам вздумается, я сообщу об этом в комитет комсомола! — заявил Бурхан таким тоном, что на этот раз трудно было определить, шутит он или говорит серьезно.
— Как вам угодно, — отозвался Арслан.
— И родителям вашим будет сообщено! А по возвращении в институт придется обсудить ваш моральный облик, — сказал Бурхан, явно намекая, будто он все это время провел с медсестрой.
Арслан в упор взглянул на него, собираясь ответить порезче, но не успел рта раскрыть, как Захиди, смеясь, бросил:
— И соловушку вашу водворим в клетку!
Арслан махнул рукой, заливаясь краской, и, не выдержав, улыбнулся.
— Ребята, бросьте валять дурака. Я был на митинге, слушал выступление Усмана Юсупова! А ваши мысли совсем не в ту сторону направлены… Друг мой, праведник Бурхан, если бы я в самом деле провел это время с той девушкой, я был бы самым счастливым человеком на свете…
— Во-первых, никакой я вам не праведник! За это оскорбительное слово вы еще поплатитесь, когда прибудем в Ташкент. Во-вторых, мы сюда приехали не для того, чтобы цепляться за юбки каких-то вертихвосток!
— Я же не назвал вас «махсимча»[38], — сказал Арслан, еле сдерживая смех. — Ничего дурного не вижу в слове «праведник». И к тому же, если уж кому-то придется предстать перед товарищеским судом, то это вам. Вы только что девушку-комсомолку, прибывшую сюда по велению сердца, единственную дочь заместителя начальника строительства водохранилища, где мы все с вами трудимся, назвали вертихвосткой! Вот они, свидетели! Назвал он ее так?
— Чья?.. Чья она дочь? — морщась, спросил Бурхан с таким видом, как обычно переспрашивают, когда слышат несусветную чушь.
— Хумаюна Саидбекова!
Ребята переглянулись — верить ему или нет?
Минуту в комнате царило молчание. Потом Бурхан примирительно сказал:
— Не важно, чья она дочь… Я к тому… Не время сейчас про любовь думать. У нас сейчас более важные дела…
— Все важно, — сказал Арслан и, засмеявшись, добавил: — Для того нам и молодость дана, чтобы все успевать. — Он резко встал, хлопнул Захиди по плечу. — Так-то вот… Ну что, друзья, махнем на речку?
Ребята встали, начали шарить в темноте, отыскивая полотенца и мыльницы.
— Я почему на тебя зол? — проворчал Бурхан, не поднимая глаз, расстегивая пуговицу нагрудного кармана. — Целый день тебя искал. Весь участок обошел. — Наконец он извлек сложенный листок бумаги, протянул Арслану. — Телеграмма тебе. Написано «срочная», я и хотел срочно вручить. А ты как сквозь землю… Ни тебя не нашел, ни норму свою не выполнил. Эх!.. — Он досадливо махнул рукой.
Арслан развернул бумагу, попросил Захиди посветить спичкой.
«Срочно выезжай. Отец серьезно болен».
Глава четвертая
ЛИТЕЙЩИК МИРЮСУФ
— Гончары месят глину, обжигают горшки. Они не богатеют. А богатеют ювелиры, добавляя в свои изделия латунь. Поэтому в былые времена, если не могли найти вора, приказывали повесить ювелира, ибо не сомневались в праведности свершившегося…
Покровитель нашей профессии пророк Давуд — мастер. А посему способный из нас — литейщик, человек средних способностей — слесарь, а кто помоложе — кузнец… Нет у нас особой прибыли, но нет и убытка. Не богатеем мы, но и не впадаем в бедность, — рассуждал старый литейщик Мирюсуф-ата, лежа в постели. Запавшие глаза его влажно блестели, на лбу выступил пот. Голос его звучал тихо, и после каждой фразы он переводил дыхание. — И живем мы открыто, ничего не тая от людских глаз. Упрячешь ли что-нибудь, если все, что ты делаешь, да и ты сам, освещено святым огнем, который полыхает в печи… А взять, к примеру, скорняков, или сагричи[39], или даже простых кожевенников. Доходная у них профессия. Даже сосед не узнает, кто из них разбогател. Нечистым делом заняты — отсюда скрытность…
Теперь старик был неразговорчив. Мог весь день пролежать он, не проронив ни слова, и трудно было понять, дремлет он или бодрствует. В такое время в комнату старались заходить пореже, чтобы не беспокоить больного.
Мирюсуф-ата часто вспоминает прошлое, лучшие годы жизни. Самое неожиданное приходит сейчас на ум.
Вспомнилось ему, например, как жене, когда она была беременна Арсланом, захотелось вдруг змеиного блюда. Какая-то из знахарок убедила ее, что, если съесть такое кушанье, рожденный ребенок будет мудрым и сильным…
Минуло двадцать лет. Стремительно летит время. Быстро растет мальчик. Какой там мальчик, джигит уже!.. Пожить бы еще чуть-чуть, чтобы увидеть, как сын станет самостоятельным, приобретет специальность по сердцу, — и тогда ушел бы он, старый Юсуф, из жизни спокойно.
Что и говорить, не хочется расставаться с этим светом. Но так уж создан мир: все, что в нем есть живого, в конце концов умирает, уступает место новому. Поэтому мир вечен. Поэтому на наших улицах всегда резвятся, шумно играют, смеются дети и дома наши никогда не лишаются хозяев. Кто уходит из этого мира, не испытывая угрызений совести, — тот счастлив.
Семь поколений его предков были литейщиками — отливали котлы. Огромные чугунные котлы, отлитые его «апак дада» — «белым дедушкой», — до сих пор служат людям. Отливали также узкогорлые кувшины с длинным носиком, жаровни-мангалки, плошки для коптилок, формы для мыловаров, омачи — наконечники для сохи. Предки Мирюсуфа-ата были кустарями и не знали, что такое завод. А Мирюсуф пошел работать в мастерские, что открылись в новом городе.
В последнее время дела их шли из рук вон плохо, и отец начал было сетовать, что Давуд перестал покровительствовать их дому. На что Мирюсуф сказал: «Если нет Его Величества Давуда, то есть Его Величество Завод» — и отправился устраиваться на работу.
Тогда Мирюсуф-ата подружился со своим сверстником Матвеевым, который и сейчас довольно часто навещает больного.
— Да-а, хорошие были времена, — говорил Мирюсуф-ата, и глаза его загорались теплым светом. — В пору моего лета силу я имел неимоверную. Казалось, иду — и земля прогибается под ногами. Казалось, могу схватить одной рукой дерево и выдернуть его с корнем… Помнится, один вынимал из формы огромный махаллинский котел, в коем предполагалось варить плов из двух пудов риса! А котлы на пуд риса свободно поднимал и подавал отцу. Взвали один из таких котлов на лошадь, так хребет ее прогнется да повалится она, бедная…
Любил отец ремесло, доставшееся ему в наследство от дедов и прадедов. Всякий раз, когда речь заходила о профессиях, старик загорался и многословно доказывал, что ремесло дегреза — литейщика — стоит выше прочих ремесел.
Тетушка Мадина посмеивалась: «Как наш старик разомкнет свои уста, уже заранее знаешь, что начнет сейчас хвалить дегрезов, и его не остановишь». Мирюсуф-ата не обращал на нее внимания и все говорил и говорил о преимуществах своей профессии.
Только изредка в словах жены он находил что-то обидное и тогда, хмуро глядя на нее, говорил: «Что бы ты делала, если бы я взял себе вторую жену, молодую и красивую, чтобы проучить тебя?..»
И тогда тетушка Мадина, посмеиваясь, рассказывала ему какую-нибудь историю, подобную этой: некий бай Иноят, будучи женатым, взял вторую жену, молодую вдову Айтуру. И тогда его жена-старуха, не вынеся мук ревности, вошла темной ночью в комнату своей соперницы и стала пританцовывать и издавать нечленораздельные звуки, изображая джинна. Бедняжка Айтура чуть было не лишилась ума со страху. Убежала… «Вот и я устроила бы вашей женушке такую жизнь, что она на второй же день сбежала бы», — заканчивала свой рассказ Мадина-хола, лукаво улыбаясь.
А нынче Мирюсуф-ата, которого звали в былые годы «чугунный человек», лежит на кровати, исхудавший и маленький. Только и осталось ему перебирать в уме страницы прошлого. На другое у него сил не хватает.
Он старается не думать о своем недуге, но болезнь все чаще и чаще дает о себе знать, и тогда ему кажется, что на сей раз вряд ли ему суждено подняться на ноги. Он жадно смотрит в оконце, в которое виден кусочек двора, залитого солнцем. Было бы мумиё, воистину чудодейственное лекарство, думает он, появился бы у него аппетит. Окажись сейчас это лекарство — Мирюсуф-ата, налив его в свою зеленую пиалушку, вмиг бы проглотил, и тут бы ему вскочить здоровехоньким. Или найти бы врача, подобного Авиценне!..
До наших дней донесли легенды спор между знаменитыми врачевателями — Лукмони Хакимом и Авиценной, хотевшими изумить друг друга. Лукмони сказал: «Я тебе дам одно лекарство, ты превратишься в дым, затем я напущу дым на дым, и ты снова примешь свой истинный облик». Так и поступил. Свершилось чудо… Настал черед Авиценны, который сказал: «Я дам испить тебе одно лекарство, ты, растаяв, превратишься в пригоршню воды. Затем в эту влагу я накапаю сорок одну каплю лекарства, и ты постепенно примешь свой прежний облик». И действительно, испивший лекарства Лукмони пролился горсточкой воды на вату, положенную на носилки, чтобы не жестко ему было возлежать. Авиценна успел накапать только пять-шесть капель лекарства и неожиданно по высочайшему повелению был увезен в другую страну. А дело свое поручил завершать своему ученику. Ученик же после сороковой капли из корыстных побуждений — жалко ли стало последнюю каплю, или узрел, что после отбытия учителя нет у него больше соперников, могущих тягаться с ним и искусстве врачевания, кроме Лукмони, — не стал капать сорок первую. И, говорят, Лукмони Хаким по сию пору, лежа в забытьи на носилках, умоляет тихо: «Капни еще раз, капни еще раз…» «Есть же такие ученики, — подумал, гневаясь, Мирюсуф-ата, веруя в правдивость этой легенды, и заворочался в постели. — Таких учеников сколько угодно и в нынешние времена. Они думают не о благополучии людей и своей страны, а лишь о своих интересах пекутся!.. Лучше ослепни, но не становись слепнем! А людей нынче немало развелось, подобных слепням, питающимся кровью, или трутням, питающимся одним медом, которые уничтожают то, что приносят пчелы-труженики. Если трутней становится слишком много, то по приказу царя пчелиного государства им отсекают головы. Неплохо бы и людям перенять их опыт!..»
Благодарно кивнув старшей дочери, принесшей горячего, свежезаваренного чаю, Юсуф-ата тихо произнес: «Да будет изобилие в жизни твоей, доченька!» Старик был доволен своей заботливой дочерью и жалел ее. Не удалась у нее личная жизнь. Произошло обратное тому, что говорится в пословице: «Под весеннее солнце подставляй невестку, а дочь — под осеннее». Ибо невестка должна позабыть, что живет не в родимом доме, а дочь должна готовиться к тому, что ждет ее под кровом у мужа. Словом, из-за неурядиц в семье и худого отношения свекра со свекровью Сабохат пришлось уйти от мужа и вернуться в родительский дом.
Выпив пиалушку чаю, Юсуф-ата повеселел. Слегка приподнявшись и поправив под головой подушку, он запел тихо, почти шепотом. Песню эту он услышал от одного приятеля-уйгура:
Снежные горы — не видно вершин —
Преградили мне путь, бедняку.
Стою у подножья под ветром один,
Родина близко — дойти не могу…
Тюлевая занавеска на окне отведена в сторону. Яркий солнечный луч падает в угол, согревая прислоненную к стене длинную металлическую булаву[40]. Глядя на нее, старик улыбнулся. Все, кто приходил навестить Мирюсуфа-ата, спрашивали, зачем он занес в чистую жилую комнату эту железку, на что он, улыбаясь, отвечал: «Мешает ли вам моя булава? Пусть стоит…» — и никому не разрешал вынести ее во двор или в сарай.
Сабохат как-то, подметая, заметила вслух, что железка эта мешает убирать комнату и ей трудно всякий раз двигать ее с места на место. Отец сказал ей:
— Вот-вот, хвала тебе, дочка! Я лежал было молча, сама ты растормошила меня. Слушай же теперь меня, старого. При помощи этой булавы покойный отец мой кормил нас. От него мне она и досталась в наследство. Она же мне помогала добывать хлеб-соль для вас. Помолодей я вдруг, вернись ко мне прежние силушки, снова взял бы я в руки эту булаву… Эх, доченька, многого ты не понимаешь. Все, что я приобрел в жизни и собираюсь оставить вам — этот дом, сад, авторитет мой, — благодаря этой булаве. Хоть груба она и неказиста на вид, премного в ней мудрости. Да не будет она попрана и после меня, не выбрасывайте ее, пусть она не потеряется!.. А не слышала ли ты ничего про чарыки[41] Ахунбабаева? Если нет, то послушай. Этот уважаемый всеми человек, будучи уже президентом нашей республики, в доме у себя на стене повесил пару изношенных чарыков. Человек этот в недавнем прошлом был батраком и в этих самых чарыках трудился на землях баев. Вот и берег он свои чарыки, чтобы не забыть прошлых дней. Так-то, доченька. Иногда протирай тряпицей ручку булавы, а то как бы она не заржавела… Ты многого не знаешь, доченька. Не легко досталась победа. Многие люди отдали свою жизнь, чтобы мы с тобой были счастливы. Такие, как наш Ахунбабаев, Низамиддин Худжаев, Нумилов, не о себе думали они, о народе. Ты это должна знать и помнить. Но были и другие, подобные предводителю басмачей Кур-Нурмату, богатеям Чукаевым. «Аллах создал одних бедняками, других богатыми. Идти против устоев шариата кощунство и великий грех! Не по пути нам с гяурами. Отделим Туркестан и восстановим ханство!» — убеждали они. Мы таким дали понять, что это им не по пути с народом.
Сабохат сидела на табурете у изголовья отца и, сложив на коленях руки, внимательно слушала, не перебивая вопросами, хотя многое из того, что услышала, оставалось для нее мудреным, непонятным.
В последнее время Мирюсуфу-ата сделалось совсем худо. Он и есть ничего не мог. Для него давили виноград, и он заставлял себя проглотить немножко соку. Он молчаливо лежал, обремененный тяжелыми мыслями.
В один из таких дней пришли к нему Нишан-ака и Матвеев. Высокий, худощавый Максим Петрович с выдающимися скулами на щеках и густыми усами с проседью, концы которых порыжели от курева, был очень похож на Максима Горького. На заводе его так и называли — «Максим Горький». Интересно было, что и родом он был из Нижнего Новгорода, где родился знаменитый писатель. Мирюсуф-ата величал его просто «Махсим». Раньше он частенько приходил к Мирюсуфу-ата. В выходные дни обычно надевал длинную рубашку-косоворотку, перетянутую шелковым поясом с кисточками на концах. Махаллинцы, завидев его еще в конце улицы, уже знали, к кому он направляется, и говорили: «Вон к Мирюсуфу-ата пошел русский мужик».
Матвеев, заметив, что приятель на него обижен, объяснил, что на недельку уезжал в свой родной город, погостил у родных. И напомнил, что ведь незадолго до отъезда, когда был у него, говорил, что собирается в отпуск, да, видать, он забыл об этом. Извинился. И Мирюсуф-ата постепенно просветлел лицом, включился в разговор. Упрекнул Нишана-ака, который никуда не уезжал, а тоже не навещал его уже несколько дней.
Нишан-ака понимал, что другу теперь уже не помогут ни врач и никакие лекарства, а все же спросил:
— Врач приходит? Какие лекарства пьете?
Старик поморщился и покачал головой.
— Надоели они мне! Врач приходит в день дважды. А толку все равно никакого. Сказал я ему, чтоб не тратил время зря… Был даже табиб один. Жена откуда-то привела… Лекарств больше не принимаю никаких.
Голос Мирюсуфа-ата звучал тихо, с хрипотцой, и в груди у него при этом, казалось, что-то булькает. Матвеев и Нишан-ака украдкой переглядывались и горестно качали головами.
Тетушка Мадина принесла на подносе лепешки и чай. Зашел Арслан, которого пришлось вызвать с далекой стройки телеграммой. Он только что вернулся с базара, куда мать его посылала за продуктами. Узнав, что у отца друзья, он очень обрадовался, поспешил в его комнату. С гостями поздоровался за руку, и те почувствовали в его рукопожатии силу. Ладонь его была широкая и жесткая. А плечи крутые, какие были у его отца в молодости. Он ополоснул пиалушки, налил в одну из них чаю и вылил обратно в чайник, чтобы напиток был погуще и повкусней. Подождав минуту, налил понемножку в пиалы и протянул гостям.
— Арслана я помню совсем маленьким, — сказал Матвеев, с восхищением разглядывая парня, — а нынче вон какой вымахал, джигит!..
— Да-а, время идет, — сказал Мирюсуф-ата. — Большое это счастье, когда на старости лет ты не одинок, когда есть дети. И дочери у меня славные. А как поживают ваши дети, Нишан-палван? В благополучии ли ваша семья? — поинтересовался Мирюсуф-ата.
— Благодарю, все здоровы, кланяются вам.
— Чем ты сейчас занимаешься — работаешь или учишься? — спросил Матвеев у Арслана, возвращая ему пустую пиалу.
— Сейчас за отцом ухаживаю, — ответил Арслан, смущенно опустив голову.
— Сейчас у них каникулы, — сообщил Мирюсуф-ата. — Поехал строить Каттакурганское водохранилище, а тут я свалился. Мать его совсем измоталась. Послали телеграмму. Вот и приехал… Спасибо ему, все заботы по дому взвалил на себя…
— Да, Арслан достойный сын своего отца, — заметил Нишан-ака, макая в пиалу кусок лепешки. — Он стал опорой семьи. Молодец, джигит.
— Мирюсуфа мы знаем с тех времен, когда он тоже был джигитом, — вспомнил Максим Петрович. — Он тоже был настоящим батыром и по силе, и благородству!
Мирюсуф-ата крякнул от удовольствия, удовлетворенно кивнул головой. От слов «джигит», «батыр» засверкали его угасшие глаза, запрыгало, волнуясь, усталое сердце. С еле приметной улыбкой он взглянул на Матвеева, затем на сына.
— Да, дружище, шел, помнится, двадцать первый год, когда мы познакомились, — продолжал Матвеев. — На заводе встретились. В то время у нас работало мало местных ребят. Поэтому вас я сразу приметил. Были вы смуглым, сухощавым, и черные волосы так же вились у вас, как у вашего сына. По-русски говорили плохо и при разговоре жестикулировали, стараясь, чтобы вас поняли. Иногда говорили невпопад и вызывали этим смех у окружающих. Думая, что смеются над вами, хватали первого, кто подвернется, за грудки — немножко вспыльчивы были, — и тогда уже приходилось объяснять вам, что именно показалось товарищам смешным. И вы начинали хохотать вместе со всеми… Да-а, годы промчались, как ветер…
— Вы правы, Махсим-ака. Я был совсем молодым джигитом, когда пошел работать на завод. А Нишан-палван тогда, помнится, поступил в Таштрам, а потом уж перешел на завод: если уж друзья, так всюду вместе. Я даже помню тот день, когда мы с вами познакомились. У меня что-то никак не ладилось. Я из кожи лез, чтобы справиться, а все труды напрасны. Поглядываю по сторонам, стараюсь, чтобы никто не заметил, какой нескладный в работе, да не высмеял. А тут вы подходите — и без всякой усмешки: «Что, парень, не клеится? Дай-ка покажу!» И показали. И попробовал я скопировать каждое ваше движение, сделать точь-в-точь как вы, — и дело пошло на лад. Вы довольно улыбнулись, хлопнули меня по плечу. А я вас сразу и полюбил. Хоть мы и ровесниками были, а почтение заимел, как к аксакалу, ибо не за белую бороду старцев уважают, а за их жизненный опыт и мудрость… А через год, наверное, помните, мы побывали на Урале. Покойный Лобачев свозил нас туда, чтобы мы поглядели, как на огромных заводах работают, да опыта набрались… У меня хранится фотография, сняты мы на уральском заводе…
— У меня тоже есть такая, — произнес Матвеев, набивая трубку табаком. Но, вспомнив, что нельзя курить около больного, сунул было трубку и спички обратно в карман.
Но Мирюсуф-ата возразил:
— Курите, Махсим-ака, для меня это не вредно. Курите, окна-то открыты…
— Да, есть что вспомнить нам. Жизнь свою мы прожили не напрасно, — сказал Матвеев, раскуривая трубку и выпуская облачка сизого дыма. — Тот завод на Урале был старинный, он при Петре Первом заложен и там в те времена варили такую сталь, какой Европа не знала. Мы там месяц, кажется, были?
— Месяц и пять дней.
— Верно. Память у вас отменная, — заметил Матвеев, хитро сощурясь. — А про Иноятбая — помните? — обещали рассказать, а почему-то раздумали, сославшись на то, что будто бы забыли эту историю.
Мирюсуф-ата недовольно задвигался, настороженно взглянул на сына, кашлянул и поспешно заговорил о другом:
— Эх, Махсим-ака, извелся я, вас дожидаясь. Знал, что придете. А если не приходите, есть на то причина. Если бы еще два дня не было вас, послал бы за вами сына. Не знаю, сколько мне еще осталось жить… Поговорить с вами надо… Сын мой Арслан, свет моих очей, останется в этом мире после меня. На него ляжет забота о семье нашей. А на стипендию много ртов не прокормишь. Слышишь, сынок? Если трудно будет, иди на завод… Возьмите его на завод, Махсим-ака. Да продолжит мой сын мое дело на заводе. Пусть займет мое место.
— Гляди-ка, ведь и я подумал об этом! — воскликнул Матвеев. — А что скажет сам Арслан? Ведь он учится…
Отец и его друзья умолкли. Арслан понял, что они ждут его слова.
— Как велит отец, так и будет, — сказал Арслан. — Перейду я на заочное отделение.
— Хвала тебе! — воскликнул Нишан-ака и хлопнул в ладоши.
— Именно такого ответа я от тебя и ожидал, — сказал Матвеев с веселым блеском в глазах. — Сразу видно, что ты сын рабочего. По жилам твоим течет кровь рабочего человека. Кому, как не тебе, не таким, как ты, можем мы доверить наш завод. Радостно видеть, когда растут сыновья, достойные своих отцов. Так-то, дружище Мирюсуф-ака, ответ вашего сына очень обрадовал меня. Я сегодня же поговорю с сыном Степаном. Он-то у меня уж в руководителях ходит.
Мирюсуф-ата был тронут до слез.
— Сынок, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — ты знаешь, я не из тех, кто на все смотрит сквозь черные очки, и всегда думаю о добром исходе всех дел. Но я нынче стар и слаб, неизвестно, что со мной будет завтра. Если со мной случится то, что неотвратимо случается с каждым смертным, я тебя поручаю Махсиму-ака и Нишану-амаки[42]. Они отведут тебя на завод, покажут тебе мое место. И постарайся, чтобы люди сказали: «Этот джигит достоин своего отца». Если осилишь, учебу не бросай.
Арслан сидел, опустив голову.
— Осилю. Конечно, отец, осилю, — произнес он твердо.
— Теперь ступай, скажи сестре: если угощение готово, пусть несут.
— Нам пора уходить. Не утруждайте себя, — почти одновременно сказали Матвеев и Нишан-амаки, поднимаясь с мест.
— Еще минутку терпения! — спокойно произнес Мирюсуф-ата, делая знак рукой, чтобы они сели, и, подождав, когда сын вышел, продолжил: — Вы хотели от меня услышать ту историю про Иноятбая. Никому я не рассказывал этого. А близким друзьям можно…
Приятели его переглянулись, сели.
И Мирюсуф-ата стал неторопливо рассказывать, часто умолкая, как бы собираясь с мыслями.
…Когда от Иноятбая сбежала молодая жена, напуганная до смерти его старухой, старый женолюб, повременив немного, облюбовал дочь одного бедняка, задолжавшего ему столько, что не хватало бы все возместить, продай тот даже самого себя со всем своим скарбом. А была девушка несравненной красоты. Исполнилось ей тогда семнадцать лет. Давно одряхлевший бай «простил» тому бедняку его долги и женился на его дочери. Справили шумную свадьбу. Но не тут-то было, девушка оказалась с твердым характером. Так и не справился старик со своей невестой. От злости готов был прогнать ее из дому, но боялся насмешек.
Не далась ему девушка и во вторую ночь и во все последующие. Стыдно было баю признаться в этом. Напротив, во время пиршеств, в окружении дружков-приятелей, он красноречиво похвалялся тем, какие наслаждения ему доставляет молодая жена.
Но все имеет конец. И терпению бая пришел конец. Однажды он в гневе воскликнул: «Уч талак!» — что означало: «Тройной развод!» А при произнесении этих слов, по строжайшему правилу шариата, муж может примириться с женой лишь после того, как ею овладеет другой мужчина. В противном случае аллах может разгневаться, и нарушившему закон не видать тогда места в раю. А Иноятбай был стар и, видно, нередко уже задумывался о тепленьком местечке на том свете. Словом, воскликнув: «Уч талак!» — он тут же зажал себе рот руками и очень пожалел, что не сдержался. Однако слово, говорят, не воробей: вылетит — не поймаешь…
И стал бай искать человека серьезного, чтобы язык умел за зубами держать. Но, зная норов жены, ему надо было подобрать человека, чтобы силой обладал незаурядной, чтобы мог с упрямицей справиться. Наконец выбор бая пал на молодого статного парня Мирюсуфа. Такой и дело скоренько обтяпает и не разболтает — лишь бы плату получить поболее…
Вечером пригласил бай к себе джигита, договорились о цене. Затем старик впустил парня в комнату жены, а сам остался за дверью подслушивать: а то, чего доброго, не справится с делом, а деньги заберет. Баю же потом придется грех на душу принять. И всю ночь ничего, кроме невнятного шепота, не смог старик расслышать…
А девушка жаловалась Мирюсуфу на свою горькую судьбу. Он сжалился над ней, вытер ей слезы и трогать не стал… Утром ушел, не взяв предложенных червонцев…
Вскоре пришло время, когда баям вышибли их волчьи зубы. Народ отнял у них права, по которым они могли творить что хотели. Молодая жена ушла из дома Иноятбая, уподобясь птице, вырвавшейся из клетки. Явилась она в дом молодого парня Мирюсуфа и сказала ему, что любит его с той ночи, когда его увидела. И он только теперь, при солнечном свете, смог разглядеть, какой дивной красоты девушка предстала перед ним. «Я свою честь сберегла для тебя, благородный джигит», — сказала она и опустила голову. И они поженились. Без тоя, без шума. И дружно живут уже много-много лет. Вместе состарились, воспитали двух дочерей и сына…
Рассказав об этом, Мирюсуф-ата умолк. А на устах его появилась чуть приметная улыбка.
Приход Матвеева и Нишана-ака словно бы ярко озарил комнату Мирюсуфа-ата, постепенно наполнявшуюся мраком. Казалось, фитиль лампы, начавшей было, мигая и коптя, угасать, вновь загорелся ровно и мерно.
Старик посветлел лицом, облегченно вздохнул. Все это время, пока беседовал с друзьями, он ни разу не почувствовал боли. Он сказал об этом, на что Матвеев ответил:
— Если наше присутствие приносит вам облегчение, мы будем приходить каждый день.
— Спасибо, друзья мои. Когда у вас будет время, тогда и приходите. Я всегда рад вас видеть. Когда я беседую с вами, словно бы излечиваюсь…
Матвеев и Нишан-амаки просидели у постели больного до вечера.
Через день Мирюсуфа-ата опять стали мучить боли. Будто наглотался он горящих углей и что-то острое, пронизывающее подступало к самому горлу. Старик стонал, сжав зубы. На бледном лбу его выступили бисеринки пота.
Арслан сбегал в махаллинский Совет и оттуда позвонил в поликлинику. Вскоре пришли врач и медсестра. Они дали больному каких-то таблеток и сделали укол, после чего Мирюсуф-ата уснул.
Разбудили его голоса, донесшиеся со двора. Еще не совсем очнувшись, он был как в бреду, и губы его бессвязно что-то шептали. На айване кто-то громко справлялся о нем, а сын, понизив голос, давая понять, что отец спит, говорил:
— Прошу, пожалуйста. Он скоро проснется…
— Да исцелит его аллах. Одному всевышнему ведомо, как лучше исцелить человека. А это наш уважаемый Кари-ака. Ты его знаешь? Он человек ученый, мулла…
— Знаком…
— Хвала. И отец твой очень уважает Кари-ака. Вот и привел я домуллу к нему. Пусть почитает над ним молитву и исцелит его.
Мирюсуф-ата старался угадать, кому принадлежат эти знакомые голоса — один пронзительный, громкий, другой сиплый. Догадался, кто это. И верно, в прихожей послышались шаги, и в комнату ввалились махаллинцы Кизил Махсум и Мусават Кари. Они с порога громко поприветствовали хозяина и направились прямо к кровати, чтобы поздороваться с ним за руку. На пороге остановился растерянный Арслан. Он с беспокойством смотрел на отца.
Кизил Махсум поставил на низенький столик узелок и развязал его. В нем оказались стопка румяных лепешек, несколько крупных гранатов и черный с синеватым отливом виноград.
Мусават Кари тем временем тоже развернул свой сверток и поставил на столик банку с медом.
— Добро пожаловать, — с трудом проговорил старик, затем обратился к Арслану: — Сынок, постели курпачу, пусть гости сядут. Разверни дастархан…
— Хорошо, отец. Как вы себя чувствуете?
— Я, кажется, немножко бредил… Родители мне приснились, мать и отец. Отец и говорит: «Держи живот в тепле, ты крепко простудился, сынок. Найди немножко медвежьего жира и сделай массаж». Вот что посоветовал мне отец. Может, произойдет чудо, а?.. Сынок, Арслан, завтра раздобудь немножко медвежьего жира.
— Хорошо, отец, — пообещал Арслан.
— Вам, уважаемый, теперь получше? — спросил Кизил Махсум.
— Лучше, значительно лучше.
— Да исцелит вас аллах.
— Сами-то вы как поживаете? Здравствуют ли дети? Все ли благополучно в доме? — осведомился старик, переводя взгляд с одного гостя на другого.
— Благодарю.
Гости уселись у стены на мягкой курпаче, поджав под себя ноги.
Кизил Махсуму было лет сорок. Быстрый, пронизывающий взгляд и крупный нос с горбинкой, похожий на ястребиный клюв, придавали его лицу хищное выражение. Над верхней губой у него красовались квадратные усы, недавно вошедшие в моду. На голове он неизменно носил зеленую, цвета маша, бархатную тюбетейку, поверх рубашки надевал шерстяной камзол. На ногах мягкие блестящие ичиги с кавушами.
Арслан постелил дастархан, принес чаю. Когда мать и сестра отлучались куда-нибудь, он их хлопоты перекладывал на себя.
— Неспокойно у меня на душе оттого, что сына определенной профессии не смог выучить, — сказал Мирюсуф-ата и вздохнул. — Будь у него нынче специальность, не жалко было б проститься с этим миром.
Кизил Махсум отпил глоток горячего чая, поставил пиалу и сказал:
— Я хочу приблизить вашего сына Арслана к себе, обучу его шитью из мехов. Если научится шить телпаки[43] и шубы, то с нуждой он знаться не будет. — Он взял в рот кусочек сахару и, посасывая его, продолжал: — Мой покойный отец Салахаддин, будучи меховщиком, очень разбогатели. Они еще до революции, торгуя мехами, побывали в Москве и Варшаве.
— Вы правы, почтенный, — сказал Мирюсуф-ата, — настоящему джигиту и сорока ремесел мало. Неплохо, если мой сын и вашему ремеслу обучится. Только предки мои были литейщиками. И сам я литейщик. Славно, когда сын выбирает профессию отца…
— Вам не нужно об этом горевать, ата. В наше время счастлив тот, у кого есть деньги. А наше ремесло, слава аллаху, денежное. И к Арслану я отношусь как к родному брату. Арслан способный парень, все схватывает быстро.
Арслан всегда испытывал чувство неловкости, когда его хвалили. Но уйти, когда кто-то говорит, было бы проявлением неучтивости. Вышел, когда гости замолчали.
— Да, ваш сын умный джигит, — подал голос Кари. — Скромный, к старшим почтение имеет.
— Да будет в жизни вашей изобилие, — тихо сказал Мирюсуф-ата, морщась от подступающей боли. Чтобы превозмочь ее, надо отвлечься, и он, переводя дыхание, продолжил: — Меха — это каприз времени, все зависит от моды. Не лучше ли заняться Арслану более сто́ящим делом? Предки его литейным делом занимались, ремесло это ему по крови перешло. Он должен пойти на завод…
Кизил Махсум и Кари переглянулись. Оба снисходительно улыбнулись, обращаясь к хозяину дома: дескать, стар уж, а мудрости не накопил.
— На заводе работа тяжелая, — заметил Кизил Махсум.
— Трудно ему будет там с делом справляться и учиться, — подтвердил и Кари. — Предпочтительнее будет, если он продолжит учебу. Молодые люди должны овладеть знаниями. Не пребывать же им в темноте. Я же постараюсь не загружать его работой.
— Слова ваши достойны одобрения, — раздумчиво произнес Мирюсуф-ата. — Что может быть важнее учения! Для человека с образованием мир широко открывается. Нас вот некому было учить. Но и мы обрели на заводе знания, стали различать белое и черное.
— Конечно, конечно, — закивал Кизил Махсум.
Он хотел сказать еще что-то, но не окончил фразы, потому что в этот момент вошел Арслан с подносом, на котором было угощение. Старик покашлял, прикрыв рот ладонью, и умолк, полузакрыв глаза.
Махсум и Кари долго сидели за дастарханом, беседуя с Арсланом. Когда чайник чая был выпит, Арслан заварил еще свежий. Затем гости попрощались со стариком, пожелали ему исцеления и вышли из комнаты, зашаркали по ступенькам айвана. Окно было открыто, и Мирюсуф-ата услышал невнятный, приглушенный голос, Кизил Махсума, дающего наставления Арслану, последовавшему за ними, чтобы проводить. Из сказанного различил: «Отец твой, видать, недолго протянет. На все воля аллаха. Ты уж, братишка, принимайся за приготовления…» Кари тоже в свою очередь посоветовал: «Ты скажи сестре или матери — пусть подметут двор…»
Старику сделалось горько оттого, что он уходит из жизни, не справив свадьбы сына и младшей дочери и не увидев тракторов, которые скоро должны выпускаться на его заводе. «Ладно, их увидит мой сын…» — утешил себя старик.
Покидая двор, Кизил Махсум остановился у калитки и протянул Арслану пятьдесят рублей:
— Возьми, братишка, пригодятся на благое дело.
— Спасибо, не надо, деньги у нас имеются.
— Бери, бери, не стесняйся. Думаешь, не знаю, сколько у тебя денег в кармане? Еще никому лишняя копейка не повредила.
— Когда дают, бери, сынок, — сказал Мусават Кари. — Чем тысячу раз оказывать почтение, лучше раз сделать подношение. Если будет нужда в чем, приходи, не стесняйся. Знай, что друзья познаются в беде.
Мусават Кари был в свое время приказчиком у Мирзарахимбая. Впоследствии разбогател, нередко обводя вокруг пальца хозяина и потихоньку приторговывая мехами. Бай любил своего шустрого приказчика и полностью ему доверял. Любил его еще и за веселый прав. Обычно на гапах[44], организуемых в доме у Мирзарахимбая, он всегда являлся душой компании, шутил, балагурил, вызывая у гостей смех, и даже читал газели собственного сочинения. Кроме того, когда на бая иной раз находило уныние, Мусават Кари развлекал его чтением старинных книг «Або Муслим» или «Алиф Лайло ва лайло».
Потом добрые времена кончились и жизнь обернулась так, что Мирзарахимбай, погрузив на арбы свое добро, поспешно укатил в чужие края…
Потом вихрь революционных преобразований разметал большинство баев по свету. Некоторые из них даже хватались за оружие, не желая расставаться со своим добром. Таких уводили под конвоем красноармейцы…
Глава пятая
ВСТРЕЧА
Сегодня отцу стало легче. Настроение у него лучше. И у Арслана на душе веселее, и у матери, и у сестры. Казалось, и во дворе, и в комнатах больше солнечного света. Мать хлопотала по дому, забыв об усталости. Сабохат возилась на кухне. Готовила обед и тихо напевала песенку.
Арслан сказал матери, что ему надо встретиться с другом, а сам прямехонько направился в школу. В длинном полусумрачном коридоре было пусто — шли уроки.
Арслан подошел к стенной газете. Едва успел он прочитать одну заметку, прозвенел звонок. Арслана охватило волнение. Теперь он только делал вид, что разглядывает газету. Ему казалось, вот сейчас, сию минуту, подойдет она и скажет: «Арслан-ака, здравствуйте!..» И в этот момент кто-то положил руку ему на плечо. Арслан вздрогнул и резко обернулся. Перед ним, улыбаясь, стоял секретарь комитета комсомола Кувандык.
— Это хорошо, что ты не забываешь родной школы, — сказал Кувандык. — Ну как живешь? Я слышал, что ты бросил институт?
— Что ты! Просто перевожусь на заочное отделение.
Они постояли еще минуту, повспоминали былые школьные дни, общих знакомых. Потом Кувандык извинился и, сказав, что спешит, ушел.
Арслан посмотрел по сторонам, отыскивая взглядом знакомую фигурку. Неужели ее нет в школе?
Маленькая бойкая девчушка, потряхивая косичками, подбежала к Арслану и, дернув его за рукав, сказала громко, на весь коридор:
— Вон Барчиной-апа. Она не вас ожидает?
Барчин стояла около тополей, что росли вдоль забора. И сама была стройненькая, как тополек. Арслан направился через площадку, по которой с визгом носилась детвора. Он взял ее руку, а сердце стучало так громко, что он обеспокоенно подумал, не слышит ли его Барчин…
Барчин тревожно взглянула на Арслана и спросила:
— Вашему отцу лучше? Что-то вас не видно было…
— Спасибо. Сегодня отцу получше… Хлопот много всяких… А как ваши дела?
— По-всякому, — сказала девушка и засмеялась. — Грустного, кажется, у вас хватает, так что поделюсь лучше веселым. Вчера мы получили письмо от Марата, брата моего. Он служит на границе, и от него давно не было писем. Мама очень беспокоилась… О, да на нас, кажется, обращают внимание мои малыши! Ужас, какие любопытные! Приходите в субботу к нам домой, хорошо? Я буду ждать. До свидания.
«Сама совсем еще девчонка, а уже учительница!» — подумал Арслан, когда она бежала через площадку. Он догадался, что пригласила она его домой к себе не просто так. Видно, говорила о нем матери, Хамиде-апа, и та пожелала его увидеть.
В субботу Арслан пришел к Барчин. Девушка заканчивала мыть полы, которые почему-то сегодня ей хотелось довести до зеркального блеска. Она встретила его на ступеньках веранды с мокрой тряпкой в руках. На ней был легкий цветастый халатик. Отведя со лба упавшие волосы, она радостно улыбнулась и пригласила его в комнату. Заглянув в боковую дверь, видимо, на кухню, откуда доносилось позвякивание посуды, сказала:
— Мама, Арслан-ака пришел!
В комнату зашла полная белолицая женщина.
Арслан и Барчин стояли рядышком на бордовом плюшевом ковре, закрывающем середину комнаты.
— Прошу, садитесь, — сказала Хамида-апа и указала на мягкие стулья, стоявшие вокруг массивного полированного стола.
Она разговаривала просто, будто и Арслана, и его родителей давным-давно знала. Извинившись, вскоре она удалилась на кухню и вернулась с чайником чая и вазой, наполненной фруктами.
Барчин сама разлила чай. Почистила для Арслана персик и положила его на блюдце. И было заметно, что делает она это с удовольствием. Потом показала письмо брата и его фотографию. Марат был в форме лейтенанта. Арслан помнил его. Он окончил школу на несколько лет раньше Арслана, и его призвали на военную службу. С фотографии смотрел скуластый парень с широкими, сросшимися бровями, волнистые волосы зачесаны назад. Что-то неуловимое делало брата и сестру похожими. Может, задумчивый взгляд и характерный разрез миндалевидных глаз…
Перевернув страницу альбома, Барчин тихо засмеялась, будто обрадовавшись чему-то, и принялась рассказывать о том, как в прошлом году она с родителями ездила в Ялту. Показывая фотографии, восторгалась морем, то ласковым, то сердито рокочущим. Рассказывала о крикливых, прожорливых чайках, о дельфинах, плывущих за пароходом и ждущих, что кто-нибудь из пассажиров бросит им какое-нибудь лакомство.
Хамида-апа принесла горячих слоеных пирожков с мясом собственного приготовления. Взяла чайник, чтобы заварить свежий чай.
— Мама, давай я, — сказала Барчин.
— Ничего, ничего, дочка, — ответила мать. — Развлекай гостя, а я уж, так и быть, за вами поухаживаю. А ко мне придут гости, будешь ухаживать ты. Это будет справедливо. Верно, Арслан?
Арслан, смутившись, кивнул. Барчин пригласила его в кабинет отца и показала книги, расставленные в стеклянных шкафах. Сказала, что, если ему захочется что-нибудь прочесть, он в любое время может воспользоваться их библиотекой.
На стене висела картина. По ядовито-желтой пустыне идут красноармейцы. Заслоняясь руками от секущего песка, идут они навстречу горячему ветру, навстречу красному восходящему солнцу. А вдалеке, где небо еще затянуто мглой, за их спинами, как символ прошлого, развалины старой, заброшенной мечети…
Барчин сказала, что эту картину ее отцу подарил художник, который служил в отряде Буденного. В комнате снова появилась Хамида-апа. Она заметила, что Арслан любуется фотографией ее дочери, и ей вспомнилось, как некогда Хумаюн Саидбеков так же вот приходил к ним в дом. И был он такой же сдержанный, немногословный. Ей тоже приходилось развлекать его. Скромный парень, Арслан чем-то напоминал ей молодого джигита Хумаюна, в которого влюбилась она тогда. А связав судьбу с этим человеком, нашла свое счастье. Теперь же, разумеется, она мечтала о счастье дочери. Она была уверена, что только человек, понравившийся ее девочке, может принести ей счастье. Она бесшумно вышла.
— Подарите мне эту фотографию, — попросил Арслан.
— Пожалуйста, — согласилась Барчин. — Только чем она вам понравилась?
— Вы здесь похожи на Нефертити.
— Вот как? Значит, вы в Нефертити влюблены? — проговорила Барчин обиженно.
— Ну что вы! — засмеялся Арслан. — Вы похожи на нее чуть-чуть, но вы красивее ее!
Они оба рассмеялись. Заговорили об искусстве. Барчин искренне восхищалась тем, что благодаря искусству мастера, изваявшего Нефертити, ее красотою восторгаются и в наши дни. Прекрасным не восторгаться нельзя.
И тут Барчин вспомнила свою тетю, которая любит разглагольствовать о морали, обвиняет современную молодежь в распущенности и невоспитанности. А однажды, когда Барчин в большой комнате играла на пианино, тетя проходила мимо открытых окон, ведя за руку пятилетнюю дочурку. Девочка вдруг остановилась, завороженная музыкой. Тетя грубо дернула девочку за руку: «Иди же, что остановилась? Из-за тебя я опаздываю…» Девочка, желая послушать музыку, заупрямилась. И тут тетя дала девочке пощечину. Девочка громко заплакала и пошла рядом с матерью. Возможно, этой пощечиной мать убила в девочке самое прекрасное, что могло в ней расцвести, говорила Барчин. С той поры она не любит свою тетку. А ее разговоры просто раздражают Барчин, и она обычно уходит в другую комнату.
В дверь опять заглянула Хамида-апа, спросила, не принести ли чаю.
— Лучше персиков! Арслан-ака любит персики! — сказала Барчин.
Хамида-апа пошла на кухню, чтобы помыть фрукты. Она была рада, что дочь повеселела, так задорно смеется. А то как приехала со стройки, все почему-то грустила. Чутье подсказывало ей, что не все у дочери благополучно. Не углядел, видно, отец за нею на строительстве, куда напросилась она поехать с ним. С трудом Хамида-апа выпытала у Барчин об Арслане.
И вот уже несколько дней Барчин снова порхает по дому.
Хамида-апа и Хумаюн-ака были довольны, что их дочь выросла независимой, самостоятельной. Как говорится, за словом в карман не полезет. Это оттого, что девочка много читает. И память у нее отменная.
Иногда родителей даже начинало беспокоить, когда она засиживалась за учебниками. Они заставляли ее пойти на улицу погулять. Но ничто не могло оторвать Барчин от книги, если она не решила трудного уравнения или не заучила длинную формулу по химии.
В те дни, когда приходили подружки, в доме звучали смех, шутки. Хамида-апа, радуясь за дочь, говорила: «Ученье, конечно, очень важно, однако и про развлечения забывать нельзя. Мы в твои годы красили усьмой брови да шили тюбетейки. Не ведали ни о теоремах, ни о прочем таком…» Девушки смеялись и, чтобы уважить мать своей подруги, выжимали усьму на донышко перевернутой пиалушки, наматывали на кончик лучинки ватку и принимались красить друг другу брови. Словно крылья ласточки, брови Барчин становились от этого тусклыми, теряли блеск. Ее брови не нуждались в усьме, они и без нее были густы и бархатисты.
Однажды мать случайно услышала, как Барчин, озорно смеясь, хвастливо рассказывала о джигите, которому она «здорово ответила», когда тот попытался затеять с ней двусмысленный разговор. Одна из подруг заметила, что она уже третий раз говорит об этом джигите, с которым познакомилась на стройке и которому «здорово ответила».
— Не может быть! — смутилась Барчин.
— Ну-ка, признавайся, кто этот джигит? — спросила подруга. — Видно, нравится он тебе, если в третий раз о нем говоришь! Уж не этот ли? — засмеялась она, указав на фотографию, что висела на стене.
— Это же мой брат.
— Ой, и в самом деле! Не узнала. Он похож на Хамиду-апа.
— А я похожа на папу, так все говорят, — с гордостью сказала Барчин.
И Хамида-апа радовалась тому, что дочь похожа на ее Хумаюна. Ведь в народе говорят: если девочка похожа на отца, то быть ей в жизни счастливой…
Почти до вечера пробыл Арслан в их доме. Барчин проводила его до крайних домов махалли. Когда он, уже удалившись на почтительное расстояние, оглянулся, она все еще стояла и смотрела ему вслед.
Был ли Арслан дома, находился ли в мастерской у Кизил Махсума, беспрестанно думал он о Барчин, нетерпеливо ждал дня, когда они снова встретятся. А едва увидев ее, всякий раз терял дар речи, разом вылетали из головы все слова, которые он готовил заранее. Они подолгу прогуливались молча.
Минуло немало дней, пока он привык так запросто прогуливаться с Барчин и даже иногда осмеливался брать ее за руку.
Чаще всего они встречались у Дворца пионеров.
И на этот раз Арслан беспокойно поглядывал на часы, прохаживался около ажурных металлических ворот, за которыми слышались звонкие голоса ребятишек.
Барчин вышла из трамвая и, заметив его издалека, перебежала улицу. Они поздоровались и пошли в сторону Исторического музея. Несколько дней назад договорились они посетить музей. А идею эту подсказал дочери Хумаюн-ака.
Вечером Барчин сидела в кабинете отца и писала план занятий на завтрашний день, составляла конспект уроков. Хумаюн-ака сидел на диване и читал газету. На минуту Барчин отвлеклась от работы и как бы между прочим заметила:
— У нас в программе нет наших древних поэтов, мыслителей, но я своим детям рассказываю о них, и они очень внимательно слушают. Завтра собираюсь им рассказать о Бабуре…
Отец снял очки, отложил газету. Стал рассказывать о Навои, Руми, Рудаки, Хафизе, Фирдоуси, о их жизни, их поэзии.
Потом говорили об истории. Хумаюн-ака любил историю и гордился богатым и интересным прошлым своей земли.
— Мы обязаны знать свое прошлое потому, что на протяжении многих столетий колонизаторы грабили нашу страну, тиранили народ, умышленно извращали нашу историю, стремясь «доказать» нашу отсталость. Тогда как священная книга язычников «Авесто» была написана кем-то из наших предков три тысячи лет назад. Колонизаторы скрывали от мира работы наших величайших философов, мыслителей. Оригиналы сочинений Авиценны, Лутфи были увезены в Брюссель и Лондон. Тем не менее на творчество многих западных писателей, поэтов оказала влияние наша древняя поэзия. К примеру, даже Герберт Уэллс написал своего «Человека-невидимку» на основе восточной легенды…
Хумаюн Саидбеков поведал дочери о согдийцах, саках, массагетах, хорезмийцах, живших в древние времена на землях Средней Азии. Эти воинственные племена селились в основном по берегам рек Джейхун и Яксарт[45]. А Самарканд тогда не уступал по величию и красоте древнему Риму. Назывался он Маракандой.
— Если посетишь Исторический музей, ты узнаешь много интересного и о родном Ташкенте, который наши предки именовали Чач. И тебе будет что рассказывать своим ученикам. Они должны знать историю города, в котором живут.
Барчин оживленно рассказывала Арслану о разговоре с отцом. Они шли неторопливо. Опавшие желтые листья шуршали под ногами. Арслан взял ее под руку, но никак не мог приноровиться к ее шагу. Он впервые шел с девушкой под руку. Она доверчиво прижала локтем его руку к себе, и он вдруг почувствовал, как бьется ее сердце. А может, ему показалось? Разговаривая, Барчин временами оборачивалась к нему, и глаза ее при этом сверкали, как звездочки. Они излучали свет, который проникал в самую душу и разгонял мрак переживаний и тревог.
Глава шестая
ГАП
Арслана пригласили на гап. Он не испытывал большого желания идти, но отец сказал:
— Ступай, сынок. Зовут — не отказывайся, не зовут — не навязывайся.
Арслан надел соответственно случаю новые полотняные брюки и белые парусиновые туфли. Сабохат погладила ему рубашку, достала из сундука вышитую ею тюбетейку. Арслан погляделся в зеркало, остался доволен собой и направился в сторону махалли Кургантеги. Он быстро шел по узким, извилистым улочкам, сжатым с обеих сторон высокими глинобитными дувалами, над которыми нависали уже почти голые ветки деревьев. Солнце то пряталось за прозрачные, редкие облака, то снова показывалось. Было душно, пришлось расстегнуть на вороте пуговицу. Наконец он увидел знакомую двустворчатую калитку, у которой росла огромная ветвистая орешина. Калитка была не заперта, и Арслан вошел во двор.
Предводитель местных джигитов Чиранчик-палван, получивший это прозвище за высокий рост и неимоверную силу, стоял посреди двора и отдавал приказания парням, занятым работой. Одни в углу двора, куда вел золотисто-зеленый тоннель, образованный густо сплетенными лозами виноградника, вьющегося по дугообразным опорам, устанавливали огромный котел на две махалли; другие кололи дрова. Чиранчик-палван (настоящее имя его Шадманбек) деловито расхаживал по двору, гордый своими поскрипывающими хромовыми сапогами, шелковым бельбагом, трижды опоясывающим его полосатый бекасамовый халат, и свисавшим с пояса ножом с белой ручкой слоновой кости.
Чуть поодаль, на берегу журчащего арыка, двое стариков резали на мелкие кусочки баранье сало. Мясник разделывал тушу.
Вода из арыка вливалась в широкий хауз, обсаженный вокруг яблонями и розами. Супы вокруг хауза застланы паласами, на них возложены пуховые подушки.
Чиранчик-палван кивнул в ответ на приветствие Арслана и распорядился отнести к очагу медные тазы, блюда и стопку касы — глубоких фарфоровых чащ.
Но в этот момент появился Кизил Махсум, только что вышедший из ичкари[46], и, увидев Арслана, окликнул его.
— Я очень доволен, что ты пришел, брат, — сказал он.
— Я немножко задержался, — извиняющимся током проговорил Арслан.
— Ты не опоздал, не беспокойся. Я специально позвал тебя, чтобы ты знал, что такое гап. Что вы, молодежь, видели, явившись в этот мир в нужду и разруху, когда за куском хлеба или ста граммами масла приходится стоять в очереди! А нам эти самые очереди были неведомы! И покупали мы все не по граммам!.. Ну, так ты сегодня увидишь, какие гапы устраивали отцы наши и деды…
Чиранчик-палван тем временем позвал Чапани и велел ему отнести к очагу посуду.
— Палван, — обратился к нему Кизил Махсум, — впрягайте и других молодцов, пусть поскорее заканчивают приготовления. А мой братишка Арслан будет встречать гостей, других дел ему не поручайте.
— Будет по-вашему, — сказал Чиранчик-палван, подобострастно приложив руки к груди и согнувшись в поклоне.
— Что вы, Махсум-ака, я пришел помочь, — возразил Арслан.
— Вот и поможете мне встречать гостей! — смеясь, ответил хозяин. — Кроме моих друзей из нашей махалли должно прибыть более пятидесяти гостей из других мест…
Чиранчик-палван оглядел Арслана с ног до головы, недоумевая, почему это хозяин дома столь ласков с этим молодцом. И решил про себя: «Видно, хочет Махсум женить его на своей двадцатилетней дочери». Он понимающе подмигнул Арслану, молодцевато поправил бельбаг на поясе и зашагал к парням, разжигающим очаг.
Как только солнце село и дневную духоту сменила прохлада, в благоухающий сад Кизил Махсума начали собираться его дружки-приятели, родственники и близкие знакомые родственников. Один за другим отворяли калитку разряженные мужчины — лавочники, торговцы мехами, любители перепелиных боев, принесшие своих птиц в рукаве, или за пазухой, или просто на ладони, накрыв их сверху платочком. Пришли аксакал Хайитбай из Ак-Тепа, Нишан-ака из махалли дегрезов, Муслим-ака, Исраил-ака и Хайдар-долговязый, названный так махаллинцами, чтобы не путать его с Хайдаром-коротышом.
Спустя примерно полгода после ссоры Нишана-ака и Кизил Махсума аксакалы махалли помирили их: дескать, нехорошо жить по соседству и носить камень за пазухой. И Кизил Махсум всеми силами старался задобрить Нишана-ака.
Почтенных гостей Чиранчик-палван и Арслан усадили на широкую супу, что на самом видном месте и застлана наиболее красивыми коврами. Рядом оказались Хайитбай-аксакал, Нишан-ака, Мусават Кари и другие уважаемые гости. Молодежь расположилась отдельно.
Мусалласа — сладкого виноградного вина — было вдоволь, и пить его разрешалось открыто. Ну, а желающие пить водку должны были это делать тайно, чтобы не видели старшие.
На дастарханах стояла, всевозможная еда. Здесь были и острые блюда, и сладости, и горячая закуска, и холодная. Гап этот скорее походил на большой той.
Прошло немного времени, и с дутарами в бархатных чехлах явились хафизы-певцы — Джурахон и Маурджан. Популярнее в целом крае не сыщешь. Почти вслед за певцами пожаловал и тот, кого уже давно с нетерпением дожидались устроители гапа. Сам Кизил Махсум несколько раз подходил к калитке и выглядывал на улицу. И наконец гость пожаловал. Черный автомобиль подкатил к калитке и остановился, окутанный облаком пыли. Автомобиль пока еще был диковинкой, и его вмиг окружила шумная толпа босоногих ребятишек. Несколько почтенных людей поднялись с мест, заспешили к калитке.
Из машины, отмахиваясь от пыли, вышел Аббасхан Худжаханов. Несмотря на молодость, он уже был почтенным человеком.
Все знали, что Худжаханов не посещает подобные мероприятия. И если он пришел, то это лишь из-за уважения к людям, с которыми живет в одной махалле, и особенно к Кизил Махсуму, хозяину этого дома. Он прошел, несколько сторонясь подгулявшего Чиранчик-палвана, протянувшего было ему обе руки. Кизил Махсум сопроводил его к главной супе и усадил рядом с самыми почтенными аксакалами. Ему налили мусаллас, подали горячий шашлык.
Раскрасневшись от выпитого, Мусават Кари прочел наизусть несколько своих виршей. Худжаханов ему сдержанно поаплодировал, сверкая белыми манжетами.
В самый разгар веселья, когда хафизы начали хрипнуть от песнопения и то и дело смачивали горло мусалласом, а звон дутаров стал глуше, калитка шумно распахнулась. Это появился махаллинский дурачок Хасан-телок. Не обращая внимания на людей, которые недовольно зашикали на него, махали руками и, приложив пальцы к губам, произносили: «Тс-с» — чтобы не мешал слушать песню, — Хасан-телок без всякого приветствия громко обратился к хозяину:
— А где моя доля? Собрались одни байваччи[47] и все пьете сами?
Раздраженный хозяин показал рукой на берег арыка, где стояло корытце с белопенной водой, в которой только что мыли рис. Хасан-телок проследовал к арыку. Он опустился на корточки, с трудом поднял корытце и, приняв белые помои за бузу, начал жадно пить. Опорожнив корытце до половины, поставил на землю. Отдышавшись, оглядел людей. И, словно испугавшись, что это питье кто-то сейчас может у него отобрать, снова прильнул к корытцу. Люди с удивлением следили за ним.
Выпив всю воду, Хасан-телок поднялся и, «захмелев», запел:
Целковые твои — мне в карман,
За сливки должок потом отдам…
Он, танцуя — поводя плечами, кружась, щелкая пальцами и подмигивая гостям, — дважды прошелся вокруг притихших гостей. Затем, шатаясь из стороны в сторону, неуверенно двинулся к калитке и покинул двор. С улицы еще некоторое время доносился его голос:
За целковые куплю невесту,
На сливках замешу тесто…
— Блаженный, — усмехнулся вслед ему Чиранчик-палван.
— Каналья! По-настоящему опьянел, — произнес с удивлением Мусават Кари.
Хайитбай-аксакал задумчиво произнес:
— Его отец, бедный Абдували, преждевременно умер от горя. По такому случаю и сказано: «Бедняка и на верблюде собака укусит».
— Да, вы правы, приличные дети являлись на свет только в байских семьях, — сказал Мусават Кари, неверно истолковав слова старика. Будь он трезвым, может, и не сказал бы такого, но мусаллас развязал ему язык.
Арслан заметил, что Кизил Махсум с беспокойством посмотрел вокруг, и украдкой ткнул приятеля локтем.
— Нынче принято чернить баев, а по сути они были мудрыми людьми, — продолжал Кари, не замечая предостережений хозяина. — А подобные Хасану-телку обречены ходить по земле, шаркая драными кавушами. Такова воля аллаха, аксакал.
Хайитбай-аксакал крякнул, провел по бороде рукой, но промолчал. Нишан-ака исподлобья смотрел на Мусавата Кари. Глаза его сверкали, лицо побледнело. Он был из очень бедной семьи кустаря-литейщика. Арслан забеспокоился, что Нишан-ака сейчас скажет что-нибудь резкое, возникнет ссора и тогда будет испорчен весь вечер.
Но Нишану-ака, видно, удалось подавить свой гнев. Или просто не успел он высказать свое мнение о людях, подобных Мусавату Кари, потому что в эту минуту снова грянула музыка и хафизы, к огромному удовольствию присутствующих, вновь запели свои песни, даря слушателям новые наслаждения. Притихли деревья и цветы, ни один листок на них не шевелился. Казалось, и им песни доставляют ту же усладу, что людям.
Как только хафизы умолкли, решив передохнуть, Чиранчик-палван затеял аскию — состязания острословов. Поискав глазами соперника, он задержал взгляд на человеке с лысой, как тыква, головой, который сидел развалясь и опершись локтем на подушку. Он все это время помалкивал, переводил изучающий взгляд то на одного, то на другого, и при этом на толстых его губах блуждала еле приметная усмешка.
— Эй, Шермат-курбаши[48], распрямите-ка свой стан! — окликнул его предводитель махаллинских забияк. — Вы же бывалый петух! За время гапа вы с места не сдвинулись. Или, отправив курицу на базар, сами высиживаете яйца?
Вся компания давно уже с нетерпением ожидала повода для смеха. Двор огласился таким громким хохотом, что его, должно быть, услышали в соседней махалле.
Шермат был не из тех, кто падает лицом в грязь или уступает задиристым молоденьким петушкам. Он сел прямо, глаза его задорно заблестели.
— Эй, палван! — крикнул он.
— Лаббай? Слушаю вас.
— Вот мы и распря-а-мились… Давеча, когда мы из-за курочки драли друг друга шпорами, я никак не мог разглядеть вашей головы. А потом гляжу — оказывается, вы с перепугу спрятали ее у меня между ногами!
Компания опять разразилась хохотом. Иные с лукавыми выражениями перемигивались, комментируя находчивость острословов.
— Курбаши-и!
— Лаббай?
— У каждого петуха ведь гребешок бывает на голове! — крикнул Чиранчик-палван, намекая на отсутствие волос у соперника. — А вашу, простите, легко перепутать с другим местом. Вот я в поисках вашего гребешка и нырнул туда, где оказалась моя голова!..
Смеющиеся хватались за животы, вытирали выступившие на глазах слезы.
После аскии решил показать свое искусство Баят[49]-бала (его настоящее имя было Хаятджан, но некоторые проделки парня послужили поводом назвать его Баят-бала — игривым мальчиком). Кто-то из захмелевших джигитов раздобыл откуда-то атласное платье, платок с кистями и нарядил в них Баят-бала. Когда на середину чисто подметенной и политой площадки плавно выступила изящная танцовщица, собравшиеся, завороженные ее грациозностью, не сразу поняли, что это вовсе не женщина.
Баят-бала исполнял женские танцы под звучание баята, мастерски поводя бедрами, играя животом, а то, вскинув кверху руки и глядя на них томным взглядом обольстительницы, извивался, точно змея.
То и дело раздавались возгласы: «До-ост!»[50], «Очарован я глазами твоими!», «Еще разок! Еще разок всколыхни бедрами…» И бубнист слегка был навеселе, играл с таким азартом, что казалось — вот-вот лопнет его бубен. Баят-бала, кажется, позволил себе малость выйти из границ приличия, проделав несколько щекочущих воображение движений. Парни восхищенно завопили, захлопали в ладоши. Это не совсем пришлось по душе аксакалам, людям почтенным. Аббасхан Худжаханов, Хайитбай-аксакал, Мусават Кари, сидевшие на почетном месте, хмурили брови и неодобрительно поглядывали в сторону веселившейся молодежи.
Кизил Махсум приблизился к Баят-бала и что-то шепнул ему на ухо. После этого тот стал танцевать более сдержанно.
Но вот наконец, устав, примолкли певцы и музыканты. Баят-бала снял с себя платье и сел на супу, еле переводя дыхание и утирая рукавом потное лицо.
После аскии, по знаку Чиранчик-палвана, начали разносить нарын, подав его прежде всего сидевшим на большой супе.
— А ну, давайте, домля![51] — сказал Хайитбай-аксакал, протянув Аббасхану пиалу с водкой. Затем подал Мусавату Кари, Нишану-ака. — Выпейте этой прозрачненькой, если хотите стать петухом в своем гареме! Хе-хе!.. от разных там мусалласов только живот вздувается.
— Значит, решили горло смазать, аксакал? — заметил, посмеиваясь, Аббасхан. Жидкость проливалась из пиалы и стекала по его пальцам.
— Что? Это разве масло, чтобы ею горло смазывать? Не люблю еду с изобилием масла, стану ли его пить! Это, домляджан, чистейшая водка, королева среди напитков! Выпейте — и не заметите, как станете богатырем.
— Пажалиста, мне надо домой, — отпрашивался кто-то.
Чиранчик-палван, не желая его отпускать, возразил:
— Нет приказа уходить!
Мусават Кари, не выдержав, взвизгнул:
— Эй, вы, вам родного языка мало? Не можете обходиться узбекскими словами?
— Мы вас поняли, домляджан, — виновато произнес джигит. — Привыкли, знаете ли, друзей среди русских много…
— Родной язык презирают! Не знаю, что будет через двадцать лет! — произнес Кари громко, чтобы слышали все.
Стало тихо. Почувствовав, что окружающие обратили на него внимание, Кари произнес еще громче:
— Надо сохранять чистоту языка! Их величество Алишер Навои на этом языке написали «Фархад и Ширин»! На этом языке написано «Бабурнамэ»! На этом языке написан «Хикмат»! Не оценивший себя может ли оценить другого! Не будемте же вкраплять чужих слов в наш язык…
— Домля, не скажете ли вы, как называется электричество по-узбекски? — спросил Нишан-ака, сидевший сбоку от него.
— Лаббай? — выкатил глаза Мусават Кари, сделав вид, что не понял вопроса.
— А как называют самовар? — продолжал Нишан-ака.
— Самовар? Самовар и есть самовар! Наше же!
— Ха-а-а, ваше! — усмехнулся Нишан-ака.
— А то чье же?
— А что скажете насчет трактора?
— Вы, Нишанкул[52], не затыкайте мне рот! — вскипел побагровевший Мусават Кари.
— Осторожнее выражайтесь, Кари! Это ваше слово «кул» не по адресу. Времена-то ведь поменялись.
Весь смысл жизни Мусавата Кари, казалось, сводился к разжиганию розни между людьми разных вероисповеданий и национальностей, между представителями известных родов и низших сословий. Скорее всего именно это вызывало к нему симпатии Аббасхана Худжаханова, который и сейчас слушал Кари с нескрываемым удовольствием, поощряя его расплывшейся по лицу улыбкой, и будто всем видом своим подзадоривал: «А ну, давай-ка еще!..» Однако, услышав упрек Нишана-ака, он смутился, опомнясь, и, подобно черепахе, втянул голову в плечи. Повернувшись к соседу, буркнул: «Попала муха в плов…» Но теперь он пытался взглядом, жестом показать Нишану-ака, что он на его стороне. Однако тот не обращал на него ровно никакого внимания. Тогда он обратился к Мусавату Кари с советом:
— Уважаемый, тут вокруг молодежь, вас могут неправильно понять. Давайте лучше о другом поговорим.
Сидевший на краешке супы Парсо-домля одобрительно кивнул ему: «Хвала! Умные люди знают, когда свое слово сказать…» Человек этот хорошо разбирался в торговых делах и не раз для уважаемого Аббасхана Худжаханова доставал дефицитные вещи. И обликом он похож на прощелыгу торговца. Уже более года Парсо-домля снимал комнату у Мусавата Кари. Никто не ведал, откуда он прибыл сюда и чем прежде занимался.
— Нечего меня пугать, я не из пугливых! — проворчал Мусават Кари, всплеснув руками.
— Вай, бессовестные, дайте послушать аскию! — возмутился опьяневший Хайитбай-аксакал. — Развели базар, как бабы!..
Кари всем корпусом повернулся к Нишану-ака. Губы его дрожали.
— Можете меня ругать, как вам угодно! Но я не допущу, чтобы ругали мою нацию!
— Речь о вас, а вы не нация. Такие, как вы, мешают спокойно жить нашему народу. Об этом речь.
Аббасхан Худжаханов был хмур. Не предполагал он, что пустячный спор двух немолодых уже людей примет такой оборот. У него окончательно испортилось настроение. Выбрав момент, он упрекнул Кизил Махсума, подошедшего, чтобы спросить, не нужно ли чего-нибудь столь почетному гостю.
— Не следовало кого попало приглашать в гости, — сказал ему на ухо Аббасхан. — А коль уж позвали, надо следить, чтоб язык за зубами держали. Скажите Кари-ака — пусть помолчит!
— Эй, да что это с вами? — скалясь в ухмылке, спросил прибежавший на шум Чиранчик-палван. — Ха, пропади эта водка! Такие дружные приятели — и в мгновенье схватились друг с другом.
— И я диву даюсь, Палван, — в тон ему заговорил Хайитбай-аксакал. — Погляди-ка вон на молодых — они и то ведут себя прилично. Вай, срам какой! И не знаешь, за кого из них заступиться: оба хорошо знают наши обычаи…
— Пьянчужка постепенно становится чужим в своей семье, — заметил Аббасхан, заинтересованный в том, чтобы возникший спор отнесли к обычной пьяной ссоре. — В свое время Абдуль Фарадж сказал, что без меры пьющий вино выявляет четыре свойства своей натуры. Сначала он напыщен, как павлин, движения его медлительны и величавы. Потом он выражает обезьянью сущность — шутит, паясничает, вызывая смех окружающих. Потом, вообразив себя львом, становится спесивым и самонадеянным. И кончается тем, как правило, что обращается в свинью, валяющуюся в луже.
— Забудем об этом. Принимайтесь за еду! Нарын остывает, — сказал Чиранчик-палван.
По знаку Кизил Махсума певцы поспешно вытерли руки, губы и запели. Снова зазвенел дутар, и гости вскоре забыли про недоразумение, имевшее место на большой супе, среди почетных гостей. Арслан сидел на малой супе, среди сверстников. Сквозь поредевшую листву гранатовых кустов ему было видно и Нишана-ака, и Мусавата Кари. Он и так не испытывал особого веселья, весь вечер беспрестанно думая о больном отце, о Барчин, которая вчера на его предложение пойти в кино ответила, что вечером занята. «С кем она провела вечер?» — мучительно думал Арслан. И его тревогу не рассеяли ни выпитый мусаллас, ни песни хафизов. А после того, как поссорились Нишан-ака и Мусават Кари, ему стало и вовсе не по себе. Оба этих человека близки ему. Они друзья отца. Ни от того, ни от другого он никогда не слышал ничего худого. Всякий раз оба говорили об учтивости, поучали, как надо жить, различая белое и черное. Ему захотелось незаметно уйти отсюда, но вспомнились слова отца: «Я здоров, сынок… Не отбивайся от людей…» — и он оставался сидеть на месте.
Опять перед глазами возникла Барчин. Радостная, сияющая. «Арслан-ака, вы очень понравились моей маме! — сказала она. — Мама считает, что вы серьезный и разумный парень…»
Арслана отвлек от мыслей шум, донесшийся от котла, под которым дотлевали последние уголья. Вали-аждар[53], настолько круглый и упитанный, что с трудом затягивал ремень на животе, заспорил с Аличипхуром, что может съесть целый таз нарына. Кизил Махсум, осклабясь, подошел к дружкам. Он смекнул, что ему представляется случай еще разок развеселить гостей.
— Если съешь таз нарына, — сказал Кизил Махсум так громко, чтобы слышали все, — то можешь увести с собой вон того барана, привязанного под навесом. Еще и чапан накину на тебя в придачу.
При этих словах Чиранчик-палван азартно зааплодировал и закричал, улюлюкая:
— Жри, Аждар! Соглашайся! Все сожри!..
— Проглоти, братец Аждар, дабы оправдать свое имя! Корыто нарына ведь пустяк для тебя? — подал голос Хайитбай-аксакал.
— И сожру! Вы, хозяин, не откажетесь от своего слова, а?
— Отказавшемуся — позор! — притопнул ногой Кизил Махсум.
— Вай, я же свидетель! — сказал Чиранчик-палван, стоявший засучив рукава и поглаживая живот, будто сам собирался съесть корыто нарына. — Ну, а если лопнешь, не придется ли нам отвечать?
— Н-не придется!
— Засучи рукава и возьми ложку, мой богатырь Аждар! — сказал подошедший Хайитбай-аксакал и, обернувшись к гостям, бросил: — Э, не бойтесь, не впервой этому молодцу стрескать столько!
— Я уж отойду в сторонку, а то невзначай и меня проглотит, — проговорил Аличипхур, отступая на несколько шагов. — А вы еще потешаетесь какими-то аския. Вот кто мастак зрелище устраивать!
— Только условие, — сказал Аждар. — Когда съем нарын из этого медного таза, спущусь в хауз, не сочтите это за прегрешение.
— Валяй! Договорились! — произнес Кизил Махсум.
Вали-аждар опустился на колени перед громадным медным тазом и, хватая нарын пригоршнями, стал совать в рот. По подбородку и от кистей рук до локтей стекал жир, и ему приходилось слизывать его языком. Пихая за обе щеки, он торопливо жевал, а иногда проглатывал и не разжевывая. Живот его, казалось, прямо на глазах раздувался все больше и больше, как резиновый. Его обступила кричащая, смеющаяся, улюлюкающая толпа. Аличипхур ехидно приговаривал, осклабясь:
— Бери, мой миленький Аждар, глотай. Приятного тебе аппетита…
Хайитбай-аксакал, стоявший покачиваясь и раскорячив ослабшие ноги, шепнул Нишану-ака:
— Появись четыре таких дива, и весь мир проглотят.
И тут же, обернувшись, обратился к Мусавату Кари:
— Домляджан, у вас вызывают неприязнь те, кто говорит «пажалиста». А про этого что скажете?
— Лаббай?
— Для ученых людей дел много под нашим небом, — продолжал Хайитбай-аксакал. — Мы выращиваем в поле хлопок, на своих огородах сажаем дыни, арбузы — так и пройдем через этот мир. А вы, мулла, должны воспитывать вот таких. Глядите, каков он! Какое ему дело до нации и ваших споров! Ему бы только поесть, попить да поспать. Человек ли это?..
Не прошло и получаса — медный таз оказался пустым. Оставшийся на дне его бульон Вали-аждар вычерпал пиалой и выпил. После этого он, пыхтя, тяжело поднялся на толстые короткие ноги, медленно расстегнул пояс, снял брюки и рубашку. Скользя голыми ягодицами по мокрому берегу, соскользнул в хауз и шумно плюхнулся в воду. Некоторое время он, точно огромная дыня, то исчезал, то появлялся на поверхности прозрачной холодной воды. От него расходились круги, и вскоре от распространяющегося жира они заблестели, переливаясь то розовыми, то зеленоватыми оттенками, будто в хауз вылили керосин.
Вали-аждар минут двадцать пребывал в воде. Блестящая пленка жира затянула поверхность всего хауза. Собравшиеся, полагая, что Аждар объелся, забеспокоились, как бы с ним не случилось чего худого. Но вот он медленно подплыл к берегу и протянул руку. Дружок его Аличипхур помог ему выбраться из хауза и усадил на супу. С Аждара на ковер стекала вода. Он сидя, не спеша, натянул портки, надел рубаху, опоясался. Ему протянули пиалушку горячего чая. Он двумя глотками осушил ее и торжествующе посмотрел на Кизил Махсума.
— Бери, баран твой! — сказал тот и направился в дом.
Через несколько минут он вынес чапан и накинул его на плечи Вали-аждара. Затем прошел под навес, отвязал барана и, держа за веревку, притянул его за собой.
— Забирай! — сказал он, бросив конец веревки к ногам Вали-аждара.
Поступок хозяина все встретили аплодисментами и одобрительными криками.
Арслан проникся к Кизил Махсуму еще большим уважением. По мнению Арслана, Кизил Махсум проявил себя как благородный человек. Ведь только человек широкой души так мог поступить! Люди из-за трех рублей вступают в препирательство, а Кизил Махсум ради друзей пренебрег деньгами. Он удовлетворил желание и обжоры Вали-аждара и публике доставил превеликое удовольствие необычным зрелищем. Что и говорить, этот человек никому не причиняет обиды, наоборот, если имеет возможность, поможет каждому.
Музыканты вновь заиграли.
К Арслану подошел Кизил Махсум. Он почти приник губами к его уху и сказал, чтобы никто не услышал.
— Укаджан, — прошептал он, — возьмите чайничек хорошо заваренного чая, отнесите Мусавату-домля и немного посидите с ним рядом. Они почему-то расстроены. Может быть, им мой гап не понравился?
Мусават Кари сидел притихший. Видно, еще не пришел в себя после ссоры с Нишаном-ака.
— Я уже давно наблюдаю — сидят грустные. Они очень уважаемый человек. Пойдите развейте их печаль добрым словом. Если же сможете упросить прочитать свои газели, этим обратите наш гап в праздник.
— Я постараюсь, — кивнул Арслан.
Кизил Махсум, никем не замеченный, тихонько отошел и исчез за кустами роз.
Когда музыканты закончили мелодию, Арслан, переждав еще минутку, поднялся и подошел к парню, хлопотавшему около двух огромных самоваров. Наливая воду то в один самовар, то в другой, он умудрялся постоянно поддерживать один из них в состоянии кипения.
— Дружище, завари-ка чайник чаю. Да покрепче.
— Будет исполнено! Имеется пиала с молитвенной надписью, дать ее?
— Давай, братишка.
Арслан с чайником в руках пересек двор и подошел к большой супе. Обратился к Мусавату Кари, облокотившемуся на пуховую подушку:
— Домля, разрешите минутку посидеть рядом с вами?
— Пожалуйста.
— Не сочтите за невоспитанность, но захотелось мне посидеть с наставником.
— Это как раз признак благовоспитанности. Иметь побольше последователей — желанная цель наша.
— Отец мне всегда говорит: «Прислушивайся к словам почтенных, умудренных опытом людей», — сказал Арслан, присаживаясь на краешек супы.
— Как здоровье Мирюсуфа-ака?
— Лучше.
— Да исцелит его аллах.
Арслан налил в пиалу чаю и опрокинул ее обратно в чайник, чтобы получше заварилось.
То, что Арслан специально подошел и сел рядом с Мусаватом Кари — чем, естественно, решил выразить ему сочувствие, — неприятно поразило Нишана-ака.
А Кари, подняв голову, горделиво оглядел людей: дескать, видите, молодежь меня понимает!
Чтобы не мешать беседе Мусавата Кари и Арслана и чем-то занять себя, некоторые из сидящих рядом полезли в карманы за табакерками и легкими ударами стали ссыпать на ладонь зеленый порошок насвая и закладывать его под язык.
— Насвай у Ибрагима куплен? — громко спросил Хайитбай-аксакал у соседа.
— У него.
— Пройдоха он, много извести добавляет, — сказал Хайитбай-аксакал, как бы давая понять, что не обращает внимания на беседу Кари и Арслана и что вообще питает полнейшее пренебрежение к подобного рода беседам. Так сказать, не ставит их ни в грош. — А ну, Нишанбай, отсыпьте-ка мне вашего насваю!
Нишан-ака вытряхнул из табакерки на огромную ладонь Хайитбая-аксакала изрядную порцию табака.
— Еще, еще! Не жалейте!
— Вы хотите с купол бани? Аппетит у вас неплохой.
— Мы употребляем в таком количестве. Ну хотя бы не менее кучи индюшачьего навоза! Хе-хе!..
Не прошло и четверти часа, подошли еще двое молодых парней и сели около Мусавата Кари. Им, как видно, тоже хотелось выглядеть тонкими ценителями «возвышенного слова».
— Домля, не сочтите за труд, прочтите что-нибудь присутствующим на нашем празднестве, — попросил один из них, опередив Арслана.
— Значит, вы более сыты, если перехватили мои мысли, — пошутил Арслан.
И тут как из-под земли вырос Кизил Махсум.
— Домля, вы как-то читывали газель «Иные смеются, я плачу». Прочтите ее.
— Дорогой мой, — ответил Мусават Кари, многозначительно взглянув на хозяина, — сию газель сейчас нельзя читать. — Он движением бровей указал на сидевшего позади Нишана-ака.
— Лов-хавла вало куввато[54], — произнес Кизил Махсум, вытаращив глаза. — Нельзя, говорите? Если нельзя, то и не надо. И так ходим с оглядкой. Наш многочтимый отец были купцом, много стран повидали, так вот они говорили…
— Не расстраивайтесь, уважаемый, я избавлю вас от излишних беспокойств, — многозначительно произнес Мусават Кари и оглядел собравшуюся вокруг него молодежь. — Однажды я сказал одному из своих друзей, спросившему, почему я перестал писать газели: «Я вынужден помалкивать, ибо у каждой мысли есть две стороны — белая и черная. Глаз же вражий видит только черное!» На это друг мой ответил: «Да никогда враги наши не увидят белого!»
Лучи солнца — источник жизни на земле,
А летучей мыши жить нравится во тьме.
Возникло оживление. Кто-то вполголоса произнес:
— Да будет у вас благополучие, жить вам сто лет, домля!
Парни поглядывали на него с подобострастием, как на мудреца. А сидевшие поодаль спрашивали у приятелей, что, мол, там сказал домля.
Кизил Махсум внутренне ликовал, мельком взглянул на Нишана-ака, пытаясь определить, дошел ли до него смысл газели. Но тот спокойно беседовал с Хайитбаем-аксакалом и скорее всего ничего не слышал. Кизил Махсум огорчился, даже улыбка сошла с его лица. Проходя мимо, Аббасхана Худжаханова, он шепнул ему на ухо:
— Стрела точно в цель попала!
— Глубоко копнул домля, — ответил тот, согласно кивнув.
Мусават Кари сидел, опустив глаза и раскачиваясь всем корпусом. Он делал вид, что ему нет дела до всего, что вокруг происходит, однако не скрылось от его внимательного взгляда и впечатление, произведенное на молодежь, и то, как реагируют недоброжелатели. Глубокомысленно помолчав несколько минут, он решил рассказать притчу из Саади:
— По дороге из великой Куфы к каравану примкнул странствующий по чужбине нищий. Он был бос, и голова ничем не прикрыта от палящих лучей. И ничего у него не было ни в руках, ни за пазухой. А шагал он важно, с достоинством.
Один из купцов, наклонившись с верблюда, спросил: «Эй, дервиш[55], куда путь держишь? Путь далек и тяжел. Не вынести тебе испытаний. Вернись, пока не поздно, назад!» Дервиш же продолжал путь, делая вид, что не слышит его.
Когда караван достиг Махмуда, ехавший на верблюде купец покинул мир. Дервиш подошел и, наклонясь над ним, сказал: «Я, терпя трудности пешего хождения по свету, не умер, ты же почил, наслаждаясь ездой на верблюде!»
Сколько аргамаков отстали в пути,
Лишь ослу хромоногому выпала доля к цели прийти!
Насупленные брови Хайитбая-аксакала вздрогнули и расправились. Он с интересом посмотрел на Мусавата Кари, цокнул языком и, слегка подтолкнув Нишана-ака локтем, заметил:
— А здорово витийствует, каналья!..
Нишан-ака кивнул, но не подал голоса, ссылаясь на насвай, заложенный под язык.
Кари между тем вспомнил другую притчу:
— Сколь поко́рен верблюд, всем известно. Даже мальчик может взять его за повод и пройти сотни верст — верблюд не выйдет из повиновения. Но стоит малышу по несмышлености своей направиться к опасной крутизне, верблюд вырвет из его рук повод и перестанет быть покорным. Так-то вот. Когда проницательность и власть проявить надобно, ротозейство достойно осуждения. «Врага не сделаешь другом милостью своей, усугубишь его алчность скорей».
Будь прахом у ног проявившего милость хоть раз.
Кто обойдется с тобою жестоко, лиши его глаз…
С теми, кто груб, не разговаривай мягко,
Мягкий напильник не точит металла.
— Баракалла! — произнес один из стариков. — Хвала вам, домля!
— Долгой вам жизни, домля, да сопутствует вам везение в жизни, — сказал повеселевший Аббасхан, который поначалу расстроился, осудив в душе Кари за то, что тот непонятную мысль выразил в первой притче. Вторая поставила все на свои места.
— А ну, раскройте ладони! — обратился Чиранчик-палван ко всем. — Пусть долгой будет жизнь домли, аминь, аллах акбар!
Сидящие провели по лицу ладонями.
Мусават Кари отпил из пиалы глоток чая и протянул Чиранчик-палвану в знак признательности. Самодовольно огляделся по сторонам и, убедившись, что почти все собравшиеся вокруг прониклись к нему симпатией, решил проявить «милость», о которой только что говорил:
— Нишанбай, не наскучил я вам своими притчами?
Обращение повергло Нишана-ака в некоторую растерянность. От изумления он не мог и слова выговорить. Нишан-ака прекрасно понимал, что Кари хочет показать людям, насколько он выше простолюдина, дерзнувшего спорить с ним. Поэтому вопрос его никак нельзя было оставить без ответа.
— Напротив, — сказал Нишан-ака спокойно. — Могут ли стихи шейха Саади навеять скуку? Притчи эти многие сказывали и до вас, и всякий раз мы с удовольствием слушали. Однако… слова шейха Саади чисты, как розы, услаждающие наш взор, а слетая с вашего языка, они пропитываются ядом.
— Хе-хе-хе! — засмеялся Хайитбай-аксакал, сидевший погрузив локоть в подушку, и хлопнул Нишана-ака по колену, как бы желая сказать: «Здорово вы его! Не мешает сбить спесь с подобных, кичащихся своим благородным происхождением».
— Браво, Нишан-ака! — воскликнул Аббасхан Худжаханов, давая понять, что в этом споре он не держит ничью сторону. — Браво, спорить вы умеете…
— Когда слушаешь их речи, — Нишан-ака кивнул в сторону Кари, — приходится понюхивать свою тюбетейку.
— Чтобы перебить идущий от них смрад! Хе-хе-хе! — поддержал приятеля Хайитбай-аксакал.
По реакции Аббасхана Худжаханова Мусават Кари понял, что слишком далеко зашел, и решил на всякий случай расчистить путь для отступления. Он знал, что более всего рассердило Нишана-ака, и сказал добродушно:
— Не горячитесь, к вам никто не относится с пренебрежением, как к простому рабочему. Вы же учились в старометодной джадидской школе…
Кизил Махсум, чтобы разговор опять не принял нежелательный оборот, не теряя времени, взялся за осуществление намеченного. Он подал знак одному из джигитов, и тот мгновенно исчез в ичкари. Вскоре он вышел оттуда, торжественно возложив на ладони несколько сложенных шелковых чапанов.
— Почтенные! — обратился хозяин к почетным гостям. — Прошу вашего позволения накинуть это на ваши плечи. Вы проявили глубокое уважение, явившись ко мне, так примите же мой скромный дар.
Он взял из рук джигита один чапан и подошел прежде всего к Мусавату Кари.
— Бисмилло… — произнес тот, торжественно поднимаясь с места.
— А ну, аксакал! — Кизил Махсум обернулся к Хайитбаю.
— Спасибо, очень уж уважили…
— А ну-ка, Нишан-ака!
— Оставьте нас, Махсум, ничего мы не сделали такого, за что стоило бы надевать на нас чапан. Заслужили те, кто «раскрывают глаза нации».
— Не обижайте нас! — Кизил Махсум, с трудом сдерживая раздражение, накинул чапан на плечи сидевшего Нишана-ака, который, как он заметил, не собирался подниматься.
После этого подарок получили Аббасхан Худжаханов и Зиё-афанди.
Подошел Чиранчик-палван и, глядя исподлобья на Кизил Махсума, осведомился:
— А тем, кто прислуживал?
Хозяин, смеясь, ответил:
— Ваш черед подойдет. Одаришь прежде времени — сбежите, чего доброго.
Компания развеселилась. Хафизы опять ударили по струнам и запели.
Мусават Кари почувствовал пронизывающий взгляд Аббасхана Худжаханова. Он уловил в этом взгляде насмешку. Казалось, этот человек видит его насквозь, читает мысли. И, может, знает даже не только то, как Мусават Кари коротает нынешние дни, но и прошлую его жизнь. Взгляд этот как бы говорил: «Дурак ты, дурак! Нашел место распускать язык!» И, словно под гипнозом, Кари вдруг сам до боли ощутил свое ничтожество. Ему вспомнилось прошлое.
В начале тридцатых годов Мусават Кари преподавал в начальных классах. Он мнил из себя молодого интеллигента и даже носил жилетку под пиджаком. Образования у него не было никакого, в школу его пристроил один из родственников, работавший в районе.
Каждый урок он начинал с того, что чертил на доске два круга, которые должны были обозначать часы. Вписывал в них цифры, рисовал стрелки и принимался объяснять, куда они должны двигаться. Ученики, никогда не видевшие настоящих часов, ровным счетом ничего не понимали. На следующем уроке он вновь возвращался к той же теме. Когда в конце года, по жалобе родителей, нагрянула комиссия, оказалось, что его ученики так и не постигли этой премудрости. Но зато знали одно стихотворение. Он и сейчас его помнит:
Я оседлал вороного коня,
Пронестись чтоб по долам и горам.
Взмахнул кнутом — и понес он меня
Навстречу солнцу и ветрам.
Его, разумеется, освободили от учительства. «Не повезло на поприще преподавания — стану поэтом!» — решил он. Ему потребовался всего один вечер, чтобы написать длинное-предлинное стихотворение. Наутро он побежал к Тавалло, который в ту пору из сумерек своей жизни уже входил в ее ночь. Он сперва попросил принести водки. Выпил, тут же захмелел. И разговора у них в тот день так и не состоялось. На следующее утро Мусават Кари опять пришел к Тавалло. Тот встретил его с той же просьбой… Еще долгое время у них никак не вязалась беседа. Они вместе ходили на вечеринки, с которых Кари всякий раз приходилось отводить домой своего наставника. Но однажды, когда все это в конце концов Кари надоело, он настоял на том, чтобы Тавалло прочитал его стихотворение и оценил по достоинству. И тот прочел. Затем отхлебнул из пиалушки водки и сказал прямо:
— Укаджан, оставьте это занятие, из вас не получится поэт!
От слов этих Мусават Кари сморщился, как вялый персик. И, ругая на чем свет стоит «пьяницу-джадида», пошел вон с его двора.
После этого он начал изыскивать способ сблизиться с Хислатом, который, как было всем известно, не ладил с Тавалло. Тенью ходил за ним по пятам и в любую удобную минуту старался очернить в его глазах Тавалло. Наконец тот не выдержал и сказал:
— Хотя и не сошелся я с этой личностью по взглядам на некоторые вещи, но все-таки он истинный поэт! Я не допущу, чтобы так поносили моего коллегу! — и прогнал Мусавата Кари от себя.
Но Кари был не из тех, кто сразу же падает духом. Он решил испытать себя на ином поприще.
Через два месяца в пае с Кизил Махсумом он открыл парикмахерскую на площади Чорсу и стал брадобреем. Своим клиентам он всегда жаловался, что в нем гибнет великий поэт, что его не оценили по достоинству, но оценят, как всех великих, после смерти.
И однажды ему посчастливилось. Джигит, которого он только что побрил, оказался работником редакции. Он сказал:
— Если у вас есть что-нибудь написанное, зайдите в редакцию, поговорим.
Возликовав, Кари поспешил в редакцию.
Того джигита, которого он брил и на которого потратил чуть ли не полфлакона одеколона, он не застал. Стихотворение прочитал другой сотрудник. Возвращая стихотворение, он сказал:
— Это не годится. Однако если напишете что-нибудь сто́ящее, напечатаем.
— Напишу, — решительно ответил Мусават Кари и, как человек от природы практичный, осведомился: — А во сколько будет оценено начертанное нашим пером?
Молодой человек улыбнулся и ответил:
— На лошадь или корову не хватит, но книгу, тетрадь, и карандаш приобрести сможете.
Мусават Кари тут же прикинул, что брадобрейство куда доходнее писания газелей, и отправился восвояси.
Однако память у него была превосходная, и он помнил много притч шейха Саади, слышанных некогда от местных поэтов — Тавалло и Хислата. Теперь при случае он рассказывал их, выдавая иногда за свои. И это принесло ему славу, о какой он и мечтать не мог.
В разгар торжества, когда все упивались царящим тут довольством и весельем, во двор вбежал запыхавшийся мальчик. Он подошел к Чиранчик-палвану, стоявшему посреди двора, и, едва переводя дух, сказал ему что-то.
Чиранчик-палван тут же поспешно направился к Арслану и издали сделал ему знак рукой. Арслан сразу почувствовал недоброе. Он спрыгнул с супы и подбежал к мальчику. При первом же его слове он метнулся к калитке и исчез.
— В чем дело? — спросил Кизил Махсум у Чиранчик-палвана.
— Отец скончался.
Сидевшие на супе молитвенно провели ладонями по лицам.
— Я должен пойти к ним, — сказал, поднявшись с места, Нишан-ака. — Спасибо за еду и питие.
За ним последовало еще несколько мужчин. Однако с их уходом гап не кончился. Даже наоборот, Аббасхан и Кари облегченно вздохнули. К ним подошел хозяин, отлучившийся ненадолго проводить гостей.
— При чужих людях распря с горошинку разрастается до размеров тыквы, — сказал он, взглянув на Аббасхана и Кари. — Вот, Кари-ака, можете теперь чувствовать себя свободно. Рассказывайте свои притчи, будем слушать их и ушами, и сердцем. А они ораторствуют попусту, — Кизил Махсум движением бровей показал на калитку, — и пустыми словами хотят привлечь на свою сторону людей. Сухая ложка рот дерет. Словами сыт не будешь… Пусть живут и благоденствуют наш Кари-ака, пусть над ними простирается покровительство аллаха. Мы, его друзья, не собираем пустых слов. — Он опять кивнул на калитку: — Они только сеют среди мусульман раздор, а мы набиваем кошельки деньгами. Ключ ко всему — деньги. Если хорошенько сложить красные червонцы, они поместятся в уголочке кошелька, но кошелек этот становится крепче и острее булата. Давайте-ка, почтенные, поблагодарим Кари-ака за его мудрые притчи, за то, что он поучил нас уму-разуму. Наполняйте его карманы — и достигнете благоденствия…
— Баракалла! Браво! — подхватил Чиранчик-палван и, простирая руки в сторону Кари, заговорил, брызгая слюной: — Этот человек не просто Кари-ученый, он чудо нашего времени. Даже великообразные люди, обучавшиеся в знаменитом медресе Мир-Араб, не столь мудры и всезнающи. Сие — от аллаха. Да удовлетворим аллаха своими подношениями высокочтимому Мусавату-ака!..
Мусават Кари, слушавший похвалы в свой адрес, сидел, скромно потупясь.
Глава седьмая
С ЧУЖИМИ
Арслан вбежал в дом и, остановившись в проеме двери, прислонился к косяку. На подоконнике тускло горела лампа.
— Не плачь, сынок, — сказал сосед, коснувшись плеча Арслана. — Мир бренен, сынок, что поделаешь. Не в наших силах предотвратить это.
Из женской половины доносился тихий плач. Там находились мать и сестра. По мусульманскому обычаю женщин не допускают к покойному. Заслышав, что Арслан пришел, Мадина-хола вышла в прихожую. Вытирая глаза концом косынки, сказала:
— Сейчас сообщим родственникам. Аксакалов махалли тоже надобно сейчас известить…
Арслан поспешил было на улицу, но в калитке встретился с Нишаном-ака. Пришлось вернуться.
— Зажгите две лампы, до утра не должны они гаснуть, — сказал Нишан-ака. — Я обойду наших стариков, а утром сообщу на завод.
— Хорошо, — согласился Арслан.
— Эй, Мадина-хола, кисея в доме имеется?
— Нет… — растерянно произнесла хозяйка.
— Ладно, я принесу, у меня есть. Утром соберутся люди, постелите курпачи, чтобы сидеть где было. Дастарханы и посуду надо собрать в махалле.
— Я это сделаю, — пообещал Арслан.
— Ну, я пошел. Пусть будет земля ему пухом, — сказал Нишан-ака и, выйдя на улицу, тихо затворил калитку.
Он шел, погруженный в раздумье, и видел сейчас перед собой Мирюсуфа-ата, который всю жизнь трудился, не зная покоя, и душу имел чистую, как родник. Сам впервые вступив в огромный коллектив, он радовался, что все больше и больше молодежи идет трудиться на завод. Все чаще он встречал на заводе парней-узбеков. Они быстро знакомились, завязывалась дружба…
Нишан-ака вышел на пустынную в этот час площадь Хадра, пересек ее, направляясь к трамвайной остановке. Высокие здания возвышались напротив. Только в нескольких окнах горел свет. На площади под жестяным колпаком, покачивающимся от легкого ветерка, светилась всего одна лампочка. Тихо было вокруг. Город спал. Нишан-ака обернулся, посмотрел на приземистые дома своей махалли, погруженной в темень. Над ними простиралось огромное фиолетовое небо, усеянное холодными звездами. Они, эти звезды, напомнили ему искры, летящие из горнов, и тотчас услышал он перестук больших и малых молотов… Сколько поколений литейщиков жило в этой махалле…
Молодой дегрез Мирюсуф, он, Нишан, и многие другие, сыновья и внуки прославленных литейщиков, их друзья и родичи собрались в свое время в сталеплавильном цехе завода Сельмаш. И огонь, пылавший в горнах дегрезов их махалли, они перенесли в цех завода. Как большие и малые арыки, сливаясь, образуют многоводный Анхор, так старые и молодые мастера-дегрезы, собравшись на заводе Сельмаш, создали литейный цех. И вот сейчас Нишан-ака словно бы на самом деле увидел их всех, своих друзей, с крепкими плечами, с натруженными, мозолистыми ладонями…
А в махалле этой даже земля смешалась с чугуном — крепка ее твердь. Ведают ли люди, проходя по этим безымянным извилистым улочкам, сколько знаменитых мастеров Ташкента проживало тут в былые времена?
Вдалеке послышался скрежет стальных колос. Из-за поворота показался трамвай со светящимися окнами.
Да, тяжелая ночь. Что может быть тяжелее, если из жизни уходит друг…
Арслан всю ночь ходил из дома в дом, оповещал людей о горе. Домой возвратился, когда начинало светать. Он свалился в постель, но уснуть так и не смог.
Утром стали собираться люди, близко знавшие Мирюсуфа-ата. Первыми пришли Нишан-ака, Хайитбай-аксакал, Хайдар-долговязый, Исмаил-ака, Мирахмед. Из махалли Кургантеги пришли Кизил Махсум и Чиранчик-палван. Из нового города приехали Матвеевы, отец и сын, и Нургалиев — начальник литейного цеха…
Кизил Махсум отозвал Арслана в сторону и сунул ему в ладонь деньги.
— Не отказывайся, братишка, деньги тебе сейчас нужны. Не хватит — еще дам. Когда-нибудь рассчитаешься…
Арслан поблагодарил его, оценив такую заботу. Ему действительно понадобятся деньги. Арслан, конечно, в долгу не останется, он отработает, вернет с лихвой.
Странно — почему же Нишан-ака недолюбливает этого благородного человека?
Часам к двенадцати собралась почти вся махалля. Пришли рабочие с завода. Явился и Мусават Кари. Он, выражая Арслану соболезнование, то и дело повторял:
— Такова жизнь человеческая, и ничего тут не поделаешь. Такова жизнь…
— Как намерены устроить погребение? — тихо спросил он. — Коран будет читаться?
— Поступим так, как поступали отцы наши, деды и прадеды, — сказал Кизил Махсум.
— Очень хорошо. Не надо гневить аллаха.
— Я дал денег его сыну, — шепнул Кизил Махсум ему на ухо.
— Вы по-мусульмански поступили, уважаемый. Это ваше деяние достойно похвалы. Верно говорят — друг познается в беде. Пусть постыдятся те, кто, не имея ни гроша за душой, произносят лишь громкие слова.
Стоящие поблизости конечно же поняли, что он намекает на Нишана-ака.
— Ну, а чем все это в конце концов кончается, видите сами. Достойный вам пример! — многозначительно произнес Мусават Кари.
Пришли все друзья Арслана, его однокурсники. Только Захиди чуть было не опоздал. Он появился в самый последний момент.
— А-а, проспали, значит? — пристыдил его при всех Мусават Кари, считавший за благое дело жалить молодых, забывающих, по его мнению, обычаи предков.
Захиди стало неловко, и он лишь виновато опустил голову, не проронив ни слова.
Кари с чувством удовлетворения отошел от него, присоединясь к уважаемым людям.
«В самый неподходящий момент ужалили вы, Кари-ака, — думал между тем Захиди. — Да, все скорпионы жалят неожиданно, не считаясь с тем, у гроба ли ты стоишь, или переполнен радостным волнением на тое…»
— Если уж умер, то ни завод, ни советская власть не поможет. Таковы-то дела мирские, — слышался голос Мусавата Кари где-то уже в стороне, среди аксакалов.
Ему ответствовал суфи[56]:
— Аллах велик, и милость его велика. Вот умер дегрез Мирюсуф, пренебрегавший при жизни святой мечетью, а глядите-ка, махалля о нем душевно позаботилась.
Суфи взглянул в ту сторону, куда кивнул Кари, и увидел осунувшегося, — усы повисли, как рыжие сосульки, — Нишана-ака, стоявшего возле двери и устремившего взгляд, полный скорби, на покойного.
— Аллах велик, и такие в конце концов присоединятся к нам. Кому-то надо же нести их гроб. Подумает об этом темный человек и явится в мечеть. Аллах всемогущ. Благодарю тебя, всевышний!
Они одновременно провели ладонями по лицу.
Ровно в два часа гроб с телом Мирюсуфа-ата подняли на плечи. Арслан с двумя двоюродными братьями шел впереди процессии. Гроб колыхался на плечах людей. Старики переговаривались:
— Мирюсуф-ата осенен милостью аллаха: глядите, сколько народу собралось!
Мусават Кари, желая показать, что вот и он выполняет свой долг перед покойным, раз или два подставил свое плечо.
Нишан-ака, выбившись из сил, отходил, потом снова брался за гроб. Оттого что помощники часто меняли друг друга, как говорится, рука не задевала руку. Пять лет назад на похоронах одного учителя из этой махалли тоже всю улицу заполнили люди. А имам, ехавший на арбе с группой седобородых старцев, вспомнил, что на захоронении ишана Навара-хазрата, внука святого из местечка Сакичмон, была такая же тьма народу.
Мирюсуфа-ата предали земле.
Люди, возвратись с Чигатайского кладбища, входили во двор, выражали соболезнование Мадине-хола, сестрам Арслана, советовали проявить волю и смирение и постепенно расходились по домам.
До истечения седьмого дня после смерти постланные во дворе курпачи и дастарханы не убирались. В этом доме принимали всех приходивших почтить память покойного из дальних и ближних мест.
Караван без вожака может сбиться с пути. В семью, лишенную главы, приходит нужда.
Когда отец был жив, в доме часто бывали гости. А нынче — пустота. Трудно Мадине-хола примириться с утратой. Все дни пребывала она в печали, была рассеянна. Арслан поднимался ни свет ни заря и отправлялся в мастерскую Кизил Махсума. Возвращался в полдень. Наскоро пообедав, спешил в институт. Когда дочки уходили на базар и Мадина-хола оставалась одна, подолгу неподвижно сидела она на веранде.
В большом дворе было непривычно тихо и пустынно. Неподалеку от веранды дрались, хлопая крыльями, две горлинки. Тетушка Мадина поднялась и, швырнув камень, заставила их разлететься. Говорят: если во дворе дерутся горлинки, быть ссоре между мужем и женой. Хотя… с кем же ей теперь ссориться?..
Чтобы как-то отвлечься от гнетущих мыслей, она поднялась с места, подошла к калитке, выглянула — не идут ли дочки? Потом ушла в комнату. Долго стояла там, держась сухими руками за спинку железной кровати, где умер ее муж.
Она ждала вечера.
По вечерам дети были с ней. Арслан, Саодат и Сабохат усаживались вокруг низенького столика, а Мадина-хола разливала в стоящие перед ними касы горячий суп. Пока дети ели, она сидела на ступеньке веранды.
Махалля была расположена в стороне от большой дороги, поэтому сюда не доносились ни грохот арб, ни крики погонщиков, ни звон трамвая. Только от склада утильсырья, который находился около оврага с крутыми склонами, временами доносился лай собак, дерущихся из-за кости.
Вот и сейчас, как только Мадина-хола опять села на веранде, подперев щеку, услышала их озлобленный, хриплый лай. Представила она себе давным-давно проданный ими сад, занимавший несколько соток по ту сторону оврага. Там у них была небольшая летняя хижина, в которую она и Мирюсуф-ата перебирались, как только на деревьях начинали лопаться почки, выстреливая зелеными листочками… Вспомнила, как однажды поздним вечером, после первого снегопада, муж направился туда, чтобы счистить с крыши снег. Едва спустился по крутому откосу в овраг, как его окружила свора свирепых собак. Но он не растерялся, — отбиваясь лопатой, благополучно достиг противоположной стороны оврага, поднялся наверх и оглянулся. Ни одной собаки он не увидел. А под желобом старой, заброшенной мельницы, расположенной чуть левее склада утильсырья, горел светильник. Это место считалось нечистым. Поговаривали, что там нашли себе кров черти. И тех, кто, проходя тут, не произнесет про себя молитву «Лоховла», будут якобы преследовать катящиеся клубки огня. И Мирюсуф-ата поспешно помолился, усомнившись вдруг, собаки ли на него напали или то был шабаш ведьм. Муж не раз рассказывал ей об этом…
Над плоской крышей, возвышавшейся напротив, за дувалом, поднялась луна. Вдруг на ее яркий диск нашла тень, заставив тетушку Мадину вздрогнуть, и она увидела, что это пробирается по краю крыши кошка. Она села, помахивая хвостом, как раз напротив луны, и глаза ее сверкнули. Мадина-хола зашептала молитву и трижды поплевала себе за пазуху. Кошка, будто чего-то испугавшись, метнулась в сторону и исчезла.
Дети поели. Саодат попрощалась и ушла. Она торопилась домой, где ее наверняка уже заждался муж. Все эти дни он один был с ребятишками. Он работал слесарем в паровозном депо, приходил поздно, усталый, голодный. А Саодат с утра до вечера была у матери, чтобы как-то смягчить ее горе.
Арслан раскрыл учебник, а Сабохат принялась мыть посуду.
Раздался стук в калитку. Арслан быстро встал.
— Кто там?
За калиткой отозвались. Арслан узнал голос, заспешил отпереть.
— Добрый вечер, Махсум-ака, проходите!
— Извини, братишка, что поздно.
Он прошел к веранде и, поднимаясь по ступенькам, встретился с Сабохат, остановившейся, чтобы уступить ему дорогу.
Она поклонилась гостю и прошла в летнюю кухню, смутившись от того, как Кизил Махсум посмотрел на нее.
Прежде тоже она замечала, что он задерживал на ней взгляд несколько дольше, чем полагается, и недоумевала, что это может означать.
Кизил Махсум с особым почтением поклонился Мадине-хола. Пройдя к стенке, опустился на курпачу. Затем, когда все в ожидании умолкли, не спеша прочитал молитву и провел ладонями по лицу.
— Такова жизнь человеческая, холапошша[57], — произнес он. — Только терпеть и остается нам. Мирюсуф-ата угоден был всевышнему…
— Все ли у вас благополучно? — осведомилась Мадина-хола.
— Благодарение аллаху.
Сабохат вновь расстелила дастархан, принесла чай, лепешки, изюм, перемешанный с колотыми орехами.
— Пожалуйста, угощайтесь.
— Бисмилло, — произнес Кизил Махсум, прежде чем взять кусок лепешки. — Выкроив минутку, я решил навестить вас. Послезавтра исполняется семь дней… Пришел посоветоваться.
— Спасибо, — тихо произнесла Мадина-хола. — Навещая наш дом, вы радуете душу покойного.
— Нишан-ака тоже обещали прийти сегодня. Видно, где-то задержались, — заметил Арслан. — Наверно, завтра придут.
— Наверно, поя-а-вится, — сказал Кизил Махсум, стараясь скрыть раздражение.
Несколько минут царило молчание.
— Я с махаллинцами говорил сегодня, — сообщил наконец Кизил Махсум. — Казан, самовар, всякую посуду принесут завтра. Вечером придут двое-трое. Я тоже буду. Разделаем мясо, нарежем моркови для плова. — Заметив беспокойный взгляд хозяйки, он помахал ладонью. — Как обстоит дело со средствами у Арслана, мне известно, холапошша. Считайте меня за старшего брата Арслана, и да возрадуем мы все вместе душу отца, отметив его семь дней. Говорят, человек, творящий добро, не будет презрен ни в этом, ни в том мире. Мирюсуф-ата любили меня. Я должен ему послужить.
— Да будет счастливой ваша жизнь, — сказала Мадина-хола.
— Не старайся ублажить кого попало, братишка, — посоветовал Кизил Махсум, наливая себе чаю. — Оставь в покое этого Нишана-ака. Если придет, уважь, а не придет — не обижайся и не проси.
Арслан молча кивнул.
Сабохат помыла на кухне посуду и, не зная, присоединиться ли ей к сидящим на веранде или не следует этого делать, остановилась посредине двора с веником, как бы собираясь мести.
— Сабохат, иди, дочка, садись, не стой там, — позвала мать.
Сабохат приблизилась и, смущаясь, села поодаль на краешек веранды. Она была грустна, и это ее делало еще более прекрасной. Сидела, опустив голову и делая вид, будто скручивает на коленях нитку, вытянутую из ткани. Луна поднялась высоко, и на темном фоне затененной стены был виден освещенный тонкий профиль молодой женщины.
С тех пор как она, разведясь с мужем, вернулась домой, прошло два года. И Мадина-хола, некогда видевшая жизнь Мирзарахимбая, у которого амбары ломились от риса и пшеницы, от кувшинов с топленым маслом да засоленного мяса, надеялась тоже, пристроив обеих дочерей и женив сына, пожить в достатке. Но Арслан все еще занят учебой, а Сабохат, бедняжке, не повезло в жизни. Старуха по ночам молила бога, чтобы ее дочке наконец тоже улыбнулось счастье.
О намерениях Кизил Махсума она догадывалась еще тогда, когда он хаживал к ним во время болезни отца, стараясь всячески проявить заботу.
Поначалу завела об этом разговор старая Биби Халвайтар, их дальняя родственница.
— Эй, Мадинахон, что ты своих дочерей, таких красавиц, все за бедняков выдаешь? — спросила она как-то полушутя-полусерьезно. — Неужели у тебя нет благих желаний в этом мире? Любить бедняков — уж предоставь это своему старику, а тебе-то зачем это? И у Сабохатхон твоей с мужем из-за бедности нелады пошли. Вернулась вот на родительский хлеб. Смотри во второй раз не ошибись! А Махсум ведь чем не джигит, а?
— Он разведенный, дети есть…
— Ну и что? Не повезло ему с женой. Непутевой оказалась, вот и отослал восвояси…
— Много ему годков-то… А дочь моя молодая.
— Больше ценить будет твою дочь. И не так уж ему много лет, еще пятидесяти нет! А мужчина только после сорока настоящий мужчина. И умом созревает, и телом. К тому же он из баев. Хоть добро их и развеяли по ветру, но говорят: если масло прольется, все равно на донышке что-то останется. И двор у него большой, и дом прекрасный…
— Эх, все от судьбы зависит, — вздохнула Мадина-хола. — Если суждено чему быть, от этого не уйдешь!
— Подумай, подумай, — сказала Биби Халвайтар, щуря хитрые глаза.
Этот разговор сейчас и припомнился Мадине-хола.
«И в самом деле, что тут особенного, если выйдет моя дочь за человека постарше?» Он ведь не такой слюнявый старик, как Мирзарахимбай, которому сама Мадина-хола когда-то, давным-давно, чуть было не досталась. Вон какой крепкий мужчина, и лицом ничего.
За столиком проходила тихая, неторопливая беседа. Гость пил чай, Арслан и мать тоже пили — для приличия. Но в глубине реки, кажущейся спокойной, бывают стремительные потоки и водовороты. Такое творилось нынче и с людьми, казалось, спокойно сидящими на веранде.
— Позвольте мне откланяться, — сказал Кизил Махсум и поставил пиалу. Сабохат медленно обернулась к нему, ее глубокие черные глаза блеснули при лунном сиянии. Встретившись взглядом с Кизил Махсумом, она тотчас отвернулась, но он успел заметить улыбку на ее устах. — А вы, Арсланджан, загляните завтра ко мне, я передам кое-что необходимое…
Он молитвенно провел по лицу ладонями и поднялся с места.
— Счастливо, сынок, до свиданья! Что бы мы только без вас делали! — проговорила Мадина-хола.
Арслан вышел с Кизил Махсумом на улицу, Сабохат машинально сделала вслед за ними несколько шагов и, опомнившись, остановилась посреди двора в растерянности. Волнующая тревога, давным-давно уснувшая, вновь пробудилась у нее в груди. Ей казалось, что этот человек стал для их семьи опорой, и она почти была уверена, что ради нее…
— Когда обрушится на голову беда, тогда и узнаешь, кто тебе друг, — проговорила мать, как бы подтверждая ее мысли. — Есть завистливые люди, которые болтают чушь всякую про уважаемого Кизил Махсума. А мы его лучше знаем. Когда настал для нас черный день, он стал благодетелем нашим.
Глава восьмая
УММУЛХАБОИС[58]
Кизил Махсум был сторожем при магазине. Для виду. Чтобы никто не мог рта раскрыть: мол, не работает. Занятие это вполне его устраивало — ночью отдежурил, а днем свободен. Основным же его делом было другое. Как уже было сказано, он изготовлял телпаки и сбывал их на базаре. Самому, конечно, всего не успеть, поэтому в первое время привлек к этому делу Парсо-домля, проживающего у Мусавата Кари, и своего соседа, имевшего швейную машину «Зингер». Сосед подшивал к телпакам широкие околыши. За свою же швейную машину Махсум посадил сестру-вдову. Лишь каракулевые телпаки и казахские тумаки он никому не доверял и изготовлял собственноручно. Этот товар пользовался на базаре особым спросом. А недавно он втянул в это дело Арслана и младшего сына Мусавата Кари — Атамуллу. Прошло немного времени, и они стали самостоятельно шить телпаки. Правда, их телпаки были более грубыми, чем изготовляемые самим Махсумом, тем не менее тоже сбывались быстро.
Кизил Махсум всячески старался скрывать от соседей свое занятие, но шила в мешке не утаишь. Многие об этом сразу узнали. Поговаривали между собой: «Как-никак сын бая, знает в делах толк. Чем болтаться, уподобясь иным бездельникам, конечно же лучше зарабатывать деньги. Его отец тоже некогда разбогател на мехах».
Несомненно, дали бы ему волю, Кизил Махсум, как и его отец, через год бы открыл свою швейную мастерскую. Не ограничиваясь мерлушкой, он привозил бы соболиные, бобровые шкурки. Сам обрабатывал бы и кроил их. Телпаки, искусно сшитые из лучших мехов, он не сплавлял на базар, а сбывал прямо на дому, только близким знакомым. Иногда, невесть где купив задешево огромную бобровую шубу, какие обычно носили в прежние времена попы, делал из нее штук шестьдесят — семьдесят телпаков. Из мест, где вырабатывали кожу, он привозил бараньи шкуры, хромовую кожу, из которых пробовал тачать сапоги и ичиги.
С наступлением осени оживлялась торговля телпаками. Кизил Махсум торопил. А спешка всегда плохая помощница. Арслан хотя уже приноровился, но иногда ошибался при кройке. Кизил Махсум хмурился, но ограничивался словами: «Ну, ничего, попробуй переделать…» Тогда как другого за подобную провинность не прощал. Арслан конечно же догадывался, отчего он в таком привилегированном положении.
Когда в доме Кизил Махсума на обед готовили плов, он зазывал к себе своих подопечных. В больших блюдах приносили горячий плов, на дастархане появлялась бутылка с водкой, и пиршество начиналось.
Вот и сейчас близкие по духу люди собрались в просторной гостиной, потолок которой был разрисован причудливым орнаментом. Это построенное Салахиддин-баем помещение с облицованными ганчем стенами перевидало немало пиршеств.
Пришел Мусават Кари. Находясь в прекраснейшем расположении духа, он рассказывал об Искандере Зулькарнайне, о пахлаване Ахмад Замчи, Абомуслиме.
Потом воцарилось молчание, ибо рты были набиты пловом.
Мусават Кари взял ломтик редьки, которая была нарезана тонкими пластами и положена в воду, с хрустом начал жевать. А прожевав, обратился к хозяину:
— Все собирался спросить — не сболтнул ли я тогда что-нибудь лишнее на гапе? Пришел домой и призадумался, не достигнут ли мои слова…
— Успокойтесь, этого не случится, — перебил его Кизил Махсум. — А если бы и оказался среди нас какой-нибудь кляузник, то чего нам бояться? Что плохого мы сделали?
— Вы были заняты гостями, а я в это время рассказывал поучительные притчи.
— Ну, и что же тут плохого?
— В общем-то ничего. Но, говоря о тех, кто обращает в руины наши мечети, сносит с лица земли наши сады, приучает к бесстыдству наших жен и дочерей, притчи эти я приспособил как прикрытие. Вам понятно теперь?
Кизил Махсум задумался, потом кивнул. В глазах у него промелькнул испуг.
— Хайитбай-аксакал, конечно, недалекий, он не разглядел в притчах главного смысла. А вот Нишан, кажется, все понял. Нам надо остерегаться этого Нишана и подобных ему. И зачем зазвали такого человека на торжество? Зачем?
— Он один из почтенных аксакалов махалли, Кари-ака. Всех пригласив, его не позвать нельзя.
— На всякий случай надо его остерегаться.
Мусават Кари и Кизил Махсум еще некоторое время беседовали о своем, только им понятном, часто прибегая к намекам.
Арслан следил, чтобы в пиалах у всех был налит чай. Атамулла, сын Мусавата Кари, сидел, поджав ноги, около самовара. Они не вмешивались в разговор. Терпеливо ждали, когда речь пойдет о чем-нибудь понятном всем.
Наконец Мусават Кари, хлопнув себя по коленям, многозначительно произнес:
— В одном государстве так расцвела-развилась наука, что люди перестали признавать всевышнего. — Сделал паузу и со значением посмотрел на Арслана и Атамуллу. — Тогда Джабраил-алайхиссалом[59] обратился к аллаху со словами: «О всевышний, есть слухи, что в одном государстве рабы твои не признают тебя!» Всевышний ответил: «Эй, Джабраил, спустись в то государство и узнай, правда ли это». Джабраил спустился где-то в пустыне того государства и принял облик человека. Повстречался ему один старец, несущий на спине вязанку дров, по лицу его струился пот. Джабраил спросил его: «Эй, бобо[60], скажи-ка, где находится сейчас Джабраил-алайхиссалом?» Старец опустил свою ношу на землю и минутку молчал. Приложив ладонь ко лбу, он задумался. Потом произнес: «Я искал в семи слоях неба, на престоле божьем — там нигде Джабраила нет. — Затем, закрыв глаза, он опять задумался. — Я бросил взгляд в глубину рек, в горные ущелья, на дно морей, во все слои великих вод — и там нет Джабраила. — И тут изрек он, подняв на незнакомца ясный взор: — Значит, Джабраил ты или я!» Джабраил, принявший облик человека, пришел в несказанное изумление и исчез. Аллаху изложил он все, как было. Узнав о таком, всевышний нахмурился и повелел Джабраилу обратить в пыль и прах то государство…
Сидевшие подивились такому концу, переглянулись. Заметив на их лицах смятение, Мусават Кари разъяснил:
— Всевышний предоставляет волю своим рабам, а потом, если те, овладев науками, станут сомневаться в нем, в одно мгновение уничтожит он все, как будто ничего на свете и не было!.. Потому не годится нам, смертным, подвергать сомнению всесилие всевышнего, способного через ушко иголки пропустить восемнадцать тысяч миров.
Гости опять переглянулись, теперь уже восхищаясь необыкновенной мудростью Мусавата Кари.
Когда плов был съеден, а чай выпит, Кизил Махсум сказал небрежно:
— Чтобы переварить пищу, поработаем еще. Сезон…
Арслан, Атамулла, Парсо-домля удалились в другую комнату и занялись шитьем.
Когда Мусават Кари и Кизил Махсум оказались вдвоем, Мусават сказал:
— Молодежь не должна забывать о всевышнем.
Кизил Махсум улыбнулся.
— Вы проникаете в их душу не пустыми наставлениями, а притчами, в коих сокрыта великая философия. Хвала вам!
— Мы должны делать все, чтобы в нас поверили!.. На прошлой неделе, если помните, Абдумутал созвал на плов махаллю. Повар впотьмах черпал воду из хауза и лил в котел. Туда попала лягушка. Когда плов разложили по блюдам и раздавали, кто-то заметил среди кусков мяса эту лягушку. «Нет, это не лягушка, а мясо!» — сказал повар и вмиг проглотил ее. А представьте, что произошло бы, отшвырни повар шумовкой эту лягушку в сторону! Никто не стал бы есть, и столько добра пропало бы даром. Глядите-ка, Махсум, сколь всемогуща вера, — съели ведь целый казан плова!
Кизил Махсум в знак согласия то и дело кивал головой.
Они долго еще сидели, попивая чай. И не заметили, как за окном начали сгущаться сумерки. Во дворе послышались голоса тех, кто уходил, закончив работу. Дверь отворилась, и в нее просунулась голова Атамуллы.
— Пойдем, отец?
— Да, сынок, пойдем. Засиделся я тут… — Мусават Кари поднялся, потирая затекшие ноги.
Хозяин вышел, чтобы проводить приятеля и его сына до калитки. Когда стали прощаться, Кари придержал его за локоть и вопросительно посмотрел ему в лицо, что, видимо, означало: «Ну, есть какие-нибудь вести?»
— Хайит[61] прошел, недели через две вернутся, — почти шепотом сказал Кизил Махсум.
— Баракалла! До свидания.
Действительно, как сказал Кизил Махсум, не прошло и двух недель, в Ташкент возвратился имам[62] Абдулмаджидхан, совершивший паломничество в Мекку. Он передал через общих знакомых, что Мусават Кари бинни Абдулрайхон, пославший с отправившимся в святые места дары и пожертвования, тоже принят в клан тех, кто совершил паломничество к могиле пророка, и ему присвоено звание хаджи.
Радостью и ликованием наполнился дом Мусавата Кари. Чтобы достойно отметить это событие, решено было созвать народ. Имаму тоже послали приглашение, и он дал согласие прибыть.
В среду в дом Мусавата Кари начали стекаться люди, в большинстве старики. На дастархане заранее были разложены яства. В соответствующий час подали плов. Торжество возглавили Кизил Махсум и вездесущий Чиранчик-палван. Им усердно помогали несколько молодых парней, которые подносили блюда и уносили пустую посуду, разносили чай и сладости.
Хозяин то и дело выбегал из дома, отворив калитку, поглядывал по сторонам и опять возвращался, несколько огорченный. Аксакалы при этом умолкали на полуслове и устремляли на него вопросительные взгляды. Но вслух не спрашивали, ибо видели, что хозяин и без того расстроен.
Наконец на улице раздался сигнал автомобиля. Мусават Кари бросился к калитке. Распахнув ее, увидел, как из машины выходил, опираясь на палку, сгорбленный от старости и белый как лунь имам Абдулмаджидхан. Его с одной стороны заботливо поддерживал сын, с другой — мутаввали. Еще несколько стариков вышли встретить почетных гостей. Их с почестями сопроводили в ичкари, застланную белым войлоком, и усадили на место, соответствующее положению и сану. Имам дал позволение гостям, вставшим при его появлении, сесть и после недлинной молитвы принялся за разложенные на дастархане яства. Предусмотрительный Мусават Кари заранее разузнал, что любит имам, и специально для него выставил на дастархан пашмак[63], гулканд[64], белую халву. В красивых вазах возвышались крупные румяные гранаты, желтые, как янтарь, яблоки, черный, с капельками воды, виноград. Принесли теплые лепешки, посыпанные маком. Кизил Махсум не спеша разломал их на куски, которые разложил вдоль длинного дастархана, вокруг которого на курпаче чинно сидели гости, поджав под себя ноги.
Через некоторое время имам обратился к Мусавату Кари, и все притихли:
— Ваш хадж[65] принят, ваше паломничество истинно. И аллах соизволяет вам отныне именовать себя хаджи.
Почтенные гости стали поздравлять хозяина:
— Ваш хадж принят! Благодарение аллаху!
— Поздравляем!..
Имам Абдулмаджидхан трясущимися руками протянул Мусавату Кари пузырек с «оби замзам» — святой водой, затем вручил привезенные из Мекки освященные одежды, в том числе длинную рубашку, названную «галабия», и торжественно возложил на его голову шелковую чалму.
Мусават Кари поднялся с места и поклонился сперва имаму, потом всем остальным. По его знаку двое парней вынесли из другой комнаты шелковые чапаны, надели один из них на имама Абдулмаджидхана, а затем и на другие гостей.
Кизил Махсум потихоньку распорядился, чтобы парии работали пошустрее — почаще заваривали свежий чай да подавали пармуда[66] и кябаб[67].
Мусават Кари, испытывая волнение, какое, может, не испытывал бы и царь, взошедший на престол, торжественно и неслышно ступая по белому войлоку, подошел к имаму и сел около него, скрестив ноги. Еще раз справился о его здоровье, спросил, не тяжела ли была дорога, выразил свою благодарность.
— Мусават-хаджи! — обратился к нему имам не громко, но и не настолько тихо, чтобы их не могли услышать сидящие поблизости люди. — Нас множество, и сильны мы единством. Так должно сказать тому, кто сеет между нами раздор. Мы сейчас живем в мире, согласии и с людьми другой веры. Так и должно быть.
Мусават Кари понял, что имеет в виду имам. Он сразу догадался, что есть люди, которые обо всем происходящем докладывают имаму.
Он склонил голову и тихо произнес:
— Каюсь.
Подальше от глав имама и стариков аксакалов в маленькой комнате восседала иная компания. Собравшиеся здесь не ограничивались «сухим» угощением, а втихомолку попивали водочку. Они были удивлены и смущены, когда дверь неожиданно раскрылась и на пороге ее предстал мутаввали.
Подсев к примолкшей компании, он взял пиалу и приказал ошарашенному Чиранчик-палвану:
— А ну, лей свою водку поверх моей бороды! — и, поддерживая кончик жиденькой бороденки, подставил ее под бутылку.
— Водка от грязи станет темной, — предупредил Чиранчик-палван.
— Шариат не позволяет нам, мусульманам, пить водку, ибо она погана! Пролившись же через святую бороду, она перестанет быть таковой. Я уже двадцать лет пятикратно в день совершаю омовение и чищу эту бороду. Если она не сможет очистить водку, я немедленно отрежу ее!
Чиранчик-палван наклонил бутылку. Как только пиала наполнилась, мутаввали пропустил всю влагу через свое горло. Ему налили еще. Выпив одну за другой несколько пиалушек, служитель ислама упал на подушку и захрапел.
— Давайте вынесем его на воздух, — сказал Чиранчик-палван, — а то как бы с ним дурно не стало…
Мутаввали подняли на руки и вынесли на айван. Когда его проносили мимо открытой двери гостиной, имам увидел их, насупился. Потом произнес:
— Уммулхабоис! Пьянство — мать всех пороков… Предаваясь пьянству, сгинули со света такие некогда могучие племена, как Ад и Яман. Чтобы отвратить раба божьего от гибельного пути, всевышний дал ему разум. Даже мыслитель-еретик Абу-ало-ал-Маорий написал книгу «Хамосатур-рох» и в ней показал, что где предаются пьянству, куда только достигает сей пророк, там пропадает стыд и честь…
После этого имам, его сын и сопровождавшие их духовные лица попрощались и ушли. Но один за другим приходили те, кто по тем или иным причинам опоздал, поздравляя новоявленного хаджу, молились и присаживались к дастархану. Торжество продолжалось до полуночи.
Когда все гости разошлись, Кизил Махсум и Мусават-хаджи уединились в дальней комнате и, обняв пуховые подушки, разместились на шелковых курпачах, постланных в три слоя.
— Ах, как к лицу вам чалма, Мусават-ака! — произнес восторженно Кизил Махсум и зацокал языком. — Теперь вынимайте-ка свой припрятанный коньяк! Предадимся истинному блаженству.
— Так и быть, братец. Только вон та мелюзга пусть ничего не знает.
Мусават-хаджи подошел к нише, из-за чайников и сложенных стопкой пиалушек достал бутылку коньяку. Сев на место, припрятал бутылку под полу халата и окликнул сына. Тотчас в приоткрывшуюся дверь просунулось лицо Атамуллы.
— Принеси-ка нам дастархан и немножко казы!
Через несколько минут Атамулла принес все, что было заказано. Догадавшись, он старался спрятать ухмылку. Быстренько расстелил дастархан, нарезал кружочками казы и удалился.
— Ну, выпьем до донышка, — сказал Мусават-хаджи, подняв свою пиалу.
Выпили одновременно и принялись жевать казы.
— Имам попрекнул меня, — сказал Мусават-хаджи, не переставая работать челюстями. — Чудно! И имам держит сторону тех, кто попирает религию… А что он про это сказал, слышали? — Он пощелкал ногтем по бутылке. — Уммулхабоис, говорит! Это мать всех пороков, говорит! Ничего подобного, эта штучка — мать всех радостей и наслаждений! Старички уже выжили из ума. Вот я, хаджи, могу быть верным всевышнему и не забывать о земных наслаждениях. Деньгами я могу всего добиться! Деньгами я заставлю ваших праведных старичков водку называть усладой жизни! Ха-а-ха-ха-ха-а-а!
Как после поста человек хмелеет от щепотки насвая, так друзья-приятели Кизил Махсум и Мусават-хаджи, уставшие от дневных хлопот, опьянели после первой же пиалы. Но все же они выпили всю бутылку. Мусават-хаджи отшвырнул бутылку к стенке и, не в силах более ворочать языком, завалился набок. Кизил Махсум еще некоторое время сидел, тараща перед собой бессмысленный взгляд. Его туловище постепенно клонилось в одну сторону, он резко выпрямлялся и начинал клониться в другую. Потом свернулся рядом с приятелем и захрапел.
Арслан хотел было попрощаться с хозяином. Переступил порог, но тут же на цыпочках отступил назад и тихонько прикрыл за собой дверь.
Он взял из ниши узелок, в который жена Мусавата-хаджи завернула блюдо плова, а поверх положила две лепешки и сладости. Мать, должно быть, еще не спит, его дожидаясь. Обрадуется гостинцу.
Арслан вышел за калитку и будто окунулся в непроглядную темень.
Глава девятая
МНОГО ЛИ ПРОКУ ОТ ЗРЯЧИХ ГЛАЗ, ЕСЛИ УМ СЛЕП
В один из холодных осенних дней Нишан-ака направился на работу. Был мороз, он ледком затянул лужи. Небо сплошь заволокли тучи, в воздухе кружились редкие пушинки снега. Нишан-ака сегодня вышел из дому немножко пораньше, чтобы успеть купить на базаре насвая.
Несмотря на холод и пронизывающий сырой ветер, на базаре было много народу. Нишан-ака, протискиваясь между людьми, пробирался к тому месту, где обычно, разложив на мешковине свой товар, сидел на низенькой скамеечке продавец насвая. В толпе промелькнуло знакомое лицо. Нишан-ака сперва не придал этому значения, — мало ли кто может повстречаться в таком многолюдном месте, как базар! — но потом все же вернулся назад. Это был Арслан. Поеживаясь от холода, ударяя нога об ногу, стоял он в окружении парней. На голову взгромоздил два телпака, в руках держал еще два. Время от времени среди проходивших мимо он отыскивал глазами мужчин подороднее, у которых, по всему, водились деньги, и предлагал товар.
— Ака, купите телпак! Таких вы нигде не найдете. Ака, купите…
Одни проходили, даже не обратив никакого внимания, другие останавливались и заинтересованно осматривали и ощупывали товар.
Нишан-ака, не веря своим глазам, приблизился. Так и есть, он, Арслан! На локоть у него надет узелок, в котором, видно, лежат еще три-четыре телпака. Стоило приблизиться покупателю, как молодые люди обступали его и шумно расхваливали свои телпаки, чуть ли не тыча ими в лицо. Эти парни интуитивно определяли неискушенного человека, прибывшего из сельской местности, и, заломив сперва двойную стоимость, потом соглашались «распилить цену пополам». Среди них особым уважением пользовался тот, кто мог легко одурачить любого покупателя. Почти все снующие здесь с телпаками, туфлями, телогрейками и всякой другой мелочью были выходцами из торговых семей, перенявших от предков ловкость и хитрость, столь необходимые в подобных делах.
Нишан-ака вытряхнул на ладонь из табакерки остатки насвая и, забросив под язык, некоторое время наблюдал. Ему хотелось подойти к Арслану и на правах друга его отца крепко отругать парня. Но что-то заставило его остановиться, сдержать свой гнев. Усомнился, видно, в силе своих слов, которые сейчас вряд ли могли подействовать на Арслана. С некоторых пор он замечал, что парень заметно изменился нравом, стал дерзким. Разговаривает с легкой снисходительностью, тая в уголках рта усмешку.
Нишан-ака, сплюнув нас, все еще стоял, почесывая затылок. Пожалуй, он сейчас походил на курицу, которая высиживала утиные яйца и теперь с удивлением глядит на плавающее дитя. «Неужели же может дойти до такого джигит, предки которого были дегрезами! — размышлял Нишан-ака. — Отец работал на заводе, а он ищет способ легко зарабатывать деньги. Так подействуют ли на него мои слова?.. А что, если все-таки подойти и, глядя ему прямо в глаза, сказать, что дело, которым он занимается, недостойно джигита? Не-ет, будь отец жив, он бы не позволил сыну этого. — Нишан-ака, сдвинув тюбетейку набок, почесал за ухом. — Арслан сам не понимает, в какое болото он опустился. Корысть застлала ему глаза. Что и говорить, кому не нужны деньги? Каждый рад лишней копейке. Но что станет в конце концов с человеком, если он, одурманенный деньгами, только и делает, что гоняется за ними?.. Да, стоит об этом поговорить с Матвеевым. Может, вдвоем как-нибудь удастся наставить парня на путь истинный».
Нишан-ака, вспомнив, что опаздывает на работу, заспешил с базара, так и не купив насвая.
И на следующий день Арслан, нахлобучив на голову новый телпак из соболиного меха, спешил спозаранок на базар. В узелке под мышкой у него была еще дюжина таких же телпаков. На них сейчас как раз большой спрос, и он предвкушал хорошую выручку. Спешил.
Свернув за угол, лицом к лицу встретился с Барчин. Заметив его растерянность, девушка засмеялась.
— Салам, — сказала она.
— Салам. Откуда так рано?
— У подружки была. Готовлюсь к сессии. Взяла вот эти книжки почитать. А вы далеко ль направляетесь?
Она с интересом и некоторым удивлением поглядывала на узел, который он сжимал под мышкой. В этот момент Арслан готов был выбросить этот проклятый узел или провалиться сквозь землю вместе с ним. Чтобы только отвлечь ее, он произнес сдавленным голосом, глядя себе под ноги:
— Встретиться бы нам, Барчин. Давно не виделись.
Барчин улыбнулась и пожала плечами.
— Вы куда-то исчезли. Даже мама у меня несколько раз спрашивала, не болеете ли…
— Передайте привет Хамиде-апа! Давайте встретимся у кинотеатра «Хива»…
— Не могу, Арслан-ака. Времени нет, готовлюсь к экзаменам. Не сердитесь только.
Заметив, что Барчин изучающе оглядела его с ног до головы и чуть приметно улыбнулась, он решил, что она давным-давно все знает о нем — и то, что он шьет телпаки, и что занимается торговлей, и что забросил учебу в институте, а про завод и думать забыл. Разговаривая с ней, он старайся было спрятать узелок с телпаками за спину, чтобы он не бросался ей в глаза, но, заметив ее ироническую улыбку, назло переложил товар из-под одной руки под другую, нехорошо осклабился и протянул ладонь.
— Хоп, хайр, всего доброго!
— Ну что ж, ладно. До свидания, — с обидой сказала девушка и сделала шаг в сторону, как бы уступая ему дорогу.
Вслед ему донесся ее голос:
— Вы не сердитесь. У меня, правда, совсем нет времени…
Арслан не обернулся. Если б обернулся, то увидел, что она все еще стоит, глядя ему вслед, и чуть не плачет.
По правде говоря, и у него состояние было не лучше. Легонький узелок с телпаками казался ему тяжким грузом. Он даже забыл, куда идет и зачем. Уши все еще горели, будто их только что хорошенько надрали. Да, конечно, станет ли Барчин знаться с таким, как он? Она всеми силами старалась скрыть презрение к нему, но он все-таки прочел это в ее глазах.
Телпаки жгли ему руки. Захотелось поскорее избавиться от них. Арслан нехотя поплелся на базар.
Парсо-домля, надев на колено два смушковых телпака, сидел на корточках, прислонившись к забору.
— Торг сегодня неважный, Арслан, — вяло сказал он.
— Что вы, амаки, так громко произносите мое имя? Не можете потише?
— А что? Стыдишься? Если ты такой застенчивый, незачем сюда приходить! С этого базара кормишься ты, каналья! Денежки небось любишь, а?
— Э, оставьте! Завели разговор на весь день!
Парсо-домля умолк. Вокруг толкались люди. Одни прятали какие-то вещи за пазухой, другие созывали народ, расхваливая свой товар. Мимо с деловитым видом проходили мужчины, торопились женщины с кошелками. На шапки никто и не глядел.
Парсо-домля вздохнул:
— Да, торг неважный сегодня. Махсум дал мне телпаки, которые трудно сбыть. Я сказал ему, что такие грубо сделанные телпаки следует нести в среду на скотный базар. Там их покупают непривередливые люди, пригнавшие скот из глухих мест. Махсум не согласился. И вот результат. Еще темно было, когда я пришел сюда, а почина нет.
Арслан отошел подальше от Парсо-домли, чтобы не слышать его брюзжания. И так было тягостно на душе. Он стоял и никак не мог себя заставить вынуть из узелка хоть один телпак. А следовало, как обычно, держать телпак в руках и, показывая его покупателю, любовно дуть на мех, чтобы, значит, не прислала к нему ни одна соринка. И при этом надо держать ухо востро, похаживая из стороны в сторону, почаще поглядывать по сторонам, чтобы успеть вовремя смыться в случае чего. В последнее время от милиции прямо-таки покоя нет.
— Ну что ты торчишь, будто кол?
Голос заставил его вздрогнуть. Арслан не заметил, когда к нему подошел Парсо-домля.
— Ступай-ка принеси мне насвая!
Арслан взял монету и стал пробираться сквозь толчею. Насфуруш — торговец насваем, — спрятавшись от ветра, сидел за галантерейным киоском. Перед ним на платке, постланном поверх мешковины, возвышалась зеленая горка табака. Арслан молча протянул ему деньги. Насфуруш, тоже не говоря ни слова, даже не глядя в лицо покупателя, столовой ложкой отмерил положенное, завернул в бумажку. Арслан вручил насвай Парсо-домле и, не успел тот поблагодарить, пошел от него прочь. Миновав высокую арку, украшенную вылинявшими за лето флажками, он вышел за пределы базара и ускорил шаги.
Арслану было не по себе. Боль в сердце началась с момента встречи с Барчин и не отпускала. Барчин сейчас казалась ему зеркалом, в котором он увидел себя. Что с ним стало? Недавно был секретарем комсомольской организации школы, поучал сверстников брать пример с лучших людей страны, имена которых не сходили со страниц газет, строил грандиозные планы на будущее, мечтал о подвигах. А стал продавцом телпаков. Бездельником!.. Был студентом, а теперь только и гоняется за выручкой, чтобы в собственном кармане осело побольше денег. Захотел быть умнее отца, который, работая всю жизнь, не смог разбогатеть. Неужели отец не знал, что можно заняться скупкой мехов и шить телпаки? Ведь это в сто раз легче, чем быть литейщиком на заводе! И дохода куда больше! Почему же отец презрел это дело? Выходит, Барчин права, одарив его таким презрительным взглядом… Почему его деды и прадеды плавили чугун, лили казаны, лемехи и этим зарабатывали на жизнь? Отец сказал как-то: «Нужно выбрать то занятие, которое более всего приносит людям пользу». Людям! А про себя забыл? Неужели чье-то спасибо дороже хрустящих купюр, лежащих в кармане? Выходит, дороже. Отец предпочитал свободно и гордо ходить среди людей, а не прятаться и не вздрагивать, как Арслан нынче на базаре…
Видимо, вот за что Нишан-ака испытывает неприязнь к Кизил Махсуму и ему подобным. Сам он работает на заводе в тяжелом цехе, у него все руки в мозолях, но не может он задавать пышные гапы и одаривать чапанами гостей. А Кизил Махсум может, и руки у него всегда чистенькие и мягкие, как у куклы, набитой ватой.
К черту телпаки!
Арслану сейчас даже не хотелось видеть Кизил Махсума. Он не отнес ему телпаки, а пришел с ними домой. Сказав матери: «Я себя неважно чувствую», — швырнул узел в угол и упал на кровать.
И на следующий день он не вышел из дома. Лежал, как в забытьи. Перед глазами возникала Барчин. И он не знал, куда спрятать от ее взгляда этот проклятый узел. Она с упреком смотрела ему в глаза.
Через день пришел Кизил Махсум. Как ни упрямился Арслан, ссылаясь на недомогание, Махсум заставил его подняться и вывел на улицу.
— Я сам вылечу тебя, братец! Не время сейчас лежать пластом. Сезон же, сезон!
Кизил Махсум принудил угрюмо помалкивающего Арслана следовать за собой. В пути старался рассмешить его, рассказывая всякие истории, анекдоты, а приведя в свою гостиную, насильно усадил Арслана на почетное место — на сложенные в три слоя курпачи. Поставил перед ним оставшийся с вечера разогретый плов, сгустившиеся сливки, виноград, теплые лепешки. Дав смочить горло пиалушкой чая, он вынул из ниши припрятанную бутылку коньяку и налил по половинке в две пиалушки.
— Э, как-то оно будет, Махсум-ака? — растерялся Арслан, не пробовавший ранее этого напитка.
— Хорошо будет! Ну, бери, будь мужчиной! Люблю тебя за удаль. Атамулла, Парсо-домля — бог с ними, но если ты покинешь меня, тогда придется мне закрыть лавку. Ты же моя надежда, Арслан. Как только пройдет годовщина смерти моего славного друга Мирюсуфа-ата, я сам женю тебя. Такую свадьбу закатим! Пусть враги завидуют… Большие надежды возлагаю я на тебя. Ты же сам видишь, я отдаю тебе предпочтение даже перед своим братишкой Зайнабиддином. Он еще глуп… Ну, давай еще по одной!
Во второй раз Арслан не заставил себя уговаривать. Не спеша выцедил из пиалушки весь коньяк, крякнул, подражая Кизил Махсуму, и принялся есть. В голове он ощущал приятный шум, стало весело. Ему льстили слова хозяина, и он обратился к нему:
— Мне бы тут шитьем заняться, а на базар не ходить, Махсум-ака.
Тот кивнул, хотя просьба Арслана не совсем пришлась ему по душе. Он показал, где лежат мерлушки, каракуль, и вышел на улицу.
В пятницу мать Кизил Махсума Биби Халвайтар и жена Мусавата-хаджи Мазлума-хола явились в дом тетушки Мадины в качестве сватий. Хозяйка расстелила перед ними дастархан, заварила крепкий чай. За чаем и начался разговор.
— Мадинахон, — завела Мазлума-хола, опередив Биби Халвайтар, уже намеревавшуюся было открыть рот для объяснений, — как истечет год со дня кончины Мирюсуфа-ата, пусть земля ему будет пухом, давайте сразу и сыграем свадьбу. Таково наше желание. А что скажете вы?.. — Видя, что женщина колеблется и молчит, она продолжала: — Ведь живем один раз, нужно стараться удовлетворять свои желания. Друг моего благоверного Махсумджан еще при жизни Мирюсуфа-ата пользовался его расположением, покойный любил его как сына, и сейчас, находясь там, в раю, он будет чрезвычайно обрадовал, узнав о нашем намерении. Что поделаешь, такова, значит, воля аллаха, родилась любовь необоримая: уважаемый человек полюбил вашу Сабохатхон. Если мы не посчитаемся с его чувством, Махсумджан может что-нибудь сотворить с собой. Кари-ака сказывают, что день и ночь в думах его брата одна только Сабохатхон. Порой мне даже кажется, что старинный дастан про любовь «Атабек и Кумуш» про них написан. Он — Атабек, она — Кумуш. Да расцветет их любовь, как в том дастане, только судьба их пусть будет счастливой…
— Не избежать того, что предначертано свыше, — произнесла Мадина-хола. — Если такова их судьба, то что же мы можем поделать. Да только сейчас не до тоя нам…
— Мы понимаем, — заверещала снова Мазлума-хола. — До тоя ли сейчас нашим стонущим сердцам! Пусть год минует, справим поминки, потом уж и начнем приготовления. Так думают и Махсумджан, и хозяин наш Мусават-хаджи.
— Мы не спешим, — вмешалась в разговор Биби Халвайтар, сидевшая до сей минуты с каменным лицом. — Дело в том, что любовь нашего дитяти к вашему чрезвычайно сильна. Красавица Сабохатхон станет дочерью двух семей. Мы пришли, чтобы сказать вам о нашем желании.
В разговор снова вступила Мазлума-хола:
— У кого есть дочь, тот покапризничать не прочь — так говорят, дорогая моя Мадинахон. О расходах вы не беспокойтесь, Махсумджан сказали, что все возьмут на себя.
— Милая Мадинахон, — вздохнула Биби Халвайтар, — такова уж судьба нашего сына Махсумджана. Прежняя семья прахом пошла, хочется ему жизнь начать заново…
— Мой хозяин говорят о том, что подобные ошибки возможны только в раннее утро жизни. Всяк может впасть в заблуждение по незнанию, — заметила Мазлума-хола. — Вот мы и сказали все, теперь ждем вашего слова. Рот не бывает без зубов, а мельница без жерновов. Говорите, милая, что у вас на душе. Только не уподобляйтесь том, кто намекает: положи, дескать, мне под язык золото, тогда скажу. Мы вас слушаем, дорогая Мадинахон.
— Сказала же, надо повременить, пока у нас траур… — тихо произнесла сбитая с толку Мадина-хола. — Потом… что думает сама Сабохатхон? Молодежь нынче сами знаете какая.
— Это все? — спросила Биби Халвайтар.
— Да, милая.
— Все это мы и сами знали. Не такие это новости, дорогая, чтобы могли заставить нас отказаться от намерения. Мы еще придем… А на сегодня хватит и такой договоренности. Ну, мы отправимся восвояси, благословите нас!
Сидящие провели по лицу ладонями и поднялись. Биби Халвайтар и Мазлума-хола простились с хозяйкой и вышли на улицу. Налетел упругий ветер, обдал их мелкой снежной пылью. Женщины спешили домой, где их ждали с вестями.
— Что овца, что коза — к одному колышку привязываются, — сказала, хихикнув, Биби Халвайтар. — Они согласятся принять наше предложение, милая, это я заметила. А где им еще найти такого джигита, как Махсумджан, который и денежки бы так зарабатывал, и был настолько проворен и находчив? Ведь он дитя полноводного арыка. У Мадиныхон есть разум. Если поворочает хорошенько мозгами, то Махсумджан покажется ей сверкающим, как алмаз, заманчивым, как звезда на небе… А какова дочь? Ты хорошо ее знаешь? Не какая-нибудь вертихвостка? Слышала я, что она мастерица завлекать мужчин в свои сети!
— Нет, дочь их молода, — отозвалась Мазлума-хола. — Я слышала о ней только хорошее.
— Ладно, если так.
Арслан домой возвратился поздно вечером. Мать, подавая ему ужин, сказала, что приходили сватать Сабохатхон. Он удивился, но промолчал. Он знал, что в конце концов они явятся, но не думал, что так скоро.
А Сабохат, отперев ему калитку, сделала вид, что ни о чем не ведает. Старшая сестра сказала ей, какой выкуп жених предлагает за нее: три нити жемчуга, золотые часы, перстень с бриллиантовым глазком, одиннадцать платьев… Саодат еще что-то говорила, а Сабохат уже не слышала ее. Она представила себе это богатство, и голова у нее пошла кругом. Душа ее пришла в смятение. «А какой дом у твоего жениха, оставшийся от бая Салахиддина, с внутренним и внешним дворами, какой сад…» — звучал вкрадчивый голос сестры. И слова матери вспомнились сразу же: «Если масло и прольется, все равно на донышке что-то останется…»
Мать и сын сидели в это время за хонтахтой. Эта сторона, где нынче сидел Арслан, после похорон главы семейства всегда оставалась свободной. Раньше здесь, как на почетном месте, прислонившись к подушке, обычно сидел Мирюсуф-ата. Они сидели молча, но Арслан понимал, что мать хотела сказать, посадив его на это место. Она сидела, пригорюнившись и сомкнув тонкие губы, а он словно бы слышал ее тихий, ласковый голос: «Семья в твоих руках, сынок!»
После того как он поужинал, мать убрала посуду и удалилась в женскую половину. Там долго шептались они с Сабохат и Саодат. А мужчине не с кем шептаться. В доме теперь он один. И ему надлежит решать.
Арслан вытянулся На курпаче, подложив под голову подушку отца. Мысли путались. Вспомнилась Барчин, потом однокурсники Захиди и Бурхан, Которых он случайно встретил на улице. Хорошо, что при нем не было этих проклятых телпаков. Друзья стали было упрекать, что Арслан бросил учебу. Он сослался на то, что после смерти отца ему приходится зарабатывать на жизнь. Друзья умолкли, ему сочувствуя. Захиди спросил, где он работает. Арслан замялся, пришлось соврать. «На заводе, — сказал он. — На том самом заводе, где работал отец…» Ребята поверили. А каково ему, обманувшему их, своих друзей, которые принимают его за порядочного человека?..
Не в состоянии носить в сердце такой груз, он поделился с Кизил Махсумом.
— Наплюй на все! — сказал тот. — В наше время главное — деньги. Карман набит — тебя будут уважать. Карман пустой — да будь ты семи пядей во лбу, никто с тобой и знаться не захочет…
Разговор с Кизил Махсумом не облегчил страданий Арслана. Третьего дня, мучимый тяжелыми думами, Арслан брел понуро по улице, подняв воротник и натянув телпак на самые уши. И чуть не столкнулся носом к носу с Нишаном-ака.
— Как здоровье, братишка?
— Рахмат. Здоровы ли сами?
— Здоров, как конь!
— Всегда будьте таким.
— Понимаешь ли ты, почему я тебя здесь поджидаю? — начал объяснение Нишан-ака. — Много ли проку от глаз, если ум слеп, — так говорят в народе. Но ты смышленый парень… Я долго ждал, что ты придешь, постучишься ко мне в калитку и скажешь: «Салям, Нишан-ака, мне хочется распить с вами чайничек чаю. Сорок лет вы дружили с моим отцом. Когда здоровались за руку, ощущали мозоли на ладонях друг у друга. Вижу вас — будто бы вижу отца…» Нет, не дождался я этого. Может, потому, что в моем доме не каждый день варится плов с казы и я не задаю гапы?..
Арслан покраснел и еще ниже опустил голову.
— Ваш упрек справедлив, Нишан-ака. Я все понимаю…
— Это хорошо, если ты такой понятливый. Мне хочется серьезно поговорить с тобой. Где нам лучше встретиться?
— Можно у нас, можно у вас.
— Договорились. Приходи к нам. Выпьешь моего чайку, ты же знаешь, я умею по-особому его заваривать. Твой отец очень любил заваренный мною чай.
— Приду. А о чем будет разговор, Нишан-ака? — полюбопытствовал Арслан, смутно догадываясь, куда клонит приятель отца.
Нишан-ака в упор взглянул на Арслана и сказал:
— В складках твоей рубашки, кажется, завелись насекомые. Пришло время выстирать ее и прогладить каленым утюгом.
Арслану было известно, что этот человек мог иногда сказать что-нибудь дерзкое, кольнуть побольнее. Стерпел.
— Буду ждать тебя в воскресенье утром, — сказал Нишан-ака.
Они сухо простились.
Глава десятая
ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
Нишан-ака, ссыпав на ладонь щепотку зеленого чая, долго мял ее пальцами. Добавил несколько листочков мяты и лепестков розы, бросил эту смесь в большой фарфоровый чайник. Налив кипятку из только что принесенного чайдуша, завернул чайник в полотенце, чтобы настаивался. На дастархане лежали куски лепешки, сушеный урюк, кишмиш.
— Я хотел у тебя спросить: почему ты так изменился? — Нишан-ака, заметив, что его вопрос смутил гостя, покашлял в кулак, давая ему время собраться с мыслями и несколько успокоиться. Арслан молчал. Тогда он продолжил: — Отец ушел из жизни, и ты растерялся, как запоздалый путник на распутье? А ведь ты, дорогой, должен был серьезнее задуматься о своей дальнейшей судьбе…
— Вы о чем, Нишан-ака?
— А о том, что не делом ты занимаешься! — вспылил Нишан-ака. Вены на его висках набухли, он побагровел. — Раньше вон каким джигитом был! Отец тобой гордился. И учился, и на строительство водохранилища ездил. А теперь? Хоть интересуешься тем, как продвигаются дела на стройке, где ты одним из первых вогнал свой кетмень в землю?.. Нет, не интересуешься. И за газетами не следишь. А надо бы. Иначе ты бы знал, что время нынче тяжелое. В Германии вон фашисты к власти пришли. Испания в огне. Наши лучшие парни отправляются туда, чтобы помочь испанцам отстоять республику… А мы телпаки будем продавать на базаре? Пусть кто-то жизни своей не щадит, отстаивая на земле свободу, а мы будем карманы деньгами набивать?..
Арслан резко вскинул голову. Он был бледен. Глаза его неприязненно сверкнули. Нишан-ака, стараясь успокоиться, выдержал его взгляд. Он машинально поглаживал ус, который дергался не переставая.
— Что вы от меня хотите? — глухим голосом спросил Арслан, всеми силами стараясь подавить в себе гнев.
— Я хочу, чтобы ты был тем, кто ты есть! — произнес Нишан-ака несколько потеплевшим голосом. — В тебе течет кровь дегрезов. И ты в трудный для страны час должен отдать ей свои силы… Не ровен час фашистский падишах захочет вонзить зубы нам в бок. По-твоему, мы голыми руками сможем задушить эту бешеную собаку?! Как бы не так. Нам сейчас нужны сталь, чугун. Много металла! Нужны машины. На заводе мы работаем один за троих, не хватает рабочих рук, а ты?..
Арслан не искал слов, чтобы возразить. Знал, что отец сказал бы то же самое. А отец никогда не советовал худого и не терпел возражений. Но ему хотелось хоть чем-то оправдать себя, чтобы этот близкий ему человек не думал о нем плохо. Не поднимая головы, он произнес:
— Я должен был Кизил Махсуму крупную сумму, а возвратить вовремя не смог. Он сказал: «Отработай у меня малость и будем квиты». С этого и пошло… Мама пожилая, сестра не устроена, сами знаете, тяжело…
— Знаю, дорогой Арслан, как не знать. Вот и хочу тебе помочь. Не жить же тебе век, от людских глаз прячась, — сказал Нишан-ака, подобрев.
Он стал разливать свой знаменитый чай. Некоторое время сидели молча, услаждая себя терпким янтарно-желтым напитком. Потом Нишан-ака сказал как о давно решенном:
— Вот что, Арслан. Завтра понедельник. С утра буду ждать тебя у проходной. Всмотрись в наш завод, в людей. И подумай.
Арслан кивнул.
«Как бы не раздумал!» — с тревогой думал Нишан-ака и вглядывался в рабочих, проходивших мимо. Некоторые подходили, здоровались с ним за руку и интересовались, что это он стоит здесь, у проходной. «Жду одного товарища», — отвечал он.
Арслан появился за несколько минут до начала смены. Нишан-ака хлопнул его по плечу, улыбнулся.
В литейном цехе они разыскали Матвеева.
— А, сын дегреза, здравствуй! — обрадовался тот.
— Вот, пришел, — сказал Нишан-ака, кивнув на Арслана. — Хочет увидеть место, на котором отец работал.
— Не только увидеть, — проговорил Арслан, краснея.
Он вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку, протянул Матвееву. Тот развернул, лицо его озарилось улыбкой, от удовольствия он даже покрутил кончик правого уса.
— Погляди-ка, он уже и заявление настрочить успел! — сказал он, показывая бумагу Нишану-ака. — Идем!
Арслан в замешательстве оглянулся на Нишана-ака, тот подбадривающе кивнул и подтолкнул широкой ладонью его в спину: мол, иди, иди.
Матвеев определил Арслана помощником формовщика. Работа эта была не из легких. Начальник цеха решил устроить Арслану нечто вроде экзамена. Хотелось узнать, из какого он теста слеплен. Если не сбежит на второй день, то получится из него настоящий рабочий. Конечно, об этом он не обмолвился ни словом. Пожелал успеха и удалился.
Медленно и равномерно, с характерным скрежетом двигалась цепь конвейера. Вдоль всего цеха, слегка покачиваясь, перемещаются висящие на цепях металлические ящики. По обе стороны конвейера стоят оголенные по пояс джигиты. Одни лопатами накладывают в ящики песок, другие при помощи специального штампа делают в этом песке форму, третьи наливают в готовую форму расплавленный чугун, спуская по желобку из огромного котла. Чугун плавится здесь же. Из вагранок, в которых бушует пламя, то и дело вырываются снопы искр. Из зева печи пышет жаром, и тела парней, стоящих поблизости, лоснятся от пота, будто смазаны жиром. Блики красноватого пламени высветили их фигуры, и кажется, что они сами тоже отлиты из меди. Искры, летящие из вагранок, ударяются о них и отскакивают, сыплются на пол, а им хоть бы что: надвинув на глаза темные очки, делают свое дело. Даже зимой, когда за стенами цеха свирепствуют мороз и вьюга, здесь жарко, как на экваторе, даже еще жарче. Рабочие сбрасывают с себя все, кроме брюк и сапог. Когда они работают, на их широких спинах, крутых плечах, выпуклых грудях бугрятся мускулы, тоже крепкие, как чугун, который они плавят.
Арслан старался держаться подальше от вагранки, и все же до него долетали искры, заставляя шарахаться в сторону. Ребята смеялись, приговаривая: «Ничего, привыкнешь…» Огромное помещение было заполнено сизоватым туманом, от которого першило в горле. Поодаль яркими пятнами полыхало несколько солнц, вокруг которых смутно угадывались мелькавшие тени людей.
Высокий, плечистый парень, на лоб которого спадал волнистый светлый чуб, взял пиджак у Арслана, нырнул куда-то и тут же появился снова. Арслан по привычке кивнул, благодаря его, и опять стал беспрерывно и ритмично бросать песок в металлические ящики, стараясь не отставать от других. Вскоре ему пришлось снять с себя и рубаху. В цехе стоял напряженный гул, в котором тонули и терялись голоса.
С самого начала Арслан определил себе в соперники высокого парня, отнесшего куда-то его пиджак и рубаху. Хотя тот не обращал на него никакого внимания, Арслану не хотелось отставать именно от него, от этого сильного и спокойного джигита.
Время, казалось, идет очень медленно, руки и спина немели, каждое движение отдавалось болью в плечах. Конвейер двигался непрерывно, и ему начинало казаться, что перед ним с самого начала стоит один и тот же бездонный металлический ящик, который невозможно наполнить.
Блеснули голубые глаза высокого парня. Он улыбнулся и сказал, смахнув рукой пот с лица и откинув в сторону чуб:
— Отдохни малость.
Арслан из упрямства отрицательно покачал головой, хотя ему сейчас больше всего хотелось бросить лопату и посидеть где-нибудь в сторонке.
К полудню Арслан почувствовал, что на ладонях вздулись водянистые пузыри. Черенок то и дело выскальзывал из горячих ладоней. И когда его кто-то, похлопав по спине, заставил обернуться, он вдруг заметил, что в цехе стало тихо, а рабочие, надевая куртки и пиджаки, направляются к выходу. Он не слышал гудка, возвестившего о перерыве.
— Идем обедать, — сказал с улыбкой высокий парень, возвращая рубашку и пиджак. — А ты силен, друг…
Арслан промычал что-то невнятное себе под нос, думая о том, что, пожалуй, следует поговорить с Матвеевым, чтобы он перевел его в другой цех. Наверно, куда спокойнее и проще работать токарем или слесарем. Нишан-ака говорил как-то, что при заводе имеются курсы, месяца через два-три можно стать токарем, получить разряд.
— Тебя как зовут-то? — спросил парень, когда они шли по аллее, ведущей к столовой. — Меня — Володя.
Арслан назвался.
— Большинство рабочих на нашем заводе начинали с того, с чего ты начал, — сказал Володя. — А сейчас многие уже квалифицированные мастера, некоторые цехами руководят.
Арслану сделалось как-то неловко перед этим парнем за свои мысли. Он, видимо, проникся к новичку уважением, приняв его за сильного, волевого, как сам, а этот новичок уже помышляет о бегстве в спокойное место.
— А сам давно тут работаешь? — спросил Арслан. Володя загадочно улыбнулся.
— Я слесарь, — сказал он. — Знаешь ли, опоздал минут на десять на работу… вот меня и поставили на это место — в наказание. Месяц придется вкалывать. Ничего не поделаешь, порядки у нас строгие. Каждый поступивший на завод хочет поскорее специальность получить. Работая же лопатой, квалификации не получишь. А кто-то должен же работать и здесь. Вот и работают на этом месте в основном новички да те, кто проштрафился. Я два года назад тоже с этого начинал…
Арслан благодарен был Володе за то, что он объяснил ему суть дела. А то сунулся бы к Матвееву с просьбой.
— В этом цехе работать вагранщиком, формовщиком или заливщиком — вот это профессия! — продолжал рассуждать Володя. — Только не все там выдерживают. Трудно.
Зашли в столовую, заняли свободный стол. Володя издали поприветствовал знакомую полную женщину в белом халате. Вскоре она принесла борщ, котлеты, кефир. Володя заплатил за себя и за Арслана, который хотел было возразить, но Володя сказал ему:
— Ничего, у нас не принято считаться. Бери, ешь, пока не остыло. Это, конечно, не то, что ваш плов, но для тех, кто хорошо потрудился, и это кажется вкуснее, чем плов.
Пока они обедали, Володя говорил о том, что специальность себе выбрать лучше всего сразу, чтобы потом не переучиваться. Завод не любит птиц, порхающих с ветки на ветку. Рассказывал о знакомых ему джигитах-узбеках, которые в этом году поступили работать на завод по путевкам комсомола. Они сейчас славно трудятся. Были, правда, и такие среди них, которые, смалодушничав, сбежали в первую же неделю. Товарищи до сих пор о них говорят как о трусах и бесчестных.
В цехе Арслана поджидал Матвеев. Он представил его мастеру формовщиков Шавкату Нургалиеву. Оставив их вдвоем, ушел. Мастер достал из нагрудного кармана портсигар, вынул папиросу и помял ее в руках.
— Ну как? — спросил он, обведя рукой весь цех.
— Нормально, — отозвался Арслан, оглядывая огромное помещение, потолок которого, казалось, был поднят под самые небеса.
Между тем конвейер тронулся с места. Опять загудели вагранки. Яркие искры, исходящие из них, напомнили Арслану пчел. Эти умные насекомые вьются, жужжа, над хозяином, но не жалят его. Так они, эти искры, не обжигают людей.
Два подъемных крана, скользя на роликах под стеклянным потолком, перемещают огромные котлы с расплавленным металлом.
Нургалиев наклонился к уху Арслана и, сложив руки рупором, прокричал:
— Выйдем-ка на минутку. Здесь голос сорвешь, пока поговоришь.
Когда вышли во двор, Арслану показалось, что в ушах у него вата. Это ощущение не покидало несколько минут.
— Что, уши заложило? — усмехнулся Нургалиев, раскуривая папиросу, и, не дожидаясь ответа, спросил: — Ты, значит, сын Ульмасбаева? Я рад, что ты пришел к нам.
Нургалиев разговаривал, мешая узбекские и русские слова, и то и другое произносил с татарским акцентом. И речь его звучала приятно и располагающе.
— Знаешь ли, одиннадцать лет назад я был учеником твоего отца. Когда я впервые пришел, он сказал: «Походи по цеху, погляди, как мы работаем. Поправится — наденешь спецовку и примешься за дело, не понравится — скатертью дорога». Часа два я ходил по цеху. Потом подошел и говорю: «Нравится!» Твой отец был добрым человеком, но скупым на похвалы. Только через месяц он сказал мне: «Нугай-бала[68], ты неплохой бала…»
Шавкат Нургалиев был круглолиц, высок и худощав. Ему было около тридцати пяти, но выглядел он значительно моложе. Нос казался слегка приплюснутым и придавал его лицу, покрытому редкими рябинками, задиристый вид.
— Если решишь идти по стопам отца, останешься на заводе. Не захочешь — как знаешь. Насильно держать не будем. Звать меня Шавкат-ака. Можешь обращаться и «товарищ Нургалиев», как тебе угодно. Но так обычно ко мне обращаются только на собраниях… Ну, идем, я выдам тебе спецовку.
Нургалиев раздавил папиросу о каблук и бросил ее в урну. Они пересекли цех, наполненный грохотом и гулом, зашли в небольшое помещение, стены которого были заставлены узкими шкафчиками. Это была раздевалка душевой. Мастер выдал Арслану спецовку и показал, какой шкафчик он может занять.
Переодевшись, Арслан пошел к своему месту. Володя дружески подмигнул ему и показал большой палец: дескать, вид у тебя как у настоящего рабочего! Арслан улыбнулся в ответ и принялся накладывать лопатой влажный песок в проплывающие мимо формы. Он действовал быстро. Поспешно наполнив три-четыре формы, он подбегал к той, что еще не успела приблизиться.
Нургалиев, с улыбкой наблюдавший за ним со стороны, подошел к нему и, взяв за плечо, прокричал ему в ухо:
— Не спеши, насыпай, когда форма уже около тебя. Не бойся, успеешь. Иначе ты быстро устанешь, а конвейер не устает.
Арслан, согласившись, кивнул. Некоторое время работал, как посоветовал мастер, а потом опять начал бегать от формы к форме.
Нургалиев заметил, что некоторые посмеиваются, наблюдая за работой новичка, насмешливо перемигиваются. Мастер снова и снова подходил к Арслану, показывал, как надо действовать лопатой. Ему нравилось, что Арслан не обращает внимания на усмешки, занят своим делом. Парень, кажется, успешно пройдет первое испытание.
— Ульмасбаев, не торопись, не торопись, — одергивал он всякий раз Арслана, когда тот слишком уж увлекался. Нургалиеву нравилось, что новичок скромен и немногословен.
Так проходили дни. Время от времени в цех наведывался Нишан-ака, все еще беспокоившийся, как бы Арслан все же не предпочел легкую работу портняжки работе в горячем цехе. Делился своей тревогой с Матвеевым и Нургалиевым. Но их подопечный, кажется, не нуждался в том, чтобы с ним проводили воспитательную работу. Он уже освоился, втянулся в дело, обзавелся товарищами. «В отца, видать, чистая кровь…» — удовлетворенно приговаривал Нишан-ака.
Однажды мастер Нургалиев после окончания смены пригласил Арслана к себе домой. Арслан смутился, не зная, Припять приглашение или отказаться. Заметив его колебания, Шавкат Нургалиев улыбнулся.
— Ты сын моего учителя, которого я очень уважал. Его, к сожалению, уже нет, но буду рад увидеть тебя в своем доме, — сказал он и по-дружески похлопал Арслана по плечу.
В доме у Нургалиева заранее были осведомлены, что вечером у них будет гость. Жена Шавката-ака Марзия, приветливая красивая женщина, встретила их на пороге. Ее мать Мохинурбону уже выставляла на стол татарские национальные блюда — парамач, беляши, чак-чак и другие, названия которых Арслан даже не знал. Понимая, что мужчины с работы вернулись голодные, их тут же усадили к столу.
Мохинурбону была словоохотливая старушка, несмотря на свой возраст, она не утратила обаяния. «В молодости она, наверно, была такой же красивой, как Марзия», — Подумал Арслан.
Арслан узнал в этот вечер, что родом они из-под Казани. Теща Нургалиева в шутку заметила, что она по происхождению именитая, а дочку вот, молодую и прекрасную, выдала за простого рабочего. На это Нургалиев, тоже посмеиваясь, ответил, что по новым временам самый именитый — рабочий класс.
Муж Мохинурбону еще до революции приехал в Ташкент и обосновался здесь, став приказчиком у знаменитого бая-промышленника Рахима Туманова. Одна из ее сестер вышла замуж за узбека. Бай Рахим Туманов, как только произошла революция, в первые же дни добровольно отдал свои заводы советскому правительству и скромно жил с дочерьми в своем небольшом домике в новом городе. Умер он совсем недавно. А ее Покойный муж имел связи с меховщиками старого города. Там сестра ее живет и поныне. Она часто бывает у сестры и имеет немало знакомых в старых махаллях.
Нургалиев, несмотря на возражения жены, еще раз наполнил рюмки. Настоял, чтобы Арслан выпил.
— Мы, рабочий класс, тоже иногда прикладываемся, — сказал он. — Но на работе чтобы этого никогда не было, понял? — И лицо его сразу же сделалось строгим.
Марзия сидела напротив и занимала Арслана разговорами. Он же, смущаясь, не смел даже взглянуть в ее сторону. Только заметил, что глаза у нее светлые, а губы сочные, такие, как у Барчин. Он вспомнил о Барчин, и его сердце наполнилось тоской. Марзия, разговаривая, смотрела собеседнику в глаза, и Арслан, боясь встретиться с ней взглядом, старался сидеть к ней вполоборота.
Несколько захмелевший Нургалиев внезапно повернул разговор на серьезные темы. Он начал втолковывать Арслану, какое значение имеет завод в жизни страны. Хотя Арслан об этом кое-что уже знал, но слушал с вниманием, проявляя уважение к старшему.
— Тебе трудно? — спросил Нургалиев и сам же ответил: — Трудно. А это потому, что многие работы вручную делаем. Завод наш молодой, еще не полностью оборудован. А тем, кто до тебя работал, было еще труднее. Когда я пришел к твоему отцу в ученики, мы не имели и того, что сейчас имеем. Формовали вручную, подносили к вагранкам вручную. Да и какие там вагранки, тандыры были — и только! К концу дня наработаешься — спины разогнуть не можешь. А знали мы, что молодой смене нашей легче будет. Так и есть, легче. А вот перейдем на автоматику, тогда уж и вовсе легко станет. Только бы не помешали…
Последние слова Нургалиева почему-то вызвали смех у его жены.
— Кто вам может помешать?
— Врагов слишком много у нас завелось. Справа японцы, слева немцы. Покоя нет у них, что мы крепнем, на ноги становимся. Знают: если поднимемся во весь рост, не дотянуться им, не сбить нас наземь. Вот и точат зубы, на нас глядя. Нам только бы сил набраться! А вот каждый такой парень, приходящий на завод, приобщает к нашей силе свою силу. И мы крепнем час от часу. Нас становится все больше и больше.
Арслан слушал молча, и его постепенно наполняла гордость, что и он представляет частичку общей силы. Его труд, оказывается, нужен стране. Месяцем раньше он и представить себе не мог, что один человек может играть такую огромную роль в жизни целой страны. В нем жила уверенность, что человек трудится лишь для того, чтобы всегда быть сытым, одетым, что каждый устраивается, как может, но всегда ищет от дела побольше выгоды. Чем больше заработок, тем больше, значит, повезло человеку. Но, оказывается, не это самое главное. До сих пор он копошился в своем маленьком затхлом мирке, тогда как настоящая-то жизнь проходила мимо. Вдруг опять перед ним предстала Барчин, и он ясно увидел ее насмешливую улыбку, ее глаза.
Арслан вздрогнул, как от удара, мотнул головой, возвращаясь к действительности.
— Шавкат, эй, Шавкат, гостю надоела твоя выспренняя речь! — ласково обратилась к мужу Марзия.
— Нет, нет, ну что вы!.. — запротестовал Арслан, испугавшись, что Нургалиев может ей поверить.
А тот продолжал, будто и не слышал ее слов:
— Мы называем себя Сельмаш. Мы делаем сельскохозяйственные машины. Чем больше мы будем выпускать этих машин, тем легче дехканину будет работать. Мы ни на минуту не должны забывать, что мы у него, у дехканина, в долгу. Мы сыты благодаря дехканину. Машинами же мы все еще его полностью не обеспечили. А он ждет тракторов, копает арыки, каналы кетменем и ждет экскаваторов, сеет вручную и ждет сеялок, собирает хлопок руками и ждет комбайнов! Мы не должны забывать об этом ни на минуту. Выходит, урожай хлеба, хлопка тоже от нас зависит. Чем лучше мы будем трудиться на своем заводе, тем легче станет работать дехканину в поле и тем больше земля родит хлопка, хлеба…
Марзия поставила на стол самовар, налила в чашки чаю. Мохинурбону придвинула к гостю вазу с вишневым вареньем, положила в блюдечко чак-чак.
— Пейте чай. Вы угощайтесь и слушайте. А то мой зять, кажется, собирается угощать вас одними словами.
Нургалиев отмахнулся, не взглянув в ее сторону.
— Твой отец любил приводить пример с пчелами, — сказал он. — Если у пчел в улье становится слишком много трутней, они не успевают насобирать меда. Трутни не работают, а все пожирают. Тогда рабочие пчелы отрывают головы этим паразитам, вот так-то! А среди нас еще немало подобных паразитов.
Еще долго продолжалось дружеское застолье. Потом Арслан в свою очередь пригласил к себе в гости Нургалиева с женой и тещей. Попрощавшись, он покинул их гостеприимный дом.
Он шел задумавшись. В ушах все еще звучал голос Нургалиева. Арслан припоминал слова Кизил Махсума: «В жизни главное — деньги. Нет денег — и ты гроша ломаного не стоишь». Арслан сейчас не может похвастать богатством, а вон с каким уважением говорил о нем мастер. Он даже сказал, что не будь на заводе его, Арслана, они бы стали слабее.
Арслан доехал на трамвае до Хадры и зашагал по узким улочкам старого города. Было морозно, снег хрустел под ногами. Небо с вечера затянули тучи. Спряталась луна. Однако белые стены домов и белая дорога, засыпанная снегом, не давали властвовать тьме. Арслан хорошо различал протоптанную стежку.
Свернув, Арслан вступил в свою махаллю. Впереди мелькнул слабый огонек. Он мерно покачивался, приближаясь. Арслан догадался, что кто-то идет с фонарем. Человек приблизился и, подняв ручной фонарь, осветил лицо Арслана.
— Ия, родившийся в рубашке, откуда идешь?
Арслан узнал голос Мусавата Кари. Надо же, легок на помине!
— Салям алейкум! — поздоровался Арслан. — Был в гостях, Кари-ака.
— Ваалейкум ассалям! Слышал, что ты поступил на завод. Правда это?
— Правда.
— А мы с твоим Махсумом-ака только что говорили о тебе. Переживает он за тебя. Говорит: «Такой джигит, а себя ни в грош не ставит». Ты же можешь жить припеваючи, как хан! У тебя такие способности! Если как следует заняться делом…
— Вы имеете в виду торгашеские дела? Разве же это достойно человека, уважающего себя?
Мусават Кари не ожидал услышать такое, опешил.
— А вы не заноситесь, молодой человек. Спуститесь хотя бы на четыре вершка!
— Ни на вершок не спущусь, Кари-ака.
— Не плюй в колодец, пригодится воды напиться, дорогой мой Арслан.
— Решение мое твердо. Я стал рабочим. Таково было завещание моего отца. Завещание же отца для меня священно.
Среди ночной тьмы Арслан не видел, а скорее почувствовал, что Мусават Кари хмуро смотрит на него. Минуту они молча стояли друг против друга. Потом Мусават Кари, не произнеся более ни слова, зашагал прочь. И Арслан отправился своей дорогой. То, что этот человек даже не попрощался, вселило некоторую тревогу. Арслану было известно, сколь коварен этот человек. Он мстит всякому, кто не угоден ему. Впрочем, что он может сделать Арслану? Сплетнями и клеветой испортить репутацию? Есть старая пословица, которую отец любил повторять: «Не бойся кривой тени, если прямо стоишь». Чего ему, Арслану, опасаться? У вагранок сгорит всякая приставшая к нему шелуха.
Глава одиннадцатая
МЕСТЬ
Старшему брату Нишана-ака Эсану-бува исполнилось восемьдесят четыре года. Борода у него и волосы белые, как хлопок. Необыкновенно добрый от природы человек, он особенно ласков к детям. Эсан-бува отличается своеобразной, какой-то красивой старостью. Он уважаем всеми, на празднества и обряды приглашается, как самый почитаемый гость. Необычайно проницателен и мудр Эсан-бува, и многие махаллинцы идут к нему за советом. Умер ли кто, родился ли у кого ребенок, первым на обряд приглашают его. Не раз он, прочтя молитву, нашептывал младенцу на ухо его имя. И не счесть в махалле людей, которым он дал имя.
Не уподобляется Эсан-бува иным старикам, которые брюзжат, сетуя на нынешнюю молодежь за то, что она забыла аллаха. Он аккуратен в исполнении правил шариата, к молитвам приученный с детства, вовремя совершает намаз, но никогда не разглагольствует перед молодыми о святости шариата. А следует ему по той причине, что частенько уж думает: недолго осталось жить и, кто знает, может, придется предстать пред судом аллаха.
Ребятишки, внуки и правнуки, завидев его, точно только что оперившиеся птенчики, устремляются к нему, толпятся вокруг, и каждый хочет, чтобы дед поднял его разок. И тогда счастливчик, болтая ногами, радостно смеется. А потом Эсан-бува достает из глубокого кармана специально припасенные карамельки и раздает их детям.
Дома два младших правнука часто затевают с ним игру. Дед так увлекается, что забывает о возрасте. И в эти минуты разница между ними — его седая борода.
Когда наступает время намаза, Эсан-бува, не медля ни минуты, стелет джайнамаз — коврик для молитв — и начинает молиться. А оба правнука, визжа и смеясь, вертятся напротив. Им кажется, что бува то и дело кланяется, касаясь челом пола, специально, чтобы их рассмешить. Они тянут его за чапан, пытаются усесться верхом на его спину, с нетерпением ждут, когда же он, обратившись к ним, скажет что-нибудь вслух. А во время намаза нельзя говорить ни о чем, кроме как думать о молитве. Он только рукой делает знаки, — мол, отойдите, не мешайте, — а малыши думают, что дед играет с ними, топчутся перед самым его носом. Бува выбирает, в какое место джайнамаза коснуться лбом, наклоняется то влево, то вправо. «Да простит меня всевышний», — произносит старик в конце молитвы и сворачивает джайнамаз. И снова играет с детишками или, заняв свое обычное место на подстилке подле стены, вставляет в штепсель вилку и слушает репродуктор. Но правнукам нет дела ни до его намаза, ни до увлечения радио. Бува самый любимый человек в мире, и он должен принадлежать только им.
Не любил Эсан-бува слишком набожных людей, которые, кроме исполнения обрядов, ничем более и не занимались.
«Надо считаться со временем, в котором ты живешь», — часто говорит он старикам, и те согласно кивают головой. Особенно не любит он каландаров — бродяг, отрекшихся от «мирской суеты» и живущих подаянием.
Однажды в чайхане вступил он в спор с Мусаватом Кари, который по поводу и без повода принимался болтать о религии и о том, что якобы наступили черные дни для мусульман. Эсан-бува его резко оборвал. «Настали светлые дни для бедняков, спины их обогрелись солнцем!» — сказал он. Старик не любил говорить много. Он мог произнести всего одну фразу и обезоружить того, кто спорит с ним. Так произошло и на сей раз. Мусават Кари ничего не ответил и только подумал: «Ах, да-а, ты же брат того самого… Нишана-рабочего…»
Иногда Эсан-бува поучал Нишана-ака: «Совершающих негодное надо порицать, а обиженных несправедливо приласкать следует».
«Вы многого не понимаете, — сердился иногда Нишан-ака. — Чем высказывать всякие суждения, молились бы себе богу, повторяя: «О всевышний, о аллах!..» На это Эсан-бува спокойно отвечал: «Деды и отцы мои не ишанами были, чтобы я вечно занимался молитвами. Каков ты, таков и я. Или ты считаешь, что в жизни больше разумеешь?»
Между тем однажды Мусават Кари, указав своему квартиранту Парсо-домля на Эсана-буву, только что вошедшего в чайхану, сказал ухмыляясь: «Этот гладкий старик, видно, съел свой разум, если решил тягаться с нами. Сам-то уже стоит на пороге этого мира, а язык свой все не уймет. Не проучить ли его?» Парсо-домля глубокомысленно возвестил: «Аллах сперва отнимает ум у раба своего, а потом уж жизнь».
Спустя несколько дней в правление махаллинской комиссии пришел низенький, тщедушный молодой человек, представившийся каким-то корреспондентом. Не застав председателя, он зашел в чайхану и заказал себе чайник чая, подчеркнув при этом, что он корреспондент и хотел бы чаю покрепче. Чайханщик засуетился, с готовностью выполнил его желание. Сидевшие на сури люди, конечно, сразу же узнали, что к ним пожаловал высокий гость. Да это и по его осанке видно: держится горделиво, подсел к столику, закинул ногу на ногу, даже чай наливает, сидя прямо, словно аршин проглотил. Брови нахмурены, ни на кого не глядит, но чувствует, что вызвал всеобщее внимание.
Не успел корреспондент выпить первую пиалушку чаю, к нему подсел Мусават Кари. Ведь общение с таким человеком в глазах махаллинцев еще раз подчеркнет его ученость. Представился: один из активистов махалли. Корреспондент сказал, что собирается написать статью о постановке культурно-просветительной работы в махалле и о пропаганде атеизма. Мусават Кари долил корреспонденту чаю, чайханщику велел принести конфет и горячую лепешку. Затем, выразив сожаление по поводу отсутствия в настоящее время председателя махаллинской комиссии, сказал, что если написание такой статьи не терпит отлагательства, то он со всей душой готов помочь уважаемому гостю.
— Я знаю, кто чем дышит в нашей махалле. Спрашивайте.
— Красный уголок у вас в махалле имеется? — спросил молодой человек, вынимая из кармана блокнот и карандаш.
— Да, конечно! Вон он! — воскликнул Мусават Кари, указав на плакат в углу чайханы и на запылившиеся брошюры в нише. — Красный уголок у нас тут издавна.
Корреспондент записал что-то в свой блокнот.
— А как с культурно-просветительной работой?
— Превосходно!
— Лекции читаются?
— А как же! Читаются! Может ли быть такое: чайхана есть, а лекций нет? Каждый день слушаем лекции…
Молодой человек недоверчиво посмотрел на Мусавата Кари, который сразу же почувствовал, что ему не совсем поверили, и тут же добавил:
— Я вам серьезно говорю.
— Какие лекции? Об атеизме бывают?
— Бывают. О чем же другом могут быть лекции, если не об атеизме! Это животрепещущий вопрос в наши дни. Вас интересуют наши атеисты?
— Есть ли в махалле безбожники?
— Как же, как же! Махалля есть, а безбожников нет?
— И можете назвать их?
Мусават Кари задумался. Искоса взглянул на корреспондента, готового сейчас же записать все, что он скажет.
— Есть достойный пример. Возьмем нашего Эсана-буву. Этому почтенному старцу восемьдесят четыре года, наш лучезарный отец краса и гордость всей махалли. Наш уважаемый бува современный человек, он каждодневно слушает радио, аккуратно посещает все лекции. Его младший братишка Нишан Тешабаев передовой рабочий.
— Как фамилия Эсана-бувы?
— Тешабаев, Те-ша-ба-ев. Правильно записали? Его предки были дегрезами: плавили чугун, бронзу и отливали казаны, плуги, кувшины, блюда.
— Атеист, говорите?
— Самый настоящий! Прямо-таки яростный безбожник.
Они беседовали еще с полчаса, пока не осушили оба чайника чаю. Затем корреспондент простился и ушел. Кари с иронической ухмылкой смотрел вслед корреспонденту, сколь прыткому, столь и легкомысленному.
После беседы минуло месяца полтора. И однажды кто-то из посетителей чайханы, показывая всем журнал, сказал, что в нем имеется статья про Эсана-буву. Присутствующие, говоря: «А ну, прочитай-ка вслух», окружили человека с тоненьким журналом.
Молва с быстротой молнии распространилась по махалле. Не осталось дома, куда бы не вошла весть о «старике, отрекшемся от веры». Во всех махаллях — и в Ахунгузаре, и в Куштуте, и в Акмечети, и в Хадре — только о том и судачили, что человек преклонных лет отверг аллаха. Об этом узнали и многочисленные родственники Эсана-бувы в дальних селениях — и в Капланбеке, и в Конкусе, и в Ишанбазаре, и в Ялангаче, и в Шуртепа. Старики разводили руками, выражая недоумение: «Пусть так, отрекся, ну ладно. А зачем это говорить в свои восемьдесят четыре года? Неужто советская власть нуждается в твоем отказе от религии, эх, с ума спятивший старик!»
Когда об этом узнали все, вплоть до жителей отдаленного Шуртепа, весть эта наконец достигла и ушей самого Эсана-бувы, который все эти дни, пока черные слухи змеей расползались по махаллям, закоулкам и улицам, спокойно пребывал у себя дома, молясь в положенные часы, а все остальное время отдавая шаловливым правнукам. Из их семьи первым узнал об этом Нишан-ака, когда по пути с завода завернул случайно в чайхану.
Эсан-бува обомлел, услышав про такое из уст брата. Он обмяк и разинул рот, а его белая борода и усы в это мгновение были похожи на фальшивые, какие наклеивают себе артисты, гримирующиеся под стариков.
— О всемогущий! Что за несчастье! Я никому не говорил таких слов, аллах свидетель!
— Вот послушайте, брат, — сказал Нишан-ака, присаживаясь с ним рядом и открыв журнал: — «Мне исполнилось восемьдесят четыре года. Прежде, во времена баев-тиранов, я был дегрезом. Сейчас я, Эсан-бува Тешабаев, нашел счастье и проклинаю свое черное прошлое! Я, один из сознательных стариков, узнав, как угнетатели с помощью религии нас обманывали, порвал с верой. Теперь я неверующий и не признаю аллаха! Я записался в союз атеистов, вовремя вношу взносы. Теперь я счастливый старик…» Слышали?!
— Я подобных слов никому не говорил, — повторил сдавленным голосом старик. — Наверное, есть другой Эсан-бува… Вы меня с кем-то путаете…
— Может, — пожал плечами Нишан-ака. — Может, есть другой Эсан-бува, который прожил в нашей махалле восемьдесят четыре года, но мы с ним все еще не познакомились!
— Подожди, Нишан! До смеха ли? Это же клевера! Люди уже читали?
— А то нет! Поэтому я вам и сказал об этом. Не будь всяких толков на этот счет, разве я принес бы вам эту весть?
— О смерти своей ведаю, об этом не ведаю. Никто ничего у меня не спрашивал. Как же это может быть? Ничего не спрашивая, прописать в журнале? Ложь! Я никому не говорил ни слова. Ведь ты сам знаешь, в последнее время я редко выхожу на улицу, ревматизм мучает, радикулит… Ведь ты сам знаешь… — Голос его звучал тихо. Казалось, он сейчас заплачет. — Как же так можно приписать такое глубокому старику! Я богоотступник, я поганый!.. Лучше бы обругали меня клятвопреступником! Ведь сижу я дома, молясь аллаху, прося у него здоровья и счастья своим внукам и правнукам. Что плохого я сделал? А ну, скажи! За какие грехи вы прописали меня в газете, отвечай! — напустился Эсан-бува на брата. — Пишите про лжецов, про взяточников, спекулянтов, про «элементов» разных, зачем же позорить невинного старика!
— Ака, поймите… — начал было Нишан-ака, несколько оторопев от бурного натиска брата, но Эсан-бува не дал ему говорить.
— Не понимаю! Ничего не хочу понимать! — закричал Эсан-бува так громко, что вздулись вены на его шее и на щеках проступила бледность.
— Это же не я писал, что вы на меня?..
— Ты рабочий. Активист! И газета эта ваша! О аллах, что же я плохого сделал, чтобы мое имя склонялось на бумаге?! Никому я не говорил подобных непотребных слов. Вассалом!
— Ака, не упрекайте меня…
— Почему же не упрекать? Кто издает газеты, журналы? Правительство! Ты партийный, доверенное лицо правительства, так надо же думать, прежде чем что-либо делать! Что же это такое?! Как я буду теперь глядеть в глаза людям? Остаток своих дней буду жить, слывя безбожником? Что я отвечу аллаху при светопреставлении, когда все мы предстанем перед его судом? Любыми словами браните — стерплю, но восьмидесятичетырехлетнего старца… Лучше быть зарытым заживо!
И он заплакал, уткнувшись лицом в ладони. Худые плечи его вздрагивали.
— Ака, возьмите себя в руки. Я займусь этим делом, все узнаю, — пытался успокоить его Нишан-ака. Зачем он принес в дом эту чертову писанину? — Произошла, видно, ошибка. Хотели написать про другого человека.
— О аллах праведный, непостижимо наказание, неведома судьба… — приговаривал Эсан-бува, воздев руки, а слезы так и текли по худым его щекам. Вдруг, дико вытаращив глаза, он начал читать молитву, точно желая этим отвести от себя обрушившуюся беду. Он вытирал руками лицо, точно ребенок, шмыгал носом и вторил: — Ло-о илоха илло анта субхонака инни кунту миназ золимин! О аллах, каюсь! Куфф, куфф!..
Нишан-ака вышел из дома и тихонько притворил дверь. Рукой поманив ребятишек, игравших во дворе, тихонько сказал им:
— Ступайте к деду, поиграйте с ним…
Но дед отстранил от себя правнуков, прикрикнув на них. Ребятишки, растерянные, вышли из комнаты. Дед впервые обошелся с ними так грубо.
С этого дня обычно жизнерадостный бува сделался мрачнее тучи.
В субботу в махалле играли той. Женился парень, которого Эсан-бува когда-то сажал к себе на колени и сказки рассказывал. Но никто не позвал Эсана-буву на той. Есть поговорка: «На празднество иди по зову, на горе — без зова». И Эсан-бува остался дома, посчитав, что, должно быть, о нем просто забыли.
В понедельник скончалась младшая сестра Хайитбая-аксакала. Эсан-бува, следуя той же народной мудрости, вышел, намотав на голову чалму, и направился к дому приятеля. Встречались знакомые, но никто на него даже не взглянул. Аксакалы махалли, его сверстники, с которыми он водил дружбу более полувека, про-ходили мимо, отворачиваясь и хмуря брови. «Ия, что я, прокаженный какой?! Почему друзья не глядят на меня? На приветствие отвечают еле слышно, будто нехотя…» — гадал Эсан-бува, окончательно растерявшись.
В святую пятницу он направился в мечеть, чтобы совершить полуденный намаз. Опять все сторонились его, избегали его взгляда. А мутаввали мечети, когда Эсан-бува перед тем, как вступить в храм, снимал калоши, задел его локтем:
— Слушайте! Что делать в мечети человеку, осквернившему веру?
— Э-э, это же клевета! — возразил Эсан-бува.
— Выйдите из святого храма! Позор вероотступнику!
— Это тебе позор! — взорвался Эсан-бува. — Пьяница ты и спекулянт, которого покарает гнев аллаха! Сдохнуть тебе, такому мутаввали! Сейчас ка-ак дам вот этим посохом — сдохнешь, ревя подобно ишаку! Жизнь мне сейчас нипочем, знаешь ты это?
Эсан-бува произнес все это так гневно, что мутаввали струсил не на шутку и отступил. Он видел, что старику сейчас в самом деле ничего не стоило хватить посохом по голове.
Мусават Кари, уже сидевший внутри мечети, лицом к михрабу[69], скосив взгляд, наблюдал за разыгравшимся у ступенек скандалом. Пальцы его рук, как полагалось при молении, касались ушей, но помыслы были обращены не к аллаху — он прислушивался к происходившему у дверей спору.
— Почему ты, не спросив меня ни о чем, говоришь мне эти слова? Я никому не говорил такого. Позови тех, кто выпускает эти самые газеты, я поговорю с ними!..
— Нашкодил, а теперь глядите-ка, что говорит! Или нас за глупцов считаешь?! — кричал мутаввали, отступая вовнутрь мечети. — Объявил, что отказался от веры, а сам в мечеть пожаловал! Вспомнил о смерти? Теперь даже муздиканты не придут на твои похороны.
— Прокля-ятье!!! — возопил Эсан-бува и, побледнев, рухнул на сложенную рядками обувь, которую снимают, входя в мечеть.
Поспешно подскочили братья — мастера по кладке дувалов Мухаммаджан и Ахмаджан. Окинув мутаввали гневным взглядом, они отстранили его, подняли лежавшего без чувств Эсана-буву и осторожно понесли старика в свой дом…
Эсан-бува несколько дней лежал в постели. Ни с кем не разговаривал, отказывался от еды. Нишан-ака ходил сам не свой, места себе не находил. Не знал, с какого конца взяться, чтобы разгадать тайну происшедшего. Третьего дня он побывал в редакции. Там ему сказали, что корреспондент, которого он ищет, за какую-то провинность недавно уволен с работы. «Хорош, наверно, шарлатан, коль выгнали», — подумал Нишан-ака и, взяв его адрес в отделе кадров, поехал к нему домой. Однако и здесь его не застал. Оказывается, он квартировал у чужих людей и неделю назад уехал к родителям, проживающим в другом городе.
В воскресенье Арслан зашел домой к Кизил Махсуму, чтобы возвратить последнюю часть долга. Хозяин, Мусават Кари и Атамулла сидели за дастарханом. Подвинулись, пригласили Арслана. Неприлично не отломить и кусочка хлеба, если угощают. Арслан сел.
Зашел разговор о том, что Эсан-бува стыдится показаться на людях, сидит дома.
— Старик, выживший из ума! — сказал Мусават Кари. — Он чересчур много позволял себе. Ни он, ни брат его не терпят нас, считая нечестными. А глядите-ка, сам за три копейки продал веру свою. Оказывается, нельзя судить о человеке по его внешности. Вид у него благообразный, я всегда считал его порядочным человеком, а обернулось вон как…
— А я, Кари-ака, — поддакнул ему Кизил Махсум, — полагал, что он настоящий домля… Наверно, думал, что если откажется от веры, то от советской власти ему выгода какая будет. Э-эх, молодые нынче теряют стыд, а старики — честь!
— Бессомненно, этот хитрый старик отказался от веры, надеясь что-то заполучить за это. А теперь увидите, не получив того, на что имел виды, будет кричать, охать, бить себя в грудь и твердить, что кается, что и не думал отказываться от веры. Попомните мое слово, так оно будет. Станет умолять снова допустить его в храм аллаха — мечеть. Д-да, такие низкие люди на все способны. Этот спесивый старик кичился, что предки его были дегрезами, а брат партийный, — потому, дескать, он никого не боится. Я заметил, в последнее время он стал выказывать пренебрежение даже к старику имаму. Старик, которому осталось-то прожить чуток, танцует под музыку тех, — Мусават Кари кивнул куда-то в пространство. — Вот как низко может пасть человек!
Арслан молча наблюдал за собеседниками. Он чувствовал, что все происшедшее не случайно. В основе лежит тайная вражда. У него появилось ощущение, что вокруг него происходит невидимое глазу сражение. В эту минуту он готов был поклясться, что несчастье, свалившееся на Эсана-буву, — это продолжение стычки, происшедшей между Мусаватом Кари и Нишаном-ака на гапе.
Он сидел, опустив голову, углубившись в свои мысли. В пиале, которую он нервно сжимал в руках, чай давно остыл. Он больше не слышал гневных слов Мусавата Кари, обращенных против Нишана-ака и его старшего брата.
Атамулла тоже не принимал участия в беседе. Он считал своим долгом неукоснительно соблюдать обычай, согласно которому, когда старшие говорят, младшие молчат.
День следовал за днем, проходили недели.
Эсан-бува все еще лежал в постели. Беспокойно ворочался и проклинал не известного ему человека, позволившего себе подлую выходку. На улицу не выходил уже много дней, боясь, что люди опять будут сторониться его.
Однажды зашел его проведать Хайитбай-аксакал. Выслушав жалобы и возмущение Эсана-бувы, он сказал:
— Не принимайте близко к сердцу. Если никчемный мутаввали и домля-имам отвернулись от вас, велика ли для вас потеря? Я недавно этому мутаввали сказал: «Если в нашей махалле есть хоть один подлец, то это ты!»
— А-а, ну их! — слабо махнул рукой Эсан-бува. — Не трогайте их, не ругайте. Я долго тут ломал голову и теперь понял: есть другой человек. Вот он-то оклеветал меня и заставил опустить голову.
— Уж написал бы про нас! — воскликнул Хайитбай-аксакал, ударив себя кулаком по оголенной широкой груди. — Мы и в кимар играем, и водку пьем, и любовным утехам некогда предавались. Если сказать, что я отказался от веры, то все поверят. Ну и сказал бы про нас! Так нет же, оговорил честного и чистого человека! Вай, проклятый!
— Аллах справедлив, он его накажет.
— Нет, Эсан-бува, нет! Подлых долго не настигает кара, живут себе и в ус не дуют. Э-э-х-х-х! — Хайитбай-аксакал в сердцах дернул свои огромные ножны, из которых торчала ручка слоновой кости. — С каким удовольствием я распорол бы им всем животы! Позволило бы мне наше правительство, я за одну ночь прикончил бы всех мерзавцев! Да, я таков! Я бы смог совершить такое! Нам лишь бы приказ дали — и баста! Эх, разве дождешься такого приказа…
— Будьте сдержаннее, аксакал, будьте сдержаннее, да хранит вас аллах от опрометчивых поступков.
Через несколько дней пришли и другие друзья проведать Эсана-буву. Они теперь поняли, что старик стал жертвой чьей-то подлости, стыдились, что недавно избегали его. Эсан-бува их успокаивал: «Да ладно, чего уж там…»
Умер Эсан-бува тихо, незаметно. Был холодный зимний день. Такой стужи давно не было. Гроб-катафалк колыхался на плечах людей, уподобясь утлой лодчонке, плывущей по волнующемуся морю.
Проводить старика в последний путь пришли люди со всех ближних и дальних мест. И каждый считал за честь хоть несколько шагов пронести носилки с гробом.
Особенно ретиво прислуживали на похоронах имам и мутаввали, приходившие еще при жизни Эсана-бувы просить у него прощения. И старик милостиво отпустил им грехи перед самой кончиной.
Мутаввали то и дело с опаской поглядывал на Хайитбая-аксакала, который, положив руку на рукоятку своего страшного огромного ножа, стоял в проходе и исподлобья изучающе смотрел на всякого, кто входил к покойному и выходил из дому. У него в ушах все еще звучали слона Хайитбая-аксакала, произнесенные им в тот час, когда все узнали о том, что мудрый и справедливый Эсан-бува умер. «Голова человека, обидевшего Эсана-буву, в моих руках», — сказал Хайитбай-аксакал. И все могли быть уверены, что это так. Только поди-ка разыщи того человека…

Глава первая ЗМЕЕЙ УЖАЛЕННЫЙ
В свой черный день человеку свойственно думать о самом прекрасном, что было в его жизни. И тогда лучи минувших светлых дней разгоняют мрак, заполнивший его душу. А что самой яркой, светозарной звездой всегда сияет в памяти человека? Любовь. Она живет в сердце до той поры, пока оно не перестанет биться. Жизнь без нее мрачна и неинтересна. Не потому ли человек так бережно хранит память о любви, единственной, неповторимой…
О чем только не передумал за последние дни Арслан. Но лишь думы о Барчин, о давно-давно минувших днях, подаривших им радость знакомства и первых встреч, приносили ему малую долю облегчения.
В одной из комнат опустевшей квартиры, где вот уже несколько дней царит тоскливое безмолвие, на старенькой бекасамовой курпаче[26], постланной прямо на пол, в глубоком раздумье лежит Арслан. Много пережил он за эти дни, осунулся, нос его еще более заострился, виски, присыпанные сединой, запали, а под глазами пролегли тени. Вокруг разбросаны газеты, рядом пиала с остывшим чаем.
Крупная муха беспрестанно бьется о стекло, ошалело носится по комнате и вновь наскакивает на окно так злобно, будто намерена вдребезги разнести невидимую преграду и вырваться наружу. Назойливое жужжание этой твари несносно действует Арслану на нервы. Встать бы да прихлопнуть это проклятое насекомое или, на худой конец, открыть форточку. Но не хочется даже пошевелить рукой. Все тело налилось свинцом. Он чувствовал себя так, будто повержен тяжким недугом.
На столе, что посредине комнаты, полбуханки хлеба, алюминиевый чайник, пачка сахара, из которой высыпалось несколько кусочков. В комнатах давно никто не прибирал. С того дня, как ушла Барчин, Арслан ни разу не зашел ни в спальню, ни в свой кабинет. Временами ему чудилось, что он не в собственной квартире, а на необитаемом острове, один-одинешенек в целом свете. Этот простор, простор трехкомнатной секции, где он остался теперь один, угнетал его.
Муха села на кусок сахара. Арслан свернул газету. Но не успел подняться, как эта прегадкая тварь, с утра изводившая его, взлетела и с размаху ударилась об оконное стекло. Арслан хлопнул газетой. Удовлетворенный своей маленькой победой, он вновь вытянулся на курпаче. И опять навалились тягостные думы. Может, выйти прогуляться?
Арслану припомнился случай, поведанный некогда матерью. Ее постигло какое-то горе. Погруженная в беспросветную печаль, она возвращалась как-то из загородного сада. Проходя мимо холма Кургантеги, она увидела на обочине пучок скатавшихся хворостинок. Она подобрала этот пучок и перекинула через левое плечо, подумав при этом: «Пусть все мои горести и печали развеются, как эти былинки по ветру!» И на душе у нее посветлело. Найти бы и Арслану волшебную штуковину! Но нет, слишком велика печаль Арслана. Она представляется ему беспорядочным нагромождением огромных скал, она видится ему непреодолимой сказочной горой Кухи-Каф. Ему кажется порой, что стоит он над бездной, — был бы птицей, перелетел.
Какие муки испытывает человек, ужаленный змеей? Арслан уверен, его муки страшней. Если бы Арслана ужалила змея, он лечился бы снадобьями из трав и в конце концов избавился бы от недуга. Но не змея всему виной. Недаром говорят, что слова, слетевшие с языка недоброго человека, жалят больнее гадюки. И нет от этих страданий целебных трав.
Арслан распахнул окно и закурил.
На лестничной площадке что-то глухо стукнуло, и тотчас раздался пронзительный плач ребенка. Арслан бросился к двери. На площадке третьего этажа плакал Бабур, трехлетний соседский сынишка. Арслан подхватил его на руки, стал утешать. На лбу у мальчика появилась багровая шишка. Арслан поцеловал его в лоб, вернулся в комнату и принялся расхаживать из угла в угол, приговаривая ласковые слова. Пошарив в ящике кухонного стола, нашел карамельку. Бабур перестал плакать. Жаль, что в доме нет ни одной игрушки, которой можно было бы развлечь малыша. Арслан снял с чернильницы блестящую металлическую крышку и стал стучать ею о мраморную подставку. Переливчатый звон заинтересовал Бабура. Он с любопытством посмотрел на дядю и улыбнулся. Потом потрогал шишку на лбу и показал рукой в сторону наружной двери:
— Больно… Там… ступенька…
— А вот мы ее сейчас!
Арслан вышел с ребенком на руках на лестничную площадку и несколько раз топнул ногой по ступеньке, приговаривая:
— Вот я тебя! На, получай! Ты зачем нашего Бабура обидела?
Проделки дяденьки-соседа, видимо, чрезвычайно понравились мальчику. Он развеселился и стал проситься в комнату, где осталась блестящая крышка чернильницы. Арслан усадил его на стол и, расположившись напротив, стал беседовать с ним, как со взрослым.
Вскоре снаружи послышались чьи-то шаги. Арслан, решив, что это, должно быть, отец Бабура, взял мальчика на руки и поднялся на четвертый этаж. Постучал. Дверь была открыта, но никто не откликнулся.
— Джамшидбек! Эй, Джамшидбек! — позвал он.
Было тихо.
Он впустил Бабура в комнату и стал спускаться по лестнице. На том самом месте, где мальчик ушибся, он повстречал запыхавшуюся Махсудахон.
— Я отнес Бабура, а там что, никого нет?
— Здравствуйте. Я ищу его, с ног сбилась, — сказала молодая женщина. Несмотря на то что родила четверых детей, она была ладной и обаятельной. — Ну никак не сидится ему дома. Стоит отвернуться, как он тут же исчезает. Прогулки с четвертого этажа вниз для него развлечение, а мне хлопоты.
— Мой друг Бабур малость расстроены. Они упали и набили на лбу шишку, — шутливо сообщил Арслан. Теперь-то уж, когда малыш успокоился, можно и пошутить.
— Ах, вон оно что?! — всплеснула руками Махсудахон.
— Вы уж не ругайте его. Он молодец, настоящий джигит.
— Не защищайте. Я так перепугалась, обнаружив, что его нет дома. Сейчас я ему задам…
— Ну, зачем же так? Не забывайте: Бабур — царь Мавераннахра.
Они рассмеялись. Женщина заспешила к себе.
Всякий раз, когда встречал эту женщину или ее мужа Джамшида, Арслан чувствовал себя неловко. Более года прошло с тех пор, как они оба были у него на приеме в райисполкоме, и он тогда заверил их, что они получат новую квартиру. Но не успел для них ничего сделать. По-прежнему теснятся они в двух комнатах, но молчат, не попрекают.
Арслан медленно спустился на свой этаж и, зайдя к себе, притворил дверь. И опять словно отгородился от всего сущего толстыми стенами. Снова навалились тяжелые думы…
«Говорят, в давние времена это было. Человек приручил рыбку. И куда бы ни пошел, повсюду, как талисман, была с ним рыбка. Однажды, когда человек проходил через мост, рыбка выскользнула в воду…
Я лишен должности. Ну и что же? Разве все время я был председателем райисполкома? Разве на моих ладонях никогда не было трудовых, благородных мозолей? Разве я и теперь не буду принят в дружную рабочую семью — в родной коллектив завода? Так чего же я волнуюсь? Завод — моя стихия. Я не отвык от нею. Втайне я всегда тосковал по заводу, как по воде та рыбка».
Арслан подошел к окну. А город-то живет полнокровной жизнью. Среди сочной зелени виднеются красные, серые крыши домов. И солнце ласково светит людям. По улице снуют машины. Тротуары подобны муравьиным дорожкам: люди спешат невесть куда, каждый чем-то озабочен.
Нет, Арслан не боится лишиться должности. Все это время, пока он был на руководящей работе, руки его тосковали по настоящему делу, которым, как он считал, был занят лишь на родном заводе. Скучал по заводскому шуму, по ребятам, с которыми не один пуд соли съел.
Только не хотел Арслан остаться побежденным, потому что чувствовал, что прав. А можно ли добровольно уступать позиции? Нет, нельзя.
Сохранять хладнокровие в тягостные минуты жизни, верить в свою силу, правоту — эти качества не наследуются. Они обретаются в борьбе, исход которой зависит от твоей подготовленности и присутствия духа в решающие минуты.
Перед мысленным взором возникло отвратительное, круглое, лоснящееся лицо. Мокрая губа насмешливо оттопырена, а сузившиеся в щелки глаза будто говорят: «Пусть все теперь знают, каков ты есть! До скончания века своего не сможешь ходить с поднятой головой! Ты, глупец, схватился с нами, вот и пожинай плоды! Ты повержен! Твои же друзья станут презирать тебя! Точно паршивую кошку, станут гнать тебя от своих дверей!.. Мы свалили тебя, и ты больше не встанешь. Вот это называется кураш[27]. Вот это и есть наша победа! Эх ты, жалкий человечек, считавший нас похороненными! Ты поступал по-ребячьи, не желая считаться с нашими интересами. Вот и побит ты, как поганая кошка…»
«Нет! Ошибаетесь, если думаете, что борьба на этом закончена. Она только начинается на тропинке моей жизни. Все, что было в прошлом, пустяки по сравнению с этим испытанием. Еще не утеряли силу мои руки, которые не так давно играючи управлялись у доменной печи. И не угасло в сердце пламя, зажженное из ее горнила! Что ж, потягаемся!»
Проведя весь день в раздумьях, Арслан не заметил, как наступил вечер. На лестничной площадке опять что-то глухо стукнуло, и послышался пронзительный плач ребенка. «Бабур снова упал», — подумал Арслан, вскакивая с места. В мгновение он выскочил за дверь. Так и есть. На ступеньке вниз лицом лежал Бабур. Арслан схватил мальчика и по обыкновению топнул несколько раз по ступеньке, приговаривая:
— Вот тебе! Попробуй-ка еще раз наставить шишку на лбу у нашего Бабурчика!
Мальчик, вытирая кулачком глаза, улыбнулся. Арслан снова принес его к себе. Бабур уже привык бывать в гостях у дяди и не очень переживал разлуку со своими шумливыми братьями и сестричками. Он попросился на пол и стал бегать по пустым комнатам. Выскочил на балкон.
— Тебе у меня нравится? — спросил Арслан у малыша.
Мальчик кивнул. Еще бы, здесь такой простор! А у них всего две комнаты — не разыграешься. Куда ни сунься, только и слышишь мамин голос: «Нельзя!.. Не трогай!» Вот и хочется Бабуру убежать всякий раз на улицу, на волю. Братья и сестры — те постарше, они весь день пропадают то в школе, то во дворе. А его, Бабура, никуда не отпускают одного. Только у этого доброго дяди он гостит время от времени. У него привольно, можно ходить из комнаты в комнату, и он ни разу еще не сказал: «Нельзя!»
— А хочешь, я тебе подарю эти комнаты? — спросил Арслан, поглаживая мальчика.
Бабур ничего не понял. Он с интересом смотрел во двор, где его братья и другие мальчишки гоняли футбольный мяч.
— Папа дома? — спросил Арслан.
Мальчик кивнул. Арслан поднял его на руки.
— Идем-ка, поговорю я с твоим папой.
Они поднялись на четвертый этаж, постучали в дверь, на которой карандашом было написано: «Бабур».
— Кто это написал? — спросил Арслан.
— Адолат, — сказал мальчик.
— Скажи сестре, что она хорошо придумала: если кто-нибудь придет, сразу же узнает, что здесь живет Бабур.
В дверях появилась Махсудахон.
— Опять упал? — сказала она, стягивая халат на груди.
— Да, великий царь Ферганы, Мавераннахра и Индии опять упали, — улыбаясь, сказал Арслан. — А Джамшидбек дома?
— Дома. Пожалуйста, входите.
— Дело у меня к нему. — Арслан с Бабуром на руках перешагнул порог.
Джамшид, широкоплечий мужчина, лежал на диване и читал газету. Увидев Арслана, вскочил, заспешил навстречу.
— Прошу вас, Арслан-ака, — сказал он, здороваясь за руку. Рука у него была твердая, как у всякого, кто занимается физическим трудом. Джамшидбек работал на заводе, где некогда трудился и Арслан.
— Как поживаете? — осведомился гость.
— Рахмат! Как сами? Слышал, приболели немного? Как теперь себя чувствуете?
Конечно же хозяин дома был осведомлен и о том, в какие передряги угодил Арслан, и о разладах в его семье, но из уважения к нему не касался этой темы. Да и кто в районе нынче не знает о том, что дело председателя райисполкома Ульмасбаева расследует специальная комиссия. И хотя Арслан пока не отстранен от занимаемой должности, он сидит дома, не показывается на людях. И неизвестно, что доставляет Арслану больше переживаний — неприятности на работе или то, что вдобавок ко всему от него ушла Барчиной. Женщины с длинными языками судачили о всяком. Но Джамшидбек не верит слухам. Человек, вышедший из рабочей среды, не способен на дурные дела.
Арслан сел на предложенный хозяином стул:
— Чувствую себя лучше, рахмат. Давление поначалу подскочило. Но теперь приближается к норме. Главное — головные боли прекратились… — Арслан посидел молча, как бы обдумывая, с чего начать разговор, потом, взглянув на хозяина, решительно сказал: — У меня предложение к вам, Джамшидбек. Я рассчитываю, что вы согласитесь со мной. Только заранее прошу: не считайте это благодеянием каким, не надо благодарностей…
— Я слушаю…
— Я не смог выполнить обещания… А сейчас предлагаю: давайте поменяемся квартирами. Вы с ребятишками и отцом вашим теснитесь здесь. А я один остался в трех комнатах…
— Как же это? — удивился Джамшидбек. Жена, появившаяся в дверях, замерла на пороге.
— Очень просто, — улыбнулся Арслан. — Я вселяюсь в вашу, двухкомнатную, а вы занимаете мою. Вот и все!
— Нет, нет, это невозможно, — возразил Джамшидбек, хотя и он, и отец его, и Махсудахон только и мечтали о том, чтобы переселиться в квартиру попросторнее. — Ведь так, запросто, разве это делается?
— Оформить документы дело простое. Я еще не ушел с работы, просто болею…
— Да и не уйдете вы с работы! — вырвалось у Джамшидбека. — Все люди в нашем районе только того и хотят, чтобы вы остались на своем месте. А кто вам доверил эту работу? Люди. Сможете ли вы без их желания покинуть свой пост?
Арслан грустно улыбнулся. Ему было приятно услышать от соседа эти слова. Главное — в них он не уловил фальши.
— А когда вернется Барчиной, не возмутится ли она великим переселением? — спросила Махсудахон, но тут же замолкла заметив, что лицо Арслана потемнело, брови сошлись у него на переносице.
Сделав вид, что он не услышал ее замечания, Арслан сказал:
— Мне достаточно и двухкомнатной…
— Я не могу ничего сказать… Решать вам, — сказал Джамшидбек, зная, что, если сосед предложил ему такое, следовательно, все давно обдумал. Если сейчас отказаться, значит, глубоко его обидеть.
— Да, как сами знаете, — согласилась Махсудахон.
— Выходит, договорились. Завтра с утра вы переселяетесь в мою квартиру, — сказал Арслан, хлопнув себя по коленям, и поднялся.
— Ох, да что ж это я — даже чаю не предложила! — засуетилась Махсудахон. — Я сейчас, пять минут — и чайник закипит. Посидите, Арслан-ака.
Она побежала в кухню, но Арслан поблагодарил и, попрощавшись, ушел.
На следующий день семья Джамшидбека переселилась на второй этаж. Отец Джамшидбека, Муса-ата, под вечер вернулся из района, где два дня пробыл на свадьбе, и очень удивился, застав своих на новом месте. За угощением, приготовленным в честь новоселья, старик произнес длинную благодарственную молитву и пожелал благородному и щедрому соседу скорейшего избавления от всяческих бед, пожелал бодрости и силы духа. «Аминь», — сказал он под конец и провел по лицу ладонями.
В среду, в день, когда, по мусульманскому верованию, исполняются сокровенные желания, пришла Мадина-хола. Она была крайне удивлена тем, что сын поменял квартиру. Но расспрашивать ни о чем не стала. И так ему тяжело. Сердце ее изнывало оттого, что сын ее целыми днями лежит, как поверженный минарет. Столько лет мечтала она о внуке, о том, как она, обняв младенца, тихо будет петь ему колыбельные песни. И то, что аллах не подарил ей внука, она считала наказанием господним. Не думала, не гадала, что в жизни сына, а значит и в ее жизни, будут такие черные дни.
Хоть Арслану не хотелось показываться на людях, мать все же уговорила его пойти с ней в их дом, в дом, где он родился и вырос.
— Для других-то ты, может, и большой человек, а для меня ты маленький, каким был. Сейчас же вставай! — сказала она строго.
Арслан скрепя сердце повиновался.
Возвратился в воскресенье. Выло раннее утро. Чтобы не ждать, когда принесут почту, в киоске, что неподалеку от дома, купил газеты. На улице, такой шумной и многолюдной в будни, сегодня было тихо. Только изредка прошелестит по асфальту легковая машина или, урча, протащится неповоротливый автобус. И опять тишина.
Арслан, зажав газеты под мышкой, скорыми шагами направился к своему подъезду. Ему казалось, что изо всех окон глядит на него осуждающе и злорадно. Вот кто-то, сверля его взглядом, подзывает жену: «Иди-ка сюда скорее, погляди на Ульмасбаева, полюбуйся на него! Небритый, одежда помятая! А недавно, бывало, в нечищеных туфлях порога не перешагивал…» В другом окне дородная женщина, прижав к щеке руку, скорбно качает головой: «До чего довели бедняжку…» А вот кто-то злорадствует: «К чему приводит спесь и зазнайство! Как только человек становится начальником, пелена глаза ему заволакивает, даже близких перестает узнавать!» За четвертым окном две старушенции перешептываются: «Хорош, видно, этот Ульмасбаев, если от него жена ушла!..»
Арслану хотелось бегом взбежать по лестнице на четвертый этаж и запереться в своей квартире. В груди кольнуло, едва он взялся за перила. Остановился, чтобы перевести дух.
Вспомнился Аббасхан Худжаханов, его заместитель. Этот человек с постоянно улыбающимся лицом почему-то то и дело возникает перед его взором. Странный он какой-то, этот Худжаханов. Вот уж сколько времени Арслан с ним работает, а он никогда не был до конца откровенным. Говорит, а что-то не договаривает, раскрывает, кажется, душу, а что-то таит. Взгляд его никогда не выражает ни гнева, ни радости. А что у него в сердце — поди-ка разберись… Говорит обычно Худжаханов обтекаемо, продумывая каждое слово и улыбаясь при этом. Острых разговоров избегает.
С подчиненными Аббасхан Худжаханов разговаривал высокомерно, иной раз даже не скрывая презрения. Арслан несколько раз, как бы между прочим, укорял в этом своего заместителя. И тот в присутствии Арслана старался казаться скромным и деловитым… Ну что ж, человек есть человек, у каждого свои слабости. Но Арслан никак не может взять в толк, почему Худжаханов стал покровительствовать Мусавату Кари. Сейчас, конечно, трудно это понять, и заместитель делает вид, что не имеет никакого отношения к тому, что нежданно-негаданно обрушилось на голову председателя райисполкома. Но когда Арслан анализирует поступки Мусавата Кари, понимает, что рядом с этим человеком незримо действует и его заместитель, Аббасхан Худжаханов. Надо же — еще одна загадка!
Высокая, статная фигура заместителя, загадочная ухмылка и обнажающиеся при этом золотые зубы нет-нет и возникали перед Арсланом.
Прежде Арслану было непонятно, почему его заместитель в присутствии дружков-приятелей Мусавата Кари держится с ним независимо, а как только они остаются наедине, начинает заискивать. Только теперь кое-что начинает проясняться. «Можно ли быть таким простаком! Дожив до седин, не научиться отличать добро от зла… Сам с открытым сердцем — считаешь, что и у других душа нараспашку…»
Арслан множество раз анализировал свою жизнь. Заново оценивал поступки. Нет, он ни в чем не мог упрекнуть себя. Совесть его чиста. Словно жаркий огонь вагранок, у которых не один год простоял он, когда работал на заводе Ташсельмаш, очищал ее.
Арслан машинально вынул из кармана ключ и остановился перед дверью на втором этаже. Но тут же спохватился и, держась за перила, поднялся на площадку четвертого этажа. Отпер свою дверь. А в голове мельтешили в беспорядке одни и те же мысли.
Арслан понимал, что нельзя ему сейчас сидеть сложа руки. Стоит на мгновенье расслабиться — тотчас окажешься на лопатках. А то, что сейчас происходит, — это борьба! Невидимая глазу, сопровождающаяся, быть может, улыбочками соперников, обменом взаимными любезностями и даже рукопожатиями, но яростная и беспощадная борьба. Арслан никак не мог заставить себя идти куда-то и что-то доказывать — искать союзников. Но имеет ли он право бездействовать, полагаясь только на силу правды, которая в конце концов, конечно, победит?
Где бы Арслан ни находился и что бы ни делал, его одолевали сомнения. С газетами под мышкой он зашел на кухню. Наполнил жестяной чайник водой и поставил на плиту. Вернулся в большую комнату и, удобно усевшись в кресле, углубился в чтение, забыв при этом зажечь плиту.
Через некоторое время вышел на кухню, чтобы заварить чай, усмехнулся. Стал рассеян… Как ветры, непрестанно облизывая скалы, стирают их с лица земли, так печаль и горькие думы могут лишить человека рассудка… Однако скалы беспомощны. А человек наделен огромной волей.
Воля и непреклонность!
Нельзя терять самообладание, даже очутившись над пропастью. Только человек сильной воли может одолеть врага.
— Ну, хватит философии! — вслух сказал себе Арслан. — Не раскисать, дорогой друг! Сейчас же надо принять ванну, побриться, выгладить костюм! Потом принести из магазина… Да, что же надо принести из магазина? Хозяйством всегда занималась Барчиной. Надо же — я даже забыл, что покупают в магазине в первую очередь! Ну конечно же я принесу чай, сливочное масло, яйца…
Однако, перекусив тем, что удалось найти в буфете, он забыл о своих намерениях. Вытянулся на курпаче подле окна и начал читать газету. Не заметил, как уснул. Вскоре он вздрогнул и проснулся. Ему приснился блаженный Атати, свалявшиеся, грязные волосы которого спадали до плеч. Этого Атати, который бегал по узким, кривым улочкам махаллей и беспрестанно кричал несуразное, отчего на краешках его рта постоянно пенилась слюна, Арслан видел лет этак тридцать назад и премного был наслышан о нем в детстве. С чего это вдруг он ему привиделся?.. Арслан даже явственно услышал его крик: «Ё-э-э, лу-у-у!..» Блаженный Атати бродил, выпрашивая себе милостыню, по махаллям Кургантеги, Сакичмон, Хаджимал, Узгат, Хиябан, Дегрезлик, Чигатай, Кесак-Курган. И летом, и зимой Атати-блаженный ходил полуголый, босиком и при этом цедил сквозь зубы звук «взз-взз», словно его пронизывал холод. Он был безобидный, этот Атати. Отец как-то рассказывал, как Атати появился в торговых рядах и, выкрикивая свое неизменное: «Ё-ху-у-у! Ё-ху-у-у!», обхватил один из толстенных столбов, подпиравших навес, и пытался его свалить, чем немало напугал торговцев… Он утверждал, что Атати большей частью бродит вокруг медресе Бегларбеги, Кукалдаш, гробницы Каффал-Шаши, мечетей Сирлимечеть, Хотинмечеть, а ночует он якобы в большом полуразвалившемся тандыре на пустыре, где когда-то, как говорят, был чей-то обширный двор, впоследствии заброшенный и разоренный.
Иногда Атати не было видно дней пять-шесть. И все знали, что он отправился в сторону Шибли. Возвращаясь назад, он непременно выбирал путь через кладбище Шахидантепа, расположенное на берегу небольшого пруда Кайковус, и недвижно лежал там несколько дней, обняв какую-то могилу…
Вспоминают, что Атати родился в семье ремесленника и в юности был вполне приличным джигитом. Звали его Асадуллахан. Он женился, и у него родилась девочка. Но однажды сын Иноят-байбачи, водившийся с кимарбозами[28], похитил его молодую жену. Спустя несколько дней нашли ее мертвой. Вскоре умерла и дочка. И стал Асадуллахан, не найдя справедливости, бродить по улицам, хватаясь за ворот рубахи, будто жгло его что-то изнутри, и громко вздыхать: «Ё-ху-у-у!..»
«И мое сердце сейчас будто в огне, — подумал Арслан. — Этак недолго и мне спятить…»
В пятницу Муса-ата привел пожилого человека, который, как оказалось, постучался в его бывшую квартиру на втором этаже. Арслан пригласил стариков в комнату.
— Здравствуйте, Нишан-ака! — обрадовался он гостю. — Как поживаете? Здоровы ли дети, внуки?
— Благодарю, все здоровы. Сам-то как, дружище?
— Да вот… приболел немного, — промолвил Арслан, опустив голову. — Теперь, кажется, дело идет на поправку.
Помолчали.
Муса-ата почувствовал, что гостю и хозяину надо поговорить о чем-то важном, попрощался и вышел.
Нишан-ака, покручивая кончики пушистых усов, улыбнулся. Хоть и неказист был с виду гость, но держался всегда горделиво.
Нишан-ака, не сводя с Арслана глаз, бросил под язык щепотку насвая[29]. Бог не очень позаботился о внешности этого человека. И речь у него нескладная. Он смугл, худощав. Когда облачается в светло-желтый чекмень и повязывается поясным платком, становится похожим на таджика, уроженца местечка Матчо, что в горах Таджикистана.
Арслан уже знает: когда Нишан-ака предается раздумью или чем-то расстроен, он непременно извлекает из внутреннего кармана чекменя красивый пузырек, заменяющий ему табакерку, и, отсыпав на ладонь щепотку насвая, отправляет ее под язык. Затем снимает с головы тюбетейку и без надобности начинает стряхивать с нее пыль, легонько ударяя по ней ладонью. Должно быть, сам он не замечает этого…
В детстве Нишану-ака не довелось учиться грамоте. Но память у него отменная. Если узнал что новое, оно крепко западает ему в голову. Он неразговорчив, вспыльчив и прямолинеен. Если уж кого из махаллинцев не жалует, то и разговаривать с ним вовсе не станет. Таков характер.
Каждый день, возвращаясь с завода, он заходит в махаллинскую чайхану. Любит, не спеша отхлебывая из пиалы специально для него заваренный, крепкий чай, потолковать с приятелями. Те же, кого Нишан-ака недолюбливает, между собой называют его «племянником советской власти», намекая на то, что предки этого человека батрачили на баев, а этот гордец работает нынче на заводе и держится с достоинством.
Прозвище в конце концов коснулось ушей и самого Нишана-ака. Догадался, что это выдумка Мусавата Кари. Но ссориться не стал. Наоборот, даже ухмыльнулся и подумал: «Точно подмечено…» И однажды в чайхане громко, чтобы услышал Мусават Кари, сказал друзьям:
— Выслушайте-ка, что вам скажет племянник советской власти…
Мусават Кари удивленно оглядел присутствующих, точно хотел сказать: «Послушайте-ка, что молвит этот человек!» И, усмехнувшись, произнес:
— Вы больше похожи на Мансура Халаджа. Тот тоже заявил: «Я бог». А его вывели на площадь и повесили.
— Мне это не грозит, — парировал Нишан-ака. — Ибо тех, кто вешал, уж давно развеяли по ветру.
Мусават Кари только подумал: «Вы темные, как телята, и дальше хлева все равно не побежите», — но ничего не сказал, дабы не выйти из границ приличия и ссорой не осрамить себя перед людьми.
— Интересный ты человек, Ульмасбаев! — сказал Нишан-ака. — Чудной какой-то… Лучше меня знаешь, как трудно получить лишний метр жилой площади, и отдаешь свою квартиру, даже глазом не моргнув.
— Потому и отдал, что трудно. Обещал я им — понимаете? — да не смог.
— Но тебе же государство дало жилье!
— А государство — это мы с вами, Нишан-ака.
— Хм! — усмехнулся гость. — А тебе не кажется, что ты вот-вот очутишься за пределами… гм…
Арслан пристально посмотрел на Нишана-ака, у которого подергивался левый глаз, что выдавало его волнение. Можно бы и ответить, но не хочется обижать человека. Безрассудство не одного глупца погубило.
Арслан пожал плечами. Придвинув гостю стул, сказал:
— Садитесь. Сейчас поставлю чай.
— У тебя есть время чаи распивать? — вспылил Нишан-ака.
— А что же делать?.. Я не знаю, что делать, Нишан-ака, — признался Арслан.
— А Кари знает, что делать. Говорят, каждый день там трется. И еще кое-кто из твоих «приятелей» частенько захаживает. Говорят, есть некто, поучающий их… Ведь все они ткут паутину вокруг тебя! А ты что, так и будешь лежать?
— А что вы предлагаете?
— Я ничего не предлагаю. Но знаю, что медлить нельзя! Саидбекову известно обо всем?
— Известно.
— А Барчин? Барчин знает?
— Вряд ли… Я полагаюсь только на добросовестность членов комиссии.
— Как в народе говорят? На бога надейся, а сам не плошай! Надо действовать, Арслан. Ведь ты всегда был полон энергии! В драку лез за свою правду — я же тебя с пеленок знаю. Что же теперь — шпага твоя сломалась или щит продырявлен? Или ослаб, немощен стал? Выкладывай правду! Ты все время был мне как сын. А теперь я за тебя в большем ответе, чем отец, — я дал тебе рекомендацию в партию! Если ты обманул меня, сверну тебе шею, так и знай!
Арслан, сидевший на стуле как провинившийся мальчишка, глубже втянул голову в плечи. Помолчали.
— От Барчин есть вести? — спросил Нишан-ака, немного успокоившись.
Арслан отрицательно покачал головой.
— Она решила… Она не вернется ко мне…
Левая щека Нишана-ака задергалась так, что даже ус запрыгал. Снова воцарилось молчание.
Нишану-ака около шестидесяти. Из них сорок лет жизни он посвятил работе на заводе Ташсельмаш. Еще в те времена, когда в Ташкенте ходила конка, он пришел на этот завод чернорабочим. А нынче известный мастер. В двадцать первом году там же его приняли в партию. Еще в те времена он был ближайшим другом старого литейщика Мирюсуфа, отца Арслана. И вообще все сложилось как-то так — характерами ли сошлись, взглядами ли на жизнь, — что он водил дружбу с дегрезами своей махалли Исраилом, Муслимом, Адылом, прозванным «Варшав» за то, что некогда, еще до революции, проходил военную службу в Варшаве и любил кстати и некстати ввернуть словечко про этот город, Хайитбаем-аксакалом, Ахмадом-палваном[30] и Абдуллой-граммофоном, который откуда-то привез в махаллю чудо-ящик, умевший говорить и петь по-человечески. Взрослые и мальчишки со всей махалли сбегались, помнится, послушать поющий ящик, который хозяин с гордостью именовал граммофоном. К нему и пристала затем кличка.
Арслан улыбнулся, вспомнив историю Ахмада-палвана, о которой долго судачили жители махалли. В те годы окраину Ташкента охватила эпидемия тяжкой болезни, не было, казалось, от нее избавления. Люди метались, теряя сознание от боли в животе, и умирали. Мечети были переполнены народом, молящим аллаха послать людям исцеление. Но всевышний то ли оставался глухим к их просьбам, то ли сам был бессилен перед таким несчастьем, и людей косил мор…
А из Петрограда приехала в ту пору группа врачей. Среди них была красивая молодая женщина. Махаллинцы с почтением называли ее Доктор-апа. И как не почитать, как не боготворить ее, если бог ничего не мог сделать с проклятущей болезнью, а она вылечивала людей, спасала от смерти…
Так вот этот самый Ахмад-палван возьми да и влюбись в эту Доктор-апа. То одного махаллинца просит стать его сватом, то другого. Но никто не соглашается, считая, что Доктор-апа, такая красивая, ученая, только посмеется над ними. Ее всегда видели в белом, как снег, халате, без единого пятнышка. А Ахмад-палван, занятый в своей мастерской литейным делом, всегда ходит в грязной одежде, прожженной искрами. Но Ахмад-палван заявил: «Если не женюсь на ней, покончу с собой. Не нужна мне жизнь без нее!» — «Ну и проклятущий ты человек, точно шейх Санон[31]», — сказали люди и вынуждены были пойти в дом Доктора-апа сватами.
Доктора-апа недаром все считали умнейшей женщиной. За лоснящейся от грязи спецовкой Ахмада она разглядела человека с добрым, отзывчивым сердцем.
Прошло какое-то время, и старики прочитали свадебную молитву, соединили их сердца в вечном союзе…
Услышав голос Нишана-ака, Арслан вздрогнул, словно забыл о его присутствии.
— Что же сказать тебе, друг мой? В такую тяжелую пору рядом должен быть близкий друг. А самый близкий тебе друг — Барчин. Подави в себе гордость, сообщи ей, в какое положение ты попал. Уверен я, она не оставит тебя одного…
Арслан молчал. Может, Нишан-ака и прав. Он и сам больше, чем кто другой, знает, как ему трудно без Барчин. Он все время думает о ней. Хочет заставить себя не думать, но в мыслях вновь и вновь возвращается к своей Барчин. Говорят, человек на смертном одре думает о цветах, воображает сад или полыхающий яркими цветами луг. Так и он не переставая думает о Барчин.
А она? Вспоминает ли она его? Может, и вспоминает, но с негодованием. Он не оправдал ее надежд. Пренебрег ее уговорами, мольбами. Решил настоять на своем, уподобясь валуну, упавшему в русло горной реки. А может ли камень остановить течение воды? Барчин своевольна, как горная речка. Не смог Арслан удержать ее. Ушла она от него. Навсегда ушла…
— Если ты задумался, это хорошо. Славно, когда человек задумывается, и плохо, если ни о чем не думает… Что ж, дружище, думай, хорошенько думай, а я пойду, — сказал Нишан-ака, поднимаясь с места. — Если ты и виноват в чем, все равно не лежи пластом. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Я ни в чем не виноват, — проговорил Арслан, взглянув в упор на Нишана-ака.
— Вижу, твои слова идут от сердца. Спасибо. Я тебе верю. Я пришел, чтобы услышать от тебя это. А то, судя по тому, что ты спрятался и боишься показаться на людях, можно подумать, за тобой и впрямь грех какой-то…
Арслан проводил Нишана-ака до автобусной остановки. Возвращаясь, увидел на балконе второго этажа улыбающихся Бабура и Махсудахон. Они приветливо помахали ему рукой.
Поднимаясь по ступенькам, Арслан подумал о том, что вот уже более недели не подает голоса Зейтуна, секретарь райисполкома. Поначалу-то она звонила, рассказывала, как идут дела, пересылала с курьером письма, телеграммы, поступающие на его имя. Последний раз она ему прислала записку, в которой уведомляла о том, что ему необходимо пойти на завод и повидаться с Нургалиевым. И после этого ни слуху ни духу от нее… Может, Аббасхан Худжаханов запретил?
Однажды, сидя в чайхане, Мусават Кари сказал Махсуму: «Честности цена три копейки. А Аббасхан Худжаханов бывалый и хитрый охотник. Он хочет не какого-то там гуся, а орла подстрелить. И языком попусту не молотит, с умом дела вершит. Сейчас как раз настало время таких высокообразованных людей…» Об этом прослышала среди людей Мадина-хола. Тут же заторопилась домой, поведала сыну. Он вспылил. «Знаете, мама, людям рта не закроешь, — строго сказал он. — У многих ум подчинен языку. Поэтому пусть болтают что хотят. А вы не собирайте этот сор и не носите мне». — «Ладно, пусть будет по-твоему, сынок», — обиженно пролепетала Мадина-хола.
Арслан достал из ящика письменного стола записку Зейтуны:
«Приходили рабочие из литейного цеха, справлялись о вас. Вам необходимо пойти на завод и встретиться с Нургалиевым.
Значит, на родном заводе не забыли его. А он… Сколько времени он не был там?
Пока герой нашего романа находится дома и предается размышлениям, послушайте, что вам расскажет о нем человек, постоянно бывающий в самой гуще людей.
Порой случается так, что в круговороте дел, повседневных хлопот не находишь времени проведать даже родителей. Скучаешь, беспокоишься, но всякий раз откладываешь визит на следующий день. От тоски сжимается сердце, и слух ваш улавливает укоряющий голос матери: «Бренна земля, недолговечна жизнь, надо ценить, детка, привязанность сердца…» И наконец, бросив все, спешишь проведать своих милых, дорогих сердцу стариков…
Вот и я в прошлую субботу, накупив в гастрономе сладостей, в галантерейном выбрав соответствующий возрасту мамы подарок, явился в свой старый дом, где родился, рос. Старушка моя сидела на айване — просторной террасе — и что-то шила. Завидев меня, она отложила работу. Выпростав из-за ушей проволочные дужки, сняла очки и положила их на низенький столик. Просияв вся, быстро поднялась, обняла меня и, похлопывая по спине моей ладонями, молвила: «Наконец-то дождалась я тебя, сынок! Каждый твой приход для меня лучший праздник…»
Я посетовал на занятость, заметив при этом, что она и сама могла бы время от времени приезжать ко мне. На что мать ответила: «Ой, сынок, глаза мои уже видят плохо. Если бы дорога, когда-то заасфальтированная нашим Арсланом, не стала столь ухабиста, и пешком добралась бы до ваших мест и отыскала твой дом. Ко всему мост через Кайковус так и ходит под тобой, едва на него ступишь…» Она призналась, что очень стосковалась по внукам и, если бы я прислал за ней машину, она не прочь пожить недельку в «осиных сотах», как она именовала нашу квартиру в высотном доме. Я напомнил ей, что месяца два назад она смогла всего три дня прожить у нас, а на четвертый настояла отвезти ее к себе. Причем просила ехать не через расшатанный деревянный мост, а через Актепа, где Арслан Ульмасбаев несколько лет назад построил каменный мост.
Мама вскипятила чай, и принесенные мной сладости были очень кстати. Мы просидели вместе более двух часов. Моя старушка осталась очень довольна нашей встречей, тоска ее и обида развеялись, точно туман…
Проводив меня до калитки, она, тихонечко вздохнув, проговорила: «О-о, сынок, некоторые люди и луну считают чумазой, заприметив на ней пятна… — Уловив мой вопросительный взгляд, добавила: — У нашего председателя райисполкома, сказывают, нашли невесть какую ошибку и сняли его с работы. А нам бы лучше иметь бывшего «плохого» председателя, чем нынешнего «хорошего» — Худжаханова…»
Распрощавшись с матерью, я зашагал наискосок через рощу и вышел к берегу Кайковуса. За густой зеленью взору неожиданно открылась чайхана. У самой воды были сколочены из досок сури, покрытые паласом, на которых сидели, услаждая себя чаем, несколько человек. Кто-то меня окликнул: «Эй, уважаемый, пожалуйста, к нам! Выпейте пиалушку чая!» Как бы ни был занят человек, он, по обычаю, не может отказываться от искреннего приглашения. Я подошел, поздоровался с сидящими на сури за руку. Присел на край помоста. Мне подали пиалушку горячего янтарного чая.
Я оглянулся вокруг. Мое детство прошло в этих местах. Здесь я бегал босоногим мальчишкой. Сейчас мне показалось, что речка Кайковус, несшаяся в прежние времена с шумом и ревом, в изобилии снабжавшая водой близлежащие земли, нынче сузилась, притихла. Толстые сваи, на которых держался противоположный край помоста, были вбиты в дно реки, и вода почти полностью скрывала их, чуть не касаясь макушками волн самого помоста. Нынче же эти сваи почти полностью оказались на суше, потрескались от солнца. Да и сама чайхана, когда-то казавшаяся прелестным уголком, нынче была неуютной.
— Вот на этом месте, кажется, был хауз?[32] — спросил я у собеседника, наливавшего мне чаю.
— Да, прекрасный был хауз, — вздохнув, ответил тот.
— Ульмасбаев, бывало, приходил сюда в обеденный перерыв. Поесть плову или самсы, чайком побаловаться, а главное — с людьми побеседовать. Вокруг хауза были расставлены шесть широких сури — помостов с перильцами. Знали бы вы, как приятно было здесь посидеть вечером, послушать соловьев, облюбовавших эту таловую рощу для гнезд. Да и певцы из самодеятельности нередко жаловали сюда, пели под аккомпанемент рубабов и дойры… А нынче видите, что творится… Эх, нет хорошего хозяина! Если нет присмотра, цветущий сад в пустыню может обратиться, братишка… Хауз никто не чистил, вода в нем позеленела, заросла тиной и стала распространять смрад. Его и закопали… Что поделаешь, если люди не ценят того, что имеют, и вкус к красоте утеряли… Вот если был бы здоров председатель райисполкома, дело совсем бы по-другому обернулось…
Сегодня я уже вторично слышал об этом человеке. Когда мать хвалила прежнего председателя и укоряла нового, я решил было, что старушка чего-то недопонимает, показалось ей что-то не так, вот и честит нынешнего. Но этот пожилой человек, борода которого уже наполовину поседела, мне говорит о том же.
Пока мы осушали чайник, мой новый знакомый поведал мне об одной встрече Ахунбабаева, первого президента нашей республики, с некоей личностью, ищущей выгодную должность.
Давно то было. Ата[33], как называли Ахунбабаева простые люди, ходил по хлопковым полям, осматривая посевы. Устав, завернул в нашу чайхану — отдохнуть в прохладной тени вот этого карагача. А человек тот, тщедушный такой, с приплюснутым носом, тут как тут. Давно, видно, искал этой встречи, чтобы выпросить себе выгодную должность. Подсел к Ата, в пиалушку его налил чаю и между делом обращается к нему:
«Я работал там-то тем-то, а меня освободили. Пусть простят на этот раз и восстановят…»
А Ата и спрашивает:
«Кто посадил вот этот карагач?»
«Его в стародавние времена посадил некий Амин-бува, ныне уже покойный», — ответствовал тот.
«А кто вырыл хауз?»
«Дехканин Аликул-ата».
«А что оставите вы после себя? Хоть бы бревнышко положили поперек арыка, чтобы люди могли перейти!»
Человек молча уставился в землю.
«Выходит, справедливо отстранили вас от должности, — продолжал Ата. — Чин украшает человека, который служит людям».
— Что вы на это скажете? — обратился ко мне мой собеседник и, не дождавшись вразумительного ответа, отрезал: — Ульмасбаев как раз служил людям!..
В минувшую пятницу меня оповестили, что в нашей махалле, где прожили свой век все мои предки, умер старик Кулмат-бува, и тело будут выносить в два часа пополудни. Оставив все дела, я поспешил на похороны. Пронеся какое-то расстояние на плечах гроб в коем лежал бува, не доживший трех лет до девяноста каждый исполнил свой человеческий долг. Кладбище было обнесено кирпичным забором. Для тех, кто посещает могилы своих близких, были построены навесы, где они могли спрятаться от палящего солнца и предаваться воспоминаниям о покойном. Еще на моей памяти неприглядный вид этого кладбища. Некогда оно было сплошь заросшее янтаком — колючим кустарником, среди которого водились шакалы и дикие кошки. Люди, чуть стемнеет, боялись проходить мимо этого кладбища. А нынче оно похоже на ухоженный сад. Дорожки посыпаны песком, по краям их посажены цветы. И тут люди, разговаривая, вспомнили председателя райисполкома Арслана Ульмасбаева. Оказывается, по его личной инициативе кладбищу был придан надлежащий вид…
Порой случается, что лицом к лицу встречаешься с человеком, о котором только что подумал. Или неожиданно вспоминаешь давным-давно забытые имена. Случайно ли это?
Нет, не случайно.
В одном из писем, поступивших в нашу редакцию, мать джигита, погибшего на фронте, жаловалась на бездушие некоторых людей. Она давно подала в райисполком заявление с просьбой отремонтировать дом, но до сих пор ничего не добилась. «Работал бы сейчас наш Арслан Ульмасбаев, давным-давно все было бы сделано и душа моя бы успокоилась», — писала старуха.
И когда я бываю в тех местах, где родился, рос, куда ни повернусь, всюду слышу это имя.
Можно только дивиться!
Недавно на банкете я повстречал своего старого знакомого. Узнав, что он, хотя давно уже ему перевалило за шестьдесят, до сих пор не может оформить документов на пенсию, я упрекнул его в лени. Мой знакомый грустно покачал головой. «Был бы сейчас на месте Ульмасбаев, зашел бы я к нему и оформил все без всяких проволочек. А к нынешнему председателю ведь труднее попасть, чем к министру. Весь день можешь просидеть в приемной, а он еще и не примет», — сказал он. Потом усмехнулся и рассказал о происшествии, приключившемся недавно в приемной райисполкома. Председатель, как сказала девушка-секретарь, был очень занят и часа два никого не принимал. Собралось полно людей, желающих попасть к нему. Один старик, думая скоротать время, изливал перед сидящими душу:
— В нынешние времена хаузы в нашем городе нужны не для того, чтобы в них собирать питьевую воду. Нам и водопроводов хватает. Но хаузы, согласитесь, смягчали климат нашего города, благотворно влияли на рост деревьев, а мы, люди, находили возле них прохладу. А тут какой-то чинуша, занимающий высокий пост, порешил, что, дескать, коль имеем водопровод, ни к чему нам хаузы, распорядился их закопать. Осталось плодовые сады порушить… Вы строите, много строите — это хорошо! Эх, неразумные, строите-то вы, нередко разрушая то, что уже есть. Строили бы вы на свободных местах — вот тогда я восхищался бы вами!..
Пока старик разглагольствовал, в приемной появился молодой человек в шляпе, с холеным лицом, одетый с иголочки. В руках он держал желтый кожаный портфель. Даже не взглянув на сидящих, он приблизился к девушке-секретарю и, кивнув на дверь, спросил:
— У себя?
— Да, — ответила та.
Высокомерно прошагав по ковровой дорожке, он отворил обитую дерматином дверь и исчез в кабинете. Люди переглянулись. Старик умолк на полуслове. Именно он должен был сейчас зайти по очереди. Потом, отставив палку, на которую опирался подбородком, он спросил у секретаря:
— Доченька, кто этот почтенный?
— Доцент, — услышал он в ответ.
— Жаль, жаль! — проговорил с сожалением старик. — Он получил знания, но остался невоспитанным. Одно дело — образованность, другое — благонравие. Когда в человеке сочетаются и то, и другое, тогда он по-настоящему просвещенный. Что вы на это скажете?.. Был бы сейчас Ульмасбаев, он бы меня принял, старика…
Словом, куда бы ни шел я, меня всюду незримо сопровождал герой моего романа. Казалось, нет места, куда бы не ступала его нога.
Один многодетный ахун[34], кочующий из города в город вместе со своим семейством, обычно ютился у тех, кто, сжалившись, пускал его на время в свой дом. Получив же квартиру, он останавливал прохожих на улице и, вне себя от радости, кричал: «Вот Арслан-ака дал мне родину! Теперь я отсюда ни на шаг!..»
Люди, видевшие Ульмасбаева накануне его ухода с работы, говорят, что в последнее время он стал несколько нервным. А также говорят, что в этом не последнюю роль сыграл кое-кто из окружавших его личностей, которые науськивали на него других — «заинтересованных», «недовольных», — сами стараясь оставаться в тени. Кто-то слышал, как он в сердцах говорил кому-то по телефону: «Я думал, что вы просто равнодушны ко всему. Оказывается, вы далеко не такой, когда дело касается ваших личных интересов! Вы же знаете, что я не выношу лицемеров!..»
Иду я сейчас по той части города, где совсем недавно лепились одна к другой глиняные мазанки, и взор мой любуется многоэтажными домами, молодыми, недавно разбитыми скверами, красивыми фонтанами на площадях. В гуще цветника я увидел сунбул. Этот цветок растет в равнинных местах, открытых солнцу. Распускается он ранней весной и буйно идет в рост. Живет он семь-восемь лет и цветет всего один раз — в последний год своей жизни.
Почему-то этот цветок мне напомнил Арслана.
Глава вторая ФОРТУНА
Весна. Взбухли почки на ветвях алычи, зацвели урючины, трава в газонах светло-зеленая, как бархат. Небо ярко-голубое, ни облачка на нем. Во всем приметно пробуждение природы. Разве усидишь в такую пору дома? Но Аббасхан Худжаханов сегодня еще не выходил во двор. Сидит неподвижно, потонув в мягком кресле, обшитом красным плюшем, погружен в невеселые раздумья. Застекленная просторная веранда полна солнечного света. А на душе — мрак. Пора бы на службу, но жена с утра уехала на машине в магазин и все еще не вернулась. Какая-то непонятная тревога болью отдавалась в сердце. Стараясь отвлечься, Худжаханов устремляет тяжелый взгляд на молодую зелень деревьев, едва развернувших свои клейкие листочки, на шумливых ребятишек, резвящихся во дворе, на парящих высоко в поднебесье птиц. «Вот и весна пришла. Потом — лето… Старики сказывают, будто сережки тополей, коим суждено осыпаться, говорят между собой: «Если на твердую землю падем, ребрышки себе сломаем, — хорошо бы упасть на мягкий, пушистый снежок». Но тогда не родить плодов деревьям, которые уже зацвели… Нет, пусть сережки тополей падут на землю», — думает Худжаханов.
Его пронизывает, заставив вздрогнуть, мысль о том, что и на работе у него то же самое. Вот отчего тревога в сердце — от неуверенности. Его предшественник еще может вернуться. «Лишь бы сережки тополей пали на землю! Лишь бы на землю…» — шепчет Худжаханов. Руки бессознательно гладят чехол на подлокотниках кресла. Чехол этот сшила его первая жена. Да и кресло это они ходили покупать вместе. Впрочем, здесь все напоминает о ней. И дом этот был отстроен в то время, когда они дружно жили. И веранду он пристроил и застеклил тогда. И этот ныне цветущий сад был посажен при ней…
Шум автомобиля, остановившегося у ворот, прервал его мысли.
Худжаханов быстро поднялся и, попрощавшись со старшей дочерью, прибиравшейся в комнате, вышел на улицу. Шофер распахнул перед ним дверцу и, не дожидаясь, пока ему сделают замечание за опоздание, затараторил:
— Я несколько раз напоминал, что вы в одиннадцать должны быть на работе, а жена ваша все не выходила из магазина. Потом попросила отвезти в ювелирный, потом — на работу…
Худжаханов промолчал. Сев на заднее сиденье, захлопнул дверцу.
…Совещание, намеченное на одиннадцать, началось на час позже. Во время совещания, несмотря на то что он предупредил секретаря не впускать к нему никого и не подключать телефон, она заглянула в дверь, знаками объяснив, что ему обязательно надо снять трубку.
Послышался звонкий голос жены:
— Милый, раздобудьте где-нибудь четыреста рублей. В ювелирном я видела колечко с бриллиантовым глазком, точь-в-точь как у моей подруги Шахзадахон! Вы меня слышите?.. Ну что вы молчите, как в рот воды набрали? Ведь вы же обещали!
— Идет собрание исполкома, — с расстановкой проговорил Худжаханов, стараясь скрыть раздражение. — Вам все понятно?
— Исполком, исполком… Не забудьте про деньги!
Худжаханов положил трубку. Он был бледен и растерян. Хотелось, чтобы собравшиеся не поняли, чем он расстроен. Однако взгляды присутствующих были устремлены на него, и по насмешливым улыбкам он понял, что большинство знает, почему у него испортилось настроение.
Совещание закончилось до обеденного перерыва. Сотрудники и председатели махаллинских Советов разошлись. И по обыкновению секретарь принесла чайник свежезаваренного чая. Взяв со стола пиалушки, помыла их и принесла обратно.
— Нет ли у вас валидола? — спросил он у нее. — Сердце что-то покалывает.
— Сейчас раздобуду. У Зейтуны, кажется, был.
Она выбежала из кабинета, вскоре вернулась с таблеткой.
— Пожалуйста, в течение часа пусть никто ко мне не заходит.
— Хорошо. Как раз скоро обеденный перерыв. Никто и не зайдет.
— Ульмасбаев все еще болен? Или ему лучше? — справился Худжаханов. — Что говорит Зейтуна?
— Арслану Мирюсуфовичу, кажется, опять стало хуже.
— Хм! — усмехнулся Аббасхан Худжаханов. — А по-моему, он совершенно здоров. Хитрит только.
Сунув под язык таблетку, он опустился в кресло и подпер щеки руками. Секретарь, ступая на цыпочки, удалилась.
Опять перед глазами предстала Рихсиниса, первая жена. Душа у нее была чиста, как воздух широкого, раздольного поля, она никогда не опускалась до мелочных разговоров и не терпела сплетен. Не умея красиво и много говорить, она в минуты гнева молчала, замыкалась в себе. А у нее немало было поводов расстраиваться, гневаться на мужа…
Нарядами Рихсиниса не интересовалась. Наденет, бывало, простенькое платьице, засучит рукава и весь день вертится, как белка в колесе, — стирает, прибирает, готовит. Работящая была женщина, никогда не знала покоя. Она была покорна мужу, была к нему внимательна и охотно ухаживала за ним. Ни разу не отпустила она своего Аббасхана на работу в несвежей сорочке. Потому ли, что, потеряв в войну отца, она не видела отцовской ласки, а может, следовала строгим наставлениям матери, — перед мужем она благоговела.
Дети у них росли здоровыми. Аббасхан вскоре окончил институт и стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Рихсиниса, справедливо считая, что в благоденствии их семьи и ее немалая доля, чувствовала себя чрезвычайно счастливой. И не будь у нее разладов с родичами Аббасхана, была бы на верху блаженства. Но спесивые тетушки мужа, посмеиваясь над простодушной кишлачной женщиной, бывало, говаривали: «Кто твой отец? Тыквенная башка! А кто твоя мать? Брови как лапша!»
Рихсиниса старалась не обращать на них внимания. Однажды, когда ее упрекнули в дехканском происхождении, она горделиво выпрямилась и сказала: «Коль разрешили бы в городе держать коров, завела бы двух буренок, и было бы в доме вдоволь молока и сливок. А вы что умеете, кроме как наряжаться да лясы точить?»
Женщины, не ожидавшие от нее такой дерзости, изумились, а потом принялись хохотать, задорно хлопая по своим жирным ляжкам ладонями. «Как бы она не залепила все вокруг кизяками! — приговаривали они. — Неужели не нашлось для нашего ученого красавца-племянника девушки покультурнее?»
Родичи между собой называли невестку «темнота». Кое-кто иногда пробовал вступиться за нее, говоря: «Эх, милые, хоть и темнота, а тоже человек. Не нападайте на нее, бедняжку, не гневите аллаха. Должно же иногда в жизни везти и темным, неухоженным девкам».
Слова эти дошли и до Аббасхана Худжаханова. Рихсиниса, занятая хлопотами по дому, никогда не употребляла всякую там косметику, без которой не обходились его тетушки. Однажды, побывав в Москве, он привез ей дорогие духи. Рихсиниса была очень довольна. Но скоро она забыла про них. И тут рассерженный Аббасхан сказал ей:
— Эй, мать, от тебя пахнет выменем коровы! Для чего я тебе духи купил? Пользуйся. Ведь ты, кажется, женщина!..
Слова мужа больно ранили Рихсинису. Она уединилась в одной из комнат и долго сидела там, прижав к груди ребенка. И на второй день не разговаривала с мужем. А потом, поразмыслив, поняла, что, советуя пользоваться духами, муж ведь не желает ей ничего худого. Просто хочет, чтобы его жена была не хуже других женщин. И в тот же день ко времени возвращения мужа с работы она заплела толстую косу и красиво уложила ее вокруг головы, подвела брови и ресницы. Надев свое любимое платье из хонатласа, стала дожидаться мужа. Даже надела на палец золотой перстенек. И стала такой красивой!..
Особенно были рады дети, увидев мать красиво одетой, помолодевшей. Они прыгали вокруг нее, резвились, щупали ее платье руками, словно не верили, что это их мать.
— Ну вот, видишь, оказывается, и ты у меня красивая, — с улыбкой сказал Аббасхан, возвратись с работы.
— Зато я не успела приготовить ужин, и будем довольствоваться чаем, — нарочито весело сказала Рихсиниса.
Опять на лицо Аббасхана набежала тень. Но жена обняла его и поцеловала в щеку. И как рукой сняло обиду…
Дети выросли. Аббасхан занимал ответственную должность, стал почитаемым в городе человеком. В доме у него теперь частенько собирались друзья. Старый отцовский дом с двумя комнатенками и земляным полом, застланным циновками, теперь казался тесным и неуютным. Муж и жена посоветовались и решили взять участок и построить дом. Рихсиниса с радостью приняла это предложение мужа. Но сестры мужа и тетушки, проведав об этом, страшно рассердились. Перестали разговаривать с Рихсинисой, только злобно ворчали, проходя мимо нее.
— Вы только поглядите, какой номер выкинула эта лохматая девка, — говорили они. — Отбирает сына у отца, разлучает брата с сестрами — решила отделиться от нас!
Одна из тетушек Аббасхана громко, чтобы услышала Рихсиниса, сказала:
— Мы ее считали темной, а она, оказывается, себе на уме была все это время. Ой, как горько мне, что племянничек мой лучшие свои годы губит с такой шельмой! А за него ведь не один почтенный в округе, высокородный человек пожелал бы выдать свою дочь…
Бедная Рихсиниса молча сносила все обиды, чтобы не давать родичам мужа повода еще больше распускать языки. И стала торопить Аббасхана с получением участка.
Наконец им выделили участок в стороне Аклана, в одном из самых красивых мест пригорода. И жена, можно сказать, сама возглавила строительство. Только теперь Аббасхан Худжаханов начал понимать, почему жена проявила столько рвения. Сама наняла рабочих, которые сделали из глины кирпичи, сама раздобыла доски, балки, шифер, рамы. Продала, не пожалела, три нитки своего жемчуга, некоторые свои золотые украшения, доставшиеся ей от матери.
Пока дом строился, они обнесли двор изгородью, из досок и фанеры сколотили времянку и все лето прожили в ней. Иногда, если выпадало свободное время, Рихсиниса усаживала на коврике в тени детишек, а сама принималась помогать мастерам — таскала кирпичи, подавала в ведрах глину.
К концу осени они соорудили крышу, оштукатурили стены, застеклили окна, благо погода была теплая. Перед самыми заморозками вселились в новый дом, еще не побеленный. Всю зиму продолжались работы, и они ютились в одной маленькой комнатке. Постепенно настелили пол, покрасили его, провели электричество. День ото дня их дом становился все удобнее и привлекательнее. Рихсиниса не могла наглядеться на него и нарадоваться. Весной сама посадила во дворе яблони, абрикосы, вишни, и вскоре зазеленел молодой садик, взращенный ее руками.
Муж часто навещал родных, но те за два года ни разу не удосужились побывать у них. Столь велика была их обида на Рихсинису, они и видеть теперь ее не желали.
Аббасхана Худжаханова опять повысили в должности. Каждое утро за ним приезжала легковая машина и отвозила его на работу. Теперь даже близкие знакомые, друзья, повстречав на улице, величали его по имени и отчеству — Аббасхан Тураевич — и склоняли голову в поклоне. На тоях обычно его усаживали на самое почетное место и всегда поручали произнести первый тост.
Аббасхан Тураевич, казалось, доволен был и домом, и работой. Но, как говорится, пути господни неисповедимы. Однажды, посетив своего друга, он увидел в приемной у него молодую женщину, которая на машинке перепечатывала какие-то бумаги. Она была прекрасна! Перестав печатать, она сверкнула черными, как виноград чараз, глазами и вопросительно приподняла брови.
Аббасхан так и застыл посреди комнаты, глядя на нее. Потом не совсем членораздельно объяснил, что ее начальник, его друг, ждет его.
Девушка приветливо улыбнулась, не сводя с посетителя глаз. Догадавшись, какое произвела на него впечатление, разрешила пройти в кабинет шефа.
Долго потом Аббасхан Тураевич не мог решиться ей позвонить. Несколько раз снимал трубку, но в последний момент не хватало духу, и он снова опускал трубку на место. И наконец решился. Услыхав ее мелодичный грудной голос, он в первое мгновение забыл, что, собственно, собирался сказать. И был одновременно удивлен и обрадован, когда она согласилась с ним встретиться…
После этого они встречались часто. Иногда Латофат звонила сама и томным голосом сообщала, что очень соскучилась и у нее не хватает терпения дождаться того дня, когда они должны увидеться. Рихсиниса в то время была беременна. Сердце ее чувствовало что-то неладное. Она мучилась подозрениями, но не решалась ни о чем спросить мужа, боясь его обидеть. Но сердце есть сердце, оно изнывало от недоброго предчувствия.
Рихсиниса благополучно родила. У них появилась еще одна дочь. Но вскоре после родов Рихсиниса слегла, — видно, надорвалась во время строительства. Из кишлака приехали ее старики, чтобы присмотреть за больной дочерью.
Аббасхан обычно по служебному телефону вызывал на дом врача, а после работы ехал на свидание к Латофатхон. Домой возвращался за полночь, а то и вовсе не приезжал. Нередко утром от Латофатхон ехал прямо на работу…
К болезни Рихсинисы прибавились еще и душевные муки. Ничто теперь не радовало ее — ни великолепный дом, ни ковры, которыми были обвешаны все стоны и устланы полы. Она чувствовала себя цветком, подрезанным под корень и поставленным в красивую вазу. И, как цветок, она медленно увядала.
В день похорон Аббасхан был безутешен. А спустя три месяца привел в дом Латофатхон. С приходом в дом новой жены расходы увеличились значительно. Очень любила Латофатхон наряды. А семья все-таки немалая, на одну зарплату не проживешь, хоть и получал Аббасхан каждый месяц солидную сумму. Приезжали к нему из колхозов председатели, агрономы, районные ветеринары, инженеры сельхозтехники. И у всех какие-то просьбы. Не жалел себя Худжаханов, всех ублажал. И они благодарили. А как же иначе: ты делаешь добро — и тебе платят тем же. Но в своем же коллективе, черт бы их побрал, нашлись завистники, которые повернули дело так, что его, Аббасхана Худжаханова, понизили в должности. Но, кажется, скоро снова фортуна улыбнется Худжаханову: не сегодня-завтра станет он председателем. Ульмасбаев над пропастью — надо только чуть-чуть подтолкнуть. А там уж Худжаханова не остановишь, он быстро зашагает по должностным ступенькам вверх…
…Аббасхан Тураевич, погруженный в раздумья, сидел в кресле, держась левой рукой за сердце. Он даже не заметил, как в кабинет вошла секретарь. Приблизившись, она негромко сказала:
— Аббасхан Тураевич, в приемной собралось много народу. Вы будете сегодня принимать?
Худжаханов устало провел по лицу ладонью и недовольно произнес:
— Приглашайте…
Вечером вернулся он домой в плохом настроении. Не раздобыл денег, которые просила Латофатхон.
Едва вышел из машины и перешагнул порог калитки, на веранде появилась улыбающаяся Латофат. Помахав рукой, она вопросительно кивнула, что означало: «Привезли, что я просила?»
Аббасхан Тураевич отрицательно покачал головой и опустил глаза. Улыбка на лице жены исчезла, брови ее грозно сошлись над переносицей. Она постояла минуту, уперев руки в бока, сверля благоверного взглядом, и, резко повернувшись, исчезла во внутренних покоях.
Это не укрылось от внимания детей. Предчувствуя ссору между отцом и мачехой, они переглядывались с тревогой.
Аббасхан Тураевич умылся, позвал детей к столу и поужинал вместе с ними. Латофатхон не вышла из своей комнаты. Утром она нарядилась и ушла на работу.
Когда случались ссоры с женой, Аббасхан Тураевич не мог спокойно работать. Вот и сейчас, не выдержав, из райисполкома позвонил ей на службу. Сказали, что она еще не пришла. Он насторожился. Тут же вспомнилось, как однажды, ехидно улыбаясь, ему сказали: «Только что видели вашу жену. Шла с симпатичным молодым человеком. Усатенький такой… Хи-хи-хи!..» Он приказал секретарю никого к нему не впускать и принялся названивать Латофатхон. Лишь в половине двенадцатого она подошла к телефону. Сухо сказала, что встретила подругу и задержалась с ней. Потом злобно добавила: «И не надо мне устраивать проверки!..»
Вечером, вернувшись домой, Аббасхан Тураевич внимательнее, чем всегда, посмотрел на жену. Она показалась ему похудевшей. Вокруг глаз пролегли тени. В томных движениях была заметна усталость. Уловив его изучающий взгляд, Латофатхон заставила себя улыбнуться и спросила:
— Принести вам что-нибудь поесть?
— Благодарю, я сыт.
Аббасхан Тураевич стоял на веранде и нетерпеливо поглядывал на часы. Машина задерживалась. Солнце уже высоко поднялось над землей.
В калитку постучали. Не успел хозяин ответить, во двор вошел всеми уважаемый в махалле аксакал Нишан-ака.
— Ассалам алейкум! Хорошо, что я вас застал. Боялся, что вы уже ушли на работу, — сказал он, приближаясь быстрыми шагами. — Много времени у вас не отниму. Минут пять, не более…
— Алейкум ассалам! Пожалуйста, Нишан-ака, проходите, — приветствовал гостя Аббасхан Тураевич и, крепко пожав ему руку, жестом указал на один из стульев около стола: — Прошу сюда.
Заглянув в комнату, попросил старшую дочь заварить свежий чай и расстелить дастархан. Хатира всем выдалась в покойную мать — и радушием, и проворством. И внешне она была похожа на нее, такая же миловидная.
Прошла минута, и дастархан был расстелен. Хозяин и гость пили чай и тихо беседовали.
Через полчаса Хатира принесла горячую самсу — хрустящие пирожки, испеченные в тандыре. Отец сидел мрачнее тучи. Заметив, что мешает разговору, она поспешно вышла.
— Вы возьмите себя в руки, — тихо продолжал Нишан-ака. — Я сказал вам, чтобы вы узнали об этом не последним, когда будет поздно что-либо менять. У вас дети, им нужна добрая, внимательная мать…
— Когда-то моя Рихсиниса говорила мне: «Ты мое счастье!» Не дал я ей никакого счастья, — сдавленным голосом проговорил Аббасхан Тураевич. — Это я не ценил своего счастья. Я потерял ее. Нет теперь у меня счастья… Все это, — хозяин обвел вокруг рукой, — создала она. Достаток в доме был благодаря ей. А эта начинает крушить все с краешка… Не знаю, как мне быть, что делать, Нишан-ака.
— Я понимаю, что нельзя вмешиваться в чужие семейные дела. Но мы живем в одной махалле и должны беречь честь друг друга. Смотрите, чтобы она вас не ославила. Вы же мужчина.
Аббасхан Тураевич тяжело вздохнул. В какой бы угол двора он ни взглянул, всюду ему виделась Рихсиниса. Вдруг он явственно услышал ее голос… Ах, да это же Хатира успокаивает разыгравшихся братьев и сестричку!
— Братец, слышал я, что вы недавно проведали Арслана Ульмасбаева, — осторожно заговорил Нишан-ака, устремив на собеседника пытливый взгляд. — Как он себя чувствует?.. Вы правильно поступили. Люди, родившиеся и выросшие в одной махалле, должны заботиться друг о дружке. Скоро ли он выйдет на работу? Все-таки… райисполком без председателя…
— Лаббай? — перебил Аббасхан Тураевич гостя, вздрогнув, будто его окатили ушатом холодной воды. — Что вы изволили сказать?.. Я и не думал его проведывать!.. Слышал я, что он продавал квартиру, предоставленную ему государством, и живет сейчас на эти деньги. Распущенный он человек. Жену выгнал из дома… Вы знаете его жену?..
— Знаю.
— Дочь покойного Хумаюна Саидбекова, которого вся республика знала. Наш секретарь горкома партии Марат Саидбеков ее брат. И такого человека выгнать!
— Дело-то обстоит совсем не так…
— Когда мне рассказали про такое, я ушам своим не поверил! До чего же может опуститься человек! Немало и другого мне порассказали о нем. Вы, Нишан-ака, не очень-то похаживайте к нему, поберегите свой авторитет. Вы же рабочий человек, старый член партии. А о нем со временем мы еще многое узнаем…
— Что именно?
— Такое, от чего другой бы постеснялся знакомым в глаза смотреть.
— Кто вам наговорил всякую чушь? — вспылил Нишан-ака.
— Э-э, дорогой мой человек, не будьте простаком. Комиссия-то недаром работает.
— Клевета все это!
— Что клевета?
— Все! И то, что «мы узнаем»!
— Я сказал, что слышал. А если это клевета, подите докажите.
— Кому доказывать-то? — почти закричал Нишан-ака.
— Комиссии, разумеется.
— Надо будет — докажу! Я думал, братишка Худжаханов, вы еще не совсем утеряли совесть, и по простоте душевной беспокоился о вашей чести. А честь-то свою вы, оказывается, давно потеряли… В народе говорят: «Ничто не проходит бесследно». Так что зря вы в такие дни покинули его, зря!..
Аббасхан Тураевич сидел, облокотившись о стол и обхватив голову руками. Он не проронил более ни слова, хотя упреки Нишана-ака крепко задели его. Теперь он желал одного — чтобы его гость поскорее ушел. Другого, может, обругал бы и даже выгнал, а этого нельзя. Все в махалле его уважают. Все на его стороне будут. Оскорби он аксакала, с ним, Аббасханом Тураевичем Худжахановым, никто в махалле и здороваться не будет. Да и на заводе, где он работает более четверти века, у него все друзья. Нет, лучше поостеречься.
Нишан-ака встал и вышел из-за стола. Хозяин не пошевелился. Он не пошел, как положено, проводить гостя до калитки. Это сделала дочка.
Нишан-ака вышел на улицу и затворил за собой калитку.
Почти тотчас послышался сигнал автомобиля. Аббасхан Тураевич усмехнулся и проговорил вслух:
— Но в народе еще и так говорят: «С должностным лицом поспоришь — беду на себя накличешь». Я тебе припомню это!
Едва Худжаханов ввалился в кабину, шофер начал объяснить, что в пути у него испортилась машина. Худжаханов махнул рукой:
— Поехали!
Глава третья ПЛОДАМ ПРЕДШЕСТВУЮТ ЦВЕТЫ
О чем только не думает человек, оставшись один. А тем более — если он пребывает в одиночестве третий месяц.
Перед глазами Арслана прошла вся его жизнь.
…Была ранняя весна 1939 года. Все чаще, разрывая сырой полог туч, выглядывало и щедро пригревало землю солнце. На обочинах дорог дотаивали грязные сугробы. От них разбегались и впитывались в землю ручейки. Одинокая ворона сидела на макушке тополя и каркала: кар, кар![35] Но мальчишки швырнули в нее камень и прогнали прочь злую провозвестницу. Она перелетала с тополя на шелковицу, с шелковицы на орешину и, озираясь вокруг, вторила свое кар-кар. Видя, что не в силах остановить природу, она нырнула вниз с купола мечети и, едва не коснувшись грудью мокрой земли, взмыла снова и унеслась в неведомую даль.
…В одну из суббот июня в педагогическом институте распространился слух о том, что все студенты, кроме выпускников, отправятся на строительство Каттакурганского водохранилища.
В коридоре у доски объявлений собрались студенты. Арслан протиснулся между ними и увидел большой лист ватмана, исписанный крупными красными буквами.
Когда третьекурсники сидели в ожидании преподавателя, в аудитории появился недавно избранный секретарем комсомольской организации института худенький, невысокий паренек Бурхан. Он объявил, что в понедельник все должны явиться с необходимыми вещами и что они выезжают на полтора месяца на стройку.
Предстоящая дорога, поездка в поезде, работа на крупном строительстве, о котором писали в последнее время все газеты республики, ежедневно говорили по радио, привела Арслана в неописуемый восторг. Теперь надо подумать о том, что он возьмет с собой. Одеяло, чехол для матраца — там набьет его соломой. Кружку, ложку и алюминиевую миску. А еще он непременно захватит с собой томик стихов Лермонтова и толстую тетрадку в коленкоровой обложке, куда он записывает собственные стихи, афоризмы, высказывания великих людей. Да, как бы не забыть свой любимый маленький кинжальчик с костяной инкрустированной ручкой…
Для Арслана, не выезжавшего никуда далее окраин Ташкента, поездка на стройку Каттакурганского водохранилища была великим событием, представлялась ему чем-то необыкновенным. В те годы по всей стране гремела слава героев, покоряющих Северный полюс. Отважные летчики спасли челюскинцев, папанинцы высадились на дрейфующей льдине, Чкалов с экипажем перелетел через Северный полюс в Америку. И комсомолец Арслан Ульмасбаев горел желанием хоть чем-то походить на овеянных славой героев.
Собрались в просторном конференц-зале. Перед студентами с краткой речью выступил директор института. Он упомянул, какие великие стройки развернулись в настоящее время в нашей стране, рассказал о значении будущего водохранилища для нашей хлопкосеющей республики и призвал студентов к трудовым победам.
Затем выступили преподаватели и студенты старших курсов. А поэт Зафар Дияр прочитал несколько своих стихотворений. Арслан, с трудом протиснувшийся в зал, стоял сжатый со всех сторон и с волнением внимал каждому слову поэта. Строчку из его стихотворения: «В скромности сокрыто совершенство, в спеси прячется порок…» — Арслан записал в свою тетрадку.
Слово взяла студентка русской группы Елена Стемповская. Арслан давно симпатизировал этой девушке, а потом они подружились. Елена учила Арслана русскому языку, а Арслан учил ее разговаривать по-узбекски. Он даже написал стихотворение «Елене Стемповской» и поместил его в стенной газете. Елена прыгала от радости и даже, обняв его, поцеловала в щеку.
Узнав, что Арслан пишет стихи, Елена подарила ему книги Тютчева, Байрона и Лермонтова. Вручила со словами: «Пусть они будут твоими учителями».
По узбекскому обычаю полагается, получив подарок, ответить тем же. Арслан долго думал, что подарить Елене. В один из дней он принес ей вышитую сестрой красивую тюбетейку и на перемене, когда Елена разговаривала с подругами, надел ей на голову.
Арслан и Елена дружили давно. Но ни разу нигде не были вдвоем. Наконец он решился пригласить ее в кино. Вечером они встретились у кинотеатра «Хива» и пошли на кинофильм «Если завтра война…». Провожая девушку домой, он хотел поцеловать ее, но она обиделась. Сказав, чтобы он дальше ее не провожал, она ушла не попрощавшись. Арслан долго стоял на месте смущенный…
Студенты, одетые по-дорожному, собрались во дворе института. Они разделились на группы и ждали машин, которые должны были везти их на вокзал. Арслан с товарищами сидел на мешках и пил горячий чай, наливая из термоса. В группе девушек, проходящих мимо, он увидел Елену. Передал термос Захиди и, вскочив, окликнул девушку. Они поздоровались. Арслан, не глядя ей в лицо, спросил:
— Ты на меня все еще сердишься?
— Ну что ты! — сказала Елена и засмеялась. — Мы еще не ссорились.
Они постояли молча. Потом Елена спохватилась, будто о чем-то вспомнила, пожелала ему счастливого пути и заспешила к дожидавшимся ее в сторонке подружкам.
Арслан смотрел ей вслед, пока она не затерялась среди пестрой толпы студентов.
Машины доставили их на вокзал как раз к поезду. Молодые строители ехали в Каттакурган. Каких-нибудь два-три месяца назад Арслан не знал о существовании такого города в его краю. А теперь вряд ли найдется в республике человек, не слыхавший о строительстве огромного водохранилища около Каттакургана.
За окном мелькали огни полустанков, за которыми угадывался необъятный простор неосвоенных земель. Сколько еще надо провести каналов, соорудить водохранилищ, чтобы оживить эти места…
Ребята пели песни, резались в карты, рассказывали анекдоты. Далеко за полночь их сморил сон. Были заняты все полки. Даже самые верхние, предназначенные для чемоданов. Место себе Арслан отыскал с трудом. Вскарабкавшись наверх, сдвинул на край чьи-то узлы, бросил телогрейку, лег на нее и скоро уснул, убаюканный мерным постукиванием колес.
Арслану показалось, что он только что уснул, что и минуты не прошло, как он закрыл глаза, и вдруг резкий голос: «Подъезжаем! Подъ-ем!..» — заставил его вскочить. В окна смотрелось розовое небо. За песчаными барханами вставало солнце.
Ребята сползали со своих полок, собирали вещи. Через несколько минут поезд подкатил к станции Каттакурган. Студенты высыпали из вагонов на перрон.
Встретивший их представитель штаба строительства, взобравшись на высокую двухколесную арбу, произнес короткую речь. Он объявил, что студентам Ташкентского пединститута предстоит работать на Янгикурганском участке. Прибывшие отправились на свой участок пешком, погрузив вещи на специально присланные арбы и на ослов.
От Каттакургана к кишлаку два пути: дорога переваливала через пологий холм и тянулась степью, а берегом реки извивалась тропка. Прибывших строителей повели по дороге. Ноги проваливались в мягкую пыль. Погромыхивали арбы, перекликались возницы. Над степью плыло желтое облако пыли и медленно оседало на жухлую полынь.
Как только поднялись на холм, увидели вдалеке небольшой кишлачок. Сопровождающий сказал, что это и есть Янгикурганча. Он уютно расположился на берегу поблескивающей вдалеке Карадарьи. С одной стороны окаймлен холмами, по другую его сторону, то разделяясь на несколько рукавов, то снова сливаясь в одно русло, течет быстрая Карадарья.
Отсюда были видны приземистые глинобитные домики с плоскими крышами, на которых сушились фрукты и были сложены небольшие стога сена. Во дворах росли деревья, виноградники. Ветер доносил запах кизячного дыма. То в одном конце кишлака, то в другом ревели, перекликаясь, ослы. Арслан сразу же отметил, что тут очень уж много ослов. Кто бы ни повстречался им по дороге — старик ли, женщина, малыш ли, — никто не шел пешком, обязательно ехали на осле. Видимо, эти неприхотливые, трудолюбивые животные сами добывали себе корм, бродя по необъятной, выжженной солнцем степи, а утолив голод, возвращались домой и служили хозяину.
Студентов разместили в клубе и в домах колхозников, которые выделили для них свободные комнаты.
Землянки, вырытые у самого подножья холма, уже были заняты колхозниками, прибывшими из Кызылтепинского района Бухарской области.
На рассвете в кишлаке Янгикурган заревели карнаи[36]. Тысячи людей с кетменями, кирками, лопатами на плечах направились в холмистую степь, чтобы копать землю. Работы развернулись на трассе протяженностью в пятнадцать километров. Предстояло «рассечь» высокие холмы и провести сквозь них канал, по которому вода поступит из Карадарьи в водохранилище.
Через несколько дней Арслана назначили десятником. Работая со всеми наравне, он еще и вел учет работы, выполненной каждым, выпускал боевой листок. Каждый вечер, когда все шли в лагерь, где их ожидал ужин и отдых, он отправлялся в штаб и давал сведения главному прорабу.
А потом, когда на землю опускалась ночная прохлада, когда все вокруг стихало и лишь цикады продолжали свою звонкую песню, Арслан, Захиди и Бурхан отправлялись к реке. Нередко туда же Арслан брал и свой остывший ужин, оставленный для него друзьями. Они подолгу сиживали на берегу, любуясь отраженными в воде звездами, луной, поверяя друг другу мечты. Им очень хотелось приехать сюда этак лет через пять — десять и увидеть, как преобразился край.
Иногда друзья уходили. А Арслан оставался один, сославшись на то, что нужно кое о чем подумать. И думал. Об отце, о матери. О Елене тоже. Почему-то, когда он думал о Елене, в голову приходили стихи. Чаще совсем не связанные с ней, просто стихи о природе. И он записывал их. Чтобы позже послать девушке…
В кишлак Янгикурганча прибыли первые номера многотиражки «Каттакурган хавузи». Редактором ее был студент Самаркандского государственного университета Рашидов, с которым Арслан недавно познакомился в штабе. Арслан еще не знал, что джигит, которого интересовало все, даже мельчайшие подробности о стройке на Янгикурганском участке, — редактор газеты. Между ними завязался оживленный разговор. Собеседник его был высок, строен. Иссиня-черные, слегка вьющиеся волосы зачесаны назад. Разговаривая, смотрит в глаза, будто хочет узнать и то, что собеседник, может быть, забыл сказать.
К ним подошел плечистый, коренастый парень. Рашидов хлопнул его по плечу и представил Арслану.
— А это Аскар, — весело сказал он. — Корреспондент нашей газеты и поэт. Так что, если он попадет на ваш участок, прошу любить и жаловать!
С этими словами джигит отошел, оставив их вдвоем с Аскаром. Они разговорились о поэзии и любимых поэтах. От Аскара-то Арслан и узнал, что только что беседовал с редактором «Каттакурган хавузи», с которым давно искал встречи, чтобы показать свои стихи. Аскар согласился сам ознакомиться с его стихами, и Арслан отдал их ему, вырвав из блокнота несколько исписанных листков.
Через несколько дней одно из его стихотворений появилось в газете. После этого в ней часто печатались корреспонденции о передовиках строительства, под которыми значилась подпись — А. Ульмасбаев.
…Трое джигитов, трудившихся в поте лица, вечером пришли по обыкновению к реке. Стоя по колено в воде, умылись. Может, поплавали бы, отыскав тихую заводь, да не было сил. Вода неслась, будто спешила покинуть эту знойную землю, где так нещадно палит солнце. Невдомек ей, что она сама может взрастить могучие деревья, целые рощи и фруктовые сады, и тогда они будут оберегать ее, воду, своей тенью. Что ж, ей помогут люди. Не зря же они прибыли сюда…
— О чем замечтался? — крикнул Захиди с берега.
Арслан обнаружил, что стоит в реке один и пристально смотрит на воду. Его друзья уже оделись и устроились, свесив ноги, на сури, поставленном неподалеку от берега.
Арслан вытер лицо и, неторопливо надевая рубаху, подошел к ним.
Бурхан был мастер рассказывать анекдоты. Вот и сейчас ему вспомнился пикантный анекдот о Насреддине-афанди, который он не преминул тут же рассказать. Друзья смеялись, слушая, как попал впросак незадачливый жених Насреддин-афанди.
В этот момент на берегу появилась девушка с ведром. На ней был белый халат. В сумерках ее нельзя было рассмотреть, но скорее всего это была медсестра из амбулатории.
— Ай да красавица, легка на помине! — воскликнул Арслан, хлопнув в ладони. — Быть бы мне на месте Насреддина-афанди, а тебе на месте его суженой, я бы не растерялся!..
И опять втроем громко рассмеялись. И вдруг разом умолкли. Теперь на их лицах было больше растерянности и испуга, чем веселья. Потому что девушка обернулась и, даже не набрав воды, направилась к ним. «Сейчас подойдет и влепит пощечину!» — подумал Арслан.
Но девушка остановилась в трех шагах от веселой компании и спросила:
— Вы мне что-то сказали, Арслан-ака?
Парни переглянулись. Они часто встречали на строительных участках эту молоденькую девушку, ходившую неизменно в белом халате и с белым чемоданчиком, на котором был выведен маленький крестик. Конечно, там, где редко встречаешь женщину, и некрасивая привлекает взгляд. А эта была стройна, красива, брови черные, как крылья ласточки, а глаза что спелый виноград. Не один джигит вздыхал, когда она проходила мимо, и, приостановив работу, долго смотрел ей вслед. Но взгляд у девушки был строг, и никто не смел заговорить с ней. И они считали счастливцем того, кто поранил себе руку или ногу, а девушка, отвлекая пострадавшего оживленным разговором, делала перевязку.
Как услышал Арслан свое имя из уст ее, у него к горлу подступил комок, и он не смог произнести ни слова.
Девушка усмехнулась, пожала плечами и, повернувшись, вновь пошла к реке.
Бурхан больно ткнул Арслана локтем:
— Сказал бы словечко, растяпа! Ты что, онемел? Сама, своими ножками, притопала, а ты как в рот воды набрал! Эх, ты!..
— Хватай за хвост птицу счастья, коль вьется над тобой! — поддержал приятеля Захиди.
Арслан резко встал и направился к клубу, где они сейчас жили, откуда доносились звуки рубаба и чья-то песня. Поразмыслив, свернул в сторону степи. Казалось, что в груди у него пылает огонь, — может, степной ветер погасит его…
Но степной ветер не погасил огня, вспыхнувшего в тот вечер в сердце Арслана. Вот уже сколько дней прошло, а он все думал о девушке. Видел ее нежное лицо, настороженный, внимательный взгляд… Расспрашивал у друзей, откуда приехала эта девушка. Никто этого не знал.
Наконец решившись, во время обеденного перерыва он спустился к основанию холма, прикрывшего от знойного ветра выстроившиеся в ряд палатки, отыскал нужную ему палатку. Он узнал знакомый голос, доносившийся изнутри. И вдруг растерялся, обнаружив, что нет двери и постучать некуда. Вместо этого он кашлянул и, взявшись за полог, спросил:
— Можно?
В палатке стояли рядышком две раскладушки. На них сидели друг против друга знакомая девушка и пожилая русская женщина, тоже в белом халате. Они ели бутерброд, запивая чаем, и беседовали. При появлении Арслана они обернулись, вопросительно посмотрели на него. Он поздоровался и продолжал топтаться у входа, не зная, что делать дальше. Выручила его девушка.
— Вам нездоровится? — спросила она и, быстро встав, придвинула ему табуретку.
— Угу, — солгал Арслан. — Знобит… Голова болит…
— Поставьте ему градусник, — сказала врач, стряхивая в ладонь крошки с газеты, разостланной у нее на коленях.
— Сейчас, — сказала девушка и, еще раз окинув Арслана взглядом, отчего его действительно бросило в жар, взяла из стакана градусник и протянула ему: — Поставьте.
— Откуда вы меня знаете? — спросил Арслан.
Девушка улыбнулась, глаза ее лукаво блеснули.
— Вы же все время на виду, как звезда во лбу коня. Обращаешься к кому-нибудь: «Нет ли на участке больных?» — отвечают: «Спросите у Арслана Ульмасбаева!» — «Довольны ли жильем, питанием?» — «Это Ульмасбаев знает!» Кроме того, я читала ваши стихи в газете. Мне всегда казалось, что стихи пишут необыкновенные люди.
— И разочаровались, не найдя во мне ничего необыкновенного?
Девушка улыбнулась.
— Почему же? Нашла…
— Что?
— Вы настолько высокомерны, что не хотите признавать соседей.
— Я!.. Да что вы! — теперь рассмеялся Арслан. — Каких еще соседей?
— Меня, например.
— Ва-ас?
— В Ташкенте вы живете в махалле Оклон, а я в той махалле, что рядом. Когда вы ходили в школу, всегда проходили мимо нашего дома. Я видела вас то в окно, то играя на улице с подружками… А однажды я набрала в саду полный подол груш и, перепрыгнув через арык, рассыпала все в пыль. Вы как раз проходили мимо и помогли мне собрать. Неужели не помните? — сказала девушка и, заметив, как у Арслана от изумления все более вытягивается лицо, рассмеялась. — А сейчас я учу ребятишек в той же школе, где учились вы. Во время каникул решила потрудиться на стройке…
Он смутно припоминал босую девочку в выгоревшем ситцевом платьице и вылинявшей тюбетейке, едва не упавшую тогда в арык…
— А как вас зовут? — еле слышно спросил он, дивясь тому, как время преображает людей.
— Барчин.
— Красивое имя.
— А сама я разве не красива? Приглядитесь-ка получше! — засмеялась девушка, стараясь придать разговору шутливый тон.
Что ж, в каждой шутке есть доля правды. И Арслан выпалил:
— Вы столь красивы, что подходите только такому молодцу, как я.
— Ого, смелый джигит, не слишком ли много вы на себя берете? — сказала Барчин, залившись краской. — Давайте градусник!
Арслан подал.
— Температура у вас нормальная. И здоровье прекрасное. Ступайте и найдите занятие для своих рук, вместо того чтобы болтать языком!
В субботу он снова встретил Барчин. Она появилась на трассе со своим чемоданчиком. Девушка приветливо кивала знакомым, улыбалась. С трудом пробираясь между грудами земли, она заметила Арслана. Кивнула ему, как старому знакомому. Только хотел было он подойти к ней, как около нее появился какой-то долговязый парень в темных очках и пестрой рубашке навыпуск. Он взял ее за руку и, разговаривая, не выпускал ее ладошку, хотя девушка пыталась освободить ее. Арслана взяла досада на этого фасонистого парня. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не подойти и не сказать: «Послушайте-ка, оставьте девушку в покое!»
Парень и Барчин, о чем-то разговаривая, медленно удалились и вскоре скрылись за пеленой желтой ныли.
«Кто же этот парень?» Арслан понял, что не найти ему покоя, пока не узнает этого.
Вечером, изменив привычке, он не стал засиживаться на берегу Карадарьи, а, оставив Захиди и Бурхана одних, поспешил к тропинке, по которой Барчин обычно возвращалась в свою палатку. Ждать пришлось недолго. Увидев его, Барчин остановилась. Потом они медленно пошли рядом.
— Кто этот парень, с которым вы так задушевно сегодня беседовали? — спросил наконец Арслан, когда они подошли к палатке.
— Корреспондент. А что?
— Вы давно с ним знакомы?
— Второй день… А почему это вас интересует?
— Мы же соседи, — грустно улыбнулся Арслан и взял ее за руку, — а соседке положено покровительствовать.
Девушка окинула его удивленным взглядом, освободила руку и, ничего не сказав, исчезла за пологом.
Арслан минуту постоял, ошеломленный внезапно пришедшей мыслью: «Лжет, что второй день знакомы! Наверно, давно встречаются. Степь широкая, далеко можно уйти от любопытных глаз…» Он резко повернулся и зашагал прочь.
Странной особенностью обладает девичья натура. Если девушка замечает, что джигит проявляет к ней интерес, она напускает на себя безразличие. И чем больше внимания ей джигит оказывает, тем она становится высокомернее. Но стоит вниманию этому ослабнуть…
Вот и Барчин гадала нынче, почему Арслан не смотрит в ее сторону, когда она проходит мимо. Так увлечен работой, что ничего вокруг не видит?
Барчин несколько дней кряду намеренно ходила на участок, где работал Арслан. Он ни разу не подошел. «Ну и не надо!» — подумала Барчин, с трудом удерживая слезы.
Отец говорил Арслану, приучая его рано вставать: «Поздняя птичка корм ищет, а ранняя уже клювик чистит». Но Арслан по утрам всегда поднимался с трудом. То ли дело их староста Захиди — встает еще затемно. Правда, он постарше своих товарищей, в армии уже отслужил, видно, там и приучили рано вставать. Перекусив, он тут же отправлялся на трассу, не дожидаясь, пока встанут товарищи. Арслан в первое время гадал, какую же работу табельщик находит там, если все строители еще в постелях. И потом только узнал, что Захиди совершает прогулки по степи, дышит прохладным, чистым утренним воздухом, когда сильно пахнет джувшан — степная полынь. Прогуливаясь, он напевает один и тот же куплет:
Обними меня, тонкобровая,
Не робей, черноокая!
Заласкай до беспамятства,
Пусть тоски в душе не останется!..
Другой песни он, видно, не знал.
Сложением Захиди обладал батырским. Поэтому нередко ему доводилось слышать упреки: «Вот помахал бы тут кетменем с наше, узнал бы, что такое настоящая работа…» Захиди обычно подобные колкости пропускал мимо ушей и вымеривал шагами степь, как говорится, в ус не дуя.
Арслан не замечал, скучает ли Захиди когда-нибудь по своей семье, оставшейся в Ташкенте. Был он медлителен, но уверен в себе и не вздыхал по пустякам.
И теперь, стараясь подавить в себе вспыхнувшее чувство к Барчин, Арслан хотел уподобиться Захиди — ни о чем не думать, знать только свое дело. Он понял также, что у таких людей имеется своя философия, которой они неукоснительно следуют.
Арслан даже стал, шутки ради, записывать некоторые высказывания Захиди в той самой тетради, куда вносил афоризмы древних поэтов, прославленных философов.
Как знать? Может, Захиди и прав. Кому не ясно, что лучше жить спокойно, без всяких треволнений, чем страдать по всякому поводу.
В голове назойливо звучало:
…Заласкай до беспамятства,
Пусть тоски в душе не останется!..
За окном начинала заниматься заря. Арслан, как бы желая избавиться от тягостных мыслей, откинул одеяло и вскочил. Захватив полотенце, побежал к Карадарье. Хорошо по утрам освежиться в реке. Не просто умыть лицо, а с разбегу плюхнуться в воду. Арслан снял почти на ходу спортивный трикотажный костюм и, бросив его на влажную от росы траву, сильно оттолкнулся от берега. Вода ожгла тело. Здесь было не очень глубоко, и он руками коснулся дна. Через минуту выскочил на берег и стал обтираться полотенцем. Тело сделалось красным. Он торопливо оделся и припустился обратно бегом, чтобы согреться.
Наскоро перекусив, Арслан сунул в карман книжицу-табель и, вскинув на плечо кетмень, направился на трассу. Ребята еще только выходили из домов и направлялись к реке умываться. Но Арслану хотелось приступить к работе чуть пораньше, чтобы пораньше освободиться: ведь пока не выполнишь норму, не уйдешь с трассы, а ему нужно еще и в штаб поспеть засветло.
Пыльная тропинка, по которой он шел, обогнула холм. Наверху он увидел Захиди, стоявшего в одних трусах. Он выбрасывал вперед руки и приседал — делал зарядку. Розовые лучи восходящего солнца коснулись холма и осветили фигуру Захиди, которая напоминала греческого бога Зевса, с высоты Олимпа обозревавшего свои владения.
Захиди рукой поманил к себе Арслана. Пока Арслан карабкался по склону, оскальзываясь, цепляясь за уступы камней и ветки кустарника, он успел одеться.
— Погляди, — сказал Захиди, поведя вокруг себя рукой.
На трассе еще было безлюдно. По ее бокам возвышались горы красноватой земли, похожие издалека на кучки, возводимые кротами у своих норок. Канал изо дня в день углублялся и приближался к городу Каттакурган. На дне канала лежали брошенные с вечера тачки, носилки, сиротливо стояли наклонившиеся набок арбы. Правее, подле холма, похожего на отдыхающего верблюда, виднелись землянки, юрты строителей. Между ними спиралью вились к небу синеватые струйки дыма. И всюду были люди. Одни суетились около очагов, готовя еду, другие сгоняли из степи напасшихся за ночь ослов, которым тоже предстояло приниматься за работу.
Арслан подумал, что в степи, которая в течение веков слышала только пенье птиц, писк сусликов да стрекотанье кузнечиков, сейчас многолюднее, пожалуй, чем в городе.
Он и Захиди долго стояли рядом и молча смотрели на трассу, по которой проляжет канал. Потом не спеша спустились с холма и направились на свой участок. Здесь они застали нескольких человек, тоже предпочитавших начинать работу, пока прохлада не сменилась жарой.
Друзья разошлись по своим местам. Арслан поплевал на ладони и принялся за дело. Он работал не спеша, экономил силы, чтобы их хватило до конца дня. Кетменем взмахивал плавно, как учил отец, и, опуская его, не прилагал усилий, чтобы он врезался в землю от собственной тяжести. Потом рывком отбрасывал землю назад. Теперь у него был некоторый опыт. А в первый день он торопился. Пока работавший рядом колхозник раз взмахнет кетменем, Арслан успевал дважды. По пороху в нем только до полдня и хватило. Ладони покрылись волдырями. Теперь же они стали жесткими и блестели, как полированные. И плечи не так болят. Главное — не спешить, и все пойдет на лад. Поднимать кетмень при вдохе, опускать при выдохе. Вот так — р-раз!.. Р-раз!.. Как учил отец.
Когда увлечешься работой, не замечаешь, как проходит время. И вообще ничего не замечаешь вокруг. Арслан вот не заметил, когда это здесь собралось столько народу. Поставил кетмень, чтобы перевести дух да пот с лица смахнуть, и вдруг увидел, что вокруг работа кипит. Сотни, нет, тысячи кетменей мелькали вокруг. Где каменистая почва не поддавалась, долбили ее кирками. Одни тащили землю наверх, высыпали и снова возвращались уже по другой тропе. Другие заполняли землей хурджины и возили их на ослах. Наверно, таким же способом сотни лет назад древние египтяне возводили пирамиды. Но что толку с тех пирамид? Ради чего было пролито столько пота? Загадка… А канал даст жизнь степи. Ради этого стоит потрудиться.
Арслан опять поплевал на ладони и взялся за кетмень.
До обеденного перерыва оставалось несколько минут. Арслана окликнули. Сказали, что его кто-то ищет. Арслан увидел приближающегося к нему Аскара и пошел ему навстречу. Они поздоровались за руку, как давнишние друзья. Аскар, оказывается, приехал за Арсланом. Сказал, что с ним хочет побеседовать редактор газеты и им необходимо сейчас же поехать в Каттакурган. Для чего — Аскар не знал или просто не хотел заранее говорить. Они вместе разыскали прораба участка и, получив у него разрешение, поехали в Каттакурган. Аскар, оказывается, попросил шофера колхозной полуторки, чтобы тот их подождал. Машина как раз ехала в Каттакурган за продуктами.
Машина то, натужно ревя, взбиралась на холмы, то стремительно неслась под уклон. Ребята стояли в кузове, держась за крышу кабины. Встречный ветер холодил вспотевшее тело. Дорога петляла, огибая увалы. Вдоль трассы нависло слоистое облако пыли, по нему можно было определить направление канала. Машина бежала, то чуть отдаляясь от трассы, то снова приближаясь к ней.
Впереди из желтого марева появились деревья и прятавшиеся между ними мазанки. Показалось белое здание с железной крышей, и около него стоял товарный поезд. Арслан догадался, что они подъезжают к станции.
Аскар положил руку приятелю на плечо и сказал:
— Мы едем по дну моря. — Заметив недоумение во взгляде Арслана, добавил: — Эти места останутся под будущим водохранилищем. — Вскинув руку и посмотрев куда-то вверх, крикнул: — Здесь будут разгуливать волны! Настоящие, морские!.. В кабинете нашего редактора висит проект.
— А как же те кишлаки?
— Людей переселят.
— Весь город переселят? Ведь его тоже затопит вода…
— Не-ет! Взгляни во-он туда! Видишь людей?
— Вижу. Копают канал…
— Ничего подобного. Это вы копаете канал. А здесь возводится дамба. При этом используются и естественные холмы. Таких дамб будет несколько, чтобы удержать воду в этом огромном резервуаре. Об этом печатался мой очерк в газете. Не читал?
Арслан промолчал. Тот номер газеты он, видно, пропустил. Не всегда бывает время почитать.
— Значит, это море будет моложе нас, — сказал он задумчиво. — На двадцать лет…
Аскар хлопнул его по плечу:
— Ха! Молодец! Хороший заголовок ты мне дал для очерка — «Море, которое моложе нас!». Редактору поправится. — И неожиданно сказал: — Сегодня утром приехали Усман Юсупов и Юлдаш Ахунбабаев.
— Почему же нам никто не сказал? — удивился и даже обиделся Арслан.
— Усман-ака не велел. «Пусть, говорит, люди спокойно работают». А вечером состоится митинг. Мне надо подготовить выступление нескольких колхозников. Ты поможешь?
— Охотно. Для этого ты и привез меня сюда?
— Не только. Потерпи — узнаешь.
— А почему надо готовить кому-то выступления? Разве люди сами не могут сказать то, что они хотят, как умеют?
— Ну, понимаешь, нужно, чтобы складно…
— Складно, да чужие, не свои мысли…
— А зачем свои? Они должны сказать то, о чем все думают, весь наш огромный коллектив строителей!
— Не знаю. — Арслан пожал плечами. — Во всяком случае, меня настораживает, когда человек выступает, поминутно поглядывая в шпаргалку. Будто в голове у него ничего нет, все на бумаге.
Они ехали по неширокой тенистой улице. Аскар вдруг спохватился и постучал по крыше кабины. Машина резко затормозила. Друзья спрыгнули на землю, поблагодарили шофера, и полуторка поехала дальше, на базу.
Редакция располагалась в небольшом домике на краю базара. Знакомый уже Арслану редактор приветливо встретил его. Жестом указал на свободный стул. В его тесном кабинете сидело еще несколько молодых ребят, по-видимому, студенты.
— Так вот, — произнес Рашидов, сев на свое место и продолжая прерванную появлением Арслана и Аскара беседу. — Я сегодня пригласил вас, наиболее активных корреспондентов нашей газеты. Мне нравится, что вы умеете подметить главное…
Арслан знал, что Рашидов сам только студент четвертого курса, и теперь дивился тому, как хорошо он, несмотря на свою молодость, умеет организовать дело. Как многоопытный товарищ, дает советы молодым корреспондентам, поясняет, что и как отбирать из внешне однообразной жизни, чтобы материалы не были схожи один с другим.
Редактор потребовал присылать побольше хорошего материала о строителях канала.
Примерно час длилась эта беседа. В заключение редактор сказал, что в пять часов состоится митинг и желательно, чтобы все присутствующие там были.
Когда все стали расходиться, Рашидов остановил Арслана. Взяв его под руку, заметил:
— А вы давно нам не присылали своих стихов.
Арслан не нашелся, что ответить. Не скажешь же, что нет настроения. С тех пор, как он разочаровался в Барчин, ни одной строчки не написал.
— Ну ладно, — сказал редактор, добродушно улыбаясь. — Я понимаю, что стихи заказывать нельзя. А корреспонденции шлите чаще.
— Договорились, — улыбнулся Арслан.
— Вот и хорошо.
Около пяти часов со всех сторон к площади напротив штаба строительства стали стекаться люди. Они шли прямо с работы, с кетменями, кирками. Знакомого встретишь, да не узнаешь — на пыльных лицах блестят глаза да зубы.
Напротив трибуны, наскоро сколоченной из досок и обтянутой кумачом, землекопы сидели прямо на земле, скрестив ноги. Те, кто был подальше, стояли. С каждой минутой становилось теснее. Люди все тли и шли.
Над многотысячной толпой стоял гул. И вдруг люди замерли. На трибуну поднялись председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана Юлдаш Ахунбабаев, секретарь ЦК партии Узбекистана Усман Юсупов, председатель Совета народных комиссаров республики Абдуджаббар Абдурахманов. Вслед за ними поднялись руководители стройки. И вдруг тишину разорвал гром рукоплесканий.
Усман Юсупов поднял руку, требуя тишины. И когда стало тихо, он зачитал письмо, присланное И. В. Сталиным на имя строителей первого в Средней Азии водохранилища. После этого Усман-ака выступил перед собравшимися с пламенной речью.
Арслан и Аскар стояли неподалеку от трибуны. Им было хорошо видно сидящих за столом Ахунбабаева, Калюжника, Саидбекова. О последнем Арслан много слышал. Он часто посещал участки строительства, лично отдавал распоряжения. Но видел его так близко впервые. Вот Саидбеков снял очки и потер двумя пальцами переносицу. Его лицо кого-то напоминало. Кого же?.. Арслан стал перебирать в памяти знакомых. Может, тоже встречал когда-нибудь в своей махалле или в соседней, да забыл?..
— Саидбеков до этого жил в Ташкенте? — спросил Арслан.
— Да, — отозвался Аскар. — Хумаюн Саидбеков чрезвычайно интеллигентный человек. Придешь к нему, — как бы он ни был занят, всегда найдет время для беседы. По профессии он, говорят, учитель истории. Но его выдвинули на партийную работу. Прекрасный человек, ко всем одинаково относится. Даже дочке исключения не делает. Может ведь ее устроить, чтобы со всеми удобствами. А нет, живет она в палатке, как все. Кстати, вон она. Весьма смазливая девочка.
Арслан посмотрел в ту сторону, куда указал Аскар.
— Во-он, около женщины в белом халате… Настояла, чтобы отец взял ее с собой. Романтика, видишь ли, влечет. На одном из участков работает медсестрой. Не пялься на нее, приятель, она тоже в нашу сторону смотрит.
Арслан вдруг встретился взглядом с Барчин. Она улыбнулась и едва заметно кивнула Арслану.
— Ого, да ты знаком с ней! — удивился Аскар. — Я вижу, ты даром времени не теряешь.
— Ты весьма наблюдателен. Может, и мысли читать умеешь?
— Почти. Профессия такая. Надо людей понимать с полуслова, по взгляду.
— Тогда угадай, о чем я сейчас думаю.
— О, это не так уж трудно, — усмехнулся Аскар. — Ты думаешь о том, как бы положить руки на талию этой девушки и привлечь ее к себе.
— Примитивно… Я думаю, где бы поживиться стаканчиком холодной воды.
— Залить пожар в сердце? — засмеялся Аскар.
— Утром позавтракал всухомятку.
Арслан опять поймал на себе взгляд Барчин. Сладостное волнение наполнило его. Ему хотелось сию минуту выбраться из толпы и подойти к ней, поздороваться, расспросить, что она все эти дни делала. Но это было не просто. На него бы заворчали. Внимание людей было устремлено к трибуне, где стоял Усман Юсупов и, слегка подавшись вперед, произносил речь. Его голос разносился далеко вокруг. Слова он выговаривал неторопливо, отчетливо, чтобы слышали все. Он рассказал, какое значение имеет Каттакурганское водохранилище для развития хлопководства в республике, пожелал успехов батырам-строителям. Было вручено переходящее красное знамя передовому участку.
После митинга Аскар пошел проводить Арслана до дороги, где они могли остановить попутную машину. Неподалеку от редакции они встретили Рашидова. Редактор пригласил их в чайхану попить зеленого чая. Арслану все еще хотелось пить. Он мечтал поскорее добраться до реки, лечь на берегу и, погрузив голову в воду, пить, пить досыта.
В чайхане они просидели до сумерек. Беседовали, обменивались мыслями о появившихся за последнее время произведениях видных писателей. Затем Рашидов и Аскар проводили Арслана до станции. Здесь ждать пришлось недолго. Они остановили машину, отправлявшуюся на Янгикурганский участок.
Снова степной ветер бил в лицо. На небе зажглись первые звезды. Они вечны, эти звезды. И это море, которое сейчас люди создают своими руками, будет вечным. Интересно все же видеть рождение моря!.. Пройдут сотни лет. Ни Арслана, ни Барчин уже на свете не будет. А море это останется таким же, каким они его сейчас создадут. А вместе с рукотворным морем будет жить и память о его создателях. Те, кто много веков спустя будут пить отсюда воду, ловить рыбу, выезжать на прогулку в лодке, наслаждаться прохладой садов, лакомиться персиками, виноградом, гранатами, будут вспоминать их, этих людей, трудившихся в поте лица, копошившихся на дне котлована. Или будут есть виноград, пить нектар, а про садовода и не спросят? Нет, этого не может быть. О славных деяниях батыров ведь слагаются дастаны[37] и передаются из уст в уста, из поколения в поколение. А этакое — сотворить море! — под силу ли обыкновенным людям? Это под силу батырам! Значит, будут о них жить легенды в веках…
Грохотавшая и подпрыгивавшая на ухабах машина выехала со дна будущего моря и поднялась на склон холма. И снова в синеватых сумерках открылась взору Арслана трасса. Люди, закончив работу, медленно расходились. Вокруг землянок, юрт и палаток горели костры, на которых готовился ужин.
Вспомнилась ему Барчин. Она, наверное, давно вернулась… Ему теперь было понятно, почему эта девушка, недавно окончившая десятилетку, решила приехать в эти глухие места. Ей было с кого брать пример — с отца. Знает ли кто-нибудь, что она дочь одного из руководителей стройки? Завидное качество, особенно для девушки, суметь умолчать об этом. Что ж, это говорит о том, что она умница.
Машина, прикатив на Янгикурганский участок строительства, остановилась около землянок. Арслан спрыгнул на землю. До кишлака отсюда идти минут десять. Он поблагодарил шофера и зашагал по дороге. Неподалеку двое мужчин, закатав рукава до локтей, свежевали зарезанную телку. Днем, когда он проезжал тут с Аскаром на машине, телка эта лежала, привязанная к колышку, и спокойно жевала жвачку. Перед ней лежал сноп свежезеленых стеблей джугары. С тоской глядя им вслед, она даже промычала: умм!.. Взгляд Арслана на секунду задержался на голове животного, лежавшего на траве: глаза были открыты, и ему показалось, что сейчас телка опять скажет ему: уммм!.. Он даже отчетливо услышал ее голос, в котором ему почудился упрек. Арслан быстро отвернулся и ускорил шаги, продолжая рассуждать: «Да, ничто на земле не может сравниться с человеком ни в доброте, ни в жестокости, ни в умении созидать и строить, ни в пристрастии разрушать… Бедное животное несколько часов назад радовалось жизни, благодарно смотрело на тех, кто оставил ей корм, а теперь спустя час-другой будет съедена… Тигр — кровожадный хищник, и корова об этом знает, потому при опасности бежит от него, спасаясь, а если может, оказывает сопротивление. От человека же она не убегает, как от хищника. Напротив, привязывается к своему защитнику, покровителю — и не замечает, как становится его жертвой. Что и говорить, каждый день здесь режут не менее сотни голов скота. Иначе нельзя. Люди трудятся, отдавая все силы до капли. Чтобы на следующий день суметь так же орудовать огромным кетменем, толкать по дощатому настилу тяжелые тачки с землей, нужно плотно поесть. Наверное, правда, что все, что ни есть на свете, — все для человека…»
Едва Арслан вошел в дом, ребята набросились с упреками. Они, оказывается, беспокоились, не зная, куда мог исчезнуть их друг. Даже еще не садились за ужин. Но его появление тут же приподняло у всех настроение, укоры перешли в шутки. Пока Арслан сидел молча, делая вид, что обиделся, каждый стал высказывать предположение, где он мог весь день пропадать. Комната оглашалась громким смехом.
— Если будете проявлять своеволие и бросать работу, когда вам вздумается, я сообщу об этом в комитет комсомола! — заявил Бурхан таким тоном, что на этот раз трудно было определить, шутит он или говорит серьезно.
— Как вам угодно, — отозвался Арслан.
— И родителям вашим будет сообщено! А по возвращении в институт придется обсудить ваш моральный облик, — сказал Бурхан, явно намекая, будто он все это время провел с медсестрой.
Арслан в упор взглянул на него, собираясь ответить порезче, но не успел рта раскрыть, как Захиди, смеясь, бросил:
— И соловушку вашу водворим в клетку!
Арслан махнул рукой, заливаясь краской, и, не выдержав, улыбнулся.
— Ребята, бросьте валять дурака. Я был на митинге, слушал выступление Усмана Юсупова! А ваши мысли совсем не в ту сторону направлены… Друг мой, праведник Бурхан, если бы я в самом деле провел это время с той девушкой, я был бы самым счастливым человеком на свете…
— Во-первых, никакой я вам не праведник! За это оскорбительное слово вы еще поплатитесь, когда прибудем в Ташкент. Во-вторых, мы сюда приехали не для того, чтобы цепляться за юбки каких-то вертихвосток!
— Я же не назвал вас «махсимча»[38], — сказал Арслан, еле сдерживая смех. — Ничего дурного не вижу в слове «праведник». И к тому же, если уж кому-то придется предстать перед товарищеским судом, то это вам. Вы только что девушку-комсомолку, прибывшую сюда по велению сердца, единственную дочь заместителя начальника строительства водохранилища, где мы все с вами трудимся, назвали вертихвосткой! Вот они, свидетели! Назвал он ее так?
— Чья?.. Чья она дочь? — морщась, спросил Бурхан с таким видом, как обычно переспрашивают, когда слышат несусветную чушь.
— Хумаюна Саидбекова!
Ребята переглянулись — верить ему или нет?
Минуту в комнате царило молчание. Потом Бурхан примирительно сказал:
— Не важно, чья она дочь… Я к тому… Не время сейчас про любовь думать. У нас сейчас более важные дела…
— Все важно, — сказал Арслан и, засмеявшись, добавил: — Для того нам и молодость дана, чтобы все успевать. — Он резко встал, хлопнул Захиди по плечу. — Так-то вот… Ну что, друзья, махнем на речку?
Ребята встали, начали шарить в темноте, отыскивая полотенца и мыльницы.
— Я почему на тебя зол? — проворчал Бурхан, не поднимая глаз, расстегивая пуговицу нагрудного кармана. — Целый день тебя искал. Весь участок обошел. — Наконец он извлек сложенный листок бумаги, протянул Арслану. — Телеграмма тебе. Написано «срочная», я и хотел срочно вручить. А ты как сквозь землю… Ни тебя не нашел, ни норму свою не выполнил. Эх!.. — Он досадливо махнул рукой.
Арслан развернул бумагу, попросил Захиди посветить спичкой.
«Срочно выезжай. Отец серьезно болен».
Глава четвертая ЛИТЕЙЩИК МИРЮСУФ
— Гончары месят глину, обжигают горшки. Они не богатеют. А богатеют ювелиры, добавляя в свои изделия латунь. Поэтому в былые времена, если не могли найти вора, приказывали повесить ювелира, ибо не сомневались в праведности свершившегося…
Покровитель нашей профессии пророк Давуд — мастер. А посему способный из нас — литейщик, человек средних способностей — слесарь, а кто помоложе — кузнец… Нет у нас особой прибыли, но нет и убытка. Не богатеем мы, но и не впадаем в бедность, — рассуждал старый литейщик Мирюсуф-ата, лежа в постели. Запавшие глаза его влажно блестели, на лбу выступил пот. Голос его звучал тихо, и после каждой фразы он переводил дыхание. — И живем мы открыто, ничего не тая от людских глаз. Упрячешь ли что-нибудь, если все, что ты делаешь, да и ты сам, освещено святым огнем, который полыхает в печи… А взять, к примеру, скорняков, или сагричи[39], или даже простых кожевенников. Доходная у них профессия. Даже сосед не узнает, кто из них разбогател. Нечистым делом заняты — отсюда скрытность…
Теперь старик был неразговорчив. Мог весь день пролежать он, не проронив ни слова, и трудно было понять, дремлет он или бодрствует. В такое время в комнату старались заходить пореже, чтобы не беспокоить больного.
Мирюсуф-ата часто вспоминает прошлое, лучшие годы жизни. Самое неожиданное приходит сейчас на ум.
Вспомнилось ему, например, как жене, когда она была беременна Арсланом, захотелось вдруг змеиного блюда. Какая-то из знахарок убедила ее, что, если съесть такое кушанье, рожденный ребенок будет мудрым и сильным…
Минуло двадцать лет. Стремительно летит время. Быстро растет мальчик. Какой там мальчик, джигит уже!.. Пожить бы еще чуть-чуть, чтобы увидеть, как сын станет самостоятельным, приобретет специальность по сердцу, — и тогда ушел бы он, старый Юсуф, из жизни спокойно.
Что и говорить, не хочется расставаться с этим светом. Но так уж создан мир: все, что в нем есть живого, в конце концов умирает, уступает место новому. Поэтому мир вечен. Поэтому на наших улицах всегда резвятся, шумно играют, смеются дети и дома наши никогда не лишаются хозяев. Кто уходит из этого мира, не испытывая угрызений совести, — тот счастлив.
Семь поколений его предков были литейщиками — отливали котлы. Огромные чугунные котлы, отлитые его «апак дада» — «белым дедушкой», — до сих пор служат людям. Отливали также узкогорлые кувшины с длинным носиком, жаровни-мангалки, плошки для коптилок, формы для мыловаров, омачи — наконечники для сохи. Предки Мирюсуфа-ата были кустарями и не знали, что такое завод. А Мирюсуф пошел работать в мастерские, что открылись в новом городе.
В последнее время дела их шли из рук вон плохо, и отец начал было сетовать, что Давуд перестал покровительствовать их дому. На что Мирюсуф сказал: «Если нет Его Величества Давуда, то есть Его Величество Завод» — и отправился устраиваться на работу.
Тогда Мирюсуф-ата подружился со своим сверстником Матвеевым, который и сейчас довольно часто навещает больного.
— Да-а, хорошие были времена, — говорил Мирюсуф-ата, и глаза его загорались теплым светом. — В пору моего лета силу я имел неимоверную. Казалось, иду — и земля прогибается под ногами. Казалось, могу схватить одной рукой дерево и выдернуть его с корнем… Помнится, один вынимал из формы огромный махаллинский котел, в коем предполагалось варить плов из двух пудов риса! А котлы на пуд риса свободно поднимал и подавал отцу. Взвали один из таких котлов на лошадь, так хребет ее прогнется да повалится она, бедная…
Любил отец ремесло, доставшееся ему в наследство от дедов и прадедов. Всякий раз, когда речь заходила о профессиях, старик загорался и многословно доказывал, что ремесло дегреза — литейщика — стоит выше прочих ремесел.
Тетушка Мадина посмеивалась: «Как наш старик разомкнет свои уста, уже заранее знаешь, что начнет сейчас хвалить дегрезов, и его не остановишь». Мирюсуф-ата не обращал на нее внимания и все говорил и говорил о преимуществах своей профессии.
Только изредка в словах жены он находил что-то обидное и тогда, хмуро глядя на нее, говорил: «Что бы ты делала, если бы я взял себе вторую жену, молодую и красивую, чтобы проучить тебя?..»
И тогда тетушка Мадина, посмеиваясь, рассказывала ему какую-нибудь историю, подобную этой: некий бай Иноят, будучи женатым, взял вторую жену, молодую вдову Айтуру. И тогда его жена-старуха, не вынеся мук ревности, вошла темной ночью в комнату своей соперницы и стала пританцовывать и издавать нечленораздельные звуки, изображая джинна. Бедняжка Айтура чуть было не лишилась ума со страху. Убежала… «Вот и я устроила бы вашей женушке такую жизнь, что она на второй же день сбежала бы», — заканчивала свой рассказ Мадина-хола, лукаво улыбаясь.
А нынче Мирюсуф-ата, которого звали в былые годы «чугунный человек», лежит на кровати, исхудавший и маленький. Только и осталось ему перебирать в уме страницы прошлого. На другое у него сил не хватает.
Он старается не думать о своем недуге, но болезнь все чаще и чаще дает о себе знать, и тогда ему кажется, что на сей раз вряд ли ему суждено подняться на ноги. Он жадно смотрит в оконце, в которое виден кусочек двора, залитого солнцем. Было бы мумиё, воистину чудодейственное лекарство, думает он, появился бы у него аппетит. Окажись сейчас это лекарство — Мирюсуф-ата, налив его в свою зеленую пиалушку, вмиг бы проглотил, и тут бы ему вскочить здоровехоньким. Или найти бы врача, подобного Авиценне!..
До наших дней донесли легенды спор между знаменитыми врачевателями — Лукмони Хакимом и Авиценной, хотевшими изумить друг друга. Лукмони сказал: «Я тебе дам одно лекарство, ты превратишься в дым, затем я напущу дым на дым, и ты снова примешь свой истинный облик». Так и поступил. Свершилось чудо… Настал черед Авиценны, который сказал: «Я дам испить тебе одно лекарство, ты, растаяв, превратишься в пригоршню воды. Затем в эту влагу я накапаю сорок одну каплю лекарства, и ты постепенно примешь свой прежний облик». И действительно, испивший лекарства Лукмони пролился горсточкой воды на вату, положенную на носилки, чтобы не жестко ему было возлежать. Авиценна успел накапать только пять-шесть капель лекарства и неожиданно по высочайшему повелению был увезен в другую страну. А дело свое поручил завершать своему ученику. Ученик же после сороковой капли из корыстных побуждений — жалко ли стало последнюю каплю, или узрел, что после отбытия учителя нет у него больше соперников, могущих тягаться с ним и искусстве врачевания, кроме Лукмони, — не стал капать сорок первую. И, говорят, Лукмони Хаким по сию пору, лежа в забытьи на носилках, умоляет тихо: «Капни еще раз, капни еще раз…» «Есть же такие ученики, — подумал, гневаясь, Мирюсуф-ата, веруя в правдивость этой легенды, и заворочался в постели. — Таких учеников сколько угодно и в нынешние времена. Они думают не о благополучии людей и своей страны, а лишь о своих интересах пекутся!.. Лучше ослепни, но не становись слепнем! А людей нынче немало развелось, подобных слепням, питающимся кровью, или трутням, питающимся одним медом, которые уничтожают то, что приносят пчелы-труженики. Если трутней становится слишком много, то по приказу царя пчелиного государства им отсекают головы. Неплохо бы и людям перенять их опыт!..»
Благодарно кивнув старшей дочери, принесшей горячего, свежезаваренного чаю, Юсуф-ата тихо произнес: «Да будет изобилие в жизни твоей, доченька!» Старик был доволен своей заботливой дочерью и жалел ее. Не удалась у нее личная жизнь. Произошло обратное тому, что говорится в пословице: «Под весеннее солнце подставляй невестку, а дочь — под осеннее». Ибо невестка должна позабыть, что живет не в родимом доме, а дочь должна готовиться к тому, что ждет ее под кровом у мужа. Словом, из-за неурядиц в семье и худого отношения свекра со свекровью Сабохат пришлось уйти от мужа и вернуться в родительский дом.
Выпив пиалушку чаю, Юсуф-ата повеселел. Слегка приподнявшись и поправив под головой подушку, он запел тихо, почти шепотом. Песню эту он услышал от одного приятеля-уйгура:
Снежные горы — не видно вершин —
Преградили мне путь, бедняку.
Стою у подножья под ветром один,
Родина близко — дойти не могу…
Тюлевая занавеска на окне отведена в сторону. Яркий солнечный луч падает в угол, согревая прислоненную к стене длинную металлическую булаву[40]. Глядя на нее, старик улыбнулся. Все, кто приходил навестить Мирюсуфа-ата, спрашивали, зачем он занес в чистую жилую комнату эту железку, на что он, улыбаясь, отвечал: «Мешает ли вам моя булава? Пусть стоит…» — и никому не разрешал вынести ее во двор или в сарай.
Сабохат как-то, подметая, заметила вслух, что железка эта мешает убирать комнату и ей трудно всякий раз двигать ее с места на место. Отец сказал ей:
— Вот-вот, хвала тебе, дочка! Я лежал было молча, сама ты растормошила меня. Слушай же теперь меня, старого. При помощи этой булавы покойный отец мой кормил нас. От него мне она и досталась в наследство. Она же мне помогала добывать хлеб-соль для вас. Помолодей я вдруг, вернись ко мне прежние силушки, снова взял бы я в руки эту булаву… Эх, доченька, многого ты не понимаешь. Все, что я приобрел в жизни и собираюсь оставить вам — этот дом, сад, авторитет мой, — благодаря этой булаве. Хоть груба она и неказиста на вид, премного в ней мудрости. Да не будет она попрана и после меня, не выбрасывайте ее, пусть она не потеряется!.. А не слышала ли ты ничего про чарыки[41] Ахунбабаева? Если нет, то послушай. Этот уважаемый всеми человек, будучи уже президентом нашей республики, в доме у себя на стене повесил пару изношенных чарыков. Человек этот в недавнем прошлом был батраком и в этих самых чарыках трудился на землях баев. Вот и берег он свои чарыки, чтобы не забыть прошлых дней. Так-то, доченька. Иногда протирай тряпицей ручку булавы, а то как бы она не заржавела… Ты многого не знаешь, доченька. Не легко досталась победа. Многие люди отдали свою жизнь, чтобы мы с тобой были счастливы. Такие, как наш Ахунбабаев, Низамиддин Худжаев, Нумилов, не о себе думали они, о народе. Ты это должна знать и помнить. Но были и другие, подобные предводителю басмачей Кур-Нурмату, богатеям Чукаевым. «Аллах создал одних бедняками, других богатыми. Идти против устоев шариата кощунство и великий грех! Не по пути нам с гяурами. Отделим Туркестан и восстановим ханство!» — убеждали они. Мы таким дали понять, что это им не по пути с народом.
Сабохат сидела на табурете у изголовья отца и, сложив на коленях руки, внимательно слушала, не перебивая вопросами, хотя многое из того, что услышала, оставалось для нее мудреным, непонятным.
В последнее время Мирюсуфу-ата сделалось совсем худо. Он и есть ничего не мог. Для него давили виноград, и он заставлял себя проглотить немножко соку. Он молчаливо лежал, обремененный тяжелыми мыслями.
В один из таких дней пришли к нему Нишан-ака и Матвеев. Высокий, худощавый Максим Петрович с выдающимися скулами на щеках и густыми усами с проседью, концы которых порыжели от курева, был очень похож на Максима Горького. На заводе его так и называли — «Максим Горький». Интересно было, что и родом он был из Нижнего Новгорода, где родился знаменитый писатель. Мирюсуф-ата величал его просто «Махсим». Раньше он частенько приходил к Мирюсуфу-ата. В выходные дни обычно надевал длинную рубашку-косоворотку, перетянутую шелковым поясом с кисточками на концах. Махаллинцы, завидев его еще в конце улицы, уже знали, к кому он направляется, и говорили: «Вон к Мирюсуфу-ата пошел русский мужик».
Матвеев, заметив, что приятель на него обижен, объяснил, что на недельку уезжал в свой родной город, погостил у родных. И напомнил, что ведь незадолго до отъезда, когда был у него, говорил, что собирается в отпуск, да, видать, он забыл об этом. Извинился. И Мирюсуф-ата постепенно просветлел лицом, включился в разговор. Упрекнул Нишана-ака, который никуда не уезжал, а тоже не навещал его уже несколько дней.
Нишан-ака понимал, что другу теперь уже не помогут ни врач и никакие лекарства, а все же спросил:
— Врач приходит? Какие лекарства пьете?
Старик поморщился и покачал головой.
— Надоели они мне! Врач приходит в день дважды. А толку все равно никакого. Сказал я ему, чтоб не тратил время зря… Был даже табиб один. Жена откуда-то привела… Лекарств больше не принимаю никаких.
Голос Мирюсуфа-ата звучал тихо, с хрипотцой, и в груди у него при этом, казалось, что-то булькает. Матвеев и Нишан-ака украдкой переглядывались и горестно качали головами.
Тетушка Мадина принесла на подносе лепешки и чай. Зашел Арслан, которого пришлось вызвать с далекой стройки телеграммой. Он только что вернулся с базара, куда мать его посылала за продуктами. Узнав, что у отца друзья, он очень обрадовался, поспешил в его комнату. С гостями поздоровался за руку, и те почувствовали в его рукопожатии силу. Ладонь его была широкая и жесткая. А плечи крутые, какие были у его отца в молодости. Он ополоснул пиалушки, налил в одну из них чаю и вылил обратно в чайник, чтобы напиток был погуще и повкусней. Подождав минуту, налил понемножку в пиалы и протянул гостям.
— Арслана я помню совсем маленьким, — сказал Матвеев, с восхищением разглядывая парня, — а нынче вон какой вымахал, джигит!..
— Да-а, время идет, — сказал Мирюсуф-ата. — Большое это счастье, когда на старости лет ты не одинок, когда есть дети. И дочери у меня славные. А как поживают ваши дети, Нишан-палван? В благополучии ли ваша семья? — поинтересовался Мирюсуф-ата.
— Благодарю, все здоровы, кланяются вам.
— Чем ты сейчас занимаешься — работаешь или учишься? — спросил Матвеев у Арслана, возвращая ему пустую пиалу.
— Сейчас за отцом ухаживаю, — ответил Арслан, смущенно опустив голову.
— Сейчас у них каникулы, — сообщил Мирюсуф-ата. — Поехал строить Каттакурганское водохранилище, а тут я свалился. Мать его совсем измоталась. Послали телеграмму. Вот и приехал… Спасибо ему, все заботы по дому взвалил на себя…
— Да, Арслан достойный сын своего отца, — заметил Нишан-ака, макая в пиалу кусок лепешки. — Он стал опорой семьи. Молодец, джигит.
— Мирюсуфа мы знаем с тех времен, когда он тоже был джигитом, — вспомнил Максим Петрович. — Он тоже был настоящим батыром и по силе, и благородству!
Мирюсуф-ата крякнул от удовольствия, удовлетворенно кивнул головой. От слов «джигит», «батыр» засверкали его угасшие глаза, запрыгало, волнуясь, усталое сердце. С еле приметной улыбкой он взглянул на Матвеева, затем на сына.
— Да, дружище, шел, помнится, двадцать первый год, когда мы познакомились, — продолжал Матвеев. — На заводе встретились. В то время у нас работало мало местных ребят. Поэтому вас я сразу приметил. Были вы смуглым, сухощавым, и черные волосы так же вились у вас, как у вашего сына. По-русски говорили плохо и при разговоре жестикулировали, стараясь, чтобы вас поняли. Иногда говорили невпопад и вызывали этим смех у окружающих. Думая, что смеются над вами, хватали первого, кто подвернется, за грудки — немножко вспыльчивы были, — и тогда уже приходилось объяснять вам, что именно показалось товарищам смешным. И вы начинали хохотать вместе со всеми… Да-а, годы промчались, как ветер…
— Вы правы, Махсим-ака. Я был совсем молодым джигитом, когда пошел работать на завод. А Нишан-палван тогда, помнится, поступил в Таштрам, а потом уж перешел на завод: если уж друзья, так всюду вместе. Я даже помню тот день, когда мы с вами познакомились. У меня что-то никак не ладилось. Я из кожи лез, чтобы справиться, а все труды напрасны. Поглядываю по сторонам, стараюсь, чтобы никто не заметил, какой нескладный в работе, да не высмеял. А тут вы подходите — и без всякой усмешки: «Что, парень, не клеится? Дай-ка покажу!» И показали. И попробовал я скопировать каждое ваше движение, сделать точь-в-точь как вы, — и дело пошло на лад. Вы довольно улыбнулись, хлопнули меня по плечу. А я вас сразу и полюбил. Хоть мы и ровесниками были, а почтение заимел, как к аксакалу, ибо не за белую бороду старцев уважают, а за их жизненный опыт и мудрость… А через год, наверное, помните, мы побывали на Урале. Покойный Лобачев свозил нас туда, чтобы мы поглядели, как на огромных заводах работают, да опыта набрались… У меня хранится фотография, сняты мы на уральском заводе…
— У меня тоже есть такая, — произнес Матвеев, набивая трубку табаком. Но, вспомнив, что нельзя курить около больного, сунул было трубку и спички обратно в карман.
Но Мирюсуф-ата возразил:
— Курите, Махсим-ака, для меня это не вредно. Курите, окна-то открыты…
— Да, есть что вспомнить нам. Жизнь свою мы прожили не напрасно, — сказал Матвеев, раскуривая трубку и выпуская облачка сизого дыма. — Тот завод на Урале был старинный, он при Петре Первом заложен и там в те времена варили такую сталь, какой Европа не знала. Мы там месяц, кажется, были?
— Месяц и пять дней.
— Верно. Память у вас отменная, — заметил Матвеев, хитро сощурясь. — А про Иноятбая — помните? — обещали рассказать, а почему-то раздумали, сославшись на то, что будто бы забыли эту историю.
Мирюсуф-ата недовольно задвигался, настороженно взглянул на сына, кашлянул и поспешно заговорил о другом:
— Эх, Махсим-ака, извелся я, вас дожидаясь. Знал, что придете. А если не приходите, есть на то причина. Если бы еще два дня не было вас, послал бы за вами сына. Не знаю, сколько мне еще осталось жить… Поговорить с вами надо… Сын мой Арслан, свет моих очей, останется в этом мире после меня. На него ляжет забота о семье нашей. А на стипендию много ртов не прокормишь. Слышишь, сынок? Если трудно будет, иди на завод… Возьмите его на завод, Махсим-ака. Да продолжит мой сын мое дело на заводе. Пусть займет мое место.
— Гляди-ка, ведь и я подумал об этом! — воскликнул Матвеев. — А что скажет сам Арслан? Ведь он учится…
Отец и его друзья умолкли. Арслан понял, что они ждут его слова.
— Как велит отец, так и будет, — сказал Арслан. — Перейду я на заочное отделение.
— Хвала тебе! — воскликнул Нишан-ака и хлопнул в ладоши.
— Именно такого ответа я от тебя и ожидал, — сказал Матвеев с веселым блеском в глазах. — Сразу видно, что ты сын рабочего. По жилам твоим течет кровь рабочего человека. Кому, как не тебе, не таким, как ты, можем мы доверить наш завод. Радостно видеть, когда растут сыновья, достойные своих отцов. Так-то, дружище Мирюсуф-ака, ответ вашего сына очень обрадовал меня. Я сегодня же поговорю с сыном Степаном. Он-то у меня уж в руководителях ходит.
Мирюсуф-ата был тронут до слез.
— Сынок, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — ты знаешь, я не из тех, кто на все смотрит сквозь черные очки, и всегда думаю о добром исходе всех дел. Но я нынче стар и слаб, неизвестно, что со мной будет завтра. Если со мной случится то, что неотвратимо случается с каждым смертным, я тебя поручаю Махсиму-ака и Нишану-амаки[42]. Они отведут тебя на завод, покажут тебе мое место. И постарайся, чтобы люди сказали: «Этот джигит достоин своего отца». Если осилишь, учебу не бросай.
Арслан сидел, опустив голову.
— Осилю. Конечно, отец, осилю, — произнес он твердо.
— Теперь ступай, скажи сестре: если угощение готово, пусть несут.
— Нам пора уходить. Не утруждайте себя, — почти одновременно сказали Матвеев и Нишан-амаки, поднимаясь с мест.
— Еще минутку терпения! — спокойно произнес Мирюсуф-ата, делая знак рукой, чтобы они сели, и, подождав, когда сын вышел, продолжил: — Вы хотели от меня услышать ту историю про Иноятбая. Никому я не рассказывал этого. А близким друзьям можно…
Приятели его переглянулись, сели.
И Мирюсуф-ата стал неторопливо рассказывать, часто умолкая, как бы собираясь с мыслями.
…Когда от Иноятбая сбежала молодая жена, напуганная до смерти его старухой, старый женолюб, повременив немного, облюбовал дочь одного бедняка, задолжавшего ему столько, что не хватало бы все возместить, продай тот даже самого себя со всем своим скарбом. А была девушка несравненной красоты. Исполнилось ей тогда семнадцать лет. Давно одряхлевший бай «простил» тому бедняку его долги и женился на его дочери. Справили шумную свадьбу. Но не тут-то было, девушка оказалась с твердым характером. Так и не справился старик со своей невестой. От злости готов был прогнать ее из дому, но боялся насмешек.
Не далась ему девушка и во вторую ночь и во все последующие. Стыдно было баю признаться в этом. Напротив, во время пиршеств, в окружении дружков-приятелей, он красноречиво похвалялся тем, какие наслаждения ему доставляет молодая жена.
Но все имеет конец. И терпению бая пришел конец. Однажды он в гневе воскликнул: «Уч талак!» — что означало: «Тройной развод!» А при произнесении этих слов, по строжайшему правилу шариата, муж может примириться с женой лишь после того, как ею овладеет другой мужчина. В противном случае аллах может разгневаться, и нарушившему закон не видать тогда места в раю. А Иноятбай был стар и, видно, нередко уже задумывался о тепленьком местечке на том свете. Словом, воскликнув: «Уч талак!» — он тут же зажал себе рот руками и очень пожалел, что не сдержался. Однако слово, говорят, не воробей: вылетит — не поймаешь…
И стал бай искать человека серьезного, чтобы язык умел за зубами держать. Но, зная норов жены, ему надо было подобрать человека, чтобы силой обладал незаурядной, чтобы мог с упрямицей справиться. Наконец выбор бая пал на молодого статного парня Мирюсуфа. Такой и дело скоренько обтяпает и не разболтает — лишь бы плату получить поболее…
Вечером пригласил бай к себе джигита, договорились о цене. Затем старик впустил парня в комнату жены, а сам остался за дверью подслушивать: а то, чего доброго, не справится с делом, а деньги заберет. Баю же потом придется грех на душу принять. И всю ночь ничего, кроме невнятного шепота, не смог старик расслышать…
А девушка жаловалась Мирюсуфу на свою горькую судьбу. Он сжалился над ней, вытер ей слезы и трогать не стал… Утром ушел, не взяв предложенных червонцев…
Вскоре пришло время, когда баям вышибли их волчьи зубы. Народ отнял у них права, по которым они могли творить что хотели. Молодая жена ушла из дома Иноятбая, уподобясь птице, вырвавшейся из клетки. Явилась она в дом молодого парня Мирюсуфа и сказала ему, что любит его с той ночи, когда его увидела. И он только теперь, при солнечном свете, смог разглядеть, какой дивной красоты девушка предстала перед ним. «Я свою честь сберегла для тебя, благородный джигит», — сказала она и опустила голову. И они поженились. Без тоя, без шума. И дружно живут уже много-много лет. Вместе состарились, воспитали двух дочерей и сына…
Рассказав об этом, Мирюсуф-ата умолк. А на устах его появилась чуть приметная улыбка.
Приход Матвеева и Нишана-ака словно бы ярко озарил комнату Мирюсуфа-ата, постепенно наполнявшуюся мраком. Казалось, фитиль лампы, начавшей было, мигая и коптя, угасать, вновь загорелся ровно и мерно.
Старик посветлел лицом, облегченно вздохнул. Все это время, пока беседовал с друзьями, он ни разу не почувствовал боли. Он сказал об этом, на что Матвеев ответил:
— Если наше присутствие приносит вам облегчение, мы будем приходить каждый день.
— Спасибо, друзья мои. Когда у вас будет время, тогда и приходите. Я всегда рад вас видеть. Когда я беседую с вами, словно бы излечиваюсь…
Матвеев и Нишан-амаки просидели у постели больного до вечера.
Через день Мирюсуфа-ата опять стали мучить боли. Будто наглотался он горящих углей и что-то острое, пронизывающее подступало к самому горлу. Старик стонал, сжав зубы. На бледном лбу его выступили бисеринки пота.
Арслан сбегал в махаллинский Совет и оттуда позвонил в поликлинику. Вскоре пришли врач и медсестра. Они дали больному каких-то таблеток и сделали укол, после чего Мирюсуф-ата уснул.
Разбудили его голоса, донесшиеся со двора. Еще не совсем очнувшись, он был как в бреду, и губы его бессвязно что-то шептали. На айване кто-то громко справлялся о нем, а сын, понизив голос, давая понять, что отец спит, говорил:
— Прошу, пожалуйста. Он скоро проснется…
— Да исцелит его аллах. Одному всевышнему ведомо, как лучше исцелить человека. А это наш уважаемый Кари-ака. Ты его знаешь? Он человек ученый, мулла…
— Знаком…
— Хвала. И отец твой очень уважает Кари-ака. Вот и привел я домуллу к нему. Пусть почитает над ним молитву и исцелит его.
Мирюсуф-ата старался угадать, кому принадлежат эти знакомые голоса — один пронзительный, громкий, другой сиплый. Догадался, кто это. И верно, в прихожей послышались шаги, и в комнату ввалились махаллинцы Кизил Махсум и Мусават Кари. Они с порога громко поприветствовали хозяина и направились прямо к кровати, чтобы поздороваться с ним за руку. На пороге остановился растерянный Арслан. Он с беспокойством смотрел на отца.
Кизил Махсум поставил на низенький столик узелок и развязал его. В нем оказались стопка румяных лепешек, несколько крупных гранатов и черный с синеватым отливом виноград.
Мусават Кари тем временем тоже развернул свой сверток и поставил на столик банку с медом.
— Добро пожаловать, — с трудом проговорил старик, затем обратился к Арслану: — Сынок, постели курпачу, пусть гости сядут. Разверни дастархан…
— Хорошо, отец. Как вы себя чувствуете?
— Я, кажется, немножко бредил… Родители мне приснились, мать и отец. Отец и говорит: «Держи живот в тепле, ты крепко простудился, сынок. Найди немножко медвежьего жира и сделай массаж». Вот что посоветовал мне отец. Может, произойдет чудо, а?.. Сынок, Арслан, завтра раздобудь немножко медвежьего жира.
— Хорошо, отец, — пообещал Арслан.
— Вам, уважаемый, теперь получше? — спросил Кизил Махсум.
— Лучше, значительно лучше.
— Да исцелит вас аллах.
— Сами-то вы как поживаете? Здравствуют ли дети? Все ли благополучно в доме? — осведомился старик, переводя взгляд с одного гостя на другого.
— Благодарю.
Гости уселись у стены на мягкой курпаче, поджав под себя ноги.
Кизил Махсуму было лет сорок. Быстрый, пронизывающий взгляд и крупный нос с горбинкой, похожий на ястребиный клюв, придавали его лицу хищное выражение. Над верхней губой у него красовались квадратные усы, недавно вошедшие в моду. На голове он неизменно носил зеленую, цвета маша, бархатную тюбетейку, поверх рубашки надевал шерстяной камзол. На ногах мягкие блестящие ичиги с кавушами.
Арслан постелил дастархан, принес чаю. Когда мать и сестра отлучались куда-нибудь, он их хлопоты перекладывал на себя.
— Неспокойно у меня на душе оттого, что сына определенной профессии не смог выучить, — сказал Мирюсуф-ата и вздохнул. — Будь у него нынче специальность, не жалко было б проститься с этим миром.
Кизил Махсум отпил глоток горячего чая, поставил пиалу и сказал:
— Я хочу приблизить вашего сына Арслана к себе, обучу его шитью из мехов. Если научится шить телпаки[43] и шубы, то с нуждой он знаться не будет. — Он взял в рот кусочек сахару и, посасывая его, продолжал: — Мой покойный отец Салахаддин, будучи меховщиком, очень разбогатели. Они еще до революции, торгуя мехами, побывали в Москве и Варшаве.
— Вы правы, почтенный, — сказал Мирюсуф-ата, — настоящему джигиту и сорока ремесел мало. Неплохо, если мой сын и вашему ремеслу обучится. Только предки мои были литейщиками. И сам я литейщик. Славно, когда сын выбирает профессию отца…
— Вам не нужно об этом горевать, ата. В наше время счастлив тот, у кого есть деньги. А наше ремесло, слава аллаху, денежное. И к Арслану я отношусь как к родному брату. Арслан способный парень, все схватывает быстро.
Арслан всегда испытывал чувство неловкости, когда его хвалили. Но уйти, когда кто-то говорит, было бы проявлением неучтивости. Вышел, когда гости замолчали.
— Да, ваш сын умный джигит, — подал голос Кари. — Скромный, к старшим почтение имеет.
— Да будет в жизни вашей изобилие, — тихо сказал Мирюсуф-ата, морщась от подступающей боли. Чтобы превозмочь ее, надо отвлечься, и он, переводя дыхание, продолжил: — Меха — это каприз времени, все зависит от моды. Не лучше ли заняться Арслану более сто́ящим делом? Предки его литейным делом занимались, ремесло это ему по крови перешло. Он должен пойти на завод…
Кизил Махсум и Кари переглянулись. Оба снисходительно улыбнулись, обращаясь к хозяину дома: дескать, стар уж, а мудрости не накопил.
— На заводе работа тяжелая, — заметил Кизил Махсум.
— Трудно ему будет там с делом справляться и учиться, — подтвердил и Кари. — Предпочтительнее будет, если он продолжит учебу. Молодые люди должны овладеть знаниями. Не пребывать же им в темноте. Я же постараюсь не загружать его работой.
— Слова ваши достойны одобрения, — раздумчиво произнес Мирюсуф-ата. — Что может быть важнее учения! Для человека с образованием мир широко открывается. Нас вот некому было учить. Но и мы обрели на заводе знания, стали различать белое и черное.
— Конечно, конечно, — закивал Кизил Махсум.
Он хотел сказать еще что-то, но не окончил фразы, потому что в этот момент вошел Арслан с подносом, на котором было угощение. Старик покашлял, прикрыв рот ладонью, и умолк, полузакрыв глаза.
Махсум и Кари долго сидели за дастарханом, беседуя с Арсланом. Когда чайник чая был выпит, Арслан заварил еще свежий. Затем гости попрощались со стариком, пожелали ему исцеления и вышли из комнаты, зашаркали по ступенькам айвана. Окно было открыто, и Мирюсуф-ата услышал невнятный, приглушенный голос, Кизил Махсума, дающего наставления Арслану, последовавшему за ними, чтобы проводить. Из сказанного различил: «Отец твой, видать, недолго протянет. На все воля аллаха. Ты уж, братишка, принимайся за приготовления…» Кари тоже в свою очередь посоветовал: «Ты скажи сестре или матери — пусть подметут двор…»
Старику сделалось горько оттого, что он уходит из жизни, не справив свадьбы сына и младшей дочери и не увидев тракторов, которые скоро должны выпускаться на его заводе. «Ладно, их увидит мой сын…» — утешил себя старик.
Покидая двор, Кизил Махсум остановился у калитки и протянул Арслану пятьдесят рублей:
— Возьми, братишка, пригодятся на благое дело.
— Спасибо, не надо, деньги у нас имеются.
— Бери, бери, не стесняйся. Думаешь, не знаю, сколько у тебя денег в кармане? Еще никому лишняя копейка не повредила.
— Когда дают, бери, сынок, — сказал Мусават Кари. — Чем тысячу раз оказывать почтение, лучше раз сделать подношение. Если будет нужда в чем, приходи, не стесняйся. Знай, что друзья познаются в беде.
Мусават Кари был в свое время приказчиком у Мирзарахимбая. Впоследствии разбогател, нередко обводя вокруг пальца хозяина и потихоньку приторговывая мехами. Бай любил своего шустрого приказчика и полностью ему доверял. Любил его еще и за веселый прав. Обычно на гапах[44], организуемых в доме у Мирзарахимбая, он всегда являлся душой компании, шутил, балагурил, вызывая у гостей смех, и даже читал газели собственного сочинения. Кроме того, когда на бая иной раз находило уныние, Мусават Кари развлекал его чтением старинных книг «Або Муслим» или «Алиф Лайло ва лайло».
Потом добрые времена кончились и жизнь обернулась так, что Мирзарахимбай, погрузив на арбы свое добро, поспешно укатил в чужие края…
Потом вихрь революционных преобразований разметал большинство баев по свету. Некоторые из них даже хватались за оружие, не желая расставаться со своим добром. Таких уводили под конвоем красноармейцы…
Глава пятая ВСТРЕЧА
Сегодня отцу стало легче. Настроение у него лучше. И у Арслана на душе веселее, и у матери, и у сестры. Казалось, и во дворе, и в комнатах больше солнечного света. Мать хлопотала по дому, забыв об усталости. Сабохат возилась на кухне. Готовила обед и тихо напевала песенку.
Арслан сказал матери, что ему надо встретиться с другом, а сам прямехонько направился в школу. В длинном полусумрачном коридоре было пусто — шли уроки.
Арслан подошел к стенной газете. Едва успел он прочитать одну заметку, прозвенел звонок. Арслана охватило волнение. Теперь он только делал вид, что разглядывает газету. Ему казалось, вот сейчас, сию минуту, подойдет она и скажет: «Арслан-ака, здравствуйте!..» И в этот момент кто-то положил руку ему на плечо. Арслан вздрогнул и резко обернулся. Перед ним, улыбаясь, стоял секретарь комитета комсомола Кувандык.
— Это хорошо, что ты не забываешь родной школы, — сказал Кувандык. — Ну как живешь? Я слышал, что ты бросил институт?
— Что ты! Просто перевожусь на заочное отделение.
Они постояли еще минуту, повспоминали былые школьные дни, общих знакомых. Потом Кувандык извинился и, сказав, что спешит, ушел.
Арслан посмотрел по сторонам, отыскивая взглядом знакомую фигурку. Неужели ее нет в школе?
Маленькая бойкая девчушка, потряхивая косичками, подбежала к Арслану и, дернув его за рукав, сказала громко, на весь коридор:
— Вон Барчиной-апа. Она не вас ожидает?
Барчин стояла около тополей, что росли вдоль забора. И сама была стройненькая, как тополек. Арслан направился через площадку, по которой с визгом носилась детвора. Он взял ее руку, а сердце стучало так громко, что он обеспокоенно подумал, не слышит ли его Барчин…
Барчин тревожно взглянула на Арслана и спросила:
— Вашему отцу лучше? Что-то вас не видно было…
— Спасибо. Сегодня отцу получше… Хлопот много всяких… А как ваши дела?
— По-всякому, — сказала девушка и засмеялась. — Грустного, кажется, у вас хватает, так что поделюсь лучше веселым. Вчера мы получили письмо от Марата, брата моего. Он служит на границе, и от него давно не было писем. Мама очень беспокоилась… О, да на нас, кажется, обращают внимание мои малыши! Ужас, какие любопытные! Приходите в субботу к нам домой, хорошо? Я буду ждать. До свидания.
«Сама совсем еще девчонка, а уже учительница!» — подумал Арслан, когда она бежала через площадку. Он догадался, что пригласила она его домой к себе не просто так. Видно, говорила о нем матери, Хамиде-апа, и та пожелала его увидеть.
В субботу Арслан пришел к Барчин. Девушка заканчивала мыть полы, которые почему-то сегодня ей хотелось довести до зеркального блеска. Она встретила его на ступеньках веранды с мокрой тряпкой в руках. На ней был легкий цветастый халатик. Отведя со лба упавшие волосы, она радостно улыбнулась и пригласила его в комнату. Заглянув в боковую дверь, видимо, на кухню, откуда доносилось позвякивание посуды, сказала:
— Мама, Арслан-ака пришел!
В комнату зашла полная белолицая женщина.
Арслан и Барчин стояли рядышком на бордовом плюшевом ковре, закрывающем середину комнаты.
— Прошу, садитесь, — сказала Хамида-апа и указала на мягкие стулья, стоявшие вокруг массивного полированного стола.
Она разговаривала просто, будто и Арслана, и его родителей давным-давно знала. Извинившись, вскоре она удалилась на кухню и вернулась с чайником чая и вазой, наполненной фруктами.
Барчин сама разлила чай. Почистила для Арслана персик и положила его на блюдце. И было заметно, что делает она это с удовольствием. Потом показала письмо брата и его фотографию. Марат был в форме лейтенанта. Арслан помнил его. Он окончил школу на несколько лет раньше Арслана, и его призвали на военную службу. С фотографии смотрел скуластый парень с широкими, сросшимися бровями, волнистые волосы зачесаны назад. Что-то неуловимое делало брата и сестру похожими. Может, задумчивый взгляд и характерный разрез миндалевидных глаз…
Перевернув страницу альбома, Барчин тихо засмеялась, будто обрадовавшись чему-то, и принялась рассказывать о том, как в прошлом году она с родителями ездила в Ялту. Показывая фотографии, восторгалась морем, то ласковым, то сердито рокочущим. Рассказывала о крикливых, прожорливых чайках, о дельфинах, плывущих за пароходом и ждущих, что кто-нибудь из пассажиров бросит им какое-нибудь лакомство.
Хамида-апа принесла горячих слоеных пирожков с мясом собственного приготовления. Взяла чайник, чтобы заварить свежий чай.
— Мама, давай я, — сказала Барчин.
— Ничего, ничего, дочка, — ответила мать. — Развлекай гостя, а я уж, так и быть, за вами поухаживаю. А ко мне придут гости, будешь ухаживать ты. Это будет справедливо. Верно, Арслан?
Арслан, смутившись, кивнул. Барчин пригласила его в кабинет отца и показала книги, расставленные в стеклянных шкафах. Сказала, что, если ему захочется что-нибудь прочесть, он в любое время может воспользоваться их библиотекой.
На стене висела картина. По ядовито-желтой пустыне идут красноармейцы. Заслоняясь руками от секущего песка, идут они навстречу горячему ветру, навстречу красному восходящему солнцу. А вдалеке, где небо еще затянуто мглой, за их спинами, как символ прошлого, развалины старой, заброшенной мечети…
Барчин сказала, что эту картину ее отцу подарил художник, который служил в отряде Буденного. В комнате снова появилась Хамида-апа. Она заметила, что Арслан любуется фотографией ее дочери, и ей вспомнилось, как некогда Хумаюн Саидбеков так же вот приходил к ним в дом. И был он такой же сдержанный, немногословный. Ей тоже приходилось развлекать его. Скромный парень, Арслан чем-то напоминал ей молодого джигита Хумаюна, в которого влюбилась она тогда. А связав судьбу с этим человеком, нашла свое счастье. Теперь же, разумеется, она мечтала о счастье дочери. Она была уверена, что только человек, понравившийся ее девочке, может принести ей счастье. Она бесшумно вышла.
— Подарите мне эту фотографию, — попросил Арслан.
— Пожалуйста, — согласилась Барчин. — Только чем она вам понравилась?
— Вы здесь похожи на Нефертити.
— Вот как? Значит, вы в Нефертити влюблены? — проговорила Барчин обиженно.
— Ну что вы! — засмеялся Арслан. — Вы похожи на нее чуть-чуть, но вы красивее ее!
Они оба рассмеялись. Заговорили об искусстве. Барчин искренне восхищалась тем, что благодаря искусству мастера, изваявшего Нефертити, ее красотою восторгаются и в наши дни. Прекрасным не восторгаться нельзя.
И тут Барчин вспомнила свою тетю, которая любит разглагольствовать о морали, обвиняет современную молодежь в распущенности и невоспитанности. А однажды, когда Барчин в большой комнате играла на пианино, тетя проходила мимо открытых окон, ведя за руку пятилетнюю дочурку. Девочка вдруг остановилась, завороженная музыкой. Тетя грубо дернула девочку за руку: «Иди же, что остановилась? Из-за тебя я опаздываю…» Девочка, желая послушать музыку, заупрямилась. И тут тетя дала девочке пощечину. Девочка громко заплакала и пошла рядом с матерью. Возможно, этой пощечиной мать убила в девочке самое прекрасное, что могло в ней расцвести, говорила Барчин. С той поры она не любит свою тетку. А ее разговоры просто раздражают Барчин, и она обычно уходит в другую комнату.
В дверь опять заглянула Хамида-апа, спросила, не принести ли чаю.
— Лучше персиков! Арслан-ака любит персики! — сказала Барчин.
Хамида-апа пошла на кухню, чтобы помыть фрукты. Она была рада, что дочь повеселела, так задорно смеется. А то как приехала со стройки, все почему-то грустила. Чутье подсказывало ей, что не все у дочери благополучно. Не углядел, видно, отец за нею на строительстве, куда напросилась она поехать с ним. С трудом Хамида-апа выпытала у Барчин об Арслане.
И вот уже несколько дней Барчин снова порхает по дому.
Хамида-апа и Хумаюн-ака были довольны, что их дочь выросла независимой, самостоятельной. Как говорится, за словом в карман не полезет. Это оттого, что девочка много читает. И память у нее отменная.
Иногда родителей даже начинало беспокоить, когда она засиживалась за учебниками. Они заставляли ее пойти на улицу погулять. Но ничто не могло оторвать Барчин от книги, если она не решила трудного уравнения или не заучила длинную формулу по химии.
В те дни, когда приходили подружки, в доме звучали смех, шутки. Хамида-апа, радуясь за дочь, говорила: «Ученье, конечно, очень важно, однако и про развлечения забывать нельзя. Мы в твои годы красили усьмой брови да шили тюбетейки. Не ведали ни о теоремах, ни о прочем таком…» Девушки смеялись и, чтобы уважить мать своей подруги, выжимали усьму на донышко перевернутой пиалушки, наматывали на кончик лучинки ватку и принимались красить друг другу брови. Словно крылья ласточки, брови Барчин становились от этого тусклыми, теряли блеск. Ее брови не нуждались в усьме, они и без нее были густы и бархатисты.
Однажды мать случайно услышала, как Барчин, озорно смеясь, хвастливо рассказывала о джигите, которому она «здорово ответила», когда тот попытался затеять с ней двусмысленный разговор. Одна из подруг заметила, что она уже третий раз говорит об этом джигите, с которым познакомилась на стройке и которому «здорово ответила».
— Не может быть! — смутилась Барчин.
— Ну-ка, признавайся, кто этот джигит? — спросила подруга. — Видно, нравится он тебе, если в третий раз о нем говоришь! Уж не этот ли? — засмеялась она, указав на фотографию, что висела на стене.
— Это же мой брат.
— Ой, и в самом деле! Не узнала. Он похож на Хамиду-апа.
— А я похожа на папу, так все говорят, — с гордостью сказала Барчин.
И Хамида-апа радовалась тому, что дочь похожа на ее Хумаюна. Ведь в народе говорят: если девочка похожа на отца, то быть ей в жизни счастливой…
Почти до вечера пробыл Арслан в их доме. Барчин проводила его до крайних домов махалли. Когда он, уже удалившись на почтительное расстояние, оглянулся, она все еще стояла и смотрела ему вслед.
Был ли Арслан дома, находился ли в мастерской у Кизил Махсума, беспрестанно думал он о Барчин, нетерпеливо ждал дня, когда они снова встретятся. А едва увидев ее, всякий раз терял дар речи, разом вылетали из головы все слова, которые он готовил заранее. Они подолгу прогуливались молча.
Минуло немало дней, пока он привык так запросто прогуливаться с Барчин и даже иногда осмеливался брать ее за руку.
Чаще всего они встречались у Дворца пионеров.
И на этот раз Арслан беспокойно поглядывал на часы, прохаживался около ажурных металлических ворот, за которыми слышались звонкие голоса ребятишек.
Барчин вышла из трамвая и, заметив его издалека, перебежала улицу. Они поздоровались и пошли в сторону Исторического музея. Несколько дней назад договорились они посетить музей. А идею эту подсказал дочери Хумаюн-ака.
Вечером Барчин сидела в кабинете отца и писала план занятий на завтрашний день, составляла конспект уроков. Хумаюн-ака сидел на диване и читал газету. На минуту Барчин отвлеклась от работы и как бы между прочим заметила:
— У нас в программе нет наших древних поэтов, мыслителей, но я своим детям рассказываю о них, и они очень внимательно слушают. Завтра собираюсь им рассказать о Бабуре…
Отец снял очки, отложил газету. Стал рассказывать о Навои, Руми, Рудаки, Хафизе, Фирдоуси, о их жизни, их поэзии.
Потом говорили об истории. Хумаюн-ака любил историю и гордился богатым и интересным прошлым своей земли.
— Мы обязаны знать свое прошлое потому, что на протяжении многих столетий колонизаторы грабили нашу страну, тиранили народ, умышленно извращали нашу историю, стремясь «доказать» нашу отсталость. Тогда как священная книга язычников «Авесто» была написана кем-то из наших предков три тысячи лет назад. Колонизаторы скрывали от мира работы наших величайших философов, мыслителей. Оригиналы сочинений Авиценны, Лутфи были увезены в Брюссель и Лондон. Тем не менее на творчество многих западных писателей, поэтов оказала влияние наша древняя поэзия. К примеру, даже Герберт Уэллс написал своего «Человека-невидимку» на основе восточной легенды…
Хумаюн Саидбеков поведал дочери о согдийцах, саках, массагетах, хорезмийцах, живших в древние времена на землях Средней Азии. Эти воинственные племена селились в основном по берегам рек Джейхун и Яксарт[45]. А Самарканд тогда не уступал по величию и красоте древнему Риму. Назывался он Маракандой.
— Если посетишь Исторический музей, ты узнаешь много интересного и о родном Ташкенте, который наши предки именовали Чач. И тебе будет что рассказывать своим ученикам. Они должны знать историю города, в котором живут.
Барчин оживленно рассказывала Арслану о разговоре с отцом. Они шли неторопливо. Опавшие желтые листья шуршали под ногами. Арслан взял ее под руку, но никак не мог приноровиться к ее шагу. Он впервые шел с девушкой под руку. Она доверчиво прижала локтем его руку к себе, и он вдруг почувствовал, как бьется ее сердце. А может, ему показалось? Разговаривая, Барчин временами оборачивалась к нему, и глаза ее при этом сверкали, как звездочки. Они излучали свет, который проникал в самую душу и разгонял мрак переживаний и тревог.
Глава шестая ГАП
Арслана пригласили на гап. Он не испытывал большого желания идти, но отец сказал:
— Ступай, сынок. Зовут — не отказывайся, не зовут — не навязывайся.
Арслан надел соответственно случаю новые полотняные брюки и белые парусиновые туфли. Сабохат погладила ему рубашку, достала из сундука вышитую ею тюбетейку. Арслан погляделся в зеркало, остался доволен собой и направился в сторону махалли Кургантеги. Он быстро шел по узким, извилистым улочкам, сжатым с обеих сторон высокими глинобитными дувалами, над которыми нависали уже почти голые ветки деревьев. Солнце то пряталось за прозрачные, редкие облака, то снова показывалось. Было душно, пришлось расстегнуть на вороте пуговицу. Наконец он увидел знакомую двустворчатую калитку, у которой росла огромная ветвистая орешина. Калитка была не заперта, и Арслан вошел во двор.
Предводитель местных джигитов Чиранчик-палван, получивший это прозвище за высокий рост и неимоверную силу, стоял посреди двора и отдавал приказания парням, занятым работой. Одни в углу двора, куда вел золотисто-зеленый тоннель, образованный густо сплетенными лозами виноградника, вьющегося по дугообразным опорам, устанавливали огромный котел на две махалли; другие кололи дрова. Чиранчик-палван (настоящее имя его Шадманбек) деловито расхаживал по двору, гордый своими поскрипывающими хромовыми сапогами, шелковым бельбагом, трижды опоясывающим его полосатый бекасамовый халат, и свисавшим с пояса ножом с белой ручкой слоновой кости.
Чуть поодаль, на берегу журчащего арыка, двое стариков резали на мелкие кусочки баранье сало. Мясник разделывал тушу.
Вода из арыка вливалась в широкий хауз, обсаженный вокруг яблонями и розами. Супы вокруг хауза застланы паласами, на них возложены пуховые подушки.
Чиранчик-палван кивнул в ответ на приветствие Арслана и распорядился отнести к очагу медные тазы, блюда и стопку касы — глубоких фарфоровых чащ.
Но в этот момент появился Кизил Махсум, только что вышедший из ичкари[46], и, увидев Арслана, окликнул его.
— Я очень доволен, что ты пришел, брат, — сказал он.
— Я немножко задержался, — извиняющимся током проговорил Арслан.
— Ты не опоздал, не беспокойся. Я специально позвал тебя, чтобы ты знал, что такое гап. Что вы, молодежь, видели, явившись в этот мир в нужду и разруху, когда за куском хлеба или ста граммами масла приходится стоять в очереди! А нам эти самые очереди были неведомы! И покупали мы все не по граммам!.. Ну, так ты сегодня увидишь, какие гапы устраивали отцы наши и деды…
Чиранчик-палван тем временем позвал Чапани и велел ему отнести к очагу посуду.
— Палван, — обратился к нему Кизил Махсум, — впрягайте и других молодцов, пусть поскорее заканчивают приготовления. А мой братишка Арслан будет встречать гостей, других дел ему не поручайте.
— Будет по-вашему, — сказал Чиранчик-палван, подобострастно приложив руки к груди и согнувшись в поклоне.
— Что вы, Махсум-ака, я пришел помочь, — возразил Арслан.
— Вот и поможете мне встречать гостей! — смеясь, ответил хозяин. — Кроме моих друзей из нашей махалли должно прибыть более пятидесяти гостей из других мест…
Чиранчик-палван оглядел Арслана с ног до головы, недоумевая, почему это хозяин дома столь ласков с этим молодцом. И решил про себя: «Видно, хочет Махсум женить его на своей двадцатилетней дочери». Он понимающе подмигнул Арслану, молодцевато поправил бельбаг на поясе и зашагал к парням, разжигающим очаг.
Как только солнце село и дневную духоту сменила прохлада, в благоухающий сад Кизил Махсума начали собираться его дружки-приятели, родственники и близкие знакомые родственников. Один за другим отворяли калитку разряженные мужчины — лавочники, торговцы мехами, любители перепелиных боев, принесшие своих птиц в рукаве, или за пазухой, или просто на ладони, накрыв их сверху платочком. Пришли аксакал Хайитбай из Ак-Тепа, Нишан-ака из махалли дегрезов, Муслим-ака, Исраил-ака и Хайдар-долговязый, названный так махаллинцами, чтобы не путать его с Хайдаром-коротышом.
Спустя примерно полгода после ссоры Нишана-ака и Кизил Махсума аксакалы махалли помирили их: дескать, нехорошо жить по соседству и носить камень за пазухой. И Кизил Махсум всеми силами старался задобрить Нишана-ака.
Почтенных гостей Чиранчик-палван и Арслан усадили на широкую супу, что на самом видном месте и застлана наиболее красивыми коврами. Рядом оказались Хайитбай-аксакал, Нишан-ака, Мусават Кари и другие уважаемые гости. Молодежь расположилась отдельно.
Мусалласа — сладкого виноградного вина — было вдоволь, и пить его разрешалось открыто. Ну, а желающие пить водку должны были это делать тайно, чтобы не видели старшие.
На дастарханах стояла, всевозможная еда. Здесь были и острые блюда, и сладости, и горячая закуска, и холодная. Гап этот скорее походил на большой той.
Прошло немного времени, и с дутарами в бархатных чехлах явились хафизы-певцы — Джурахон и Маурджан. Популярнее в целом крае не сыщешь. Почти вслед за певцами пожаловал и тот, кого уже давно с нетерпением дожидались устроители гапа. Сам Кизил Махсум несколько раз подходил к калитке и выглядывал на улицу. И наконец гость пожаловал. Черный автомобиль подкатил к калитке и остановился, окутанный облаком пыли. Автомобиль пока еще был диковинкой, и его вмиг окружила шумная толпа босоногих ребятишек. Несколько почтенных людей поднялись с мест, заспешили к калитке.
Из машины, отмахиваясь от пыли, вышел Аббасхан Худжаханов. Несмотря на молодость, он уже был почтенным человеком.
Все знали, что Худжаханов не посещает подобные мероприятия. И если он пришел, то это лишь из-за уважения к людям, с которыми живет в одной махалле, и особенно к Кизил Махсуму, хозяину этого дома. Он прошел, несколько сторонясь подгулявшего Чиранчик-палвана, протянувшего было ему обе руки. Кизил Махсум сопроводил его к главной супе и усадил рядом с самыми почтенными аксакалами. Ему налили мусаллас, подали горячий шашлык.
Раскрасневшись от выпитого, Мусават Кари прочел наизусть несколько своих виршей. Худжаханов ему сдержанно поаплодировал, сверкая белыми манжетами.
В самый разгар веселья, когда хафизы начали хрипнуть от песнопения и то и дело смачивали горло мусалласом, а звон дутаров стал глуше, калитка шумно распахнулась. Это появился махаллинский дурачок Хасан-телок. Не обращая внимания на людей, которые недовольно зашикали на него, махали руками и, приложив пальцы к губам, произносили: «Тс-с» — чтобы не мешал слушать песню, — Хасан-телок без всякого приветствия громко обратился к хозяину:
— А где моя доля? Собрались одни байваччи[47] и все пьете сами?
Раздраженный хозяин показал рукой на берег арыка, где стояло корытце с белопенной водой, в которой только что мыли рис. Хасан-телок проследовал к арыку. Он опустился на корточки, с трудом поднял корытце и, приняв белые помои за бузу, начал жадно пить. Опорожнив корытце до половины, поставил на землю. Отдышавшись, оглядел людей. И, словно испугавшись, что это питье кто-то сейчас может у него отобрать, снова прильнул к корытцу. Люди с удивлением следили за ним.
Выпив всю воду, Хасан-телок поднялся и, «захмелев», запел:
Целковые твои — мне в карман,
За сливки должок потом отдам…
Он, танцуя — поводя плечами, кружась, щелкая пальцами и подмигивая гостям, — дважды прошелся вокруг притихших гостей. Затем, шатаясь из стороны в сторону, неуверенно двинулся к калитке и покинул двор. С улицы еще некоторое время доносился его голос:
За целковые куплю невесту,
На сливках замешу тесто…
— Блаженный, — усмехнулся вслед ему Чиранчик-палван.
— Каналья! По-настоящему опьянел, — произнес с удивлением Мусават Кари.
Хайитбай-аксакал задумчиво произнес:
— Его отец, бедный Абдували, преждевременно умер от горя. По такому случаю и сказано: «Бедняка и на верблюде собака укусит».
— Да, вы правы, приличные дети являлись на свет только в байских семьях, — сказал Мусават Кари, неверно истолковав слова старика. Будь он трезвым, может, и не сказал бы такого, но мусаллас развязал ему язык.
Арслан заметил, что Кизил Махсум с беспокойством посмотрел вокруг, и украдкой ткнул приятеля локтем.
— Нынче принято чернить баев, а по сути они были мудрыми людьми, — продолжал Кари, не замечая предостережений хозяина. — А подобные Хасану-телку обречены ходить по земле, шаркая драными кавушами. Такова воля аллаха, аксакал.
Хайитбай-аксакал крякнул, провел по бороде рукой, но промолчал. Нишан-ака исподлобья смотрел на Мусавата Кари. Глаза его сверкали, лицо побледнело. Он был из очень бедной семьи кустаря-литейщика. Арслан забеспокоился, что Нишан-ака сейчас скажет что-нибудь резкое, возникнет ссора и тогда будет испорчен весь вечер.
Но Нишану-ака, видно, удалось подавить свой гнев. Или просто не успел он высказать свое мнение о людях, подобных Мусавату Кари, потому что в эту минуту снова грянула музыка и хафизы, к огромному удовольствию присутствующих, вновь запели свои песни, даря слушателям новые наслаждения. Притихли деревья и цветы, ни один листок на них не шевелился. Казалось, и им песни доставляют ту же усладу, что людям.
Как только хафизы умолкли, решив передохнуть, Чиранчик-палван затеял аскию — состязания острословов. Поискав глазами соперника, он задержал взгляд на человеке с лысой, как тыква, головой, который сидел развалясь и опершись локтем на подушку. Он все это время помалкивал, переводил изучающий взгляд то на одного, то на другого, и при этом на толстых его губах блуждала еле приметная усмешка.
— Эй, Шермат-курбаши[48], распрямите-ка свой стан! — окликнул его предводитель махаллинских забияк. — Вы же бывалый петух! За время гапа вы с места не сдвинулись. Или, отправив курицу на базар, сами высиживаете яйца?
Вся компания давно уже с нетерпением ожидала повода для смеха. Двор огласился таким громким хохотом, что его, должно быть, услышали в соседней махалле.
Шермат был не из тех, кто падает лицом в грязь или уступает задиристым молоденьким петушкам. Он сел прямо, глаза его задорно заблестели.
— Эй, палван! — крикнул он.
— Лаббай? Слушаю вас.
— Вот мы и распря-а-мились… Давеча, когда мы из-за курочки драли друг друга шпорами, я никак не мог разглядеть вашей головы. А потом гляжу — оказывается, вы с перепугу спрятали ее у меня между ногами!
Компания опять разразилась хохотом. Иные с лукавыми выражениями перемигивались, комментируя находчивость острословов.
— Курбаши-и!
— Лаббай?
— У каждого петуха ведь гребешок бывает на голове! — крикнул Чиранчик-палван, намекая на отсутствие волос у соперника. — А вашу, простите, легко перепутать с другим местом. Вот я в поисках вашего гребешка и нырнул туда, где оказалась моя голова!..
Смеющиеся хватались за животы, вытирали выступившие на глазах слезы.
После аскии решил показать свое искусство Баят[49]-бала (его настоящее имя было Хаятджан, но некоторые проделки парня послужили поводом назвать его Баят-бала — игривым мальчиком). Кто-то из захмелевших джигитов раздобыл откуда-то атласное платье, платок с кистями и нарядил в них Баят-бала. Когда на середину чисто подметенной и политой площадки плавно выступила изящная танцовщица, собравшиеся, завороженные ее грациозностью, не сразу поняли, что это вовсе не женщина.
Баят-бала исполнял женские танцы под звучание баята, мастерски поводя бедрами, играя животом, а то, вскинув кверху руки и глядя на них томным взглядом обольстительницы, извивался, точно змея.
То и дело раздавались возгласы: «До-ост!»[50], «Очарован я глазами твоими!», «Еще разок! Еще разок всколыхни бедрами…» И бубнист слегка был навеселе, играл с таким азартом, что казалось — вот-вот лопнет его бубен. Баят-бала, кажется, позволил себе малость выйти из границ приличия, проделав несколько щекочущих воображение движений. Парни восхищенно завопили, захлопали в ладоши. Это не совсем пришлось по душе аксакалам, людям почтенным. Аббасхан Худжаханов, Хайитбай-аксакал, Мусават Кари, сидевшие на почетном месте, хмурили брови и неодобрительно поглядывали в сторону веселившейся молодежи.
Кизил Махсум приблизился к Баят-бала и что-то шепнул ему на ухо. После этого тот стал танцевать более сдержанно.
Но вот наконец, устав, примолкли певцы и музыканты. Баят-бала снял с себя платье и сел на супу, еле переводя дыхание и утирая рукавом потное лицо.
После аскии, по знаку Чиранчик-палвана, начали разносить нарын, подав его прежде всего сидевшим на большой супе.
— А ну, давайте, домля![51] — сказал Хайитбай-аксакал, протянув Аббасхану пиалу с водкой. Затем подал Мусавату Кари, Нишану-ака. — Выпейте этой прозрачненькой, если хотите стать петухом в своем гареме! Хе-хе!.. от разных там мусалласов только живот вздувается.
— Значит, решили горло смазать, аксакал? — заметил, посмеиваясь, Аббасхан. Жидкость проливалась из пиалы и стекала по его пальцам.
— Что? Это разве масло, чтобы ею горло смазывать? Не люблю еду с изобилием масла, стану ли его пить! Это, домляджан, чистейшая водка, королева среди напитков! Выпейте — и не заметите, как станете богатырем.
— Пажалиста, мне надо домой, — отпрашивался кто-то.
Чиранчик-палван, не желая его отпускать, возразил:
— Нет приказа уходить!
Мусават Кари, не выдержав, взвизгнул:
— Эй, вы, вам родного языка мало? Не можете обходиться узбекскими словами?
— Мы вас поняли, домляджан, — виновато произнес джигит. — Привыкли, знаете ли, друзей среди русских много…
— Родной язык презирают! Не знаю, что будет через двадцать лет! — произнес Кари громко, чтобы слышали все.
Стало тихо. Почувствовав, что окружающие обратили на него внимание, Кари произнес еще громче:
— Надо сохранять чистоту языка! Их величество Алишер Навои на этом языке написали «Фархад и Ширин»! На этом языке написано «Бабурнамэ»! На этом языке написан «Хикмат»! Не оценивший себя может ли оценить другого! Не будемте же вкраплять чужих слов в наш язык…
— Домля, не скажете ли вы, как называется электричество по-узбекски? — спросил Нишан-ака, сидевший сбоку от него.
— Лаббай? — выкатил глаза Мусават Кари, сделав вид, что не понял вопроса.
— А как называют самовар? — продолжал Нишан-ака.
— Самовар? Самовар и есть самовар! Наше же!
— Ха-а-а, ваше! — усмехнулся Нишан-ака.
— А то чье же?
— А что скажете насчет трактора?
— Вы, Нишанкул[52], не затыкайте мне рот! — вскипел побагровевший Мусават Кари.
— Осторожнее выражайтесь, Кари! Это ваше слово «кул» не по адресу. Времена-то ведь поменялись.
Весь смысл жизни Мусавата Кари, казалось, сводился к разжиганию розни между людьми разных вероисповеданий и национальностей, между представителями известных родов и низших сословий. Скорее всего именно это вызывало к нему симпатии Аббасхана Худжаханова, который и сейчас слушал Кари с нескрываемым удовольствием, поощряя его расплывшейся по лицу улыбкой, и будто всем видом своим подзадоривал: «А ну, давай-ка еще!..» Однако, услышав упрек Нишана-ака, он смутился, опомнясь, и, подобно черепахе, втянул голову в плечи. Повернувшись к соседу, буркнул: «Попала муха в плов…» Но теперь он пытался взглядом, жестом показать Нишану-ака, что он на его стороне. Однако тот не обращал на него ровно никакого внимания. Тогда он обратился к Мусавату Кари с советом:
— Уважаемый, тут вокруг молодежь, вас могут неправильно понять. Давайте лучше о другом поговорим.
Сидевший на краешке супы Парсо-домля одобрительно кивнул ему: «Хвала! Умные люди знают, когда свое слово сказать…» Человек этот хорошо разбирался в торговых делах и не раз для уважаемого Аббасхана Худжаханова доставал дефицитные вещи. И обликом он похож на прощелыгу торговца. Уже более года Парсо-домля снимал комнату у Мусавата Кари. Никто не ведал, откуда он прибыл сюда и чем прежде занимался.
— Нечего меня пугать, я не из пугливых! — проворчал Мусават Кари, всплеснув руками.
— Вай, бессовестные, дайте послушать аскию! — возмутился опьяневший Хайитбай-аксакал. — Развели базар, как бабы!..
Кари всем корпусом повернулся к Нишану-ака. Губы его дрожали.
— Можете меня ругать, как вам угодно! Но я не допущу, чтобы ругали мою нацию!
— Речь о вас, а вы не нация. Такие, как вы, мешают спокойно жить нашему народу. Об этом речь.
Аббасхан Худжаханов был хмур. Не предполагал он, что пустячный спор двух немолодых уже людей примет такой оборот. У него окончательно испортилось настроение. Выбрав момент, он упрекнул Кизил Махсума, подошедшего, чтобы спросить, не нужно ли чего-нибудь столь почетному гостю.
— Не следовало кого попало приглашать в гости, — сказал ему на ухо Аббасхан. — А коль уж позвали, надо следить, чтоб язык за зубами держали. Скажите Кари-ака — пусть помолчит!
— Эй, да что это с вами? — скалясь в ухмылке, спросил прибежавший на шум Чиранчик-палван. — Ха, пропади эта водка! Такие дружные приятели — и в мгновенье схватились друг с другом.
— И я диву даюсь, Палван, — в тон ему заговорил Хайитбай-аксакал. — Погляди-ка вон на молодых — они и то ведут себя прилично. Вай, срам какой! И не знаешь, за кого из них заступиться: оба хорошо знают наши обычаи…
— Пьянчужка постепенно становится чужим в своей семье, — заметил Аббасхан, заинтересованный в том, чтобы возникший спор отнесли к обычной пьяной ссоре. — В свое время Абдуль Фарадж сказал, что без меры пьющий вино выявляет четыре свойства своей натуры. Сначала он напыщен, как павлин, движения его медлительны и величавы. Потом он выражает обезьянью сущность — шутит, паясничает, вызывая смех окружающих. Потом, вообразив себя львом, становится спесивым и самонадеянным. И кончается тем, как правило, что обращается в свинью, валяющуюся в луже.
— Забудем об этом. Принимайтесь за еду! Нарын остывает, — сказал Чиранчик-палван.
По знаку Кизил Махсума певцы поспешно вытерли руки, губы и запели. Снова зазвенел дутар, и гости вскоре забыли про недоразумение, имевшее место на большой супе, среди почетных гостей. Арслан сидел на малой супе, среди сверстников. Сквозь поредевшую листву гранатовых кустов ему было видно и Нишана-ака, и Мусавата Кари. Он и так не испытывал особого веселья, весь вечер беспрестанно думая о больном отце, о Барчин, которая вчера на его предложение пойти в кино ответила, что вечером занята. «С кем она провела вечер?» — мучительно думал Арслан. И его тревогу не рассеяли ни выпитый мусаллас, ни песни хафизов. А после того, как поссорились Нишан-ака и Мусават Кари, ему стало и вовсе не по себе. Оба этих человека близки ему. Они друзья отца. Ни от того, ни от другого он никогда не слышал ничего худого. Всякий раз оба говорили об учтивости, поучали, как надо жить, различая белое и черное. Ему захотелось незаметно уйти отсюда, но вспомнились слова отца: «Я здоров, сынок… Не отбивайся от людей…» — и он оставался сидеть на месте.
Опять перед глазами возникла Барчин. Радостная, сияющая. «Арслан-ака, вы очень понравились моей маме! — сказала она. — Мама считает, что вы серьезный и разумный парень…»
Арслана отвлек от мыслей шум, донесшийся от котла, под которым дотлевали последние уголья. Вали-аждар[53], настолько круглый и упитанный, что с трудом затягивал ремень на животе, заспорил с Аличипхуром, что может съесть целый таз нарына. Кизил Махсум, осклабясь, подошел к дружкам. Он смекнул, что ему представляется случай еще разок развеселить гостей.
— Если съешь таз нарына, — сказал Кизил Махсум так громко, чтобы слышали все, — то можешь увести с собой вон того барана, привязанного под навесом. Еще и чапан накину на тебя в придачу.
При этих словах Чиранчик-палван азартно зааплодировал и закричал, улюлюкая:
— Жри, Аждар! Соглашайся! Все сожри!..
— Проглоти, братец Аждар, дабы оправдать свое имя! Корыто нарына ведь пустяк для тебя? — подал голос Хайитбай-аксакал.
— И сожру! Вы, хозяин, не откажетесь от своего слова, а?
— Отказавшемуся — позор! — притопнул ногой Кизил Махсум.
— Вай, я же свидетель! — сказал Чиранчик-палван, стоявший засучив рукава и поглаживая живот, будто сам собирался съесть корыто нарына. — Ну, а если лопнешь, не придется ли нам отвечать?
— Н-не придется!
— Засучи рукава и возьми ложку, мой богатырь Аждар! — сказал подошедший Хайитбай-аксакал и, обернувшись к гостям, бросил: — Э, не бойтесь, не впервой этому молодцу стрескать столько!
— Я уж отойду в сторонку, а то невзначай и меня проглотит, — проговорил Аличипхур, отступая на несколько шагов. — А вы еще потешаетесь какими-то аския. Вот кто мастак зрелище устраивать!
— Только условие, — сказал Аждар. — Когда съем нарын из этого медного таза, спущусь в хауз, не сочтите это за прегрешение.
— Валяй! Договорились! — произнес Кизил Махсум.
Вали-аждар опустился на колени перед громадным медным тазом и, хватая нарын пригоршнями, стал совать в рот. По подбородку и от кистей рук до локтей стекал жир, и ему приходилось слизывать его языком. Пихая за обе щеки, он торопливо жевал, а иногда проглатывал и не разжевывая. Живот его, казалось, прямо на глазах раздувался все больше и больше, как резиновый. Его обступила кричащая, смеющаяся, улюлюкающая толпа. Аличипхур ехидно приговаривал, осклабясь:
— Бери, мой миленький Аждар, глотай. Приятного тебе аппетита…
Хайитбай-аксакал, стоявший покачиваясь и раскорячив ослабшие ноги, шепнул Нишану-ака:
— Появись четыре таких дива, и весь мир проглотят.
И тут же, обернувшись, обратился к Мусавату Кари:
— Домляджан, у вас вызывают неприязнь те, кто говорит «пажалиста». А про этого что скажете?
— Лаббай?
— Для ученых людей дел много под нашим небом, — продолжал Хайитбай-аксакал. — Мы выращиваем в поле хлопок, на своих огородах сажаем дыни, арбузы — так и пройдем через этот мир. А вы, мулла, должны воспитывать вот таких. Глядите, каков он! Какое ему дело до нации и ваших споров! Ему бы только поесть, попить да поспать. Человек ли это?..
Не прошло и получаса — медный таз оказался пустым. Оставшийся на дне его бульон Вали-аждар вычерпал пиалой и выпил. После этого он, пыхтя, тяжело поднялся на толстые короткие ноги, медленно расстегнул пояс, снял брюки и рубашку. Скользя голыми ягодицами по мокрому берегу, соскользнул в хауз и шумно плюхнулся в воду. Некоторое время он, точно огромная дыня, то исчезал, то появлялся на поверхности прозрачной холодной воды. От него расходились круги, и вскоре от распространяющегося жира они заблестели, переливаясь то розовыми, то зеленоватыми оттенками, будто в хауз вылили керосин.
Вали-аждар минут двадцать пребывал в воде. Блестящая пленка жира затянула поверхность всего хауза. Собравшиеся, полагая, что Аждар объелся, забеспокоились, как бы с ним не случилось чего худого. Но вот он медленно подплыл к берегу и протянул руку. Дружок его Аличипхур помог ему выбраться из хауза и усадил на супу. С Аждара на ковер стекала вода. Он сидя, не спеша, натянул портки, надел рубаху, опоясался. Ему протянули пиалушку горячего чая. Он двумя глотками осушил ее и торжествующе посмотрел на Кизил Махсума.
— Бери, баран твой! — сказал тот и направился в дом.
Через несколько минут он вынес чапан и накинул его на плечи Вали-аждара. Затем прошел под навес, отвязал барана и, держа за веревку, притянул его за собой.
— Забирай! — сказал он, бросив конец веревки к ногам Вали-аждара.
Поступок хозяина все встретили аплодисментами и одобрительными криками.
Арслан проникся к Кизил Махсуму еще большим уважением. По мнению Арслана, Кизил Махсум проявил себя как благородный человек. Ведь только человек широкой души так мог поступить! Люди из-за трех рублей вступают в препирательство, а Кизил Махсум ради друзей пренебрег деньгами. Он удовлетворил желание и обжоры Вали-аждара и публике доставил превеликое удовольствие необычным зрелищем. Что и говорить, этот человек никому не причиняет обиды, наоборот, если имеет возможность, поможет каждому.
Музыканты вновь заиграли.
К Арслану подошел Кизил Махсум. Он почти приник губами к его уху и сказал, чтобы никто не услышал.
— Укаджан, — прошептал он, — возьмите чайничек хорошо заваренного чая, отнесите Мусавату-домля и немного посидите с ним рядом. Они почему-то расстроены. Может быть, им мой гап не понравился?
Мусават Кари сидел притихший. Видно, еще не пришел в себя после ссоры с Нишаном-ака.
— Я уже давно наблюдаю — сидят грустные. Они очень уважаемый человек. Пойдите развейте их печаль добрым словом. Если же сможете упросить прочитать свои газели, этим обратите наш гап в праздник.
— Я постараюсь, — кивнул Арслан.
Кизил Махсум, никем не замеченный, тихонько отошел и исчез за кустами роз.
Когда музыканты закончили мелодию, Арслан, переждав еще минутку, поднялся и подошел к парню, хлопотавшему около двух огромных самоваров. Наливая воду то в один самовар, то в другой, он умудрялся постоянно поддерживать один из них в состоянии кипения.
— Дружище, завари-ка чайник чаю. Да покрепче.
— Будет исполнено! Имеется пиала с молитвенной надписью, дать ее?
— Давай, братишка.
Арслан с чайником в руках пересек двор и подошел к большой супе. Обратился к Мусавату Кари, облокотившемуся на пуховую подушку:
— Домля, разрешите минутку посидеть рядом с вами?
— Пожалуйста.
— Не сочтите за невоспитанность, но захотелось мне посидеть с наставником.
— Это как раз признак благовоспитанности. Иметь побольше последователей — желанная цель наша.
— Отец мне всегда говорит: «Прислушивайся к словам почтенных, умудренных опытом людей», — сказал Арслан, присаживаясь на краешек супы.
— Как здоровье Мирюсуфа-ака?
— Лучше.
— Да исцелит его аллах.
Арслан налил в пиалу чаю и опрокинул ее обратно в чайник, чтобы получше заварилось.
То, что Арслан специально подошел и сел рядом с Мусаватом Кари — чем, естественно, решил выразить ему сочувствие, — неприятно поразило Нишана-ака.
А Кари, подняв голову, горделиво оглядел людей: дескать, видите, молодежь меня понимает!
Чтобы не мешать беседе Мусавата Кари и Арслана и чем-то занять себя, некоторые из сидящих рядом полезли в карманы за табакерками и легкими ударами стали ссыпать на ладонь зеленый порошок насвая и закладывать его под язык.
— Насвай у Ибрагима куплен? — громко спросил Хайитбай-аксакал у соседа.
— У него.
— Пройдоха он, много извести добавляет, — сказал Хайитбай-аксакал, как бы давая понять, что не обращает внимания на беседу Кари и Арслана и что вообще питает полнейшее пренебрежение к подобного рода беседам. Так сказать, не ставит их ни в грош. — А ну, Нишанбай, отсыпьте-ка мне вашего насваю!
Нишан-ака вытряхнул из табакерки на огромную ладонь Хайитбая-аксакала изрядную порцию табака.
— Еще, еще! Не жалейте!
— Вы хотите с купол бани? Аппетит у вас неплохой.
— Мы употребляем в таком количестве. Ну хотя бы не менее кучи индюшачьего навоза! Хе-хе!..
Не прошло и четверти часа, подошли еще двое молодых парней и сели около Мусавата Кари. Им, как видно, тоже хотелось выглядеть тонкими ценителями «возвышенного слова».
— Домля, не сочтите за труд, прочтите что-нибудь присутствующим на нашем празднестве, — попросил один из них, опередив Арслана.
— Значит, вы более сыты, если перехватили мои мысли, — пошутил Арслан.
И тут как из-под земли вырос Кизил Махсум.
— Домля, вы как-то читывали газель «Иные смеются, я плачу». Прочтите ее.
— Дорогой мой, — ответил Мусават Кари, многозначительно взглянув на хозяина, — сию газель сейчас нельзя читать. — Он движением бровей указал на сидевшего позади Нишана-ака.
— Лов-хавла вало куввато[54], — произнес Кизил Махсум, вытаращив глаза. — Нельзя, говорите? Если нельзя, то и не надо. И так ходим с оглядкой. Наш многочтимый отец были купцом, много стран повидали, так вот они говорили…
— Не расстраивайтесь, уважаемый, я избавлю вас от излишних беспокойств, — многозначительно произнес Мусават Кари и оглядел собравшуюся вокруг него молодежь. — Однажды я сказал одному из своих друзей, спросившему, почему я перестал писать газели: «Я вынужден помалкивать, ибо у каждой мысли есть две стороны — белая и черная. Глаз же вражий видит только черное!» На это друг мой ответил: «Да никогда враги наши не увидят белого!»
Лучи солнца — источник жизни на земле,
А летучей мыши жить нравится во тьме.
Возникло оживление. Кто-то вполголоса произнес:
— Да будет у вас благополучие, жить вам сто лет, домля!
Парни поглядывали на него с подобострастием, как на мудреца. А сидевшие поодаль спрашивали у приятелей, что, мол, там сказал домля.
Кизил Махсум внутренне ликовал, мельком взглянул на Нишана-ака, пытаясь определить, дошел ли до него смысл газели. Но тот спокойно беседовал с Хайитбаем-аксакалом и скорее всего ничего не слышал. Кизил Махсум огорчился, даже улыбка сошла с его лица. Проходя мимо, Аббасхана Худжаханова, он шепнул ему на ухо:
— Стрела точно в цель попала!
— Глубоко копнул домля, — ответил тот, согласно кивнув.
Мусават Кари сидел, опустив глаза и раскачиваясь всем корпусом. Он делал вид, что ему нет дела до всего, что вокруг происходит, однако не скрылось от его внимательного взгляда и впечатление, произведенное на молодежь, и то, как реагируют недоброжелатели. Глубокомысленно помолчав несколько минут, он решил рассказать притчу из Саади:
— По дороге из великой Куфы к каравану примкнул странствующий по чужбине нищий. Он был бос, и голова ничем не прикрыта от палящих лучей. И ничего у него не было ни в руках, ни за пазухой. А шагал он важно, с достоинством.
Один из купцов, наклонившись с верблюда, спросил: «Эй, дервиш[55], куда путь держишь? Путь далек и тяжел. Не вынести тебе испытаний. Вернись, пока не поздно, назад!» Дервиш же продолжал путь, делая вид, что не слышит его.
Когда караван достиг Махмуда, ехавший на верблюде купец покинул мир. Дервиш подошел и, наклонясь над ним, сказал: «Я, терпя трудности пешего хождения по свету, не умер, ты же почил, наслаждаясь ездой на верблюде!»
Сколько аргамаков отстали в пути,
Лишь ослу хромоногому выпала доля к цели прийти!
Насупленные брови Хайитбая-аксакала вздрогнули и расправились. Он с интересом посмотрел на Мусавата Кари, цокнул языком и, слегка подтолкнув Нишана-ака локтем, заметил:
— А здорово витийствует, каналья!..
Нишан-ака кивнул, но не подал голоса, ссылаясь на насвай, заложенный под язык.
Кари между тем вспомнил другую притчу:
— Сколь поко́рен верблюд, всем известно. Даже мальчик может взять его за повод и пройти сотни верст — верблюд не выйдет из повиновения. Но стоит малышу по несмышлености своей направиться к опасной крутизне, верблюд вырвет из его рук повод и перестанет быть покорным. Так-то вот. Когда проницательность и власть проявить надобно, ротозейство достойно осуждения. «Врага не сделаешь другом милостью своей, усугубишь его алчность скорей».
Будь прахом у ног проявившего милость хоть раз.
Кто обойдется с тобою жестоко, лиши его глаз…
С теми, кто груб, не разговаривай мягко,
Мягкий напильник не точит металла.
— Баракалла! — произнес один из стариков. — Хвала вам, домля!
— Долгой вам жизни, домля, да сопутствует вам везение в жизни, — сказал повеселевший Аббасхан, который поначалу расстроился, осудив в душе Кари за то, что тот непонятную мысль выразил в первой притче. Вторая поставила все на свои места.
— А ну, раскройте ладони! — обратился Чиранчик-палван ко всем. — Пусть долгой будет жизнь домли, аминь, аллах акбар!
Сидящие провели по лицу ладонями.
Мусават Кари отпил из пиалы глоток чая и протянул Чиранчик-палвану в знак признательности. Самодовольно огляделся по сторонам и, убедившись, что почти все собравшиеся вокруг прониклись к нему симпатией, решил проявить «милость», о которой только что говорил:
— Нишанбай, не наскучил я вам своими притчами?
Обращение повергло Нишана-ака в некоторую растерянность. От изумления он не мог и слова выговорить. Нишан-ака прекрасно понимал, что Кари хочет показать людям, насколько он выше простолюдина, дерзнувшего спорить с ним. Поэтому вопрос его никак нельзя было оставить без ответа.
— Напротив, — сказал Нишан-ака спокойно. — Могут ли стихи шейха Саади навеять скуку? Притчи эти многие сказывали и до вас, и всякий раз мы с удовольствием слушали. Однако… слова шейха Саади чисты, как розы, услаждающие наш взор, а слетая с вашего языка, они пропитываются ядом.
— Хе-хе-хе! — засмеялся Хайитбай-аксакал, сидевший погрузив локоть в подушку, и хлопнул Нишана-ака по колену, как бы желая сказать: «Здорово вы его! Не мешает сбить спесь с подобных, кичащихся своим благородным происхождением».
— Браво, Нишан-ака! — воскликнул Аббасхан Худжаханов, давая понять, что в этом споре он не держит ничью сторону. — Браво, спорить вы умеете…
— Когда слушаешь их речи, — Нишан-ака кивнул в сторону Кари, — приходится понюхивать свою тюбетейку.
— Чтобы перебить идущий от них смрад! Хе-хе-хе! — поддержал приятеля Хайитбай-аксакал.
По реакции Аббасхана Худжаханова Мусават Кари понял, что слишком далеко зашел, и решил на всякий случай расчистить путь для отступления. Он знал, что более всего рассердило Нишана-ака, и сказал добродушно:
— Не горячитесь, к вам никто не относится с пренебрежением, как к простому рабочему. Вы же учились в старометодной джадидской школе…
Кизил Махсум, чтобы разговор опять не принял нежелательный оборот, не теряя времени, взялся за осуществление намеченного. Он подал знак одному из джигитов, и тот мгновенно исчез в ичкари. Вскоре он вышел оттуда, торжественно возложив на ладони несколько сложенных шелковых чапанов.
— Почтенные! — обратился хозяин к почетным гостям. — Прошу вашего позволения накинуть это на ваши плечи. Вы проявили глубокое уважение, явившись ко мне, так примите же мой скромный дар.
Он взял из рук джигита один чапан и подошел прежде всего к Мусавату Кари.
— Бисмилло… — произнес тот, торжественно поднимаясь с места.
— А ну, аксакал! — Кизил Махсум обернулся к Хайитбаю.
— Спасибо, очень уж уважили…
— А ну-ка, Нишан-ака!
— Оставьте нас, Махсум, ничего мы не сделали такого, за что стоило бы надевать на нас чапан. Заслужили те, кто «раскрывают глаза нации».
— Не обижайте нас! — Кизил Махсум, с трудом сдерживая раздражение, накинул чапан на плечи сидевшего Нишана-ака, который, как он заметил, не собирался подниматься.
После этого подарок получили Аббасхан Худжаханов и Зиё-афанди.
Подошел Чиранчик-палван и, глядя исподлобья на Кизил Махсума, осведомился:
— А тем, кто прислуживал?
Хозяин, смеясь, ответил:
— Ваш черед подойдет. Одаришь прежде времени — сбежите, чего доброго.
Компания развеселилась. Хафизы опять ударили по струнам и запели.
Мусават Кари почувствовал пронизывающий взгляд Аббасхана Худжаханова. Он уловил в этом взгляде насмешку. Казалось, этот человек видит его насквозь, читает мысли. И, может, знает даже не только то, как Мусават Кари коротает нынешние дни, но и прошлую его жизнь. Взгляд этот как бы говорил: «Дурак ты, дурак! Нашел место распускать язык!» И, словно под гипнозом, Кари вдруг сам до боли ощутил свое ничтожество. Ему вспомнилось прошлое.
В начале тридцатых годов Мусават Кари преподавал в начальных классах. Он мнил из себя молодого интеллигента и даже носил жилетку под пиджаком. Образования у него не было никакого, в школу его пристроил один из родственников, работавший в районе.
Каждый урок он начинал с того, что чертил на доске два круга, которые должны были обозначать часы. Вписывал в них цифры, рисовал стрелки и принимался объяснять, куда они должны двигаться. Ученики, никогда не видевшие настоящих часов, ровным счетом ничего не понимали. На следующем уроке он вновь возвращался к той же теме. Когда в конце года, по жалобе родителей, нагрянула комиссия, оказалось, что его ученики так и не постигли этой премудрости. Но зато знали одно стихотворение. Он и сейчас его помнит:
Я оседлал вороного коня,
Пронестись чтоб по долам и горам.
Взмахнул кнутом — и понес он меня
Навстречу солнцу и ветрам.
Его, разумеется, освободили от учительства. «Не повезло на поприще преподавания — стану поэтом!» — решил он. Ему потребовался всего один вечер, чтобы написать длинное-предлинное стихотворение. Наутро он побежал к Тавалло, который в ту пору из сумерек своей жизни уже входил в ее ночь. Он сперва попросил принести водки. Выпил, тут же захмелел. И разговора у них в тот день так и не состоялось. На следующее утро Мусават Кари опять пришел к Тавалло. Тот встретил его с той же просьбой… Еще долгое время у них никак не вязалась беседа. Они вместе ходили на вечеринки, с которых Кари всякий раз приходилось отводить домой своего наставника. Но однажды, когда все это в конце концов Кари надоело, он настоял на том, чтобы Тавалло прочитал его стихотворение и оценил по достоинству. И тот прочел. Затем отхлебнул из пиалушки водки и сказал прямо:
— Укаджан, оставьте это занятие, из вас не получится поэт!
От слов этих Мусават Кари сморщился, как вялый персик. И, ругая на чем свет стоит «пьяницу-джадида», пошел вон с его двора.
После этого он начал изыскивать способ сблизиться с Хислатом, который, как было всем известно, не ладил с Тавалло. Тенью ходил за ним по пятам и в любую удобную минуту старался очернить в его глазах Тавалло. Наконец тот не выдержал и сказал:
— Хотя и не сошелся я с этой личностью по взглядам на некоторые вещи, но все-таки он истинный поэт! Я не допущу, чтобы так поносили моего коллегу! — и прогнал Мусавата Кари от себя.
Но Кари был не из тех, кто сразу же падает духом. Он решил испытать себя на ином поприще.
Через два месяца в пае с Кизил Махсумом он открыл парикмахерскую на площади Чорсу и стал брадобреем. Своим клиентам он всегда жаловался, что в нем гибнет великий поэт, что его не оценили по достоинству, но оценят, как всех великих, после смерти.
И однажды ему посчастливилось. Джигит, которого он только что побрил, оказался работником редакции. Он сказал:
— Если у вас есть что-нибудь написанное, зайдите в редакцию, поговорим.
Возликовав, Кари поспешил в редакцию.
Того джигита, которого он брил и на которого потратил чуть ли не полфлакона одеколона, он не застал. Стихотворение прочитал другой сотрудник. Возвращая стихотворение, он сказал:
— Это не годится. Однако если напишете что-нибудь сто́ящее, напечатаем.
— Напишу, — решительно ответил Мусават Кари и, как человек от природы практичный, осведомился: — А во сколько будет оценено начертанное нашим пером?
Молодой человек улыбнулся и ответил:
— На лошадь или корову не хватит, но книгу, тетрадь, и карандаш приобрести сможете.
Мусават Кари тут же прикинул, что брадобрейство куда доходнее писания газелей, и отправился восвояси.
Однако память у него была превосходная, и он помнил много притч шейха Саади, слышанных некогда от местных поэтов — Тавалло и Хислата. Теперь при случае он рассказывал их, выдавая иногда за свои. И это принесло ему славу, о какой он и мечтать не мог.
В разгар торжества, когда все упивались царящим тут довольством и весельем, во двор вбежал запыхавшийся мальчик. Он подошел к Чиранчик-палвану, стоявшему посреди двора, и, едва переводя дух, сказал ему что-то.
Чиранчик-палван тут же поспешно направился к Арслану и издали сделал ему знак рукой. Арслан сразу почувствовал недоброе. Он спрыгнул с супы и подбежал к мальчику. При первом же его слове он метнулся к калитке и исчез.
— В чем дело? — спросил Кизил Махсум у Чиранчик-палвана.
— Отец скончался.
Сидевшие на супе молитвенно провели ладонями по лицам.
— Я должен пойти к ним, — сказал, поднявшись с места, Нишан-ака. — Спасибо за еду и питие.
За ним последовало еще несколько мужчин. Однако с их уходом гап не кончился. Даже наоборот, Аббасхан и Кари облегченно вздохнули. К ним подошел хозяин, отлучившийся ненадолго проводить гостей.
— При чужих людях распря с горошинку разрастается до размеров тыквы, — сказал он, взглянув на Аббасхана и Кари. — Вот, Кари-ака, можете теперь чувствовать себя свободно. Рассказывайте свои притчи, будем слушать их и ушами, и сердцем. А они ораторствуют попусту, — Кизил Махсум движением бровей показал на калитку, — и пустыми словами хотят привлечь на свою сторону людей. Сухая ложка рот дерет. Словами сыт не будешь… Пусть живут и благоденствуют наш Кари-ака, пусть над ними простирается покровительство аллаха. Мы, его друзья, не собираем пустых слов. — Он опять кивнул на калитку: — Они только сеют среди мусульман раздор, а мы набиваем кошельки деньгами. Ключ ко всему — деньги. Если хорошенько сложить красные червонцы, они поместятся в уголочке кошелька, но кошелек этот становится крепче и острее булата. Давайте-ка, почтенные, поблагодарим Кари-ака за его мудрые притчи, за то, что он поучил нас уму-разуму. Наполняйте его карманы — и достигнете благоденствия…
— Баракалла! Браво! — подхватил Чиранчик-палван и, простирая руки в сторону Кари, заговорил, брызгая слюной: — Этот человек не просто Кари-ученый, он чудо нашего времени. Даже великообразные люди, обучавшиеся в знаменитом медресе Мир-Араб, не столь мудры и всезнающи. Сие — от аллаха. Да удовлетворим аллаха своими подношениями высокочтимому Мусавату-ака!..
Мусават Кари, слушавший похвалы в свой адрес, сидел, скромно потупясь.
Глава седьмая С ЧУЖИМИ
Арслан вбежал в дом и, остановившись в проеме двери, прислонился к косяку. На подоконнике тускло горела лампа.
— Не плачь, сынок, — сказал сосед, коснувшись плеча Арслана. — Мир бренен, сынок, что поделаешь. Не в наших силах предотвратить это.
Из женской половины доносился тихий плач. Там находились мать и сестра. По мусульманскому обычаю женщин не допускают к покойному. Заслышав, что Арслан пришел, Мадина-хола вышла в прихожую. Вытирая глаза концом косынки, сказала:
— Сейчас сообщим родственникам. Аксакалов махалли тоже надобно сейчас известить…
Арслан поспешил было на улицу, но в калитке встретился с Нишаном-ака. Пришлось вернуться.
— Зажгите две лампы, до утра не должны они гаснуть, — сказал Нишан-ака. — Я обойду наших стариков, а утром сообщу на завод.
— Хорошо, — согласился Арслан.
— Эй, Мадина-хола, кисея в доме имеется?
— Нет… — растерянно произнесла хозяйка.
— Ладно, я принесу, у меня есть. Утром соберутся люди, постелите курпачи, чтобы сидеть где было. Дастарханы и посуду надо собрать в махалле.
— Я это сделаю, — пообещал Арслан.
— Ну, я пошел. Пусть будет земля ему пухом, — сказал Нишан-ака и, выйдя на улицу, тихо затворил калитку.
Он шел, погруженный в раздумье, и видел сейчас перед собой Мирюсуфа-ата, который всю жизнь трудился, не зная покоя, и душу имел чистую, как родник. Сам впервые вступив в огромный коллектив, он радовался, что все больше и больше молодежи идет трудиться на завод. Все чаще он встречал на заводе парней-узбеков. Они быстро знакомились, завязывалась дружба…
Нишан-ака вышел на пустынную в этот час площадь Хадра, пересек ее, направляясь к трамвайной остановке. Высокие здания возвышались напротив. Только в нескольких окнах горел свет. На площади под жестяным колпаком, покачивающимся от легкого ветерка, светилась всего одна лампочка. Тихо было вокруг. Город спал. Нишан-ака обернулся, посмотрел на приземистые дома своей махалли, погруженной в темень. Над ними простиралось огромное фиолетовое небо, усеянное холодными звездами. Они, эти звезды, напомнили ему искры, летящие из горнов, и тотчас услышал он перестук больших и малых молотов… Сколько поколений литейщиков жило в этой махалле…
Молодой дегрез Мирюсуф, он, Нишан, и многие другие, сыновья и внуки прославленных литейщиков, их друзья и родичи собрались в свое время в сталеплавильном цехе завода Сельмаш. И огонь, пылавший в горнах дегрезов их махалли, они перенесли в цех завода. Как большие и малые арыки, сливаясь, образуют многоводный Анхор, так старые и молодые мастера-дегрезы, собравшись на заводе Сельмаш, создали литейный цех. И вот сейчас Нишан-ака словно бы на самом деле увидел их всех, своих друзей, с крепкими плечами, с натруженными, мозолистыми ладонями…
А в махалле этой даже земля смешалась с чугуном — крепка ее твердь. Ведают ли люди, проходя по этим безымянным извилистым улочкам, сколько знаменитых мастеров Ташкента проживало тут в былые времена?
Вдалеке послышался скрежет стальных колос. Из-за поворота показался трамвай со светящимися окнами.
Да, тяжелая ночь. Что может быть тяжелее, если из жизни уходит друг…
Арслан всю ночь ходил из дома в дом, оповещал людей о горе. Домой возвратился, когда начинало светать. Он свалился в постель, но уснуть так и не смог.
Утром стали собираться люди, близко знавшие Мирюсуфа-ата. Первыми пришли Нишан-ака, Хайитбай-аксакал, Хайдар-долговязый, Исмаил-ака, Мирахмед. Из махалли Кургантеги пришли Кизил Махсум и Чиранчик-палван. Из нового города приехали Матвеевы, отец и сын, и Нургалиев — начальник литейного цеха…
Кизил Махсум отозвал Арслана в сторону и сунул ему в ладонь деньги.
— Не отказывайся, братишка, деньги тебе сейчас нужны. Не хватит — еще дам. Когда-нибудь рассчитаешься…
Арслан поблагодарил его, оценив такую заботу. Ему действительно понадобятся деньги. Арслан, конечно, в долгу не останется, он отработает, вернет с лихвой.
Странно — почему же Нишан-ака недолюбливает этого благородного человека?
Часам к двенадцати собралась почти вся махалля. Пришли рабочие с завода. Явился и Мусават Кари. Он, выражая Арслану соболезнование, то и дело повторял:
— Такова жизнь человеческая, и ничего тут не поделаешь. Такова жизнь…
— Как намерены устроить погребение? — тихо спросил он. — Коран будет читаться?
— Поступим так, как поступали отцы наши, деды и прадеды, — сказал Кизил Махсум.
— Очень хорошо. Не надо гневить аллаха.
— Я дал денег его сыну, — шепнул Кизил Махсум ему на ухо.
— Вы по-мусульмански поступили, уважаемый. Это ваше деяние достойно похвалы. Верно говорят — друг познается в беде. Пусть постыдятся те, кто, не имея ни гроша за душой, произносят лишь громкие слова.
Стоящие поблизости конечно же поняли, что он намекает на Нишана-ака.
— Ну, а чем все это в конце концов кончается, видите сами. Достойный вам пример! — многозначительно произнес Мусават Кари.
Пришли все друзья Арслана, его однокурсники. Только Захиди чуть было не опоздал. Он появился в самый последний момент.
— А-а, проспали, значит? — пристыдил его при всех Мусават Кари, считавший за благое дело жалить молодых, забывающих, по его мнению, обычаи предков.
Захиди стало неловко, и он лишь виновато опустил голову, не проронив ни слова.
Кари с чувством удовлетворения отошел от него, присоединясь к уважаемым людям.
«В самый неподходящий момент ужалили вы, Кари-ака, — думал между тем Захиди. — Да, все скорпионы жалят неожиданно, не считаясь с тем, у гроба ли ты стоишь, или переполнен радостным волнением на тое…»
— Если уж умер, то ни завод, ни советская власть не поможет. Таковы-то дела мирские, — слышался голос Мусавата Кари где-то уже в стороне, среди аксакалов.
Ему ответствовал суфи[56]:
— Аллах велик, и милость его велика. Вот умер дегрез Мирюсуф, пренебрегавший при жизни святой мечетью, а глядите-ка, махалля о нем душевно позаботилась.
Суфи взглянул в ту сторону, куда кивнул Кари, и увидел осунувшегося, — усы повисли, как рыжие сосульки, — Нишана-ака, стоявшего возле двери и устремившего взгляд, полный скорби, на покойного.
— Аллах велик, и такие в конце концов присоединятся к нам. Кому-то надо же нести их гроб. Подумает об этом темный человек и явится в мечеть. Аллах всемогущ. Благодарю тебя, всевышний!
Они одновременно провели ладонями по лицу.
Ровно в два часа гроб с телом Мирюсуфа-ата подняли на плечи. Арслан с двумя двоюродными братьями шел впереди процессии. Гроб колыхался на плечах людей. Старики переговаривались:
— Мирюсуф-ата осенен милостью аллаха: глядите, сколько народу собралось!
Мусават Кари, желая показать, что вот и он выполняет свой долг перед покойным, раз или два подставил свое плечо.
Нишан-ака, выбившись из сил, отходил, потом снова брался за гроб. Оттого что помощники часто меняли друг друга, как говорится, рука не задевала руку. Пять лет назад на похоронах одного учителя из этой махалли тоже всю улицу заполнили люди. А имам, ехавший на арбе с группой седобородых старцев, вспомнил, что на захоронении ишана Навара-хазрата, внука святого из местечка Сакичмон, была такая же тьма народу.
Мирюсуфа-ата предали земле.
Люди, возвратись с Чигатайского кладбища, входили во двор, выражали соболезнование Мадине-хола, сестрам Арслана, советовали проявить волю и смирение и постепенно расходились по домам.
До истечения седьмого дня после смерти постланные во дворе курпачи и дастарханы не убирались. В этом доме принимали всех приходивших почтить память покойного из дальних и ближних мест.
Караван без вожака может сбиться с пути. В семью, лишенную главы, приходит нужда.
Когда отец был жив, в доме часто бывали гости. А нынче — пустота. Трудно Мадине-хола примириться с утратой. Все дни пребывала она в печали, была рассеянна. Арслан поднимался ни свет ни заря и отправлялся в мастерскую Кизил Махсума. Возвращался в полдень. Наскоро пообедав, спешил в институт. Когда дочки уходили на базар и Мадина-хола оставалась одна, подолгу неподвижно сидела она на веранде.
В большом дворе было непривычно тихо и пустынно. Неподалеку от веранды дрались, хлопая крыльями, две горлинки. Тетушка Мадина поднялась и, швырнув камень, заставила их разлететься. Говорят: если во дворе дерутся горлинки, быть ссоре между мужем и женой. Хотя… с кем же ей теперь ссориться?..
Чтобы как-то отвлечься от гнетущих мыслей, она поднялась с места, подошла к калитке, выглянула — не идут ли дочки? Потом ушла в комнату. Долго стояла там, держась сухими руками за спинку железной кровати, где умер ее муж.
Она ждала вечера.
По вечерам дети были с ней. Арслан, Саодат и Сабохат усаживались вокруг низенького столика, а Мадина-хола разливала в стоящие перед ними касы горячий суп. Пока дети ели, она сидела на ступеньке веранды.
Махалля была расположена в стороне от большой дороги, поэтому сюда не доносились ни грохот арб, ни крики погонщиков, ни звон трамвая. Только от склада утильсырья, который находился около оврага с крутыми склонами, временами доносился лай собак, дерущихся из-за кости.
Вот и сейчас, как только Мадина-хола опять села на веранде, подперев щеку, услышала их озлобленный, хриплый лай. Представила она себе давным-давно проданный ими сад, занимавший несколько соток по ту сторону оврага. Там у них была небольшая летняя хижина, в которую она и Мирюсуф-ата перебирались, как только на деревьях начинали лопаться почки, выстреливая зелеными листочками… Вспомнила, как однажды поздним вечером, после первого снегопада, муж направился туда, чтобы счистить с крыши снег. Едва спустился по крутому откосу в овраг, как его окружила свора свирепых собак. Но он не растерялся, — отбиваясь лопатой, благополучно достиг противоположной стороны оврага, поднялся наверх и оглянулся. Ни одной собаки он не увидел. А под желобом старой, заброшенной мельницы, расположенной чуть левее склада утильсырья, горел светильник. Это место считалось нечистым. Поговаривали, что там нашли себе кров черти. И тех, кто, проходя тут, не произнесет про себя молитву «Лоховла», будут якобы преследовать катящиеся клубки огня. И Мирюсуф-ата поспешно помолился, усомнившись вдруг, собаки ли на него напали или то был шабаш ведьм. Муж не раз рассказывал ей об этом…
Над плоской крышей, возвышавшейся напротив, за дувалом, поднялась луна. Вдруг на ее яркий диск нашла тень, заставив тетушку Мадину вздрогнуть, и она увидела, что это пробирается по краю крыши кошка. Она села, помахивая хвостом, как раз напротив луны, и глаза ее сверкнули. Мадина-хола зашептала молитву и трижды поплевала себе за пазуху. Кошка, будто чего-то испугавшись, метнулась в сторону и исчезла.
Дети поели. Саодат попрощалась и ушла. Она торопилась домой, где ее наверняка уже заждался муж. Все эти дни он один был с ребятишками. Он работал слесарем в паровозном депо, приходил поздно, усталый, голодный. А Саодат с утра до вечера была у матери, чтобы как-то смягчить ее горе.
Арслан раскрыл учебник, а Сабохат принялась мыть посуду.
Раздался стук в калитку. Арслан быстро встал.
— Кто там?
За калиткой отозвались. Арслан узнал голос, заспешил отпереть.
— Добрый вечер, Махсум-ака, проходите!
— Извини, братишка, что поздно.
Он прошел к веранде и, поднимаясь по ступенькам, встретился с Сабохат, остановившейся, чтобы уступить ему дорогу.
Она поклонилась гостю и прошла в летнюю кухню, смутившись от того, как Кизил Махсум посмотрел на нее.
Прежде тоже она замечала, что он задерживал на ней взгляд несколько дольше, чем полагается, и недоумевала, что это может означать.
Кизил Махсум с особым почтением поклонился Мадине-хола. Пройдя к стенке, опустился на курпачу. Затем, когда все в ожидании умолкли, не спеша прочитал молитву и провел ладонями по лицу.
— Такова жизнь человеческая, холапошша[57], — произнес он. — Только терпеть и остается нам. Мирюсуф-ата угоден был всевышнему…
— Все ли у вас благополучно? — осведомилась Мадина-хола.
— Благодарение аллаху.
Сабохат вновь расстелила дастархан, принесла чай, лепешки, изюм, перемешанный с колотыми орехами.
— Пожалуйста, угощайтесь.
— Бисмилло, — произнес Кизил Махсум, прежде чем взять кусок лепешки. — Выкроив минутку, я решил навестить вас. Послезавтра исполняется семь дней… Пришел посоветоваться.
— Спасибо, — тихо произнесла Мадина-хола. — Навещая наш дом, вы радуете душу покойного.
— Нишан-ака тоже обещали прийти сегодня. Видно, где-то задержались, — заметил Арслан. — Наверно, завтра придут.
— Наверно, поя-а-вится, — сказал Кизил Махсум, стараясь скрыть раздражение.
Несколько минут царило молчание.
— Я с махаллинцами говорил сегодня, — сообщил наконец Кизил Махсум. — Казан, самовар, всякую посуду принесут завтра. Вечером придут двое-трое. Я тоже буду. Разделаем мясо, нарежем моркови для плова. — Заметив беспокойный взгляд хозяйки, он помахал ладонью. — Как обстоит дело со средствами у Арслана, мне известно, холапошша. Считайте меня за старшего брата Арслана, и да возрадуем мы все вместе душу отца, отметив его семь дней. Говорят, человек, творящий добро, не будет презрен ни в этом, ни в том мире. Мирюсуф-ата любили меня. Я должен ему послужить.
— Да будет счастливой ваша жизнь, — сказала Мадина-хола.
— Не старайся ублажить кого попало, братишка, — посоветовал Кизил Махсум, наливая себе чаю. — Оставь в покое этого Нишана-ака. Если придет, уважь, а не придет — не обижайся и не проси.
Арслан молча кивнул.
Сабохат помыла на кухне посуду и, не зная, присоединиться ли ей к сидящим на веранде или не следует этого делать, остановилась посредине двора с веником, как бы собираясь мести.
— Сабохат, иди, дочка, садись, не стой там, — позвала мать.
Сабохат приблизилась и, смущаясь, села поодаль на краешек веранды. Она была грустна, и это ее делало еще более прекрасной. Сидела, опустив голову и делая вид, будто скручивает на коленях нитку, вытянутую из ткани. Луна поднялась высоко, и на темном фоне затененной стены был виден освещенный тонкий профиль молодой женщины.
С тех пор как она, разведясь с мужем, вернулась домой, прошло два года. И Мадина-хола, некогда видевшая жизнь Мирзарахимбая, у которого амбары ломились от риса и пшеницы, от кувшинов с топленым маслом да засоленного мяса, надеялась тоже, пристроив обеих дочерей и женив сына, пожить в достатке. Но Арслан все еще занят учебой, а Сабохат, бедняжке, не повезло в жизни. Старуха по ночам молила бога, чтобы ее дочке наконец тоже улыбнулось счастье.
О намерениях Кизил Махсума она догадывалась еще тогда, когда он хаживал к ним во время болезни отца, стараясь всячески проявить заботу.
Поначалу завела об этом разговор старая Биби Халвайтар, их дальняя родственница.
— Эй, Мадинахон, что ты своих дочерей, таких красавиц, все за бедняков выдаешь? — спросила она как-то полушутя-полусерьезно. — Неужели у тебя нет благих желаний в этом мире? Любить бедняков — уж предоставь это своему старику, а тебе-то зачем это? И у Сабохатхон твоей с мужем из-за бедности нелады пошли. Вернулась вот на родительский хлеб. Смотри во второй раз не ошибись! А Махсум ведь чем не джигит, а?
— Он разведенный, дети есть…
— Ну и что? Не повезло ему с женой. Непутевой оказалась, вот и отослал восвояси…
— Много ему годков-то… А дочь моя молодая.
— Больше ценить будет твою дочь. И не так уж ему много лет, еще пятидесяти нет! А мужчина только после сорока настоящий мужчина. И умом созревает, и телом. К тому же он из баев. Хоть добро их и развеяли по ветру, но говорят: если масло прольется, все равно на донышке что-то останется. И двор у него большой, и дом прекрасный…
— Эх, все от судьбы зависит, — вздохнула Мадина-хола. — Если суждено чему быть, от этого не уйдешь!
— Подумай, подумай, — сказала Биби Халвайтар, щуря хитрые глаза.
Этот разговор сейчас и припомнился Мадине-хола.
«И в самом деле, что тут особенного, если выйдет моя дочь за человека постарше?» Он ведь не такой слюнявый старик, как Мирзарахимбай, которому сама Мадина-хола когда-то, давным-давно, чуть было не досталась. Вон какой крепкий мужчина, и лицом ничего.
За столиком проходила тихая, неторопливая беседа. Гость пил чай, Арслан и мать тоже пили — для приличия. Но в глубине реки, кажущейся спокойной, бывают стремительные потоки и водовороты. Такое творилось нынче и с людьми, казалось, спокойно сидящими на веранде.
— Позвольте мне откланяться, — сказал Кизил Махсум и поставил пиалу. Сабохат медленно обернулась к нему, ее глубокие черные глаза блеснули при лунном сиянии. Встретившись взглядом с Кизил Махсумом, она тотчас отвернулась, но он успел заметить улыбку на ее устах. — А вы, Арсланджан, загляните завтра ко мне, я передам кое-что необходимое…
Он молитвенно провел по лицу ладонями и поднялся с места.
— Счастливо, сынок, до свиданья! Что бы мы только без вас делали! — проговорила Мадина-хола.
Арслан вышел с Кизил Махсумом на улицу, Сабохат машинально сделала вслед за ними несколько шагов и, опомнившись, остановилась посреди двора в растерянности. Волнующая тревога, давным-давно уснувшая, вновь пробудилась у нее в груди. Ей казалось, что этот человек стал для их семьи опорой, и она почти была уверена, что ради нее…
— Когда обрушится на голову беда, тогда и узнаешь, кто тебе друг, — проговорила мать, как бы подтверждая ее мысли. — Есть завистливые люди, которые болтают чушь всякую про уважаемого Кизил Махсума. А мы его лучше знаем. Когда настал для нас черный день, он стал благодетелем нашим.
Глава восьмая УММУЛХАБОИС[58]
Кизил Махсум был сторожем при магазине. Для виду. Чтобы никто не мог рта раскрыть: мол, не работает. Занятие это вполне его устраивало — ночью отдежурил, а днем свободен. Основным же его делом было другое. Как уже было сказано, он изготовлял телпаки и сбывал их на базаре. Самому, конечно, всего не успеть, поэтому в первое время привлек к этому делу Парсо-домля, проживающего у Мусавата Кари, и своего соседа, имевшего швейную машину «Зингер». Сосед подшивал к телпакам широкие околыши. За свою же швейную машину Махсум посадил сестру-вдову. Лишь каракулевые телпаки и казахские тумаки он никому не доверял и изготовлял собственноручно. Этот товар пользовался на базаре особым спросом. А недавно он втянул в это дело Арслана и младшего сына Мусавата Кари — Атамуллу. Прошло немного времени, и они стали самостоятельно шить телпаки. Правда, их телпаки были более грубыми, чем изготовляемые самим Махсумом, тем не менее тоже сбывались быстро.
Кизил Махсум всячески старался скрывать от соседей свое занятие, но шила в мешке не утаишь. Многие об этом сразу узнали. Поговаривали между собой: «Как-никак сын бая, знает в делах толк. Чем болтаться, уподобясь иным бездельникам, конечно же лучше зарабатывать деньги. Его отец тоже некогда разбогател на мехах».
Несомненно, дали бы ему волю, Кизил Махсум, как и его отец, через год бы открыл свою швейную мастерскую. Не ограничиваясь мерлушкой, он привозил бы соболиные, бобровые шкурки. Сам обрабатывал бы и кроил их. Телпаки, искусно сшитые из лучших мехов, он не сплавлял на базар, а сбывал прямо на дому, только близким знакомым. Иногда, невесть где купив задешево огромную бобровую шубу, какие обычно носили в прежние времена попы, делал из нее штук шестьдесят — семьдесят телпаков. Из мест, где вырабатывали кожу, он привозил бараньи шкуры, хромовую кожу, из которых пробовал тачать сапоги и ичиги.
С наступлением осени оживлялась торговля телпаками. Кизил Махсум торопил. А спешка всегда плохая помощница. Арслан хотя уже приноровился, но иногда ошибался при кройке. Кизил Махсум хмурился, но ограничивался словами: «Ну, ничего, попробуй переделать…» Тогда как другого за подобную провинность не прощал. Арслан конечно же догадывался, отчего он в таком привилегированном положении.
Когда в доме Кизил Махсума на обед готовили плов, он зазывал к себе своих подопечных. В больших блюдах приносили горячий плов, на дастархане появлялась бутылка с водкой, и пиршество начиналось.
Вот и сейчас близкие по духу люди собрались в просторной гостиной, потолок которой был разрисован причудливым орнаментом. Это построенное Салахиддин-баем помещение с облицованными ганчем стенами перевидало немало пиршеств.
Пришел Мусават Кари. Находясь в прекраснейшем расположении духа, он рассказывал об Искандере Зулькарнайне, о пахлаване Ахмад Замчи, Абомуслиме.
Потом воцарилось молчание, ибо рты были набиты пловом.
Мусават Кари взял ломтик редьки, которая была нарезана тонкими пластами и положена в воду, с хрустом начал жевать. А прожевав, обратился к хозяину:
— Все собирался спросить — не сболтнул ли я тогда что-нибудь лишнее на гапе? Пришел домой и призадумался, не достигнут ли мои слова…
— Успокойтесь, этого не случится, — перебил его Кизил Махсум. — А если бы и оказался среди нас какой-нибудь кляузник, то чего нам бояться? Что плохого мы сделали?
— Вы были заняты гостями, а я в это время рассказывал поучительные притчи.
— Ну, и что же тут плохого?
— В общем-то ничего. Но, говоря о тех, кто обращает в руины наши мечети, сносит с лица земли наши сады, приучает к бесстыдству наших жен и дочерей, притчи эти я приспособил как прикрытие. Вам понятно теперь?
Кизил Махсум задумался, потом кивнул. В глазах у него промелькнул испуг.
— Хайитбай-аксакал, конечно, недалекий, он не разглядел в притчах главного смысла. А вот Нишан, кажется, все понял. Нам надо остерегаться этого Нишана и подобных ему. И зачем зазвали такого человека на торжество? Зачем?
— Он один из почтенных аксакалов махалли, Кари-ака. Всех пригласив, его не позвать нельзя.
— На всякий случай надо его остерегаться.
Мусават Кари и Кизил Махсум еще некоторое время беседовали о своем, только им понятном, часто прибегая к намекам.
Арслан следил, чтобы в пиалах у всех был налит чай. Атамулла, сын Мусавата Кари, сидел, поджав ноги, около самовара. Они не вмешивались в разговор. Терпеливо ждали, когда речь пойдет о чем-нибудь понятном всем.
Наконец Мусават Кари, хлопнув себя по коленям, многозначительно произнес:
— В одном государстве так расцвела-развилась наука, что люди перестали признавать всевышнего. — Сделал паузу и со значением посмотрел на Арслана и Атамуллу. — Тогда Джабраил-алайхиссалом[59] обратился к аллаху со словами: «О всевышний, есть слухи, что в одном государстве рабы твои не признают тебя!» Всевышний ответил: «Эй, Джабраил, спустись в то государство и узнай, правда ли это». Джабраил спустился где-то в пустыне того государства и принял облик человека. Повстречался ему один старец, несущий на спине вязанку дров, по лицу его струился пот. Джабраил спросил его: «Эй, бобо[60], скажи-ка, где находится сейчас Джабраил-алайхиссалом?» Старец опустил свою ношу на землю и минутку молчал. Приложив ладонь ко лбу, он задумался. Потом произнес: «Я искал в семи слоях неба, на престоле божьем — там нигде Джабраила нет. — Затем, закрыв глаза, он опять задумался. — Я бросил взгляд в глубину рек, в горные ущелья, на дно морей, во все слои великих вод — и там нет Джабраила. — И тут изрек он, подняв на незнакомца ясный взор: — Значит, Джабраил ты или я!» Джабраил, принявший облик человека, пришел в несказанное изумление и исчез. Аллаху изложил он все, как было. Узнав о таком, всевышний нахмурился и повелел Джабраилу обратить в пыль и прах то государство…
Сидевшие подивились такому концу, переглянулись. Заметив на их лицах смятение, Мусават Кари разъяснил:
— Всевышний предоставляет волю своим рабам, а потом, если те, овладев науками, станут сомневаться в нем, в одно мгновение уничтожит он все, как будто ничего на свете и не было!.. Потому не годится нам, смертным, подвергать сомнению всесилие всевышнего, способного через ушко иголки пропустить восемнадцать тысяч миров.
Гости опять переглянулись, теперь уже восхищаясь необыкновенной мудростью Мусавата Кари.
Когда плов был съеден, а чай выпит, Кизил Махсум сказал небрежно:
— Чтобы переварить пищу, поработаем еще. Сезон…
Арслан, Атамулла, Парсо-домля удалились в другую комнату и занялись шитьем.
Когда Мусават Кари и Кизил Махсум оказались вдвоем, Мусават сказал:
— Молодежь не должна забывать о всевышнем.
Кизил Махсум улыбнулся.
— Вы проникаете в их душу не пустыми наставлениями, а притчами, в коих сокрыта великая философия. Хвала вам!
— Мы должны делать все, чтобы в нас поверили!.. На прошлой неделе, если помните, Абдумутал созвал на плов махаллю. Повар впотьмах черпал воду из хауза и лил в котел. Туда попала лягушка. Когда плов разложили по блюдам и раздавали, кто-то заметил среди кусков мяса эту лягушку. «Нет, это не лягушка, а мясо!» — сказал повар и вмиг проглотил ее. А представьте, что произошло бы, отшвырни повар шумовкой эту лягушку в сторону! Никто не стал бы есть, и столько добра пропало бы даром. Глядите-ка, Махсум, сколь всемогуща вера, — съели ведь целый казан плова!
Кизил Махсум в знак согласия то и дело кивал головой.
Они долго еще сидели, попивая чай. И не заметили, как за окном начали сгущаться сумерки. Во дворе послышались голоса тех, кто уходил, закончив работу. Дверь отворилась, и в нее просунулась голова Атамуллы.
— Пойдем, отец?
— Да, сынок, пойдем. Засиделся я тут… — Мусават Кари поднялся, потирая затекшие ноги.
Хозяин вышел, чтобы проводить приятеля и его сына до калитки. Когда стали прощаться, Кари придержал его за локоть и вопросительно посмотрел ему в лицо, что, видимо, означало: «Ну, есть какие-нибудь вести?»
— Хайит[61] прошел, недели через две вернутся, — почти шепотом сказал Кизил Махсум.
— Баракалла! До свидания.
Действительно, как сказал Кизил Махсум, не прошло и двух недель, в Ташкент возвратился имам[62] Абдулмаджидхан, совершивший паломничество в Мекку. Он передал через общих знакомых, что Мусават Кари бинни Абдулрайхон, пославший с отправившимся в святые места дары и пожертвования, тоже принят в клан тех, кто совершил паломничество к могиле пророка, и ему присвоено звание хаджи.
Радостью и ликованием наполнился дом Мусавата Кари. Чтобы достойно отметить это событие, решено было созвать народ. Имаму тоже послали приглашение, и он дал согласие прибыть.
В среду в дом Мусавата Кари начали стекаться люди, в большинстве старики. На дастархане заранее были разложены яства. В соответствующий час подали плов. Торжество возглавили Кизил Махсум и вездесущий Чиранчик-палван. Им усердно помогали несколько молодых парней, которые подносили блюда и уносили пустую посуду, разносили чай и сладости.
Хозяин то и дело выбегал из дома, отворив калитку, поглядывал по сторонам и опять возвращался, несколько огорченный. Аксакалы при этом умолкали на полуслове и устремляли на него вопросительные взгляды. Но вслух не спрашивали, ибо видели, что хозяин и без того расстроен.
Наконец на улице раздался сигнал автомобиля. Мусават Кари бросился к калитке. Распахнув ее, увидел, как из машины выходил, опираясь на палку, сгорбленный от старости и белый как лунь имам Абдулмаджидхан. Его с одной стороны заботливо поддерживал сын, с другой — мутаввали. Еще несколько стариков вышли встретить почетных гостей. Их с почестями сопроводили в ичкари, застланную белым войлоком, и усадили на место, соответствующее положению и сану. Имам дал позволение гостям, вставшим при его появлении, сесть и после недлинной молитвы принялся за разложенные на дастархане яства. Предусмотрительный Мусават Кари заранее разузнал, что любит имам, и специально для него выставил на дастархан пашмак[63], гулканд[64], белую халву. В красивых вазах возвышались крупные румяные гранаты, желтые, как янтарь, яблоки, черный, с капельками воды, виноград. Принесли теплые лепешки, посыпанные маком. Кизил Махсум не спеша разломал их на куски, которые разложил вдоль длинного дастархана, вокруг которого на курпаче чинно сидели гости, поджав под себя ноги.
Через некоторое время имам обратился к Мусавату Кари, и все притихли:
— Ваш хадж[65] принят, ваше паломничество истинно. И аллах соизволяет вам отныне именовать себя хаджи.
Почтенные гости стали поздравлять хозяина:
— Ваш хадж принят! Благодарение аллаху!
— Поздравляем!..
Имам Абдулмаджидхан трясущимися руками протянул Мусавату Кари пузырек с «оби замзам» — святой водой, затем вручил привезенные из Мекки освященные одежды, в том числе длинную рубашку, названную «галабия», и торжественно возложил на его голову шелковую чалму.
Мусават Кари поднялся с места и поклонился сперва имаму, потом всем остальным. По его знаку двое парней вынесли из другой комнаты шелковые чапаны, надели один из них на имама Абдулмаджидхана, а затем и на другие гостей.
Кизил Махсум потихоньку распорядился, чтобы парии работали пошустрее — почаще заваривали свежий чай да подавали пармуда[66] и кябаб[67].
Мусават Кари, испытывая волнение, какое, может, не испытывал бы и царь, взошедший на престол, торжественно и неслышно ступая по белому войлоку, подошел к имаму и сел около него, скрестив ноги. Еще раз справился о его здоровье, спросил, не тяжела ли была дорога, выразил свою благодарность.
— Мусават-хаджи! — обратился к нему имам не громко, но и не настолько тихо, чтобы их не могли услышать сидящие поблизости люди. — Нас множество, и сильны мы единством. Так должно сказать тому, кто сеет между нами раздор. Мы сейчас живем в мире, согласии и с людьми другой веры. Так и должно быть.
Мусават Кари понял, что имеет в виду имам. Он сразу догадался, что есть люди, которые обо всем происходящем докладывают имаму.
Он склонил голову и тихо произнес:
— Каюсь.
Подальше от глав имама и стариков аксакалов в маленькой комнате восседала иная компания. Собравшиеся здесь не ограничивались «сухим» угощением, а втихомолку попивали водочку. Они были удивлены и смущены, когда дверь неожиданно раскрылась и на пороге ее предстал мутаввали.
Подсев к примолкшей компании, он взял пиалу и приказал ошарашенному Чиранчик-палвану:
— А ну, лей свою водку поверх моей бороды! — и, поддерживая кончик жиденькой бороденки, подставил ее под бутылку.
— Водка от грязи станет темной, — предупредил Чиранчик-палван.
— Шариат не позволяет нам, мусульманам, пить водку, ибо она погана! Пролившись же через святую бороду, она перестанет быть таковой. Я уже двадцать лет пятикратно в день совершаю омовение и чищу эту бороду. Если она не сможет очистить водку, я немедленно отрежу ее!
Чиранчик-палван наклонил бутылку. Как только пиала наполнилась, мутаввали пропустил всю влагу через свое горло. Ему налили еще. Выпив одну за другой несколько пиалушек, служитель ислама упал на подушку и захрапел.
— Давайте вынесем его на воздух, — сказал Чиранчик-палван, — а то как бы с ним дурно не стало…
Мутаввали подняли на руки и вынесли на айван. Когда его проносили мимо открытой двери гостиной, имам увидел их, насупился. Потом произнес:
— Уммулхабоис! Пьянство — мать всех пороков… Предаваясь пьянству, сгинули со света такие некогда могучие племена, как Ад и Яман. Чтобы отвратить раба божьего от гибельного пути, всевышний дал ему разум. Даже мыслитель-еретик Абу-ало-ал-Маорий написал книгу «Хамосатур-рох» и в ней показал, что где предаются пьянству, куда только достигает сей пророк, там пропадает стыд и честь…
После этого имам, его сын и сопровождавшие их духовные лица попрощались и ушли. Но один за другим приходили те, кто по тем или иным причинам опоздал, поздравляя новоявленного хаджу, молились и присаживались к дастархану. Торжество продолжалось до полуночи.
Когда все гости разошлись, Кизил Махсум и Мусават-хаджи уединились в дальней комнате и, обняв пуховые подушки, разместились на шелковых курпачах, постланных в три слоя.
— Ах, как к лицу вам чалма, Мусават-ака! — произнес восторженно Кизил Махсум и зацокал языком. — Теперь вынимайте-ка свой припрятанный коньяк! Предадимся истинному блаженству.
— Так и быть, братец. Только вон та мелюзга пусть ничего не знает.
Мусават-хаджи подошел к нише, из-за чайников и сложенных стопкой пиалушек достал бутылку коньяку. Сев на место, припрятал бутылку под полу халата и окликнул сына. Тотчас в приоткрывшуюся дверь просунулось лицо Атамуллы.
— Принеси-ка нам дастархан и немножко казы!
Через несколько минут Атамулла принес все, что было заказано. Догадавшись, он старался спрятать ухмылку. Быстренько расстелил дастархан, нарезал кружочками казы и удалился.
— Ну, выпьем до донышка, — сказал Мусават-хаджи, подняв свою пиалу.
Выпили одновременно и принялись жевать казы.
— Имам попрекнул меня, — сказал Мусават-хаджи, не переставая работать челюстями. — Чудно! И имам держит сторону тех, кто попирает религию… А что он про это сказал, слышали? — Он пощелкал ногтем по бутылке. — Уммулхабоис, говорит! Это мать всех пороков, говорит! Ничего подобного, эта штучка — мать всех радостей и наслаждений! Старички уже выжили из ума. Вот я, хаджи, могу быть верным всевышнему и не забывать о земных наслаждениях. Деньгами я могу всего добиться! Деньгами я заставлю ваших праведных старичков водку называть усладой жизни! Ха-а-ха-ха-ха-а-а!
Как после поста человек хмелеет от щепотки насвая, так друзья-приятели Кизил Махсум и Мусават-хаджи, уставшие от дневных хлопот, опьянели после первой же пиалы. Но все же они выпили всю бутылку. Мусават-хаджи отшвырнул бутылку к стенке и, не в силах более ворочать языком, завалился набок. Кизил Махсум еще некоторое время сидел, тараща перед собой бессмысленный взгляд. Его туловище постепенно клонилось в одну сторону, он резко выпрямлялся и начинал клониться в другую. Потом свернулся рядом с приятелем и захрапел.
Арслан хотел было попрощаться с хозяином. Переступил порог, но тут же на цыпочках отступил назад и тихонько прикрыл за собой дверь.
Он взял из ниши узелок, в который жена Мусавата-хаджи завернула блюдо плова, а поверх положила две лепешки и сладости. Мать, должно быть, еще не спит, его дожидаясь. Обрадуется гостинцу.
Арслан вышел за калитку и будто окунулся в непроглядную темень.
Глава девятая МНОГО ЛИ ПРОКУ ОТ ЗРЯЧИХ ГЛАЗ, ЕСЛИ УМ СЛЕП
В один из холодных осенних дней Нишан-ака направился на работу. Был мороз, он ледком затянул лужи. Небо сплошь заволокли тучи, в воздухе кружились редкие пушинки снега. Нишан-ака сегодня вышел из дому немножко пораньше, чтобы успеть купить на базаре насвая.
Несмотря на холод и пронизывающий сырой ветер, на базаре было много народу. Нишан-ака, протискиваясь между людьми, пробирался к тому месту, где обычно, разложив на мешковине свой товар, сидел на низенькой скамеечке продавец насвая. В толпе промелькнуло знакомое лицо. Нишан-ака сперва не придал этому значения, — мало ли кто может повстречаться в таком многолюдном месте, как базар! — но потом все же вернулся назад. Это был Арслан. Поеживаясь от холода, ударяя нога об ногу, стоял он в окружении парней. На голову взгромоздил два телпака, в руках держал еще два. Время от времени среди проходивших мимо он отыскивал глазами мужчин подороднее, у которых, по всему, водились деньги, и предлагал товар.
— Ака, купите телпак! Таких вы нигде не найдете. Ака, купите…
Одни проходили, даже не обратив никакого внимания, другие останавливались и заинтересованно осматривали и ощупывали товар.
Нишан-ака, не веря своим глазам, приблизился. Так и есть, он, Арслан! На локоть у него надет узелок, в котором, видно, лежат еще три-четыре телпака. Стоило приблизиться покупателю, как молодые люди обступали его и шумно расхваливали свои телпаки, чуть ли не тыча ими в лицо. Эти парни интуитивно определяли неискушенного человека, прибывшего из сельской местности, и, заломив сперва двойную стоимость, потом соглашались «распилить цену пополам». Среди них особым уважением пользовался тот, кто мог легко одурачить любого покупателя. Почти все снующие здесь с телпаками, туфлями, телогрейками и всякой другой мелочью были выходцами из торговых семей, перенявших от предков ловкость и хитрость, столь необходимые в подобных делах.
Нишан-ака вытряхнул на ладонь из табакерки остатки насвая и, забросив под язык, некоторое время наблюдал. Ему хотелось подойти к Арслану и на правах друга его отца крепко отругать парня. Но что-то заставило его остановиться, сдержать свой гнев. Усомнился, видно, в силе своих слов, которые сейчас вряд ли могли подействовать на Арслана. С некоторых пор он замечал, что парень заметно изменился нравом, стал дерзким. Разговаривает с легкой снисходительностью, тая в уголках рта усмешку.
Нишан-ака, сплюнув нас, все еще стоял, почесывая затылок. Пожалуй, он сейчас походил на курицу, которая высиживала утиные яйца и теперь с удивлением глядит на плавающее дитя. «Неужели же может дойти до такого джигит, предки которого были дегрезами! — размышлял Нишан-ака. — Отец работал на заводе, а он ищет способ легко зарабатывать деньги. Так подействуют ли на него мои слова?.. А что, если все-таки подойти и, глядя ему прямо в глаза, сказать, что дело, которым он занимается, недостойно джигита? Не-ет, будь отец жив, он бы не позволил сыну этого. — Нишан-ака, сдвинув тюбетейку набок, почесал за ухом. — Арслан сам не понимает, в какое болото он опустился. Корысть застлала ему глаза. Что и говорить, кому не нужны деньги? Каждый рад лишней копейке. Но что станет в конце концов с человеком, если он, одурманенный деньгами, только и делает, что гоняется за ними?.. Да, стоит об этом поговорить с Матвеевым. Может, вдвоем как-нибудь удастся наставить парня на путь истинный».
Нишан-ака, вспомнив, что опаздывает на работу, заспешил с базара, так и не купив насвая.
И на следующий день Арслан, нахлобучив на голову новый телпак из соболиного меха, спешил спозаранок на базар. В узелке под мышкой у него была еще дюжина таких же телпаков. На них сейчас как раз большой спрос, и он предвкушал хорошую выручку. Спешил.
Свернув за угол, лицом к лицу встретился с Барчин. Заметив его растерянность, девушка засмеялась.
— Салам, — сказала она.
— Салам. Откуда так рано?
— У подружки была. Готовлюсь к сессии. Взяла вот эти книжки почитать. А вы далеко ль направляетесь?
Она с интересом и некоторым удивлением поглядывала на узел, который он сжимал под мышкой. В этот момент Арслан готов был выбросить этот проклятый узел или провалиться сквозь землю вместе с ним. Чтобы только отвлечь ее, он произнес сдавленным голосом, глядя себе под ноги:
— Встретиться бы нам, Барчин. Давно не виделись.
Барчин улыбнулась и пожала плечами.
— Вы куда-то исчезли. Даже мама у меня несколько раз спрашивала, не болеете ли…
— Передайте привет Хамиде-апа! Давайте встретимся у кинотеатра «Хива»…
— Не могу, Арслан-ака. Времени нет, готовлюсь к экзаменам. Не сердитесь только.
Заметив, что Барчин изучающе оглядела его с ног до головы и чуть приметно улыбнулась, он решил, что она давным-давно все знает о нем — и то, что он шьет телпаки, и что занимается торговлей, и что забросил учебу в институте, а про завод и думать забыл. Разговаривая с ней, он старайся было спрятать узелок с телпаками за спину, чтобы он не бросался ей в глаза, но, заметив ее ироническую улыбку, назло переложил товар из-под одной руки под другую, нехорошо осклабился и протянул ладонь.
— Хоп, хайр, всего доброго!
— Ну что ж, ладно. До свидания, — с обидой сказала девушка и сделала шаг в сторону, как бы уступая ему дорогу.
Вслед ему донесся ее голос:
— Вы не сердитесь. У меня, правда, совсем нет времени…
Арслан не обернулся. Если б обернулся, то увидел, что она все еще стоит, глядя ему вслед, и чуть не плачет.
По правде говоря, и у него состояние было не лучше. Легонький узелок с телпаками казался ему тяжким грузом. Он даже забыл, куда идет и зачем. Уши все еще горели, будто их только что хорошенько надрали. Да, конечно, станет ли Барчин знаться с таким, как он? Она всеми силами старалась скрыть презрение к нему, но он все-таки прочел это в ее глазах.
Телпаки жгли ему руки. Захотелось поскорее избавиться от них. Арслан нехотя поплелся на базар.
Парсо-домля, надев на колено два смушковых телпака, сидел на корточках, прислонившись к забору.
— Торг сегодня неважный, Арслан, — вяло сказал он.
— Что вы, амаки, так громко произносите мое имя? Не можете потише?
— А что? Стыдишься? Если ты такой застенчивый, незачем сюда приходить! С этого базара кормишься ты, каналья! Денежки небось любишь, а?
— Э, оставьте! Завели разговор на весь день!
Парсо-домля умолк. Вокруг толкались люди. Одни прятали какие-то вещи за пазухой, другие созывали народ, расхваливая свой товар. Мимо с деловитым видом проходили мужчины, торопились женщины с кошелками. На шапки никто и не глядел.
Парсо-домля вздохнул:
— Да, торг неважный сегодня. Махсум дал мне телпаки, которые трудно сбыть. Я сказал ему, что такие грубо сделанные телпаки следует нести в среду на скотный базар. Там их покупают непривередливые люди, пригнавшие скот из глухих мест. Махсум не согласился. И вот результат. Еще темно было, когда я пришел сюда, а почина нет.
Арслан отошел подальше от Парсо-домли, чтобы не слышать его брюзжания. И так было тягостно на душе. Он стоял и никак не мог себя заставить вынуть из узелка хоть один телпак. А следовало, как обычно, держать телпак в руках и, показывая его покупателю, любовно дуть на мех, чтобы, значит, не прислала к нему ни одна соринка. И при этом надо держать ухо востро, похаживая из стороны в сторону, почаще поглядывать по сторонам, чтобы успеть вовремя смыться в случае чего. В последнее время от милиции прямо-таки покоя нет.
— Ну что ты торчишь, будто кол?
Голос заставил его вздрогнуть. Арслан не заметил, когда к нему подошел Парсо-домля.
— Ступай-ка принеси мне насвая!
Арслан взял монету и стал пробираться сквозь толчею. Насфуруш — торговец насваем, — спрятавшись от ветра, сидел за галантерейным киоском. Перед ним на платке, постланном поверх мешковины, возвышалась зеленая горка табака. Арслан молча протянул ему деньги. Насфуруш, тоже не говоря ни слова, даже не глядя в лицо покупателя, столовой ложкой отмерил положенное, завернул в бумажку. Арслан вручил насвай Парсо-домле и, не успел тот поблагодарить, пошел от него прочь. Миновав высокую арку, украшенную вылинявшими за лето флажками, он вышел за пределы базара и ускорил шаги.
Арслану было не по себе. Боль в сердце началась с момента встречи с Барчин и не отпускала. Барчин сейчас казалась ему зеркалом, в котором он увидел себя. Что с ним стало? Недавно был секретарем комсомольской организации школы, поучал сверстников брать пример с лучших людей страны, имена которых не сходили со страниц газет, строил грандиозные планы на будущее, мечтал о подвигах. А стал продавцом телпаков. Бездельником!.. Был студентом, а теперь только и гоняется за выручкой, чтобы в собственном кармане осело побольше денег. Захотел быть умнее отца, который, работая всю жизнь, не смог разбогатеть. Неужели отец не знал, что можно заняться скупкой мехов и шить телпаки? Ведь это в сто раз легче, чем быть литейщиком на заводе! И дохода куда больше! Почему же отец презрел это дело? Выходит, Барчин права, одарив его таким презрительным взглядом… Почему его деды и прадеды плавили чугун, лили казаны, лемехи и этим зарабатывали на жизнь? Отец сказал как-то: «Нужно выбрать то занятие, которое более всего приносит людям пользу». Людям! А про себя забыл? Неужели чье-то спасибо дороже хрустящих купюр, лежащих в кармане? Выходит, дороже. Отец предпочитал свободно и гордо ходить среди людей, а не прятаться и не вздрагивать, как Арслан нынче на базаре…
Видимо, вот за что Нишан-ака испытывает неприязнь к Кизил Махсуму и ему подобным. Сам он работает на заводе в тяжелом цехе, у него все руки в мозолях, но не может он задавать пышные гапы и одаривать чапанами гостей. А Кизил Махсум может, и руки у него всегда чистенькие и мягкие, как у куклы, набитой ватой.
К черту телпаки!
Арслану сейчас даже не хотелось видеть Кизил Махсума. Он не отнес ему телпаки, а пришел с ними домой. Сказав матери: «Я себя неважно чувствую», — швырнул узел в угол и упал на кровать.
И на следующий день он не вышел из дома. Лежал, как в забытьи. Перед глазами возникала Барчин. И он не знал, куда спрятать от ее взгляда этот проклятый узел. Она с упреком смотрела ему в глаза.
Через день пришел Кизил Махсум. Как ни упрямился Арслан, ссылаясь на недомогание, Махсум заставил его подняться и вывел на улицу.
— Я сам вылечу тебя, братец! Не время сейчас лежать пластом. Сезон же, сезон!
Кизил Махсум принудил угрюмо помалкивающего Арслана следовать за собой. В пути старался рассмешить его, рассказывая всякие истории, анекдоты, а приведя в свою гостиную, насильно усадил Арслана на почетное место — на сложенные в три слоя курпачи. Поставил перед ним оставшийся с вечера разогретый плов, сгустившиеся сливки, виноград, теплые лепешки. Дав смочить горло пиалушкой чая, он вынул из ниши припрятанную бутылку коньяку и налил по половинке в две пиалушки.
— Э, как-то оно будет, Махсум-ака? — растерялся Арслан, не пробовавший ранее этого напитка.
— Хорошо будет! Ну, бери, будь мужчиной! Люблю тебя за удаль. Атамулла, Парсо-домля — бог с ними, но если ты покинешь меня, тогда придется мне закрыть лавку. Ты же моя надежда, Арслан. Как только пройдет годовщина смерти моего славного друга Мирюсуфа-ата, я сам женю тебя. Такую свадьбу закатим! Пусть враги завидуют… Большие надежды возлагаю я на тебя. Ты же сам видишь, я отдаю тебе предпочтение даже перед своим братишкой Зайнабиддином. Он еще глуп… Ну, давай еще по одной!
Во второй раз Арслан не заставил себя уговаривать. Не спеша выцедил из пиалушки весь коньяк, крякнул, подражая Кизил Махсуму, и принялся есть. В голове он ощущал приятный шум, стало весело. Ему льстили слова хозяина, и он обратился к нему:
— Мне бы тут шитьем заняться, а на базар не ходить, Махсум-ака.
Тот кивнул, хотя просьба Арслана не совсем пришлась ему по душе. Он показал, где лежат мерлушки, каракуль, и вышел на улицу.
В пятницу мать Кизил Махсума Биби Халвайтар и жена Мусавата-хаджи Мазлума-хола явились в дом тетушки Мадины в качестве сватий. Хозяйка расстелила перед ними дастархан, заварила крепкий чай. За чаем и начался разговор.
— Мадинахон, — завела Мазлума-хола, опередив Биби Халвайтар, уже намеревавшуюся было открыть рот для объяснений, — как истечет год со дня кончины Мирюсуфа-ата, пусть земля ему будет пухом, давайте сразу и сыграем свадьбу. Таково наше желание. А что скажете вы?.. — Видя, что женщина колеблется и молчит, она продолжала: — Ведь живем один раз, нужно стараться удовлетворять свои желания. Друг моего благоверного Махсумджан еще при жизни Мирюсуфа-ата пользовался его расположением, покойный любил его как сына, и сейчас, находясь там, в раю, он будет чрезвычайно обрадовал, узнав о нашем намерении. Что поделаешь, такова, значит, воля аллаха, родилась любовь необоримая: уважаемый человек полюбил вашу Сабохатхон. Если мы не посчитаемся с его чувством, Махсумджан может что-нибудь сотворить с собой. Кари-ака сказывают, что день и ночь в думах его брата одна только Сабохатхон. Порой мне даже кажется, что старинный дастан про любовь «Атабек и Кумуш» про них написан. Он — Атабек, она — Кумуш. Да расцветет их любовь, как в том дастане, только судьба их пусть будет счастливой…
— Не избежать того, что предначертано свыше, — произнесла Мадина-хола. — Если такова их судьба, то что же мы можем поделать. Да только сейчас не до тоя нам…
— Мы понимаем, — заверещала снова Мазлума-хола. — До тоя ли сейчас нашим стонущим сердцам! Пусть год минует, справим поминки, потом уж и начнем приготовления. Так думают и Махсумджан, и хозяин наш Мусават-хаджи.
— Мы не спешим, — вмешалась в разговор Биби Халвайтар, сидевшая до сей минуты с каменным лицом. — Дело в том, что любовь нашего дитяти к вашему чрезвычайно сильна. Красавица Сабохатхон станет дочерью двух семей. Мы пришли, чтобы сказать вам о нашем желании.
В разговор снова вступила Мазлума-хола:
— У кого есть дочь, тот покапризничать не прочь — так говорят, дорогая моя Мадинахон. О расходах вы не беспокойтесь, Махсумджан сказали, что все возьмут на себя.
— Милая Мадинахон, — вздохнула Биби Халвайтар, — такова уж судьба нашего сына Махсумджана. Прежняя семья прахом пошла, хочется ему жизнь начать заново…
— Мой хозяин говорят о том, что подобные ошибки возможны только в раннее утро жизни. Всяк может впасть в заблуждение по незнанию, — заметила Мазлума-хола. — Вот мы и сказали все, теперь ждем вашего слова. Рот не бывает без зубов, а мельница без жерновов. Говорите, милая, что у вас на душе. Только не уподобляйтесь том, кто намекает: положи, дескать, мне под язык золото, тогда скажу. Мы вас слушаем, дорогая Мадинахон.
— Сказала же, надо повременить, пока у нас траур… — тихо произнесла сбитая с толку Мадина-хола. — Потом… что думает сама Сабохатхон? Молодежь нынче сами знаете какая.
— Это все? — спросила Биби Халвайтар.
— Да, милая.
— Все это мы и сами знали. Не такие это новости, дорогая, чтобы могли заставить нас отказаться от намерения. Мы еще придем… А на сегодня хватит и такой договоренности. Ну, мы отправимся восвояси, благословите нас!
Сидящие провели по лицу ладонями и поднялись. Биби Халвайтар и Мазлума-хола простились с хозяйкой и вышли на улицу. Налетел упругий ветер, обдал их мелкой снежной пылью. Женщины спешили домой, где их ждали с вестями.
— Что овца, что коза — к одному колышку привязываются, — сказала, хихикнув, Биби Халвайтар. — Они согласятся принять наше предложение, милая, это я заметила. А где им еще найти такого джигита, как Махсумджан, который и денежки бы так зарабатывал, и был настолько проворен и находчив? Ведь он дитя полноводного арыка. У Мадиныхон есть разум. Если поворочает хорошенько мозгами, то Махсумджан покажется ей сверкающим, как алмаз, заманчивым, как звезда на небе… А какова дочь? Ты хорошо ее знаешь? Не какая-нибудь вертихвостка? Слышала я, что она мастерица завлекать мужчин в свои сети!
— Нет, дочь их молода, — отозвалась Мазлума-хола. — Я слышала о ней только хорошее.
— Ладно, если так.
Арслан домой возвратился поздно вечером. Мать, подавая ему ужин, сказала, что приходили сватать Сабохатхон. Он удивился, но промолчал. Он знал, что в конце концов они явятся, но не думал, что так скоро.
А Сабохат, отперев ему калитку, сделала вид, что ни о чем не ведает. Старшая сестра сказала ей, какой выкуп жених предлагает за нее: три нити жемчуга, золотые часы, перстень с бриллиантовым глазком, одиннадцать платьев… Саодат еще что-то говорила, а Сабохат уже не слышала ее. Она представила себе это богатство, и голова у нее пошла кругом. Душа ее пришла в смятение. «А какой дом у твоего жениха, оставшийся от бая Салахиддина, с внутренним и внешним дворами, какой сад…» — звучал вкрадчивый голос сестры. И слова матери вспомнились сразу же: «Если масло и прольется, все равно на донышке что-то останется…»
Мать и сын сидели в это время за хонтахтой. Эта сторона, где нынче сидел Арслан, после похорон главы семейства всегда оставалась свободной. Раньше здесь, как на почетном месте, прислонившись к подушке, обычно сидел Мирюсуф-ата. Они сидели молча, но Арслан понимал, что мать хотела сказать, посадив его на это место. Она сидела, пригорюнившись и сомкнув тонкие губы, а он словно бы слышал ее тихий, ласковый голос: «Семья в твоих руках, сынок!»
После того как он поужинал, мать убрала посуду и удалилась в женскую половину. Там долго шептались они с Сабохат и Саодат. А мужчине не с кем шептаться. В доме теперь он один. И ему надлежит решать.
Арслан вытянулся На курпаче, подложив под голову подушку отца. Мысли путались. Вспомнилась Барчин, потом однокурсники Захиди и Бурхан, Которых он случайно встретил на улице. Хорошо, что при нем не было этих проклятых телпаков. Друзья стали было упрекать, что Арслан бросил учебу. Он сослался на то, что после смерти отца ему приходится зарабатывать на жизнь. Друзья умолкли, ему сочувствуя. Захиди спросил, где он работает. Арслан замялся, пришлось соврать. «На заводе, — сказал он. — На том самом заводе, где работал отец…» Ребята поверили. А каково ему, обманувшему их, своих друзей, которые принимают его за порядочного человека?..
Не в состоянии носить в сердце такой груз, он поделился с Кизил Махсумом.
— Наплюй на все! — сказал тот. — В наше время главное — деньги. Карман набит — тебя будут уважать. Карман пустой — да будь ты семи пядей во лбу, никто с тобой и знаться не захочет…
Разговор с Кизил Махсумом не облегчил страданий Арслана. Третьего дня, мучимый тяжелыми думами, Арслан брел понуро по улице, подняв воротник и натянув телпак на самые уши. И чуть не столкнулся носом к носу с Нишаном-ака.
— Как здоровье, братишка?
— Рахмат. Здоровы ли сами?
— Здоров, как конь!
— Всегда будьте таким.
— Понимаешь ли ты, почему я тебя здесь поджидаю? — начал объяснение Нишан-ака. — Много ли проку от глаз, если ум слеп, — так говорят в народе. Но ты смышленый парень… Я долго ждал, что ты придешь, постучишься ко мне в калитку и скажешь: «Салям, Нишан-ака, мне хочется распить с вами чайничек чаю. Сорок лет вы дружили с моим отцом. Когда здоровались за руку, ощущали мозоли на ладонях друг у друга. Вижу вас — будто бы вижу отца…» Нет, не дождался я этого. Может, потому, что в моем доме не каждый день варится плов с казы и я не задаю гапы?..
Арслан покраснел и еще ниже опустил голову.
— Ваш упрек справедлив, Нишан-ака. Я все понимаю…
— Это хорошо, если ты такой понятливый. Мне хочется серьезно поговорить с тобой. Где нам лучше встретиться?
— Можно у нас, можно у вас.
— Договорились. Приходи к нам. Выпьешь моего чайку, ты же знаешь, я умею по-особому его заваривать. Твой отец очень любил заваренный мною чай.
— Приду. А о чем будет разговор, Нишан-ака? — полюбопытствовал Арслан, смутно догадываясь, куда клонит приятель отца.
Нишан-ака в упор взглянул на Арслана и сказал:
— В складках твоей рубашки, кажется, завелись насекомые. Пришло время выстирать ее и прогладить каленым утюгом.
Арслану было известно, что этот человек мог иногда сказать что-нибудь дерзкое, кольнуть побольнее. Стерпел.
— Буду ждать тебя в воскресенье утром, — сказал Нишан-ака.
Они сухо простились.
Глава десятая ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
Нишан-ака, ссыпав на ладонь щепотку зеленого чая, долго мял ее пальцами. Добавил несколько листочков мяты и лепестков розы, бросил эту смесь в большой фарфоровый чайник. Налив кипятку из только что принесенного чайдуша, завернул чайник в полотенце, чтобы настаивался. На дастархане лежали куски лепешки, сушеный урюк, кишмиш.
— Я хотел у тебя спросить: почему ты так изменился? — Нишан-ака, заметив, что его вопрос смутил гостя, покашлял в кулак, давая ему время собраться с мыслями и несколько успокоиться. Арслан молчал. Тогда он продолжил: — Отец ушел из жизни, и ты растерялся, как запоздалый путник на распутье? А ведь ты, дорогой, должен был серьезнее задуматься о своей дальнейшей судьбе…
— Вы о чем, Нишан-ака?
— А о том, что не делом ты занимаешься! — вспылил Нишан-ака. Вены на его висках набухли, он побагровел. — Раньше вон каким джигитом был! Отец тобой гордился. И учился, и на строительство водохранилища ездил. А теперь? Хоть интересуешься тем, как продвигаются дела на стройке, где ты одним из первых вогнал свой кетмень в землю?.. Нет, не интересуешься. И за газетами не следишь. А надо бы. Иначе ты бы знал, что время нынче тяжелое. В Германии вон фашисты к власти пришли. Испания в огне. Наши лучшие парни отправляются туда, чтобы помочь испанцам отстоять республику… А мы телпаки будем продавать на базаре? Пусть кто-то жизни своей не щадит, отстаивая на земле свободу, а мы будем карманы деньгами набивать?..
Арслан резко вскинул голову. Он был бледен. Глаза его неприязненно сверкнули. Нишан-ака, стараясь успокоиться, выдержал его взгляд. Он машинально поглаживал ус, который дергался не переставая.
— Что вы от меня хотите? — глухим голосом спросил Арслан, всеми силами стараясь подавить в себе гнев.
— Я хочу, чтобы ты был тем, кто ты есть! — произнес Нишан-ака несколько потеплевшим голосом. — В тебе течет кровь дегрезов. И ты в трудный для страны час должен отдать ей свои силы… Не ровен час фашистский падишах захочет вонзить зубы нам в бок. По-твоему, мы голыми руками сможем задушить эту бешеную собаку?! Как бы не так. Нам сейчас нужны сталь, чугун. Много металла! Нужны машины. На заводе мы работаем один за троих, не хватает рабочих рук, а ты?..
Арслан не искал слов, чтобы возразить. Знал, что отец сказал бы то же самое. А отец никогда не советовал худого и не терпел возражений. Но ему хотелось хоть чем-то оправдать себя, чтобы этот близкий ему человек не думал о нем плохо. Не поднимая головы, он произнес:
— Я должен был Кизил Махсуму крупную сумму, а возвратить вовремя не смог. Он сказал: «Отработай у меня малость и будем квиты». С этого и пошло… Мама пожилая, сестра не устроена, сами знаете, тяжело…
— Знаю, дорогой Арслан, как не знать. Вот и хочу тебе помочь. Не жить же тебе век, от людских глаз прячась, — сказал Нишан-ака, подобрев.
Он стал разливать свой знаменитый чай. Некоторое время сидели молча, услаждая себя терпким янтарно-желтым напитком. Потом Нишан-ака сказал как о давно решенном:
— Вот что, Арслан. Завтра понедельник. С утра буду ждать тебя у проходной. Всмотрись в наш завод, в людей. И подумай.
Арслан кивнул.
«Как бы не раздумал!» — с тревогой думал Нишан-ака и вглядывался в рабочих, проходивших мимо. Некоторые подходили, здоровались с ним за руку и интересовались, что это он стоит здесь, у проходной. «Жду одного товарища», — отвечал он.
Арслан появился за несколько минут до начала смены. Нишан-ака хлопнул его по плечу, улыбнулся.
В литейном цехе они разыскали Матвеева.
— А, сын дегреза, здравствуй! — обрадовался тот.
— Вот, пришел, — сказал Нишан-ака, кивнув на Арслана. — Хочет увидеть место, на котором отец работал.
— Не только увидеть, — проговорил Арслан, краснея.
Он вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку, протянул Матвееву. Тот развернул, лицо его озарилось улыбкой, от удовольствия он даже покрутил кончик правого уса.
— Погляди-ка, он уже и заявление настрочить успел! — сказал он, показывая бумагу Нишану-ака. — Идем!
Арслан в замешательстве оглянулся на Нишана-ака, тот подбадривающе кивнул и подтолкнул широкой ладонью его в спину: мол, иди, иди.
Матвеев определил Арслана помощником формовщика. Работа эта была не из легких. Начальник цеха решил устроить Арслану нечто вроде экзамена. Хотелось узнать, из какого он теста слеплен. Если не сбежит на второй день, то получится из него настоящий рабочий. Конечно, об этом он не обмолвился ни словом. Пожелал успеха и удалился.
Медленно и равномерно, с характерным скрежетом двигалась цепь конвейера. Вдоль всего цеха, слегка покачиваясь, перемещаются висящие на цепях металлические ящики. По обе стороны конвейера стоят оголенные по пояс джигиты. Одни лопатами накладывают в ящики песок, другие при помощи специального штампа делают в этом песке форму, третьи наливают в готовую форму расплавленный чугун, спуская по желобку из огромного котла. Чугун плавится здесь же. Из вагранок, в которых бушует пламя, то и дело вырываются снопы искр. Из зева печи пышет жаром, и тела парней, стоящих поблизости, лоснятся от пота, будто смазаны жиром. Блики красноватого пламени высветили их фигуры, и кажется, что они сами тоже отлиты из меди. Искры, летящие из вагранок, ударяются о них и отскакивают, сыплются на пол, а им хоть бы что: надвинув на глаза темные очки, делают свое дело. Даже зимой, когда за стенами цеха свирепствуют мороз и вьюга, здесь жарко, как на экваторе, даже еще жарче. Рабочие сбрасывают с себя все, кроме брюк и сапог. Когда они работают, на их широких спинах, крутых плечах, выпуклых грудях бугрятся мускулы, тоже крепкие, как чугун, который они плавят.
Арслан старался держаться подальше от вагранки, и все же до него долетали искры, заставляя шарахаться в сторону. Ребята смеялись, приговаривая: «Ничего, привыкнешь…» Огромное помещение было заполнено сизоватым туманом, от которого першило в горле. Поодаль яркими пятнами полыхало несколько солнц, вокруг которых смутно угадывались мелькавшие тени людей.
Высокий, плечистый парень, на лоб которого спадал волнистый светлый чуб, взял пиджак у Арслана, нырнул куда-то и тут же появился снова. Арслан по привычке кивнул, благодаря его, и опять стал беспрерывно и ритмично бросать песок в металлические ящики, стараясь не отставать от других. Вскоре ему пришлось снять с себя и рубаху. В цехе стоял напряженный гул, в котором тонули и терялись голоса.
С самого начала Арслан определил себе в соперники высокого парня, отнесшего куда-то его пиджак и рубаху. Хотя тот не обращал на него никакого внимания, Арслану не хотелось отставать именно от него, от этого сильного и спокойного джигита.
Время, казалось, идет очень медленно, руки и спина немели, каждое движение отдавалось болью в плечах. Конвейер двигался непрерывно, и ему начинало казаться, что перед ним с самого начала стоит один и тот же бездонный металлический ящик, который невозможно наполнить.
Блеснули голубые глаза высокого парня. Он улыбнулся и сказал, смахнув рукой пот с лица и откинув в сторону чуб:
— Отдохни малость.
Арслан из упрямства отрицательно покачал головой, хотя ему сейчас больше всего хотелось бросить лопату и посидеть где-нибудь в сторонке.
К полудню Арслан почувствовал, что на ладонях вздулись водянистые пузыри. Черенок то и дело выскальзывал из горячих ладоней. И когда его кто-то, похлопав по спине, заставил обернуться, он вдруг заметил, что в цехе стало тихо, а рабочие, надевая куртки и пиджаки, направляются к выходу. Он не слышал гудка, возвестившего о перерыве.
— Идем обедать, — сказал с улыбкой высокий парень, возвращая рубашку и пиджак. — А ты силен, друг…
Арслан промычал что-то невнятное себе под нос, думая о том, что, пожалуй, следует поговорить с Матвеевым, чтобы он перевел его в другой цех. Наверно, куда спокойнее и проще работать токарем или слесарем. Нишан-ака говорил как-то, что при заводе имеются курсы, месяца через два-три можно стать токарем, получить разряд.
— Тебя как зовут-то? — спросил парень, когда они шли по аллее, ведущей к столовой. — Меня — Володя.
Арслан назвался.
— Большинство рабочих на нашем заводе начинали с того, с чего ты начал, — сказал Володя. — А сейчас многие уже квалифицированные мастера, некоторые цехами руководят.
Арслану сделалось как-то неловко перед этим парнем за свои мысли. Он, видимо, проникся к новичку уважением, приняв его за сильного, волевого, как сам, а этот новичок уже помышляет о бегстве в спокойное место.
— А сам давно тут работаешь? — спросил Арслан. Володя загадочно улыбнулся.
— Я слесарь, — сказал он. — Знаешь ли, опоздал минут на десять на работу… вот меня и поставили на это место — в наказание. Месяц придется вкалывать. Ничего не поделаешь, порядки у нас строгие. Каждый поступивший на завод хочет поскорее специальность получить. Работая же лопатой, квалификации не получишь. А кто-то должен же работать и здесь. Вот и работают на этом месте в основном новички да те, кто проштрафился. Я два года назад тоже с этого начинал…
Арслан благодарен был Володе за то, что он объяснил ему суть дела. А то сунулся бы к Матвееву с просьбой.
— В этом цехе работать вагранщиком, формовщиком или заливщиком — вот это профессия! — продолжал рассуждать Володя. — Только не все там выдерживают. Трудно.
Зашли в столовую, заняли свободный стол. Володя издали поприветствовал знакомую полную женщину в белом халате. Вскоре она принесла борщ, котлеты, кефир. Володя заплатил за себя и за Арслана, который хотел было возразить, но Володя сказал ему:
— Ничего, у нас не принято считаться. Бери, ешь, пока не остыло. Это, конечно, не то, что ваш плов, но для тех, кто хорошо потрудился, и это кажется вкуснее, чем плов.
Пока они обедали, Володя говорил о том, что специальность себе выбрать лучше всего сразу, чтобы потом не переучиваться. Завод не любит птиц, порхающих с ветки на ветку. Рассказывал о знакомых ему джигитах-узбеках, которые в этом году поступили работать на завод по путевкам комсомола. Они сейчас славно трудятся. Были, правда, и такие среди них, которые, смалодушничав, сбежали в первую же неделю. Товарищи до сих пор о них говорят как о трусах и бесчестных.
В цехе Арслана поджидал Матвеев. Он представил его мастеру формовщиков Шавкату Нургалиеву. Оставив их вдвоем, ушел. Мастер достал из нагрудного кармана портсигар, вынул папиросу и помял ее в руках.
— Ну как? — спросил он, обведя рукой весь цех.
— Нормально, — отозвался Арслан, оглядывая огромное помещение, потолок которого, казалось, был поднят под самые небеса.
Между тем конвейер тронулся с места. Опять загудели вагранки. Яркие искры, исходящие из них, напомнили Арслану пчел. Эти умные насекомые вьются, жужжа, над хозяином, но не жалят его. Так они, эти искры, не обжигают людей.
Два подъемных крана, скользя на роликах под стеклянным потолком, перемещают огромные котлы с расплавленным металлом.
Нургалиев наклонился к уху Арслана и, сложив руки рупором, прокричал:
— Выйдем-ка на минутку. Здесь голос сорвешь, пока поговоришь.
Когда вышли во двор, Арслану показалось, что в ушах у него вата. Это ощущение не покидало несколько минут.
— Что, уши заложило? — усмехнулся Нургалиев, раскуривая папиросу, и, не дожидаясь ответа, спросил: — Ты, значит, сын Ульмасбаева? Я рад, что ты пришел к нам.
Нургалиев разговаривал, мешая узбекские и русские слова, и то и другое произносил с татарским акцентом. И речь его звучала приятно и располагающе.
— Знаешь ли, одиннадцать лет назад я был учеником твоего отца. Когда я впервые пришел, он сказал: «Походи по цеху, погляди, как мы работаем. Поправится — наденешь спецовку и примешься за дело, не понравится — скатертью дорога». Часа два я ходил по цеху. Потом подошел и говорю: «Нравится!» Твой отец был добрым человеком, но скупым на похвалы. Только через месяц он сказал мне: «Нугай-бала[68], ты неплохой бала…»
Шавкат Нургалиев был круглолиц, высок и худощав. Ему было около тридцати пяти, но выглядел он значительно моложе. Нос казался слегка приплюснутым и придавал его лицу, покрытому редкими рябинками, задиристый вид.
— Если решишь идти по стопам отца, останешься на заводе. Не захочешь — как знаешь. Насильно держать не будем. Звать меня Шавкат-ака. Можешь обращаться и «товарищ Нургалиев», как тебе угодно. Но так обычно ко мне обращаются только на собраниях… Ну, идем, я выдам тебе спецовку.
Нургалиев раздавил папиросу о каблук и бросил ее в урну. Они пересекли цех, наполненный грохотом и гулом, зашли в небольшое помещение, стены которого были заставлены узкими шкафчиками. Это была раздевалка душевой. Мастер выдал Арслану спецовку и показал, какой шкафчик он может занять.
Переодевшись, Арслан пошел к своему месту. Володя дружески подмигнул ему и показал большой палец: дескать, вид у тебя как у настоящего рабочего! Арслан улыбнулся в ответ и принялся накладывать лопатой влажный песок в проплывающие мимо формы. Он действовал быстро. Поспешно наполнив три-четыре формы, он подбегал к той, что еще не успела приблизиться.
Нургалиев, с улыбкой наблюдавший за ним со стороны, подошел к нему и, взяв за плечо, прокричал ему в ухо:
— Не спеши, насыпай, когда форма уже около тебя. Не бойся, успеешь. Иначе ты быстро устанешь, а конвейер не устает.
Арслан, согласившись, кивнул. Некоторое время работал, как посоветовал мастер, а потом опять начал бегать от формы к форме.
Нургалиев заметил, что некоторые посмеиваются, наблюдая за работой новичка, насмешливо перемигиваются. Мастер снова и снова подходил к Арслану, показывал, как надо действовать лопатой. Ему нравилось, что Арслан не обращает внимания на усмешки, занят своим делом. Парень, кажется, успешно пройдет первое испытание.
— Ульмасбаев, не торопись, не торопись, — одергивал он всякий раз Арслана, когда тот слишком уж увлекался. Нургалиеву нравилось, что новичок скромен и немногословен.
Так проходили дни. Время от времени в цех наведывался Нишан-ака, все еще беспокоившийся, как бы Арслан все же не предпочел легкую работу портняжки работе в горячем цехе. Делился своей тревогой с Матвеевым и Нургалиевым. Но их подопечный, кажется, не нуждался в том, чтобы с ним проводили воспитательную работу. Он уже освоился, втянулся в дело, обзавелся товарищами. «В отца, видать, чистая кровь…» — удовлетворенно приговаривал Нишан-ака.
Однажды мастер Нургалиев после окончания смены пригласил Арслана к себе домой. Арслан смутился, не зная, Припять приглашение или отказаться. Заметив его колебания, Шавкат Нургалиев улыбнулся.
— Ты сын моего учителя, которого я очень уважал. Его, к сожалению, уже нет, но буду рад увидеть тебя в своем доме, — сказал он и по-дружески похлопал Арслана по плечу.
В доме у Нургалиева заранее были осведомлены, что вечером у них будет гость. Жена Шавката-ака Марзия, приветливая красивая женщина, встретила их на пороге. Ее мать Мохинурбону уже выставляла на стол татарские национальные блюда — парамач, беляши, чак-чак и другие, названия которых Арслан даже не знал. Понимая, что мужчины с работы вернулись голодные, их тут же усадили к столу.
Мохинурбону была словоохотливая старушка, несмотря на свой возраст, она не утратила обаяния. «В молодости она, наверно, была такой же красивой, как Марзия», — Подумал Арслан.
Арслан узнал в этот вечер, что родом они из-под Казани. Теща Нургалиева в шутку заметила, что она по происхождению именитая, а дочку вот, молодую и прекрасную, выдала за простого рабочего. На это Нургалиев, тоже посмеиваясь, ответил, что по новым временам самый именитый — рабочий класс.
Муж Мохинурбону еще до революции приехал в Ташкент и обосновался здесь, став приказчиком у знаменитого бая-промышленника Рахима Туманова. Одна из ее сестер вышла замуж за узбека. Бай Рахим Туманов, как только произошла революция, в первые же дни добровольно отдал свои заводы советскому правительству и скромно жил с дочерьми в своем небольшом домике в новом городе. Умер он совсем недавно. А ее Покойный муж имел связи с меховщиками старого города. Там сестра ее живет и поныне. Она часто бывает у сестры и имеет немало знакомых в старых махаллях.
Нургалиев, несмотря на возражения жены, еще раз наполнил рюмки. Настоял, чтобы Арслан выпил.
— Мы, рабочий класс, тоже иногда прикладываемся, — сказал он. — Но на работе чтобы этого никогда не было, понял? — И лицо его сразу же сделалось строгим.
Марзия сидела напротив и занимала Арслана разговорами. Он же, смущаясь, не смел даже взглянуть в ее сторону. Только заметил, что глаза у нее светлые, а губы сочные, такие, как у Барчин. Он вспомнил о Барчин, и его сердце наполнилось тоской. Марзия, разговаривая, смотрела собеседнику в глаза, и Арслан, боясь встретиться с ней взглядом, старался сидеть к ней вполоборота.
Несколько захмелевший Нургалиев внезапно повернул разговор на серьезные темы. Он начал втолковывать Арслану, какое значение имеет завод в жизни страны. Хотя Арслан об этом кое-что уже знал, но слушал с вниманием, проявляя уважение к старшему.
— Тебе трудно? — спросил Нургалиев и сам же ответил: — Трудно. А это потому, что многие работы вручную делаем. Завод наш молодой, еще не полностью оборудован. А тем, кто до тебя работал, было еще труднее. Когда я пришел к твоему отцу в ученики, мы не имели и того, что сейчас имеем. Формовали вручную, подносили к вагранкам вручную. Да и какие там вагранки, тандыры были — и только! К концу дня наработаешься — спины разогнуть не можешь. А знали мы, что молодой смене нашей легче будет. Так и есть, легче. А вот перейдем на автоматику, тогда уж и вовсе легко станет. Только бы не помешали…
Последние слова Нургалиева почему-то вызвали смех у его жены.
— Кто вам может помешать?
— Врагов слишком много у нас завелось. Справа японцы, слева немцы. Покоя нет у них, что мы крепнем, на ноги становимся. Знают: если поднимемся во весь рост, не дотянуться им, не сбить нас наземь. Вот и точат зубы, на нас глядя. Нам только бы сил набраться! А вот каждый такой парень, приходящий на завод, приобщает к нашей силе свою силу. И мы крепнем час от часу. Нас становится все больше и больше.
Арслан слушал молча, и его постепенно наполняла гордость, что и он представляет частичку общей силы. Его труд, оказывается, нужен стране. Месяцем раньше он и представить себе не мог, что один человек может играть такую огромную роль в жизни целой страны. В нем жила уверенность, что человек трудится лишь для того, чтобы всегда быть сытым, одетым, что каждый устраивается, как может, но всегда ищет от дела побольше выгоды. Чем больше заработок, тем больше, значит, повезло человеку. Но, оказывается, не это самое главное. До сих пор он копошился в своем маленьком затхлом мирке, тогда как настоящая-то жизнь проходила мимо. Вдруг опять перед ним предстала Барчин, и он ясно увидел ее насмешливую улыбку, ее глаза.
Арслан вздрогнул, как от удара, мотнул головой, возвращаясь к действительности.
— Шавкат, эй, Шавкат, гостю надоела твоя выспренняя речь! — ласково обратилась к мужу Марзия.
— Нет, нет, ну что вы!.. — запротестовал Арслан, испугавшись, что Нургалиев может ей поверить.
А тот продолжал, будто и не слышал ее слов:
— Мы называем себя Сельмаш. Мы делаем сельскохозяйственные машины. Чем больше мы будем выпускать этих машин, тем легче дехканину будет работать. Мы ни на минуту не должны забывать, что мы у него, у дехканина, в долгу. Мы сыты благодаря дехканину. Машинами же мы все еще его полностью не обеспечили. А он ждет тракторов, копает арыки, каналы кетменем и ждет экскаваторов, сеет вручную и ждет сеялок, собирает хлопок руками и ждет комбайнов! Мы не должны забывать об этом ни на минуту. Выходит, урожай хлеба, хлопка тоже от нас зависит. Чем лучше мы будем трудиться на своем заводе, тем легче станет работать дехканину в поле и тем больше земля родит хлопка, хлеба…
Марзия поставила на стол самовар, налила в чашки чаю. Мохинурбону придвинула к гостю вазу с вишневым вареньем, положила в блюдечко чак-чак.
— Пейте чай. Вы угощайтесь и слушайте. А то мой зять, кажется, собирается угощать вас одними словами.
Нургалиев отмахнулся, не взглянув в ее сторону.
— Твой отец любил приводить пример с пчелами, — сказал он. — Если у пчел в улье становится слишком много трутней, они не успевают насобирать меда. Трутни не работают, а все пожирают. Тогда рабочие пчелы отрывают головы этим паразитам, вот так-то! А среди нас еще немало подобных паразитов.
Еще долго продолжалось дружеское застолье. Потом Арслан в свою очередь пригласил к себе в гости Нургалиева с женой и тещей. Попрощавшись, он покинул их гостеприимный дом.
Он шел задумавшись. В ушах все еще звучал голос Нургалиева. Арслан припоминал слова Кизил Махсума: «В жизни главное — деньги. Нет денег — и ты гроша ломаного не стоишь». Арслан сейчас не может похвастать богатством, а вон с каким уважением говорил о нем мастер. Он даже сказал, что не будь на заводе его, Арслана, они бы стали слабее.
Арслан доехал на трамвае до Хадры и зашагал по узким улочкам старого города. Было морозно, снег хрустел под ногами. Небо с вечера затянули тучи. Спряталась луна. Однако белые стены домов и белая дорога, засыпанная снегом, не давали властвовать тьме. Арслан хорошо различал протоптанную стежку.
Свернув, Арслан вступил в свою махаллю. Впереди мелькнул слабый огонек. Он мерно покачивался, приближаясь. Арслан догадался, что кто-то идет с фонарем. Человек приблизился и, подняв ручной фонарь, осветил лицо Арслана.
— Ия, родившийся в рубашке, откуда идешь?
Арслан узнал голос Мусавата Кари. Надо же, легок на помине!
— Салям алейкум! — поздоровался Арслан. — Был в гостях, Кари-ака.
— Ваалейкум ассалям! Слышал, что ты поступил на завод. Правда это?
— Правда.
— А мы с твоим Махсумом-ака только что говорили о тебе. Переживает он за тебя. Говорит: «Такой джигит, а себя ни в грош не ставит». Ты же можешь жить припеваючи, как хан! У тебя такие способности! Если как следует заняться делом…
— Вы имеете в виду торгашеские дела? Разве же это достойно человека, уважающего себя?
Мусават Кари не ожидал услышать такое, опешил.
— А вы не заноситесь, молодой человек. Спуститесь хотя бы на четыре вершка!
— Ни на вершок не спущусь, Кари-ака.
— Не плюй в колодец, пригодится воды напиться, дорогой мой Арслан.
— Решение мое твердо. Я стал рабочим. Таково было завещание моего отца. Завещание же отца для меня священно.
Среди ночной тьмы Арслан не видел, а скорее почувствовал, что Мусават Кари хмуро смотрит на него. Минуту они молча стояли друг против друга. Потом Мусават Кари, не произнеся более ни слова, зашагал прочь. И Арслан отправился своей дорогой. То, что этот человек даже не попрощался, вселило некоторую тревогу. Арслану было известно, сколь коварен этот человек. Он мстит всякому, кто не угоден ему. Впрочем, что он может сделать Арслану? Сплетнями и клеветой испортить репутацию? Есть старая пословица, которую отец любил повторять: «Не бойся кривой тени, если прямо стоишь». Чего ему, Арслану, опасаться? У вагранок сгорит всякая приставшая к нему шелуха.
Глава одиннадцатая МЕСТЬ
Старшему брату Нишана-ака Эсану-бува исполнилось восемьдесят четыре года. Борода у него и волосы белые, как хлопок. Необыкновенно добрый от природы человек, он особенно ласков к детям. Эсан-бува отличается своеобразной, какой-то красивой старостью. Он уважаем всеми, на празднества и обряды приглашается, как самый почитаемый гость. Необычайно проницателен и мудр Эсан-бува, и многие махаллинцы идут к нему за советом. Умер ли кто, родился ли у кого ребенок, первым на обряд приглашают его. Не раз он, прочтя молитву, нашептывал младенцу на ухо его имя. И не счесть в махалле людей, которым он дал имя.
Не уподобляется Эсан-бува иным старикам, которые брюзжат, сетуя на нынешнюю молодежь за то, что она забыла аллаха. Он аккуратен в исполнении правил шариата, к молитвам приученный с детства, вовремя совершает намаз, но никогда не разглагольствует перед молодыми о святости шариата. А следует ему по той причине, что частенько уж думает: недолго осталось жить и, кто знает, может, придется предстать пред судом аллаха.
Ребятишки, внуки и правнуки, завидев его, точно только что оперившиеся птенчики, устремляются к нему, толпятся вокруг, и каждый хочет, чтобы дед поднял его разок. И тогда счастливчик, болтая ногами, радостно смеется. А потом Эсан-бува достает из глубокого кармана специально припасенные карамельки и раздает их детям.
Дома два младших правнука часто затевают с ним игру. Дед так увлекается, что забывает о возрасте. И в эти минуты разница между ними — его седая борода.
Когда наступает время намаза, Эсан-бува, не медля ни минуты, стелет джайнамаз — коврик для молитв — и начинает молиться. А оба правнука, визжа и смеясь, вертятся напротив. Им кажется, что бува то и дело кланяется, касаясь челом пола, специально, чтобы их рассмешить. Они тянут его за чапан, пытаются усесться верхом на его спину, с нетерпением ждут, когда же он, обратившись к ним, скажет что-нибудь вслух. А во время намаза нельзя говорить ни о чем, кроме как думать о молитве. Он только рукой делает знаки, — мол, отойдите, не мешайте, — а малыши думают, что дед играет с ними, топчутся перед самым его носом. Бува выбирает, в какое место джайнамаза коснуться лбом, наклоняется то влево, то вправо. «Да простит меня всевышний», — произносит старик в конце молитвы и сворачивает джайнамаз. И снова играет с детишками или, заняв свое обычное место на подстилке подле стены, вставляет в штепсель вилку и слушает репродуктор. Но правнукам нет дела ни до его намаза, ни до увлечения радио. Бува самый любимый человек в мире, и он должен принадлежать только им.
Не любил Эсан-бува слишком набожных людей, которые, кроме исполнения обрядов, ничем более и не занимались.
«Надо считаться со временем, в котором ты живешь», — часто говорит он старикам, и те согласно кивают головой. Особенно не любит он каландаров — бродяг, отрекшихся от «мирской суеты» и живущих подаянием.
Однажды в чайхане вступил он в спор с Мусаватом Кари, который по поводу и без повода принимался болтать о религии и о том, что якобы наступили черные дни для мусульман. Эсан-бува его резко оборвал. «Настали светлые дни для бедняков, спины их обогрелись солнцем!» — сказал он. Старик не любил говорить много. Он мог произнести всего одну фразу и обезоружить того, кто спорит с ним. Так произошло и на сей раз. Мусават Кари ничего не ответил и только подумал: «Ах, да-а, ты же брат того самого… Нишана-рабочего…»
Иногда Эсан-бува поучал Нишана-ака: «Совершающих негодное надо порицать, а обиженных несправедливо приласкать следует».
«Вы многого не понимаете, — сердился иногда Нишан-ака. — Чем высказывать всякие суждения, молились бы себе богу, повторяя: «О всевышний, о аллах!..» На это Эсан-бува спокойно отвечал: «Деды и отцы мои не ишанами были, чтобы я вечно занимался молитвами. Каков ты, таков и я. Или ты считаешь, что в жизни больше разумеешь?»
Между тем однажды Мусават Кари, указав своему квартиранту Парсо-домля на Эсана-буву, только что вошедшего в чайхану, сказал ухмыляясь: «Этот гладкий старик, видно, съел свой разум, если решил тягаться с нами. Сам-то уже стоит на пороге этого мира, а язык свой все не уймет. Не проучить ли его?» Парсо-домля глубокомысленно возвестил: «Аллах сперва отнимает ум у раба своего, а потом уж жизнь».
Спустя несколько дней в правление махаллинской комиссии пришел низенький, тщедушный молодой человек, представившийся каким-то корреспондентом. Не застав председателя, он зашел в чайхану и заказал себе чайник чая, подчеркнув при этом, что он корреспондент и хотел бы чаю покрепче. Чайханщик засуетился, с готовностью выполнил его желание. Сидевшие на сури люди, конечно, сразу же узнали, что к ним пожаловал высокий гость. Да это и по его осанке видно: держится горделиво, подсел к столику, закинул ногу на ногу, даже чай наливает, сидя прямо, словно аршин проглотил. Брови нахмурены, ни на кого не глядит, но чувствует, что вызвал всеобщее внимание.
Не успел корреспондент выпить первую пиалушку чаю, к нему подсел Мусават Кари. Ведь общение с таким человеком в глазах махаллинцев еще раз подчеркнет его ученость. Представился: один из активистов махалли. Корреспондент сказал, что собирается написать статью о постановке культурно-просветительной работы в махалле и о пропаганде атеизма. Мусават Кари долил корреспонденту чаю, чайханщику велел принести конфет и горячую лепешку. Затем, выразив сожаление по поводу отсутствия в настоящее время председателя махаллинской комиссии, сказал, что если написание такой статьи не терпит отлагательства, то он со всей душой готов помочь уважаемому гостю.
— Я знаю, кто чем дышит в нашей махалле. Спрашивайте.
— Красный уголок у вас в махалле имеется? — спросил молодой человек, вынимая из кармана блокнот и карандаш.
— Да, конечно! Вон он! — воскликнул Мусават Кари, указав на плакат в углу чайханы и на запылившиеся брошюры в нише. — Красный уголок у нас тут издавна.
Корреспондент записал что-то в свой блокнот.
— А как с культурно-просветительной работой?
— Превосходно!
— Лекции читаются?
— А как же! Читаются! Может ли быть такое: чайхана есть, а лекций нет? Каждый день слушаем лекции…
Молодой человек недоверчиво посмотрел на Мусавата Кари, который сразу же почувствовал, что ему не совсем поверили, и тут же добавил:
— Я вам серьезно говорю.
— Какие лекции? Об атеизме бывают?
— Бывают. О чем же другом могут быть лекции, если не об атеизме! Это животрепещущий вопрос в наши дни. Вас интересуют наши атеисты?
— Есть ли в махалле безбожники?
— Как же, как же! Махалля есть, а безбожников нет?
— И можете назвать их?
Мусават Кари задумался. Искоса взглянул на корреспондента, готового сейчас же записать все, что он скажет.
— Есть достойный пример. Возьмем нашего Эсана-буву. Этому почтенному старцу восемьдесят четыре года, наш лучезарный отец краса и гордость всей махалли. Наш уважаемый бува современный человек, он каждодневно слушает радио, аккуратно посещает все лекции. Его младший братишка Нишан Тешабаев передовой рабочий.
— Как фамилия Эсана-бувы?
— Тешабаев, Те-ша-ба-ев. Правильно записали? Его предки были дегрезами: плавили чугун, бронзу и отливали казаны, плуги, кувшины, блюда.
— Атеист, говорите?
— Самый настоящий! Прямо-таки яростный безбожник.
Они беседовали еще с полчаса, пока не осушили оба чайника чаю. Затем корреспондент простился и ушел. Кари с иронической ухмылкой смотрел вслед корреспонденту, сколь прыткому, столь и легкомысленному.
После беседы минуло месяца полтора. И однажды кто-то из посетителей чайханы, показывая всем журнал, сказал, что в нем имеется статья про Эсана-буву. Присутствующие, говоря: «А ну, прочитай-ка вслух», окружили человека с тоненьким журналом.
Молва с быстротой молнии распространилась по махалле. Не осталось дома, куда бы не вошла весть о «старике, отрекшемся от веры». Во всех махаллях — и в Ахунгузаре, и в Куштуте, и в Акмечети, и в Хадре — только о том и судачили, что человек преклонных лет отверг аллаха. Об этом узнали и многочисленные родственники Эсана-бувы в дальних селениях — и в Капланбеке, и в Конкусе, и в Ишанбазаре, и в Ялангаче, и в Шуртепа. Старики разводили руками, выражая недоумение: «Пусть так, отрекся, ну ладно. А зачем это говорить в свои восемьдесят четыре года? Неужто советская власть нуждается в твоем отказе от религии, эх, с ума спятивший старик!»
Когда об этом узнали все, вплоть до жителей отдаленного Шуртепа, весть эта наконец достигла и ушей самого Эсана-бувы, который все эти дни, пока черные слухи змеей расползались по махаллям, закоулкам и улицам, спокойно пребывал у себя дома, молясь в положенные часы, а все остальное время отдавая шаловливым правнукам. Из их семьи первым узнал об этом Нишан-ака, когда по пути с завода завернул случайно в чайхану.
Эсан-бува обомлел, услышав про такое из уст брата. Он обмяк и разинул рот, а его белая борода и усы в это мгновение были похожи на фальшивые, какие наклеивают себе артисты, гримирующиеся под стариков.
— О всемогущий! Что за несчастье! Я никому не говорил таких слов, аллах свидетель!
— Вот послушайте, брат, — сказал Нишан-ака, присаживаясь с ним рядом и открыв журнал: — «Мне исполнилось восемьдесят четыре года. Прежде, во времена баев-тиранов, я был дегрезом. Сейчас я, Эсан-бува Тешабаев, нашел счастье и проклинаю свое черное прошлое! Я, один из сознательных стариков, узнав, как угнетатели с помощью религии нас обманывали, порвал с верой. Теперь я неверующий и не признаю аллаха! Я записался в союз атеистов, вовремя вношу взносы. Теперь я счастливый старик…» Слышали?!
— Я подобных слов никому не говорил, — повторил сдавленным голосом старик. — Наверное, есть другой Эсан-бува… Вы меня с кем-то путаете…
— Может, — пожал плечами Нишан-ака. — Может, есть другой Эсан-бува, который прожил в нашей махалле восемьдесят четыре года, но мы с ним все еще не познакомились!
— Подожди, Нишан! До смеха ли? Это же клевера! Люди уже читали?
— А то нет! Поэтому я вам и сказал об этом. Не будь всяких толков на этот счет, разве я принес бы вам эту весть?
— О смерти своей ведаю, об этом не ведаю. Никто ничего у меня не спрашивал. Как же это может быть? Ничего не спрашивая, прописать в журнале? Ложь! Я никому не говорил ни слова. Ведь ты сам знаешь, в последнее время я редко выхожу на улицу, ревматизм мучает, радикулит… Ведь ты сам знаешь… — Голос его звучал тихо. Казалось, он сейчас заплачет. — Как же так можно приписать такое глубокому старику! Я богоотступник, я поганый!.. Лучше бы обругали меня клятвопреступником! Ведь сижу я дома, молясь аллаху, прося у него здоровья и счастья своим внукам и правнукам. Что плохого я сделал? А ну, скажи! За какие грехи вы прописали меня в газете, отвечай! — напустился Эсан-бува на брата. — Пишите про лжецов, про взяточников, спекулянтов, про «элементов» разных, зачем же позорить невинного старика!
— Ака, поймите… — начал было Нишан-ака, несколько оторопев от бурного натиска брата, но Эсан-бува не дал ему говорить.
— Не понимаю! Ничего не хочу понимать! — закричал Эсан-бува так громко, что вздулись вены на его шее и на щеках проступила бледность.
— Это же не я писал, что вы на меня?..
— Ты рабочий. Активист! И газета эта ваша! О аллах, что же я плохого сделал, чтобы мое имя склонялось на бумаге?! Никому я не говорил подобных непотребных слов. Вассалом!
— Ака, не упрекайте меня…
— Почему же не упрекать? Кто издает газеты, журналы? Правительство! Ты партийный, доверенное лицо правительства, так надо же думать, прежде чем что-либо делать! Что же это такое?! Как я буду теперь глядеть в глаза людям? Остаток своих дней буду жить, слывя безбожником? Что я отвечу аллаху при светопреставлении, когда все мы предстанем перед его судом? Любыми словами браните — стерплю, но восьмидесятичетырехлетнего старца… Лучше быть зарытым заживо!
И он заплакал, уткнувшись лицом в ладони. Худые плечи его вздрагивали.
— Ака, возьмите себя в руки. Я займусь этим делом, все узнаю, — пытался успокоить его Нишан-ака. Зачем он принес в дом эту чертову писанину? — Произошла, видно, ошибка. Хотели написать про другого человека.
— О аллах праведный, непостижимо наказание, неведома судьба… — приговаривал Эсан-бува, воздев руки, а слезы так и текли по худым его щекам. Вдруг, дико вытаращив глаза, он начал читать молитву, точно желая этим отвести от себя обрушившуюся беду. Он вытирал руками лицо, точно ребенок, шмыгал носом и вторил: — Ло-о илоха илло анта субхонака инни кунту миназ золимин! О аллах, каюсь! Куфф, куфф!..
Нишан-ака вышел из дома и тихонько притворил дверь. Рукой поманив ребятишек, игравших во дворе, тихонько сказал им:
— Ступайте к деду, поиграйте с ним…
Но дед отстранил от себя правнуков, прикрикнув на них. Ребятишки, растерянные, вышли из комнаты. Дед впервые обошелся с ними так грубо.
С этого дня обычно жизнерадостный бува сделался мрачнее тучи.
В субботу в махалле играли той. Женился парень, которого Эсан-бува когда-то сажал к себе на колени и сказки рассказывал. Но никто не позвал Эсана-буву на той. Есть поговорка: «На празднество иди по зову, на горе — без зова». И Эсан-бува остался дома, посчитав, что, должно быть, о нем просто забыли.
В понедельник скончалась младшая сестра Хайитбая-аксакала. Эсан-бува, следуя той же народной мудрости, вышел, намотав на голову чалму, и направился к дому приятеля. Встречались знакомые, но никто на него даже не взглянул. Аксакалы махалли, его сверстники, с которыми он водил дружбу более полувека, про-ходили мимо, отворачиваясь и хмуря брови. «Ия, что я, прокаженный какой?! Почему друзья не глядят на меня? На приветствие отвечают еле слышно, будто нехотя…» — гадал Эсан-бува, окончательно растерявшись.
В святую пятницу он направился в мечеть, чтобы совершить полуденный намаз. Опять все сторонились его, избегали его взгляда. А мутаввали мечети, когда Эсан-бува перед тем, как вступить в храм, снимал калоши, задел его локтем:
— Слушайте! Что делать в мечети человеку, осквернившему веру?
— Э-э, это же клевета! — возразил Эсан-бува.
— Выйдите из святого храма! Позор вероотступнику!
— Это тебе позор! — взорвался Эсан-бува. — Пьяница ты и спекулянт, которого покарает гнев аллаха! Сдохнуть тебе, такому мутаввали! Сейчас ка-ак дам вот этим посохом — сдохнешь, ревя подобно ишаку! Жизнь мне сейчас нипочем, знаешь ты это?
Эсан-бува произнес все это так гневно, что мутаввали струсил не на шутку и отступил. Он видел, что старику сейчас в самом деле ничего не стоило хватить посохом по голове.
Мусават Кари, уже сидевший внутри мечети, лицом к михрабу[69], скосив взгляд, наблюдал за разыгравшимся у ступенек скандалом. Пальцы его рук, как полагалось при молении, касались ушей, но помыслы были обращены не к аллаху — он прислушивался к происходившему у дверей спору.
— Почему ты, не спросив меня ни о чем, говоришь мне эти слова? Я никому не говорил такого. Позови тех, кто выпускает эти самые газеты, я поговорю с ними!..
— Нашкодил, а теперь глядите-ка, что говорит! Или нас за глупцов считаешь?! — кричал мутаввали, отступая вовнутрь мечети. — Объявил, что отказался от веры, а сам в мечеть пожаловал! Вспомнил о смерти? Теперь даже муздиканты не придут на твои похороны.
— Прокля-ятье!!! — возопил Эсан-бува и, побледнев, рухнул на сложенную рядками обувь, которую снимают, входя в мечеть.
Поспешно подскочили братья — мастера по кладке дувалов Мухаммаджан и Ахмаджан. Окинув мутаввали гневным взглядом, они отстранили его, подняли лежавшего без чувств Эсана-буву и осторожно понесли старика в свой дом…
Эсан-бува несколько дней лежал в постели. Ни с кем не разговаривал, отказывался от еды. Нишан-ака ходил сам не свой, места себе не находил. Не знал, с какого конца взяться, чтобы разгадать тайну происшедшего. Третьего дня он побывал в редакции. Там ему сказали, что корреспондент, которого он ищет, за какую-то провинность недавно уволен с работы. «Хорош, наверно, шарлатан, коль выгнали», — подумал Нишан-ака и, взяв его адрес в отделе кадров, поехал к нему домой. Однако и здесь его не застал. Оказывается, он квартировал у чужих людей и неделю назад уехал к родителям, проживающим в другом городе.
В воскресенье Арслан зашел домой к Кизил Махсуму, чтобы возвратить последнюю часть долга. Хозяин, Мусават Кари и Атамулла сидели за дастарханом. Подвинулись, пригласили Арслана. Неприлично не отломить и кусочка хлеба, если угощают. Арслан сел.
Зашел разговор о том, что Эсан-бува стыдится показаться на людях, сидит дома.
— Старик, выживший из ума! — сказал Мусават Кари. — Он чересчур много позволял себе. Ни он, ни брат его не терпят нас, считая нечестными. А глядите-ка, сам за три копейки продал веру свою. Оказывается, нельзя судить о человеке по его внешности. Вид у него благообразный, я всегда считал его порядочным человеком, а обернулось вон как…
— А я, Кари-ака, — поддакнул ему Кизил Махсум, — полагал, что он настоящий домля… Наверно, думал, что если откажется от веры, то от советской власти ему выгода какая будет. Э-эх, молодые нынче теряют стыд, а старики — честь!
— Бессомненно, этот хитрый старик отказался от веры, надеясь что-то заполучить за это. А теперь увидите, не получив того, на что имел виды, будет кричать, охать, бить себя в грудь и твердить, что кается, что и не думал отказываться от веры. Попомните мое слово, так оно будет. Станет умолять снова допустить его в храм аллаха — мечеть. Д-да, такие низкие люди на все способны. Этот спесивый старик кичился, что предки его были дегрезами, а брат партийный, — потому, дескать, он никого не боится. Я заметил, в последнее время он стал выказывать пренебрежение даже к старику имаму. Старик, которому осталось-то прожить чуток, танцует под музыку тех, — Мусават Кари кивнул куда-то в пространство. — Вот как низко может пасть человек!
Арслан молча наблюдал за собеседниками. Он чувствовал, что все происшедшее не случайно. В основе лежит тайная вражда. У него появилось ощущение, что вокруг него происходит невидимое глазу сражение. В эту минуту он готов был поклясться, что несчастье, свалившееся на Эсана-буву, — это продолжение стычки, происшедшей между Мусаватом Кари и Нишаном-ака на гапе.
Он сидел, опустив голову, углубившись в свои мысли. В пиале, которую он нервно сжимал в руках, чай давно остыл. Он больше не слышал гневных слов Мусавата Кари, обращенных против Нишана-ака и его старшего брата.
Атамулла тоже не принимал участия в беседе. Он считал своим долгом неукоснительно соблюдать обычай, согласно которому, когда старшие говорят, младшие молчат.
День следовал за днем, проходили недели.
Эсан-бува все еще лежал в постели. Беспокойно ворочался и проклинал не известного ему человека, позволившего себе подлую выходку. На улицу не выходил уже много дней, боясь, что люди опять будут сторониться его.
Однажды зашел его проведать Хайитбай-аксакал. Выслушав жалобы и возмущение Эсана-бувы, он сказал:
— Не принимайте близко к сердцу. Если никчемный мутаввали и домля-имам отвернулись от вас, велика ли для вас потеря? Я недавно этому мутаввали сказал: «Если в нашей махалле есть хоть один подлец, то это ты!»
— А-а, ну их! — слабо махнул рукой Эсан-бува. — Не трогайте их, не ругайте. Я долго тут ломал голову и теперь понял: есть другой человек. Вот он-то оклеветал меня и заставил опустить голову.
— Уж написал бы про нас! — воскликнул Хайитбай-аксакал, ударив себя кулаком по оголенной широкой груди. — Мы и в кимар играем, и водку пьем, и любовным утехам некогда предавались. Если сказать, что я отказался от веры, то все поверят. Ну и сказал бы про нас! Так нет же, оговорил честного и чистого человека! Вай, проклятый!
— Аллах справедлив, он его накажет.
— Нет, Эсан-бува, нет! Подлых долго не настигает кара, живут себе и в ус не дуют. Э-э-х-х-х! — Хайитбай-аксакал в сердцах дернул свои огромные ножны, из которых торчала ручка слоновой кости. — С каким удовольствием я распорол бы им всем животы! Позволило бы мне наше правительство, я за одну ночь прикончил бы всех мерзавцев! Да, я таков! Я бы смог совершить такое! Нам лишь бы приказ дали — и баста! Эх, разве дождешься такого приказа…
— Будьте сдержаннее, аксакал, будьте сдержаннее, да хранит вас аллах от опрометчивых поступков.
Через несколько дней пришли и другие друзья проведать Эсана-буву. Они теперь поняли, что старик стал жертвой чьей-то подлости, стыдились, что недавно избегали его. Эсан-бува их успокаивал: «Да ладно, чего уж там…»
Умер Эсан-бува тихо, незаметно. Был холодный зимний день. Такой стужи давно не было. Гроб-катафалк колыхался на плечах людей, уподобясь утлой лодчонке, плывущей по волнующемуся морю.
Проводить старика в последний путь пришли люди со всех ближних и дальних мест. И каждый считал за честь хоть несколько шагов пронести носилки с гробом.
Особенно ретиво прислуживали на похоронах имам и мутаввали, приходившие еще при жизни Эсана-бувы просить у него прощения. И старик милостиво отпустил им грехи перед самой кончиной.
Мутаввали то и дело с опаской поглядывал на Хайитбая-аксакала, который, положив руку на рукоятку своего страшного огромного ножа, стоял в проходе и исподлобья изучающе смотрел на всякого, кто входил к покойному и выходил из дому. У него в ушах все еще звучали слона Хайитбая-аксакала, произнесенные им в тот час, когда все узнали о том, что мудрый и справедливый Эсан-бува умер. «Голова человека, обидевшего Эсана-буву, в моих руках», — сказал Хайитбай-аксакал. И все могли быть уверены, что это так. Только поди-ка разыщи того человека…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава двенадцатая
ПРОЩАНИЕ
Соседская девочка, отворив калитку, громко позвала Арслана и, когда он подошел, передала ему сложенную вчетверо бумажку. Пока он разворачивал, она вприпрыжку убежала. «Арслан-ака, если вы сегодня свободны, приходите в Джангах…»[70] Арслан сразу узнал почерк Барчин. Строчки были похожи на пшеничную ниву, ласкаемую набежавшим ветром.
Давно уж они не виделись с Барчин. Чуть свет он отправлялся на завод, а вернувшись, едва успевал переодеться и поесть, мчался в институт. Живут они в двух шагах друг от друга, а общаются посредством записок. Арслан еще раз прочитал письмо.
«Арслан-ака, если вы сегодня свободны, приходите в Джангах. Папа, мама и я собираемся вечером пойти в этот парк погулять. Я буду ждать вас у фонтана ровно в восемь. Барчин».
У Арслана сегодня отгул. Он собирался пойти на озеро. Но какое уж теперь озеро! Арслан забыл обо всем, что планировал на день. Ему хотелось сейчас же, не теряя ни минуты, бежать в Джангах. Хватило бы терпения дождаться вечера!
Он зашел в дом и попросил Сабохат погладить его чесучовый китель. А сам тотчас отправился в парикмахерскую. Вернулся постриженный, побритый, и комната наполнилась запахом одеколона. Взяв еще не остывший утюг, принялся гладить брюки — этого он никому не доверял. Потом начистил зубным порошком свои брезентовые туфли.
Глядя на него, нетрудно догадаться, куда он собирается. Сабохат знала, что брат время от времени видится с девушкой по имени Барчин, что она дочь Хумаюна Саидбекова, которого все в Ташкенте знают. Да, пожалуй, не только в Ташкенте… Как их семья отнесется к дружбе дочери с простым парнем? Это давно беспокоило ее, но поговорить с братом об этом она не решалась.
Отца этой девушки Сабохат видела несколько раз. Это был худощавый мужчина высокого роста, в очках. Вид у него был строгий, но все в махалле говорят о его приветливости и доброте. Как-то, слышала Сабохат, женщины судачили о том, как ночью, поднявшись с постели, Саидбеков отвез на своей машине соседку в родильный дом. А старушки Разия-буви, Биби Халвайтар и Мазлума-хола любили рассказывать о том, как они сидели однажды на краю дороги, отдыхали, а проезжавший мимо Саидбеков усадил их всех троих в свою машину и отвез в далекое селение на той, куда они боялись опоздать.
В махалле поговаривали, что в доме у Саидбекова бывают известные писатели Гайрати, Айбек, Гафур Гулям, которые тоже некогда жили в махалле дегрезов. И это свидетельствовало о том, что Хумаюн-ака уважаем не только в своей махалле, но и в кругу ученых людей. Это вселяло в сердце Сабохат еще большую тревогу за брата. «Как же он может равняться с такими людьми? — думала она и вздыхала: — Только бы добром все это кончилось!»
Как-то она поделилась своими сомнениями с матерью. Та всплеснула руками:
— Да-да, ты права, доченька. Своя развалюха лучше чужого дворца, это верно. Как бы Арслан беды на свою голову не накликал!..
Барчин надела короткое поплиновое платье без рукавов и белые туфли на высоких каблуках. Мать все еще чем-то была занята, хлопотала по дому, а отец сидел в своем кресле и читал газету, будто вовсе и не было уговора вечером пойти погулять в парк.
— Ну, мама! Папа! Мы же опаздываем! — не выдержала наконец Барчин.
Потом они вышли на улицу. Редко выходили они гулять все вместе, и сейчас у Барчин было праздничное настроение.
Вход в парк был украшен плакатами, аллеи ярко освещены. Все дорожки в этом парке вели к центру, к фонтану. Медленно шли они берегом Анхора, густо заросшим плакучими ивами. Гибкие ветви касались воды. Хамида-апа вспомнила народное поверье: если долго гулять среди плакучих ив, придется в жизни много плакать. Она предложила свернуть на другую аллею.
Хамида-апа гордилась мужем и взрослой дочерью и радовалась редким дням, когда ее Хумаюн-ака возвращался из дальних поездок и они вновь были вместе. В такие дни она испытывала особо острую тоску по своему сыну Маратджану, находящемуся на военной службе далеко-далеко, там, где садится солнце. В тех краях не растут персики, абрикосы и часто идут дожди. Дома собраны из деревянных бревен и крыты черепицей. Солнце там не такое жаркое, как здесь, и не успевают там созревать помидоры. Зато много молока и сливок. Хамида-апа знала обо всем этом из писем Марата. Находились ли они в кино, принимали ли дома гостей, оставалась ли Хамида-апа одна со своими мыслями, она всегда думала о сыне. Вот и сейчас, идя с мужем под руку по многолюдной аллее, она думала о том, что пора уже отправить Марату еще одну посылку с фруктами.
Встречались знакомые, приветливо кланялись. Парни задерживали взгляды на Барчин, она же старалась никого не замечать.
Арслан в это время стоял у живой изгороди, в тени ветвистого платана. Он издали любовался Барчин. Ему очень хотелось пойти ей навстречу, но он не решался.
Они не спеша прошли мимо фонтана, вокруг которого гуляла молодежь. Кто-то сидел на краю мраморного бассейна и играл на рубабе.
Удаляясь, Барчин поминутно оглядывалась, но Арслана так и не увидела. Вдоль аллеи тянулась гирлянда разноцветных лампочек. Неподалеку играл эстрадный оркестр. Они миновали парашютную вышку, с которой прыгали смельчаки, и приблизились к деревянному ажурному мостику, перекинутому через Анхор. Барчин предложила повернуть обратно… И тут она увидела Арслана. Он улыбнулся. Девушка сказала что-то родителям и заспешила к Арслану. Хумаюн-ака внимательно оглядел парня. А Хамида-апа, видно, в этот момент рассказывала мужу, кто этот парень и как Барчин с ним познакомилась.
Барчин и Арслан медленно шли рядом. Оба были так взволнованы, что заранее приготовленные слова, которые они собирались сказать друг другу, у обоих вылетели из головы. Особенно скованно себя чувствовал Арслан, понимавший, что разговор должен начать именно он. Барчин временами поглядывала в его сторону, и он понял, что она ждет от него чего-то умного, интересного.
— Брат пишет? — поинтересовался Арслан.
— Редко. Мама себе места не находит, пока не получает следующего письма.
— Да, есть причины для беспокойства, — заметил Арслан. — На западе сейчас очень беспокойно. У нас на заводе многие рабочие остаются отрабатывать дополнительные часы. И я бы оставался, если бы не занятия в институте…
Барчин шла, опустив голову, ее брови сошлись над переносицей.
— Арслан-ака, как вы думаете, война будет? — спросила Барчин и серьезно посмотрела на него, будто все зависело от ответа, который она сейчас услышит.
Что ответишь? Время тревожное. Газетные страницы полны сообщений о напряженном международном положении, о том, как Гитлер открыл широкую дорогу черным силам фашизма. И на заводе, и в институте Арслан слышал разговоры об этом. Но все это ему было непонятно, и не хотелось верить, что кто-то может замыслить против нас войну.
— Как это страшно — воина… — проговорила тихо Барчин. — Помните, мы с вами смотрели фильм…
Арслан кивнул. Перед его глазами ожили страшные кадры из документального фильма, на которых были засняты пожары, развалины Абиссинии и Испании. Все это несколько лет назад происходило далеко-далеко и будило гнев в сердцах советских людей.
Здесь, в Ташкенте, далеко от западной границы, над которой сгущаются тучи, таящие в себе смертоносный ураган, внешне будто ничего не переменилось, однако жизнь потеряла свою былую стройность, и люди знали, что каждый день, каждый час может случиться нечто страшное.
Но Арслану сейчас не хотелось говорить об этом с Барчин. Наоборот, успокоить бы ее. Хоть она и говорит о том, как о Марате беспокоится ее мать, сама не меньше болеет за него душой. Арслан не раз замечал: когда она начинала говорить о брате, глаза ее наполнялись гордостью и вместе с этим что-то тревожное появлялось в них.
— Давайте говорить о чем-нибудь веселом, — предложил он и, взяв ее под руку, улыбнулся.
— Давайте, — согласилась Барчин. — О чем же?
— О, в сердце у меня много невысказанных слов…
— Говорите же! — воскликнула Барчин и звонко засмеялась.
— Прямо здесь, при свидетелях?
— Разве это такие слова, которые нельзя произнести при людях?
— Именно такие!
— О-о! — удивленно воскликнула Барчин и, хлопнув в ладоши, захохотала. — Тогда давайте подождем более благоприятного момента! А сейчас расскажите мне что-нибудь.
— Наши древние поэты пишут в дастанах, что влюбленные часто говорят о звездах.
— Что ж, давайте поговорим о звездах! Вы астрономию любите?
— Мне всегда кажется, что во мне гибнет великий астроном. Знаете, я еще в детстве пытался разрешить некоторые космические загадки… — засмеялся Арслан.
— Какие же?
— Бегу, бывало, по краю нашего старого сада и смотрю на луну. И она вместе со мной бежит. Остановлюсь — она не двигается. Долго мне пришлось гадать: только ли за мной бегает луна? А если не только за мной, то как она успевает бегать одновременно за всеми?
— Да, сложная у вас была задача, — засмеялась Барчин.
Арслан заговорил о Юпитере. Барчин внимательно слушала. Оказывается, Юпитер — гигант среди планет, объем его в тысячу триста с лишним раз больше земного, и он имеет двенадцать спутников, самый маленький из которых в несколько раз больше Земли.
— Как вы думаете, почему люди, еще не разгадав всех тайн Земли, обратили взоры к небу, взялись за изучение иных планет, звезд? — спросила Барчин.
— Потому что разгадка многих тайн Земли связана с разрешением космических ребусов. И это человек постиг давным-давно. Сама природа заставила его заняться астрономией… В Египте есть древний храм богини Хатор. На стене его выведены иероглифы, которые гласят: «Сотие великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих…» Сотие — самая яркая из всех звезд. Долго прячется она за горизонтом и лишь перед солнцестоянием впервые появляется на небе. И сразу же начинается разлив Нила. Жрецы не могли допустить, что совпадение трех таких важных явлений природы, как восход самой яркой звезды, разлив Нила и солнцестояние, случайно. Жрецы, видно, были людьми любознательными и задались целью постигнуть эту тайну — вот вам одна из первых причин, заставивших людей заняться астрономией.
— Их, наверно, много, этих причин?
— Конечно. Взять, к примеру, финикийских мореплавателей. В те далекие времена мало кто решался уезжать далеко от родных мест. Карт не существовало, на борту кораблей не было ни компасов, ни часов. Лишь глаза да память были помощниками мореходам. А финикийские моряки давно заметили вращение звездного неба вокруг неподвижной точки. Заметили и то, что эта неподвижная точка — яркая Полярная звезда. Неподвижная звезда служила маяком древним мореплавателям… А сколько сейчас загадок предстоит разгадать астрономам! И, наверное, придет время, когда первый человек полетит в космос.
— Ой, как интересно! Арслан-ака, будет ли такое?
— Непременно.
— И это может произойти еще при нашей жизни?
— Может, и при нашей…
— Как мне хочется дожить до того времени! — восторженно произнесла Барчин.
Если Барчин говорила о чем-то с увлечением, лицо ее становилось румяным, а когда улыбалась, на щеках обозначались ямочки. И в такие минуты Арслан любовался ею.
Они, не разнимая рук, дважды обошли парк, держась крайних аллей, где было не так многолюдно. Здесь было меньше вероятности повстречаться с родителями Барчин, что позволяло им чувствовать себя свободнее. Несмотря на то что навстречу попадалось немало прогуливающихся пар, они никого не замечали, им и дела не было ни до кого, они видели только друг друга. И даже когда они молчали, о многом говорили их взгляды, улыбки.
— Мы с вами устремились в космос и забыли о земных делах, — сказал Арслан, когда они, дойдя до конца аллеи, повернули обратно. — Не послать ли мне к вам сватов, пока этого не сделал кто другой?
Барчин сразу стала серьезной.
— Я об этом не думала… Рано еще, Арслан-ака. Мы еще так молоды…
— Скажите, что еще не знаете моего характера…
— Характер-то ваш я хорошо знаю, — улыбнулась Барчин. — Я и не заметила, как переняла даже ваши манеры. А мама это отметила…
— Какие же?
— Не скажу. — Барчин улыбнулась и крепко сжала Арслану пальцы. — А почему вы никогда не говорите о своем заводе?
— Просто… вам это будет неинтересно.
— Мне-е? Неинтересно? С чего вы взяли? Мне все интересно, что связано с вами.
Арслан принялся рассказывать о литейном цехе, о вагранках, к которым подойти в первое время не мог, а теперь привык, о товарищах.
— А вы не обо всем рассказали, — заметила Барчин, лукаво улыбнувшись. — Как поживает Валентина?
— Валентина? Какая Валентина? — удивился Арслан. — А-а, Валентина! — вспомнил он и рассмеялся. — Это наша крановщица. А откуда вы ее знаете?
— Слышала, — уклончиво ответила Барчин. — Говорят, она вам очень правится, вы глаз не можете отвести от нее, когда она появляется в цехе…
Благо, что здесь не очень светло и Барчин не заметит, как он покраснел.
— Видишь ли, люди могут нравиться по-разному.
Вспомнилось ему, как он рассказывал одному из своих приятелей об этой девушке. О том, какая она красивая — глаза голубые, как весеннее небо, а косы как колос спелой пшеницы. Кто знает, может, где-то в другом месте он ее не заметил бы, но здесь, в этом грохоте, среди парней, по оголенным телам которых струился пот ручьями, явилась тогда эта девушка, как из сказки. Арслан невольно залюбовался ею. И она, кажется, это заметила, улыбнулась ему. Прежде всего он восхитился смелостью девушки, не испугавшейся горячего цеха. И рассказал об этом несколько дней спустя приятелю. Надо же — об этом уже знает Барчин!
— Ну, так что же вы замолчали? — спросила Барчин. — Правда, у меня нет права упрекать вас…
— Я люблю тебя, Барчин, — выпалил Арслан, отводя от нее взгляд. — Я счастлив, и мир для меня светел лишь оттого, что ты живешь в этом мире. Ты изумительная девушка, Барчин. — От волнения он заметил, что перешел на «ты», и это ей понравилось. — Подобной тебе нет на свете. Моя Барчин… Можно мне думать так — «моя Барчин»?
Она взглянула на него и улыбнулась, глаза ее сверкнули, как звездочки.
— В мире много красивых девушек, но ты самая красивая, самая умная. Ты прекраснее Ширин, прелестнее Лейли! Я боюсь потерять тебя, хочу, чтобы мы никогда не расставались.
Долго шли они молча. Барчин думала об отце. Как отнесется он к тому, что его дочь выйдет за этого парня замуж?.. У них как-то разговор зашел о семье Арслана. Отец сказал тогда, что знал Мирюсуфа-ата. «Это был человек, всю жизнь проработавший на заводе и уважаемый в своем коллективе. Несколько лет он был депутатом городского Совета», — сказал отец. И это Барчин позволяло надеяться, что он не будет против ее дружбы с Арсланом. Но мало ли с кем можно дружить… А вот когда речь зайдет о замужестве…
Арслан предложил посидеть в павильоне «Мороженое». Он усадил Барчин за свободный столик и принес в двух блюдечках фруктового мороженого.
— Ой, как вы мне угодили! — обрадовалась Барчин. — Фруктовое лучше всего утоляет жажду. И вам оно полезно!
— Мне?
— Оно охладит ваш пыл!
Арслан улыбнулся и сказал:
— Пламень моего сердца не могут растопить даже льды Ледовитого океана.
Неподалеку послышался взрыв. В небо взмыли, окрашивая деревья в розовый, голубой, желтый цвета, разноцветные ракеты, рассыпались, словно виноградные гроздья. И не успели они погаснуть, как раздался новый залп, и опять небо озарилось многоцветьем.
— Ешьте поскорее свое мороженое, пока оно не растаяло от вашего пыла, — смеясь, сказала Барчин и взглянула на часы. — Уже начало одиннадцатого. Папа велел мне быть дома не позже одиннадцати.
Они свернули на освещенную аллею и направились к выходу. Домой возвращались пешком. У калитки остановились. Барчин обернулась к нему и подала руку.
— До свиданья, Арслан-ака.
Она стояла так близко, что Арслану казалось, будто он чувствует на лице своем ее дыхание. У Арслана словно остановилось сердце. Взяв Барчин за локти, он привлек ее к себе. Но она быстро освободила руки и исчезла за калиткой.
Арслан шел знакомой томной улицей и что-то насвистывал. Он был необыкновенно счастлив. Послезавтра, в субботу, они опять встретятся с Барчин.
Калитка была заперта. Арслан не стал стучать, чтобы не беспокоить мать и сестру. Ухватился за верх дувала, подтянулся и легко перепрыгнул во двор. На цыпочках подошел к своей постели, разложенной на супе под шелковицей на берегу арыка. Летом Арслан любил спать во дворе. Ночью прохладно, дышится легко. Не то что в доме. Стены так накаляются за день, что вечерняя прохлада не успевает выгнать из комнат духоту. Арслан потихоньку разделся и лег.
Долго не мог уснуть. Низко над крышей горела яркая звезда. Может, это и есть Юпитер, у которого двенадцать спутников? Счастливый отец этот Юпитер — с двенадцатью детьми… Интересно, как далеко простирается Вселенная, где Земля наша — всего-навсего пылинка? И эта пылинка вмещает столько тайн. А жизнь человека — кратковременная вспышка спички, не более. Сколько людей жило до нас! Сколько эпох промелькнуло! Фараоны, Согдийцы, Тимуриды, Шейбаниды, Бабуры… Земля рождает, земля же и забирает. Верно писал Омар Хайям:
Глянь на месящих глину гончаров —
Ни капли смысла в головах глупцов.
Как мнут и бьют они ногами глину…
Опомнитесь! Ведь это прах отцов!
…Проснулся Арслан поздно. Первой его мыслью было: «Завтра увижу Барчин». Вскочив с постели, он встал над арыком, уперев ноги в оба его берега, и стал умываться. Вода была холодной, бодрящей. Он с наслаждением плескал себе в лицо, на грудь, на плечи. На айване показалась Мадина-хола:
— Сынок, восьмой час уже. Не опоздаешь ли на работу?
— Успею! — сказал Арслан и, подпрыгнув, достал с нижней ветки шелковицы свое полотенце.
Из кроны вылетели два скворца. У них там гнездо. Они обычно рано утром начинают петь и будят Арслана в одно и то же время. А сегодня так сладко спалось ему, что он не услышал их трелей.
— Иди скорее, завтракай, а то чай остынет, — позвала мать.
Мать постелила на айване курпачу, развернула дастархан, и они сели завтракать. Сабохат чуть свет вскипятила самовар и ушла на рынок. Чай был крепкий, горячий. Мадине-хола нравилось сидеть напротив сына и ухаживать за ним. Арслан взял ее сморщенную руку в обе ладони и в приливе нежности погладил. Хотел рассказать про вчерашнюю встречу с Барчин, но раздумал… Надо сначала заручиться ее согласием.
Мать удивленно посмотрела на сына. Он в последнее время стал особенно ласковым и добрым. Причину благотворных перемен в сыне Мадина-хола видела в заводе. Потому что Мирюсуф-ата некогда говорил: «Завод оттачивает человека, шлифует его…» Благодаря своему заводу Мирюсуф-ата стал авторитетным не только в своей махалле, весь город его знал. Чтобы обеспечить благоденствие семьи, он трудился не покладая рук. Он был, как говорят старики, человеком рая, а если проще — честным тружеником. И сын, его кровинушка, должно быть, весь в него.
Арслан сидел на курпаче, скрестив ноги. И пиалу-то он держит ну точь-в-точь как отец держал — за донышко. Так пальцы не обжигает. Он любуется чархпалаком, сооруженным на берегу арыка. Немало дней потратил Арслан, пока соорудил этот чархпалак. Течет в арыке вода, толкает лопасти колеса, к которому прикреплены консервные банки. Черпают банки воду и выливают в желобок, черпают — выливают. И течет ручеек, струится к ярким клумбам, разбитым во дворе, к розам, а потом уж дальше, в сад, разросшийся с другой стороны дома. Над крышей нависла густая крона огромной урючины. Хороший урюк уродился в этом году! И персики хорошие, и слива. Благодаря воде, которую без устали черпает чархпалак из арыка.
Двор чистый и ровный, как ладонь. Его каждый день подметает Сабохат, поливает. Говорят же, чем чаще убирает двор девушка, тем ярче расцветает ее красота. Пышно цветут на берегу арыка розы. Подло них разрослись и благоухают базилик и жамбил. По ним вьются тоненькие стебли портулака с красными, желтыми, голубыми цветами.
Арслан уже позавтракал, а все еще сидел на курпаче и любовался двориком. Здесь он вырос. Каждая щербинка, всякий уступ в стене, по которым когда-то взбирался на крышу, знакомы ему. Все здесь родное и близкое.
Говорят, двор — маленькая родина. Наверно, поэтому у узбеков во дворе часто бывает даже чище, чем в доме.
Арслан вытер губы салфеткой и еще раз погладил руку матери в знак благодарности. Так всегда поступал отец. Быстро встал и направился к калитке.
— Сынок, если много народу в трамвае, не висни на подножке! — крикнула вслед ему мать.
Он с улыбкой кивнул.
Мать сидела неподвижно, прислушиваясь к его шагам. Вот он прошел по улице подле дувала… По этой самой дорожке тридцать с лишним лет хаживал его отец, Мирюсуф-ата. И Мадина-хола так же прислушивалась к его неторопливым, тяжелым шагам, сидя на этом же месте.
Арслан прибыл на завод как раз вовремя. Он надел спецовку, подошел к начальнику цеха Матвееву, стоявшему у второй вагранки. Обменялись крепким рукопожатием. Матвеев спросил, все ли дома в порядке, здорова ли мать. Арслан поблагодарил, сказал, что мать в обиде на старого приятеля Мирюсуфа-ата за то, что он забыл дорогу к их дому. Матвеев пообещал непременно проведать старушку.
Володя в последний раз насыпал песок в раскачивающуюся на весу форму. Он закончил смену. Арслан заступил на его место.
Мастер смены Нургалиев уже ходил между работающими джигитами, среди которых было немало новичков, и давал советы. За Арслана он теперь не беспокоился, этот парень приловчился так, что «старички» могли ему позавидовать. Временами он поглядывал на него издали и видел, как тот работает. Перед обедом Нургалиев подошел к нему и обратился шутливо:
— Эй ты, мелкобуржуазный торговец телпаками, работай честно, как отец!
Арслан тыльной стороной руки смахнул пот со лба, улыбнулся, сверкнув зубами.
— Стараюсь, — сказал он.
Мастер подзадоривающе подмигнул.
— Молодец, Ульмасбаев, обеспечиваешь формами, заливщики тобой довольны. Закурить найдется?
Арслан воткнул лопату в кучу песка и, порывшись в кармане брюк, протянул Нургалиеву пачку «Беломора», не переставая при этом улыбаться.
— Вижу, настроение хорошее, а, Ульмасбаев?
— Хорошее, — в тон ему ответил Арслан и показал большой палец.
Снаружи палит полуденное июньское солнце, а в цехе гудят вагранки от бушующего в их чреве пламени. Мощные вентиляторы, установленные под самым потолком, выгоняют из помещения горячий воздух. Тело Арслана будто вылито из чугуна. И блики пламени отсвечивали на его крутых плечах, на мощной подвижной спине.
Порой ему хотелось, чтобы его увидела за работой Барчин. Она как-то сказала: «Ведь неважно, кого девушка полюбит — доцента или рабочего. Главное, чтобы у него были сильные руки». Если бы Барчин хоть на минутку заглянула в горячий цех, она бы увидела, какие у Арслана сильные руки.
Арслан пришел в Джангах раньше назначенного времени. Сегодня в парке было особенно многолюдно. В субботний вечер сюда пришли прогуляться и молодые, и старые. Мимо проходили девушки в нарядных пестрых платьях, оживленно щебеча. Дедушки и бабушки медленно прогуливались с внучатами. Мелькали иногда в толпе и знакомые лица. Сторож их махалли Ариф привел сегодня в парк свою жену, нацепившую на грудь значок Осоавиахима. Эта женщина была в модных туфлях и златотканой тюбетейке и, видать, замечала, что многие оглядываются на нее, любуясь. Она горделиво держала голову и шла, чуть-чуть выпятив грудь, чтобы получше был виден значок, висящий на цепочке и качающийся, как маятник часов. Арслан не мог удержаться от улыбки, глядя на нее.
И вот наконец увидел Арслан девушку в белом. Пошел ей навстречу.
— Здравствуйте, Арслан-ака, — сказала Барчин с радостной улыбкой.
— Здравствуй. Ты одна? А где же Хамида-апа и отец?
— Папа опять уехал, а маме захотелось побыть дома.
— И она не беспокоится, что тебя может кто-нибудь украсть?
— А я сказала, что иду на встречу с вами. Я ведь теперь не школьница…
— Ты час от часу взрослеешь.
Они рассмеялись и медленно пошли по аллее, взявшись за руки.
— А у вас усталый вид, — заметила Барчин, внимательно поглядев на Арслана.
— Может быть, — согласился он.
Некоторое время они шли молча. Потом Арслан сказал:
— Недавно у нас на заводе был митинг. В тот день, когда в газетах появилось сообщение о зверствах, чинимых молодчиками Франко и Муссолини. Я тоже выступил, предложил работать сверхурочно. Тогда мы сможем раньше срока выполнить государственные заказы. Меня поддержали.
— И теперь, конечно, вы должны быть примером для остальных?!
— Точно. Ты умница, Барчин!
— А можно узнать, какой заказ вы выполняете?
— Плуги, сеялки… Говорят, скоро будем выпускать тракторы и хлопкоуборочные машины. Сейчас строятся новые цеха.
— Как интересно!
Барчин держала ладонь Арслана, разглядывая ее. Арслан улыбнулся.
— И о чем говорят линии моей руки?
Барчин, не сразу сообразив, о чем он спрашивает, рассмеялась.
— О ваших желаниях! Вы никогда ничего не сможете от меня скрыть.
— О своем заветном желании я сказал тебе позавчера.
— А о чем вы говорили позавчера?
— Я так и думал! — обиженно проговорил Арслан и вздохнул. — Ты совсем несерьезно отнеслась к моим словам.
— Значит, они не были столь значительными, — улыбнулась Барчин лукаво. — Иначе разве забыла бы я эти слова? Напомните, о чем это вы говорили?
— Нет, повторять я не стану.
— Ну, скажите, — стала просить Барчин и, ласкаясь, положила голову ему на плечо. — Скажите же, Арслан-ака.
— Память у вас дырявая, все равно все растеряете.
Барчин остановилась и, положив руки ему на плечи, приникла к его груди. Он ощутил подбородком теплую, бархатистую кожу ее щеки, поцеловал ее в висок.
Арслан хотел было вновь сказать, как он ее любит и собирается заслать сватов к ее родителям, но Барчин закрыла ему рот ладошкой.
— Здесь столько народу.
И Арслан только сейчас заметил, что вокруг действительно много народу.
— По-моему, вы все-таки торопитесь, Арслан-ака, — задумчиво проговорила Барчин. — Надо мне хоть первый курс закончить…
— А почему бы нам не торопиться? Ведь это так серьезно… И в конце концов все равно так и будет: ты станешь моей женой, я — твоим мужем.
— Муж? Странное какое слово. Сначала к слову привыкнуть надо. А для меня вы просто Арслан-ака. Муж… Как странно это слышать… Чудной вы человек, Арслан-ака.
— Что во мне ты нашла чудного? Неужто нельзя поговорить со мной серьезно? Я все равно женюсь на тебе! И не смейся! Рабочие люди всегда выражают свои мысли вот так, напрямик! Мы всегда режем правду в глаза! Так было в старину, так и теперь.
— А в старину разве были рабочие?
— Может, они назывались иначе, но кто-то же обжигал горшки, выделывал кетмени, серпы, ковал подковы…
— Помнится, как-то давно я разбила свою любимую маленькую голубую пиалушку. И чуть не заплакала от горя. А папа засмеялся и говорит: «Не огорчайся, дочка, потомки тебе скажут спасибо. Разбивая посуду, ты служишь науке — в толщу земли попадают осколки, по которым в будущем ученые смогут судить о нашем времени». — Барчин тихо засмеялась. — В последнее время я служу науке будущего особенно рьяно. Все валится из рук…
— Я был бы счастлив, если бы ты заготавливала материалы для археологов в моем доме! — мечтательно произнес Арслан.
Вдруг Барчин вздрогнула и, выдернув из руки Арслана свою ладошку, быстро отстранилась. Арслан увидел идущих навстречу Мусавата Кари и Кизил Махсума.
Кизил Махсум прошествовал мимо, сделав вид, что не заметил их, выражая этим свою обиду и неприязнь. Мусават же Кари, увидев, что парень смущен, и желая сконфузить его еще больше, подошел и поздоровался с ним за руку, окидывая при этом масленым взглядом Барчин. Приятель остановился в сторонке и буркнул:
— Ну, идемте, идемте скорее, не время лясы точить с бездельниками!
Подходя к нему, Мусават Кари намеренно громко сказал:
— Ловок проклятущий, ишь подцепил какую!
— В Джангахе много ходит таких… — с важным видом ответствовал Кизил Махсум.
Встреча эта оставила в сердце Арслана и Барчин неприятный осадок, они перестали шутить. Барчин сказала, что ей пора домой. Как только они вышли за ворота парка, Арслан махнул рукой, как бы отгоняя напрочь дурное настроение. Вспомнил пословицу, которую иногда говаривал отец: «Если еда твоя заработана честно, не стесняйся есть ее на улице». Он сказал об этом Барчин. Девушка улыбнулась. Через минуту они снова шутили, смеялись. И только чуть-чуть у него неприятно ныло в груди, как обычно саднит то место, из которого выдергивают занозу…
Проводив Барчин, Арслан вернулся домой. Пришлось опять перелезть через дувал. Он подошел к супе. Постель была приготовлена матерью. Лег. Ветерок доносил пьянящий запах райхона. Сбоку тихо, нагоняя сон, журчал арычок.
Мадина-хола встала рано. Потихоньку, стараясь не разбудить детей, чтобы в выходной день они выспались вволю, она вышла на улицу. Решила сначала сходить в булочную, потом уж развести огонь в очаге. Неподалеку от магазина, около столба, на котором висел большой черный репродуктор, стояла толпа женщин. Вид у них был встревоженный. Они, разинув рты, смотрели на репродуктор, из которого вылетали хрип, писк вперемежку с какими-то словами. Мадина-хола толкнула локтем соседку Рисолатхон: чего ради, мол, собрались?
— Радио не слушаете, — быстро проговорила та. — Война началась!
Война!.. В груди у Мадины-хола будто что-то оборвалось. Забыв, зачем пришла, она заспешила обратно. Влетела во двор и остановилась в растерянности. Сын все еще спал. На его ноги, высунувшиеся из-под одеяла, уже пало солнце. Поколебавшись, она все же приблизилась к нему и тихо коснулась его плеча:
— Эй, Арсланджан, проснись, сынок!
Арслан приподнял с подушки всклокоченную голову:
— Выходной же, мама, я еще посплю, завтракайте без меня.
— Война началась, сынок! Слышишь? Война!..
Арслан резко поднялся, протирая глаза.
— Что? Что вы сказали, мама? — спросил он, не веря своим ушам.
— Вышла на улицу, а там толпа. Молотов, говорят, выступает. Послушай, говорят… Война, сынок, — повторила мать дрожащим от волнения голосом.
Арслан стал поспешно одеваться. Никак не мог попасть ногой в запутавшуюся штанину, и рубашка затрещала, когда надевал. Наскоро умывшись, побежал на улицу. Пробегая мимо чайханы, увидел Кизил Махсума и Мусавата Кари, сидящих на сури, застланном полосатым паласом. Мусават Кари знаком подозвал его.
— Война началась, братишка. Герман пошел войной на Советы. Правительства — они, брат, всегда дерутся. И в старые времена цари с царями дрались. Да-а, лишь бы конец был для нас желанным… — Он молитвенно провел ладонями по бороде.
Кизил Махсуму, по-видимому, не хотелось разговаривать с Арсланом, он сидел, полуотвернувшись от него и устремив взгляд в одну точку. Потом он положил ладонь на круглое колено своему приятелю и сказал:
— Ну, идемте. Нам следует серьезно поговорить, как запастись кое-чем. Цены, думаю, сегодня на базаре уж подскочили…
Встал с сури и пошел не оглядываясь.
— Братишка, и ты позаботься о своей житухе, — сказал Мусават Кари, поднимаясь. — Припаси пудов пять — десять пшеницы. А есть деньги, купи в магазине кое-чего из одежды. Если нет денег, тебе твой Кизил Махсум-ака одолжит. Он отходчив, и сердце у него доброе. Кизил Махсум-ака тебе лишь добра желает. А ты этого не понимаешь, глупец!
Арслан стоял, облокотившись о перильце айвана, и думал.
В чайхану заходили люди, но, вопреки обыкновению, не задерживались. Сегодня и завсегдатаев не видно, которые, изнывая от безделья, сидели тут часами, ища собеседников. Даже они, видно, озабочены. А Арслан не знал, что ему делать. Надо посоветоваться с Нишаном-ака!
Помешкай Арслан еще немного, не застал бы Нишана-ака дома. Он встретил его в ту минуту, когда тот выходил из калитки.
— Ну что, братишка? — спросил Нишан-ака.
— К вам вот…
— Уже знаешь?
Арслан кивнул.
— И что собираешься делать?
— Хотел об этом с вами поговорить.
— Говорить некогда, надо сейчас же идти на завод!
— Сегодня же выходной.
— Выходные кончились, братишка! Какие теперь могут быть выходные? Каждый сейчас спешит на свой завод, пойдем и мы! Сейчас увидишь — там все соберутся.
— Хорошо, я только предупрежу мать.
— Беги предупреди, я подожду тебя на трамвайной остановке.
В воскресенье 22 июня двор завода Сельмаш был переполнен. Арслан издали увидел директора завода, который быстро шел куда-то в сопровождении Матвеевых — отца и сына. Мастер Шавкат Нургалиев стоял в окружении старых дегрезов Хайдара-Чукки, Нуриддина Каноатова, Исраила Исмаилова. Они что-то горячо обсуждали.
Тем временем секретарь партийной организации завода и директор поднялись на возвышение. Люди притихли.
Секретарь коротко пересказал то, что уже было передано по радио, сказал, что для Родины настали тяжелые дни и рабочие должны еще теснее сплотиться. Многим предстоит с оружием в руках отстаивать свободу отчизны на фронте. Но те, кто будет трудиться здесь, пусть знают, что тут тоже фронт — трудовой…
Над толпой появились наскоро написанные плакаты:
«Наш доблестный труд приблизит победу!», «Смерть фашистским захватчикам!»
Директор был краток. Он сказал о конкретных задачах, поставленных перед заводом, призвал рабочих к бдительности, подчеркнув при этом, что война теперь идет не только там, далеко на западе, но повсюду.
Выступили Матвеев-старший и еще несколько рабочих.
После митинга секретарь парторганизации и директор завода уехали в райком, где должны собраться руководители предприятий.
Рабочие разошлись по цехам и до самого вечера работали у своих станков.
Совинформбюро регулярно передавало сообщения о событиях на фронте.
Были объявлены Директивы Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР, согласно им в прифронтовых областях и по всей стране начали мобилизовывать силы для отпора врагу. Основное содержание этих директив было подробно изложено в речи И. В. Сталина, произнесенной им по радио 3 июля 1941 года. 30 июня был создан Государственный Комитет Обороны. Председателем его был назначен И. В. Сталин. В руках Государственного Комитета Обороны была сосредоточена вся полнота власти в стране.
Из газет люди узнали о подвиге отважных защитников Брестской крепости. На устах у людей были имена героев Гастелло, Здоровцева, Талалихина.
Много событий в эти дни произошло и в махалле Дегрезлик.
В военкомате Октябрьского района было многолюдно. Он был заполнен джигитами, отправляющимися на фронт, и их родителями. Сновали курьеры, разносящие повестки. В коридоре выстроилась длинная очередь на медкомиссию.
В августе в город начали прибывать эвакуированные. Переполненные составы везли в Ташкент украинцев, русских, белорусов. Прибывших тотчас устраивали работать на заводы и фабрики. Многие изъявляли желание поехать в колхозы и совхозы. Ташкентцы встречали их как родных братьев и сестер, предоставляли им свои дома. Общее несчастье сблизило всех, породнило.
В середине августа Арслан, вернувшись с работы, увидел на подоконнике записку, в которой Барчин сообщала, что немедленно должна его увидеть, и просила прийти.
Барчин выбежала из дому, едва Арслан отворил калитку. Она была растеряна, веки покраснели, — видно, плакала. Даже забыв пригласить Арслана в дом, сообщила о том, что отца, по решению Центрального Комитета партии Узбекистана, направляют работать в Кашкадарьинскую область. На места молодых руководителей, ушедших на фронт, направляют старых членов партии.
Узнав, что в воскресенье и Барчин с матерью тоже уезжают, Арслан расстроился. Опустил голову, не зная, что сказать. Не мог же он уговаривать Барчин не ехать. А заикаться в такое время о свадьбе язык не поворачивался. Они стояли друг против друга и молчали. Барчин сказала, что как нарочно, и от брата с тех пор, как началась война, не было ни весточки. Они столько наслышались о боях у Брестской крепости, что мама враз постарела, плачет каждый день, места себе не находит.
Они поговорили еще несколько минут. Хотелось сказать Барчин что-нибудь такое, что хоть немножко развеселило бы ее, но не нашел слов. Пообещав, что в воскресенье придет проводить, Арслан ушел.
Все последующие дни он был не в себе. Ни с кем не разговаривал, раздражался по пустякам. Мать с тревогой спрашивала, здоров ли он, жаловалась Сабохат, что с сыном невесть что происходит.
Ночь с субботы на воскресенье Арслан провел без сна. Лежал под шелковицей, глядя на звезды, и думал, что Барчин теперь тоже будет столь же далека от него, как эти звезды. И как все потом обернется? Не забудет ли его Барчин? Впрочем, кто-то из древних поэтов сказал, что расставанье для любви что ветер для костра — большой огонь раздувает, слабый гасит…
Когда Арслан вступил во двор, Хумаюн-ака и Хамида-апа сидели на веранде, угощали чаем какого-то старика и старушку. Увидев его, они оба поднялись с места, поздоровались с ним за руку, познакомили со стариками, своими родственниками. Здесь же, на веранде, стояло несколько чемоданов, поверх которых лежали узлы.
Хумаюн-ака пригласил Арслана к дастархану. Хамида-апа заварила свежий чай. Вид у нее был усталый, глаза запали, и вокруг обозначились темные круги.
— В Кашкадарьинскую область уезжаем, — сказал Хумаюн-ака, протянув Арслану пиалу с чаем. — В Шахрисябз…
— Очень как-то неожиданно… — проговорил Арслан, и по глазам его было видно, как он огорчен этим.
— Да, война спутала все планы, — вздохнув, сказал Хумаюн-ака. — Многие партийные работники ушли на фронт. И вот мы, кто постарше, должны занять их места.
Из дому вышла Барчин. Обрадовалась, увидев Арслана. Села на курпачу рядом с отцом.
— Ой, мама, что же вы плачете? — сказала она, заметив слезы на ее глазах. — Вчера ведь получили письмо от Марата-ака, радоваться надо.
— Чему радоваться-то? Теперь уедем, а письма его плутать будут? — снова всхлипнула Хамида-апа.
— Я уже написала ему наш новый адрес, — сказала Барчин, стараясь придать голосу веселость.
— Неизвестно, когда он получит твое письмо… А все это время будет писать по этому адресу.
— Арслан-ака будет наведываться сюда и, если будут письма, перешлет их нам, правда, Арслан-ака?
— Конечно! — с готовностью ответил Арслан.
Из разговора Арслан понял, что эти старики останутся жить в их доме и присматривать за жильем, двором, но оба они неграмотные и не смогут пересылать писем.
— Проклятый Гитлер, говорят, бросает бомбы даже на детей, — вмешался в разговор старик. — В прежние времена солдаты дрались только с солдатами. Что с людьми стало — не пойму я. Почему они одичали? Как аллах не разгневается на таких?! Был в прошлом, говорят, такой жестокий царь Намруд, который уничтожал людей и все сущее на земле. Но Гитлер превзошел в жестокости и царя Намруда, и Даджола[71]. Он сжигает города, убивает людей, так чем он лучше Даджола?
Пока старик предавался рассуждению, Барчин тихо сказала Арслану:
— Я для вас кое-что приготовила, идемте — покажу.
Она увела его в свою комнату. На столе лежало несколько книг.
— Это вам, — сказала она.
Арслан стал рассматривать книги. Тут были повесть Гафура Гуляма «Озорник», «Накануне» Тургенева, «Дохунда» Садриддина Айни.
— Между страниц одной из них вы найдете платочек и мою фотографию. Это чтобы вы помнили меня…
— Не будет ни одной минуты, когда бы я тебя не помнил.
Барчин сняла с пальца перстенек с маленьким рубином.
— Это мой камень. Он приносит счастье. Дарю его вам.
Арслан стал целовать ее глаза, лоб, волосы. Она стояла, безвольно опустив руки, не уклонялась от него, как прежде. Еле слышно сказала:
— Не забывайте меня, Арслан-ака.
— Ты же знаешь, это невозможно! Береги себя. Знай — я всегда с тобой. Ты поняла?
Барчин кивнула. На глаза навернулись слезы, но она их тотчас смахнула.
Было неудобно долго задерживаться в глубине комнат, и они вышли на веранду.
Смущаясь, Арслан сказал:
— Можно я провожу вас на вокзал?
— Отчего же, если вас не затруднит, — согласился Хумаюн-ака.
— Арслан-ака, если мне что-нибудь понадобится из того, что осталось дома, я напишу вам, а вы пошлете посылку. Хорошо? — сказала Барчин, как бы давая понять остающемуся в их доме старику, что Арслан тоже здесь не чужой.
— С удовольствием, — сказал Арслан.
— Не загадывайте заранее, дети, — улыбнулся Хумаюн-ака. — Ты так уверенно говоришь, дочка, забыв, что завтра его могут вызвать в военкомат. Может, уже и сейчас его дома поджидает повестка. Да и сама ты, не исключено, отправишься на фронт.
— Да, конечно, — подтвердил старик, — слыхивали мы и про такое. Женщины, надев боевые доспехи, садились на коней, когда их земле грозила опасность. Дочь богатыря Ахмада Биби Фатима, закрыв лицо сеткой, сражалась с врагами и одерживала победы. Народ не просто так говорит: «Пусть мор длится хоть сорок лет, а умрет только тот, кому суждено». Да пребудете вы всегда в благополучии и здравии.
Часа в четыре около калитки остановились две машины — легковая и полуторка. Из легковой вышли трое. Хумаюн-ака заспешил к калитке встретить их. Это были сотрудники научно-исследовательского института, где некогда работал Хумаюн-ака. Один из них, веселый такой, фамильярно заговорил с Барчин, потом стал расхаживать по двору, как свой человек. Арслан понял, что он бывал здесь не раз. И Барчин была подчеркнуто любезна с этим молодым человеком. У Арслана испортилось настроение.
Хамида-апа опять заварила чай, принесла сладостей. Гости стали было отказываться от угощения, но старик сказал, что по издревле заведенному обычаю перед тем, как отправиться в путь, полагается посидеть и съесть по куску хлеба. Гости согласились и выпили по пиалушке чаю. Затем старик прочитал молитву, и все поднялись. Взяли чемоданы, узлы, направились к машине.
Хамида-апа, Хумаюн-ака и те двое, что их сопровождали, сели в легковую, а Арслан, Барчин и молодой человек, оказавший ей внимание, взобрались в кузов полуторки. Он был внимательный кавалер, не чета Арслану, — предложил Барчин сесть в кабину. Она не согласилась, лишь поблагодарила его улыбкой.
Знакомый Барчин шутил в дороге, Арслан же не проронил ни слова.
Едва машина остановилась на привокзальной площади, джигит спрыгнул на землю, протянул руки Барчин, предлагая помочь ей сойти. Она отказалась от его услуг. Тогда Арслан в сердцах сунул ему в руки огромный узел, подал чемодан, потом еще один…
До отхода поезда оставалось всего несколько минут. Пассажиры торопливо стали подниматься в вагон. Барчин и Арслан сдержанно обменялись рукопожатием. Они видели, что родители девушки и сотрудники ее отца внимательно наблюдают за ними.
Барчин поспешно прошла в вагон и встала у окна. Потерла мутное стекло ладошкой и, улыбаясь, долго смотрела на Арслана. Улыбалась, а у самой на глазах блестели слезы. Она не собиралась их скрывать, а может, просто не замечала.
Поезд тронулся. Провожающие некоторое время шли за вагоном, махая руками, что-то крича. Арслан стоял на месте как вкопанный. Его толкали, ругали, что встал на дороге. Он не замечал этого. Мысли его неслись вслед за поездом.
— Эй, джигит, вы поедете или решили здесь остаться? — раздался рядом голос молодого сотрудника Хумаюна-ака. — Все ждут вас.
— Благодарю, — сухо ответил Арслан, испытывая жгучую неприязнь к этому человеку. — Я поеду трамваем.
Тот пожал плечами, окинул при этом Арслана насмешливым взглядом и быстро зашагал к выходу в город.
Глава тринадцатая
ЗОВ РОДИНЫ
Со дня на день Арслан ждал повестку. Почти всех джигитов его возраста из их махалли уже призвали. Все эти дни Арслан ходил рассеянный, будто потерял что-то. Иногда он замечал на себе скорбный взгляд матери — так обычно смотрят на безнадежно больного. Временами мать украдкой смахивала слезу, — видно, тоже полагала, что не сегодня-завтра ее сын уйдет на войну. Уж лучше сразу призвали бы, чем жить в постоянном ожидании этого дня и видеть неутешное горе матери, сестер. Что и говорить, Арслану тоже было не по себе от мысли, что он скоро должен будет расстаться с родными, и неизвестно, как они тут будут жить без него. Но так, он знал, нужно, и чем скорее это случится, тем лучше: куда меньше мук, если сразу вырывают больной зуб, а не медленно, постепенно.
Потеряв терпение, он решил справиться, почему ему не присылают повестку.
В один из дней Арслан встал раньше, чем обычно. Мать еще только разводила огонь в очаге. Не дожидаясь завтрака, Арслан вышел на улицу, направился на площадь, где находился военкомат. Несмотря на ранний час, на улице было полно людей. А гузар напоминал базарную толчею. В чайхане, которая находилась неподалеку от военкомата, сидели старики и пожилые люди. Они вели неторопливую беседу о том, что и на долю нынешней молодежи выпало трудное испытание, вспоминали, как сами боролись за советскую власть…
Двор военкомата был набит молодежью. На стенах пестрели плакаты. В тени под деревьями сидели на корточках женщины, пожилые и молодые, как видно, прибывшие издалека проводить сыновей, мужей, братьев. Некоторые были с детьми, малыши выглядели не по-детски серьезными, не резвились, не кричали.
Временами хриплый голос произносил по громкоговорителю чью-нибудь фамилию, велел куда-то зайти или просил соблюдать спокойствие и порядок.
Арслан хотел было пройти в дверь военкомата, но его задержали, потребовали повестку. Он начал объяснять, что это и хочет выяснить, почему ему не присылают повестку. Его и слушать не захотели, предложили встать в очередь. Арслан встал в очередь, которая почти не продвигалась. Он прикинул, что поговорить ни с кем не успеет, а только опоздает на работу. Пришлось покинуть двор военкомата и поспешить на трамвайную остановку.
Ему встретилась женщина из их махалли. У нее недавно призвали сына. Арслан с ней поздоровался, но она прошла мимо, не ответив на его приветствие. Не услышала приветствия? Арслан заметил, что с некоторых пор женщины, сыновья которых ушли на фронт, поглядывают на него хмуро. Из всей их махалли только его не трогали да сына Суфи-баккала, старого бакалейщика. Но у сына Суфи-баккала обнаружили, говорят, болезнь. И ныне Суфи-баккал радовался, говоря: «То-то же, несчастье счастьем обернулось!» Но Арслан здоров, и все это знают. Сейчас махаллинцы друг про друга знают все.
А в военкомате, наверно, пока считаются с тем, что умер у него отец и он у матери единственный кормилец. Сабохат от них отделилась недавно. У нее теперь, считай, своя семья. В последнее время Кизил Махсум и его родственники лишили их покоя, что ни день засылали сватов. Арслан предоставил самой Сабохат решать свою судьбу. Кизил Махсум задарил ее подарками. А мать рассудила так: «Если война затянется, настанут еще более тяжелые времена, и лучше, если дочь будет пристроена» — и выдала свою младшую за Кизил Махсума. Большой той играть по нынешним временам было ни к чему, и они ограничились тем, что созвали лишь родственников на плов.
Вернувшись с работы поздно вечером, Арслан застал мать, Сабохат и Махсума-ака понуро сидящими на супе. Вид у них был удрученный. Арслан поздоровался с зятем и сел на краешек супы. Сидящие молчали, будто только что говорили об Арслане, а с его появлением умолкли.
— Что это вы нахохлились, как воробьи в непогоду? — смеясь, спросил Арслан.
Кизил Махсум кивком указал на небольшой листочек бумаги, лежавший на хонтахте. Арслан понял сразу — это была повестка в военкомат.
— Вот, оказывается, в чем дело, — проговорил Арслан. — Наконец-то! А я уж начал было себя чувствовать неловко. Всех призывают, а меня нет, будто я с изъяном каким. Еще неделю не прислали бы вызова, сам бы пошел. Так что не делайте из этого трагедии.
— Утихомирьтесь, братишка, утихомирьтесь, — сказал Кизил Махсум, сделав кислую мину. — Не такое сейчас время, чтобы кидаться словами. Это только дураки могут добровольно бросаться в ад. Герман уничтожает всех. Люди прибывают с тех сторон, ища спасения, зачем же вам, любезный, подставлять сбою голову под бомбы? Нынче надо действовать с умом.
У Арслана готово было сорваться с языка что-то грубое, но ему не хотелось обижать сестру. Да и мать заметила по его лицу, что он старается подавить в себе гнев, вмешалась, поднося к глазам кончик косынки:
— Ты один наша опора теперь. Что я буду делать без тебя?..
— Ладно, не надо плакать, как на похоронах, — спокойно сказал Арслан, стараясь улыбнуться. Взяв сморщенную руку матери, ласково погладил ее. — Ты же не хочешь, чтобы о твоем сыне думали дурное. Сама говорила, что соседка черт знает на что намекает.
— Пусть что хотят думают, что хотят говорят! — со слезами в голосе сказала Мадина-хола. — Я слышала, что тех, у кого старые, нетрудоспособные родители, не будут брать. К тому же ты работаешь на заводе, где и так рабочих не хватает!
— Да, я тоже это слышал, — мрачно проговорил Кизил Махсум. — Будто тем, кто работает на заводе, дают броню. Ты поговори со своим начальством. Если надо, отнеси какой-нибудь подарочек. Мы это быстро организуем…
— Не говорите чепухи! — с раздражением сказал Арслан.
— Может, мне поговорить с Худжахановым? Он человек влиятельный, поможет…
— Вы мне окажете медвежью услугу.
— Напрасно ты так. Деньги — мать и отец всему. Побьем челом и провернем это дело. Худжаханов же свой человек.
— Если тебе взрослые говорят что-то, слушай и соглашайся, — поддержала зятя Мадина-хола.
Арслан сложил вчетверо повестку и положил ее в нагрудный карман, как бы давая понять, что разговор окончен.
— Давайте будем есть, я так проголодался сегодня, — сказал он.
Сабохат быстро встала, направилась в летнюю кухню.
— На работу собираешься сообщить? — спросил Кизил Махсум.
— Зачем сообщать? Зайду попрощаться. У нас каждый день кто-нибудь уходит…
— Не на той люди едут, на смерть.
— Ну, хватит! Судьба у нас у всех общая, и горести и радости общие. Не буду я в трудную минуту прятаться в кусты. Какой же я тогда комсомолец? И что сказал бы, узнав об этом, мой отец, дегрез Мирюсуф? Пусть вот мама скажет, что бы он сказал.
— Отец твой для людей только и жил, потому и умер раньше времени, — тихо промолвила Мадина-хола, скорбно качая головой. — А ты если не о себе, хоть бы о матери подумал.
— Мама, я же не сын какого-нибудь Тухтабая! Это отпрыски бывших богачей только о себе думают. Им наплевать, что станет со страной, только бы себя уберечь. А коммунисты и комсомольцы сейчас там, где труднее всего. Оставьте меня, не сбивайте с толку!
— Он такой, — сказала Мадина-хола. — Такой. Всегда больше всех знает. Своевольный!
Сабохат принесла в большом глиняном блюде машкичири[72], поставила на хонтахту, сходила за ложками и пиалами. Арслан поднялся, желая уклониться от ненужного разговора, а заодно помочь сестре. Он принес исходящий паром самовар, поставил на жестяную подставку, которую вовремя подал зять. Затем, наклонившись над арыком, вымыл руки и сам заварил чай.
После обеда Арслан сказал, что у него срочные дела, и вышел на улицу. Он боялся, что опять возобновится неприятный ему разговор. Постоял минуту за калиткой, раздумывая, куда бы пойти. И вдруг он явственно услышал голос Барчин: «Если будет время, наведайтесь в наш двор. Придет письмо от Марата, перешлите нам его, хорошо?..» Арслан даже вздрогнул и оглянулся, как бы поверив вдруг, что Барчин может оказаться рядом. Но лишь легкий ветерок прошелестел в серой листве. Пошел бы хоть маленький дождик, освежил бы зелень, но здесь почти не бывает в эту пору дождей. Солнце уже скрылось за крышами, и узкие, кривые улочки махалли заполнились синеватой тенью. Тихо кругом. Из соседних дворов изредка доносятся голоса. Кое-кто, разведя в очаге огонь, готовит ужин.
Арслан пересек широкую улицу, отделяющую от их квартала махаллю Хафизкуйи, и, снова вступив в узкий, извилистый переулок, зашагал мимо древних калиток, украшенных стершимися от времени изразцами, мимо глухих, осыпающихся от сырости стен, возведенных в допотопные времена из плоских квадратных кирпичей, мимо балахан, нависающих над улочкой, образуя темный тоннель. И наконец увидел он знакомую ему голубую калитку. Сердце его взволнованно забилось. Казалось, сейчас откроет калитку и увидит Барчин.
Прежде чем постучать в калитку, Арслан огляделся по сторонам и увидел неподалеку двух стариков, сидевших рядышком на продолговатом камне, застланном курпачой. Они, кажется, давно за ним наблюдали. Один из них кашлянул и проговорил степенно:
— Здесь я, сынок!
— Ассалам алейкум! — поздоровался Арслан.
— Ваалейкум ассалам! Пожалуйте сюда, присаживайтесь, — пригласил старик и подвинулся. — Старуха моя ушла к детям в Актепа, а я заскучал, вышел вот побеседовать с Хаджи-ата. Все ли дома у вас благополучно? Здоровы ли все?
— Рахмат, ата, — сказал Арслан, пожав старикам руки.
— Садитесь.
— Благодарю, я только на минуту. Хотел узнать, нет ли от Марата письма. Домля просили наведываться…
Старик улыбнулся. Не домля, а дочь его просила, и старик помнил об этом. Но то, что парень не произнес имени девушки при постороннем человеке, а сослался на отца, старику понравилось. Воздавая про себя хвалу джигиту, он сказал, поднимаясь с места:
— Есть письмо. Утром принесли. Глядите-ка, словно аллах подсказал вам прийти сегодня. Я сейчас вынесу, сынок. А вы пока побеседуйте с Хаджи-ата.
Арслан сел рядом со стариком, и тот сразу начал расспрашивать его о войне, о том, что пишут о ней в газетах. Арслан рассказал о летчике-герое Здоровцеве.
— Вот и мы про это только что говорили. Не одолеть герману нас, нет, не одолеть. Мы родной дом защищаем, а он что потерял на нашей земле?..
Тем временем вернулся старик и подал Арслану треугольник с военным штемпелем.
— Вот взгляните, сынок, — наверно, от нашего племянника?
— От него, — сказал Арслан, поднеся конверт близко к глазам и с трудом разбирая в сгустившихся сумерках написанное. — Жаль, что сейчас почта уже закрыта. А завтра чуть свет я непременно отправлю его в Шахрисябз.
— Пусть будет так, сынок. Родители моего племянника будут целовать это письмо. Да-а, лишь бы пребывал во здравии мой племянник Марат. А ну, раскройте-ка ладони, Хаджи-ата!
Арслан подождал, пока оба старика, держа перед собой ладони, шептали молитву, а когда закончили, встал.
— Ну, до свидания, — сказал он. — До свидания.
— До свидания. Будь здоров, сынок. И приходи, почаще навещай нас, стариков.
Полагая, что зять все еще сидит у них, Арслан не спешил домой. По пути решил зайти к Нишану-ака.
Калитка была незапертой. Рузван-хола сидела на айване и при тусклом свете лампы, накрытой бумажным абажуром, латала мужу брюки. Нишану-ака предстояло идти в первую смену, и он уже спал на широкой деревянной кровати, стоявшей в виноградной беседке. Арслан извинился и хотел было откланяться, но Рузван-хола остановила его:
— Нет, нет, сынок, присаживайтесь, я сейчас разбужу вашего Нишана-ака.
Арслан запротестовал, делая ей знаки и на цыпочках возвращаясь к калитке. Но в эту минуту послышался голос самого Нишана-ака:
— Эй-эй, Арслан, куда ты? Иди сюда!
Арслан смутился и развел руками. Ему пришлось проследовать в беседку.
— А я только прикорнуть успел, — сказал Нишан-ака, спустив с кровати босые ноги и нашаривая ими тапочки.
Рузван-хола заспешила на кухню и захлопотала там, ставя кипятить чай.
— Извините, что побеспокоил…
— Какое там беспокойство! Сытно поел машкичири, вот и сморило меня.
— И у нас сегодня машкичири, — засмеялся Арслан.
— А ташкентцы испокон веку больше всего любят машкичири да машхурду, — в тон ему ответил Нишан-ака, поглаживая усы.
Рузван-апа принесла чайник чаю и пиалки, присела на краешек кровати. Налила в пиалу, перелила обратно в чайник, чтобы получше заварился.
Нишан-ака чувствовал, что Арслан пришел по важному делу, ждал, когда он сам скажет. Обычай не велит у гостя спрашивать, зачем он пришел. Говоря на отвлеченные темы, выпили по пиалке чаю. Нишан-ака время от времени бросал на парня изучающий взгляд. Вспомнились ему слова Мирюсуфа: «Это мой единственный сын, в коем постоянно будет светить моя лампада». И его самого сейчас наполнила нежность к сыну приятеля. Он заерзал, усаживаясь поудобнее, покашлял в кулак. Не любил Нишан-ака поддаваться минутным чувствам.
Арслан вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу.
— Я получил повестку. Вот…
— Сегодня?
— Принесли, когда я был на работе.
— На какое число?
— На завтра.
— Извести своих на заводе. Да-а… — протянул Нишан-ака и вздохнул. — Что поделаешь, братишка, сейчас всем приходит повестки. Будь я помоложе, тоже отправился бы туда, где стонет наша земля. Наш долг — защищать страну от врагов. А этот враг силен, нажимает. Подобно саранче, все пожирает и испепеляет на своем пути. Кто преградит ему путь? Конечно, такие джигиты, как ты. Слышал я недавно выступление товарища Сталина. Он сказал, что мы раздавим врага в его же логове. И я верю — раздавим!
Арслан, не ставя пиалушку на дастархан, сидел, чуть наклонив голову, и слушал Нишана-ака.
— Хороший рысак набирает темп в конце скачек. Вот увидишь, скоро придет время, когда мы перестанем отдавать города…
— Ой, зачем же это парней, которым бы только гулять да цветы девушкам дарить, в самое пекло посылают? — запричитала Рузван-апа. — Разве для них здесь дела нет?
Нишан-ака и Арслан засмеялись.
— Рузван, не встревай, если ничего не понимаешь! Налей-ка лучше горячего чайку.
— Тетушка Рузван думает в точности, как моя мама…
— А что, я неправа? — вскинулась Рузван-хола. — Человек приходит в дом с добром, а ему здесь лекции читают. Неужели если вы партийные, то непременно должны лекции читать? Так кричите, что вены на шее вздулись. Иногда, может, и надо речь произнести, а иной раз надо по-человечески поговорить. От простых слов теплее сердцу-то. С речами у себя на заводе выступайте, а дома говорите по-людски!
— Вай, глупая женщина, что я говорю, а что она! Гляди-ка, Арслан! Жизнь проходит, а понимать-то она все еще ничего не понимает!
— Чего это я не понимаю?
— А того, что я не могу притворяться, как артист. Каков на работе, таков и дома. Что думаю, то и говорю. Арслан это знает, потому и пришел ко мне. Каждое мое слово вот здесь рождается, — Нишан-ака хлопнул себя по груди, — потому и говорю горячо и громко.
— Да, там у вас пламень, как же…
Рузван-хола опустила очки на кончик носа и продолжала шитье. Нишан-ака и Арслан обменялись взглядами, засмеялись. Поговорили о делах на заводе.
Арслан посидел еще немного и откланялся.
— Передайте своей матушке привет от меня! — крикнула тетушка Рузван.
Придя домой, Арслан поспешно разделся и лег. Спать совсем не хотелось. Он задумчиво смотрел в небо. Сквозь крону шелковицы сверкает, как начищенное медное блюдо, полная луна. Издалека доносится хриплый лай собак. В клумбе свиристят цикады. Покой… А где-то грохочут взрывы бомб, гремят пушки, свистят пули, лязгают гусеницы танков. И на все это так же бесстрастно взирает луна. Или там ее лик закрыт черным дымом и гарью?..
«Может, и Барчин сейчас не спится, и она тоже смотрит на луну. Эх, Барчин, Барчин! Вот настал и мой черед, я уезжаю. Но не могу проститься с тобой. Ты не придешь проводить меня на вокзал. И я не сожму твои нежные ладошки. Только спустя несколько дней после моего отъезда ты получишь мое письмо…»
Арслан вскочил, отбросив одеяло. Побежал на айван и зажег лампу, стоявшую на хонтахте. Взял с подоконника чернила, тетрадь. Положил перед собой повестку, письмо Марата и начал писать письмо Барчин. Подумав о том, что его письмо могут про читать Хамида-апа или Хумаюн-ака, он не стал писать слова, рвущиеся из затаенных глубин сердца, и заполнил бумагу сухими общими фразами:
«Уважаемая Барчиной, здравствуйте!
Прошу Вас передать от меня многократный привет Хумаюну-ака и Хамидахон-апа. Как доехали? Все ли здоровы? Понравился ли Шахрисябз?
В Ташкенте все мы пребываем в благополучии.
Вчера я побывал в вашем доме. Пришло письмо от Марата-ака. Спешу его отослать вам. Ата и буви, живущие в вашем доме, также передают вам привет.
Всегда желающий вам благ
21 августа, 1941 г.»
Поразмыслив, Арслан вырвал из тетради еще один листок и написал стихотворение:
Прощай, джаным[73], прощай,
Покидаю я родимый край!
Разлуке не остудить любви,
Цветам не увядать — цвести!
В ночи, и темные и лунные,
Мечтаю я лишь о тебе,
Вижу глаза твои умные.
Помнишь ли ты обо мне?..
Прощай, джаным, прощай!
Я верю в свиданье с тобой.
Вспоминай меня! Иногда вспоминай…
И мне легким покажется бой.
«А что, если это стихотворение попадет в руки Хамиды-апа? — подумал Арслан. — Что ж, она засмеется и передаст Барчин». Арслан вложил письма и стихотворение в конверт и заклеил. Посидев несколько минут неподвижно, он загасил лампу и лег. И долго еще смотрел он на звезды…
Утром Арслан отправился в военкомат. Пока ел, мать сказала, что вечером прибегал Атамулла и сказал, что его отец просил Арслана заглянуть к ним. «Для чего это я понадобился Мусавату Кари?» — гадал Арслан, шагая по улице, еще пустынной в этот ранний час.
Глава четырнадцатая
ОТСТУПНИКИ
В одну из пятниц Мусават Кари явился, запыхавшись, с улицы. Дочь его Пистяхон, устроившись на краешке айвана, подводила усьмой брови. Мусават Кари, не успев переступить порог калитки, сразу же спросил:
— Где мать?
— К Лазокат-апа пошла, — ответила дочь, внимательно и немножко удивленно разглядывая отца, который был явно чем-то взволнован.
Мусават Кари машинально бросил под язык щепотку насвая и остановился посреди двора, кусая ноготь на большом пальце. Вид у него был растерянный. Поняв, что случилось или вот-вот должно случиться что-то серьезное, Пистяхон встала и подошла к отцу.
— А в чем дело, папа? — спросила она и, не дождавшись ответа, добавила: — Мама говорила, что после Лазокат-апа пойдут навестить тетушку Биби Халвайтар…
— Беги, сейчас же позови мать! И сразу же принимайтесь за плов. Приберите гостиную. А я схожу к Махсуму-ака, повидать его нужно.
Мусават Кари круто повернулся и через мгновение вновь исчез в калитке. Пистяхон хотела сказать что-то, да не успела, так и осталась с разинутым ртом. Волнение отца передалось и ей. Она некоторое время растерянно озиралась по сторонам, потом вытерла краешком рукава каплю усьмы, стекшую с кончика острых и подвижных, как два кинжала, бровей и заспешила к соседям. Мать ее, Мазлумахон, имевшая обыкновение, отправившись к соседям, просиживать у них часами, по знаку дочери быстро поднялась и зашлепала кавушами, направляясь к калитке. Пистяхон одним духом выпалила ей все, что велел сказать отец.
— А что случилось? — поинтересовалась Мазлумахон, стараясь подавить зевок и прикрывая рукой рот.
— Откуда я знаю! Сказали: «Беги за мамой, готовьте плов!» А сами ушли к Махсуму-ака. Наверно, придут вместе.
— Сохрани аллах, может, обыск какой? Не сказали, чтобы кое-что занесли к соседям?
— Нет, этого не говорили.
— А какое у них настроение было, не заметила?
— Обычное.
— Что значит «обычное»? Говори яснее, они не выглядели бледным?
— Нет.
— Тавба![74] Что же это такое происходит?
— Что может быть? Гости, наверно, придут. Разжечь огонь в очаге?
— Разожги и принимайся за морковь!
Пистяхон вприпрыжку побежала обратно. Мазлумахон вразвалку заспешила за ней.
Приблизительно через час вернулся Мусават Кари в сопровождении Кизил Махсума и еще какого-то человека средних лет. Человек этот был худощав и длинен, как жердь, а голова его приплюснута. Мазлуме-хола он показался похожим на иранца, который год назад, а может и того раньше, ходил из махалли в махаллю и чинил примусы, паял чайники, кастрюли.
Гости поднялись на айван, расселись на приготовленных курпачах, постланных в три слоя. Не успели они завершить короткую молитву, предшествующую серьезной беседе, как в комнате появился Атамулла. Кизил Махсум тут же велел ему сходить за Арсланом.
— На голову бедного джигита беда низверглась, — сказал он, сокрушенно качая головой и глядя вслед Атамулле.
Мазлумахон, привыкшая вести размеренный образ жизни, была недовольна внезапными хлопотами, хотя старалась скрыть это даже от дочери. Она села под навесом летней кухни на колоду, на которой кололи дрова, и сказала дочери:
— Скорее, скорее выполняй, что велел отец…
Пистяхон расстелила перед гостями дастархан, поставила поднос с фруктами, принесла лепешки, заварила чай в большом фарфоровом чайнике.
Мусават Кари поломал лепешки на куски, налил в пиалу чая и первому подал гостю, сидевшему на почетном месте. Обращались к нему Мусават Кари и Кизил Махсум с почтением, называя его Зиё-афанди. Хотя полное имя этого человека было Зиё Шамшир, сын Шохкора, ему нравилось такое обращение. Человеком он, видно, был немногословным, знавшим цену себе и своим словам. Уважение же Мусавата Кари и Кизил Махсума он заслужил тем, что прекрасно разбирался в мехах и при надобности мог раздобыть одному ему ведомыми путями соболиный мех и каракулевые смушки. Временами он употреблял терьяк[75], примешивая его в чай.
Зиё-афанди снимал комнату в Шейхантауре, у одного из племянников Мусавата Кари. Сколько его здесь помнили, он жил совершенно один. По словам самого Зиё-афанди, он прибыл сюда из Турции после первой мировой войны, чтобы повидать своих братьев Джавуда-афанди и Ибрахима-афанди, с давних пор осевших в этих местах. А потом границы закрылись, и он не успел вернуться назад. Его молодая жена и сын якобы остались в Стамбуле, и с тех пор он от них не получил ни одной весточки. Однако в махаллях поговаривали и другое. Мусават Кари и Кизил Махсум слышали от сведущих людей, что братья Зиё-афанди были военными и прибыли сюда с частями Анвар-паши во время интервенции, да угодили в горах Байсуна в руки красных. А сам Зиё-афанди в не столь уж отдаленные времена был заядлым пантюркистом. Позже, памятуя поговорку «язык мой — враг мой», сомкнул уста и позволял себе сказать слово лишь в присутствии особенно доверенных людей.
— Прошу, афанди, угощайтесь, — потчевал Мусават Кари гостя, указывая на дастархан. — Вот за этим коричневым кишмишем я ездил специально в Самарканд. А вот этот черный маиз я привез из Ферганы. Положить наввату вам в чай?
— Благодарю, я предпочитаю горький, покрепче. Он лучше утоляет жажду, — ответствовал Зиё-афанди с заметным турецким акцентом. Скривив в усмешке рот, метнул на хозяина колючий взгляд и проговорил: — Я поздравляю вас с «хаджи-бадалом» — заочным посещением Мекки.
Мусават Кари уловил в его интонации издевку, потупил взгляд, сказал:
— Благодарю.
Чтобы ввести разговор в серьезное русло, Мусават Кари заметил как бы между прочим:
— В тот день имам при всех поддел меня. Кажется мне, он предан властям, низвергающим аллаха. Странно все это.
На лицо Зиё-афанди враз набежала тень.
— Ничего странного, — сказал он. — Кто музыкантам платит деньги, для того они и играют. Разве только теперь вы об этом узнали?
Зиё-афанди достал из кармана маленькую блестящую коробочку-пудреницу величиной с пятак, вынул из нее зернышко терьяка, завернутое в прозрачную желтую бумагу, раскрошил и половину протянул Мусавату Кари. Тот, положив свой терьяк, который тоже только что вынул из кармана, на краешек стола, принял подношение афанди. Некоторое время они сидели молча, сосредоточенно разминая пальцами желто-зеленые крупинки, лежавшие на ладони, боясь уронить хотя бы крошку, потом растворили в чае, налитом лишь на донышко пиалы, и одним духом проглотили зелье. При этом у обоих что-то булькнуло в горле. Кизил Махсум с готовностью налил им еще чаю. Они принялись пожевывать маиз, очищая его от стебельков, изредка запивая горячим крепким чаем.
— Вот сегодня и Минск уплыл из рук, — сказал Зиё-афанди, ни на кого не глядя. — Считай, республика перешла в руки германа.
— А это большой город, афанди? — спросил Мусават Кари.
— Большо-ой! Основная крепость Советов на Западе. Скоро и Киев уплывет от них. Войско германа никакая сила не остановит. Оно все крепости на своем пути превращает в пыль и прах…
— А что будет с нами, со Средней Азией, афанди?
— По-моему, не позже как осенью они возьмут Кавказ. А когда захватят Москву, будет решен вопрос и со Средней Азией.
— А как решится этот вопрос? Как для нас все это обернется? Не худо ли будет?
— Для кого и худо будет, а для кого хорошо, — уклончиво ответил Зиё-афанди. — Во всяком случае, мусульмане получат свободу и самостоятельность. На наших землях вновь расцветет счастье. Я жду этого вот уже двадцать пять лет…
Услышав, как отворилась калитка, Зиё-афанди умолк на полуслове. Пришли Атамулла и Арслан. Поприветствовав присутствующих, Арслан подсел к столику.
Мусават Кари представил обоих гостю:
— Это мой сын Атамулла, а этот джигит мой братишка Арслан. Умный джигит. Но его призывают на войну.
— Саг ол, саг ол, — произнес Зиё-афанди, прощупывая пронизывающим взглядом Арслана и выражая удовольствие от знакомства с ним. — Но что-то не появляется Аббасхон сын Худжахана? В порядке ли их здоровье? Их степенство я премного уважаю, благородный человек.
— Они государственный человек, мой афанди, я тоже их редко вижу. Похоже, ввиду сложившихся обстоятельств у них теперь много дел.
— Говорите, проходите врачебную комиссию, молодой человек? — неожиданно обратился к Арслану Зиё-афанди. — И они находят вас здоровым?
— Здоров, все в порядке, — смутившись, ответил Арслан.
— Это, вы считаете, порядок? — Оценивающий взгляд Зиё-афанди, казалось Арслану, проникал ему вовнутрь: его не покидало ощущение, что этот человек угадывает его мысли раньше, чем он успевает произнести слова.
Мусават Кари и Кизил Махсум внимательно смотрели на Арслана. Судя по его словам, он доволен тем, что призван на фронт. Несколько недоумевая, они переглянулись.
Арслан, стараясь не поддаваться волнению, растущему в нем от гипнотизирующего взгляда собеседника, сидел, опустив голову, положив руки на колени, и думал о том, где он видел этого человека. Он мог сейчас поклясться, что видел его — и не раз. Ах, да, он его встретил как-то на базаре, а потом на гапе у Мусавата Кари. Арслан поднял голову. Зять и хозяин дома смотрели на него со скорбью: «Скоро этот джигит возьмет в руки винтовку и побежит, крича: «За Родину, ура-а-а!» — и, налетев на пулю германа, распластается на земле», — это прочитал он в их взглядах. И как бы в подтверждение его мыслей Зиё-афанди, вздохнув, промолвил:
— Да, дети мусульман становятся жертвами, их кости сгниют в земле России.
— А завод не может тебя оставить, братишка? Говорят, у завода имеется броня, — сказал Мусават Кари.
— Они дети своей страны и должны защищать отечество, — сказал Зиё-афанди с усмешкой, пристально посмотрев на Арслана, потом на Атамуллу. — Не так ли?
Парни переглянулись, промолчали. Зиё-афанди внимательно следил за каждым их движением.
— Да-а, — деланно вздохнул он, — и мой сын сейчас в таком возрасте. Увижусь ли с ним когда, не ведаю…
— У терпения дно золотое, мой афанди, — сказал Мусават Кари. — Долго ждали, теперь мало осталось. Да поможет вам аллах достигнуть желанной цели.
— Пусть исполнятся слова ваши, Кари, — сказал Зиё-афанди и молитвенно провел по лицу ладонями. — Вы изволите думать, что я четверть века ждал сложа руки? Как бы не так! Я боролся! Я двадцать пять лет боролся со скопищем врагов! О, это была титаническая борьба, на которую не каждый способен… — Глаза Зиё-афанди хищно горели, лицо покрылось мертвенной бледностью, губы дрожали. — Я мстил…
— Баракалла, мой афанди! Кровь моего расстрелянного дяди Мунаввара Кари тоже ждет отмщения.
Арслан был ошарашен тем, что услышал. Да в себе ли эти люди, перед которыми он сидит, почтительно наклонив голову, и считает неловким для себя лишнее слово произнести в то время, когда ведут беседу мужчины, убеленные сединой? А они говорят вон о чем, от слов их кровь в жилах стынет. Он незаметно толкнул локтем Атамуллу, тот наклонился.
— Что?
— Будем сидеть и слушать этот бред?
Атамулла пожал плечами. Дождавшись паузы в разговоре аксакалов, обратился к отцу:
— Мы устали сидеть, разрешите нам с Арсланом пройтись?
— Хорошо, прогуляйтесь. Только недолго. Не опаздывайте, плов скоро будет готов.
Атамулла кивнул. Они встали и вышли со двора, плотно закрыв за собой калитку.
От Зиё-афанди не укрылось то, что Арслан был раздражен их беседой. Он вопросительно взглянул на Мусавата Кари, перевел взгляд на Кизил Махсума. Хозяин дома понял, что мог означать этот взгляд, и, успокаивая, сказал:
— Не беспокойтесь, один родной мне сын, другой тоже как сын, рос на наших глазах. Подобные слова он слышал не раз.
— В древности, говорят, ранней весной, когда еще с земли не сошел снег, чабан гнал на поле коров. Святой Хизр, увидев это, удивился: «Эй, чабан, ведь снег еще лежит, куда же ты гонишь стадо?» Чабан на это ответил: «Зима кончилась. Этот снег — умирающий снег». Разгневанный Хизр обратился к аллаху: «Этот человек думает, что он самый умный, так пошли же ему стужу хотя бы на день». Аллах, чтобы не обидеть Хизра, послал на землю холодный ветер и снег, покрыл льдом землю. Стадо погибло. Хизр снова явился пред очи чабана: «Ну, что ты теперь скажешь?» «Зима кончилась, мы это хорошо знали. Но, судя по всему, какой-то склочник побывал у аллаха», — сказал чабан, разжигая костер…
Мусават Кари и Кизил Махсум от души рассмеялись.
— Хвала, хвала! — приговаривал Мусават Кари, трясясь от смеха и от восхищения хлопая ладонью по колену. — Но никто из этих джигитов не является Хизром, ваши опасения напрасны.
— Саг ол, саг ол! — улыбаясь, закивал Зиё-афанди.
К айвану подошла Пистяхон и спросила:
— Можно подавать плов?
— Да, конечно, — закивал Мусават Кари. — Твой брат и Арсланджан вышли пройтись по улице, хорошо было бы, если б ты их позвала.
Пистяхон сказала матери: «Можете накладывать в блюдо», — и выпорхнула в калитку. Посмотрела вокруг, но Атамуллы с Арсланом не увидела. Сбегала на гузар — и здесь их не нашла. Огорченная, вернулась назад, сказала отцу, что поблизости не видать братца с его приятелем. Ее окликнула мать, и она побежала к кухне. Вскоре вернулась, держа в руках большое фарфоровое блюдо с рассыпчатым пловом, каждая рисинка в котором светилась, как янтарь. Мусават Кари поспешно освободил хонтахту от фруктов и прочих сладостей и, взяв из рук дочери блюдо, осторожно поставил посередке.
— Прошу, почтенные, принимайтесь за плов!
Кизил Махсум тоже обратился к Зиё-афанди, чтобы тот первым вкусил угощение:
— Прошу вас, прошу!
Зиё-афанди начал есть деревянной ложкой, а хозяин дома и Кизил Махсум отроду не прибегали к ее помощи, когда приходилось разделываться с таким яством, как плов. Он казался куда вкуснее, если есть его прямо рукой, сгребать пальцами к краю блюда пропитанные жиром рисинки и, взяв на ладонь, отправлять за щеку.
Зиё-афанди попросил чаю. Что и говорить, с пловом чай пьется лучше, чем любой другой напиток.
Приведись кому-нибудь со стороны увидеть трех дружков-приятелей за настоящей трапезой, он бы без труда заметил, что каждый сидящий за хонтахтой старается играть какую-то роль. Зиё-афанди мнил себя интеллигентом, более того — философом. Он любил поучать окружающих, наставлять уму-разуму. И даже собираясь сказать какой-нибудь пустяк, он напряженно хмурил лоб. По улице он обычно ходил в голубых очках, без надобности брал с собой посох, инкрустированный серебром и слоновой костью. Когда же сидел в компании, пальцы его постоянно перебирали янтарные четки. Мусават Кари мечтал о великой мусульманской империи и склонен был думать о себе чуть ли не как о продолжателе дела Амира Тимурленга. Кизил Махсум считал себя мудрейшим стратегом. Нередко, сравнивая себя с полководцами Абомуслимом и Пахлаваном Ахмадом, приходил к выводу, что не уступает им в предвидении многих событий, а во многом даже превосходит их.
На время умолкнув, они углубились в собственные мысли, ибо нельзя предаваться красноречию и чревоугодию одновременно. Пот, выступивший на лбах, стекал на их носы, капал на дастархан.
«Философ», переведя дыхание, заговорил:
— Подобная урагану стремительность войск Германии ввергла в страх и смятение армию Советов. Война скоро завершится. Полгода, самое многое — еще год продлится. Но нам не годится ждать ее исхода, оставаясь пассивными зрителями. Мы должны объяснять людям, что германы воюют не с нами. Наоборот, они хотят дать нам самостоятельность. Вы, наверно, слышали про господина Мустафу?
— Нет, — признался Кизил Махсум.
— Мустафа, сын Чукая, является председателем временной Туркестанской республики. Мы располагаем сведениями, что они также руководят «туркестанским легионом» в Германии и скоро прибудут сюда. Мы должны втолковывать людям, что мусульмане сейчас не должны работать на заводах, ибо в противном случае они будут лить воду на мельницу наших врагов.
— Нам все понятно, афанди. Прошу, афанди, ешьте, пока плов не остыл.
— Надо действовать через умных людей, — продолжал Зиё-афанди, пропустив его слова мимо ушей.
— Пустить под них воду, хотите сказать? — хихикнул Мусават Кари.
— Эх, руки чешутся!
— Что вы, что вы! — испуганно замахал руками Кизил Махсум. — Разве забыли, чем кончили Ибрахим-бек, Шермат-хан и Аман-палван, которые взялись за оружие в двадцатых?
— Наша цель — завоевать сердца людей, — с расстановкой проговорил Зиё-афанди. — Слова — вот наше главное оружие. Есть слова острее кинжала и сильнее пушек. Ищите такие слова… Вы, Кари и Махсум, поактивнее участвуйте во всех делах махалли. Это очень важно. Верховодьте на похоронах, на тоях, завоевывайте симпатии стариков и молодежи, к тем, кому приходится тяжело, проявляйте чуткость и не забывайте, где можно, ввернуть словечко. Слово, сказанное вовремя, эффективнее всяких там бомб-момб. Этим мы поможем и его превосходительству господину Мустафе. Он всецело полагается на таких верных отечеству людей, как мы с вами.
— Такие слова нам очень даже понятны, — сказал Мусават Кари, кивая.
— На будущей неделе прошу вас пожаловать в мой дом, афанди, радость моя от этого вознесется до небес, — заискивающе проговорил Кизил Махсум. — Я закажу приготовить для вас голубцы в виноградных листьях.
— Благодарю вас, — сказал Зиё-афанди, вытирая руки о край дастархана. — Вы, наверно, знали в свое время Вали Каюмхана из махалли Пичокчилик? Так вот, он тоже является значительным человеком при их превосходительстве Мустафе.
— Это сын Каюма Кари. Они уехали, когда сюда пришли большевики. А незадолго до войны он прислал письмо родственникам из Германии, просил выслать документы, подтверждающие его принадлежность к мусульманству.
— Хвала! Все, что вы говорите, правильно, — сказал Зиё-афанди.
До наступления темноты они беседовали, опустошая один чайник за другим. Потом, произнося молитву, поднялись. Зиё-афанди и Кизил Махсум попрощались с хозяином и вышли вместе. Мусават Кари запер за ними калитку.
* * *
Вечером, поставив перед Нишаном-ака ужин, Рузван-хола жаловалась на свою знакомую Мазлумахон, которая в последнее время так изменилась, что не узнать ее, — подобно волчице, показывает клыки. Прежде боявшаяся даже произносить имя родичей со стороны мужа, теперь же открыто похвалялась тем, что она не какая-нибудь простолюдинка, а племянница Абдурашид-хана, сына самого Мунаввара Кари.
Присутствовавшие при том разговоре Мадина-хола и Биби Халвайтар, отцы и деды которых были простыми дегрезами, чувствовали себя задетыми за живое, но, не желая вызвать скандала, — ведь на людях скандал с пуговицу может разрастись до размеров верблюда, — старались сохранить благоразумие и лишь улыбались смущенно. А вздорная и легкомысленная Мазлумахон расходилась все больше, потряхивая кудряшками, завитыми на висках, позвякивая жемчужной бахромой огромных золотых сережек. Подведенные глаза ее сверкали от возбуждения. С высокомерием оглядев собеседниц, она сказала:
— Мы не брезговали здороваться за руку даже с простыми рабочими, а некоторые из них в нас же стали бросать камни. — При этом она недружелюбно посмотрела на Рузван-хола. — Обращаясь с простолюдинами, мы, оказывается, забыли, что вошь с ноги переползает и на голову…
Уязвленной Рузван-хола хотелось с гневом бросить ей в лицо: «Вы спесивые купчишки, пихающие себе в рот наш хлеб огромными, как барашек, кусками!..» — но в это время Биби Халвайтар подхватила на руки внука, который сидел возле ее ног на корточках и колол на камне абрикосовые косточки, и не попрощавшись ушла. Рузван-хола и Мадина-хола переглянулись и тоже последовали ее примеру, оставив изумленную Мазлумахон одну посреди улицы.
Нишан-ака усмехнулся, выслушав все это, почесал за ухом.
— Думается мне, разговоры эти имеют под собой подоплеку, — сказал он. — Будем живы, все увидим, хотя в жизни мы и так повидали немало. Видели и Куршермата-курбаши, главаря басмаческой банды, видели кровососов нэпманов, видели Мунаввара Кари и Мустафу Чукаева. Ничего с нами не смогли поделать эти сукины дети. Лишь вводили людей в заблуждение, натравливали брата на брата. Потому и пришлось всем им показать пятки, когда народ прозрел. Ничего удивительного, если и сейчас, в такое тревожное время, появится кто-то, подобный тем. Даже лучше, если он покажет свой лик. Гной выдавим, и наши раны быстро заживут… В благоприятную для нас пору они, уподобясь черепахе, лежат, втянув голову в панцирь, а когда над страной нависает беда, норовят нас ужалить исподтишка…
— Да падет позор на их голову! — сказала Рузван-хола спокойно; внутренне она испытывала огромную радость оттого, что ее суждения сходились с мнением мужа, и ей тоже хотелось сказать в ответ ему что-нибудь умное. — Когда обнаружилось распутство жены кичившегося своим богатством Саидазима-байваччи, он, опозоренный на весь город, ходил с опущенной головой, и в конце концов его семья, как расколовшаяся лодка, пошла ко дну…
— И лодка с этими тоже потонет!
— Ну зачем этим людям строить козни? Наследство отца не поделили, что ли? Ведь блага этого мира никому не суждено унести с собой… Не находят себе места из-за того, что узваки предают забвению все мусульманское и постепенно обращаются в гяуров. Может, это правда, а?
— «Может, не может»! Пропади ты со своим «может, не может»! Разве сама ты не узбечка?
— Алхамдилилло, аллах с тобой, конечно, узвайка!
— Говори — не узвайка, а узбечка! Не длиннополая безрукавка-узвай — времен Алимкулибека, а узбечка времен советской власти! Есть ведь разница, жена!
— Не хуже вас понимаю!
— Ну, так плохо ли тебе живется?
— Почему же плохо, упаси аллах!
— А почему же тебя сомнения берут, употребляешь в своей речи «может, не может»?
— Да разговоры слышу всякие то там, то сям, вот и призадумалась, с вами решила посоветоваться…
— Вот что скажу я тебе, жена. Какой-нибудь теленок, страдающий поносом, не должен испортить все стадо! От имени народа должны говорить мы! А не те вон рабы денег, озабоченные лишь тем, чтобы набить себе брюхо да обрядиться в дорогие одежды! Хотя эти пустобрехи твердят: «Страна… страна… нация-нация», — на уме у них совсем другое. Они готовы продать свою страну, лишь бы разбогатеть, лишь бы опять заставить нас работать на себя на своих заводах. А вот им кукиш! Или их стрела обогнала нашу? Чем мы хуже их? Мы сами хотим быть хозяевами на заводе! Так-то…
— Эй, отец, что вы на меня раскричались?
— Э, гляди-ка, какой я вспыльчивый стал, — сказал Нишан-ака, понизив голос и овладевая собой. — Когда слышу про этих паразитов, у меня такое чувство, будто в одежде насекомые завелись.
— А кто они?
— Откуда мне знать! Знал бы, схватил бы за грудки. Они же в свое время возвели напраслину на моего брата. С тех пор я ощущаю, будто под рубашку мне забралась блоха, беспокоит меня, а я никак не могу найти ее, проклятую. Не могу, и все…
Глава пятнадцатая
ДРЕВНИЙ ШАХРИСЯБЗ
В день отъезда из Ташкента и еще раньше, когда только готовились к переезду, среди сумятицы, Барчин еще не успела осознать всей глубины перемен, происшедших в ее жизни. Но едва она оказалась на новом месте, в Шахрисябзе, ею вдруг овладело чувство, будто бы она утратила что-то очень дорогое и важное в жизни. Увидев провинциальный пыльный город, она растерялась, и сердце ее сжалось от боли.
В пути отец успокаивал ее: Шахрисябз-де совсем недалеко от Самарканда, а Самарканд очень интересный город. Но от Самарканда они ехали более двух суток. Поезд часами простаивал и в Кермене, и в Кагане, и Карши, и Гузаре, пропуская военные эшелоны, мчащиеся на запад, составы с танками, пушками, цистернами с нефтью. Их обогнал санитарный поезд. Мать увидела в окно забинтованных молодых солдат, стонущих, мечущихся в бреду, около которых суетились молоденькие девушки-санитарки, стараясь оказать помощь. Один раненый кричал что-то и рвал на себе бинты… Хамидахон-апа сделалось дурно. Когда она очнулась и посмотрела в окно, состава с ранеными уже не было. Она так и не поняла, видела ли его на самом деле, или кошмар этот ей только приснился.
Полдня ехали по степи, желтой, опаленной солнцем. Дул знойный ветер. Отец сказал, что это и есть знаменитая Муборакская степь. Здесь получают редчайший каракуль, которому по красоте и качеству нет равного в мире. Родившихся в этой степи каракульских овец попробовали было пасти на тучных лугах, где растут сочные травы вперемежку с цветами, поить ключевой водой, но красота и качество каракуля резко ухудшились. Именно пышущая зноем степь, едва пробивающиеся из земли ростки трав, жухлая полынь, раскаленные пески и камни, горькая от соли вода, обжигающий ветер и создают это бесценное чудо природы — муборакский каракуль.
На станции Шахрисябз семью Саидбековых встречали. Они поселились в небольшом доме. До райкома отсюда было десять минут ходу.
Улица, на которой располагалось здание райкома партии, в этом городе была главной. По внешнему виду она соответствовала улицам, на которые в Ташкенте можно было набрести лишь на окраине. Она была, конечно, длинной, широкой, и по краям ее росли огромные старые платаны, под окнами домов были палисадники, в которых пестрели всевозможные цветы.
В тот же день отец отправился на службу. Мать принялась наводить в комнатах порядок, а Барчин не хотелось ни к чему притрагиваться. Чтобы как-то развеять тоску, она вышла прогуляться. Шла по улице, удивляясь, как близко здесь горы. Казалось, их зубчатые вершины, подернутые синеватой дымкой, возвышались сразу же за крайними домами. Центр города был многолюден и сравнительно благоустроен. Здесь были магазины, небольшие колхозные ларьки с овощами, рынок, чайхана, парикмахерская и клуб, где по вечерам показывали фильмы.
По улице, мощенной булыжником, сновали машины, обгоняя погромыхивающие арбы с впряженными в них осликами или тощими лошаденками. Степенно, надменно поглядывая на прохожих, вышагивали верблюды, нагруженные огромными мешками с соломой.
Путники, желающие отправиться в сторону Карши, Гузара, Кутчи, Мекрида, Хисорака, толпились в тени у входа на рынок в ожидании попутных машин или арб. А тем, кому нужно в Наматан, Китаб, Кунчикар, Хаджимурат и Бахши, нет смысла часами дожидаться попутного транспорта, они отправляются пешком. Каких-нибудь двадцать — тридцать километров — разве это расстояние?
Возвращаясь домой, Барчин четверть часа простояла, ожидая, пока по улице пройдет огромное стадо, поднявшее тучи пыли, в которой и чабанов-то не было видно, только слышны их окрики.
Барчин увидела огромных собак и метнулась в страхе в сторону. Заметив ее испуг, к ней подошла какая-то женщина, стала объяснять, что этих псов не следует бояться, их полным-полно бродит по городу и они не трогают людей. Но Барчин никак не могла прийти в себя, и женщина, посмеиваясь, проводила ее до дому.
И в последующие дни Барчин все никак не могла привыкнуть к бродячим псам. Едва увидит вдалеке, мчится обратно домой.
По утрам Барчин обычно не заставала отца дома. И с работы он приходил, когда дочь уже спала в своей комнате.
Однажды, лежа в постели, Барчин слышала, как отец жаловался матери, что очень много работы и не с кем даже посоветоваться. С предыдущим секретарем, ушедшим на фронт, он не встретился, и дела принимать, собственно, было не у кого… С тех пор как приехали в Шахрисябз, они все трое ни разу не посидели вместе и не поговорили, как это бывало в Ташкенте.
Надев нарядное платье, Барчин как-то отправилась к отцу на работу.
Райком партии размещался в одноэтажном простеньком здании. Открыв дверь, Барчин оказалась в длинном полутемном коридоре, в конце которого светилось единственное окно, а по обе стороны коридора множество дверей. Медленно прошлась она по коридору, изучая фамилии, которые значились на дверях. За одной из дверей Барчин услышала стук машинки. Это оказалась приемная, довольно просторная и светлая. Слева и справа большие, обитые черным дерматином двери первого и второго секретарей.
— Вы к кому? — спросила смуглая девушка, перестав стучать на машинке и с интересом разглядывая посетительницу.
«К отцу, — хотела было сказать Барчин. — Он у вас первый секретарь, самый главный в городе!» — но вовремя спохватилась, смутилась и опустила голову.
— Так… Зашла… — проговорила она. И, выйдя, тихо закрыла дверь.
Вспомнился ей давнишний разговор с отцом. Они говорили о том, что дети некоторых заслуженных, умных, почитаемых людей, как ни странно, растут оболтусами, не способными ни к чему приложить руки. А спустя три-четыре дня в газете «Кизил Узбекистан» появилась статья, подписанная Хумаюном Саидбековым, где он касался вопросов воспитания. Барчин и сейчас помнила эту статью.
Барчин стало стыдно за себя. Чуть не расхвасталась она перед незнакомой девушкой. Что сказал бы отец, узнав об этом?..
Барчин заторопилась к выходу. Из дверей выходили люди с какими-то бумагами и исчезали в других кабинетах. Ведь это бьющееся сердце Шахрисябза! Здесь все заняты серьезным делом.
Барчин вошла в тенистый сквер, расположенный у райкома партии. Аллейки, посыпанные красноватым песком, были чисто подметены, политы водой из арыка. На скамейках сидели, тихо беседуя, мужчины и несколько женщин. Барчин присела отдохнуть, невольно прислушиваясь к их разговору. Она поняла, что это были председатели колхозов, бригадиры, передовые звеньевые, приехавшие на совещание в райком, которое должно было начаться с минуты на минуту. Они прибыли из кишлаков Джаркурган, Мироки, Паландра, Шерабад, Денау, Сиваза, Кутчи.
Вскоре из двери вышла девушка, которая печатала на машинке, и пригласила этих людей. Барчин осталась на аллее одна. Воробьи весело чирикали, порхая в кустах, а над клевером, которым были засеяны газоны, летали с жужжанием шмели.
Барчин встала и пошла домой. Все встречающиеся женщины и девушки в длинных платьях с любопытством смотрели на нее, догадываясь, конечно, что она приезжая, потому что только приезжая может вырядиться в такое короткое платье.
Барчин миновала ткацкую фабрику, какие-то городские учреждения и, увидев школу, постояла несколько минут, подумав, что здесь, может быть, ей придется работать. Около военкомата она увидела множество женщин, стариков, сидевших где попало с набитыми мешками. «Видно, пришли провожать своих близких на фронт, — решила Барчин. — Здесь то же самое, что и в Ташкенте».
Домой Барчин вернулась усталая, но была довольна, что осмотрела город. Мать пожурила дочку, что обед из-за нее остыл, и принялась подогревать.
Барчин зашла в кабинет отца и стала копаться в его книгах. Наконец нашла ту, которую искала. Это было описание наиболее древних городов Узбекистана. Подсела к столу и начала листать книгу.
Шахрисябз, названный его жителями «городом-садом», расположен на северо-востоке Китабской долины, у подножья Зеравшанских и Гиссарских гор. Древнее его название Каш. Появился он в результате развития здесь ремесел и торговли. Но точное время его возникновения до сих пор неизвестно.
В XIII веке Шахрисябз стал центром борьбы против арабского ига. Предводителем восстания был отважный Хаким-ибн-Хашим, ныне известный нам под именем Муканны. После подавления восстания город был полностью разрушен.
В XIV веке Шахрисябз снова был восстановлен и возвратил себе былую славу центра ремесел и торговли.
Неподалеку от Шахрисябза, в кишлаке Худжра Илгар, родился Амир Тимур, создавший впоследствии великую империю Тимуридов. Тимурленг очень любил свой город и одно время намеревался даже сделать его столицей своего царства. Хотя в эпоху Тимура и Тимуридов столицей, называвшейся «Римом Азии», стал Самаркан, но и Шахрисябз оставался крупным и цветущим городом, средоточием «наук и морали». Здесь трудились и творили многие ученые, поэты, прибывавшие из других стран мира. По повелению Тимурленга в Шахрисябзе был построен прекрасный, изумляющий заморских гостей красотой и изяществом Белый дворец. До наших дней, к сожалению, сохранились лишь его развалины…
В конце XIX века Шахрисябз по величине и значительности считался третьим городом Бухарского эмирата. При советской власти, особенно после проведения железнодорожной ветки Карши — Китаб, Шахрисябз начал развиваться как важный промышленный центр. Местное сельскохозяйственное сырье послужило подспорьем для роста в городе промышленных предприятий. Ныне в Шахрисябзе и в расположенном поблизости Китабе работают хлопковые, плодово-овощные, винодельческие и греновые заводы.
Слава о художественных изделиях фабрики «Худжум» давно распространилась далеко за пределы Узбекистана. Здесь мастерицы, которые перенимают опыт у своих матерей и бабушек, ткут красочные ковры с замысловатыми узорами, вышивают шелком сюзане, бельбаги, сумки, тюбетейки.
На окраине Китаба, среди садов, находится широтная станция имени Улугбека. Станция эта, единственная в СССР, исследует ряд процессов, связанных с магнитным полем Северного полушария. На земном шаре таких станций всего пять, и расположены они все на одной географической широте — 39°08′. Китабская — в СССР, Каргоффюрте — в Италии, Юкая и Гейтербург — в США и Мицузава — в Японии.
Мать позвала Барчин обедать.
«Надо же, какой, оказывается, знаменитый наш Шахрисябз! — подумала Барчин, закрывая книгу. — Непременно постараюсь побывать на этой широтной станции! Вот уж чем я удивлю Арслана, сообщив ему об этом в письме!» И Барчин весело засмеялась своим мыслям.
Мать посмотрела на дочь с упреком: обед давно приготовлен и успел остыть. Хамида-апа накрыла на стол в кухне. Ели молча. Мать все эти дни глубоко горевала. В иные дни, едва Хумаюн-ака закрывал за собой дверь, уйдя на работу, она садилась у окошка и долго безмолвно глядела на дорогу, все чего-то ждала. Барчин старалась ее успокоить, как могла, но мать была безутешна: писем от сына не было вот уже два месяца. Порой горевала, что в Ташкенте оставили такой великолепный дом, сами же ютятся в двух тесных комнатушках; по воду нужно ходить к колодцу; электричество то и дело по вечерам гаснет, и приходится жечь керосиновую лампу… Дочь ей в ответ нарочито громко и весело принималась расхваливать городок, восторгаясь его красотой, благоприятным климатом, приветливостью жителей.
Но при муже обычно Хамида-апа была сдержанной, делая вид, что давно смирилась с этими неудобствами. Она жалела его и беспокоилась о его здоровье. Беспокоиться же у нее были основания: два года назад он перенес инфаркт и теперь нет-нет да хватался за сердце, сосал валидол.
Беспокоила ее и судьба Барчин. Вместо того чтобы учиться в институте, девочке приходится мытарствовать вместе с ними. Что хорошего она здесь увидит? Даже пойти поразвлечься некуда. И хорошими подружками не так уж просто обзавестись.
Хамида-апа встала из-за стола и, взяв с тарелки крупный мосол, подошла к открытому окну.
— Твой телохранитель тут как тут, — сказала она с улыбкой. — На, угости-ка его сама.
Барчин подбежала к окну. Под кустом шиповника на берегу арыка сидел огромный пес. Увидев Барчин, он вильнул хвостом и радостно взвизгнул.
— Каплан! — крикнула Барчин и бросила кость.
Барчин громко засмеялась и захлопала в ладоши, когда пес, высоко подпрыгнув, поймал угощение на лету.
Всякий раз, проходя мимо Белого дворца, Барчин видела этого огромного пса, лежащего в тени подле стены, и старалась подальше обходить его. Он обычно лениво поднимал голову и бросал на девушку равнодушный взгляд. Потом снова опускал голову на передние лапы и закрывал глаза, предаваясь дреме.
Однажды, возвращаясь утром из булочной, Барчин встретилась с этим псом на углу. И замерла в напряжении, готовая закричать, звать на помощь. Но пес стоял и спокойно разглядывал ее, скорее с любопытством, чем враждебно. И Барчин бросила ему кусок хлеба.
С тех пор началась их дружба. Пес, издалека завидев Барчин, приветливо махал хвостом и спешил ей навстречу, сопровождая ее, куда бы она ни шла. Имя ему придумала сама — Каплан, что в переводе с узбекского означает леопард. И в самом деле — лапы у него огромные, сильные, как у леопарда, и глаза отсвечивали зеленым, а шерсть густая, светло-серая, в черных расплывчатых пятнах.
Вскоре Каплан прознал, где живет Барчин, и часто стал появляться под ее окнами. Хамида-апа тогда сообщала дочери:
— Твой телохранитель опять здесь, дай ему что-нибудь!..
В то время когда мать и дочь, стоя у окна, потчевали пса костями и говорили ему ласковые слова, дивясь приветливости животного, в дверь постучали. Хамида-апа заспешила в прихожую. На пороге она увидела почтальона. Он почтительно поздоровался и попросил расписаться — заказное письмо из Ташкента.
На письме значился обратный адрес Арслана Ульмасбаева. Хамида-апа поспешно распечатала конверт и обнаружила в нем аккуратно сложенный треугольничек. Развернула его дрожащими от волнения руками. И тотчас узнала почерк сына. Прочла: «Здравствуйте, папа, мама и сестренка!.. У меня все хорошо…» Буквы расплылись, исчезли. Навернувшиеся на глаза слезы мешали читать. Она смахнула их рукой и выбежала во двор.
Надо сию же минуту обрадовать мужа. Ведь тревога за сына сжимает болью и его сердце, да только не дает он воли своим чувствам, лишь изредка произносит, не глядя на нее, чтобы она не разглядела в его глазах тоски: «Что-то долго нет от сына писем, а?..»
И вот оно, долгожданное то письмо! Не побежать ли прямо сейчас? Она оглядела себя, потрогала мятый подол своего старого платья и призадумалась. Нет, не может она появиться в райкоме в таком наряде.
— Барчин! Барчин!
В ту же секунду дочь появилась на пороге.
— Письмо! От брата твоего письмо! Сбегай-ка обрадуй отца. Жив-здоров наш Марат, доченька. Да, тут вот и от Арслана письмо.
Барчин прочитала вслух письмо Марата-ака, в котором он пишет, что им приходится пока еще отступать, но все же крепко они дают по зубам заклятому врагу, и просил о нем не беспокоиться. Предупреждал, чтобы не тревожились, если писать будет не часто.
— Отнеси письмо отцу, дочка.
— Сейчас. Я только оденусь.
Барчин вбежала в дом и, оказавшись одна, развернула письмо Арслана. Оно было коротенькое, и это ее немного расстроило. А прочитав, с трудом сдержала слезы. Она медленно вышла на айван и сообщила:
— Мама, Арслан тоже уходит на фронт.
— Вот как?.. Ну что поделаешь, детка… Сейчас все джигиты уходят на фронт. В их руках сейчас судьба всей страны. Лишь бы возвратились домой здоровехонькими…
— Да, конечно, — тихо проговорила Барчин, опустив голову.
Она медленно сошла с айвана и направилась к калитке.
— К отцу? Ты ведь хотела переодеться, — напомнила мать.
— Ладно, я так…
Хамиде-апа хотелось сейчас же, немедленно, поделиться с кем-нибудь своей радостью. Она вышла, провожая дочь, за калитку, и, придерживая на голове платок, заспешила к соседке, старухе Айше-биби. Перебежала улицу, чуть не по щиколотку утопая в пыли, без стука отворив калитку, вошла во двор. Хозяйка прибирала айван. Увидев взволнованную соседку, пошла ей навстречу. Хамида-апа, забыв даже поздороваться, стала рассказывать о сыне, о том, как он славно воюет — точь-в-точь батыр, о которых пишут в старых дастанах…
Прежний второй секретарь, Федоров, жил с семьей у Айши-биби на квартире. Но месяц назад, перед тем как отправиться на фронт, он перевез семью в Самарканд. Она рассказывала много хорошего про Федорова, который стал ей как сын. И теперь вот она все думает о нем, а от него ни единой весточки за весь-то месяц. Особенно была благодарна она Федорову за то, что он выручил ее брата из беды. Когда она устроила проводы сыну, который уезжал в Самарканд, ее брат, напившись допьяна, учинил драку и попал в милицию. Этот Федоров тогда сделал доброе дело, за что старуха искренне благодарила его в своих молитвах и желала ему всяческих благ в этом мире… И уж до самой смерти Айша-биби не забудет его заботы о ней: ведь это он устроил ее в больницу, когда она заболела, и наказал докторам хорошо лечить.
Порой Айша-биби любила распространяться о том, что в Шахрисябзе, где великий падишах родился и вырос, проживает немало потомков Тимурленга и что она сама относится к роду, который ведет начало якобы от самого Амира Тимура. Ее ближайшие предки происходили, как она говорила, из племени барлас. Четвертый сын Тимурленга Шахрух и его любимая старшая жена Гавхаршодбегим произвели на свет Байсункура Мирзо, который, по ее предположениям, и является семнадцатым или восемнадцатым ее дедом по восходящей линии. Вот о своем происхождении от них она и любила говаривать. В конце тридцатых годов ей крепко попало за неосторожные слова и наивное бахвальство своими знаменитыми предками. «Слепой теряет свой посох один раз», — решила она после этого и на какое-то время перестала хвастаться своим происхождением из «племени барлас». Но вскоре забыла испуг, из-за которого она ночи напролет не могла уснуть, и вновь дала волю языку. И все же это не мешало Айше-биби считать себя женщиной «передовой» и с «понятием», симпатизирующей всему новому. «Тимуриды все были такими, — говорила она. — Если бы душа их не лежала к новому, к наукам, разве стал бы Мирзо Улугбек таким великим астрономом?..» И женщины, слушавшие ее, кивали, соглашаясь с нею. В гостях эту Барлас, «матушку», как ее называли, всегда усаживали на самое почетное место.
Говорят, у джигита, годного в предводители, бывает широким лоб. Айша-биби любила в разговоре упомянуть, что у ее старшего сына лоб широк, потому и находится он на ответственной работе в Карши.
Ходила старушка всегда в ситцевых платьях, которых, согласно обычаю, бог весть сколько на себя надевала, а поверх повязанного вокруг головы легкого платка накидывала еще и огромный платок с кистями. По ее словам, платья из цветастого ситца — благоразумный подход к климатическим условиям. Наивен тот, кто по одежде судит о человеке. Есть такие, которые ходят в шелках, а в самих нет ни капли человечности. «Я ко всему приглядываюсь, все оцениваю», — говаривала она.
Хамида-апа с первых же дней пришлась по душе Айше-биби. Видя, что у женщины нет в этом городе ни родных, ни знакомых, она всякий раз приглашала ее на чай, рассказывала о себе. И Хамида-апа прониклась к старушке доверием. Недаром именно к ней пришла она со своей радостью. Эта добрая, мудрая старушка всегда находила нужные слова, чтобы утешить в горе. А радость при общении с нею возрастала вдвое.
Порывисто войдя в приемную, Барчин устремилась к большой двери, обитой черным дерматином. Однако молоденькая секретарша мгновенно вскочила и преградила ей дорогу. Узнав в ней давнишнюю посетительницу, она посмотрела на нее подозрительно.
— Вы что? — строго спросила она.
— Вот письмо. Хотела показать…
— Сегодня неприемный день, придете в среду.
— Ой, разве к отцу мне нельзя зайти?
Строгость на лице девушки сменилась замешательством.
— Так вы дочь Хумаюна-ака? Что же вы сразу не сказали? Пожалуйста, проходите. У Хумаюна-ака было совещание, только что закончилось, и он попросил полчаса к нему никого не впускать. О вас я ему сейчас доложу…
Но Барчин уже сама открыла дверь.
Увидев дочь, Хумаюн-ака побледнел. Он знал: только важное дело может привести к нему Барчин или ее мать. Его взгляд выражал ожидание, стремление угадать по лицу дочери, с чем она пришла.
— Вот письмо от Марата-ака, — сказала с улыбкой Барчин, и он понял по выражению ее лица, что все хорошо.
Хумаюн-ака нервными движениями пальцев развернул письмо и, не сводя с него глаз, не сразу нащупал рукой очки, лежавшие перед ним на столе, заваленном бумагами.
Прочитав письмо, Хумаюн-ака минуту сидел, закрыв глаза и потирая переносицу большим и указательным пальцами.
— Хорошо, — тихо произнес он. — Все хорошо…
— Ну, я пойду, папа…
Хумаюн-ака поднял на дочь усталый взгляд.
— Спасибо, дочка, что принесла мне эту весть. Ступай. И не откладывая напиши брату ответ.
— А вы сегодня рано придете?
— Постараюсь.
— Мама по такому случаю плов готовит, так что не опаздывайте.
— Умница наша мама, — улыбнулся Хумаюн-ака. — Скажи — пусть ташкентский готовит, с чесноком…
Выйдя из кабинета, Барчин разговорилась с секретаршей. Через несколько минут они уже признались друг дружке, что каждая из них подумала, когда они чуть было не разругались у двери секретаря райкома. Потом Барчин не без гордости поведала о своем Марате-ака, который воюет уже в чине капитана, и о том, как фрицы его боятся…
Вспомнив, что ее ждет мать, Барчин поднялась. Попросив девушку заходить к ним в гости, выбежала из приемной.
Вечером Хамидахон-апа и Барчин, когда плов уже был готов, завернули казанок полотенцами, чтобы рис допревал, заговорщически переглянувшись, принялись поспешно готовить аччик-чучук — обильно приперченный салат из помидоров, огурцов и лука, которым более всего любил Хумаюн-ака закусывать, если доводилось выпить рюмочку. Врачи категорически запретили ему употреблять спиртное, а Хамидахон-апа и Барчин строго следили за тем, чтобы он неукоснительно следовал совету врачей. Но сегодня у них необыкновенный день, и можно отступить от правил.
Часов в семь кто-то робко постучал в дверь. Хамида-апа вышла на айван и увидела секретаршу. Пригласила ее в комнату.
— Нет, Хамида-апа, я спешу домой. Хумаюн Саидбекович просил передать, что позвонили из обкома и он поспешно уехал в Карши.
— Что же там такое? — упавшим голосом спросила Хамидахон-апа.
— Кажется, из Ташкента прибыло какое-то начальство…
— Заходите, поужинаете с нами.
— Спасибо, меня дома ждут. До свидания! — сказала девушка и ушла.
Когда мать вернулась в комнату, Барчин тотчас заметила, что она расстроена, и сама встревожилась не на шутку. Подбежала, обняла мать за плечи. Та, вздохнув, опустилась на табуретку и сказала, в чем дело.
Долго они сидели молча.
Хамида-апа с горечью думала о том, что вот так у них всю жизнь. Нет у мужа покоя ни днем, ни ночью. Поесть спокойно не может. Неужели это судьба каждого партийного работника? Вспомнилось ей, как у них однажды гостил известный в республике агроном Тешабай Мирзаев, тот самый Мирзаев, которого на одном большом собрании в Москве лично сам Климент Ефремович Ворошилов назвал «народным агрономом». Так вот Тешабай Мирзаев как-то, смеясь, сказал: «Наш Усман-ака Юсупов любого заставит зашевелиться! Мы-то ладно, мы, дехкане, ковыряемся себе в земле. А поглядите, что на стройке делается! И рабочие, и инженеры, и ученые, и поэты — все нынче проводят дни на строительстве водохранилища! Недавно я побывал там. Нашего прославленного ученого Кари Ниязи, известных поэтов Хамида Алимджана, Гафура Гуляма, Уйгуна я не смог отличить от землекопов!» Сущую правду говорил тогда Тешабай Мирзаев. Впрочем, это она и сама прекрасно знала. Хамида-апа иногда, не на шутку рассердившись, пыталась удержать мужа дома, когда он, несмотря на то что плохо себя чувствовал, вдруг объявлял, что уезжает в срочную командировку, или сетовала, когда он один брался за дело, с которым и несколько человек не сразу управились бы. Хумаюн-ака в подобных случаях говорил: «Усман-ака так велел…» И она отступала. Знала, что никакие ее доводы не помогут, что муж все равно сделает так, как ему велел его любимый Усман-ака.
— Что же, опять будем ужинать одни, — грустно проговорила Барчин.
— А знаешь, дочка, пригласи Айшу-биби, веселее будет, — предложила Хамида-апа.
Барчин обрадовалась, что в этот вечер они все-таки будут не одни.
Барчин сидела за столом, слушая разговорчивую соседку, а мысли ее были о письмах, которые сегодня предстояло написать. Ну, брату написать не трудно, Ему она подробно опишет, как выглядит Шахрисябз, как они живут на новом месте. О здоровье папы и мамы напишет. А Арслану? Что она напишет ему? Хочется, чтобы письмо получилось остроумное и веселое. Но в то же время он должен почувствовать, как ей здесь тоскливо без него. Он должен прочесть это между строк…
Когда мать пошла проводить Айшу-биби до калитки, было уже совсем темно, небо усеяно звездами. Откуда-то донеслось тарахтение арбы. «Совсем как в кишлаке», — подумала Барчин. Она уединилась в своей комнате и села писать письма. В гостиной поскрипывали половицы под ногами матери, убиравшей со стола. Потом на кухне заплескалась вода, стала позвякивать посуда…
Было далеко за полночь. У калитки остановилась машина. Хлопнула дверца. Барчин поняла, что приехал отец, и кинулась отпирать калитку.
Только что уснувшая Хамида-апа поднялась с кровати, надела халат и зажгла лампу.
На айване послышались тяжелые шаги мужа. Даже по его шагам научилась она определять, насколько он устал и какое у него настроение. Барчин вынесла отцу чистое полотенце. Хамида-апа заспешила на кухню подогревать еду, но Хумаюн-ака остановил ее:
— Не утруждай себя, я не хочу есть. Завари только чаю и найди мой валидол, при мне не оказалось ни одной таблетки.
Вид у него был усталый, лицо осунулось, глаза запали.
— Не дают вам ни днем, ни ночью покоя! И что за работа! Нельзя разве всякие там собрания днем проводить? — зачастила Хамида-апа.
— Дня не хватает, — грустно усмехнулся Хумаюн-ака. — В Карши приехал Усман-ака, ну и, конечно, там собрались все секретари райкомов. Обсуждали важный вопрос.
— У вас всегда все вопросы важные! — досадливо махнула рукой Хамида-апа.
— А этот был особенно важный. Сама понимаешь, иначе не приехал бы сюда Усман-ака.
— Может, хоть немножко поедите?
— Нет. Постели мне, утром надо встать пораньше…
— Папа, я написала письмо, — сказала Барчин.
— Хорошо, дочка, завтра почитаем. — Хумаюн-ака отпил из пиалушки несколько глотков горячего чая и положил под язык таблетку валидола. Некоторое время сидел молча, потом задумчиво проговорил: — Да, здоровье для человека главное. Говорят, до пятидесяти лет человек прислушивается к советам друзей, а после пятидесяти — к своему сердцу…
— Вам же давно за пятьдесят! — сказала в сердцах Хамида-апа. — Человек в вашем возрасте должен немножечко беречь себя. Можно ли голодному, усталому таскаться по ночам за двести километров!
— Выбирай слова, дорогая, я не таскаюсь, служба.
— Служба, служба! Вспомните-ка, что стало с Сабирджаном, который работал, как вы, пока не загнал себя?!
— Ты говоришь глупости, — резко сказал Хумаюн-ака, уже раздеваясь.
— Мама, прекратите! — сказала Барчин, разбирая отцу постель. — Ложитесь, папа, вы устали.
— Спасибо, доченька… Сегодня я встретился с одним председателем колхоза, — сказал Хумаюн-ака, раздеваясь. — В самом начале нашей беседы, не произнеся еще ни одного слова, он вынул из кармана записную книжку и начал зачитывать мне всякие там цифры, проценты, относящиеся к его хозяйству. «А в каком положении дети?» — спрашиваю у него. «Какие дети?» — удивился он. «Обычные», — говорю. «Вы спрашиваете про детей колхозников?» — «Ну конечно». Он мнется, листает свой блокнот, а потом заявляет: «У меня про это ничего не записано. Вам цифры нужны?» — «Если и детей можете перевести на цифры, то давайте!» — сказал я. И сам не удержался от смеха. «Про малышей мы в тетрадях не пишем. У них есть мамы, бабушки, пусть они и смотрят за ними, и записывают, что надо. А наше дело — в тетрадь записывать большие вопросы!» — говорит он, удивленный моему неуместному, на его взгляд, смеху. Вот потеряет этот председатель свой блокнот, и считай — голову потерял… Надо поощрять тех, кто по-настоящему трудится в поле, а не тех, кто жонглирует цифрами. Так сказал сегодня Усман-ака. Нельзя, чтобы трудился Эшмат, а авторитет обретал Ташмат. А нередко бывает, что велеречивые Ташматы хватают ордена…
— Спокойной ночи, папа, спите, — сказала Барчин, укрывая отца одеялом. — Повернитесь на правый бок.
— Ладно, доченька, — сказал Хумаюн-ака, подчиняясь ей, и обратился к жене: — Разбуди меня пораньше, хорошо? В половине шестого.
— Ложитесь в третьем часу, а в шесть уже хотите быть на работе? Разбужу в половине десятого или в десять! — сказала Хамида-апа и погасила лампу.
Тихо стало в доме. Где-то на окраине залаяли собаки да поблизости спросонок прокукарекал петух, но тут же смолк. Видно, понял, что ошибся, что рано еще возвещать наступление утра.
…Издали донесся тревожный гудок паровоза. Барчин увидела зеленые вагоны, битком набитые военными. К ним нельзя подступиться. Провожающие что-то кричат, машут руками. Оттеснили Барчин на самый край перрона. И вот… она увидела Арслана. Он в гимнастерке защитного цвета, туго перепоясан широким ремнем, на голове пилотка, за спиной винтовка. Он поднялся на подножку вагона и ищет взглядом кого-то. Барчин стала изо всех сил работать локтями, чтобы протиснуться к нему. Закричала: «Арслан-ака я здесь! Арслан-ака-а!» И проснулась от собственного крика.
Комната была наполнена золотистым светом. Косой луч солнца через открытое окно падал на кровать Барчин. Простыня, которой она укрывалась, была скомкана и лежала у ног. Барчин накинула легкий халат и вышла из своей комнаты. Кровать отца уже была прибрана. Мать во дворе сидела одна за столом, стоявшим под старой раскидистой шелковицей, и пила чай.
— Папа уже ушел? — спросила Барчин.
— Давно, — ответила Хамида-апа, устремив задумчивый взгляд куда-то вдаль.
— Он же хотел прочитать письмо, которое я написала Марату-ака.
— Папа прочитал. Сказал — хорошо написала. После завтрака сходишь на почту и опустишь в ящик. А потом папа наказал, чтобы ты повидалась сегодня с секретарем райкома комсомола Дильбар Раззаковой. Говорит, что завтра, наверно, все выйдут на сбор хлопка. Работники учреждений, учащиеся старших классов — все выйдут. В райкоме и тебе дадут задание…
Глава шестнадцатая
В ОДНОМ СТРОЮ
Возвратившись с работы, Арслан прошел прямо в свою комнату. Прежде это была комната отца. Мадина-хола несколько раз заглядывала в дверь и видела сына в одной и той же позе — сидящим за столом. Звала ужинать. «Сейчас», — отвечал Арслан и продолжал сидеть, склонившись над тетрадью и никого не замечая. «Уж не случилось ли что?» — подумала Мадина-хола, неслышно удаляясь.
Уже несколько дней в голове Арслана звучали строки стихотворения. А сел к столу — ничего не получается. В голове сумбур. Как жаль, что перестал работать литературный кружок при Доме культуры завода! Руководитель, поэт Гайрати, помог бы упорядочить мысли, поэтические образы…
Взгляд Арслана упал на окно. В две ячейки вместо стекла были вставлены куски фанеры, и еще одно стекло было треснуто и склеено полоской газеты. «Надо вставить до отъезда на фронт. Успеть бы…» — подумал Арслан. У него уже давно все приготовлено. Начищены до зеркального блеска сапоги, в вещмешке смена белья, сухари, орехи. И медкомиссию прошел. Осталось ждать.
Арслан вздохнул и закрыл тетрадь. Обложка ее была разрисована замысловатыми узорами, посредине написано: «Лирические стихи». В этой тетради были не только его, Арслана, собственные стихи, но и понравившиеся ему стихи известных поэтов. Немало в ней философских изречений Саади, Навои, Хафиза, Пушкина и Лермонтова, Байрона и Гёте.
На первой странице Арслан наклеил свою фотографию. Ему казалось, что на этой фотографии он похож на Байрона. Конечно, никому не решился бы сказать об этом, но самому приятно было так думать…
Многие страницы были испещрены неровным, неразборчивым почерком. Буквы походили скорее на птичьи следы, чем на знаки. Некоторые стихотворения были зачеркнуты крест-накрест. И чем чаще Арслан перечитывал свою тетрадь, тем больше появлялось в ней перечеркнутых стихотворений.
Над некоторыми из них значились две буквы — «Б…н». Вот и сейчас, открыв чистую страничку, он аккуратно вывел две буквы — «Б…н». И на бумагу стали ложиться строчки:
Поезд тронулся… Прощанья… Пожатья рук…
Будь ты рядом, я б, может,
Стольких не испытывал мук.
Сердце тоска мне безжалостно гложет.
Я уезжаю… Дни ли минут или годы
С тех пор, как покину родные края,
Любовь мне поможет осилить невзгоды,
Тебе пусть поможет дождаться меня.
Я на сабле своей начертал твое имя —
И других талисманов не надо.
Я с победой вернусь — ты подари мне
Чистый цветок из своего сада…
Дверь в комнату отворилась — это Мадина-хола принесла на подносе еду.
— Хочешь не хочешь, сынок, а ешь, — сказала она, решительно ставя перед Арсланом тарелку с шурпой, чайник и лепешку. — Что же это такое — пришел с работы и есть он не хочет!
— Ну зачем вы так, мама? Я бы сам вышел.
— Я уже три раза разогревала, сынок, а ты все сейчас да сейчас. Дела свои и потом успеешь закончить. Зять твой зарезал барана, хороший кусок прислал. Сестра прибегала, принесла. Ждала-ждала тебя… Слишком поздно ты с завода стал приходить, сынок.
— Работы много, мама.
В длинном коридоре военкомата яблоку негде упасть. Арслан занял очередь. Те, кто выходил из кабинета военного комиссара, сообщали дожидавшимся своей очереди, что отправка завтра, место сбора — парк имени Тельмана.
Арслан хотел было выйти во двор покурить, но в этот момент вышедший из кабинета строгий человек крикнул:
— Ульмасбаев! Есть тут Ульмасбаев? Входите!
Кабинет был просторный и светлый. За длинным столом, накрытым красной скатертью, сидели пять военных и несколько человек в гражданской одежде. Арслан сразу узнал военкома Куканбаева и поздоровался.
Молодой лейтенант вынул из папки документы Арслана и зачитал сведения о нем. Все это время военный комиссар пристально вглядывался в Арслана, потом наклонился к сидевшему рядом с ним мужчине в сером костюме и тихо спросил:
— Вы, кажется, уже знакомились с документами Ульмасбаева?..
— Да, — кивнул тот и тоже изучающе посмотрел на Арслана. Их взгляды встретились. Арслану показалось, что он уже где-то видел этого человека.
— Со здоровьем как, джигит? — спросил Куканбаев.
— В порядке.
— Значит, на фронт, товарищ?
— Конечно.
— Это сын дегреза Мирюсуфа Ульмасбаева, — сказал мужчина в сером костюме Куканбаеву. — Отец его до последнего дня работал на Ташсельмаше.
— А-а, вы же из их махалли, — улыбнулся Куканбаев и обратился к Арслану: — Вы узнаете этого товарища?
— Где-то видел, — неуверенно произнес Арслан и обратился к мужчине в сером костюме: — Вы не преподавали лет семь назад в нашей школе?
Мужчина засмеялся.
— Верно. Я работал в вашей школе, но недолго. А вы, значит, по стопам отца решили?
— Да.
— Нам его кандидатура подходит, — сказал он военкому.
Тот оценивающе посмотрел на Арслана и пробежал взглядом его документы.
— Вот что, джигит, вам завтра в десять утра необходимо явиться в облвоенкомат. Ваши документы будут там. На месте объяснят что к чему. Все понятно, товарищ Ульмасбаев?
— Так точно!
— Вы свободны.
Арслан вышел, в недоумении остановился во дворе военкомата. Странно — опять ему не сказали ничего определенного. Он не знал, что и думать. Подошли знакомые парни.
— Ну что? Завтра в парке Тельмана встретимся?
— Мне не сказали этого.
— Почему? А нам всем велели завтра к восьми собраться в парке Тельмана.
— И сам не знаю почему.
— Может, болезнь какую обнаружили?
— Нет никакой у меня болезни.
Ребята в удивлении пожимали плечами, отходили. Арслан за несколько дней, пока проходил комиссию, привык уже к этим парням и подготовил себя, что и служить им придется вместе. Вернулся домой расстроенный.
Мадина-хола сидела пригорюнившись на том же самом месте, где Арслан оставил ее утром, уходя в военкомат. Будто и не вставала она с супы. Встретила сына вопросительным взглядом, молча показала рукой на место рядом с собой.
— Опять ничего толком не сказали, — сообщил Арслан, опускаясь на войлок, постланный на супе.
— Что же так?
— Все мои товарищи, с кем я проходил комиссию, завтра уезжают. А мне велено к десяти явиться в областной военкомат. Не понимаю, в чем дело. Может, какую закавыку нашли в моей жизни?
— Какая может быть закавыка, сынок? У нас нет никакой закавыки. Твой отец ни баем не был, ни муллой. Всю жизнь трудился для людей не покладая рук. Пусть те боятся, кто швырял камни в советскую власть. А тебе-то чего бояться. Есть советская власть — и мы есть! Нет советской власти — и нас нет. Вот так-то! Это слова твоего покойного отца… Кто знает, может, и лучше, что тебя к главному начальнику посылают… Наберись терпения, сынок. Я сегодня видела хороший сон. В честь святого Баховиддина испекла я одиннадцать лепешек. Что бы такое сделать, чтобы живым-здоровым выйти из этой кутерьмы?
— Ай, мама, оставьте такие разговоры! Вы опять повторяете слова нашего зятя.
— А что же, сынок, он умный человек.
Арслан встал. Хотя полдня уже было потеряно, он поехал на завод.
У входа в цех встретился с Шавкатом Нургалиевым. Рассказал ему, как обстоит дело. Они выкурили за разговором по папиросе.
Потом Нургалиев сказал:
— Если не торопишься, подожди, после смены поговорим обстоятельно. Чего-то там заливщики сегодня не успевают…
Арслан кивнул. Он направился в раздевалку и, переодевшись, стал помогать заливщикам.
После работы Арслан вымылся под душем и вышел из цеха. Нургалиев и Володя ждали его. Из ворот вышли втроем. Володя и Нургалиев перемигнулись. Володя забежал в магазин. По пути они зашли в небольшую столовую и заняли угловой столик. Володя принес нарезанных помидоров и стаканы. Нургалиев разлил водку.
— Знаешь, дружище, жаль мне с тобой расставаться, очень жаль! — сказал он. — Давай выпьем за то, чтобы разлука наша была недолгой. Жаль, времени нет посидеть по-человечески.
Стали говорить о том, какие вести поступают с фронта, что рассказывают возвратившиеся с войны инвалиды и эвакуированные. Вести были неутешительные…
Домой Арслан пришел поздно. Мать, тихо укоряя, помогла ему раздеться, уложила его в постель.
…Утром Мадина-хола дала сыну свежую рубашку, будто на той его собирала. Когда он брился, сказала:
— Сходить за зятем? Может, ему с тобой пойти?
Арслан засмеялся.
— Мама, вы никак не привыкнете к тому, что я уже взрослый и могу обходиться без опекунов.
Мать обидчиво поджала губы, подумав, все же заметила, что ее подруга Биби Халвайтар тоже непрестанно молится за него и аллах, услышав их мольбы, верно, сохранит его от напастей.
Арслан усмехнулся про себя, но промолчал, чтобы не обидеть свою старую добрую маму.
И в областном военкомате оказалось не меньше народу. Снова ожидание в коридоре… До десяти, правда, уже оставалось немного времени. Но перед Арсланом выстроилась длинная очередь, и вряд ли за несколько минут все эти люди успеют уйти, решив свои дела.
Однако дело приняло неожиданный оборот. Как только большие настенные часы, висевшие в коридоре, пробили десять, из кабинета вышла женщина в строгом синем костюме и, оглядев стоявших в коридоре, сказала:
— Кто здесь Ульмасбаев?
Арслан встрепенулся, будто внутри у него выпрямилась пружина.
— Я!
— Зайдите.
Помещение было просторное, с четырьмя большими окнами, на которых висели белые шелковые портьеры сплошь в волнистых складках. За столом сидели двое — пожилой седой майор в очках и мужчина, которого вчера Арслан видел в райвоенкомате. Сегодня он серый костюм сменил на форму капитана.
— Подойдите поближе, сядьте, — пригласил майор.
Арслан сел на свободный стул, стоявший напротив стола.
— Товарищ Ульмасбаев, мы ознакомились с вашими документами, — сказал майор, внимательно глядя на Арслана сквозь блестящие очки. — С сегодняшнего для вы находитесь на военной службе. Словом, вступили в ряды тех, кто сражается с врагом на фронте. Отныне вы военный человек. Вы меня понимаете?
Арслан смутился. Подумав, откровенно признался:
— Не совсем.
— Вам все подробно объяснит капитан Самандаров, — сказал майор, еле приметно улыбнувшись.
Капитан Самандаров взял папку с документами и направился в смежную комнату, сделав Арслану знак, чтобы он следовал за ним. Они сели за круглый стол.
— Вот такие дела, — проговорил Самандаров, открывая папку. — Где сейчас проходит фронт, вы знаете?
— Приблизительно, — ответил Арслан, стараясь поотчетливее представить себе географическую карту, на которой он отмечал города, занятые врагом, и соединял их синей линией.
— Вы хотите сказать — фронт протянулся с севера, от Балтийского моря, до самого Крыма? Не так ли?
— Да, так…
— Идет битва, напряженная и яростная. Враг жесток и коварен. Но враг знает и то, что силы наши не иссякнут до тех пор, пока у нас прочные тылы, пока нам есть на что опереться. И что, по вашему мнению, он в таком случае предпримет?
— Попытается ослабить наш тыл?
— Уже пытается! Много наших заводов с запада эвакуировано в Ташкент. Они ныне приобрели военное значение и уже работают в полную силу на оборону и на победу. Вот почему здесь предвидится схватка не менее жаркая, чем на фронте. Словом, решено вас оставить на заводе.
— Я понимаю… Только почему именно меня?
— Резонный вопрос… Мы имеем дело с неглупым врагом. Оставь мы кого попало, это вызовет у него подозрение. Почему, дескать, здоровый джигит, а не на фронте? За этим что-то кроется. А вы вполне попадаете под статью, по которой мы вас не должны брать на фронт. У вас нетрудоспособная мать, а вы у нее единственный сын и кормилец. Если кто-нибудь будет интересоваться, давайте именно такое объяснение. И близкие друзья, и родственники, и даже мать должны знать только эту причину. Договорились?
Арслан был настолько ошарашен всем этим, что не знал даже, как отныне вести себя. Он относился к людям, о которых говорят: «душа нараспашку». Ему теперь представлялось очень трудным что-то недоговаривать в разговоре с близкими, постоянно что-то скрывать от них и заниматься делом, о котором никто не должен знать.
— Справитесь? — спросил капитан, будто прочитав его мысли.
— Постараюсь.
— Я верю в вас, потому что вы комсомолец и сын известного дегреза Мирюсуфа-ата. Если из-под его рук выходили превосходные чугунные изделия, то и сына он выковал крепким.
— Я постараюсь…
— Еще вопросы есть?
Арслан отрицательно покачал головой, вопросов у него не было.
Глава семнадцатая
АИСТ НА КУПОЛЕ МЕДРЕСЕ КУКАЛДАШ
В том месте, где узкий переулок сливается с не менее узкой улицей, расположена небольшая площадь, где арбы разворачиваются или ждут, пока проедет встречная. А когда-то здесь был хауз. И Арслан, и Атамулла, и другие ребятишки махалли научились плавать именно в этом хаузе. Как только наступали жаркие летние дни, они постоянно барахтались в этом водоеме. Старики, правда, ворчали, что ребятишки мутят воду, но стоило им зазеваться, как хауз снова переходил во власть детворы. Они плавали, подныривали друг под друга, визжали. А те, кто поотчаяннее, залезали на балахану Адыла Варшава, возвышающуюся над хаузом, и ныряли оттуда…
Потом хауз закопали. То ли потому, что в махаллю провели водопровод и необходимость в водоеме отпала, то ли потому, что в затхлой, позеленевшей воде появлялись болезнетворные микробы. Этому событию предшествовал весьма печальный случай. Какой-то казах вез полную арбу самана. Въехав в эту улочку, стал он поворачивать назад. Не рассчитал. Лошадь попятилась, и арба, увлекая за собой и животное, и незадачливого возчика, опрокинулась в хауз. Острый кол, торчавший у берега, вспорол брюхо несчастной лошади.
Заброшенный двор напротив хауза вскоре незадорого купил какой-то человек, прибывший из Чимкента. Он возвел новый глинобитный дувал, привел в порядок двор, ветхий домишко. Этого нестарого человека звали Баймат. У него была миловидная, полненькая жена, без конца хлопотавшая во дворе, ни минуты не сидевшая без дела, пока муж отсутствовал. Люди приглядывались к новым жильцам махалли, не спешили заводить с ними дружбу, хотели сперва доподлинно узнать, кто они такие и почему сюда пожаловали, снявшись с насиженных мест. Но зато их дочка, шестилетняя Субхия, с первых же дней стала любимицей соседей. У девочки были большие черные глаза и вьющиеся волосы. Она сразу же подружилась с местными малышами, которым дела не было до того, откуда они и кто. Веселая была девочка Субхия. Иногда она выбегала на улицу в длинном платье и, босоногая, пускалась в пляс. При этом так звонко щелкала пальцами, что даже вечно хмурый Мусават Кари останавливался, любуясь ею, и произносил: «Ну и чертенок!..» Из-за умения танцевать или из-за сверкающих черных глаз некоторые называли ее «лули киз» — цыганочкой.
Мать ее, как и большинство женщин, видно, была суеверной и боялась, что ее маленькую Субхию могут сглазить, — надела ей на шею ниточку красных бус. Субхия на всех смотрела с улыбкой. В ее представлении жизнь состояла из одного только счастья, лицо ее всегда светилось радостью. Восторг, вызываемый в людях ее танцами, полнил ее сердце ликованием. Всех людей в мире она считала добрыми. Она не знала, что такое зло, да и зачем ей это было знать! Только одно существо на земле ей казалось злым — это собака во дворе Мусавата Кари. Однажды эта лохматая тварь, сорвавшись с привязи, укусила ее за ногу…
В первый раз люди увидели Субхию грустной в тот день, когда ее любимый папа ушел на фронт. Она весь день просидела на порожке калитки, задумчиво глядя перед собой. Она вспоминала прощание с отцом, и на ее глазах вновь и вновь появлялись слезы. Она вытирала их грязным кулачком, размазывая по лицу.
Утром отец, уходя прижал дочурку к груди, долго целовал ее личико. Субхия тихим спросонья голоском спросила: «Папочка, а когда вы приедете?» Отец, усадив дочку себе на плечи, показал вдаль, где в южной стороне города, над зелеными купами деревьев и желтыми земляными крышами домов, возвышался купол медресе Кукалдаш:
— Посмотри туда. Во-он, видишь аиста на куполе?
— Да! Вижу, вижу! — обрадовалась девочка.
— Там у него гнездо. В нем появятся скоро птенцы, маленькие аистята. Аистята оперятся и улетят.
— А куда они улетят? — решила уточнить девочка.
— В теплые страны. В Индию… А потом кто-то из них непременно вернется в свое гнездо. Непременно вернется. Тогда приеду и я. Как только ты увидишь на гнездышке белого аиста, так жди. Хорошо?
— Хорошо, папа, — кивнула девочка.
Отец опустил ее на землю. Прощаясь с женой, он сказал:
— Не горюй. Вон сколько соседей у нас, в случае чего не оставят в беде, помогут…
И пошел отец широкими шагами со двора, не оглядываясь.
Субхия вспомнила это, поднялась с порожка калитки и отошла в сторонку, чтобы виден был купол далекой мечети. Аист все так же стоял в гнезде, будто ни разу не пошевелился с самого утра. Возвращение паны связано с этим аистом, и Субхия не выпускала теперь его из виду…
Начались тяжелые дни. Мать Субхии повесила на калитку замок и, взяв дочку за руку, отправилась в Чимкент, к родственникам. Она хотела повидать своих близких и заодно запастись кое-какими продуктами. Но в те дни уже кругом люди жили, точно отмеривая то, что у них есть, экономя каждое зернышко крупы, кое-как сводя концы с концами. В городе люди с утра до вечера были на заводе, на фабрике, в учреждениях; колхозники от темна до темна работали в поле. Работы было много, а еды мало.
Мать Субхии жила у родственников дней десять и вернулась, привезя с собой немножко мяса и зерна. Но вскоре она заболела и слегла. Врачи настаивали, чтобы она легла в больницу, но женщина отказывалась, потому что не с кем было оставить дочку.
В один из тех дней зашла к ней Мадина-хола. Недавно пышущая здоровьем женщина недвижно лежала на кровати. Около нее на табуретке стояла пиалушка с водой и лежал черствый кусок джугаровой лепешки. Женщина прослезилась, тронутая вниманием Мадины-хола. Ей было трудно говорить. Она попросила, если уж ее увезут в больницу, присмотреть за девочкой, сообщить родственникам в Чимкент. И в глазах ее было столько мольбы, что Мадина-хола едва сдержала слезы. Сбегав домой, она принесла больной горячего супа. Но та не желала ничего брать в рот. Мадина-хола заспешила в поликлинику, чтобы вызвать врача. Выйдя из калитки, встретила Мазлумахон и Пистяхон, возвращающихся откуда-то с узелками под мышками. Отругала их хорошенько за то, что, живя по соседству, они не проявили никакой жалости к одинокой женщине с ребенком, ни разу ее не навестили.
Врач сказал, что у больной тиф. Ее тотчас увезли в больницу. Через неделю она умерла…
Субхия, когда ее мама еще была дома и лежала с температурой, то и дело выбегала на улицу и глядела вдаль, на купол медресе Кукалдаш. Смотрела, не прилетел ли белый аист. Если бы прилетел аист и сел на купол, то появился бы и папа. И уж конечно маму обязательно вылечил бы. Но аист не прилетал, отец не возвращался…
Мадина-хола привела Субхию к себе. Она переночевала, а утром убежала к себе. Мадина-хола вновь пошла за ней, сказала:
— Ты, миленькая, живи у нас, пока за тобой приедут из Чимкента родственники.
Девочка отрицательно покачала головой.
— Из вашего двора не видно купола во-он того медресе, — сказала она. — А от нас его хорошо видно…
— Зачем тебе этот купол?
— Когда на него сядет белый аист, вернется мой папа.
Мадина-хола возвратилась домой, пытаясь понять смысл ее слов. А вечером велела Арслану отнести девочке поесть.
Субхия считала Мадину-хола и Арслана самыми близкими в махалле людьми. Днем частенько прибегала к ним. А Арслан, встречая ее, всякий раз старался приободрить ее ласковым словом, приносил ей сладости.
Она часто бегала на соседнюю улицу, где жила ее подружка. Они вместе играли. Но мать той девочки запретила дочке водиться с Субхией, сказав, что она грязная и заразная. Субхия, давясь слезами, рассказала об этом Мадине-хола. Ох, да что ж это она? Конечно, давно пора девочку выкупать и постирать ей платьице. Вечером Мадина-хола выкупала ее. Уложив спать, постирала одежонку и хорошенько выгладила по швам, где могла прятаться всякая нечисть. А утром Субхия опять убежала к себе.
Однажды проголодавшаяся Субхия почувствовала вкусный запах. Долго стояла у калитки, откуда он доносился. Не выдержала и зашла во двор Мусавата Кари. В, это время сам Кари, его жена Мазлумахон и дочка Пистяхон и еще несколько незнакомых ей женщин сидели на айване и ели из большого блюда плов.
Заметив остановившуюся посреди двора девочку, Мазлумахон сунула ей в руку лепешку и выпроводила за калитку.
А Субхия, придя к себе, подумала: «Какая добрая тетенька, такой большой кусок лепешки дала… А муж у нее злой, у него глаза недобрые…»
Случилось так, что Арслана послали на сборы в военный лагерь за Чирчиком, у подножья Чаткальских гор. А у Саодат, старшей дочери Мадины-хола, заболел сынишка, и та попросила мать пожить у нее несколько дней, пока ребенок выздоровеет.
Два или три дня Субхия не выходила из дома. Проходивший по улице Мусават Кари иногда заглядывал через невысокий забор и видел Субхию, лежавшую на айване на куче тряпья. «Помоги, аллах, бедной девочке», — говорил он и, проведя по лицу ладонями, шел дальше. Девочка замечала его, но у нее не было силенок сказать: «Дяденька, помогите мне!» Но если бы у нее и хватило силенок, она все равно не позвала бы его. Она боялась Мусавата Кари и его собаку.
Вернувшись от дочери, Мадина-хола застала девочку настолько ослабевшей, что она с трудом держалась на ногах. Мадина-хола легко подняла ее, словно пушинку, и унесла к себе домой.
— Теперь не смей убегать к себе, живи здесь! — строго наказала ей. — Из нашего двора тоже можно увидеть купол медресе Кукалдаш. Вон залезешь на шелковицу и увидишь…
Субхия послушалась ее. Через несколько дней девочка немного окрепла. Она лежала на супе и смотрела на шелковицу. Ей очень хотелось вскарабкаться на это дерево, чтобы издали увидеть купол медресе Кукалдаш и узнать, не прилетел ли белый аист. Иногда она впадала в забытье, и ей мерещилось, что ее взял на руки отец, прижимает к груди, целует…
Утром, вернувшись из булочной, Мадина-хола увидела Субхию, лежавшую ничком около шелковицы. Бросилась к ней. Тельце девочки было холодное…
Мадина-хола оповестила соседей. Привела председателя махаллинской комиссии, Нишана-ака, сторожа Арифа и чайханщика. Вынула из сундука кисею, припрятанную для своего смертного дня, кусок бязи и сто рублей денег. Несколько мужчин, посокрушавшись, отнесли Субхию на кладбище и похоронили.
Арслан приехал спустя полмесяца проведать мать. Он был потрясен смертью Субхии. Это горе, будто кинжал, пронзило его сердце, и он долго не мог прийти в себя. Он даже не притронулся к плову, приготовленному матерью.
Мадина-хола тихим голосом поведала ему махаллинские новости, сказала, что зять и Нишан-ака часто справлялись о нем, спрашивали, скоро ли приедет. А Арслану не хотелось никого видеть. Белый свет ему не мил. «Неужели махалля не могла уберечь одну маленькую девочку? Где же были святоши-чалмоносцы, сетующие на современную молодежь, любящие поучать всех?» Он упрекнул мать: она, мол, тоже хороша, оставила девочку без присмотра.
Арслан резко встал и, сухо сказав матери, что ему пора отправляться обратно, вышел. Мать пошла было за ним, но он сказал, чтобы не провожала. Через полчаса он уже сидел в кузове военной полуторки, мчавшейся по шоссе в сторону Чирчика. Перед его глазами стояла улыбчивая, большеглазая девочка с волнистыми волосами и говорила звонким голоском: «Спасибо, дядя Арслан! Когда во-он на тот купол мечети прилетит белый аист, придет мой папа домой, и тогда я тоже вас угощу такими же конфетами и печеньем…»
Глава восемнадцатая
БОГАТЫРИ
В ушах все еще держался звон, вызванный только что отгремевшим боем. Еще не рассеялась желтая пыль, нависшая над развороченным взрывами полем, где, чадно дымя, замерли четыре фашистских танка. Бойцы отряхивали с себя землю и уже перебрасывались шутками. В изнеможении опустившись кто где стоял, дрожащими от нервного напряжения пальцами свертывали самокрутки.
Командир батареи капитан Саидбеков спустился в окоп и, сев на ящик со снарядами, вынул из нагрудного кармана письмо, которое не успел дочитать из-за неожиданной танковой атаки гитлеровцев. «Вот почему задержалось письмо из дома», — подумал он, узнав, что родители переехали в Шахрисябз. Приглядываясь к знакомому почерку Барчин, он улыбнулся. Представил ее, сидящую за столом, обдумывающую каждую фразу. А мать с отцом подсказывают каждый свое: это, мол, не забудь написать и это…
Артиллеристы, заметив улыбку на лице командира, переглянулись. Марат Хумаюнович понял, о чем они подумали, объяснил:
— Это письмо от сестренки.
— Так уж и от сестренки, товарищ капитан? — спросил, лукаво прищурившись, сержант Дмитриев, балагур и весельчак.
— От сестренки, — задумчиво повторил капитан.
Поднявшись, он поднес к глазам бинокль и стал внимательно оглядывать далекие холмы. Слева от них синели густые леса, а над ними снова собирались почти черные, грозовые тучи. Ему не нравилась наступившая тишина. Что-то тревожное было в ней. Марат любил тишину, когда она позволяла слышать пенье птиц, стрекот кузнечиков, шелест ветерка, пробегающего над цветущим клеверным полем. А эта тишина… она предвещает что-то недоброе.
Марат взял бинокль в левую руку. Правая была забинтована и все еще побаливала после ранения, полученного в бою под Смоленском. Там они поколотили немало фашистских танков, но и самим досталось изрядно. Марат Саидбеков потерял больше половины ребят из своей батареи. Но всех оставшихся в живых наградили орденами. У капитана на груди теперь сверкал орден Красной Звезды.
Оказывается, ничто не может так измотать, как отступление. Оно причиняло солдатам куда больше страданий, чем самые страшные раны. Иногда они занимали позицию, окапывались, устанавливали орудия в полной уверенности, что не станут больше пятиться. Грохотали жерла пушек, обрушивая на врага огненный шквал, разнося в щепы их укрепления, танки, автомашины. Земля сотрясалась от взрывов. Бойцы, обливаясь по́том, с трудом успевали подносить снаряды. Небо заволакивало черным дымом, будто тучами. Марат командовал: «Огонь!.. Огонь!..» Вдали взлетали сосны, столетние дубы, вырванные с корнем…
Но поступали сведения, что враг опять где-то прорвал линию обороны. Вновь приходилось впрягать в орудия измотанных, тощих лошаденок и отступать.
А теперь отступать некуда. Позади Москва.
Тишина.
Марат присел на сиденье наводчика орудия и, положив листок бумаги на планшет, пристроенный на коленях, начал писать письмо. Задумался. Снова перед глазами предстала мать. Сколько хлопот причинял ей Марат, пока вырос… Однажды, накупавшись в хаузе и продрогнув, он залез на крышу, нагретую солнцем, и лег. Не заметил, как уснул. Проснулся от чьего-то крика, показавшегося знакомым. Оказывается, мать, подумав, что сын утонул, подняла всю махаллю на ноги. Вокруг хауза толпился народ, а несколько мужчин барахтались в воде. Когда Марат слез с крыши, по толпе прокатился вздох облегчения. Мать кинулась к Марату, стала его обнимать, целовать. А мужчины выбрались из хауза и пошли в чайхану отогреваться горячим чаем…
А однажды родители, взяв с собой Барчин, уехали в дом отдыха. Марат остался дома. У него были какие-то дела, он не захотел ехать с ними. Через два дня мать вернулась. «Вай, сынок, я думала, у меня сердце разорвется! Как ты тут один дома?» — запричитала она, едва войдя в дом.
Можно себе представить, что сейчас она испытывает, думая о нем, своем единственном сыне.
Внешностью и ростом Марат вышел в отца. Он отпустил усы, чтобы выглядеть солиднее. Ведь были у него бойцы, старше его по возрасту, отцы семейств, и Марату, с детства привыкшему, согласно обычаю, с почтением относиться к людям старше себя, в первое время было как-то неловко отдавать им приказания. Тогда он и отпустил усы. А теперь привык к ним. Привык и к званию командира. Зная, что от выполнения его команд зависит жизнь бойцов, он требовал беспрекословного подчинения. Бойцы его любили. Землякам своим из Узбекистана, почему-то вдруг раскисавшим иной раз, он в шутку говорил: «Вы что это оробели, ребята? Как невеста, впервые оставшаяся наедине с женихом!» Джигиты улыбались, сами начинали шутить. А то еще и аскию затевали. Они с акцентом произносили некоторые русские слова, что делало их обмен остротами еще смешнее, заковыристее, и бойцы батареи, хватаясь за животы, покатывались со смеху.
Заканчивая письмо, Марат почувствовал себя, будто очутился в Узбекистане. Ему сейчас так захотелось попробовать горячей лепешки со шкварками, испеченной матерью. Перед тем как съесть, он намочил бы ее в арыке, пустив плыть по течению…
— Товарищ комбат, к командиру полка! — раздался чей-то отрывистый голос, вернувший Марата к суровой действительности.
Марат направился в землянку, что расположена неподалеку от его батареи. Здесь присутствовали несколько командиров. Склонившись над картой, они обсуждали план предстоящей операции.
На рассвете загрохотали пушки, сея смерть в стане врага. Богатыри начали бой. Сегодня каждый из них был во много раз сильнее богатырей, воспетых некогда в дастанах.
За ельником послышался шум. Оттуда стремительно шли танки. Наши танки. Они шли вперед, на позиции врага. «Теперь мы не отступим назад ни на шаг!» — подумал Марат, наблюдая в бинокль за передним краем фашистов, и скомандовал:
— Огонь! Огонь! Огонь!
Глава девятнадцатая
В ОЖИДАНИИ УТРА
Осень 1941 года выдалась холодной. Уже в конце сентября погода испортилась, начались дожди. А это самое худшее, что может быть для хлопка во время его созревания. Распушившиеся коробочки на кустах утеряли шелковистость. А раскисшая земля не позволяла ступить в поле, чтобы собрать гибнущий урожай. Едва дождь перестал и сквозь тучи проглянуло солнце, люди вышли в поле. На полях началась битва за урожай. И Барчин была среди сборщиц. Туго обвязав голову косынкой и надев кирзовые сапоги, с утра до вечера собирала она хлопок. Бечевки с каждой минутой тяжелевшего фартука больно врезались в поясницу и шею, пригибали к земле. К сапогам налипала грязь, Барчин с трудом передвигала ноги. Руки ее были поцарапаны до крови. Она не хотела показать усталости ребятишкам, с интересом поглядывающим на свою новую учительницу. Барчин знала, что дети очень наблюдательны. Особенно в новых людях они стараются подметить все. И будут ли они в дальнейшем уважать свою учительницу, во многом зависит от первых дней ее общения с ними. Барчин замечала, что, кажется, пришлась детям своего класса по душе. Ребятишки во всем старались подражать взрослым, особенно людям, к которым питают симпатию. И теперь то, как они будут работать в поле, зависит от нее. И она, непривычная к такой работе, старалась не ударить лицом в грязь. Ее руки порхали с одной коробочки на другую, вытягивая из них волокно. Сейчас каждый школьник знает, что из хлопка делают порох. Чем больше хлопка они соберут, тем больше из него сделают пороха. Думая об этом, Барчин считала и себя в какой-то мере причастной к фронту. И детям в короткие перерывы она говорила, что все они в эти страдные дни помогают фронту.
Барчин трудно. Но другим-то ведь тоже не легче. В неделю раз, улучив время, Барчин приезжала домой и заставала мать всякий раз одну. Отец то до полуночи задерживался в райкоме, то его вызывали в обком, то уезжал в какой-то колхоз. Мать, кажется, с этим уже смирилась, а Барчин было жалко и мать, и отца. Их беспокоило здоровье отца, но они старались не говорить об этом. Разговорами не поможешь. Как ни уговаривали они Хумаюна-ака поехать подлечиться, он не соглашался, ссылаясь на то, что не время сейчас об этом думать.
Мать говорила, что иногда он забегает домой пообедать. Как-то пришел расстроенный. Выпил валерьянку, которую Хамида-апа тут же накапала в рюмку, и начал возмущенно рассказывать о том, что, проходя мимо чайханы, увидел там праздно сидящих людей. В эту-то пору! Когда каждая пара рук на поле может принести неоценимую пользу. Вот-вот снова польют дожди, пойдет снег, а хлопок останется неубранным. Он зашел в чайхану и приказал всем присутствующим немедленно отправиться на сбор хлопка.
Терпеть не мог Хумаюн-ака разгильдяев и лодырей. Большинство из них беспечно-простодушные с виду, а на самом деле хитрые и нагловатые. Эти люди себе на уме, хотят загребать жар чужими руками. Весь день сидят они в чайхане, свесив ноги с сури и беспечно болтая о чем попало. «Странно, как они могут иметь семью, детей и ничем не заниматься!» — возмущался Хумаюн-ака. В такие моменты Хамида-апа и Барчин более всего опасались за его сердце.
Барчин считала, что сейчас во всем Шахрисябзе труднее всего ее отцу. Если доводилось ей, разговорившись с другими учителями, посидеть на хирмане[76] лишнюю минуту, ее начинала мучить совесть, и она, повязав фартук, вновь отправлялась в поле.
Искусные сборщицы, собравшие более ста килограммов, повязывали головы красными косынками. Традиция эта зародилась давно среди девушек и женщин, родившихся и выросших в Шахрисябзе.
Первой повязала голову Дильбар, секретарь райкома комсомола. Говорят, дерево красиво листьями, а человек — трудом. Дильбар была проворна в работе. И лицо ее, впитавшее жар солнца, обласканное утренними ветрами, было прекрасно. Такую красоту воспевали поэты.
Барчин старалась занимать рядки неподалеку от Дильбар и присматривалась, как она собирает хлопок. А сегодня уже и сама собрала более ста килограммов. Радость ее была столь велика, что решила вечером непременно поехать домой и похвастаться. Да и красной косынкой следовало запастись.
На этот раз Барчин застала отца дома. Как же она обрадовалась, увидев его! Повисла у него на шее, будто маленькая. Хотелось взобраться ему на колени, как в детстве. Она без умолку рассказывала о своих новых знакомых, о Дильбар, о том, как научилась собирать хлопок и как она соскучилась по нему. Хумаюн-ака с наслаждением слушал болтовню дочери и улыбался.
— Я рад, что ты привыкла к этим местам, — сказал он.
— А сколько мы еще тут будем жить, папа? — спросила Барчин, оборвав веселый смех.
— Вот тебе и раз! — засмеялся Хумаюн-ака. — Я хвалю ее, а она…
— На сколько же мы сюда приехали?
Лицо отца сделалось серьезным, и сразу отчетливо проступила на нем усталость.
— Меня сюда послала партия, — сказал он. — и мне надлежит оставаться в Шахрисябзе до тех пор, пока я здесь более всего нужен.
Снова, как всегда, разговор зашел о делах на фронте. И Хамида-апа, вспомнив, воскликнула:
— Да, Барчин, ведь тебя дожидаются сразу два письма!
Письмо Марата было распечатано. Барчин быстро пробежала его глазами. Второе письмо было от Арслана. Барчин, немного смущенная, взглянула на родителей. Но те, понимая состояние дочери, сделали вид, будто ничего не замечают. Мать была занята приготовлением ужина, отец отгородился газетой.
Барчин не хотелось, чтобы мать при отце начала расспрашивать об Арслане. Чтобы отвлечь ее, она подошла к открытому окну и, выглянув на улицу, спросила:
— Мама, а Каплан не появляется?
— Каждый день тут. Наведывается узнать, дома ты или нет. И сейчас, наверно, дремлет где-нибудь в кустах.
Барчин взяла кусок лепешки и вышла во двор.
— Каплан! Каплан!
Пес вылетел из-за угла и кинулся к ней. Гостинец он поймал на лету, улегся в тени и принялся за обед. Время от времени косил он глаза на Барчин и повиливал хвостом. Барчин с удовольствием понаблюдала за ним и вернулась. А Хамида-апа тем временем уже поставила плов на очаг. Вздохнув, она сказала:
— Был бы фронт близко, снесла бы я Маратджану касу плова. Соскучился небось Маратджан по моей стряпне.
— Там уже холода наступили, надо бы послать ему теплую одежду, — сказал Хумаюн-ака.
— Я написала нашему сыну письмо. И вы тоже напишите. Маратджан просит, чтобы каждый из нас писал в отдельности. Утром вложу все в конверт и отправлю. Хочу вот эту фотографию тоже послать… Этот парень, Эркин, оказывается, искусный фотограф. Он не приезжал к вам в поле?
— А что ему там делать? — засмеялась Барчин.
— Как что? Дильбар проведать, сестру свою, и хлопок пособирать.
— Дильбар говорит, что у него все еще нога болит после ранения.
— На твоего брата он похож, такой же рослый, красивый.
— Только мой брат капитан, а Эркин-ака был рядовым! — не без гордости заявила Барчин.
— На фронте пуль всем одинаково отпущено — и офицерам, и рядовым, — вмешался в разговор Хумаюн-ака. — А этого джигита уже отыскала одна. Теперь его прислали в распоряжение военкомата, там он сейчас и работает. А как оклемается, найдем ему дело посложнее. Он, кажется, способный парень, справится.
— Конечно, справится, — поддакнула Хамида-апа. — Если сестра такая боевая, а он же все-таки мужчина…
— А лучше всех получилась я, — похвасталась Барчин, все еще разглядывая фотографию.
— Немудрено, — сказала Хамида-апа, — он главным образом на тебя и наводил объектив.
— Ну что вы, мама… — смутилась Барчин.
— Кажется, плов готов, по запаху чувствую. — Хамида-апа поспешила к очагу. Через минуту послышался ее голос: — Садитесь за стол, сейчас несу!
— Айшу-биби не позвать ли нам? — предложил Хумаюн-ака.
— Я сбегаю, мама! — сказала Барчин и вмиг вылетела из комнаты.
Вскоре она вернулась вместе со старушкой, приветствовавшей хозяев с порога.
— Соскучились по вас, дорогая соседка, — сказала Хамидахон, жестом предлагая гостье пройти на почетное место. — Особенно Хумаюн-ака. Каждый раз он спрашивает, как вы поживаете, здоровы ли…
— Спасибо, спасибо! За ваши заботы обо мне я вам благодарна, пусть аллах пошлет вам здоровье, а сыновьям нашим скорейшего возвращения с победой.
Утром, едва рассвело, та самая арба, на которой Барчин приехала в город, остановилась около их калитки. Таков был уговор с арбакешем. Барчин выбежала из дому и увидела сидящего рядом со стариком арбакешем Эркина. На плече его висел фотоаппарат.
— Вы уж извините, что я без разрешения устроился на вашем «такси». В районной газете попросили сфотографировать передовых сборщиц, а заодно мать передала кое-какую одежду для Дильбар.
Он протянул руку и помог Барчин взобраться на арбу. В калитке появилась Хамидахон-апа, она поздоровалась и обратилась к Эркину:
— Хумаюн-ака просил передать вам спасибо за фотографии. Одну мы решили послать сыну на фронт.
— Я рад, что они вам понравились.
— Ну, до свидания, мама! — сказала Барчин. — Поехали скорее, а то все выполнят по половине нормы, пока я приеду.
Арбакеш взмахнул кнутом, и животное тронулось с места.
В дороге Барчин первая нарушила молчание:
— Вы часто бываете в подобных «командировках»?
— В первый раз еду. Мама настояла. Беспокоится: дескать, беззащитная девушка, как она там?
— Это Дильбар-то беззащитная? — засмеялась Барчин. — Да она любого парня за пояс заткнет!
— Это верно, она у нас боевая… А вас, Барчин, поздравляю с успехом. Собрать сто килограммов хлопка! Я отношусь к такому факту как к подвигу. Бывало, сколько ни старался, а больше сорока килограммов не мог собрать.
— А откуда вы знаете о моих так называемых «успехах»?
— Ну как же не знать? Красавицу дочь первого секретаря райкома товарища Саидбекова весь Шахрисябз знает.
— Вот как? — проговорила Барчин, залившись краской. — По-моему, брата секретаря райкома комсомола Раззаковой Дильбар тоже весь Шахрисябз знает.
— Молодец, дочка! За словом в карман не лезешь, — поддержал ее старик арбакеш, довольно посмеиваясь и теребя свою жиденькую бороденку. — Есть такая поговорка: «Я не спрашиваю, чей ты сын, хочу знать, кто ты».
За разговором не заметили, как приехали в колхоз. Солнце еще только поднялось над горизонтом, залило влажные от росы поля золотистым светом. Барчин увидела собравшихся на хирмане подруг. Поблагодарила арбакеша и, спрыгнув с арбы, побежала через поле. Эркин долго смотрел ей вслед. Арба, погромыхивая, покатилась дальше. Эркин решил зайти в правление, поговорить с председателем и выяснить, кого ему следует сфотографировать для газеты…
Вечером Барчин пришла в клуб, где жили ученики их школы. Тускло горела керосиновая лампа, подвешенная к потолку. Рядами стояли аккуратно заправленные раскладушки.
Девочки во дворе играли в «третий лишний», с криками и смехом гонялись друг за дружкой. Они как бы ни уставали за день, по вечерам все равно затевали шумные игры. А Барчин хотелось броситься ничком на постель и не шевелиться. Ныли поясница, плечи. Болели исцарапанные кисти рук.
Барчин села на свою раскладушку, достала письмо Арслана, перечитала его — в который уже раз. Потом вырвала листок из тетрадки и написала ответ. Закончила письмо стихами.
Встречи с тобой ожидаю,
Как счастливого утра.
Когда о тебе я мечтаю,
Рядом со мною ты будто…
Глава двадцатая
ПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ
Прошло полтора месяца с тех пор, как умерла Субхия. Казалось, все в махалле позабыли, что здесь жила такая девочка. Некому было горевать по ней и плакать. А тут наступил праздник Хайит — день, когда люди поминают всех своих близких, покинувших этот мир. Но никто не поставил скамейку около калитки, где жила Субхия, не постелил курпачу, чтобы люди могли посидеть и почтить ее память.
Арслану рассказали, что Мусават Кари, живший через стенку, даже не приблизился тогда к гробу девочки. Со словами: «Она тифозная» — ушел и вернулся лишь после того, как махаллинцы снесли ее на кладбище. Женщины-соседки смотрели на него хмуро и осуждающе. А Мусават Кари встал посредине дороги, напротив открытой калитки, жалобно поскрипывающей при дуновении легкого ветерка, и, прочитав молитву, провел ладонями по лицу. Потом пробормотал так, чтобы его услышали: «Да-а, вот она, жизнь. Молодой ли, старый — все умирают, кому суждено. Пока разобьется один большой кувшин, сколько мелких кувшинчиков вдребезги разлетятся…»
Хайит совпал с выходным днем. После полудня Арслан вышел на гузар. Он купил две ячменные лепешки, завернул их в платок и отправился на чигатайское кладбище. Эти лепешки и немного денег он дал сторожу, и они вместе пошли к могиле отца. Хромой, белый как лунь старик, обрадованный подношением, вместе с Арсланом постоял несколько минут над могилой, прочитал молитву. Потом Арслан попросил сторожа показать маленькую могилку Субхии. Теперь это было единственное доброе деяние, которое он мог свершить для девочки, — постоять возле нее. Ему казалось, что Субхия видит его, пришедшего ее навестить, и спрашивает: «Дядя Арслан, посмотрите на купол медресе Кукалдаш — не прилетел ли аист?..»
— Сынок, что вы так задумались? Пойдемте, пора, — сказал сторож, коснувшись его локтя.
— Мне хочется немножко побыть одному, посидеть тут, — сказал Арслан и, заметив недоумение на лице сторожа, добавил: — У девочки никого нет в этих краях. Я иногда буду навещать ее.
— Как хотите, сынок, как хотите… — проговорил сторож, еще внимательнее приглядываясь к джигиту. Ему, старому человеку, за многие годы пребывания здесь пришлось видеть людей, которые зароют тут родного человека и больше ни разу ногой не ступят сюда. Он знает такого сына, который за двадцать лет ни разу не пришел на могилу отца и матери. — Взгляните вон на ту могилу. Почтенный человек в ней покоится. Знал я его когда-то, хороший был человек. Глядите-ка, как всемогущ аллах, какую судьбу он может предуготовить: у покойного есть сыновья и дочери, но никто из них ни разу не вспомнил того, кто подарил им жизнь, не пришел к могиле, не прочитал молитву. Слышал я, что они жизнь непотребную ведут. Если это правда, то уж лучше пусть сюда, где лежат многочтимые люди, не ступают ногой…
Арслан молча, кивком головы, выразил согласие с ним. Сторож повернулся и, прихрамывая, медленно пошел от него прочь.
Если заметишь сам или тебе дадут понять, что гордыня обуяла тебя, что ты начинаешь свысока поглядывать на мир, то сходи на кладбище. Если твои родные и близкие покоятся в другом месте, вдалеке отсюда, то не обязательно искать кровных родственников — здесь все тебе родственники. Постой минуту над могилой, задумайся, вспомни о том, что придет время и ты будешь лежать недвижно в сырой земле. Нет человека, который не вошел бы в толщу земли, — ведь время не остановить. Оно идет. Оно летит. Оно мчится. Позади тебя миллионы лет, и после тебя минует столько же. Жизнь твоя подобна промелькнувшей и сгоревшей звезде. Ты явился в этот мир — точно взглянул ненароком на зрелище, поставленное невесть кем на огромной зеленой сцене под названием Земля, и снова канул в небытие… И раз уж так коротка жизнь, и твоя, и твоих соплеменников, не делай никому зла, не причиняй людям боли — ведь этим обречешь себя на муки, тебя замучает совесть.
Когда сторож ушел, Арслан опустился на траву, уже пожелтевшую. Могилка была еще свежей, только две-три травинки успели прорасти на ней. Верх ее утрамбован тыльной стороной кетменя, а края обвалились. Рядом лежало несколько прутьев вербы, которые, видно, хотели посадить, да так и оставили, забыв про них. Зарывая могилу девочки, у которой не оказалось на похоронах никого из близких, даже могильщик не проявил особого рвения.
Свисту сабли, пронзительному полету стрелы уподобились сейчас мысли Арслана.
Почему судьба столь немилосердна и несправедлива?!
Кудрявой девочки, которая совсем недавно громко смеялась, играя с ребятишками, плясала, веселя прохожих, теперь нет на свете. Почему смерть накинулась на эту птаху, когда вокруг столько гнусных хищных созданий?
На верхушки пирамидальных тополей, растущих на краю кладбища, упал луч заходящего солнца, и они стали похожи на огромные, зажженные кем-то свечи. Арслан с трудом оторвал от них взгляд и снова посмотрел на маленькую могилу кудрявоволосой Субхии. А рядом была другая могила, большая, поросшая янтаком и пальчаткой. Возможно, в ней лежит старый и мудрый бобо, у него длинная белая борода и кустистые брови. Такие старики обычно бывают ласковы к детям. Может быть, он время от времени утешает Субхию, даря ей терпение, и говорит: «Успокойся, девочка, на купол медресе Кукалдаш обязательно сядет белый аист, и отец твой вернется с войны живым и здоровым…»
Арслан сидел, положив руки на колени и подперев подбородок ладонью. Его растревожили думы, которые могут прийти в голову только тут.
Здесь лежат и те, которые, полагая, что они никогда не умрут, жили, нагоняя страх на всех окружающих. Лежат и разбогатевшие скареды, и чужеспинники, которые ради костюма или ручных часов убивали человека. Лежат и льстецы, и гордецы, и презренные, и презиравшие. Лежат воровавшие, присваивавшие себе чужую долю. Но лежат тут, увы, и люди с благородными сердцами, отдавшие себя без остатка служению своему народу…
Да, было бы справедливо, если бы на том свете существовали ад и рай.
Через некоторое время Арслан вернулся к могиле отца, постоял в безмолвии. Ему почудилось, что он услышал родной и близкий голос: «Арсланджан, все ли в порядке у нас дома? Как поживают мама, сестры?»
— Мы все живы и здоровы. А мама и сестры велели вам кланяться, — вслух произнес Арслан.
«Блюдешь ли ты мои заветы?»
— Да, отец.
«Чисты ли твои помыслы и желания?»
— Да.
«Ступай, сынок. И живи так, чтобы тебе не стыдно было глядеть в глаза людям».
— Прощай, отец.
Арслан медленно повернулся и по тропе направился к аллее, проходившей через середину кладбища, ведущей к выходу.
Глава двадцать первая
НАЧАЛО
Ожесточенные бои бушевали далеко на западе, но их отголоски доносились до глубокого тыла страны. На улицах все чаще встречались раненые. Народ к фронтовикам относился с уважением, им часто доверяли ответственные посты…
В один из дней некий молодой человек по фамилии Хашимов появился в отделе кадров завода Ташсельмаш. Одной рукой он опирался на костыль, другой на палку. Конечно же такого человека на тяжелую работу не пошлешь, его назначили заведующим клубом. Хашимов стал часто появляться в цехах, которые в самом начале войны были экстренно переоборудованы и теперь выпускали продукцию для фронта. Он беседовал с рабочими, проводил, как он выражался, культурно-просветительную работу. Человек он, по всему, был общительный, свойский, и в скором времени во всех цехах у него появились друзья-приятели.
Рабочий день близился к концу, Арслан уже работал из последних сил. Лопата выскальзывала из занемевших от усталости рук, голова раскалывалась от гула. Цех был наполнен синим чадом, и фигуры людей в нем еле различались. Арслан не сразу заметил подошедшего к нему Самандарова. Тот протянул руку, Арслан долго вглядывался, пока узнал его. Самандаров был в замасленной спецовке, будто только что отошел от своего рабочего места. Он пригласил Арслана покурить. Вышли во двор. Здесь было тихо. Арслан почувствовал, что встреча их неспроста, Самандаров собирался говорить о серьезном.
Так и было. После некоторого молчания Самандаров спросил:
— Вы знаете завклубом Хашимова? Он из махалли Каллахона…
Арслан усмехнулся. Помедлив, сказал:
— Знаю. Только, признаться, не помню фамилии. Прежде мы его звали просто Баят-бола.
— Хаят Хашимов?
— Да, кажется, Хаят. Мы в одной школе учились. А что?
— Какого мнения вы о нем?
Арслан пожал плечами.
— Кто его знает… Скользкий, по-моему. Весельчак, острослов, а наши ребята почему-то его недолюбливали. Не помню, чтобы с ним кто-нибудь дружил.
— Расскажите все, что вы о нем знаете. Это поручение комиссара. Вряд ли стоит мне говорить вам, что в этом деле не может быть мелочей. Мы располагаем сведениями, которые обязывают приглядеться к нему попристальнее.
Да, это был как раз тот случай, когда нельзя давать ответ не подумав. Папироса в руке Арслана медленно тлела, выпуская синюю спиральку дыма, а он думал. Представил себе, узкие улочки махалли, по которым бегали ватаги мальчишек с деревянными «саблями», просторную спортивную площадку позади школы, под которую отвели бывший огромный особняк Шоабдумавлянбая. Здесь каждый день на большой перемене и после уроков играли в баскетбол и волейбол. А Хаят Хашимов редко принимал участие в шумных играх. Чаще он катался на площадке на своем велосипеде, мешая играющим, которые, не зная, как бы отвадить его, старались, изловчившись, «срезать» мяч так, чтобы попасть в него. Однажды Арслан, угодив Хашимову в плечо, сбил его с велосипеда, и все-таки он продолжал досаждать играющим, разъезжая между ними с самодовольной ухмылкой на лице. Арслан не помнит, чтобы Хаят Хашимов дал кому-нибудь свой велосипед покататься…
Вспомнился Арслану школьный физический кабинет, размещенный в бывшей просторной гостиной бая, стены и изящные колонны которой были облицованы узорчатым ганчем. В застекленных нишах стояли диковинные приборы, вызывавшие у учеников изумление и восторг: эбонитовая палочка, электризующаяся от трения о бумагу, гальванический аппарат, вольтметр и множество других приборов.
Однажды Хаят Хашимов вынул из ниши большой термометр и разбил его, чтобы взять ртуть. Его поступок обсуждался на учкоме, куда был вызван и его отец, бывший халфа Хашим, который то и дело низко кланялся и умолял не выгонять сына из школы. Надо же, из-за ртути разбить термометр!
Одним из самых любимых учителей в школе был преподаватель биологии Муминов.
В один из дней он повесил на стену портрет бородатого человека и сказал ученикам, что это один из самых больших ученых — академик Павлов.
Ребятишки согласились с этим не сразу, потому что до сей поры в их глазах единственным ученым был сам учитель Муминов. Но в последующие дни Муминов столько рассказывал об академике Павлове, что ученики наконец признали его первым ученым, отведя учителю второе место.
Ребятишки любили его не только потому, что он интересно объяснял уроки. Этот учитель проявлял большую заботу о детях из бедных семей, делал все, чтобы они не оставляли учебу. А в ученике восьмого класса Азизе он обнаружил незаурядные способности, оформил его вторым лаборантом и платил ему часть своей зарплаты. Азиз же думал, что ему платит школа.
Родители Азиза жили бедно. В школу он ходил в латаной-перелатаной одежде и босиком. Лишь зимой надевал старые калоши. Неведомо, был ли он когда-нибудь сыт. Несмотря на это, он учился старательно и считался лучшим учеником в школе.
Хаят всякий раз насмехался над Азизом, над его поношенной одеждой, над тем, что его родители едва сводят концы с концами. А однажды, заявив всем: «Азиз украл у меня деньги», выволок его на улицу и крепко побил. Кошелек же с деньгами ребята потом нашли под партой.
Учитель биологии расстроился, не сдержался и закатил Хаяту пощечину, после чего и сам долго не мог прийти в себя. Признался ребятам, что впервые в жизни поднял руку на человека.
Отец Хаята пожаловался директору, и у Муминова были большие неприятности.
Хашим-халфа родился и вырос в махалле Каллахона. Оставшись вдовцом, на склоне лет он женился на пожилой вдове Рисолат-буви, и та переехала в его дом вместе с шестнадцатилетней дочерью Адолатхон. Бедная женщина вскоре поняла, что халфа приютил ее лишь для того, чтобы она за ним ухаживала да пятикратно в день подносила воду для омовения перед молитвой. И совсем занемогла от переживаний, когда стала замечать, что старый муж поглядывает маслеными глазками на дочь ее Адолатхон.
Однажды, когда Рисолат-буви пребывала в кишлаке на тое, Хашим-халфа скользнул под одеяло к сонной девушке и, пустив в ход все свои хитрости, овладел ею. Через какое-то время Адолатхон поняла, что беременна, и чуть было не покончила с собой. Халфа дает «уч талак» — «тройной развод» — ее матери и, совершив положенный обряд, объявляет своей женой Адолатхон.
Жители махалли, прослышав о таком кощунстве, вознамерились убить Хашима-халфу, закидать его камнями, но, ворвавшись в дом, застали только больную Рисолат-буви да беременную Адолатхон. Оказывается, халфа, пронюхав обо всем, своевременно сбежал в Келес, к одному своему дружку, и таким образом спас свою жизнь. Спустя какое-то время, воровски пробравшись в свой дом темной ночью, он увез в Келес и Адолатхон и почти год не показывался на глаза жителям махалли.
Рисолат-буви, не вынеся такого позора, предала свою дочь проклятию и в скором времени умерла от чахотки, так и не увидев внука, которого назвали Хаят. После этого халфа вернулся с новой семьей в свой дом. Махаллинцы теперь отказались от намерения убить его камнями, а просто перестали водиться с ним…
Позже, когда Хаят сделался танцором, за ним закрепилось прозвище Баят-бола, и редко кто называл его потом иначе.
Арслан поведал обо всем этом Самандарову.
— Вы должны найти способ как-то сблизиться с ним. Это важно. Нам нужна ваша помощь.
— Думаю, мне это удастся, — сказал Арслан.
— Нас интересуют его встречи с Зиё-афанди. Но ни у того, ни у другого не должно возникнуть подозрений. Вы должны себя вести так, чтобы они вам полностью доверяли.
— Понятно.
* * *
Дехкане по известным им приметам могут определять, теплой или холодной будет наступающая зима.
Хайитбай-аксакал, возвращаясь из махалли Актепа, завернул в чайхану, где давно уже не бывало тесно от посетителей. И на этот раз сидели здесь несколько человек. Хайитбай-аксакал, взобравшись на сури, стоявшую под навесом, поглядел на небо, подернутое белесоватым пологом, и кивнул на тополя, плотно растущие вдоль арыка.
— Листья опадают с вершин, — значит, зима будет злая, — задумчиво промолвил он, ни к кому не обращаясь. — А сынок мой Абдусаматджан на Северном фронте. Написал, что находится в тех местах, где некогда сражался Александр Невский. В том краю зима еще жестче бывает…
— В том краю уже давно выпал снег, и земля затвердела, как кремень, — сказал Чиранчик-палван.
— От твоих слов стужей веет, палван.
— Бай, аксакал, разве вы не слышали про страны, где бывает ночь, когда у нас день, и зима, когда у нас лето? Как же вы невежественны! А известно ли вам, что Искандер Зулкайнар завоевал государства, которые находятся на обратной стороне земли, под нами? Какие удивительные страны он видел!
— Оббо, какой ты! Знания твои через край переливаются. Не Зулкайнар, а Зулкарнайн, русские его зовут Александром Македонским.
— Мы не знаем, как там и кого зовут русские, мы называем по-своему, — сказал Чиранчик-палван и, легонько подтолкнув локтем Хайитбая-аксакала, заговорщическим шепотом произнес: — Баятджан вернулся с фронта, не навестим ли?
— Кто такой твой Баят?
— Сын Хашима-халфы. Разве не знаете?
— А-а, вон ты про кого! Это он-то на фронте побывал?
— Да. Недавно вернулся.
— Надо же! Не из таких он, кто мог держать винтовку. Ему сподручнее баб изображать.
— Держал, выходит.
— Ранили?
— Кажется…
— Гляди-ка, столько молодцов навеки там осталось, а какой-то зайчонка явился — и грудь колесом… Родственник он тебе, что ли?
— Дальний.
— Что ж, давай зайдем, поприветствуем.
Они проследовали узкой улочкой, сворачивавшей то вправо, то влево, и постучали в одну из калиток. Стучать, правда, было не обязательно, но во дворе могла быть собака. Из дома, опираясь на костыль и палку, вышел Баят в военной форме. Чиранчик-палван заспешил ему навстречу, распростерши объятия.
— С благополучным возвращением, братишка Баятджан! Услышали, что вы возвратились живым из ада, решили навестить. А это Хайитбай-аксакал, вы его помните, наверно…
— Помню, как же. Прошу, входите.
Баят ввел гостей во внутреннюю комнату, усадил за приготовленный дастархан. После традиционной молитвы налили в пиалы чаю. А Баят стал рассказывать, как в страшном бою — земля под ногами горела! — был ранен он в ногу и пять месяцев провалялся в госпитале.
— Немец, проклятый, силен, распотрошил нас, — заметил он как бы между прочим. — Вернулся вот калекой. Но можно ли в такую пору дома сидеть? Уже поступил на работу.
— Силен, говоришь? — выразил чрезвычайное удивление и досаду Хайитбай-аксакал. — Силен, значит?
— Одолеть невозможно. Мы с винтовками сидим в окопах, а он на нас с танками прет. Кого давит, кого в плен берет. Но к среднеазиатским, к мусульманам, немец хорошо относится…
— Епирай-а?![77]
— Да, мы об этом узнали.
Долго они еще сидели, беседуя и опустошая чайник за чайником. Потом Чиранчик-палван, попросив у хозяина позволения уйти, сказал:
— Укаджан, сделай милость, пожалуй в воскресенье к нам, нарын тебе приготовим. Ты вернулся живым из такой битвы, надо обмыть это дело.
Баят задумался.
— Не отказывайся, укаджан!
Баят улыбнулся и дал свое согласие.
Через день в своем загородном доме в Худжапар-хане Чиранчик-палван задал довольно роскошное по тем временам угощеньице, куда созвал наиболее близких дружков-приятелей. Был приглашен и Мусават Кари, а он привел с собой Зиё-афанди, представив его гостям как крупного специалиста по мехам. Кизил Махсум позвал с собой Арслана, и тот не отказался. Теперь-то ему нельзя отказываться. В глубине комнаты на почетном месте восседал Баят-бола. Справа от него сидел Хайитбай-аксакал. Арслан расположился рядом. С виновником торжества он поздоровался за руку. Они виделись иногда на работе, но им никак не удавалось поговорить по душам. Теперь они вспомнили и школьные годы, и учителей, над чем-то смеялись, о чем-то печалились.
— А тебя пока не трогают? — спросил Баят-бола с видом бывалого фронтовика.
— Да, оставили пока в покое.
— Вызывали, значит?
— Вызывали.
Баят-бола наклонился к нему и прошептал:
— Ищи любой способ и увиливай. Даром голову сложишь, не ходи! Вот возьми меня — ходил по щиколотку в крови, вернулся раненым, а что я имею?
Вспомнились Арслану слова Самандарова: «Хаят Хашимов во время боя у Белой Церкви сдался немцам. Через полгода объявился раненым на нашей территории. Документы у него безупречны. Однако установлено, что какое-то время он пребывал в туркестанском легионе. Сейчас выясняется, каким образом он оказался в нашем госпитале…»
Чиранчик-палван, видно, щедро потратился на вечеринку, В дни, когда люди не могли вдоволь наесться даже ржаным хлебом, это угощение можно было назвать ханским. Гости съели по две касы вкусно приготовленного нарына, даже выпили понемногу.
Чувствуя себя в центре внимания, больше всех говорил, конечно, Баят-бола. Все узнали, как сильно он тосковал по родимой земле, и сочувствующе качали головами, вздыхали. Баят-бола разглагольствовал о том, что нет на свете более прекрасной страны, чем их родной Узбекистан, что опротивели ему в чужих краях супы с капустой да картошкой. Потом, горестно качая головой, стал вопрошать, ради чего гибнут в далеких краях, на чужой земле, джигиты из Средней Азии, их сыновья, братья. Они, дескать, заслоняя других, подставляют себя под немецкие пули.
Зиё-афанди сидел, замерев, глядя ему прямо в рот. И едва тот умолк, не выдержав, взволнованно воскликнул:
— Долгой жизни батыру тюрков! — И, едва дотянувшись, хлопнул его по плечу. — Есть у меня отменный колпак из каракуля, дарю вам его! Мы наденем его на вас, когда вы пожалуете в гости в нашу скромную келью на Шайхантауре.
— Мы согласны, — ответствовал Баят-бола с важным видом и поднял пиалу с водкой. — Аксакалы, братья, будем здоровы. Я был, можно считать, мертвым, да аллах меня воскресил. Теперь знаю я настоящую цену жизни. Ею надо дорожить. Да будут благоденствовать узбеки!
— Будь здоров!
— Долгой жизни тебе.
— Баракалла!
Все выпили и поставили свои пиалушки на дастархан.
Чиранчик-палван услужливо подал Зиё-афанди чилим. Тот несколько раз затянулся и, выпустив клубы густого дыма, закашлялся, вытер тыльной стороной руки слезы, и обратился к Мусават Кари:
— Наш богатырь прав, Германия сильна безмерно. Железный поток, не сомневаюсь, дойдет и сюда. Дой-де-е-ет! И муки наши развеются, как вот этот дым чилима…
— Почему этот афанди все время исходит горючими слезами? — вполголоса произнес Хайитбай-аксакал, подтолкнув Мусавата Кари.
— Семья у него осталась в Стамбуле, — сказал Кари захмелевшему соседу, желая отвлечь его внимание и перевести разговор в другое русло.
Баят-бола посмотрел исподлобья на Хайитбая-аксакала, в его глазах промелькнула тревога, и он погрузился в молчание.
Стоит в махалле загореться дому, и стар и млад бегут туда. В такие минуты забывают о своем жилье — о посаженном в тандыр хлебе, о поставленном на очаг котле, о спящем в люльке ребенке, — спешат помочь соседу, спешат отвести от него беду.
А сейчас огромный пожар охватил западный край страны. Можно ли сидеть сложа руки?
Арслан незаметно оглядел сидящих. Они молчали. На лицах было недоумение.
Глава двадцать вторая
КАК НА ФРОНТЕ…
Эркин, ставший в то утро случайным попутчиком Барчин, встретился в правлении колхоза с председателем и, отправившись после этого в поле, сфотографировал рекомендованных им колхозниц. Затем он отыскал в поле Дильбар и Барчин. Ему захотелось сфотографировать их вместе.
— Улыбайтесь, — сказал Эркин, направляя на девушек объектив.
Пока Эркин готовился, подружки разговорились.
— Улыбайтесь! — настаивал Эркин.
— Когда нам было весело, вы чего-то мешкали, — сказала Дильбар.
— Аппарат еще не был готов.
— А теперь нам не хочется смеяться, у нас серьезный разговор.
— Девушки, ну, умоляю вас! Хотя бы надо мной посмейтесь!
Барчин и Дильбар взглянули на Эркина и улыбнулись.
— Ну, молодцы! Ну, еще разочек!
Однако он не оставил девушек и после этого. То одну, то другую он фотографировал за сбором хлопка.
— Это замечательно! Я уж думал: удастся ли когда-нибудь увидеть Барчиной улыбающейся? А тут вот даже сфотографировать удалось. Теперь ваша улыбка всегда будет со мной!.. Вы прелестны, когда улыбаетесь. Я просто очарован вами.
— Прекратите несерьезные разговоры! — сказала Дильбар, строго взглянув на брата.
— Я сказал вполне серьезно.
— Пойдемте, Барчиной, попьем чаю, — предложила Дильбар, испытывая неловкость за брата. — А вы, ака, ступайте к бригадиру, составьте ему компанию за дастарханом. Он очень любит поить чаем корреспондентов…
— Если Барчин не возражает, я охотно попил бы чай вместе с вами.
— Какой же вы навязчивый! — засмеялась Дильбар.
— Эх, Барчин, не было бы моей сестры, пил бы я чай тут, с вами. А как же обычай даже незнакомых прохожих звать к дастархану? Тоже мне сестра! Что ж, ла-а-адно, я пошел!
Барчин и вправду расстроилась.
— Ну, пусть остался бы. Человек сделал доброе дело, а мы вместо благодарности…
— Эркинджан! Эй, Эркинджан, останьтесь! — крикнула Дильбар вслед Эркину.
Но тот, перекинув через плечо фотоаппарат, удалялся размашистым шагом. Сделал вид, что не слышит.
— Обиделся, — засмеялась Дильбар.
— Неловко как-то получилось.
— Что вы, Барчиной, его обиды надолго не хватит. Скоро отойдет и вернется. За ним это водится — немножечко поважничать.
Девушки дошли до конца своих рядков и, закинув фартуки за спину, направились к хирману пить чай.
Через неделю Эркин опять приехал в колхоз на велосипеде. Он отыскал поле, где собирали хлопок. Долго стоял на краю поля, вглядываясь. Наконец увидел Барчин. Сегодня было прохладно, небо затянули тучи, и с утра моросил дождь. Барчин была в старом сереньком платье. Эркин направился к ней. Услышав шаги, Барчин обернулась. Она очень удивилась, увидев Эркина. Не дожидаясь, пока девушка спросит, как он тут оказался, протянул ей один экземпляр свежей газеты:
— Вот… Привез вам…
Под заголовком «Передовые сборщицы», набранным крупными буквами, были напечатаны фотографии Барчин и еще нескольких девушек, а под ними дана коротенькая информация за подписью «Э. Раззаков».
— И заметку сами написали? Да вы на все руки мастер, Эркин-ака!
— Да… вроде бы так, — смущенно проговорил Эркин.
— А где же Дильбархон? Вы же ее тоже фотографировали!
— Редактор снял с номера. Говорит, надо показывать простых тружеников, а не руководителей района.
— Хорошо, что я отношусь к простым труженикам! — засмеялась Барчин. — Сбегать за Дильбархон?
Эркин нахмурился, он все еще был в обиде на сестру.
— Не стоит. Я приехал вас повидать… А этот узелок с провизией мать передала Дильбар. Передайте, пожалуйста, ей.
— Передам из рук в руки.
— До свидания.
Эркин зашагал к меже, где оставил велосипед. Подняв его с травы, сел и помчался в сторону города.
Выпал снег. Укрыл землю белым одеялом. Опустели поля. Собранный хлопок был уложен в огромные, с гору, бунты на хлопкопунктах и накрыт брезентом. Горожане разъехались по домам. А колхозники уже начали готовиться к весне…
У секретаря Хумаюна Саидбекова с наступлением зимы хлопот не стало меньше. Ежедневно из западных областей страны прибывали эвакуированные. Для райкома партии и райисполкома обеспечение эвакуированных семей жильем и питанием стало одной из основных задач. В учреждениях и предприятиях Шахрисябза уже работало немало людей, прибывших из Белоруссии и с Украины. Местные жители делились с ними кровом и своими припасами. Многие пожелали жить в сельской местности, и их поселили в близлежащих от Шахрисябза кишлаках.
Хумаюна Саидбекова известили из Москвы, что среди эвакуированных в Шахрисябз есть семьи командиров партизанских отрядов, действующих в Белоруссии. Секретарь лично навещал их, проявлял всяческую заботу.
В одну из комнат их соседки Айши-биби поселили пожилую женщину Марию Антоновну Богошевич с внучкой. Она прибыла из Черниговской области. Ее муж, зять и дочь — все трое ушли в партизаны.
На каждом заседании бюро секретарь райкома напоминал, что ни на минуту нельзя забывать о святом долге — заботиться об эвакуированных.
Шел снег. Не переставая валил хлопьями. Слабый ветер временами кружил его в хороводе. Зима вырядилась в белое и стала похожей на ту зиму, к которой привыкли новые жители Шахрисябза. Уже легкий морозец заставлял местных жителей прятаться в домах, а гостям приносил радость и усладу. И природа, видно, старалась им облегчить горечь расставания с милым сердцу родимым краем…
…Эркин Раззаков, первоначально работавший в военном комиссариате и сотрудничавший в районной газете, был назначен директором средней школы. Прежний директор ушел на фронт. Барчин в этой же школе вела начальные классы.
Однажды после окончания уроков Эркин подождал ее у выхода из школы и предложил проводить. Барчин не видела в этом ничего предосудительного, тем более что им было по пути. Они не спеша шли рядом. Рыхлый снег поскрипывал под ногами, снежинки, словно белые бабочки, кружились в воздухе. Барчин была в синем пальто с каракулевым воротником и черном цветастом платке, Эркин — в длинной шинели и шапке, на которой осталась отметина от звездочки. Но вскоре снег убелил их обоих и сделал похожими на Деда Мороза и Снегурочку. Эркин шел, размышляя о чем-то. Барчин чувствовала: собирается он что-то сказать, но не может решиться. Барчин заговорила с ним о школе, о новом методе преподавания русского языка в начальных классах, пожаловалась, что не хватает тетрадей и учебников, порой бедным ребятишкам приходится писать на обрывках газет. Потом говорили о делах на фронте, о последних передачах Совинформбюро. Барчин вспомнила брата — о том, как они вместе росли, ходили в школу и как Марат заступался, если ее обижали мальчишки…
Потом шли молча.
— Почему вы молчите? — спросила Барчин и улыбнулась. — Не думала, что вы такой молчун.
— Я вам хотел сказать…
Барчин подождала минуту и рассмеялась, потому что Эркин снова умолк.
— Ну, так говорите же!
Эркин остановился, взял ее руку в свои широкие ладони.
— Барчиной, я… люблю вас!
Барчин машинально отдернула руку, будто обожглась. На ее лице погасла улыбка, она опустила голову.
— Я люблю вас больше своей жизни. Сердце мое заполнено вами. Если не будет вас в нем, оно перестанет биться, — торопливо говорил Эркин, словно боялся, что Барчин его не выслушает до конца, сейчас вот повернется и убежит. — Извините, что я говорю так выспренне, но эти слова мне подсказаны сердцем…
— Не надо… — Барчин собиралась с мыслями. — Не надо, — произнесла она тихо. — Мне странно слышать это от вас… Я вас уважаю, Эркин-ака, как директора школы, как брата моей подруги, как своего друга, наконец. Но очень прошу вас — не говорите мне больше этого… Не сердитесь…
Она отступила на шаг, медленно повернулась и пошла к своему дому.
— Извините, Барчиной, — донесся до нее сдавленный голос Эркина.
В воздухе по-прежнему кружились снежинки. Растаяла вдали фигурка Барчин. А Эркин все стоял, глядя на следы, оставленные на ровном, чистом снегу.
Барчин сидела за столом и при тусклом свете керосиновой лампы писала конспект, готовясь к урокам. Она никак не могла сосредоточиться. Ее тревожило, что от Арслана давно не было писем. «Арсланджан! Если бы ты сейчас был рядом, я бы тебе сказала, что… люблю, люблю тебя. Да, это правда, дорогой мой. Я не забыла, милый, слова, данного тебе…»
Барчин отодвинула тетрадь, в которой писала план уроков на завтра, вырвала листок и начала торопливо строчить письмо.
Рассветало поздно. Барчин выходила из дому, когда было еще совсем темно. Пожалуй, она боялась бы идти пустынной в ранний час улицей, если бы не Каплан, каждый раз провожавший ее до самой школы. Он степенно вышагивал рядом, ни на шаг не отставая. У школы Барчин ласково трепала его за уши и исчезала. А Каплан переходил на другую сторону улицы, — словно чувствовал, что его боятся ребятишки, идущие в школу, — и сидел некоторое время неподвижно, уставившись на дверь, за которой скрылась Барчин. Потом трусцой бежал домой.
Барчин несколько дней не показывалась в учительской. Она испытывала неловкость перед Эркином. Они несколько раз неожиданно встретились в коридоре. Девушка краснела и, пролепетав еле слышно: «Здравствуйте», проходила мимо, низко наклонив голову.
Как-то Эркин Раззакович созвал педсовет. На нем разбирались важные вопросы. Директор сделал небольшой доклад о текущих делах. При этом он ни разу не взглянул на Барчин. Даже когда говорил непосредственно о классе Барчин, избегал ее взгляда. Если же девушка смотрела на него, внимательно слушая, он сбивался, краснел и начинал заикаться. Тогда Барчин открывала учебник по географии и делала вид, что читает.
Но проходили дни, Барчин начала забывать о происшедшем между ними разговоре, и постепенно к ней возвратилось спокойствие.
Однажды вечером домой к ней зашла Дильбар, и они пошли вдвоем в кино.
На обратном пути Дильбар взяла Барчин под руку и намеками дала понять, что знает об «осечке», постигшей брата при объяснении с нею.
— Я говорю ему: «Ака, оставьте мою подругу в покое, она еще и не думает о замужестве!» А он чуть не плача: «Сестра голубушка, скажите ей — если не суждено мне на ней жениться, всю жизнь я буду один!..» Вот так, подруженька! Сам не свой он стал в последнее время. И работу запустил. Только курит и курит целыми днями. И выглядит-то, как будто в нем хворь какая завелась…
Барчин неспешно шла рядом с Дильбар и думала, как бы сказать помягче, чтобы не обидеть подругу. И едва та умолкла, посмотрела на нее ласково и проговорила:
— Подруженька, ты правильно сказала ему, я не помышляю сейчас о замужестве. Ведь брат мой на фронте, а какая свадьба без него…
— Эркин-ака подождет, только пообещайте!
— И все наши родственники в Ташкенте. Мы же уехали, даже двери не заперев. Вот кончится война, вернемся к себе…
Дильбар умолкла. Нетрудно было понять, почему Барчин прямо не говорит, что не люб ей Эркин, — не хочет обидеть подругу. И Дильбар поняла это. Завела разговор совсем о другом.
Сегодня Хумаюн Саидбеков обещал прийти домой пораньше. Хамида-апа приготовила его любимое блюдо — плов — и завернула его, чтобы не остыл. Время близилось к семи, а муж все не возвращался. Хамида-апа принялась штопать протершиеся носки мужа, чтобы занять чем-нибудь себя и не мешать разговорами дочери, готовящейся к урокам.
О стекла окон, шурша, бился сухой снег. Наступили сильные морозы, каких не видывали люди в этих краях. Зима здесь всегда бывала мягкой, а сейчас деревья и земля трещали от мороза, земля покрылась наледью.
На айване послышались тяжелые шаги. В комнату вошел припорошенный снегом Хумаюн-ака.
— От райкома два шага, а вы в сосульку превратились! — сказала Хамида-апа, помогая ему снять пальто.
— Если бы так… Ехали из колхоза, дорога скользкая. Ну и занесло нас. В кювет угодили. И, как нарочно, ни одной машины на дороге. Пришлось мне пешком до города добираться. Послал сейчас отсюда грузовик, чтобы моего водителя вытащил.
Барчин налила в умывальник теплой воды, Хумаюн-ака умылся. Хамида-апа между тем накладывала в блюдо плов, попрекая мужа, что он обещал прийти домой пораньше, а сам едет в колхоз.
Оправдываясь, Хумаюн-ака рассказал, что Центральный Комитет партии Узбекистана принял специальное постановление по животноводству — об увеличении поголовья скота и заготовок кормов, — так как армию надо обеспечивать мясом. Вот и пришлось ему ездить по животноводческим фермам, знакомиться с положением. «Для твоего сына стараемся, чтобы пища у него калорийная была», — сказал он, желая окончательно задобрить жену. И та приветливо улыбнулась, разгадав его «тактический ход».
Уже собирались садиться за стол, как в дверь постучали. В комнату вошел почтальон Мирзамухаммад.
— Вот, только что прибыло, и я сразу же к вам, — сказал он, протянув письмо. И пока Хумаюн-ака разглядывал конверт, потоптался у порога, согревая дыханием красные, озябшие руки.
— Ну, мать, радуйся, письмо от сына! — сказал Хумаюн-ака. И, взяв почтальона под руку, усадил к столу. — Радостную весть принесли вы в дом, можно ли отпустить вас так просто? — засмеялся он.
Мирзамухаммад в своем тоненьком чапане изрядно продрог. Хумаюн-ака достал из ниши припрятанную бутылку.
— По такому случаю можно, — заговорщически подмигнул он Мирзамухаммаду. — К тому же нам с вами погреться не мешает.
Барчин и Хамида-апа тоже сели к столу. Мирзамухаммад, глядя на плов, проглотил слюну, Барчин повыше подняла фитиль в лампе и прочитала вслух письмо от брата. Хумаюн-ака внимательно слушал, слегка склонив голову. Хамида-апа украдкой смахнула слезу.
Потом мужчины чокнулись и выпили за здоровье наших бойцов.
Мирзамухаммад после плова осушил пиалушку чаю и, поблагодарив хозяев, попрощался.
За столом зашел разговор о том, почему фашисты позарились на нашу землю. Хумаюн-ака стал рассказывать, какая богатая у нас страна, сколько в ней еще неосвоенных просторов.
— А как ты думаешь, папа, сейчас есть ненайденные земли? Сегодня у меня ребятишки спросили, а я не знала, что ответить.
— Если говорить о вселенной, дочка, то здесь большие открытия еще только предстоят. Наступит время, когда Колумбы космоса будут открывать все новые и новые острова во вселенной. О дочка, прекрасное то будет время! Не знаю, доживу ли я, но ты, я верю, доживешь…
Заговорили об известных всему миру путешественниках. Барчин с восхищением говорила об испанце Христофоре Колумбе, об итальянце Америго Веспуччи, португальце Васко да Гама. По ее словам, не было более великих первооткрывателей, кроме них, повидавших столько чудесных стран.
Хумаюн-ака слушал дочь, снисходительно улыбаясь. Когда она закончила и перевела дух, он как бы между прочим заметил, что по некоторым сведениям — особенно доказательны исследования Бартольда и Якубовского — о существовании американского материка, о том, что «далее пространства морей есть земля», задолго до Колумба писал Абу Райхан Бируни, а впоследствии о том же говорил Мирзо Улугбек. Хумаюн-ака с возмущением говорил также о том, что буржуазные ученые нередко намеренно замалчивают имена великих философов, астрономов, ученых-медиков, поэтов, творивших на Востоке. Только в советское время засверкали имена таких гениев, как Бируни, Авиценна, Улугбек, Навои, Ал Хорезми, Ал Фараби…
— А знаешь ли ты, что логарифмы высшей математики выведены Ал Фаргани, жившим в нашей Фергане?.. А слышала ли ты что-нибудь об астрономической таблице «Зиджи курагани» Мирзо Улугбека? Когда она была составлена и подробно нанесен на карту небесный свод, еще не было на свете ни Коперника, ни Галилея, ни Ньютона… Вот ты восхищаешься западными путешественниками, а ты можешь мне сказать что-нибудь об Ибн-Баттуте?
— А кто это, папа?
— Величайший путешественник и этнограф!
— Надо же — я ничего о нем не слыхала…
— Он уроженец города Танжера в Марокко. Получил высшее юридическое образование и в тысяча триста двадцать пятом году совершил паломничество в Мекку. Испытав в пути множество трудностей и лишений, он пересек всю Северную Африку и добрался до Египта. Здесь путешественник повернул на юг и, идя вверх по Нилу, дошел до истоков великой реки. Из Египта Ибн-Баттута не поехал прямо в Мекку. Страсть путешественника и любознательность заставили его посетить Палестину, Сирию, Месопотамию. И только после этого он прибыл к цели своего путешествия.
Возвращаясь после поклонения в Танжер, Ибн-Баттута опять же избрал довольно сложный маршрут: из Мекки он подался на восток, через весь Аравийский полуостров. Далее, следуя вдоль берегов Персидского залива, по югу Персии достиг пролива Ормуз. Здесь Ибн-Баттута сел на корабль, шедший на восток и юг — в Занзибар, и только оттуда вернулся наконец домой.
Но жажда познаний не давала Ибн-Баттуте покоя. Ему даже казалось странным, что люди могут жить на одном месте в то время, когда на свете так много чудесных, не увиденных ими стран. Даже перелетные птицы превосходят в этом смысле человека, и это Ибн-Баттута считал несправедливостью аллаха.
Он решил совершить паломничество вторично.
На этот раз поехал прямо в Мекку. Но возвращение растянул на многие годы. Теперь путешественник избрал маршрут на север, через Малую Азию, и дошел до порта Синоп на Черном море. Оттуда на генуэзском корабле переправился в Крым. Пройдя через Крым, Ибн-Баттута направился на восток, и, достигнув устья Волги, пошел вверх по реке до татарской столицы Сарай-Берке. А как раз в это время из Сарай-Берке в Константинополь возвращалась византийская принцесса, Ибн-Баттута присоединился к ее свите. В Константинополе он пробыл совсем недолго — снова направился на восток. Пересек Малую Азию и прибыл в Хиву. Оттуда направился в Бухару, затем в Афганистан. И, следуя по берегу Инда, достиг столицы Индии Дели. Здесь Ибн-Баттута долгое время исполнял обязанности судьи, пока не прибыло туда арабское посольство, направлявшееся в Китай. Ибн-Баттута согласился поехать туда с миссией вместо послов — ему представился удобный случай посетить Китай… Возвращался он опять-таки по другому пути — через Яву, Суматру, Цейлон и другие острова Юго-Восточной Азии. На Мальдивских островах тоже он прожил некоторое время и занимал должность судьи. Высокая образованность позволяла ему везде исполнять дипломатические поручения или занимать судейские должности.
Это второе путешествие Ибн-Баттуты продолжалось двадцать четыре года. Однако дома он опять-таки отдыхал недолго. Вскоре отбыл в Андалузию и Гренаду, бывшие тогда арабскими колониями. Оттуда в тысяча триста пятьдесят втором году направился в Фес…
Слава о путешествиях Ибн-Баттуты достигла ушей султана Марокко, и он поручил опытному путешественнику дипломатическую миссию к властелину Мали в Томбукту. В Мали Ибн-Баттута поехал через Западную Сахару, а обратно вернулся через горы Ахаггар и Атлас.
Возвратившись из этого путешествия в Фес, Ибн-Баттута никуда больше не уезжал, а занялся составлением воспоминаний о своих путешествиях, где он дает подробное описание увиденных им стран, рассказывает об обычаях различных народов…
— Как интересно! Почему же раньше о нем нигде ничего не упоминалось?
Хумаюн Саидбеков усмехнулся. Подумав, сказал:
— До недавнего времени в мире господствовал капитализм. Все это время процветала политика колонизаторства. Империалисты прежде всего обвиняли народы Африки, Азии в отсталости и, внушая, будто делают благодеяния, захватывали их страны. Поэтому они старались предать забвению нашу тысячелетнюю культуру, имена наших ученых, при этом превознося культуру Западной Европы… То же самое сейчас делают фашисты, пошедшие на нас войной. Они внушают своим солдатам, что народы завоеванных ими стран неполноценны и им надлежит стать рабами сверхчеловеков — арийцев. Но немецкие фашисты не первые, кто поставил себе цель мирового господства. Были такие и до них. И, как правило, их планы кончались крахом. Эту коричневую чуму тоже сведем со света…
— Искусство древнего врачевания Авиценны изучается даже современной медициной, — задумчиво заметила Барчин.
— В те времена на Востоке врачевателей, подобных Авиценне, было немало. Их называли табибами. Это были люди, хорошо знающие народную медицину, лекарственные травы, многократно проверившие свои средства на практике. Конечно же нельзя сравнивать врачевание того времени с нашей современной медициной. Однако кое-кто, проводя такую аналогию, преподносит нашим современникам табибство как нечто невежественное и неприглядное… Что и говорить, есть и в настоящее время табибы двоякого рода — те, кто знает «секреты» народной медицины, и те, кто обманывает людей всякого рода заговорами, вымогая у них деньги…
Они беседовали до полуночи. Потом Хумаюн Саидбеков вышел во двор и принес из сарая несколько поленьев дров.
— Ночью будет сильный мороз, — сказал он и подбросил в печку дров.
Перед рассветом Хумаюн-ака разбудил жену и попросил валидол. Он лежал бледный, держась левой рукой за грудь. Хамида-апа дала лекарство, открыла форточку, помахала перед лицом мужа влажным полотенцем. Через несколько минут боль в груди отпустила, и Хумаюн-ака облегченно вздохнул.
— Зря я вчера дров в печку добавил, — сказал он. — Это, видно, от жары…
Как Хамида-апа ни уговаривала мужа не идти на работу, он все-таки ушел, сказав ей, что должно состояться бюро райкома.
Бюро началось в десять. На нем приняли в партию четырех новых членов. Потом был заслушан доклад начальника строительного треста, который вел строительство нового завода за чертой города. Хумаюн-ака считал, что строительство ведется слишком медленно, и хотел разобраться в причинах…
После окончания бюро он вместе с руководителями стройки выехал на объект.
В большом трехэтажном корпусе пять-шесть рабочих устанавливали оконные рамы. Ушанки у них были завязаны под подбородком.
Выйдя из машины, Хумаюн-ака увидел торчавшую из раствора цемента лопату. Бумажные мешки с алебастром и цементом покрыты слоем снега. Строительные материалы в беспорядке. Саидбеков внимательно оглядел все это, попытался вытащить из раствора лопату. Цемент успел затвердеть.
— Скоро из Хилкова прибудут пятьдесят тонн цемента. Его тоже оставите под снегом? — спросил он у начальника строительства.
В этот момент из покосившейся дощатой времянки вышли несколько строителей. Они начали поспешно подбирать с земли лопаты.
— Почему не работаете? — спросил секретарь райкома.
— Холод собачий… Зашли погреться…
— А может, лучше дождаться весенней оттепели? Пусть строительство завода подождет! Пусть фронт подождет, пока мы начнем ему поставлять продукцию! Пусть страна подождет!..
Рабочие стояли потупившись.
Хумаюну-ака, видно, самому было неприятно, что пришлось на этих людей повысить голос. Ничего больше не говоря, он в сердцах схватил лопату и начал заново разводить цемент. Рабочие смущенно потоптались вокруг и тоже взялись за дело. Руководители строительства переглянулись. Им ничего другого не осталось, кроме как тоже взяться за лопаты. Хумаюну-ака сделалось жарко. Он снял пальто.
— Если бы вы по-настоящему работали, вам не пришлось бы греться в этой хибаре! — отчитывал он рабочих, а заодно и руководителей строительства. — Мы должны чувствовать себя как на фронте.
— Хватит вам, товарищ Саидбеков, сами справимся, — сказал один из пожилых рабочих.
Хумаюн-ака улыбнулся и примирительно произнес:
— Ничего. Поработаю немножко. Ведь мы тоже из рабочих… Приятно потрудиться на свежем воздухе…
Вдруг он замер, опершись на лопату, — понял, что лишается сил. Пытался скрыть, что ему плохо, старался дышать медленно и глубоко — это ему не раз помогало. Сейчас бы достать валидол из левого кармана, но он чувствовал: если отпустит лопату, упадет. И все больше и больше клонился набок. Не успей подскочить к нему рабочий, свалился бы наземь. В ту же минуту подбежали начальник строительства и еще несколько человек. Подняли его на руки, внесли в дощатую времянку. Кто-то составил вместе две скамьи, и его уложили на них. Начальник строительства подложил ему под голову свое пальто, велел срочно вызвать врача.
…Но врач Хумаюну Саидбекову уже был не нужен.
— Да… Как на фронте… — произнес пожилой рабочий, вытирая слезы.
Глава двадцать третья
ВРАГИ
Утром Шавкат Нургалиев окликнул Арслана, едва тот вошел в цех.
— С этого дня ты будешь работать заливальщиком, — сказал он. — Распоряжение начальника цеха.
— Хорошо, — согласился Арслан.
Нургалиев вынул пачку «Беломора». До начала смены оставалось несколько минут. Закурили.
— Поступил большой заказ, — сказал Нургалиев, щурясь от едкого дыма. — Будем отливать детали мин и снарядов.
— Наше дело — выполнять что скажут.
— Не просто так ведь нам с тобой броню дали, а для того, чтобы мы на совесть трудились.
— Лучше бы на фронт…
— А ты не расстраивайся, — Нургалиев положил руку Арслану на плечо, — тут тоже нужны люди. Если все уйдут на фронт, кто будет делать для фронта танки, снаряды? Тебе пора, Арслан, заступай!
Арслан кивнул. Быстро переодевшись, подошел к клокочущим вагранкам, выплескивающим пламя. Подтолкнул наполненный кипящим металлом ковш. Казалось, гудели от напряжения цепи, к которым был он подвешен, да где-то под потолком скрежетали на рельсах ролики. Чуть наклонив ковш над формой, Арслан заливал металл, который сердито шипел и разбрасывал искры. Не прошло и получаса, тело его уже лоснилось от пота.
Арслан работал самозабвенно. В таком состоянии человек, может быть, пребывает, если только слушает прекрасную музыку или углубился в чтение интересной книги. Работа Арслана захватывала именно так. Движения его быстры и точны, взгляд сосредоточен. Литейщику иначе нельзя. Малейшая неточность — деталь забракована. Во время работы литейщики не разговаривали. Да и все равно в таком шуме не услышали бы друг друга. Изредка изъяснялись знаками. А больше они старались понимать один другого по взгляду…
Усталость Арслан чувствовал только в те минуты, когда отвлекался от дела: снова слышал шум, а перед глазами искры, искры со всех сторон. Шум постепенно стихал, усталость проходила по мере того, как он вновь включался в работу. Однажды Нургалиев, со стороны любуясь им, сказал: «Вот что значит кровь! Поглядите на него — копия отца!»
В душе Арслан гордился собой. В литейном цехе работать может не каждый, а только тот, у кого отменное здоровье. Не всякий может выдержать это адское пекло да грохот, от которого, кажется, мозги начинают вибрировать. Когда в цехе появлялся новичок, ветераны переглядывались, «Посмотрим, — каков этот — калай[78] или пулат[79]?» — означали их взгляды. И это становилось известно самое большее через три дня. «Калай» не выдерживал больше…
В полдень, возвращаясь из столовой, Арслан встретил Нишана-ака.
— Тебе же была повестка, — сказал старый мастер. — Болезнь, что ли, приключилась какая?
Арслан повторил то, что уже повторял десятки раз. Ему очень хотелось ничего не таить от Нишана-ака, рассказать все как есть, чтобы старый друг его отца не смотрел на него с иронией. Но вынужден скрывать истину даже от матери.
— Ну, братец, — усмехнулся Нишан-ака, — моя сестра вон тоже одна-одинешенька, а у нее обоих сыновей призвали. Давеча из Пензы племяши мои прислали письмо. Миномет изучают. Выходит, сегодня-завтра отправят на фронт. Так что ты, братец, не криви душой.
— Ну, значит, я здесь больше нужен, — потупясь, пробубнил Арслан.
— А другие не нужны? — глянул на него в упор Нишан-ака.
— Вы же знаете, Нишан-ака, я хотел добровольно пойти.
— Знаю.
— Значит, излишни ваши упреки.
Нишан-ака уклончиво отвел взгляд в сторону.
— В махалле поговаривают и другое…
— Что… поговаривают? — насторожился Арслан.
— Говорят, зятек ваш Кизил Махсум сумел кое-кому подсунуть. Говорят также, что ты в близких отношениях с дочерью Хумаюна-домля и они оказывают тебе поддержку. Да мало ли что еще говорят…
— Услышать бы мне это самому! — вспылил Арслан, побагровев. Глаза его сверкнули, будто свет вагранки отразился в них. Он круто повернулся и размашисто зашагал в сторону своего цеха.
— Постой же! — донесся голос Нишана-ака.
Арслан не обернулся.
В один из поздних зимних вечеров, когда Арслан собирался укладываться спать, чтобы подняться опять ни свет ни заря, в дверь постучали, и в комнату вошел Кизил Махсум. Мадина-хола обрадовалась, не зная, куда усадить гостя. Арслан же старался скрыть раздражение, отложив объяснение для более подходящего момента: гость, какой он ни есть, все-таки гость, и закон требует ему оказывать знаки гостеприимства.
Выпив пиалушку чая, Кизил Махсум объяснил причину своего столь позднего визита:
— Днем тебя дома не застанешь, братец. У тебя все работа да работа, ничего другого, кроме работы, и не знаешь. Забыл всех своих друзей-приятелей. Зато друзья тебя не забывают. Завтра вечером приходи к Кари-ака, у него соберется хорошая компания.
Арслан, все-таки не выдержав, бросил:
— Этот Кари-ака устраивает угощение за угощением, а многие детей не могут накормить досыта.
Кизил Махсум насупил свои рыжие брови, посуровел.
— Ты, братец, ешь виноград, а из какого он сада, не спрашивай. Он из уважения к тебе приглашает, а ты…
— Ну ладно, — заставил себя улыбнуться Арслан. — Приду.
— То-то, братец, так-то лучше. Будешь сторониться хороших людей, друзья отвернутся от тебя и останешься один как перст в целом свете. Не так ли, матушка? — обратился Кизил Махсум к Мадине-хола.
Та поспешно закивала:
— Конечно, конечно, милый. Мудрые люди говорят: разговаривая с одним, ума набирайся, а на иного глядя, судьбе своей радуйся.
— С Кари-ака нам нынче не резон терять связь, — сказал Кизил Махсум, поднимаясь с места. — Теперь он хоть и не высокий бугор, а все же начальничек.
Мадина-хола вышла проводить его до калитки.
Мусавату Кари, ходившему прикрыв бритую наголо голову зеленой тюбетейкой, удалось продвинуться: к нему перешли дела председателя махаллинской комиссии. Прежний председатель уехал на фронт. Теперь, что бы в махалле ни предпринималось, Кари был главным советчиком. Той ли у кого, или похороны, а может, кто-то продает дом — Кари руководит всеми этими мероприятиями. Без его посредничества никто из вновь прибывших не может снять комнату в махалле. С первого взгляда он научился определять, кто перед ним стоит — может ли этот человек быть ему полезным. Новый председатель то и дело созывал махаллинцев в чайхану на собрания. Произносил перед ними речи, в которых часто употреблял слова «сосьолизм», «каланилизм» и произносил их на арабский лад — растянуто, точно читал Коран. С помощью краснобайства он многих махаллинцев склонил на свою сторону. Некоторые восхищались его деловитостью, организаторскими способностями, умением для кого-то что-то раздобыть, хотя и знали, что Мусават Кари вряд ли стал бы заниматься бесприбыльным для него делом.
Проходя мимо знакомой маленькой калитки, Арслан подошел к дувалу и, приподнявшись на цыпочки, заглянул во двор. Это был двор Баймата. Он зарос бурьяном и сделался местом обитания одичавших кошек. На айване все еще лежала груда тряпья, в которой спала когда-то маленькая Субхия.
Арслан долго стоял, глядя на двор, и не мог отогнать от себя тягостные мысли. Они не покинули его и когда он перешагнул порог калитки Мусавата Кари. В углу двора, зазвенев цепью, зычно залаяла собака. Та самая, которая когда-то укусила Субхию.
Появился Атамулла. Он поздоровался с Арсланом, проводил его в комнату для гостей. Вокруг большой хонтахты сидели сам хозяин, Кизил Махсум и Баят-бола в гимнастерке, перепоясанной широким ремнем. Мусават Кари поднялся и милостиво пригласил Арслана занять одно из почетных мест.
Арслан поздоровался и сел рядом с хозяином, ближе к двери.
— Прошу обратить внимание к дастархану, — сказал Мусават Кари, указав рукой, и протянул Арслану пиалу с чаем.
Минуты две-три царила неловкая тишина. Видно, Баят-бола что-то рассказывал, а когда вошел Арслан, умолк. Сейчас он сидел, сосредоточенно расщепляя фисташки.
— Глядите-ка, какие холода наступили, — сказал Арслан, чтобы как-то нарушить неловкую тишину.
— Ничего, зима, она тоже нужна. Полютует да пройдет, — сказал Мусават Кари и обратился к Баяту-бола: — А как в тех краях, где вы побывали? Зима небось еще злее?
— Да-а, снегу выше головы, — ответил тот и провел ладонью над макушкой. — Для наших джигитов российская зима смерти подобна. И длится-то больше полугода! Те, кто прибыл из теплых мест, не могут к ней привыкнуть.
— Арсланджан тоже чуть было не оказался в тех краях. Молодец, выкрутился! Сейчас каждый должен думать о том, чтобы сберечь свою жизнь. Зачем ни за что ни про что подставлять лоб немецкой пуле? Ну как, братишка, на заводе дела идут?
— Нормально.
— Ну, ты, пожалуйста, ешь. Ешь. Мы тут перекусили без тебя. Думали, ты еще позже придешь. Твой зять говорит, что ты всякий раз еще и после смены остаешься. Себя не жалеешь, братец, себя не жалеешь…
— Что поделаешь, все так работают, не уклоняться же мне.
— А кто работает-то? Да такие недалекие, как твой Нишан-ака. Работает-работает, а в доме как было пусто, так и сейчас хоть метлой мети. Работать тоже с умом надо, братец.
Мусават Кари по сей день считал Нишана-ака, который в своей жизни не сделал ничего такого, что заставило бы его жить, как говорится, с прикушенным языком, своим первым врагом. После того как Мусават Кари пробился в махаллинские начальники, ему казалось, что все заискивают перед ним. Если кто и недолюбливал его, все же делал вид, что уважает. Только этот упрямец Нишан при любом удобном случае насмехается над ним, вредит его авторитету. Мусават Кари же старался отплатить ему тем, что среди махаллинцев распространял о нем всякие небылицы и этим хотел отвадить от него людей: пусть, дескать, попробует в жизни побарахтаться один. Но после одного инцидента, происшедшего между ними, он стал опасаться, избегать встреч с ним и досаждал ему тайком, незаметно. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь…
Нишан-ака как-то встретился с Мусаватом Кари лицом к лицу на безлюдной улице. Вплотную подступив к нему, сказал грозно:
— Если ты не закроешь свой поганый рот, я намотаю тебе на голову твои кишки, чтобы ты ходил в чалме, как положено ходжам! — и даже сделал вид, что достает из кармана нож.
— Что вы кричите на меня! — еле выговорил, дрожа от страха, Мусават Кари.
— Я не из тех, которые увивались в свое время за «шурайи исламия», поэтому хожу прямо и разговариваю громко. Это ты, нечестивец, должен прятаться по закуткам. Знаешь ли, кто ты есть, Кари? Все кари[80] во все времена были чьими-нибудь блюдолизами и интриганами. Ты и сейчас остался таким…
Мусават Кари не знает, как тогда ноги унес. Даже сейчас ему стало не по себе, когда вспомнил про это.
— Этот Нишан продал душу дьяволу. Разве он узбек? — проговорил, меняясь в лице, Мусават Кари.
Чтобы как-то переменить тему разговора, Арслан обратился к Баяту-бола, спросил его о житье-бытье, о самочувствии.
— Хаятджан близкий нам человек, — сказал Мусават Кари подобревшим голосом. — Их отец был из старых муаллимов-учителей. Многоученый был человек. Мы с ним дружили. А Хаятджан единственный сынок нашего покойного друга, пусть пухом ему будет земля…
— Работаем на одном заводе, а видимся редко, — произнес Баят-бола, как бы упрекнув Арслана.
— Что поделаешь, все мы так заняты…
— Вы, кажется, в литейном?
— Да, перенял отцовскую профессию.
— И что льете?
Арслан замялся, посмотрел по сторонам, как бы выражая беспокойство, и сказал, понизив голос:
— Мины, бомбы…
— Какого калибра?
— Всякие есть.
Баят-бола засмеялся. Его рассмешило, что Арслан, так разоткровенничавшись, вдруг осекся. Он прикинул про себя, что из этого простодушного парня можно кое-что вытянуть. Довольно крякнув, уселся поудобнее, взял пиалу с чаем.
Арслан же поделился «тайной», которая на самом деле никакой тайны из себя не представляла. Все заводы выпускали оружие. Это было известно каждому.
— Ракеты для «катюш» тоже у вас выпускаются?
— Этого не знаю.
— Да, впрочем, какая разница, где они делаются… Ну и навели они страху на немца, — посмеиваясь, проговорил Баят-бола, как бы желая рассеять подозрение, если оно появилось у Арслана, и отпил глоток из пиалы. — Кари-ака, знаете, где я работаю?
— Вы же сказали — на заводе… Если хотите, я вас устрою в продовольственный или в хлебный магазин. Это я могу. Знакомых много. Хлебный магазин — самое жирное местечко. Ну как, а?
— Спасибо, Кари-ака, завод для меня лучше. Правда, я не могу работать в литейном цехе, как Арсланджан, но при заводском клубе кое-что уже организовал. Драмкружок работает, сейчас инструменты приобретаем для оркестра. Инвалиду подходяще…
Мусават Кари и Кизил Махсум в душе никак не могли согласиться с ним, но, чтобы не обидеть, утвердительно кивали, приговаривая: «Конечно, конечно…»
Гости разошлись за полночь, когда их, разморенных едой и выпитым, уже начало клонить ко сну.
…Прошло два дня. Чуть свет Баят-бола постучался в калитку Мусавата Кари. В руках он держал касу с застывшими сливками, купленными только что на базаре.
— Салам, Кари-ака! Не могу завтракать один, составьте компанию, помогите справиться вот с этими сливками, — сказал он удивленно разглядывающему его хозяину.
— Э-э, пожалуйста, укаджан!
Они вошли в комнату. Мусават Кари постелил курпачу в два слоя, придвинул хонтахту и накрыл ее. Заметно было, что он нервничает. Видно, понимал, что не эта пустяковая причина привела в его дом спозаранок гостя.
— Мне нужно с вами поговорить, — сказал Баят-бола.
— Пожалуйста. Только скажу сыну, чтобы чаю…
— Не надо беспокоить сына, принесите уж лучше сами.
Мусават Кари вышел в летнюю кухню, где Пистяхон уже развела огонь. Он подбросил в самовар несколько лучинок и наказал дочери, чтобы кликнула его, как только чай закипит. Вернувшись, сел напротив гостя, скрестив по-турецки ноги.
Баят-бола подался вперед, облокотившись на столик.
— Говорят, куй железо, пока горячо. Надо оповестить мусульман, которым мы с вами можем верить, что в Германии образовано туркестанское правительство. И пусть знают, что это правительство крепко борется за создание туркестано-исламского государства. Но успех в этом святом деле может быть обеспечен только в том случае, если выступит народ. Немцы подходят все ближе и ближе, надо готовить людей. Открыто беседовать небезопасно. Нужно распространять слухи: дескать, заходил кто-то в чайхану и говорил то-то и то-то. Следует позаботиться, чтобы и в других махаллях об этом узнали. Вы, аксакал, возьмите на себя это.
— Будет исполнено.
— Вы здесь влиятельный человек, к вам прислушиваются.
— Я теперь председатель махаллинской комиссии.
— Мне это известно, Кари-ака.
— А когда придет новое правительство, оно не отнесется ко мне соответственно, как к председателю махаллинской комиссии?
— Ха! — усмехнулся Баят-бола. — Напротив. Для будущего правительства вы будете очень ценным человеком.
Мусават Кари помолчал в раздумье, потом с волнением провел по лицу ладонями.
— Аминь!
— Сейчас удобный момент, внимание властей отвлечено фронтом. Мы должны действовать. Пока главное наше оружие — слово.
— Этим оружием мы пользуемся давно. Мы давно не молчим.
— На днях к вам придет джигит. Он был на фронте, после ранения отправлен в тыл. Найдете ему комнату.
— Будет сделано.
— Невысокого роста. Круглолицый. Фамилия Дадашев. Он прекрасный фотограф. Постарайтесь его устроить в какую-нибудь фотографию.
— Будет сделано.
— А что вы думаете о том джигите?
— О каком? Об Арслане?
— Да, о нем.
— Вы же его знаете не хуже меня. Умный парень, любит свой народ. Я Махсумхану верю, как себе, а Махсумхан его зять.
— Что ж, посмотрим, — задумчиво проговорил Баят-бола, хищно сощурившись. И, залпом выпив остатки чая из пиалы, неожиданно поднялся. — До свидания, Кари-ака.
— Посидели бы еще, сейчас завтрак будет готов.
— Некогда. Аллах велик, еще посидим. Придет праздник в нашу махаллю.
Слегка прихрамывая и опираясь на палку, Баят-бола пересек двор и вышел из калитки.
Глава двадцать четвертая
РАСПЛАТА
О кончине Хумаюна Саидбекова через час уже знали в Центральном Комитете компартии Узбекистана.
На второй день по просьбе Хамиды-апа нашли возможность сообщить о случившемся Марату Саидбекову. Позвонили в Москву, оттуда передали телефонограмму на фронт, где сражался капитан Саидбеков.
В газете «Кизил Узбекистон» появился некролог с фотографией Хумаюна Саидбекова…
После ожесточенного боя наши части выбили фашистов из их укреплений и заняли новый рубеж, почти вплотную подступив к реке Угра. Стало известно, что немцы свои усиленные моторизованные части, расположенные в Починке, Ельне, Спас-Деменске, стали сосредоточивать вблизи города Мосальска. С минуты на минуту они могли перейти в наступление…
Батарея, которой командовал капитан Саидбеков, заняла позицию в десяти километрах северо-западнее реки Угра. По приказу командира артиллеристы рубили в лесу ветки и маскировали орудия. Держался такой мороз, что к металлу примерзали руки. Бойцы согревались, лишь работая. Мерзлая земля звенела под лопатами. Ярко светило солнце, снежная белизна слепила глаза.
Капитан Саидбеков осмотрел батарею и остался доволен.
Пожилой подполковник, прибывший из штаба дивизии, отыскал Саидбекова. Они обменялись рукопожатиями.
— Капитан! — сказал подполковник. — Я принес вам тяжелую весть. Но мы с вами люди волевые. Будьте мужественны!
— Что случилось? — глухим голосом спросил Марат Саидбеков, чувствуя, как в груди что-то оборвалось.
— Получена телефонограмма. Умер ваш отец. — Он протянул листок бумаги Марату.
«Капитану Марату Саидбекову.
10 декабря с. г. скоропостижно скончался ваш отец, первый секретарь Шахрисябзского райкома партии Хумаюн Саидбеков. Товарищ Саидбеков был одним из боевых командиров трудового фронта в тылу нашей страны. Его кончина тяжелая утрата для всех нас. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Юсупов».
Марат долго стоял неподвижно, как загипнотизированный.
— Идемте в блиндаж, — сказал подполковник.
Они спустились по ступенькам. Здесь, потрескивая, горела печь. Марат сел на ящик из-под снарядов, расстегнул пуговицы на вороте, который вдруг сделался тесным.
Марат Саидбеков каждый день, каждый час глядел в глаза смерти. Он в беспощадной схватке побеждал ее, делал все, чтобы не пропустить туда, где живут и трудятся люди его страны, чтобы уберечь от ее черного дыхания близких родных, А она прокралась… поразила отца.
Подполковник положил руку на плечо Марату.
— Капитан! Мне пора в штаб. Примите сочувствие и глубокое соболезнование генерала. Он просил передать вам. Тяжелое горе свалилось на вас. Но надо мужественно вынести этот удар судьбы. Сам я из Минска. На моих глазах погибла вся моя семья при бомбежке… Друг мой, будем мстить!
Марат проводил подполковника к машине. «Виллис» покатил в ту сторону, где разгорелась вечерняя заря, окрасив в багровый цвет ниточку облаков над горизонтом. А на окопы, где затаился враг, уже опустилась темень…
Рано утром загремели орудия. Покачнулась земля. Там, где окопался враг, небо разорвали огненные всполохи. Пушки стреляли непрерывно. В течение нескольких часов фашистские укрепления подвергались артиллерийскому обстрелу. И когда из-за горизонта, затянутого черным дымом, всплыло багровое солнце, показались наши «тридцатьчетверки» и ринулись в ту сторону, где вдали, откуда накатывался сплошной гул, все еще вырастали огромные черные деревья взрывов и падали, как подрубленные… Спустя час поступили сведения, что фашисты отступают.
— Настоящая битва еще только начинается! — сказал капитан Марат Саидбеков, вглядываясь в пылавшие вражеские укрепления. — Я повоюю за тебя тоже, отец.

Глава двенадцатая ПРОЩАНИЕ
Соседская девочка, отворив калитку, громко позвала Арслана и, когда он подошел, передала ему сложенную вчетверо бумажку. Пока он разворачивал, она вприпрыжку убежала. «Арслан-ака, если вы сегодня свободны, приходите в Джангах…»[70] Арслан сразу узнал почерк Барчин. Строчки были похожи на пшеничную ниву, ласкаемую набежавшим ветром.
Давно уж они не виделись с Барчин. Чуть свет он отправлялся на завод, а вернувшись, едва успевал переодеться и поесть, мчался в институт. Живут они в двух шагах друг от друга, а общаются посредством записок. Арслан еще раз прочитал письмо.
«Арслан-ака, если вы сегодня свободны, приходите в Джангах. Папа, мама и я собираемся вечером пойти в этот парк погулять. Я буду ждать вас у фонтана ровно в восемь. Барчин».
У Арслана сегодня отгул. Он собирался пойти на озеро. Но какое уж теперь озеро! Арслан забыл обо всем, что планировал на день. Ему хотелось сейчас же, не теряя ни минуты, бежать в Джангах. Хватило бы терпения дождаться вечера!
Он зашел в дом и попросил Сабохат погладить его чесучовый китель. А сам тотчас отправился в парикмахерскую. Вернулся постриженный, побритый, и комната наполнилась запахом одеколона. Взяв еще не остывший утюг, принялся гладить брюки — этого он никому не доверял. Потом начистил зубным порошком свои брезентовые туфли.
Глядя на него, нетрудно догадаться, куда он собирается. Сабохат знала, что брат время от времени видится с девушкой по имени Барчин, что она дочь Хумаюна Саидбекова, которого все в Ташкенте знают. Да, пожалуй, не только в Ташкенте… Как их семья отнесется к дружбе дочери с простым парнем? Это давно беспокоило ее, но поговорить с братом об этом она не решалась.
Отца этой девушки Сабохат видела несколько раз. Это был худощавый мужчина высокого роста, в очках. Вид у него был строгий, но все в махалле говорят о его приветливости и доброте. Как-то, слышала Сабохат, женщины судачили о том, как ночью, поднявшись с постели, Саидбеков отвез на своей машине соседку в родильный дом. А старушки Разия-буви, Биби Халвайтар и Мазлума-хола любили рассказывать о том, как они сидели однажды на краю дороги, отдыхали, а проезжавший мимо Саидбеков усадил их всех троих в свою машину и отвез в далекое селение на той, куда они боялись опоздать.
В махалле поговаривали, что в доме у Саидбекова бывают известные писатели Гайрати, Айбек, Гафур Гулям, которые тоже некогда жили в махалле дегрезов. И это свидетельствовало о том, что Хумаюн-ака уважаем не только в своей махалле, но и в кругу ученых людей. Это вселяло в сердце Сабохат еще большую тревогу за брата. «Как же он может равняться с такими людьми? — думала она и вздыхала: — Только бы добром все это кончилось!»
Как-то она поделилась своими сомнениями с матерью. Та всплеснула руками:
— Да-да, ты права, доченька. Своя развалюха лучше чужого дворца, это верно. Как бы Арслан беды на свою голову не накликал!..
Барчин надела короткое поплиновое платье без рукавов и белые туфли на высоких каблуках. Мать все еще чем-то была занята, хлопотала по дому, а отец сидел в своем кресле и читал газету, будто вовсе и не было уговора вечером пойти погулять в парк.
— Ну, мама! Папа! Мы же опаздываем! — не выдержала наконец Барчин.
Потом они вышли на улицу. Редко выходили они гулять все вместе, и сейчас у Барчин было праздничное настроение.
Вход в парк был украшен плакатами, аллеи ярко освещены. Все дорожки в этом парке вели к центру, к фонтану. Медленно шли они берегом Анхора, густо заросшим плакучими ивами. Гибкие ветви касались воды. Хамида-апа вспомнила народное поверье: если долго гулять среди плакучих ив, придется в жизни много плакать. Она предложила свернуть на другую аллею.
Хамида-апа гордилась мужем и взрослой дочерью и радовалась редким дням, когда ее Хумаюн-ака возвращался из дальних поездок и они вновь были вместе. В такие дни она испытывала особо острую тоску по своему сыну Маратджану, находящемуся на военной службе далеко-далеко, там, где садится солнце. В тех краях не растут персики, абрикосы и часто идут дожди. Дома собраны из деревянных бревен и крыты черепицей. Солнце там не такое жаркое, как здесь, и не успевают там созревать помидоры. Зато много молока и сливок. Хамида-апа знала обо всем этом из писем Марата. Находились ли они в кино, принимали ли дома гостей, оставалась ли Хамида-апа одна со своими мыслями, она всегда думала о сыне. Вот и сейчас, идя с мужем под руку по многолюдной аллее, она думала о том, что пора уже отправить Марату еще одну посылку с фруктами.
Встречались знакомые, приветливо кланялись. Парни задерживали взгляды на Барчин, она же старалась никого не замечать.
Арслан в это время стоял у живой изгороди, в тени ветвистого платана. Он издали любовался Барчин. Ему очень хотелось пойти ей навстречу, но он не решался.
Они не спеша прошли мимо фонтана, вокруг которого гуляла молодежь. Кто-то сидел на краю мраморного бассейна и играл на рубабе.
Удаляясь, Барчин поминутно оглядывалась, но Арслана так и не увидела. Вдоль аллеи тянулась гирлянда разноцветных лампочек. Неподалеку играл эстрадный оркестр. Они миновали парашютную вышку, с которой прыгали смельчаки, и приблизились к деревянному ажурному мостику, перекинутому через Анхор. Барчин предложила повернуть обратно… И тут она увидела Арслана. Он улыбнулся. Девушка сказала что-то родителям и заспешила к Арслану. Хумаюн-ака внимательно оглядел парня. А Хамида-апа, видно, в этот момент рассказывала мужу, кто этот парень и как Барчин с ним познакомилась.
Барчин и Арслан медленно шли рядом. Оба были так взволнованы, что заранее приготовленные слова, которые они собирались сказать друг другу, у обоих вылетели из головы. Особенно скованно себя чувствовал Арслан, понимавший, что разговор должен начать именно он. Барчин временами поглядывала в его сторону, и он понял, что она ждет от него чего-то умного, интересного.
— Брат пишет? — поинтересовался Арслан.
— Редко. Мама себе места не находит, пока не получает следующего письма.
— Да, есть причины для беспокойства, — заметил Арслан. — На западе сейчас очень беспокойно. У нас на заводе многие рабочие остаются отрабатывать дополнительные часы. И я бы оставался, если бы не занятия в институте…
Барчин шла, опустив голову, ее брови сошлись над переносицей.
— Арслан-ака, как вы думаете, война будет? — спросила Барчин и серьезно посмотрела на него, будто все зависело от ответа, который она сейчас услышит.
Что ответишь? Время тревожное. Газетные страницы полны сообщений о напряженном международном положении, о том, как Гитлер открыл широкую дорогу черным силам фашизма. И на заводе, и в институте Арслан слышал разговоры об этом. Но все это ему было непонятно, и не хотелось верить, что кто-то может замыслить против нас войну.
— Как это страшно — воина… — проговорила тихо Барчин. — Помните, мы с вами смотрели фильм…
Арслан кивнул. Перед его глазами ожили страшные кадры из документального фильма, на которых были засняты пожары, развалины Абиссинии и Испании. Все это несколько лет назад происходило далеко-далеко и будило гнев в сердцах советских людей.
Здесь, в Ташкенте, далеко от западной границы, над которой сгущаются тучи, таящие в себе смертоносный ураган, внешне будто ничего не переменилось, однако жизнь потеряла свою былую стройность, и люди знали, что каждый день, каждый час может случиться нечто страшное.
Но Арслану сейчас не хотелось говорить об этом с Барчин. Наоборот, успокоить бы ее. Хоть она и говорит о том, как о Марате беспокоится ее мать, сама не меньше болеет за него душой. Арслан не раз замечал: когда она начинала говорить о брате, глаза ее наполнялись гордостью и вместе с этим что-то тревожное появлялось в них.
— Давайте говорить о чем-нибудь веселом, — предложил он и, взяв ее под руку, улыбнулся.
— Давайте, — согласилась Барчин. — О чем же?
— О, в сердце у меня много невысказанных слов…
— Говорите же! — воскликнула Барчин и звонко засмеялась.
— Прямо здесь, при свидетелях?
— Разве это такие слова, которые нельзя произнести при людях?
— Именно такие!
— О-о! — удивленно воскликнула Барчин и, хлопнув в ладоши, захохотала. — Тогда давайте подождем более благоприятного момента! А сейчас расскажите мне что-нибудь.
— Наши древние поэты пишут в дастанах, что влюбленные часто говорят о звездах.
— Что ж, давайте поговорим о звездах! Вы астрономию любите?
— Мне всегда кажется, что во мне гибнет великий астроном. Знаете, я еще в детстве пытался разрешить некоторые космические загадки… — засмеялся Арслан.
— Какие же?
— Бегу, бывало, по краю нашего старого сада и смотрю на луну. И она вместе со мной бежит. Остановлюсь — она не двигается. Долго мне пришлось гадать: только ли за мной бегает луна? А если не только за мной, то как она успевает бегать одновременно за всеми?
— Да, сложная у вас была задача, — засмеялась Барчин.
Арслан заговорил о Юпитере. Барчин внимательно слушала. Оказывается, Юпитер — гигант среди планет, объем его в тысячу триста с лишним раз больше земного, и он имеет двенадцать спутников, самый маленький из которых в несколько раз больше Земли.
— Как вы думаете, почему люди, еще не разгадав всех тайн Земли, обратили взоры к небу, взялись за изучение иных планет, звезд? — спросила Барчин.
— Потому что разгадка многих тайн Земли связана с разрешением космических ребусов. И это человек постиг давным-давно. Сама природа заставила его заняться астрономией… В Египте есть древний храм богини Хатор. На стене его выведены иероглифы, которые гласят: «Сотие великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих…» Сотие — самая яркая из всех звезд. Долго прячется она за горизонтом и лишь перед солнцестоянием впервые появляется на небе. И сразу же начинается разлив Нила. Жрецы не могли допустить, что совпадение трех таких важных явлений природы, как восход самой яркой звезды, разлив Нила и солнцестояние, случайно. Жрецы, видно, были людьми любознательными и задались целью постигнуть эту тайну — вот вам одна из первых причин, заставивших людей заняться астрономией.
— Их, наверно, много, этих причин?
— Конечно. Взять, к примеру, финикийских мореплавателей. В те далекие времена мало кто решался уезжать далеко от родных мест. Карт не существовало, на борту кораблей не было ни компасов, ни часов. Лишь глаза да память были помощниками мореходам. А финикийские моряки давно заметили вращение звездного неба вокруг неподвижной точки. Заметили и то, что эта неподвижная точка — яркая Полярная звезда. Неподвижная звезда служила маяком древним мореплавателям… А сколько сейчас загадок предстоит разгадать астрономам! И, наверное, придет время, когда первый человек полетит в космос.
— Ой, как интересно! Арслан-ака, будет ли такое?
— Непременно.
— И это может произойти еще при нашей жизни?
— Может, и при нашей…
— Как мне хочется дожить до того времени! — восторженно произнесла Барчин.
Если Барчин говорила о чем-то с увлечением, лицо ее становилось румяным, а когда улыбалась, на щеках обозначались ямочки. И в такие минуты Арслан любовался ею.
Они, не разнимая рук, дважды обошли парк, держась крайних аллей, где было не так многолюдно. Здесь было меньше вероятности повстречаться с родителями Барчин, что позволяло им чувствовать себя свободнее. Несмотря на то что навстречу попадалось немало прогуливающихся пар, они никого не замечали, им и дела не было ни до кого, они видели только друг друга. И даже когда они молчали, о многом говорили их взгляды, улыбки.
— Мы с вами устремились в космос и забыли о земных делах, — сказал Арслан, когда они, дойдя до конца аллеи, повернули обратно. — Не послать ли мне к вам сватов, пока этого не сделал кто другой?
Барчин сразу стала серьезной.
— Я об этом не думала… Рано еще, Арслан-ака. Мы еще так молоды…
— Скажите, что еще не знаете моего характера…
— Характер-то ваш я хорошо знаю, — улыбнулась Барчин. — Я и не заметила, как переняла даже ваши манеры. А мама это отметила…
— Какие же?
— Не скажу. — Барчин улыбнулась и крепко сжала Арслану пальцы. — А почему вы никогда не говорите о своем заводе?
— Просто… вам это будет неинтересно.
— Мне-е? Неинтересно? С чего вы взяли? Мне все интересно, что связано с вами.
Арслан принялся рассказывать о литейном цехе, о вагранках, к которым подойти в первое время не мог, а теперь привык, о товарищах.
— А вы не обо всем рассказали, — заметила Барчин, лукаво улыбнувшись. — Как поживает Валентина?
— Валентина? Какая Валентина? — удивился Арслан. — А-а, Валентина! — вспомнил он и рассмеялся. — Это наша крановщица. А откуда вы ее знаете?
— Слышала, — уклончиво ответила Барчин. — Говорят, она вам очень правится, вы глаз не можете отвести от нее, когда она появляется в цехе…
Благо, что здесь не очень светло и Барчин не заметит, как он покраснел.
— Видишь ли, люди могут нравиться по-разному.
Вспомнилось ему, как он рассказывал одному из своих приятелей об этой девушке. О том, какая она красивая — глаза голубые, как весеннее небо, а косы как колос спелой пшеницы. Кто знает, может, где-то в другом месте он ее не заметил бы, но здесь, в этом грохоте, среди парней, по оголенным телам которых струился пот ручьями, явилась тогда эта девушка, как из сказки. Арслан невольно залюбовался ею. И она, кажется, это заметила, улыбнулась ему. Прежде всего он восхитился смелостью девушки, не испугавшейся горячего цеха. И рассказал об этом несколько дней спустя приятелю. Надо же — об этом уже знает Барчин!
— Ну, так что же вы замолчали? — спросила Барчин. — Правда, у меня нет права упрекать вас…
— Я люблю тебя, Барчин, — выпалил Арслан, отводя от нее взгляд. — Я счастлив, и мир для меня светел лишь оттого, что ты живешь в этом мире. Ты изумительная девушка, Барчин. — От волнения он заметил, что перешел на «ты», и это ей понравилось. — Подобной тебе нет на свете. Моя Барчин… Можно мне думать так — «моя Барчин»?
Она взглянула на него и улыбнулась, глаза ее сверкнули, как звездочки.
— В мире много красивых девушек, но ты самая красивая, самая умная. Ты прекраснее Ширин, прелестнее Лейли! Я боюсь потерять тебя, хочу, чтобы мы никогда не расставались.
Долго шли они молча. Барчин думала об отце. Как отнесется он к тому, что его дочь выйдет за этого парня замуж?.. У них как-то разговор зашел о семье Арслана. Отец сказал тогда, что знал Мирюсуфа-ата. «Это был человек, всю жизнь проработавший на заводе и уважаемый в своем коллективе. Несколько лет он был депутатом городского Совета», — сказал отец. И это Барчин позволяло надеяться, что он не будет против ее дружбы с Арсланом. Но мало ли с кем можно дружить… А вот когда речь зайдет о замужестве…
Арслан предложил посидеть в павильоне «Мороженое». Он усадил Барчин за свободный столик и принес в двух блюдечках фруктового мороженого.
— Ой, как вы мне угодили! — обрадовалась Барчин. — Фруктовое лучше всего утоляет жажду. И вам оно полезно!
— Мне?
— Оно охладит ваш пыл!
Арслан улыбнулся и сказал:
— Пламень моего сердца не могут растопить даже льды Ледовитого океана.
Неподалеку послышался взрыв. В небо взмыли, окрашивая деревья в розовый, голубой, желтый цвета, разноцветные ракеты, рассыпались, словно виноградные гроздья. И не успели они погаснуть, как раздался новый залп, и опять небо озарилось многоцветьем.
— Ешьте поскорее свое мороженое, пока оно не растаяло от вашего пыла, — смеясь, сказала Барчин и взглянула на часы. — Уже начало одиннадцатого. Папа велел мне быть дома не позже одиннадцати.
Они свернули на освещенную аллею и направились к выходу. Домой возвращались пешком. У калитки остановились. Барчин обернулась к нему и подала руку.
— До свиданья, Арслан-ака.
Она стояла так близко, что Арслану казалось, будто он чувствует на лице своем ее дыхание. У Арслана словно остановилось сердце. Взяв Барчин за локти, он привлек ее к себе. Но она быстро освободила руки и исчезла за калиткой.
Арслан шел знакомой томной улицей и что-то насвистывал. Он был необыкновенно счастлив. Послезавтра, в субботу, они опять встретятся с Барчин.
Калитка была заперта. Арслан не стал стучать, чтобы не беспокоить мать и сестру. Ухватился за верх дувала, подтянулся и легко перепрыгнул во двор. На цыпочках подошел к своей постели, разложенной на супе под шелковицей на берегу арыка. Летом Арслан любил спать во дворе. Ночью прохладно, дышится легко. Не то что в доме. Стены так накаляются за день, что вечерняя прохлада не успевает выгнать из комнат духоту. Арслан потихоньку разделся и лег.
Долго не мог уснуть. Низко над крышей горела яркая звезда. Может, это и есть Юпитер, у которого двенадцать спутников? Счастливый отец этот Юпитер — с двенадцатью детьми… Интересно, как далеко простирается Вселенная, где Земля наша — всего-навсего пылинка? И эта пылинка вмещает столько тайн. А жизнь человека — кратковременная вспышка спички, не более. Сколько людей жило до нас! Сколько эпох промелькнуло! Фараоны, Согдийцы, Тимуриды, Шейбаниды, Бабуры… Земля рождает, земля же и забирает. Верно писал Омар Хайям:
Глянь на месящих глину гончаров —
Ни капли смысла в головах глупцов.
Как мнут и бьют они ногами глину…
Опомнитесь! Ведь это прах отцов!
…Проснулся Арслан поздно. Первой его мыслью было: «Завтра увижу Барчин». Вскочив с постели, он встал над арыком, уперев ноги в оба его берега, и стал умываться. Вода была холодной, бодрящей. Он с наслаждением плескал себе в лицо, на грудь, на плечи. На айване показалась Мадина-хола:
— Сынок, восьмой час уже. Не опоздаешь ли на работу?
— Успею! — сказал Арслан и, подпрыгнув, достал с нижней ветки шелковицы свое полотенце.
Из кроны вылетели два скворца. У них там гнездо. Они обычно рано утром начинают петь и будят Арслана в одно и то же время. А сегодня так сладко спалось ему, что он не услышал их трелей.
— Иди скорее, завтракай, а то чай остынет, — позвала мать.
Мать постелила на айване курпачу, развернула дастархан, и они сели завтракать. Сабохат чуть свет вскипятила самовар и ушла на рынок. Чай был крепкий, горячий. Мадине-хола нравилось сидеть напротив сына и ухаживать за ним. Арслан взял ее сморщенную руку в обе ладони и в приливе нежности погладил. Хотел рассказать про вчерашнюю встречу с Барчин, но раздумал… Надо сначала заручиться ее согласием.
Мать удивленно посмотрела на сына. Он в последнее время стал особенно ласковым и добрым. Причину благотворных перемен в сыне Мадина-хола видела в заводе. Потому что Мирюсуф-ата некогда говорил: «Завод оттачивает человека, шлифует его…» Благодаря своему заводу Мирюсуф-ата стал авторитетным не только в своей махалле, весь город его знал. Чтобы обеспечить благоденствие семьи, он трудился не покладая рук. Он был, как говорят старики, человеком рая, а если проще — честным тружеником. И сын, его кровинушка, должно быть, весь в него.
Арслан сидел на курпаче, скрестив ноги. И пиалу-то он держит ну точь-в-точь как отец держал — за донышко. Так пальцы не обжигает. Он любуется чархпалаком, сооруженным на берегу арыка. Немало дней потратил Арслан, пока соорудил этот чархпалак. Течет в арыке вода, толкает лопасти колеса, к которому прикреплены консервные банки. Черпают банки воду и выливают в желобок, черпают — выливают. И течет ручеек, струится к ярким клумбам, разбитым во дворе, к розам, а потом уж дальше, в сад, разросшийся с другой стороны дома. Над крышей нависла густая крона огромной урючины. Хороший урюк уродился в этом году! И персики хорошие, и слива. Благодаря воде, которую без устали черпает чархпалак из арыка.
Двор чистый и ровный, как ладонь. Его каждый день подметает Сабохат, поливает. Говорят же, чем чаще убирает двор девушка, тем ярче расцветает ее красота. Пышно цветут на берегу арыка розы. Подло них разрослись и благоухают базилик и жамбил. По ним вьются тоненькие стебли портулака с красными, желтыми, голубыми цветами.
Арслан уже позавтракал, а все еще сидел на курпаче и любовался двориком. Здесь он вырос. Каждая щербинка, всякий уступ в стене, по которым когда-то взбирался на крышу, знакомы ему. Все здесь родное и близкое.
Говорят, двор — маленькая родина. Наверно, поэтому у узбеков во дворе часто бывает даже чище, чем в доме.
Арслан вытер губы салфеткой и еще раз погладил руку матери в знак благодарности. Так всегда поступал отец. Быстро встал и направился к калитке.
— Сынок, если много народу в трамвае, не висни на подножке! — крикнула вслед ему мать.
Он с улыбкой кивнул.
Мать сидела неподвижно, прислушиваясь к его шагам. Вот он прошел по улице подле дувала… По этой самой дорожке тридцать с лишним лет хаживал его отец, Мирюсуф-ата. И Мадина-хола так же прислушивалась к его неторопливым, тяжелым шагам, сидя на этом же месте.
Арслан прибыл на завод как раз вовремя. Он надел спецовку, подошел к начальнику цеха Матвееву, стоявшему у второй вагранки. Обменялись крепким рукопожатием. Матвеев спросил, все ли дома в порядке, здорова ли мать. Арслан поблагодарил, сказал, что мать в обиде на старого приятеля Мирюсуфа-ата за то, что он забыл дорогу к их дому. Матвеев пообещал непременно проведать старушку.
Володя в последний раз насыпал песок в раскачивающуюся на весу форму. Он закончил смену. Арслан заступил на его место.
Мастер смены Нургалиев уже ходил между работающими джигитами, среди которых было немало новичков, и давал советы. За Арслана он теперь не беспокоился, этот парень приловчился так, что «старички» могли ему позавидовать. Временами он поглядывал на него издали и видел, как тот работает. Перед обедом Нургалиев подошел к нему и обратился шутливо:
— Эй ты, мелкобуржуазный торговец телпаками, работай честно, как отец!
Арслан тыльной стороной руки смахнул пот со лба, улыбнулся, сверкнув зубами.
— Стараюсь, — сказал он.
Мастер подзадоривающе подмигнул.
— Молодец, Ульмасбаев, обеспечиваешь формами, заливщики тобой довольны. Закурить найдется?
Арслан воткнул лопату в кучу песка и, порывшись в кармане брюк, протянул Нургалиеву пачку «Беломора», не переставая при этом улыбаться.
— Вижу, настроение хорошее, а, Ульмасбаев?
— Хорошее, — в тон ему ответил Арслан и показал большой палец.
Снаружи палит полуденное июньское солнце, а в цехе гудят вагранки от бушующего в их чреве пламени. Мощные вентиляторы, установленные под самым потолком, выгоняют из помещения горячий воздух. Тело Арслана будто вылито из чугуна. И блики пламени отсвечивали на его крутых плечах, на мощной подвижной спине.
Порой ему хотелось, чтобы его увидела за работой Барчин. Она как-то сказала: «Ведь неважно, кого девушка полюбит — доцента или рабочего. Главное, чтобы у него были сильные руки». Если бы Барчин хоть на минутку заглянула в горячий цех, она бы увидела, какие у Арслана сильные руки.
Арслан пришел в Джангах раньше назначенного времени. Сегодня в парке было особенно многолюдно. В субботний вечер сюда пришли прогуляться и молодые, и старые. Мимо проходили девушки в нарядных пестрых платьях, оживленно щебеча. Дедушки и бабушки медленно прогуливались с внучатами. Мелькали иногда в толпе и знакомые лица. Сторож их махалли Ариф привел сегодня в парк свою жену, нацепившую на грудь значок Осоавиахима. Эта женщина была в модных туфлях и златотканой тюбетейке и, видать, замечала, что многие оглядываются на нее, любуясь. Она горделиво держала голову и шла, чуть-чуть выпятив грудь, чтобы получше был виден значок, висящий на цепочке и качающийся, как маятник часов. Арслан не мог удержаться от улыбки, глядя на нее.
И вот наконец увидел Арслан девушку в белом. Пошел ей навстречу.
— Здравствуйте, Арслан-ака, — сказала Барчин с радостной улыбкой.
— Здравствуй. Ты одна? А где же Хамида-апа и отец?
— Папа опять уехал, а маме захотелось побыть дома.
— И она не беспокоится, что тебя может кто-нибудь украсть?
— А я сказала, что иду на встречу с вами. Я ведь теперь не школьница…
— Ты час от часу взрослеешь.
Они рассмеялись и медленно пошли по аллее, взявшись за руки.
— А у вас усталый вид, — заметила Барчин, внимательно поглядев на Арслана.
— Может быть, — согласился он.
Некоторое время они шли молча. Потом Арслан сказал:
— Недавно у нас на заводе был митинг. В тот день, когда в газетах появилось сообщение о зверствах, чинимых молодчиками Франко и Муссолини. Я тоже выступил, предложил работать сверхурочно. Тогда мы сможем раньше срока выполнить государственные заказы. Меня поддержали.
— И теперь, конечно, вы должны быть примером для остальных?!
— Точно. Ты умница, Барчин!
— А можно узнать, какой заказ вы выполняете?
— Плуги, сеялки… Говорят, скоро будем выпускать тракторы и хлопкоуборочные машины. Сейчас строятся новые цеха.
— Как интересно!
Барчин держала ладонь Арслана, разглядывая ее. Арслан улыбнулся.
— И о чем говорят линии моей руки?
Барчин, не сразу сообразив, о чем он спрашивает, рассмеялась.
— О ваших желаниях! Вы никогда ничего не сможете от меня скрыть.
— О своем заветном желании я сказал тебе позавчера.
— А о чем вы говорили позавчера?
— Я так и думал! — обиженно проговорил Арслан и вздохнул. — Ты совсем несерьезно отнеслась к моим словам.
— Значит, они не были столь значительными, — улыбнулась Барчин лукаво. — Иначе разве забыла бы я эти слова? Напомните, о чем это вы говорили?
— Нет, повторять я не стану.
— Ну, скажите, — стала просить Барчин и, ласкаясь, положила голову ему на плечо. — Скажите же, Арслан-ака.
— Память у вас дырявая, все равно все растеряете.
Барчин остановилась и, положив руки ему на плечи, приникла к его груди. Он ощутил подбородком теплую, бархатистую кожу ее щеки, поцеловал ее в висок.
Арслан хотел было вновь сказать, как он ее любит и собирается заслать сватов к ее родителям, но Барчин закрыла ему рот ладошкой.
— Здесь столько народу.
И Арслан только сейчас заметил, что вокруг действительно много народу.
— По-моему, вы все-таки торопитесь, Арслан-ака, — задумчиво проговорила Барчин. — Надо мне хоть первый курс закончить…
— А почему бы нам не торопиться? Ведь это так серьезно… И в конце концов все равно так и будет: ты станешь моей женой, я — твоим мужем.
— Муж? Странное какое слово. Сначала к слову привыкнуть надо. А для меня вы просто Арслан-ака. Муж… Как странно это слышать… Чудной вы человек, Арслан-ака.
— Что во мне ты нашла чудного? Неужто нельзя поговорить со мной серьезно? Я все равно женюсь на тебе! И не смейся! Рабочие люди всегда выражают свои мысли вот так, напрямик! Мы всегда режем правду в глаза! Так было в старину, так и теперь.
— А в старину разве были рабочие?
— Может, они назывались иначе, но кто-то же обжигал горшки, выделывал кетмени, серпы, ковал подковы…
— Помнится, как-то давно я разбила свою любимую маленькую голубую пиалушку. И чуть не заплакала от горя. А папа засмеялся и говорит: «Не огорчайся, дочка, потомки тебе скажут спасибо. Разбивая посуду, ты служишь науке — в толщу земли попадают осколки, по которым в будущем ученые смогут судить о нашем времени». — Барчин тихо засмеялась. — В последнее время я служу науке будущего особенно рьяно. Все валится из рук…
— Я был бы счастлив, если бы ты заготавливала материалы для археологов в моем доме! — мечтательно произнес Арслан.
Вдруг Барчин вздрогнула и, выдернув из руки Арслана свою ладошку, быстро отстранилась. Арслан увидел идущих навстречу Мусавата Кари и Кизил Махсума.
Кизил Махсум прошествовал мимо, сделав вид, что не заметил их, выражая этим свою обиду и неприязнь. Мусават же Кари, увидев, что парень смущен, и желая сконфузить его еще больше, подошел и поздоровался с ним за руку, окидывая при этом масленым взглядом Барчин. Приятель остановился в сторонке и буркнул:
— Ну, идемте, идемте скорее, не время лясы точить с бездельниками!
Подходя к нему, Мусават Кари намеренно громко сказал:
— Ловок проклятущий, ишь подцепил какую!
— В Джангахе много ходит таких… — с важным видом ответствовал Кизил Махсум.
Встреча эта оставила в сердце Арслана и Барчин неприятный осадок, они перестали шутить. Барчин сказала, что ей пора домой. Как только они вышли за ворота парка, Арслан махнул рукой, как бы отгоняя напрочь дурное настроение. Вспомнил пословицу, которую иногда говаривал отец: «Если еда твоя заработана честно, не стесняйся есть ее на улице». Он сказал об этом Барчин. Девушка улыбнулась. Через минуту они снова шутили, смеялись. И только чуть-чуть у него неприятно ныло в груди, как обычно саднит то место, из которого выдергивают занозу…
Проводив Барчин, Арслан вернулся домой. Пришлось опять перелезть через дувал. Он подошел к супе. Постель была приготовлена матерью. Лег. Ветерок доносил пьянящий запах райхона. Сбоку тихо, нагоняя сон, журчал арычок.
Мадина-хола встала рано. Потихоньку, стараясь не разбудить детей, чтобы в выходной день они выспались вволю, она вышла на улицу. Решила сначала сходить в булочную, потом уж развести огонь в очаге. Неподалеку от магазина, около столба, на котором висел большой черный репродуктор, стояла толпа женщин. Вид у них был встревоженный. Они, разинув рты, смотрели на репродуктор, из которого вылетали хрип, писк вперемежку с какими-то словами. Мадина-хола толкнула локтем соседку Рисолатхон: чего ради, мол, собрались?
— Радио не слушаете, — быстро проговорила та. — Война началась!
Война!.. В груди у Мадины-хола будто что-то оборвалось. Забыв, зачем пришла, она заспешила обратно. Влетела во двор и остановилась в растерянности. Сын все еще спал. На его ноги, высунувшиеся из-под одеяла, уже пало солнце. Поколебавшись, она все же приблизилась к нему и тихо коснулась его плеча:
— Эй, Арсланджан, проснись, сынок!
Арслан приподнял с подушки всклокоченную голову:
— Выходной же, мама, я еще посплю, завтракайте без меня.
— Война началась, сынок! Слышишь? Война!..
Арслан резко поднялся, протирая глаза.
— Что? Что вы сказали, мама? — спросил он, не веря своим ушам.
— Вышла на улицу, а там толпа. Молотов, говорят, выступает. Послушай, говорят… Война, сынок, — повторила мать дрожащим от волнения голосом.
Арслан стал поспешно одеваться. Никак не мог попасть ногой в запутавшуюся штанину, и рубашка затрещала, когда надевал. Наскоро умывшись, побежал на улицу. Пробегая мимо чайханы, увидел Кизил Махсума и Мусавата Кари, сидящих на сури, застланном полосатым паласом. Мусават Кари знаком подозвал его.
— Война началась, братишка. Герман пошел войной на Советы. Правительства — они, брат, всегда дерутся. И в старые времена цари с царями дрались. Да-а, лишь бы конец был для нас желанным… — Он молитвенно провел ладонями по бороде.
Кизил Махсуму, по-видимому, не хотелось разговаривать с Арсланом, он сидел, полуотвернувшись от него и устремив взгляд в одну точку. Потом он положил ладонь на круглое колено своему приятелю и сказал:
— Ну, идемте. Нам следует серьезно поговорить, как запастись кое-чем. Цены, думаю, сегодня на базаре уж подскочили…
Встал с сури и пошел не оглядываясь.
— Братишка, и ты позаботься о своей житухе, — сказал Мусават Кари, поднимаясь. — Припаси пудов пять — десять пшеницы. А есть деньги, купи в магазине кое-чего из одежды. Если нет денег, тебе твой Кизил Махсум-ака одолжит. Он отходчив, и сердце у него доброе. Кизил Махсум-ака тебе лишь добра желает. А ты этого не понимаешь, глупец!
Арслан стоял, облокотившись о перильце айвана, и думал.
В чайхану заходили люди, но, вопреки обыкновению, не задерживались. Сегодня и завсегдатаев не видно, которые, изнывая от безделья, сидели тут часами, ища собеседников. Даже они, видно, озабочены. А Арслан не знал, что ему делать. Надо посоветоваться с Нишаном-ака!
Помешкай Арслан еще немного, не застал бы Нишана-ака дома. Он встретил его в ту минуту, когда тот выходил из калитки.
— Ну что, братишка? — спросил Нишан-ака.
— К вам вот…
— Уже знаешь?
Арслан кивнул.
— И что собираешься делать?
— Хотел об этом с вами поговорить.
— Говорить некогда, надо сейчас же идти на завод!
— Сегодня же выходной.
— Выходные кончились, братишка! Какие теперь могут быть выходные? Каждый сейчас спешит на свой завод, пойдем и мы! Сейчас увидишь — там все соберутся.
— Хорошо, я только предупрежу мать.
— Беги предупреди, я подожду тебя на трамвайной остановке.
В воскресенье 22 июня двор завода Сельмаш был переполнен. Арслан издали увидел директора завода, который быстро шел куда-то в сопровождении Матвеевых — отца и сына. Мастер Шавкат Нургалиев стоял в окружении старых дегрезов Хайдара-Чукки, Нуриддина Каноатова, Исраила Исмаилова. Они что-то горячо обсуждали.
Тем временем секретарь партийной организации завода и директор поднялись на возвышение. Люди притихли.
Секретарь коротко пересказал то, что уже было передано по радио, сказал, что для Родины настали тяжелые дни и рабочие должны еще теснее сплотиться. Многим предстоит с оружием в руках отстаивать свободу отчизны на фронте. Но те, кто будет трудиться здесь, пусть знают, что тут тоже фронт — трудовой…
Над толпой появились наскоро написанные плакаты:
«Наш доблестный труд приблизит победу!», «Смерть фашистским захватчикам!»
Директор был краток. Он сказал о конкретных задачах, поставленных перед заводом, призвал рабочих к бдительности, подчеркнув при этом, что война теперь идет не только там, далеко на западе, но повсюду.
Выступили Матвеев-старший и еще несколько рабочих.
После митинга секретарь парторганизации и директор завода уехали в райком, где должны собраться руководители предприятий.
Рабочие разошлись по цехам и до самого вечера работали у своих станков.
Совинформбюро регулярно передавало сообщения о событиях на фронте.
Были объявлены Директивы Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР, согласно им в прифронтовых областях и по всей стране начали мобилизовывать силы для отпора врагу. Основное содержание этих директив было подробно изложено в речи И. В. Сталина, произнесенной им по радио 3 июля 1941 года. 30 июня был создан Государственный Комитет Обороны. Председателем его был назначен И. В. Сталин. В руках Государственного Комитета Обороны была сосредоточена вся полнота власти в стране.
Из газет люди узнали о подвиге отважных защитников Брестской крепости. На устах у людей были имена героев Гастелло, Здоровцева, Талалихина.
Много событий в эти дни произошло и в махалле Дегрезлик.
В военкомате Октябрьского района было многолюдно. Он был заполнен джигитами, отправляющимися на фронт, и их родителями. Сновали курьеры, разносящие повестки. В коридоре выстроилась длинная очередь на медкомиссию.
В августе в город начали прибывать эвакуированные. Переполненные составы везли в Ташкент украинцев, русских, белорусов. Прибывших тотчас устраивали работать на заводы и фабрики. Многие изъявляли желание поехать в колхозы и совхозы. Ташкентцы встречали их как родных братьев и сестер, предоставляли им свои дома. Общее несчастье сблизило всех, породнило.
В середине августа Арслан, вернувшись с работы, увидел на подоконнике записку, в которой Барчин сообщала, что немедленно должна его увидеть, и просила прийти.
Барчин выбежала из дому, едва Арслан отворил калитку. Она была растеряна, веки покраснели, — видно, плакала. Даже забыв пригласить Арслана в дом, сообщила о том, что отца, по решению Центрального Комитета партии Узбекистана, направляют работать в Кашкадарьинскую область. На места молодых руководителей, ушедших на фронт, направляют старых членов партии.
Узнав, что в воскресенье и Барчин с матерью тоже уезжают, Арслан расстроился. Опустил голову, не зная, что сказать. Не мог же он уговаривать Барчин не ехать. А заикаться в такое время о свадьбе язык не поворачивался. Они стояли друг против друга и молчали. Барчин сказала, что как нарочно, и от брата с тех пор, как началась война, не было ни весточки. Они столько наслышались о боях у Брестской крепости, что мама враз постарела, плачет каждый день, места себе не находит.
Они поговорили еще несколько минут. Хотелось сказать Барчин что-нибудь такое, что хоть немножко развеселило бы ее, но не нашел слов. Пообещав, что в воскресенье придет проводить, Арслан ушел.
Все последующие дни он был не в себе. Ни с кем не разговаривал, раздражался по пустякам. Мать с тревогой спрашивала, здоров ли он, жаловалась Сабохат, что с сыном невесть что происходит.
Ночь с субботы на воскресенье Арслан провел без сна. Лежал под шелковицей, глядя на звезды, и думал, что Барчин теперь тоже будет столь же далека от него, как эти звезды. И как все потом обернется? Не забудет ли его Барчин? Впрочем, кто-то из древних поэтов сказал, что расставанье для любви что ветер для костра — большой огонь раздувает, слабый гасит…
Когда Арслан вступил во двор, Хумаюн-ака и Хамида-апа сидели на веранде, угощали чаем какого-то старика и старушку. Увидев его, они оба поднялись с места, поздоровались с ним за руку, познакомили со стариками, своими родственниками. Здесь же, на веранде, стояло несколько чемоданов, поверх которых лежали узлы.
Хумаюн-ака пригласил Арслана к дастархану. Хамида-апа заварила свежий чай. Вид у нее был усталый, глаза запали, и вокруг обозначились темные круги.
— В Кашкадарьинскую область уезжаем, — сказал Хумаюн-ака, протянув Арслану пиалу с чаем. — В Шахрисябз…
— Очень как-то неожиданно… — проговорил Арслан, и по глазам его было видно, как он огорчен этим.
— Да, война спутала все планы, — вздохнув, сказал Хумаюн-ака. — Многие партийные работники ушли на фронт. И вот мы, кто постарше, должны занять их места.
Из дому вышла Барчин. Обрадовалась, увидев Арслана. Села на курпачу рядом с отцом.
— Ой, мама, что же вы плачете? — сказала она, заметив слезы на ее глазах. — Вчера ведь получили письмо от Марата-ака, радоваться надо.
— Чему радоваться-то? Теперь уедем, а письма его плутать будут? — снова всхлипнула Хамида-апа.
— Я уже написала ему наш новый адрес, — сказала Барчин, стараясь придать голосу веселость.
— Неизвестно, когда он получит твое письмо… А все это время будет писать по этому адресу.
— Арслан-ака будет наведываться сюда и, если будут письма, перешлет их нам, правда, Арслан-ака?
— Конечно! — с готовностью ответил Арслан.
Из разговора Арслан понял, что эти старики останутся жить в их доме и присматривать за жильем, двором, но оба они неграмотные и не смогут пересылать писем.
— Проклятый Гитлер, говорят, бросает бомбы даже на детей, — вмешался в разговор старик. — В прежние времена солдаты дрались только с солдатами. Что с людьми стало — не пойму я. Почему они одичали? Как аллах не разгневается на таких?! Был в прошлом, говорят, такой жестокий царь Намруд, который уничтожал людей и все сущее на земле. Но Гитлер превзошел в жестокости и царя Намруда, и Даджола[71]. Он сжигает города, убивает людей, так чем он лучше Даджола?
Пока старик предавался рассуждению, Барчин тихо сказала Арслану:
— Я для вас кое-что приготовила, идемте — покажу.
Она увела его в свою комнату. На столе лежало несколько книг.
— Это вам, — сказала она.
Арслан стал рассматривать книги. Тут были повесть Гафура Гуляма «Озорник», «Накануне» Тургенева, «Дохунда» Садриддина Айни.
— Между страниц одной из них вы найдете платочек и мою фотографию. Это чтобы вы помнили меня…
— Не будет ни одной минуты, когда бы я тебя не помнил.
Барчин сняла с пальца перстенек с маленьким рубином.
— Это мой камень. Он приносит счастье. Дарю его вам.
Арслан стал целовать ее глаза, лоб, волосы. Она стояла, безвольно опустив руки, не уклонялась от него, как прежде. Еле слышно сказала:
— Не забывайте меня, Арслан-ака.
— Ты же знаешь, это невозможно! Береги себя. Знай — я всегда с тобой. Ты поняла?
Барчин кивнула. На глаза навернулись слезы, но она их тотчас смахнула.
Было неудобно долго задерживаться в глубине комнат, и они вышли на веранду.
Смущаясь, Арслан сказал:
— Можно я провожу вас на вокзал?
— Отчего же, если вас не затруднит, — согласился Хумаюн-ака.
— Арслан-ака, если мне что-нибудь понадобится из того, что осталось дома, я напишу вам, а вы пошлете посылку. Хорошо? — сказала Барчин, как бы давая понять остающемуся в их доме старику, что Арслан тоже здесь не чужой.
— С удовольствием, — сказал Арслан.
— Не загадывайте заранее, дети, — улыбнулся Хумаюн-ака. — Ты так уверенно говоришь, дочка, забыв, что завтра его могут вызвать в военкомат. Может, уже и сейчас его дома поджидает повестка. Да и сама ты, не исключено, отправишься на фронт.
— Да, конечно, — подтвердил старик, — слыхивали мы и про такое. Женщины, надев боевые доспехи, садились на коней, когда их земле грозила опасность. Дочь богатыря Ахмада Биби Фатима, закрыв лицо сеткой, сражалась с врагами и одерживала победы. Народ не просто так говорит: «Пусть мор длится хоть сорок лет, а умрет только тот, кому суждено». Да пребудете вы всегда в благополучии и здравии.
Часа в четыре около калитки остановились две машины — легковая и полуторка. Из легковой вышли трое. Хумаюн-ака заспешил к калитке встретить их. Это были сотрудники научно-исследовательского института, где некогда работал Хумаюн-ака. Один из них, веселый такой, фамильярно заговорил с Барчин, потом стал расхаживать по двору, как свой человек. Арслан понял, что он бывал здесь не раз. И Барчин была подчеркнуто любезна с этим молодым человеком. У Арслана испортилось настроение.
Хамида-апа опять заварила чай, принесла сладостей. Гости стали было отказываться от угощения, но старик сказал, что по издревле заведенному обычаю перед тем, как отправиться в путь, полагается посидеть и съесть по куску хлеба. Гости согласились и выпили по пиалушке чаю. Затем старик прочитал молитву, и все поднялись. Взяли чемоданы, узлы, направились к машине.
Хамида-апа, Хумаюн-ака и те двое, что их сопровождали, сели в легковую, а Арслан, Барчин и молодой человек, оказавший ей внимание, взобрались в кузов полуторки. Он был внимательный кавалер, не чета Арслану, — предложил Барчин сесть в кабину. Она не согласилась, лишь поблагодарила его улыбкой.
Знакомый Барчин шутил в дороге, Арслан же не проронил ни слова.
Едва машина остановилась на привокзальной площади, джигит спрыгнул на землю, протянул руки Барчин, предлагая помочь ей сойти. Она отказалась от его услуг. Тогда Арслан в сердцах сунул ему в руки огромный узел, подал чемодан, потом еще один…
До отхода поезда оставалось всего несколько минут. Пассажиры торопливо стали подниматься в вагон. Барчин и Арслан сдержанно обменялись рукопожатием. Они видели, что родители девушки и сотрудники ее отца внимательно наблюдают за ними.
Барчин поспешно прошла в вагон и встала у окна. Потерла мутное стекло ладошкой и, улыбаясь, долго смотрела на Арслана. Улыбалась, а у самой на глазах блестели слезы. Она не собиралась их скрывать, а может, просто не замечала.
Поезд тронулся. Провожающие некоторое время шли за вагоном, махая руками, что-то крича. Арслан стоял на месте как вкопанный. Его толкали, ругали, что встал на дороге. Он не замечал этого. Мысли его неслись вслед за поездом.
— Эй, джигит, вы поедете или решили здесь остаться? — раздался рядом голос молодого сотрудника Хумаюна-ака. — Все ждут вас.
— Благодарю, — сухо ответил Арслан, испытывая жгучую неприязнь к этому человеку. — Я поеду трамваем.
Тот пожал плечами, окинул при этом Арслана насмешливым взглядом и быстро зашагал к выходу в город.
Глава тринадцатая ЗОВ РОДИНЫ
Со дня на день Арслан ждал повестку. Почти всех джигитов его возраста из их махалли уже призвали. Все эти дни Арслан ходил рассеянный, будто потерял что-то. Иногда он замечал на себе скорбный взгляд матери — так обычно смотрят на безнадежно больного. Временами мать украдкой смахивала слезу, — видно, тоже полагала, что не сегодня-завтра ее сын уйдет на войну. Уж лучше сразу призвали бы, чем жить в постоянном ожидании этого дня и видеть неутешное горе матери, сестер. Что и говорить, Арслану тоже было не по себе от мысли, что он скоро должен будет расстаться с родными, и неизвестно, как они тут будут жить без него. Но так, он знал, нужно, и чем скорее это случится, тем лучше: куда меньше мук, если сразу вырывают больной зуб, а не медленно, постепенно.
Потеряв терпение, он решил справиться, почему ему не присылают повестку.
В один из дней Арслан встал раньше, чем обычно. Мать еще только разводила огонь в очаге. Не дожидаясь завтрака, Арслан вышел на улицу, направился на площадь, где находился военкомат. Несмотря на ранний час, на улице было полно людей. А гузар напоминал базарную толчею. В чайхане, которая находилась неподалеку от военкомата, сидели старики и пожилые люди. Они вели неторопливую беседу о том, что и на долю нынешней молодежи выпало трудное испытание, вспоминали, как сами боролись за советскую власть…
Двор военкомата был набит молодежью. На стенах пестрели плакаты. В тени под деревьями сидели на корточках женщины, пожилые и молодые, как видно, прибывшие издалека проводить сыновей, мужей, братьев. Некоторые были с детьми, малыши выглядели не по-детски серьезными, не резвились, не кричали.
Временами хриплый голос произносил по громкоговорителю чью-нибудь фамилию, велел куда-то зайти или просил соблюдать спокойствие и порядок.
Арслан хотел было пройти в дверь военкомата, но его задержали, потребовали повестку. Он начал объяснять, что это и хочет выяснить, почему ему не присылают повестку. Его и слушать не захотели, предложили встать в очередь. Арслан встал в очередь, которая почти не продвигалась. Он прикинул, что поговорить ни с кем не успеет, а только опоздает на работу. Пришлось покинуть двор военкомата и поспешить на трамвайную остановку.
Ему встретилась женщина из их махалли. У нее недавно призвали сына. Арслан с ней поздоровался, но она прошла мимо, не ответив на его приветствие. Не услышала приветствия? Арслан заметил, что с некоторых пор женщины, сыновья которых ушли на фронт, поглядывают на него хмуро. Из всей их махалли только его не трогали да сына Суфи-баккала, старого бакалейщика. Но у сына Суфи-баккала обнаружили, говорят, болезнь. И ныне Суфи-баккал радовался, говоря: «То-то же, несчастье счастьем обернулось!» Но Арслан здоров, и все это знают. Сейчас махаллинцы друг про друга знают все.
А в военкомате, наверно, пока считаются с тем, что умер у него отец и он у матери единственный кормилец. Сабохат от них отделилась недавно. У нее теперь, считай, своя семья. В последнее время Кизил Махсум и его родственники лишили их покоя, что ни день засылали сватов. Арслан предоставил самой Сабохат решать свою судьбу. Кизил Махсум задарил ее подарками. А мать рассудила так: «Если война затянется, настанут еще более тяжелые времена, и лучше, если дочь будет пристроена» — и выдала свою младшую за Кизил Махсума. Большой той играть по нынешним временам было ни к чему, и они ограничились тем, что созвали лишь родственников на плов.
Вернувшись с работы поздно вечером, Арслан застал мать, Сабохат и Махсума-ака понуро сидящими на супе. Вид у них был удрученный. Арслан поздоровался с зятем и сел на краешек супы. Сидящие молчали, будто только что говорили об Арслане, а с его появлением умолкли.
— Что это вы нахохлились, как воробьи в непогоду? — смеясь, спросил Арслан.
Кизил Махсум кивком указал на небольшой листочек бумаги, лежавший на хонтахте. Арслан понял сразу — это была повестка в военкомат.
— Вот, оказывается, в чем дело, — проговорил Арслан. — Наконец-то! А я уж начал было себя чувствовать неловко. Всех призывают, а меня нет, будто я с изъяном каким. Еще неделю не прислали бы вызова, сам бы пошел. Так что не делайте из этого трагедии.
— Утихомирьтесь, братишка, утихомирьтесь, — сказал Кизил Махсум, сделав кислую мину. — Не такое сейчас время, чтобы кидаться словами. Это только дураки могут добровольно бросаться в ад. Герман уничтожает всех. Люди прибывают с тех сторон, ища спасения, зачем же вам, любезный, подставлять сбою голову под бомбы? Нынче надо действовать с умом.
У Арслана готово было сорваться с языка что-то грубое, но ему не хотелось обижать сестру. Да и мать заметила по его лицу, что он старается подавить в себе гнев, вмешалась, поднося к глазам кончик косынки:
— Ты один наша опора теперь. Что я буду делать без тебя?..
— Ладно, не надо плакать, как на похоронах, — спокойно сказал Арслан, стараясь улыбнуться. Взяв сморщенную руку матери, ласково погладил ее. — Ты же не хочешь, чтобы о твоем сыне думали дурное. Сама говорила, что соседка черт знает на что намекает.
— Пусть что хотят думают, что хотят говорят! — со слезами в голосе сказала Мадина-хола. — Я слышала, что тех, у кого старые, нетрудоспособные родители, не будут брать. К тому же ты работаешь на заводе, где и так рабочих не хватает!
— Да, я тоже это слышал, — мрачно проговорил Кизил Махсум. — Будто тем, кто работает на заводе, дают броню. Ты поговори со своим начальством. Если надо, отнеси какой-нибудь подарочек. Мы это быстро организуем…
— Не говорите чепухи! — с раздражением сказал Арслан.
— Может, мне поговорить с Худжахановым? Он человек влиятельный, поможет…
— Вы мне окажете медвежью услугу.
— Напрасно ты так. Деньги — мать и отец всему. Побьем челом и провернем это дело. Худжаханов же свой человек.
— Если тебе взрослые говорят что-то, слушай и соглашайся, — поддержала зятя Мадина-хола.
Арслан сложил вчетверо повестку и положил ее в нагрудный карман, как бы давая понять, что разговор окончен.
— Давайте будем есть, я так проголодался сегодня, — сказал он.
Сабохат быстро встала, направилась в летнюю кухню.
— На работу собираешься сообщить? — спросил Кизил Махсум.
— Зачем сообщать? Зайду попрощаться. У нас каждый день кто-нибудь уходит…
— Не на той люди едут, на смерть.
— Ну, хватит! Судьба у нас у всех общая, и горести и радости общие. Не буду я в трудную минуту прятаться в кусты. Какой же я тогда комсомолец? И что сказал бы, узнав об этом, мой отец, дегрез Мирюсуф? Пусть вот мама скажет, что бы он сказал.
— Отец твой для людей только и жил, потому и умер раньше времени, — тихо промолвила Мадина-хола, скорбно качая головой. — А ты если не о себе, хоть бы о матери подумал.
— Мама, я же не сын какого-нибудь Тухтабая! Это отпрыски бывших богачей только о себе думают. Им наплевать, что станет со страной, только бы себя уберечь. А коммунисты и комсомольцы сейчас там, где труднее всего. Оставьте меня, не сбивайте с толку!
— Он такой, — сказала Мадина-хола. — Такой. Всегда больше всех знает. Своевольный!
Сабохат принесла в большом глиняном блюде машкичири[72], поставила на хонтахту, сходила за ложками и пиалами. Арслан поднялся, желая уклониться от ненужного разговора, а заодно помочь сестре. Он принес исходящий паром самовар, поставил на жестяную подставку, которую вовремя подал зять. Затем, наклонившись над арыком, вымыл руки и сам заварил чай.
После обеда Арслан сказал, что у него срочные дела, и вышел на улицу. Он боялся, что опять возобновится неприятный ему разговор. Постоял минуту за калиткой, раздумывая, куда бы пойти. И вдруг он явственно услышал голос Барчин: «Если будет время, наведайтесь в наш двор. Придет письмо от Марата, перешлите нам его, хорошо?..» Арслан даже вздрогнул и оглянулся, как бы поверив вдруг, что Барчин может оказаться рядом. Но лишь легкий ветерок прошелестел в серой листве. Пошел бы хоть маленький дождик, освежил бы зелень, но здесь почти не бывает в эту пору дождей. Солнце уже скрылось за крышами, и узкие, кривые улочки махалли заполнились синеватой тенью. Тихо кругом. Из соседних дворов изредка доносятся голоса. Кое-кто, разведя в очаге огонь, готовит ужин.
Арслан пересек широкую улицу, отделяющую от их квартала махаллю Хафизкуйи, и, снова вступив в узкий, извилистый переулок, зашагал мимо древних калиток, украшенных стершимися от времени изразцами, мимо глухих, осыпающихся от сырости стен, возведенных в допотопные времена из плоских квадратных кирпичей, мимо балахан, нависающих над улочкой, образуя темный тоннель. И наконец увидел он знакомую ему голубую калитку. Сердце его взволнованно забилось. Казалось, сейчас откроет калитку и увидит Барчин.
Прежде чем постучать в калитку, Арслан огляделся по сторонам и увидел неподалеку двух стариков, сидевших рядышком на продолговатом камне, застланном курпачой. Они, кажется, давно за ним наблюдали. Один из них кашлянул и проговорил степенно:
— Здесь я, сынок!
— Ассалам алейкум! — поздоровался Арслан.
— Ваалейкум ассалам! Пожалуйте сюда, присаживайтесь, — пригласил старик и подвинулся. — Старуха моя ушла к детям в Актепа, а я заскучал, вышел вот побеседовать с Хаджи-ата. Все ли дома у вас благополучно? Здоровы ли все?
— Рахмат, ата, — сказал Арслан, пожав старикам руки.
— Садитесь.
— Благодарю, я только на минуту. Хотел узнать, нет ли от Марата письма. Домля просили наведываться…
Старик улыбнулся. Не домля, а дочь его просила, и старик помнил об этом. Но то, что парень не произнес имени девушки при постороннем человеке, а сослался на отца, старику понравилось. Воздавая про себя хвалу джигиту, он сказал, поднимаясь с места:
— Есть письмо. Утром принесли. Глядите-ка, словно аллах подсказал вам прийти сегодня. Я сейчас вынесу, сынок. А вы пока побеседуйте с Хаджи-ата.
Арслан сел рядом со стариком, и тот сразу начал расспрашивать его о войне, о том, что пишут о ней в газетах. Арслан рассказал о летчике-герое Здоровцеве.
— Вот и мы про это только что говорили. Не одолеть герману нас, нет, не одолеть. Мы родной дом защищаем, а он что потерял на нашей земле?..
Тем временем вернулся старик и подал Арслану треугольник с военным штемпелем.
— Вот взгляните, сынок, — наверно, от нашего племянника?
— От него, — сказал Арслан, поднеся конверт близко к глазам и с трудом разбирая в сгустившихся сумерках написанное. — Жаль, что сейчас почта уже закрыта. А завтра чуть свет я непременно отправлю его в Шахрисябз.
— Пусть будет так, сынок. Родители моего племянника будут целовать это письмо. Да-а, лишь бы пребывал во здравии мой племянник Марат. А ну, раскройте-ка ладони, Хаджи-ата!
Арслан подождал, пока оба старика, держа перед собой ладони, шептали молитву, а когда закончили, встал.
— Ну, до свидания, — сказал он. — До свидания.
— До свидания. Будь здоров, сынок. И приходи, почаще навещай нас, стариков.
Полагая, что зять все еще сидит у них, Арслан не спешил домой. По пути решил зайти к Нишану-ака.
Калитка была незапертой. Рузван-хола сидела на айване и при тусклом свете лампы, накрытой бумажным абажуром, латала мужу брюки. Нишану-ака предстояло идти в первую смену, и он уже спал на широкой деревянной кровати, стоявшей в виноградной беседке. Арслан извинился и хотел было откланяться, но Рузван-хола остановила его:
— Нет, нет, сынок, присаживайтесь, я сейчас разбужу вашего Нишана-ака.
Арслан запротестовал, делая ей знаки и на цыпочках возвращаясь к калитке. Но в эту минуту послышался голос самого Нишана-ака:
— Эй-эй, Арслан, куда ты? Иди сюда!
Арслан смутился и развел руками. Ему пришлось проследовать в беседку.
— А я только прикорнуть успел, — сказал Нишан-ака, спустив с кровати босые ноги и нашаривая ими тапочки.
Рузван-хола заспешила на кухню и захлопотала там, ставя кипятить чай.
— Извините, что побеспокоил…
— Какое там беспокойство! Сытно поел машкичири, вот и сморило меня.
— И у нас сегодня машкичири, — засмеялся Арслан.
— А ташкентцы испокон веку больше всего любят машкичири да машхурду, — в тон ему ответил Нишан-ака, поглаживая усы.
Рузван-апа принесла чайник чаю и пиалки, присела на краешек кровати. Налила в пиалу, перелила обратно в чайник, чтобы получше заварился.
Нишан-ака чувствовал, что Арслан пришел по важному делу, ждал, когда он сам скажет. Обычай не велит у гостя спрашивать, зачем он пришел. Говоря на отвлеченные темы, выпили по пиалке чаю. Нишан-ака время от времени бросал на парня изучающий взгляд. Вспомнились ему слова Мирюсуфа: «Это мой единственный сын, в коем постоянно будет светить моя лампада». И его самого сейчас наполнила нежность к сыну приятеля. Он заерзал, усаживаясь поудобнее, покашлял в кулак. Не любил Нишан-ака поддаваться минутным чувствам.
Арслан вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу.
— Я получил повестку. Вот…
— Сегодня?
— Принесли, когда я был на работе.
— На какое число?
— На завтра.
— Извести своих на заводе. Да-а… — протянул Нишан-ака и вздохнул. — Что поделаешь, братишка, сейчас всем приходит повестки. Будь я помоложе, тоже отправился бы туда, где стонет наша земля. Наш долг — защищать страну от врагов. А этот враг силен, нажимает. Подобно саранче, все пожирает и испепеляет на своем пути. Кто преградит ему путь? Конечно, такие джигиты, как ты. Слышал я недавно выступление товарища Сталина. Он сказал, что мы раздавим врага в его же логове. И я верю — раздавим!
Арслан, не ставя пиалушку на дастархан, сидел, чуть наклонив голову, и слушал Нишана-ака.
— Хороший рысак набирает темп в конце скачек. Вот увидишь, скоро придет время, когда мы перестанем отдавать города…
— Ой, зачем же это парней, которым бы только гулять да цветы девушкам дарить, в самое пекло посылают? — запричитала Рузван-апа. — Разве для них здесь дела нет?
Нишан-ака и Арслан засмеялись.
— Рузван, не встревай, если ничего не понимаешь! Налей-ка лучше горячего чайку.
— Тетушка Рузван думает в точности, как моя мама…
— А что, я неправа? — вскинулась Рузван-хола. — Человек приходит в дом с добром, а ему здесь лекции читают. Неужели если вы партийные, то непременно должны лекции читать? Так кричите, что вены на шее вздулись. Иногда, может, и надо речь произнести, а иной раз надо по-человечески поговорить. От простых слов теплее сердцу-то. С речами у себя на заводе выступайте, а дома говорите по-людски!
— Вай, глупая женщина, что я говорю, а что она! Гляди-ка, Арслан! Жизнь проходит, а понимать-то она все еще ничего не понимает!
— Чего это я не понимаю?
— А того, что я не могу притворяться, как артист. Каков на работе, таков и дома. Что думаю, то и говорю. Арслан это знает, потому и пришел ко мне. Каждое мое слово вот здесь рождается, — Нишан-ака хлопнул себя по груди, — потому и говорю горячо и громко.
— Да, там у вас пламень, как же…
Рузван-хола опустила очки на кончик носа и продолжала шитье. Нишан-ака и Арслан обменялись взглядами, засмеялись. Поговорили о делах на заводе.
Арслан посидел еще немного и откланялся.
— Передайте своей матушке привет от меня! — крикнула тетушка Рузван.
Придя домой, Арслан поспешно разделся и лег. Спать совсем не хотелось. Он задумчиво смотрел в небо. Сквозь крону шелковицы сверкает, как начищенное медное блюдо, полная луна. Издалека доносится хриплый лай собак. В клумбе свиристят цикады. Покой… А где-то грохочут взрывы бомб, гремят пушки, свистят пули, лязгают гусеницы танков. И на все это так же бесстрастно взирает луна. Или там ее лик закрыт черным дымом и гарью?..
«Может, и Барчин сейчас не спится, и она тоже смотрит на луну. Эх, Барчин, Барчин! Вот настал и мой черед, я уезжаю. Но не могу проститься с тобой. Ты не придешь проводить меня на вокзал. И я не сожму твои нежные ладошки. Только спустя несколько дней после моего отъезда ты получишь мое письмо…»
Арслан вскочил, отбросив одеяло. Побежал на айван и зажег лампу, стоявшую на хонтахте. Взял с подоконника чернила, тетрадь. Положил перед собой повестку, письмо Марата и начал писать письмо Барчин. Подумав о том, что его письмо могут про читать Хамида-апа или Хумаюн-ака, он не стал писать слова, рвущиеся из затаенных глубин сердца, и заполнил бумагу сухими общими фразами:
«Уважаемая Барчиной, здравствуйте!
Прошу Вас передать от меня многократный привет Хумаюну-ака и Хамидахон-апа. Как доехали? Все ли здоровы? Понравился ли Шахрисябз?
В Ташкенте все мы пребываем в благополучии.
Вчера я побывал в вашем доме. Пришло письмо от Марата-ака. Спешу его отослать вам. Ата и буви, живущие в вашем доме, также передают вам привет.
Всегда желающий вам благ
21 августа, 1941 г.»
Поразмыслив, Арслан вырвал из тетради еще один листок и написал стихотворение:
Прощай, джаным[73], прощай,
Покидаю я родимый край!
Разлуке не остудить любви,
Цветам не увядать — цвести!
В ночи, и темные и лунные,
Мечтаю я лишь о тебе,
Вижу глаза твои умные.
Помнишь ли ты обо мне?..
Прощай, джаным, прощай!
Я верю в свиданье с тобой.
Вспоминай меня! Иногда вспоминай…
И мне легким покажется бой.
«А что, если это стихотворение попадет в руки Хамиды-апа? — подумал Арслан. — Что ж, она засмеется и передаст Барчин». Арслан вложил письма и стихотворение в конверт и заклеил. Посидев несколько минут неподвижно, он загасил лампу и лег. И долго еще смотрел он на звезды…
Утром Арслан отправился в военкомат. Пока ел, мать сказала, что вечером прибегал Атамулла и сказал, что его отец просил Арслана заглянуть к ним. «Для чего это я понадобился Мусавату Кари?» — гадал Арслан, шагая по улице, еще пустынной в этот ранний час.
Глава четырнадцатая ОТСТУПНИКИ
В одну из пятниц Мусават Кари явился, запыхавшись, с улицы. Дочь его Пистяхон, устроившись на краешке айвана, подводила усьмой брови. Мусават Кари, не успев переступить порог калитки, сразу же спросил:
— Где мать?
— К Лазокат-апа пошла, — ответила дочь, внимательно и немножко удивленно разглядывая отца, который был явно чем-то взволнован.
Мусават Кари машинально бросил под язык щепотку насвая и остановился посреди двора, кусая ноготь на большом пальце. Вид у него был растерянный. Поняв, что случилось или вот-вот должно случиться что-то серьезное, Пистяхон встала и подошла к отцу.
— А в чем дело, папа? — спросила она и, не дождавшись ответа, добавила: — Мама говорила, что после Лазокат-апа пойдут навестить тетушку Биби Халвайтар…
— Беги, сейчас же позови мать! И сразу же принимайтесь за плов. Приберите гостиную. А я схожу к Махсуму-ака, повидать его нужно.
Мусават Кари круто повернулся и через мгновение вновь исчез в калитке. Пистяхон хотела сказать что-то, да не успела, так и осталась с разинутым ртом. Волнение отца передалось и ей. Она некоторое время растерянно озиралась по сторонам, потом вытерла краешком рукава каплю усьмы, стекшую с кончика острых и подвижных, как два кинжала, бровей и заспешила к соседям. Мать ее, Мазлумахон, имевшая обыкновение, отправившись к соседям, просиживать у них часами, по знаку дочери быстро поднялась и зашлепала кавушами, направляясь к калитке. Пистяхон одним духом выпалила ей все, что велел сказать отец.
— А что случилось? — поинтересовалась Мазлумахон, стараясь подавить зевок и прикрывая рукой рот.
— Откуда я знаю! Сказали: «Беги за мамой, готовьте плов!» А сами ушли к Махсуму-ака. Наверно, придут вместе.
— Сохрани аллах, может, обыск какой? Не сказали, чтобы кое-что занесли к соседям?
— Нет, этого не говорили.
— А какое у них настроение было, не заметила?
— Обычное.
— Что значит «обычное»? Говори яснее, они не выглядели бледным?
— Нет.
— Тавба![74] Что же это такое происходит?
— Что может быть? Гости, наверно, придут. Разжечь огонь в очаге?
— Разожги и принимайся за морковь!
Пистяхон вприпрыжку побежала обратно. Мазлумахон вразвалку заспешила за ней.
Приблизительно через час вернулся Мусават Кари в сопровождении Кизил Махсума и еще какого-то человека средних лет. Человек этот был худощав и длинен, как жердь, а голова его приплюснута. Мазлуме-хола он показался похожим на иранца, который год назад, а может и того раньше, ходил из махалли в махаллю и чинил примусы, паял чайники, кастрюли.
Гости поднялись на айван, расселись на приготовленных курпачах, постланных в три слоя. Не успели они завершить короткую молитву, предшествующую серьезной беседе, как в комнате появился Атамулла. Кизил Махсум тут же велел ему сходить за Арсланом.
— На голову бедного джигита беда низверглась, — сказал он, сокрушенно качая головой и глядя вслед Атамулле.
Мазлумахон, привыкшая вести размеренный образ жизни, была недовольна внезапными хлопотами, хотя старалась скрыть это даже от дочери. Она села под навесом летней кухни на колоду, на которой кололи дрова, и сказала дочери:
— Скорее, скорее выполняй, что велел отец…
Пистяхон расстелила перед гостями дастархан, поставила поднос с фруктами, принесла лепешки, заварила чай в большом фарфоровом чайнике.
Мусават Кари поломал лепешки на куски, налил в пиалу чая и первому подал гостю, сидевшему на почетном месте. Обращались к нему Мусават Кари и Кизил Махсум с почтением, называя его Зиё-афанди. Хотя полное имя этого человека было Зиё Шамшир, сын Шохкора, ему нравилось такое обращение. Человеком он, видно, был немногословным, знавшим цену себе и своим словам. Уважение же Мусавата Кари и Кизил Махсума он заслужил тем, что прекрасно разбирался в мехах и при надобности мог раздобыть одному ему ведомыми путями соболиный мех и каракулевые смушки. Временами он употреблял терьяк[75], примешивая его в чай.
Зиё-афанди снимал комнату в Шейхантауре, у одного из племянников Мусавата Кари. Сколько его здесь помнили, он жил совершенно один. По словам самого Зиё-афанди, он прибыл сюда из Турции после первой мировой войны, чтобы повидать своих братьев Джавуда-афанди и Ибрахима-афанди, с давних пор осевших в этих местах. А потом границы закрылись, и он не успел вернуться назад. Его молодая жена и сын якобы остались в Стамбуле, и с тех пор он от них не получил ни одной весточки. Однако в махаллях поговаривали и другое. Мусават Кари и Кизил Махсум слышали от сведущих людей, что братья Зиё-афанди были военными и прибыли сюда с частями Анвар-паши во время интервенции, да угодили в горах Байсуна в руки красных. А сам Зиё-афанди в не столь уж отдаленные времена был заядлым пантюркистом. Позже, памятуя поговорку «язык мой — враг мой», сомкнул уста и позволял себе сказать слово лишь в присутствии особенно доверенных людей.
— Прошу, афанди, угощайтесь, — потчевал Мусават Кари гостя, указывая на дастархан. — Вот за этим коричневым кишмишем я ездил специально в Самарканд. А вот этот черный маиз я привез из Ферганы. Положить наввату вам в чай?
— Благодарю, я предпочитаю горький, покрепче. Он лучше утоляет жажду, — ответствовал Зиё-афанди с заметным турецким акцентом. Скривив в усмешке рот, метнул на хозяина колючий взгляд и проговорил: — Я поздравляю вас с «хаджи-бадалом» — заочным посещением Мекки.
Мусават Кари уловил в его интонации издевку, потупил взгляд, сказал:
— Благодарю.
Чтобы ввести разговор в серьезное русло, Мусават Кари заметил как бы между прочим:
— В тот день имам при всех поддел меня. Кажется мне, он предан властям, низвергающим аллаха. Странно все это.
На лицо Зиё-афанди враз набежала тень.
— Ничего странного, — сказал он. — Кто музыкантам платит деньги, для того они и играют. Разве только теперь вы об этом узнали?
Зиё-афанди достал из кармана маленькую блестящую коробочку-пудреницу величиной с пятак, вынул из нее зернышко терьяка, завернутое в прозрачную желтую бумагу, раскрошил и половину протянул Мусавату Кари. Тот, положив свой терьяк, который тоже только что вынул из кармана, на краешек стола, принял подношение афанди. Некоторое время они сидели молча, сосредоточенно разминая пальцами желто-зеленые крупинки, лежавшие на ладони, боясь уронить хотя бы крошку, потом растворили в чае, налитом лишь на донышко пиалы, и одним духом проглотили зелье. При этом у обоих что-то булькнуло в горле. Кизил Махсум с готовностью налил им еще чаю. Они принялись пожевывать маиз, очищая его от стебельков, изредка запивая горячим крепким чаем.
— Вот сегодня и Минск уплыл из рук, — сказал Зиё-афанди, ни на кого не глядя. — Считай, республика перешла в руки германа.
— А это большой город, афанди? — спросил Мусават Кари.
— Большо-ой! Основная крепость Советов на Западе. Скоро и Киев уплывет от них. Войско германа никакая сила не остановит. Оно все крепости на своем пути превращает в пыль и прах…
— А что будет с нами, со Средней Азией, афанди?
— По-моему, не позже как осенью они возьмут Кавказ. А когда захватят Москву, будет решен вопрос и со Средней Азией.
— А как решится этот вопрос? Как для нас все это обернется? Не худо ли будет?
— Для кого и худо будет, а для кого хорошо, — уклончиво ответил Зиё-афанди. — Во всяком случае, мусульмане получат свободу и самостоятельность. На наших землях вновь расцветет счастье. Я жду этого вот уже двадцать пять лет…
Услышав, как отворилась калитка, Зиё-афанди умолк на полуслове. Пришли Атамулла и Арслан. Поприветствовав присутствующих, Арслан подсел к столику.
Мусават Кари представил обоих гостю:
— Это мой сын Атамулла, а этот джигит мой братишка Арслан. Умный джигит. Но его призывают на войну.
— Саг ол, саг ол, — произнес Зиё-афанди, прощупывая пронизывающим взглядом Арслана и выражая удовольствие от знакомства с ним. — Но что-то не появляется Аббасхон сын Худжахана? В порядке ли их здоровье? Их степенство я премного уважаю, благородный человек.
— Они государственный человек, мой афанди, я тоже их редко вижу. Похоже, ввиду сложившихся обстоятельств у них теперь много дел.
— Говорите, проходите врачебную комиссию, молодой человек? — неожиданно обратился к Арслану Зиё-афанди. — И они находят вас здоровым?
— Здоров, все в порядке, — смутившись, ответил Арслан.
— Это, вы считаете, порядок? — Оценивающий взгляд Зиё-афанди, казалось Арслану, проникал ему вовнутрь: его не покидало ощущение, что этот человек угадывает его мысли раньше, чем он успевает произнести слова.
Мусават Кари и Кизил Махсум внимательно смотрели на Арслана. Судя по его словам, он доволен тем, что призван на фронт. Несколько недоумевая, они переглянулись.
Арслан, стараясь не поддаваться волнению, растущему в нем от гипнотизирующего взгляда собеседника, сидел, опустив голову, положив руки на колени, и думал о том, где он видел этого человека. Он мог сейчас поклясться, что видел его — и не раз. Ах, да, он его встретил как-то на базаре, а потом на гапе у Мусавата Кари. Арслан поднял голову. Зять и хозяин дома смотрели на него со скорбью: «Скоро этот джигит возьмет в руки винтовку и побежит, крича: «За Родину, ура-а-а!» — и, налетев на пулю германа, распластается на земле», — это прочитал он в их взглядах. И как бы в подтверждение его мыслей Зиё-афанди, вздохнув, промолвил:
— Да, дети мусульман становятся жертвами, их кости сгниют в земле России.
— А завод не может тебя оставить, братишка? Говорят, у завода имеется броня, — сказал Мусават Кари.
— Они дети своей страны и должны защищать отечество, — сказал Зиё-афанди с усмешкой, пристально посмотрев на Арслана, потом на Атамуллу. — Не так ли?
Парни переглянулись, промолчали. Зиё-афанди внимательно следил за каждым их движением.
— Да-а, — деланно вздохнул он, — и мой сын сейчас в таком возрасте. Увижусь ли с ним когда, не ведаю…
— У терпения дно золотое, мой афанди, — сказал Мусават Кари. — Долго ждали, теперь мало осталось. Да поможет вам аллах достигнуть желанной цели.
— Пусть исполнятся слова ваши, Кари, — сказал Зиё-афанди и молитвенно провел по лицу ладонями. — Вы изволите думать, что я четверть века ждал сложа руки? Как бы не так! Я боролся! Я двадцать пять лет боролся со скопищем врагов! О, это была титаническая борьба, на которую не каждый способен… — Глаза Зиё-афанди хищно горели, лицо покрылось мертвенной бледностью, губы дрожали. — Я мстил…
— Баракалла, мой афанди! Кровь моего расстрелянного дяди Мунаввара Кари тоже ждет отмщения.
Арслан был ошарашен тем, что услышал. Да в себе ли эти люди, перед которыми он сидит, почтительно наклонив голову, и считает неловким для себя лишнее слово произнести в то время, когда ведут беседу мужчины, убеленные сединой? А они говорят вон о чем, от слов их кровь в жилах стынет. Он незаметно толкнул локтем Атамуллу, тот наклонился.
— Что?
— Будем сидеть и слушать этот бред?
Атамулла пожал плечами. Дождавшись паузы в разговоре аксакалов, обратился к отцу:
— Мы устали сидеть, разрешите нам с Арсланом пройтись?
— Хорошо, прогуляйтесь. Только недолго. Не опаздывайте, плов скоро будет готов.
Атамулла кивнул. Они встали и вышли со двора, плотно закрыв за собой калитку.
От Зиё-афанди не укрылось то, что Арслан был раздражен их беседой. Он вопросительно взглянул на Мусавата Кари, перевел взгляд на Кизил Махсума. Хозяин дома понял, что мог означать этот взгляд, и, успокаивая, сказал:
— Не беспокойтесь, один родной мне сын, другой тоже как сын, рос на наших глазах. Подобные слова он слышал не раз.
— В древности, говорят, ранней весной, когда еще с земли не сошел снег, чабан гнал на поле коров. Святой Хизр, увидев это, удивился: «Эй, чабан, ведь снег еще лежит, куда же ты гонишь стадо?» Чабан на это ответил: «Зима кончилась. Этот снег — умирающий снег». Разгневанный Хизр обратился к аллаху: «Этот человек думает, что он самый умный, так пошли же ему стужу хотя бы на день». Аллах, чтобы не обидеть Хизра, послал на землю холодный ветер и снег, покрыл льдом землю. Стадо погибло. Хизр снова явился пред очи чабана: «Ну, что ты теперь скажешь?» «Зима кончилась, мы это хорошо знали. Но, судя по всему, какой-то склочник побывал у аллаха», — сказал чабан, разжигая костер…
Мусават Кари и Кизил Махсум от души рассмеялись.
— Хвала, хвала! — приговаривал Мусават Кари, трясясь от смеха и от восхищения хлопая ладонью по колену. — Но никто из этих джигитов не является Хизром, ваши опасения напрасны.
— Саг ол, саг ол! — улыбаясь, закивал Зиё-афанди.
К айвану подошла Пистяхон и спросила:
— Можно подавать плов?
— Да, конечно, — закивал Мусават Кари. — Твой брат и Арсланджан вышли пройтись по улице, хорошо было бы, если б ты их позвала.
Пистяхон сказала матери: «Можете накладывать в блюдо», — и выпорхнула в калитку. Посмотрела вокруг, но Атамуллы с Арсланом не увидела. Сбегала на гузар — и здесь их не нашла. Огорченная, вернулась назад, сказала отцу, что поблизости не видать братца с его приятелем. Ее окликнула мать, и она побежала к кухне. Вскоре вернулась, держа в руках большое фарфоровое блюдо с рассыпчатым пловом, каждая рисинка в котором светилась, как янтарь. Мусават Кари поспешно освободил хонтахту от фруктов и прочих сладостей и, взяв из рук дочери блюдо, осторожно поставил посередке.
— Прошу, почтенные, принимайтесь за плов!
Кизил Махсум тоже обратился к Зиё-афанди, чтобы тот первым вкусил угощение:
— Прошу вас, прошу!
Зиё-афанди начал есть деревянной ложкой, а хозяин дома и Кизил Махсум отроду не прибегали к ее помощи, когда приходилось разделываться с таким яством, как плов. Он казался куда вкуснее, если есть его прямо рукой, сгребать пальцами к краю блюда пропитанные жиром рисинки и, взяв на ладонь, отправлять за щеку.
Зиё-афанди попросил чаю. Что и говорить, с пловом чай пьется лучше, чем любой другой напиток.
Приведись кому-нибудь со стороны увидеть трех дружков-приятелей за настоящей трапезой, он бы без труда заметил, что каждый сидящий за хонтахтой старается играть какую-то роль. Зиё-афанди мнил себя интеллигентом, более того — философом. Он любил поучать окружающих, наставлять уму-разуму. И даже собираясь сказать какой-нибудь пустяк, он напряженно хмурил лоб. По улице он обычно ходил в голубых очках, без надобности брал с собой посох, инкрустированный серебром и слоновой костью. Когда же сидел в компании, пальцы его постоянно перебирали янтарные четки. Мусават Кари мечтал о великой мусульманской империи и склонен был думать о себе чуть ли не как о продолжателе дела Амира Тимурленга. Кизил Махсум считал себя мудрейшим стратегом. Нередко, сравнивая себя с полководцами Абомуслимом и Пахлаваном Ахмадом, приходил к выводу, что не уступает им в предвидении многих событий, а во многом даже превосходит их.
На время умолкнув, они углубились в собственные мысли, ибо нельзя предаваться красноречию и чревоугодию одновременно. Пот, выступивший на лбах, стекал на их носы, капал на дастархан.
«Философ», переведя дыхание, заговорил:
— Подобная урагану стремительность войск Германии ввергла в страх и смятение армию Советов. Война скоро завершится. Полгода, самое многое — еще год продлится. Но нам не годится ждать ее исхода, оставаясь пассивными зрителями. Мы должны объяснять людям, что германы воюют не с нами. Наоборот, они хотят дать нам самостоятельность. Вы, наверно, слышали про господина Мустафу?
— Нет, — признался Кизил Махсум.
— Мустафа, сын Чукая, является председателем временной Туркестанской республики. Мы располагаем сведениями, что они также руководят «туркестанским легионом» в Германии и скоро прибудут сюда. Мы должны втолковывать людям, что мусульмане сейчас не должны работать на заводах, ибо в противном случае они будут лить воду на мельницу наших врагов.
— Нам все понятно, афанди. Прошу, афанди, ешьте, пока плов не остыл.
— Надо действовать через умных людей, — продолжал Зиё-афанди, пропустив его слова мимо ушей.
— Пустить под них воду, хотите сказать? — хихикнул Мусават Кари.
— Эх, руки чешутся!
— Что вы, что вы! — испуганно замахал руками Кизил Махсум. — Разве забыли, чем кончили Ибрахим-бек, Шермат-хан и Аман-палван, которые взялись за оружие в двадцатых?
— Наша цель — завоевать сердца людей, — с расстановкой проговорил Зиё-афанди. — Слова — вот наше главное оружие. Есть слова острее кинжала и сильнее пушек. Ищите такие слова… Вы, Кари и Махсум, поактивнее участвуйте во всех делах махалли. Это очень важно. Верховодьте на похоронах, на тоях, завоевывайте симпатии стариков и молодежи, к тем, кому приходится тяжело, проявляйте чуткость и не забывайте, где можно, ввернуть словечко. Слово, сказанное вовремя, эффективнее всяких там бомб-момб. Этим мы поможем и его превосходительству господину Мустафе. Он всецело полагается на таких верных отечеству людей, как мы с вами.
— Такие слова нам очень даже понятны, — сказал Мусават Кари, кивая.
— На будущей неделе прошу вас пожаловать в мой дом, афанди, радость моя от этого вознесется до небес, — заискивающе проговорил Кизил Махсум. — Я закажу приготовить для вас голубцы в виноградных листьях.
— Благодарю вас, — сказал Зиё-афанди, вытирая руки о край дастархана. — Вы, наверно, знали в свое время Вали Каюмхана из махалли Пичокчилик? Так вот, он тоже является значительным человеком при их превосходительстве Мустафе.
— Это сын Каюма Кари. Они уехали, когда сюда пришли большевики. А незадолго до войны он прислал письмо родственникам из Германии, просил выслать документы, подтверждающие его принадлежность к мусульманству.
— Хвала! Все, что вы говорите, правильно, — сказал Зиё-афанди.
До наступления темноты они беседовали, опустошая один чайник за другим. Потом, произнося молитву, поднялись. Зиё-афанди и Кизил Махсум попрощались с хозяином и вышли вместе. Мусават Кари запер за ними калитку.
Вечером, поставив перед Нишаном-ака ужин, Рузван-хола жаловалась на свою знакомую Мазлумахон, которая в последнее время так изменилась, что не узнать ее, — подобно волчице, показывает клыки. Прежде боявшаяся даже произносить имя родичей со стороны мужа, теперь же открыто похвалялась тем, что она не какая-нибудь простолюдинка, а племянница Абдурашид-хана, сына самого Мунаввара Кари.
Присутствовавшие при том разговоре Мадина-хола и Биби Халвайтар, отцы и деды которых были простыми дегрезами, чувствовали себя задетыми за живое, но, не желая вызвать скандала, — ведь на людях скандал с пуговицу может разрастись до размеров верблюда, — старались сохранить благоразумие и лишь улыбались смущенно. А вздорная и легкомысленная Мазлумахон расходилась все больше, потряхивая кудряшками, завитыми на висках, позвякивая жемчужной бахромой огромных золотых сережек. Подведенные глаза ее сверкали от возбуждения. С высокомерием оглядев собеседниц, она сказала:
— Мы не брезговали здороваться за руку даже с простыми рабочими, а некоторые из них в нас же стали бросать камни. — При этом она недружелюбно посмотрела на Рузван-хола. — Обращаясь с простолюдинами, мы, оказывается, забыли, что вошь с ноги переползает и на голову…
Уязвленной Рузван-хола хотелось с гневом бросить ей в лицо: «Вы спесивые купчишки, пихающие себе в рот наш хлеб огромными, как барашек, кусками!..» — но в это время Биби Халвайтар подхватила на руки внука, который сидел возле ее ног на корточках и колол на камне абрикосовые косточки, и не попрощавшись ушла. Рузван-хола и Мадина-хола переглянулись и тоже последовали ее примеру, оставив изумленную Мазлумахон одну посреди улицы.
Нишан-ака усмехнулся, выслушав все это, почесал за ухом.
— Думается мне, разговоры эти имеют под собой подоплеку, — сказал он. — Будем живы, все увидим, хотя в жизни мы и так повидали немало. Видели и Куршермата-курбаши, главаря басмаческой банды, видели кровососов нэпманов, видели Мунаввара Кари и Мустафу Чукаева. Ничего с нами не смогли поделать эти сукины дети. Лишь вводили людей в заблуждение, натравливали брата на брата. Потому и пришлось всем им показать пятки, когда народ прозрел. Ничего удивительного, если и сейчас, в такое тревожное время, появится кто-то, подобный тем. Даже лучше, если он покажет свой лик. Гной выдавим, и наши раны быстро заживут… В благоприятную для нас пору они, уподобясь черепахе, лежат, втянув голову в панцирь, а когда над страной нависает беда, норовят нас ужалить исподтишка…
— Да падет позор на их голову! — сказала Рузван-хола спокойно; внутренне она испытывала огромную радость оттого, что ее суждения сходились с мнением мужа, и ей тоже хотелось сказать в ответ ему что-нибудь умное. — Когда обнаружилось распутство жены кичившегося своим богатством Саидазима-байваччи, он, опозоренный на весь город, ходил с опущенной головой, и в конце концов его семья, как расколовшаяся лодка, пошла ко дну…
— И лодка с этими тоже потонет!
— Ну зачем этим людям строить козни? Наследство отца не поделили, что ли? Ведь блага этого мира никому не суждено унести с собой… Не находят себе места из-за того, что узваки предают забвению все мусульманское и постепенно обращаются в гяуров. Может, это правда, а?
— «Может, не может»! Пропади ты со своим «может, не может»! Разве сама ты не узбечка?
— Алхамдилилло, аллах с тобой, конечно, узвайка!
— Говори — не узвайка, а узбечка! Не длиннополая безрукавка-узвай — времен Алимкулибека, а узбечка времен советской власти! Есть ведь разница, жена!
— Не хуже вас понимаю!
— Ну, так плохо ли тебе живется?
— Почему же плохо, упаси аллах!
— А почему же тебя сомнения берут, употребляешь в своей речи «может, не может»?
— Да разговоры слышу всякие то там, то сям, вот и призадумалась, с вами решила посоветоваться…
— Вот что скажу я тебе, жена. Какой-нибудь теленок, страдающий поносом, не должен испортить все стадо! От имени народа должны говорить мы! А не те вон рабы денег, озабоченные лишь тем, чтобы набить себе брюхо да обрядиться в дорогие одежды! Хотя эти пустобрехи твердят: «Страна… страна… нация-нация», — на уме у них совсем другое. Они готовы продать свою страну, лишь бы разбогатеть, лишь бы опять заставить нас работать на себя на своих заводах. А вот им кукиш! Или их стрела обогнала нашу? Чем мы хуже их? Мы сами хотим быть хозяевами на заводе! Так-то…
— Эй, отец, что вы на меня раскричались?
— Э, гляди-ка, какой я вспыльчивый стал, — сказал Нишан-ака, понизив голос и овладевая собой. — Когда слышу про этих паразитов, у меня такое чувство, будто в одежде насекомые завелись.
— А кто они?
— Откуда мне знать! Знал бы, схватил бы за грудки. Они же в свое время возвели напраслину на моего брата. С тех пор я ощущаю, будто под рубашку мне забралась блоха, беспокоит меня, а я никак не могу найти ее, проклятую. Не могу, и все…
Глава пятнадцатая ДРЕВНИЙ ШАХРИСЯБЗ
В день отъезда из Ташкента и еще раньше, когда только готовились к переезду, среди сумятицы, Барчин еще не успела осознать всей глубины перемен, происшедших в ее жизни. Но едва она оказалась на новом месте, в Шахрисябзе, ею вдруг овладело чувство, будто бы она утратила что-то очень дорогое и важное в жизни. Увидев провинциальный пыльный город, она растерялась, и сердце ее сжалось от боли.
В пути отец успокаивал ее: Шахрисябз-де совсем недалеко от Самарканда, а Самарканд очень интересный город. Но от Самарканда они ехали более двух суток. Поезд часами простаивал и в Кермене, и в Кагане, и Карши, и Гузаре, пропуская военные эшелоны, мчащиеся на запад, составы с танками, пушками, цистернами с нефтью. Их обогнал санитарный поезд. Мать увидела в окно забинтованных молодых солдат, стонущих, мечущихся в бреду, около которых суетились молоденькие девушки-санитарки, стараясь оказать помощь. Один раненый кричал что-то и рвал на себе бинты… Хамидахон-апа сделалось дурно. Когда она очнулась и посмотрела в окно, состава с ранеными уже не было. Она так и не поняла, видела ли его на самом деле, или кошмар этот ей только приснился.
Полдня ехали по степи, желтой, опаленной солнцем. Дул знойный ветер. Отец сказал, что это и есть знаменитая Муборакская степь. Здесь получают редчайший каракуль, которому по красоте и качеству нет равного в мире. Родившихся в этой степи каракульских овец попробовали было пасти на тучных лугах, где растут сочные травы вперемежку с цветами, поить ключевой водой, но красота и качество каракуля резко ухудшились. Именно пышущая зноем степь, едва пробивающиеся из земли ростки трав, жухлая полынь, раскаленные пески и камни, горькая от соли вода, обжигающий ветер и создают это бесценное чудо природы — муборакский каракуль.
На станции Шахрисябз семью Саидбековых встречали. Они поселились в небольшом доме. До райкома отсюда было десять минут ходу.
Улица, на которой располагалось здание райкома партии, в этом городе была главной. По внешнему виду она соответствовала улицам, на которые в Ташкенте можно было набрести лишь на окраине. Она была, конечно, длинной, широкой, и по краям ее росли огромные старые платаны, под окнами домов были палисадники, в которых пестрели всевозможные цветы.
В тот же день отец отправился на службу. Мать принялась наводить в комнатах порядок, а Барчин не хотелось ни к чему притрагиваться. Чтобы как-то развеять тоску, она вышла прогуляться. Шла по улице, удивляясь, как близко здесь горы. Казалось, их зубчатые вершины, подернутые синеватой дымкой, возвышались сразу же за крайними домами. Центр города был многолюден и сравнительно благоустроен. Здесь были магазины, небольшие колхозные ларьки с овощами, рынок, чайхана, парикмахерская и клуб, где по вечерам показывали фильмы.
По улице, мощенной булыжником, сновали машины, обгоняя погромыхивающие арбы с впряженными в них осликами или тощими лошаденками. Степенно, надменно поглядывая на прохожих, вышагивали верблюды, нагруженные огромными мешками с соломой.
Путники, желающие отправиться в сторону Карши, Гузара, Кутчи, Мекрида, Хисорака, толпились в тени у входа на рынок в ожидании попутных машин или арб. А тем, кому нужно в Наматан, Китаб, Кунчикар, Хаджимурат и Бахши, нет смысла часами дожидаться попутного транспорта, они отправляются пешком. Каких-нибудь двадцать — тридцать километров — разве это расстояние?
Возвращаясь домой, Барчин четверть часа простояла, ожидая, пока по улице пройдет огромное стадо, поднявшее тучи пыли, в которой и чабанов-то не было видно, только слышны их окрики.
Барчин увидела огромных собак и метнулась в страхе в сторону. Заметив ее испуг, к ней подошла какая-то женщина, стала объяснять, что этих псов не следует бояться, их полным-полно бродит по городу и они не трогают людей. Но Барчин никак не могла прийти в себя, и женщина, посмеиваясь, проводила ее до дому.
И в последующие дни Барчин все никак не могла привыкнуть к бродячим псам. Едва увидит вдалеке, мчится обратно домой.
По утрам Барчин обычно не заставала отца дома. И с работы он приходил, когда дочь уже спала в своей комнате.
Однажды, лежа в постели, Барчин слышала, как отец жаловался матери, что очень много работы и не с кем даже посоветоваться. С предыдущим секретарем, ушедшим на фронт, он не встретился, и дела принимать, собственно, было не у кого… С тех пор как приехали в Шахрисябз, они все трое ни разу не посидели вместе и не поговорили, как это бывало в Ташкенте.
Надев нарядное платье, Барчин как-то отправилась к отцу на работу.
Райком партии размещался в одноэтажном простеньком здании. Открыв дверь, Барчин оказалась в длинном полутемном коридоре, в конце которого светилось единственное окно, а по обе стороны коридора множество дверей. Медленно прошлась она по коридору, изучая фамилии, которые значились на дверях. За одной из дверей Барчин услышала стук машинки. Это оказалась приемная, довольно просторная и светлая. Слева и справа большие, обитые черным дерматином двери первого и второго секретарей.
— Вы к кому? — спросила смуглая девушка, перестав стучать на машинке и с интересом разглядывая посетительницу.
«К отцу, — хотела было сказать Барчин. — Он у вас первый секретарь, самый главный в городе!» — но вовремя спохватилась, смутилась и опустила голову.
— Так… Зашла… — проговорила она. И, выйдя, тихо закрыла дверь.
Вспомнился ей давнишний разговор с отцом. Они говорили о том, что дети некоторых заслуженных, умных, почитаемых людей, как ни странно, растут оболтусами, не способными ни к чему приложить руки. А спустя три-четыре дня в газете «Кизил Узбекистан» появилась статья, подписанная Хумаюном Саидбековым, где он касался вопросов воспитания. Барчин и сейчас помнила эту статью.
Барчин стало стыдно за себя. Чуть не расхвасталась она перед незнакомой девушкой. Что сказал бы отец, узнав об этом?..
Барчин заторопилась к выходу. Из дверей выходили люди с какими-то бумагами и исчезали в других кабинетах. Ведь это бьющееся сердце Шахрисябза! Здесь все заняты серьезным делом.
Барчин вошла в тенистый сквер, расположенный у райкома партии. Аллейки, посыпанные красноватым песком, были чисто подметены, политы водой из арыка. На скамейках сидели, тихо беседуя, мужчины и несколько женщин. Барчин присела отдохнуть, невольно прислушиваясь к их разговору. Она поняла, что это были председатели колхозов, бригадиры, передовые звеньевые, приехавшие на совещание в райком, которое должно было начаться с минуты на минуту. Они прибыли из кишлаков Джаркурган, Мироки, Паландра, Шерабад, Денау, Сиваза, Кутчи.
Вскоре из двери вышла девушка, которая печатала на машинке, и пригласила этих людей. Барчин осталась на аллее одна. Воробьи весело чирикали, порхая в кустах, а над клевером, которым были засеяны газоны, летали с жужжанием шмели.
Барчин встала и пошла домой. Все встречающиеся женщины и девушки в длинных платьях с любопытством смотрели на нее, догадываясь, конечно, что она приезжая, потому что только приезжая может вырядиться в такое короткое платье.
Барчин миновала ткацкую фабрику, какие-то городские учреждения и, увидев школу, постояла несколько минут, подумав, что здесь, может быть, ей придется работать. Около военкомата она увидела множество женщин, стариков, сидевших где попало с набитыми мешками. «Видно, пришли провожать своих близких на фронт, — решила Барчин. — Здесь то же самое, что и в Ташкенте».
Домой Барчин вернулась усталая, но была довольна, что осмотрела город. Мать пожурила дочку, что обед из-за нее остыл, и принялась подогревать.
Барчин зашла в кабинет отца и стала копаться в его книгах. Наконец нашла ту, которую искала. Это было описание наиболее древних городов Узбекистана. Подсела к столу и начала листать книгу.
Шахрисябз, названный его жителями «городом-садом», расположен на северо-востоке Китабской долины, у подножья Зеравшанских и Гиссарских гор. Древнее его название Каш. Появился он в результате развития здесь ремесел и торговли. Но точное время его возникновения до сих пор неизвестно.
В XIII веке Шахрисябз стал центром борьбы против арабского ига. Предводителем восстания был отважный Хаким-ибн-Хашим, ныне известный нам под именем Муканны. После подавления восстания город был полностью разрушен.
В XIV веке Шахрисябз снова был восстановлен и возвратил себе былую славу центра ремесел и торговли.
Неподалеку от Шахрисябза, в кишлаке Худжра Илгар, родился Амир Тимур, создавший впоследствии великую империю Тимуридов. Тимурленг очень любил свой город и одно время намеревался даже сделать его столицей своего царства. Хотя в эпоху Тимура и Тимуридов столицей, называвшейся «Римом Азии», стал Самаркан, но и Шахрисябз оставался крупным и цветущим городом, средоточием «наук и морали». Здесь трудились и творили многие ученые, поэты, прибывавшие из других стран мира. По повелению Тимурленга в Шахрисябзе был построен прекрасный, изумляющий заморских гостей красотой и изяществом Белый дворец. До наших дней, к сожалению, сохранились лишь его развалины…
В конце XIX века Шахрисябз по величине и значительности считался третьим городом Бухарского эмирата. При советской власти, особенно после проведения железнодорожной ветки Карши — Китаб, Шахрисябз начал развиваться как важный промышленный центр. Местное сельскохозяйственное сырье послужило подспорьем для роста в городе промышленных предприятий. Ныне в Шахрисябзе и в расположенном поблизости Китабе работают хлопковые, плодово-овощные, винодельческие и греновые заводы.
Слава о художественных изделиях фабрики «Худжум» давно распространилась далеко за пределы Узбекистана. Здесь мастерицы, которые перенимают опыт у своих матерей и бабушек, ткут красочные ковры с замысловатыми узорами, вышивают шелком сюзане, бельбаги, сумки, тюбетейки.
На окраине Китаба, среди садов, находится широтная станция имени Улугбека. Станция эта, единственная в СССР, исследует ряд процессов, связанных с магнитным полем Северного полушария. На земном шаре таких станций всего пять, и расположены они все на одной географической широте — 39°08′. Китабская — в СССР, Каргоффюрте — в Италии, Юкая и Гейтербург — в США и Мицузава — в Японии.
Мать позвала Барчин обедать.
«Надо же, какой, оказывается, знаменитый наш Шахрисябз! — подумала Барчин, закрывая книгу. — Непременно постараюсь побывать на этой широтной станции! Вот уж чем я удивлю Арслана, сообщив ему об этом в письме!» И Барчин весело засмеялась своим мыслям.
Мать посмотрела на дочь с упреком: обед давно приготовлен и успел остыть. Хамида-апа накрыла на стол в кухне. Ели молча. Мать все эти дни глубоко горевала. В иные дни, едва Хумаюн-ака закрывал за собой дверь, уйдя на работу, она садилась у окошка и долго безмолвно глядела на дорогу, все чего-то ждала. Барчин старалась ее успокоить, как могла, но мать была безутешна: писем от сына не было вот уже два месяца. Порой горевала, что в Ташкенте оставили такой великолепный дом, сами же ютятся в двух тесных комнатушках; по воду нужно ходить к колодцу; электричество то и дело по вечерам гаснет, и приходится жечь керосиновую лампу… Дочь ей в ответ нарочито громко и весело принималась расхваливать городок, восторгаясь его красотой, благоприятным климатом, приветливостью жителей.
Но при муже обычно Хамида-апа была сдержанной, делая вид, что давно смирилась с этими неудобствами. Она жалела его и беспокоилась о его здоровье. Беспокоиться же у нее были основания: два года назад он перенес инфаркт и теперь нет-нет да хватался за сердце, сосал валидол.
Беспокоила ее и судьба Барчин. Вместо того чтобы учиться в институте, девочке приходится мытарствовать вместе с ними. Что хорошего она здесь увидит? Даже пойти поразвлечься некуда. И хорошими подружками не так уж просто обзавестись.
Хамида-апа встала из-за стола и, взяв с тарелки крупный мосол, подошла к открытому окну.
— Твой телохранитель тут как тут, — сказала она с улыбкой. — На, угости-ка его сама.
Барчин подбежала к окну. Под кустом шиповника на берегу арыка сидел огромный пес. Увидев Барчин, он вильнул хвостом и радостно взвизгнул.
— Каплан! — крикнула Барчин и бросила кость.
Барчин громко засмеялась и захлопала в ладоши, когда пес, высоко подпрыгнув, поймал угощение на лету.
Всякий раз, проходя мимо Белого дворца, Барчин видела этого огромного пса, лежащего в тени подле стены, и старалась подальше обходить его. Он обычно лениво поднимал голову и бросал на девушку равнодушный взгляд. Потом снова опускал голову на передние лапы и закрывал глаза, предаваясь дреме.
Однажды, возвращаясь утром из булочной, Барчин встретилась с этим псом на углу. И замерла в напряжении, готовая закричать, звать на помощь. Но пес стоял и спокойно разглядывал ее, скорее с любопытством, чем враждебно. И Барчин бросила ему кусок хлеба.
С тех пор началась их дружба. Пес, издалека завидев Барчин, приветливо махал хвостом и спешил ей навстречу, сопровождая ее, куда бы она ни шла. Имя ему придумала сама — Каплан, что в переводе с узбекского означает леопард. И в самом деле — лапы у него огромные, сильные, как у леопарда, и глаза отсвечивали зеленым, а шерсть густая, светло-серая, в черных расплывчатых пятнах.
Вскоре Каплан прознал, где живет Барчин, и часто стал появляться под ее окнами. Хамида-апа тогда сообщала дочери:
— Твой телохранитель опять здесь, дай ему что-нибудь!..
В то время когда мать и дочь, стоя у окна, потчевали пса костями и говорили ему ласковые слова, дивясь приветливости животного, в дверь постучали. Хамида-апа заспешила в прихожую. На пороге она увидела почтальона. Он почтительно поздоровался и попросил расписаться — заказное письмо из Ташкента.
На письме значился обратный адрес Арслана Ульмасбаева. Хамида-апа поспешно распечатала конверт и обнаружила в нем аккуратно сложенный треугольничек. Развернула его дрожащими от волнения руками. И тотчас узнала почерк сына. Прочла: «Здравствуйте, папа, мама и сестренка!.. У меня все хорошо…» Буквы расплылись, исчезли. Навернувшиеся на глаза слезы мешали читать. Она смахнула их рукой и выбежала во двор.
Надо сию же минуту обрадовать мужа. Ведь тревога за сына сжимает болью и его сердце, да только не дает он воли своим чувствам, лишь изредка произносит, не глядя на нее, чтобы она не разглядела в его глазах тоски: «Что-то долго нет от сына писем, а?..»
И вот оно, долгожданное то письмо! Не побежать ли прямо сейчас? Она оглядела себя, потрогала мятый подол своего старого платья и призадумалась. Нет, не может она появиться в райкоме в таком наряде.
— Барчин! Барчин!
В ту же секунду дочь появилась на пороге.
— Письмо! От брата твоего письмо! Сбегай-ка обрадуй отца. Жив-здоров наш Марат, доченька. Да, тут вот и от Арслана письмо.
Барчин прочитала вслух письмо Марата-ака, в котором он пишет, что им приходится пока еще отступать, но все же крепко они дают по зубам заклятому врагу, и просил о нем не беспокоиться. Предупреждал, чтобы не тревожились, если писать будет не часто.
— Отнеси письмо отцу, дочка.
— Сейчас. Я только оденусь.
Барчин вбежала в дом и, оказавшись одна, развернула письмо Арслана. Оно было коротенькое, и это ее немного расстроило. А прочитав, с трудом сдержала слезы. Она медленно вышла на айван и сообщила:
— Мама, Арслан тоже уходит на фронт.
— Вот как?.. Ну что поделаешь, детка… Сейчас все джигиты уходят на фронт. В их руках сейчас судьба всей страны. Лишь бы возвратились домой здоровехонькими…
— Да, конечно, — тихо проговорила Барчин, опустив голову.
Она медленно сошла с айвана и направилась к калитке.
— К отцу? Ты ведь хотела переодеться, — напомнила мать.
— Ладно, я так…
Хамиде-апа хотелось сейчас же, немедленно, поделиться с кем-нибудь своей радостью. Она вышла, провожая дочь, за калитку, и, придерживая на голове платок, заспешила к соседке, старухе Айше-биби. Перебежала улицу, чуть не по щиколотку утопая в пыли, без стука отворив калитку, вошла во двор. Хозяйка прибирала айван. Увидев взволнованную соседку, пошла ей навстречу. Хамида-апа, забыв даже поздороваться, стала рассказывать о сыне, о том, как он славно воюет — точь-в-точь батыр, о которых пишут в старых дастанах…
Прежний второй секретарь, Федоров, жил с семьей у Айши-биби на квартире. Но месяц назад, перед тем как отправиться на фронт, он перевез семью в Самарканд. Она рассказывала много хорошего про Федорова, который стал ей как сын. И теперь вот она все думает о нем, а от него ни единой весточки за весь-то месяц. Особенно была благодарна она Федорову за то, что он выручил ее брата из беды. Когда она устроила проводы сыну, который уезжал в Самарканд, ее брат, напившись допьяна, учинил драку и попал в милицию. Этот Федоров тогда сделал доброе дело, за что старуха искренне благодарила его в своих молитвах и желала ему всяческих благ в этом мире… И уж до самой смерти Айша-биби не забудет его заботы о ней: ведь это он устроил ее в больницу, когда она заболела, и наказал докторам хорошо лечить.
Порой Айша-биби любила распространяться о том, что в Шахрисябзе, где великий падишах родился и вырос, проживает немало потомков Тимурленга и что она сама относится к роду, который ведет начало якобы от самого Амира Тимура. Ее ближайшие предки происходили, как она говорила, из племени барлас. Четвертый сын Тимурленга Шахрух и его любимая старшая жена Гавхаршодбегим произвели на свет Байсункура Мирзо, который, по ее предположениям, и является семнадцатым или восемнадцатым ее дедом по восходящей линии. Вот о своем происхождении от них она и любила говаривать. В конце тридцатых годов ей крепко попало за неосторожные слова и наивное бахвальство своими знаменитыми предками. «Слепой теряет свой посох один раз», — решила она после этого и на какое-то время перестала хвастаться своим происхождением из «племени барлас». Но вскоре забыла испуг, из-за которого она ночи напролет не могла уснуть, и вновь дала волю языку. И все же это не мешало Айше-биби считать себя женщиной «передовой» и с «понятием», симпатизирующей всему новому. «Тимуриды все были такими, — говорила она. — Если бы душа их не лежала к новому, к наукам, разве стал бы Мирзо Улугбек таким великим астрономом?..» И женщины, слушавшие ее, кивали, соглашаясь с нею. В гостях эту Барлас, «матушку», как ее называли, всегда усаживали на самое почетное место.
Говорят, у джигита, годного в предводители, бывает широким лоб. Айша-биби любила в разговоре упомянуть, что у ее старшего сына лоб широк, потому и находится он на ответственной работе в Карши.
Ходила старушка всегда в ситцевых платьях, которых, согласно обычаю, бог весть сколько на себя надевала, а поверх повязанного вокруг головы легкого платка накидывала еще и огромный платок с кистями. По ее словам, платья из цветастого ситца — благоразумный подход к климатическим условиям. Наивен тот, кто по одежде судит о человеке. Есть такие, которые ходят в шелках, а в самих нет ни капли человечности. «Я ко всему приглядываюсь, все оцениваю», — говаривала она.
Хамида-апа с первых же дней пришлась по душе Айше-биби. Видя, что у женщины нет в этом городе ни родных, ни знакомых, она всякий раз приглашала ее на чай, рассказывала о себе. И Хамида-апа прониклась к старушке доверием. Недаром именно к ней пришла она со своей радостью. Эта добрая, мудрая старушка всегда находила нужные слова, чтобы утешить в горе. А радость при общении с нею возрастала вдвое.
Порывисто войдя в приемную, Барчин устремилась к большой двери, обитой черным дерматином. Однако молоденькая секретарша мгновенно вскочила и преградила ей дорогу. Узнав в ней давнишнюю посетительницу, она посмотрела на нее подозрительно.
— Вы что? — строго спросила она.
— Вот письмо. Хотела показать…
— Сегодня неприемный день, придете в среду.
— Ой, разве к отцу мне нельзя зайти?
Строгость на лице девушки сменилась замешательством.
— Так вы дочь Хумаюна-ака? Что же вы сразу не сказали? Пожалуйста, проходите. У Хумаюна-ака было совещание, только что закончилось, и он попросил полчаса к нему никого не впускать. О вас я ему сейчас доложу…
Но Барчин уже сама открыла дверь.
Увидев дочь, Хумаюн-ака побледнел. Он знал: только важное дело может привести к нему Барчин или ее мать. Его взгляд выражал ожидание, стремление угадать по лицу дочери, с чем она пришла.
— Вот письмо от Марата-ака, — сказала с улыбкой Барчин, и он понял по выражению ее лица, что все хорошо.
Хумаюн-ака нервными движениями пальцев развернул письмо и, не сводя с него глаз, не сразу нащупал рукой очки, лежавшие перед ним на столе, заваленном бумагами.
Прочитав письмо, Хумаюн-ака минуту сидел, закрыв глаза и потирая переносицу большим и указательным пальцами.
— Хорошо, — тихо произнес он. — Все хорошо…
— Ну, я пойду, папа…
Хумаюн-ака поднял на дочь усталый взгляд.
— Спасибо, дочка, что принесла мне эту весть. Ступай. И не откладывая напиши брату ответ.
— А вы сегодня рано придете?
— Постараюсь.
— Мама по такому случаю плов готовит, так что не опаздывайте.
— Умница наша мама, — улыбнулся Хумаюн-ака. — Скажи — пусть ташкентский готовит, с чесноком…
Выйдя из кабинета, Барчин разговорилась с секретаршей. Через несколько минут они уже признались друг дружке, что каждая из них подумала, когда они чуть было не разругались у двери секретаря райкома. Потом Барчин не без гордости поведала о своем Марате-ака, который воюет уже в чине капитана, и о том, как фрицы его боятся…
Вспомнив, что ее ждет мать, Барчин поднялась. Попросив девушку заходить к ним в гости, выбежала из приемной.
Вечером Хамидахон-апа и Барчин, когда плов уже был готов, завернули казанок полотенцами, чтобы рис допревал, заговорщически переглянувшись, принялись поспешно готовить аччик-чучук — обильно приперченный салат из помидоров, огурцов и лука, которым более всего любил Хумаюн-ака закусывать, если доводилось выпить рюмочку. Врачи категорически запретили ему употреблять спиртное, а Хамидахон-апа и Барчин строго следили за тем, чтобы он неукоснительно следовал совету врачей. Но сегодня у них необыкновенный день, и можно отступить от правил.
Часов в семь кто-то робко постучал в дверь. Хамида-апа вышла на айван и увидела секретаршу. Пригласила ее в комнату.
— Нет, Хамида-апа, я спешу домой. Хумаюн Саидбекович просил передать, что позвонили из обкома и он поспешно уехал в Карши.
— Что же там такое? — упавшим голосом спросила Хамидахон-апа.
— Кажется, из Ташкента прибыло какое-то начальство…
— Заходите, поужинаете с нами.
— Спасибо, меня дома ждут. До свидания! — сказала девушка и ушла.
Когда мать вернулась в комнату, Барчин тотчас заметила, что она расстроена, и сама встревожилась не на шутку. Подбежала, обняла мать за плечи. Та, вздохнув, опустилась на табуретку и сказала, в чем дело.
Долго они сидели молча.
Хамида-апа с горечью думала о том, что вот так у них всю жизнь. Нет у мужа покоя ни днем, ни ночью. Поесть спокойно не может. Неужели это судьба каждого партийного работника? Вспомнилось ей, как у них однажды гостил известный в республике агроном Тешабай Мирзаев, тот самый Мирзаев, которого на одном большом собрании в Москве лично сам Климент Ефремович Ворошилов назвал «народным агрономом». Так вот Тешабай Мирзаев как-то, смеясь, сказал: «Наш Усман-ака Юсупов любого заставит зашевелиться! Мы-то ладно, мы, дехкане, ковыряемся себе в земле. А поглядите, что на стройке делается! И рабочие, и инженеры, и ученые, и поэты — все нынче проводят дни на строительстве водохранилища! Недавно я побывал там. Нашего прославленного ученого Кари Ниязи, известных поэтов Хамида Алимджана, Гафура Гуляма, Уйгуна я не смог отличить от землекопов!» Сущую правду говорил тогда Тешабай Мирзаев. Впрочем, это она и сама прекрасно знала. Хамида-апа иногда, не на шутку рассердившись, пыталась удержать мужа дома, когда он, несмотря на то что плохо себя чувствовал, вдруг объявлял, что уезжает в срочную командировку, или сетовала, когда он один брался за дело, с которым и несколько человек не сразу управились бы. Хумаюн-ака в подобных случаях говорил: «Усман-ака так велел…» И она отступала. Знала, что никакие ее доводы не помогут, что муж все равно сделает так, как ему велел его любимый Усман-ака.
— Что же, опять будем ужинать одни, — грустно проговорила Барчин.
— А знаешь, дочка, пригласи Айшу-биби, веселее будет, — предложила Хамида-апа.
Барчин обрадовалась, что в этот вечер они все-таки будут не одни.
Барчин сидела за столом, слушая разговорчивую соседку, а мысли ее были о письмах, которые сегодня предстояло написать. Ну, брату написать не трудно, Ему она подробно опишет, как выглядит Шахрисябз, как они живут на новом месте. О здоровье папы и мамы напишет. А Арслану? Что она напишет ему? Хочется, чтобы письмо получилось остроумное и веселое. Но в то же время он должен почувствовать, как ей здесь тоскливо без него. Он должен прочесть это между строк…
Когда мать пошла проводить Айшу-биби до калитки, было уже совсем темно, небо усеяно звездами. Откуда-то донеслось тарахтение арбы. «Совсем как в кишлаке», — подумала Барчин. Она уединилась в своей комнате и села писать письма. В гостиной поскрипывали половицы под ногами матери, убиравшей со стола. Потом на кухне заплескалась вода, стала позвякивать посуда…
Было далеко за полночь. У калитки остановилась машина. Хлопнула дверца. Барчин поняла, что приехал отец, и кинулась отпирать калитку.
Только что уснувшая Хамида-апа поднялась с кровати, надела халат и зажгла лампу.
На айване послышались тяжелые шаги мужа. Даже по его шагам научилась она определять, насколько он устал и какое у него настроение. Барчин вынесла отцу чистое полотенце. Хамида-апа заспешила на кухню подогревать еду, но Хумаюн-ака остановил ее:
— Не утруждай себя, я не хочу есть. Завари только чаю и найди мой валидол, при мне не оказалось ни одной таблетки.
Вид у него был усталый, лицо осунулось, глаза запали.
— Не дают вам ни днем, ни ночью покоя! И что за работа! Нельзя разве всякие там собрания днем проводить? — зачастила Хамида-апа.
— Дня не хватает, — грустно усмехнулся Хумаюн-ака. — В Карши приехал Усман-ака, ну и, конечно, там собрались все секретари райкомов. Обсуждали важный вопрос.
— У вас всегда все вопросы важные! — досадливо махнула рукой Хамида-апа.
— А этот был особенно важный. Сама понимаешь, иначе не приехал бы сюда Усман-ака.
— Может, хоть немножко поедите?
— Нет. Постели мне, утром надо встать пораньше…
— Папа, я написала письмо, — сказала Барчин.
— Хорошо, дочка, завтра почитаем. — Хумаюн-ака отпил из пиалушки несколько глотков горячего чая и положил под язык таблетку валидола. Некоторое время сидел молча, потом задумчиво проговорил: — Да, здоровье для человека главное. Говорят, до пятидесяти лет человек прислушивается к советам друзей, а после пятидесяти — к своему сердцу…
— Вам же давно за пятьдесят! — сказала в сердцах Хамида-апа. — Человек в вашем возрасте должен немножечко беречь себя. Можно ли голодному, усталому таскаться по ночам за двести километров!
— Выбирай слова, дорогая, я не таскаюсь, служба.
— Служба, служба! Вспомните-ка, что стало с Сабирджаном, который работал, как вы, пока не загнал себя?!
— Ты говоришь глупости, — резко сказал Хумаюн-ака, уже раздеваясь.
— Мама, прекратите! — сказала Барчин, разбирая отцу постель. — Ложитесь, папа, вы устали.
— Спасибо, доченька… Сегодня я встретился с одним председателем колхоза, — сказал Хумаюн-ака, раздеваясь. — В самом начале нашей беседы, не произнеся еще ни одного слова, он вынул из кармана записную книжку и начал зачитывать мне всякие там цифры, проценты, относящиеся к его хозяйству. «А в каком положении дети?» — спрашиваю у него. «Какие дети?» — удивился он. «Обычные», — говорю. «Вы спрашиваете про детей колхозников?» — «Ну конечно». Он мнется, листает свой блокнот, а потом заявляет: «У меня про это ничего не записано. Вам цифры нужны?» — «Если и детей можете перевести на цифры, то давайте!» — сказал я. И сам не удержался от смеха. «Про малышей мы в тетрадях не пишем. У них есть мамы, бабушки, пусть они и смотрят за ними, и записывают, что надо. А наше дело — в тетрадь записывать большие вопросы!» — говорит он, удивленный моему неуместному, на его взгляд, смеху. Вот потеряет этот председатель свой блокнот, и считай — голову потерял… Надо поощрять тех, кто по-настоящему трудится в поле, а не тех, кто жонглирует цифрами. Так сказал сегодня Усман-ака. Нельзя, чтобы трудился Эшмат, а авторитет обретал Ташмат. А нередко бывает, что велеречивые Ташматы хватают ордена…
— Спокойной ночи, папа, спите, — сказала Барчин, укрывая отца одеялом. — Повернитесь на правый бок.
— Ладно, доченька, — сказал Хумаюн-ака, подчиняясь ей, и обратился к жене: — Разбуди меня пораньше, хорошо? В половине шестого.
— Ложитесь в третьем часу, а в шесть уже хотите быть на работе? Разбужу в половине десятого или в десять! — сказала Хамида-апа и погасила лампу.
Тихо стало в доме. Где-то на окраине залаяли собаки да поблизости спросонок прокукарекал петух, но тут же смолк. Видно, понял, что ошибся, что рано еще возвещать наступление утра.
…Издали донесся тревожный гудок паровоза. Барчин увидела зеленые вагоны, битком набитые военными. К ним нельзя подступиться. Провожающие что-то кричат, машут руками. Оттеснили Барчин на самый край перрона. И вот… она увидела Арслана. Он в гимнастерке защитного цвета, туго перепоясан широким ремнем, на голове пилотка, за спиной винтовка. Он поднялся на подножку вагона и ищет взглядом кого-то. Барчин стала изо всех сил работать локтями, чтобы протиснуться к нему. Закричала: «Арслан-ака я здесь! Арслан-ака-а!» И проснулась от собственного крика.
Комната была наполнена золотистым светом. Косой луч солнца через открытое окно падал на кровать Барчин. Простыня, которой она укрывалась, была скомкана и лежала у ног. Барчин накинула легкий халат и вышла из своей комнаты. Кровать отца уже была прибрана. Мать во дворе сидела одна за столом, стоявшим под старой раскидистой шелковицей, и пила чай.
— Папа уже ушел? — спросила Барчин.
— Давно, — ответила Хамида-апа, устремив задумчивый взгляд куда-то вдаль.
— Он же хотел прочитать письмо, которое я написала Марату-ака.
— Папа прочитал. Сказал — хорошо написала. После завтрака сходишь на почту и опустишь в ящик. А потом папа наказал, чтобы ты повидалась сегодня с секретарем райкома комсомола Дильбар Раззаковой. Говорит, что завтра, наверно, все выйдут на сбор хлопка. Работники учреждений, учащиеся старших классов — все выйдут. В райкоме и тебе дадут задание…
Глава шестнадцатая В ОДНОМ СТРОЮ
Возвратившись с работы, Арслан прошел прямо в свою комнату. Прежде это была комната отца. Мадина-хола несколько раз заглядывала в дверь и видела сына в одной и той же позе — сидящим за столом. Звала ужинать. «Сейчас», — отвечал Арслан и продолжал сидеть, склонившись над тетрадью и никого не замечая. «Уж не случилось ли что?» — подумала Мадина-хола, неслышно удаляясь.
Уже несколько дней в голове Арслана звучали строки стихотворения. А сел к столу — ничего не получается. В голове сумбур. Как жаль, что перестал работать литературный кружок при Доме культуры завода! Руководитель, поэт Гайрати, помог бы упорядочить мысли, поэтические образы…
Взгляд Арслана упал на окно. В две ячейки вместо стекла были вставлены куски фанеры, и еще одно стекло было треснуто и склеено полоской газеты. «Надо вставить до отъезда на фронт. Успеть бы…» — подумал Арслан. У него уже давно все приготовлено. Начищены до зеркального блеска сапоги, в вещмешке смена белья, сухари, орехи. И медкомиссию прошел. Осталось ждать.
Арслан вздохнул и закрыл тетрадь. Обложка ее была разрисована замысловатыми узорами, посредине написано: «Лирические стихи». В этой тетради были не только его, Арслана, собственные стихи, но и понравившиеся ему стихи известных поэтов. Немало в ней философских изречений Саади, Навои, Хафиза, Пушкина и Лермонтова, Байрона и Гёте.
На первой странице Арслан наклеил свою фотографию. Ему казалось, что на этой фотографии он похож на Байрона. Конечно, никому не решился бы сказать об этом, но самому приятно было так думать…
Многие страницы были испещрены неровным, неразборчивым почерком. Буквы походили скорее на птичьи следы, чем на знаки. Некоторые стихотворения были зачеркнуты крест-накрест. И чем чаще Арслан перечитывал свою тетрадь, тем больше появлялось в ней перечеркнутых стихотворений.
Над некоторыми из них значились две буквы — «Б…н». Вот и сейчас, открыв чистую страничку, он аккуратно вывел две буквы — «Б…н». И на бумагу стали ложиться строчки:
Поезд тронулся… Прощанья… Пожатья рук…
Будь ты рядом, я б, может,
Стольких не испытывал мук.
Сердце тоска мне безжалостно гложет.
Я уезжаю… Дни ли минут или годы
С тех пор, как покину родные края,
Любовь мне поможет осилить невзгоды,
Тебе пусть поможет дождаться меня.
Я на сабле своей начертал твое имя —
И других талисманов не надо.
Я с победой вернусь — ты подари мне
Чистый цветок из своего сада…
Дверь в комнату отворилась — это Мадина-хола принесла на подносе еду.
— Хочешь не хочешь, сынок, а ешь, — сказала она, решительно ставя перед Арсланом тарелку с шурпой, чайник и лепешку. — Что же это такое — пришел с работы и есть он не хочет!
— Ну зачем вы так, мама? Я бы сам вышел.
— Я уже три раза разогревала, сынок, а ты все сейчас да сейчас. Дела свои и потом успеешь закончить. Зять твой зарезал барана, хороший кусок прислал. Сестра прибегала, принесла. Ждала-ждала тебя… Слишком поздно ты с завода стал приходить, сынок.
— Работы много, мама.
В длинном коридоре военкомата яблоку негде упасть. Арслан занял очередь. Те, кто выходил из кабинета военного комиссара, сообщали дожидавшимся своей очереди, что отправка завтра, место сбора — парк имени Тельмана.
Арслан хотел было выйти во двор покурить, но в этот момент вышедший из кабинета строгий человек крикнул:
— Ульмасбаев! Есть тут Ульмасбаев? Входите!
Кабинет был просторный и светлый. За длинным столом, накрытым красной скатертью, сидели пять военных и несколько человек в гражданской одежде. Арслан сразу узнал военкома Куканбаева и поздоровался.
Молодой лейтенант вынул из папки документы Арслана и зачитал сведения о нем. Все это время военный комиссар пристально вглядывался в Арслана, потом наклонился к сидевшему рядом с ним мужчине в сером костюме и тихо спросил:
— Вы, кажется, уже знакомились с документами Ульмасбаева?..
— Да, — кивнул тот и тоже изучающе посмотрел на Арслана. Их взгляды встретились. Арслану показалось, что он уже где-то видел этого человека.
— Со здоровьем как, джигит? — спросил Куканбаев.
— В порядке.
— Значит, на фронт, товарищ?
— Конечно.
— Это сын дегреза Мирюсуфа Ульмасбаева, — сказал мужчина в сером костюме Куканбаеву. — Отец его до последнего дня работал на Ташсельмаше.
— А-а, вы же из их махалли, — улыбнулся Куканбаев и обратился к Арслану: — Вы узнаете этого товарища?
— Где-то видел, — неуверенно произнес Арслан и обратился к мужчине в сером костюме: — Вы не преподавали лет семь назад в нашей школе?
Мужчина засмеялся.
— Верно. Я работал в вашей школе, но недолго. А вы, значит, по стопам отца решили?
— Да.
— Нам его кандидатура подходит, — сказал он военкому.
Тот оценивающе посмотрел на Арслана и пробежал взглядом его документы.
— Вот что, джигит, вам завтра в десять утра необходимо явиться в облвоенкомат. Ваши документы будут там. На месте объяснят что к чему. Все понятно, товарищ Ульмасбаев?
— Так точно!
— Вы свободны.
Арслан вышел, в недоумении остановился во дворе военкомата. Странно — опять ему не сказали ничего определенного. Он не знал, что и думать. Подошли знакомые парни.
— Ну что? Завтра в парке Тельмана встретимся?
— Мне не сказали этого.
— Почему? А нам всем велели завтра к восьми собраться в парке Тельмана.
— И сам не знаю почему.
— Может, болезнь какую обнаружили?
— Нет никакой у меня болезни.
Ребята в удивлении пожимали плечами, отходили. Арслан за несколько дней, пока проходил комиссию, привык уже к этим парням и подготовил себя, что и служить им придется вместе. Вернулся домой расстроенный.
Мадина-хола сидела пригорюнившись на том же самом месте, где Арслан оставил ее утром, уходя в военкомат. Будто и не вставала она с супы. Встретила сына вопросительным взглядом, молча показала рукой на место рядом с собой.
— Опять ничего толком не сказали, — сообщил Арслан, опускаясь на войлок, постланный на супе.
— Что же так?
— Все мои товарищи, с кем я проходил комиссию, завтра уезжают. А мне велено к десяти явиться в областной военкомат. Не понимаю, в чем дело. Может, какую закавыку нашли в моей жизни?
— Какая может быть закавыка, сынок? У нас нет никакой закавыки. Твой отец ни баем не был, ни муллой. Всю жизнь трудился для людей не покладая рук. Пусть те боятся, кто швырял камни в советскую власть. А тебе-то чего бояться. Есть советская власть — и мы есть! Нет советской власти — и нас нет. Вот так-то! Это слова твоего покойного отца… Кто знает, может, и лучше, что тебя к главному начальнику посылают… Наберись терпения, сынок. Я сегодня видела хороший сон. В честь святого Баховиддина испекла я одиннадцать лепешек. Что бы такое сделать, чтобы живым-здоровым выйти из этой кутерьмы?
— Ай, мама, оставьте такие разговоры! Вы опять повторяете слова нашего зятя.
— А что же, сынок, он умный человек.
Арслан встал. Хотя полдня уже было потеряно, он поехал на завод.
У входа в цех встретился с Шавкатом Нургалиевым. Рассказал ему, как обстоит дело. Они выкурили за разговором по папиросе.
Потом Нургалиев сказал:
— Если не торопишься, подожди, после смены поговорим обстоятельно. Чего-то там заливщики сегодня не успевают…
Арслан кивнул. Он направился в раздевалку и, переодевшись, стал помогать заливщикам.
После работы Арслан вымылся под душем и вышел из цеха. Нургалиев и Володя ждали его. Из ворот вышли втроем. Володя и Нургалиев перемигнулись. Володя забежал в магазин. По пути они зашли в небольшую столовую и заняли угловой столик. Володя принес нарезанных помидоров и стаканы. Нургалиев разлил водку.
— Знаешь, дружище, жаль мне с тобой расставаться, очень жаль! — сказал он. — Давай выпьем за то, чтобы разлука наша была недолгой. Жаль, времени нет посидеть по-человечески.
Стали говорить о том, какие вести поступают с фронта, что рассказывают возвратившиеся с войны инвалиды и эвакуированные. Вести были неутешительные…
Домой Арслан пришел поздно. Мать, тихо укоряя, помогла ему раздеться, уложила его в постель.
…Утром Мадина-хола дала сыну свежую рубашку, будто на той его собирала. Когда он брился, сказала:
— Сходить за зятем? Может, ему с тобой пойти?
Арслан засмеялся.
— Мама, вы никак не привыкнете к тому, что я уже взрослый и могу обходиться без опекунов.
Мать обидчиво поджала губы, подумав, все же заметила, что ее подруга Биби Халвайтар тоже непрестанно молится за него и аллах, услышав их мольбы, верно, сохранит его от напастей.
Арслан усмехнулся про себя, но промолчал, чтобы не обидеть свою старую добрую маму.
И в областном военкомате оказалось не меньше народу. Снова ожидание в коридоре… До десяти, правда, уже оставалось немного времени. Но перед Арсланом выстроилась длинная очередь, и вряд ли за несколько минут все эти люди успеют уйти, решив свои дела.
Однако дело приняло неожиданный оборот. Как только большие настенные часы, висевшие в коридоре, пробили десять, из кабинета вышла женщина в строгом синем костюме и, оглядев стоявших в коридоре, сказала:
— Кто здесь Ульмасбаев?
Арслан встрепенулся, будто внутри у него выпрямилась пружина.
— Я!
— Зайдите.
Помещение было просторное, с четырьмя большими окнами, на которых висели белые шелковые портьеры сплошь в волнистых складках. За столом сидели двое — пожилой седой майор в очках и мужчина, которого вчера Арслан видел в райвоенкомате. Сегодня он серый костюм сменил на форму капитана.
— Подойдите поближе, сядьте, — пригласил майор.
Арслан сел на свободный стул, стоявший напротив стола.
— Товарищ Ульмасбаев, мы ознакомились с вашими документами, — сказал майор, внимательно глядя на Арслана сквозь блестящие очки. — С сегодняшнего для вы находитесь на военной службе. Словом, вступили в ряды тех, кто сражается с врагом на фронте. Отныне вы военный человек. Вы меня понимаете?
Арслан смутился. Подумав, откровенно признался:
— Не совсем.
— Вам все подробно объяснит капитан Самандаров, — сказал майор, еле приметно улыбнувшись.
Капитан Самандаров взял папку с документами и направился в смежную комнату, сделав Арслану знак, чтобы он следовал за ним. Они сели за круглый стол.
— Вот такие дела, — проговорил Самандаров, открывая папку. — Где сейчас проходит фронт, вы знаете?
— Приблизительно, — ответил Арслан, стараясь поотчетливее представить себе географическую карту, на которой он отмечал города, занятые врагом, и соединял их синей линией.
— Вы хотите сказать — фронт протянулся с севера, от Балтийского моря, до самого Крыма? Не так ли?
— Да, так…
— Идет битва, напряженная и яростная. Враг жесток и коварен. Но враг знает и то, что силы наши не иссякнут до тех пор, пока у нас прочные тылы, пока нам есть на что опереться. И что, по вашему мнению, он в таком случае предпримет?
— Попытается ослабить наш тыл?
— Уже пытается! Много наших заводов с запада эвакуировано в Ташкент. Они ныне приобрели военное значение и уже работают в полную силу на оборону и на победу. Вот почему здесь предвидится схватка не менее жаркая, чем на фронте. Словом, решено вас оставить на заводе.
— Я понимаю… Только почему именно меня?
— Резонный вопрос… Мы имеем дело с неглупым врагом. Оставь мы кого попало, это вызовет у него подозрение. Почему, дескать, здоровый джигит, а не на фронте? За этим что-то кроется. А вы вполне попадаете под статью, по которой мы вас не должны брать на фронт. У вас нетрудоспособная мать, а вы у нее единственный сын и кормилец. Если кто-нибудь будет интересоваться, давайте именно такое объяснение. И близкие друзья, и родственники, и даже мать должны знать только эту причину. Договорились?
Арслан был настолько ошарашен всем этим, что не знал даже, как отныне вести себя. Он относился к людям, о которых говорят: «душа нараспашку». Ему теперь представлялось очень трудным что-то недоговаривать в разговоре с близкими, постоянно что-то скрывать от них и заниматься делом, о котором никто не должен знать.
— Справитесь? — спросил капитан, будто прочитав его мысли.
— Постараюсь.
— Я верю в вас, потому что вы комсомолец и сын известного дегреза Мирюсуфа-ата. Если из-под его рук выходили превосходные чугунные изделия, то и сына он выковал крепким.
— Я постараюсь…
— Еще вопросы есть?
Арслан отрицательно покачал головой, вопросов у него не было.
Глава семнадцатая АИСТ НА КУПОЛЕ МЕДРЕСЕ КУКАЛДАШ
В том месте, где узкий переулок сливается с не менее узкой улицей, расположена небольшая площадь, где арбы разворачиваются или ждут, пока проедет встречная. А когда-то здесь был хауз. И Арслан, и Атамулла, и другие ребятишки махалли научились плавать именно в этом хаузе. Как только наступали жаркие летние дни, они постоянно барахтались в этом водоеме. Старики, правда, ворчали, что ребятишки мутят воду, но стоило им зазеваться, как хауз снова переходил во власть детворы. Они плавали, подныривали друг под друга, визжали. А те, кто поотчаяннее, залезали на балахану Адыла Варшава, возвышающуюся над хаузом, и ныряли оттуда…
Потом хауз закопали. То ли потому, что в махаллю провели водопровод и необходимость в водоеме отпала, то ли потому, что в затхлой, позеленевшей воде появлялись болезнетворные микробы. Этому событию предшествовал весьма печальный случай. Какой-то казах вез полную арбу самана. Въехав в эту улочку, стал он поворачивать назад. Не рассчитал. Лошадь попятилась, и арба, увлекая за собой и животное, и незадачливого возчика, опрокинулась в хауз. Острый кол, торчавший у берега, вспорол брюхо несчастной лошади.
Заброшенный двор напротив хауза вскоре незадорого купил какой-то человек, прибывший из Чимкента. Он возвел новый глинобитный дувал, привел в порядок двор, ветхий домишко. Этого нестарого человека звали Баймат. У него была миловидная, полненькая жена, без конца хлопотавшая во дворе, ни минуты не сидевшая без дела, пока муж отсутствовал. Люди приглядывались к новым жильцам махалли, не спешили заводить с ними дружбу, хотели сперва доподлинно узнать, кто они такие и почему сюда пожаловали, снявшись с насиженных мест. Но зато их дочка, шестилетняя Субхия, с первых же дней стала любимицей соседей. У девочки были большие черные глаза и вьющиеся волосы. Она сразу же подружилась с местными малышами, которым дела не было до того, откуда они и кто. Веселая была девочка Субхия. Иногда она выбегала на улицу в длинном платье и, босоногая, пускалась в пляс. При этом так звонко щелкала пальцами, что даже вечно хмурый Мусават Кари останавливался, любуясь ею, и произносил: «Ну и чертенок!..» Из-за умения танцевать или из-за сверкающих черных глаз некоторые называли ее «лули киз» — цыганочкой.
Мать ее, как и большинство женщин, видно, была суеверной и боялась, что ее маленькую Субхию могут сглазить, — надела ей на шею ниточку красных бус. Субхия на всех смотрела с улыбкой. В ее представлении жизнь состояла из одного только счастья, лицо ее всегда светилось радостью. Восторг, вызываемый в людях ее танцами, полнил ее сердце ликованием. Всех людей в мире она считала добрыми. Она не знала, что такое зло, да и зачем ей это было знать! Только одно существо на земле ей казалось злым — это собака во дворе Мусавата Кари. Однажды эта лохматая тварь, сорвавшись с привязи, укусила ее за ногу…
В первый раз люди увидели Субхию грустной в тот день, когда ее любимый папа ушел на фронт. Она весь день просидела на порожке калитки, задумчиво глядя перед собой. Она вспоминала прощание с отцом, и на ее глазах вновь и вновь появлялись слезы. Она вытирала их грязным кулачком, размазывая по лицу.
Утром отец, уходя прижал дочурку к груди, долго целовал ее личико. Субхия тихим спросонья голоском спросила: «Папочка, а когда вы приедете?» Отец, усадив дочку себе на плечи, показал вдаль, где в южной стороне города, над зелеными купами деревьев и желтыми земляными крышами домов, возвышался купол медресе Кукалдаш:
— Посмотри туда. Во-он, видишь аиста на куполе?
— Да! Вижу, вижу! — обрадовалась девочка.
— Там у него гнездо. В нем появятся скоро птенцы, маленькие аистята. Аистята оперятся и улетят.
— А куда они улетят? — решила уточнить девочка.
— В теплые страны. В Индию… А потом кто-то из них непременно вернется в свое гнездо. Непременно вернется. Тогда приеду и я. Как только ты увидишь на гнездышке белого аиста, так жди. Хорошо?
— Хорошо, папа, — кивнула девочка.
Отец опустил ее на землю. Прощаясь с женой, он сказал:
— Не горюй. Вон сколько соседей у нас, в случае чего не оставят в беде, помогут…
И пошел отец широкими шагами со двора, не оглядываясь.
Субхия вспомнила это, поднялась с порожка калитки и отошла в сторонку, чтобы виден был купол далекой мечети. Аист все так же стоял в гнезде, будто ни разу не пошевелился с самого утра. Возвращение паны связано с этим аистом, и Субхия не выпускала теперь его из виду…
Начались тяжелые дни. Мать Субхии повесила на калитку замок и, взяв дочку за руку, отправилась в Чимкент, к родственникам. Она хотела повидать своих близких и заодно запастись кое-какими продуктами. Но в те дни уже кругом люди жили, точно отмеривая то, что у них есть, экономя каждое зернышко крупы, кое-как сводя концы с концами. В городе люди с утра до вечера были на заводе, на фабрике, в учреждениях; колхозники от темна до темна работали в поле. Работы было много, а еды мало.
Мать Субхии жила у родственников дней десять и вернулась, привезя с собой немножко мяса и зерна. Но вскоре она заболела и слегла. Врачи настаивали, чтобы она легла в больницу, но женщина отказывалась, потому что не с кем было оставить дочку.
В один из тех дней зашла к ней Мадина-хола. Недавно пышущая здоровьем женщина недвижно лежала на кровати. Около нее на табуретке стояла пиалушка с водой и лежал черствый кусок джугаровой лепешки. Женщина прослезилась, тронутая вниманием Мадины-хола. Ей было трудно говорить. Она попросила, если уж ее увезут в больницу, присмотреть за девочкой, сообщить родственникам в Чимкент. И в глазах ее было столько мольбы, что Мадина-хола едва сдержала слезы. Сбегав домой, она принесла больной горячего супа. Но та не желала ничего брать в рот. Мадина-хола заспешила в поликлинику, чтобы вызвать врача. Выйдя из калитки, встретила Мазлумахон и Пистяхон, возвращающихся откуда-то с узелками под мышками. Отругала их хорошенько за то, что, живя по соседству, они не проявили никакой жалости к одинокой женщине с ребенком, ни разу ее не навестили.
Врач сказал, что у больной тиф. Ее тотчас увезли в больницу. Через неделю она умерла…
Субхия, когда ее мама еще была дома и лежала с температурой, то и дело выбегала на улицу и глядела вдаль, на купол медресе Кукалдаш. Смотрела, не прилетел ли белый аист. Если бы прилетел аист и сел на купол, то появился бы и папа. И уж конечно маму обязательно вылечил бы. Но аист не прилетал, отец не возвращался…
Мадина-хола привела Субхию к себе. Она переночевала, а утром убежала к себе. Мадина-хола вновь пошла за ней, сказала:
— Ты, миленькая, живи у нас, пока за тобой приедут из Чимкента родственники.
Девочка отрицательно покачала головой.
— Из вашего двора не видно купола во-он того медресе, — сказала она. — А от нас его хорошо видно…
— Зачем тебе этот купол?
— Когда на него сядет белый аист, вернется мой папа.
Мадина-хола возвратилась домой, пытаясь понять смысл ее слов. А вечером велела Арслану отнести девочке поесть.
Субхия считала Мадину-хола и Арслана самыми близкими в махалле людьми. Днем частенько прибегала к ним. А Арслан, встречая ее, всякий раз старался приободрить ее ласковым словом, приносил ей сладости.
Она часто бегала на соседнюю улицу, где жила ее подружка. Они вместе играли. Но мать той девочки запретила дочке водиться с Субхией, сказав, что она грязная и заразная. Субхия, давясь слезами, рассказала об этом Мадине-хола. Ох, да что ж это она? Конечно, давно пора девочку выкупать и постирать ей платьице. Вечером Мадина-хола выкупала ее. Уложив спать, постирала одежонку и хорошенько выгладила по швам, где могла прятаться всякая нечисть. А утром Субхия опять убежала к себе.
Однажды проголодавшаяся Субхия почувствовала вкусный запах. Долго стояла у калитки, откуда он доносился. Не выдержала и зашла во двор Мусавата Кари. В, это время сам Кари, его жена Мазлумахон и дочка Пистяхон и еще несколько незнакомых ей женщин сидели на айване и ели из большого блюда плов.
Заметив остановившуюся посреди двора девочку, Мазлумахон сунула ей в руку лепешку и выпроводила за калитку.
А Субхия, придя к себе, подумала: «Какая добрая тетенька, такой большой кусок лепешки дала… А муж у нее злой, у него глаза недобрые…»
Случилось так, что Арслана послали на сборы в военный лагерь за Чирчиком, у подножья Чаткальских гор. А у Саодат, старшей дочери Мадины-хола, заболел сынишка, и та попросила мать пожить у нее несколько дней, пока ребенок выздоровеет.
Два или три дня Субхия не выходила из дома. Проходивший по улице Мусават Кари иногда заглядывал через невысокий забор и видел Субхию, лежавшую на айване на куче тряпья. «Помоги, аллах, бедной девочке», — говорил он и, проведя по лицу ладонями, шел дальше. Девочка замечала его, но у нее не было силенок сказать: «Дяденька, помогите мне!» Но если бы у нее и хватило силенок, она все равно не позвала бы его. Она боялась Мусавата Кари и его собаку.
Вернувшись от дочери, Мадина-хола застала девочку настолько ослабевшей, что она с трудом держалась на ногах. Мадина-хола легко подняла ее, словно пушинку, и унесла к себе домой.
— Теперь не смей убегать к себе, живи здесь! — строго наказала ей. — Из нашего двора тоже можно увидеть купол медресе Кукалдаш. Вон залезешь на шелковицу и увидишь…
Субхия послушалась ее. Через несколько дней девочка немного окрепла. Она лежала на супе и смотрела на шелковицу. Ей очень хотелось вскарабкаться на это дерево, чтобы издали увидеть купол медресе Кукалдаш и узнать, не прилетел ли белый аист. Иногда она впадала в забытье, и ей мерещилось, что ее взял на руки отец, прижимает к груди, целует…
Утром, вернувшись из булочной, Мадина-хола увидела Субхию, лежавшую ничком около шелковицы. Бросилась к ней. Тельце девочки было холодное…
Мадина-хола оповестила соседей. Привела председателя махаллинской комиссии, Нишана-ака, сторожа Арифа и чайханщика. Вынула из сундука кисею, припрятанную для своего смертного дня, кусок бязи и сто рублей денег. Несколько мужчин, посокрушавшись, отнесли Субхию на кладбище и похоронили.
Арслан приехал спустя полмесяца проведать мать. Он был потрясен смертью Субхии. Это горе, будто кинжал, пронзило его сердце, и он долго не мог прийти в себя. Он даже не притронулся к плову, приготовленному матерью.
Мадина-хола тихим голосом поведала ему махаллинские новости, сказала, что зять и Нишан-ака часто справлялись о нем, спрашивали, скоро ли приедет. А Арслану не хотелось никого видеть. Белый свет ему не мил. «Неужели махалля не могла уберечь одну маленькую девочку? Где же были святоши-чалмоносцы, сетующие на современную молодежь, любящие поучать всех?» Он упрекнул мать: она, мол, тоже хороша, оставила девочку без присмотра.
Арслан резко встал и, сухо сказав матери, что ему пора отправляться обратно, вышел. Мать пошла было за ним, но он сказал, чтобы не провожала. Через полчаса он уже сидел в кузове военной полуторки, мчавшейся по шоссе в сторону Чирчика. Перед его глазами стояла улыбчивая, большеглазая девочка с волнистыми волосами и говорила звонким голоском: «Спасибо, дядя Арслан! Когда во-он на тот купол мечети прилетит белый аист, придет мой папа домой, и тогда я тоже вас угощу такими же конфетами и печеньем…»
Глава восемнадцатая БОГАТЫРИ
В ушах все еще держался звон, вызванный только что отгремевшим боем. Еще не рассеялась желтая пыль, нависшая над развороченным взрывами полем, где, чадно дымя, замерли четыре фашистских танка. Бойцы отряхивали с себя землю и уже перебрасывались шутками. В изнеможении опустившись кто где стоял, дрожащими от нервного напряжения пальцами свертывали самокрутки.
Командир батареи капитан Саидбеков спустился в окоп и, сев на ящик со снарядами, вынул из нагрудного кармана письмо, которое не успел дочитать из-за неожиданной танковой атаки гитлеровцев. «Вот почему задержалось письмо из дома», — подумал он, узнав, что родители переехали в Шахрисябз. Приглядываясь к знакомому почерку Барчин, он улыбнулся. Представил ее, сидящую за столом, обдумывающую каждую фразу. А мать с отцом подсказывают каждый свое: это, мол, не забудь написать и это…
Артиллеристы, заметив улыбку на лице командира, переглянулись. Марат Хумаюнович понял, о чем они подумали, объяснил:
— Это письмо от сестренки.
— Так уж и от сестренки, товарищ капитан? — спросил, лукаво прищурившись, сержант Дмитриев, балагур и весельчак.
— От сестренки, — задумчиво повторил капитан.
Поднявшись, он поднес к глазам бинокль и стал внимательно оглядывать далекие холмы. Слева от них синели густые леса, а над ними снова собирались почти черные, грозовые тучи. Ему не нравилась наступившая тишина. Что-то тревожное было в ней. Марат любил тишину, когда она позволяла слышать пенье птиц, стрекот кузнечиков, шелест ветерка, пробегающего над цветущим клеверным полем. А эта тишина… она предвещает что-то недоброе.
Марат взял бинокль в левую руку. Правая была забинтована и все еще побаливала после ранения, полученного в бою под Смоленском. Там они поколотили немало фашистских танков, но и самим досталось изрядно. Марат Саидбеков потерял больше половины ребят из своей батареи. Но всех оставшихся в живых наградили орденами. У капитана на груди теперь сверкал орден Красной Звезды.
Оказывается, ничто не может так измотать, как отступление. Оно причиняло солдатам куда больше страданий, чем самые страшные раны. Иногда они занимали позицию, окапывались, устанавливали орудия в полной уверенности, что не станут больше пятиться. Грохотали жерла пушек, обрушивая на врага огненный шквал, разнося в щепы их укрепления, танки, автомашины. Земля сотрясалась от взрывов. Бойцы, обливаясь по́том, с трудом успевали подносить снаряды. Небо заволакивало черным дымом, будто тучами. Марат командовал: «Огонь!.. Огонь!..» Вдали взлетали сосны, столетние дубы, вырванные с корнем…
Но поступали сведения, что враг опять где-то прорвал линию обороны. Вновь приходилось впрягать в орудия измотанных, тощих лошаденок и отступать.
А теперь отступать некуда. Позади Москва.
Тишина.
Марат присел на сиденье наводчика орудия и, положив листок бумаги на планшет, пристроенный на коленях, начал писать письмо. Задумался. Снова перед глазами предстала мать. Сколько хлопот причинял ей Марат, пока вырос… Однажды, накупавшись в хаузе и продрогнув, он залез на крышу, нагретую солнцем, и лег. Не заметил, как уснул. Проснулся от чьего-то крика, показавшегося знакомым. Оказывается, мать, подумав, что сын утонул, подняла всю махаллю на ноги. Вокруг хауза толпился народ, а несколько мужчин барахтались в воде. Когда Марат слез с крыши, по толпе прокатился вздох облегчения. Мать кинулась к Марату, стала его обнимать, целовать. А мужчины выбрались из хауза и пошли в чайхану отогреваться горячим чаем…
А однажды родители, взяв с собой Барчин, уехали в дом отдыха. Марат остался дома. У него были какие-то дела, он не захотел ехать с ними. Через два дня мать вернулась. «Вай, сынок, я думала, у меня сердце разорвется! Как ты тут один дома?» — запричитала она, едва войдя в дом.
Можно себе представить, что сейчас она испытывает, думая о нем, своем единственном сыне.
Внешностью и ростом Марат вышел в отца. Он отпустил усы, чтобы выглядеть солиднее. Ведь были у него бойцы, старше его по возрасту, отцы семейств, и Марату, с детства привыкшему, согласно обычаю, с почтением относиться к людям старше себя, в первое время было как-то неловко отдавать им приказания. Тогда он и отпустил усы. А теперь привык к ним. Привык и к званию командира. Зная, что от выполнения его команд зависит жизнь бойцов, он требовал беспрекословного подчинения. Бойцы его любили. Землякам своим из Узбекистана, почему-то вдруг раскисавшим иной раз, он в шутку говорил: «Вы что это оробели, ребята? Как невеста, впервые оставшаяся наедине с женихом!» Джигиты улыбались, сами начинали шутить. А то еще и аскию затевали. Они с акцентом произносили некоторые русские слова, что делало их обмен остротами еще смешнее, заковыристее, и бойцы батареи, хватаясь за животы, покатывались со смеху.
Заканчивая письмо, Марат почувствовал себя, будто очутился в Узбекистане. Ему сейчас так захотелось попробовать горячей лепешки со шкварками, испеченной матерью. Перед тем как съесть, он намочил бы ее в арыке, пустив плыть по течению…
— Товарищ комбат, к командиру полка! — раздался чей-то отрывистый голос, вернувший Марата к суровой действительности.
Марат направился в землянку, что расположена неподалеку от его батареи. Здесь присутствовали несколько командиров. Склонившись над картой, они обсуждали план предстоящей операции.
На рассвете загрохотали пушки, сея смерть в стане врага. Богатыри начали бой. Сегодня каждый из них был во много раз сильнее богатырей, воспетых некогда в дастанах.
За ельником послышался шум. Оттуда стремительно шли танки. Наши танки. Они шли вперед, на позиции врага. «Теперь мы не отступим назад ни на шаг!» — подумал Марат, наблюдая в бинокль за передним краем фашистов, и скомандовал:
— Огонь! Огонь! Огонь!
Глава девятнадцатая В ОЖИДАНИИ УТРА
Осень 1941 года выдалась холодной. Уже в конце сентября погода испортилась, начались дожди. А это самое худшее, что может быть для хлопка во время его созревания. Распушившиеся коробочки на кустах утеряли шелковистость. А раскисшая земля не позволяла ступить в поле, чтобы собрать гибнущий урожай. Едва дождь перестал и сквозь тучи проглянуло солнце, люди вышли в поле. На полях началась битва за урожай. И Барчин была среди сборщиц. Туго обвязав голову косынкой и надев кирзовые сапоги, с утра до вечера собирала она хлопок. Бечевки с каждой минутой тяжелевшего фартука больно врезались в поясницу и шею, пригибали к земле. К сапогам налипала грязь, Барчин с трудом передвигала ноги. Руки ее были поцарапаны до крови. Она не хотела показать усталости ребятишкам, с интересом поглядывающим на свою новую учительницу. Барчин знала, что дети очень наблюдательны. Особенно в новых людях они стараются подметить все. И будут ли они в дальнейшем уважать свою учительницу, во многом зависит от первых дней ее общения с ними. Барчин замечала, что, кажется, пришлась детям своего класса по душе. Ребятишки во всем старались подражать взрослым, особенно людям, к которым питают симпатию. И теперь то, как они будут работать в поле, зависит от нее. И она, непривычная к такой работе, старалась не ударить лицом в грязь. Ее руки порхали с одной коробочки на другую, вытягивая из них волокно. Сейчас каждый школьник знает, что из хлопка делают порох. Чем больше хлопка они соберут, тем больше из него сделают пороха. Думая об этом, Барчин считала и себя в какой-то мере причастной к фронту. И детям в короткие перерывы она говорила, что все они в эти страдные дни помогают фронту.
Барчин трудно. Но другим-то ведь тоже не легче. В неделю раз, улучив время, Барчин приезжала домой и заставала мать всякий раз одну. Отец то до полуночи задерживался в райкоме, то его вызывали в обком, то уезжал в какой-то колхоз. Мать, кажется, с этим уже смирилась, а Барчин было жалко и мать, и отца. Их беспокоило здоровье отца, но они старались не говорить об этом. Разговорами не поможешь. Как ни уговаривали они Хумаюна-ака поехать подлечиться, он не соглашался, ссылаясь на то, что не время сейчас об этом думать.
Мать говорила, что иногда он забегает домой пообедать. Как-то пришел расстроенный. Выпил валерьянку, которую Хамида-апа тут же накапала в рюмку, и начал возмущенно рассказывать о том, что, проходя мимо чайханы, увидел там праздно сидящих людей. В эту-то пору! Когда каждая пара рук на поле может принести неоценимую пользу. Вот-вот снова польют дожди, пойдет снег, а хлопок останется неубранным. Он зашел в чайхану и приказал всем присутствующим немедленно отправиться на сбор хлопка.
Терпеть не мог Хумаюн-ака разгильдяев и лодырей. Большинство из них беспечно-простодушные с виду, а на самом деле хитрые и нагловатые. Эти люди себе на уме, хотят загребать жар чужими руками. Весь день сидят они в чайхане, свесив ноги с сури и беспечно болтая о чем попало. «Странно, как они могут иметь семью, детей и ничем не заниматься!» — возмущался Хумаюн-ака. В такие моменты Хамида-апа и Барчин более всего опасались за его сердце.
Барчин считала, что сейчас во всем Шахрисябзе труднее всего ее отцу. Если доводилось ей, разговорившись с другими учителями, посидеть на хирмане[76] лишнюю минуту, ее начинала мучить совесть, и она, повязав фартук, вновь отправлялась в поле.
Искусные сборщицы, собравшие более ста килограммов, повязывали головы красными косынками. Традиция эта зародилась давно среди девушек и женщин, родившихся и выросших в Шахрисябзе.
Первой повязала голову Дильбар, секретарь райкома комсомола. Говорят, дерево красиво листьями, а человек — трудом. Дильбар была проворна в работе. И лицо ее, впитавшее жар солнца, обласканное утренними ветрами, было прекрасно. Такую красоту воспевали поэты.
Барчин старалась занимать рядки неподалеку от Дильбар и присматривалась, как она собирает хлопок. А сегодня уже и сама собрала более ста килограммов. Радость ее была столь велика, что решила вечером непременно поехать домой и похвастаться. Да и красной косынкой следовало запастись.
На этот раз Барчин застала отца дома. Как же она обрадовалась, увидев его! Повисла у него на шее, будто маленькая. Хотелось взобраться ему на колени, как в детстве. Она без умолку рассказывала о своих новых знакомых, о Дильбар, о том, как научилась собирать хлопок и как она соскучилась по нему. Хумаюн-ака с наслаждением слушал болтовню дочери и улыбался.
— Я рад, что ты привыкла к этим местам, — сказал он.
— А сколько мы еще тут будем жить, папа? — спросила Барчин, оборвав веселый смех.
— Вот тебе и раз! — засмеялся Хумаюн-ака. — Я хвалю ее, а она…
— На сколько же мы сюда приехали?
Лицо отца сделалось серьезным, и сразу отчетливо проступила на нем усталость.
— Меня сюда послала партия, — сказал он. — и мне надлежит оставаться в Шахрисябзе до тех пор, пока я здесь более всего нужен.
Снова, как всегда, разговор зашел о делах на фронте. И Хамида-апа, вспомнив, воскликнула:
— Да, Барчин, ведь тебя дожидаются сразу два письма!
Письмо Марата было распечатано. Барчин быстро пробежала его глазами. Второе письмо было от Арслана. Барчин, немного смущенная, взглянула на родителей. Но те, понимая состояние дочери, сделали вид, будто ничего не замечают. Мать была занята приготовлением ужина, отец отгородился газетой.
Барчин не хотелось, чтобы мать при отце начала расспрашивать об Арслане. Чтобы отвлечь ее, она подошла к открытому окну и, выглянув на улицу, спросила:
— Мама, а Каплан не появляется?
— Каждый день тут. Наведывается узнать, дома ты или нет. И сейчас, наверно, дремлет где-нибудь в кустах.
Барчин взяла кусок лепешки и вышла во двор.
— Каплан! Каплан!
Пес вылетел из-за угла и кинулся к ней. Гостинец он поймал на лету, улегся в тени и принялся за обед. Время от времени косил он глаза на Барчин и повиливал хвостом. Барчин с удовольствием понаблюдала за ним и вернулась. А Хамида-апа тем временем уже поставила плов на очаг. Вздохнув, она сказала:
— Был бы фронт близко, снесла бы я Маратджану касу плова. Соскучился небось Маратджан по моей стряпне.
— Там уже холода наступили, надо бы послать ему теплую одежду, — сказал Хумаюн-ака.
— Я написала нашему сыну письмо. И вы тоже напишите. Маратджан просит, чтобы каждый из нас писал в отдельности. Утром вложу все в конверт и отправлю. Хочу вот эту фотографию тоже послать… Этот парень, Эркин, оказывается, искусный фотограф. Он не приезжал к вам в поле?
— А что ему там делать? — засмеялась Барчин.
— Как что? Дильбар проведать, сестру свою, и хлопок пособирать.
— Дильбар говорит, что у него все еще нога болит после ранения.
— На твоего брата он похож, такой же рослый, красивый.
— Только мой брат капитан, а Эркин-ака был рядовым! — не без гордости заявила Барчин.
— На фронте пуль всем одинаково отпущено — и офицерам, и рядовым, — вмешался в разговор Хумаюн-ака. — А этого джигита уже отыскала одна. Теперь его прислали в распоряжение военкомата, там он сейчас и работает. А как оклемается, найдем ему дело посложнее. Он, кажется, способный парень, справится.
— Конечно, справится, — поддакнула Хамида-апа. — Если сестра такая боевая, а он же все-таки мужчина…
— А лучше всех получилась я, — похвасталась Барчин, все еще разглядывая фотографию.
— Немудрено, — сказала Хамида-апа, — он главным образом на тебя и наводил объектив.
— Ну что вы, мама… — смутилась Барчин.
— Кажется, плов готов, по запаху чувствую. — Хамида-апа поспешила к очагу. Через минуту послышался ее голос: — Садитесь за стол, сейчас несу!
— Айшу-биби не позвать ли нам? — предложил Хумаюн-ака.
— Я сбегаю, мама! — сказала Барчин и вмиг вылетела из комнаты.
Вскоре она вернулась вместе со старушкой, приветствовавшей хозяев с порога.
— Соскучились по вас, дорогая соседка, — сказала Хамидахон, жестом предлагая гостье пройти на почетное место. — Особенно Хумаюн-ака. Каждый раз он спрашивает, как вы поживаете, здоровы ли…
— Спасибо, спасибо! За ваши заботы обо мне я вам благодарна, пусть аллах пошлет вам здоровье, а сыновьям нашим скорейшего возвращения с победой.
Утром, едва рассвело, та самая арба, на которой Барчин приехала в город, остановилась около их калитки. Таков был уговор с арбакешем. Барчин выбежала из дому и увидела сидящего рядом со стариком арбакешем Эркина. На плече его висел фотоаппарат.
— Вы уж извините, что я без разрешения устроился на вашем «такси». В районной газете попросили сфотографировать передовых сборщиц, а заодно мать передала кое-какую одежду для Дильбар.
Он протянул руку и помог Барчин взобраться на арбу. В калитке появилась Хамидахон-апа, она поздоровалась и обратилась к Эркину:
— Хумаюн-ака просил передать вам спасибо за фотографии. Одну мы решили послать сыну на фронт.
— Я рад, что они вам понравились.
— Ну, до свидания, мама! — сказала Барчин. — Поехали скорее, а то все выполнят по половине нормы, пока я приеду.
Арбакеш взмахнул кнутом, и животное тронулось с места.
В дороге Барчин первая нарушила молчание:
— Вы часто бываете в подобных «командировках»?
— В первый раз еду. Мама настояла. Беспокоится: дескать, беззащитная девушка, как она там?
— Это Дильбар-то беззащитная? — засмеялась Барчин. — Да она любого парня за пояс заткнет!
— Это верно, она у нас боевая… А вас, Барчин, поздравляю с успехом. Собрать сто килограммов хлопка! Я отношусь к такому факту как к подвигу. Бывало, сколько ни старался, а больше сорока килограммов не мог собрать.
— А откуда вы знаете о моих так называемых «успехах»?
— Ну как же не знать? Красавицу дочь первого секретаря райкома товарища Саидбекова весь Шахрисябз знает.
— Вот как? — проговорила Барчин, залившись краской. — По-моему, брата секретаря райкома комсомола Раззаковой Дильбар тоже весь Шахрисябз знает.
— Молодец, дочка! За словом в карман не лезешь, — поддержал ее старик арбакеш, довольно посмеиваясь и теребя свою жиденькую бороденку. — Есть такая поговорка: «Я не спрашиваю, чей ты сын, хочу знать, кто ты».
За разговором не заметили, как приехали в колхоз. Солнце еще только поднялось над горизонтом, залило влажные от росы поля золотистым светом. Барчин увидела собравшихся на хирмане подруг. Поблагодарила арбакеша и, спрыгнув с арбы, побежала через поле. Эркин долго смотрел ей вслед. Арба, погромыхивая, покатилась дальше. Эркин решил зайти в правление, поговорить с председателем и выяснить, кого ему следует сфотографировать для газеты…
Вечером Барчин пришла в клуб, где жили ученики их школы. Тускло горела керосиновая лампа, подвешенная к потолку. Рядами стояли аккуратно заправленные раскладушки.
Девочки во дворе играли в «третий лишний», с криками и смехом гонялись друг за дружкой. Они как бы ни уставали за день, по вечерам все равно затевали шумные игры. А Барчин хотелось броситься ничком на постель и не шевелиться. Ныли поясница, плечи. Болели исцарапанные кисти рук.
Барчин села на свою раскладушку, достала письмо Арслана, перечитала его — в который уже раз. Потом вырвала листок из тетрадки и написала ответ. Закончила письмо стихами.
Встречи с тобой ожидаю,
Как счастливого утра.
Когда о тебе я мечтаю,
Рядом со мною ты будто…
Глава двадцатая ПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ
Прошло полтора месяца с тех пор, как умерла Субхия. Казалось, все в махалле позабыли, что здесь жила такая девочка. Некому было горевать по ней и плакать. А тут наступил праздник Хайит — день, когда люди поминают всех своих близких, покинувших этот мир. Но никто не поставил скамейку около калитки, где жила Субхия, не постелил курпачу, чтобы люди могли посидеть и почтить ее память.
Арслану рассказали, что Мусават Кари, живший через стенку, даже не приблизился тогда к гробу девочки. Со словами: «Она тифозная» — ушел и вернулся лишь после того, как махаллинцы снесли ее на кладбище. Женщины-соседки смотрели на него хмуро и осуждающе. А Мусават Кари встал посредине дороги, напротив открытой калитки, жалобно поскрипывающей при дуновении легкого ветерка, и, прочитав молитву, провел ладонями по лицу. Потом пробормотал так, чтобы его услышали: «Да-а, вот она, жизнь. Молодой ли, старый — все умирают, кому суждено. Пока разобьется один большой кувшин, сколько мелких кувшинчиков вдребезги разлетятся…»
Хайит совпал с выходным днем. После полудня Арслан вышел на гузар. Он купил две ячменные лепешки, завернул их в платок и отправился на чигатайское кладбище. Эти лепешки и немного денег он дал сторожу, и они вместе пошли к могиле отца. Хромой, белый как лунь старик, обрадованный подношением, вместе с Арсланом постоял несколько минут над могилой, прочитал молитву. Потом Арслан попросил сторожа показать маленькую могилку Субхии. Теперь это было единственное доброе деяние, которое он мог свершить для девочки, — постоять возле нее. Ему казалось, что Субхия видит его, пришедшего ее навестить, и спрашивает: «Дядя Арслан, посмотрите на купол медресе Кукалдаш — не прилетел ли аист?..»
— Сынок, что вы так задумались? Пойдемте, пора, — сказал сторож, коснувшись его локтя.
— Мне хочется немножко побыть одному, посидеть тут, — сказал Арслан и, заметив недоумение на лице сторожа, добавил: — У девочки никого нет в этих краях. Я иногда буду навещать ее.
— Как хотите, сынок, как хотите… — проговорил сторож, еще внимательнее приглядываясь к джигиту. Ему, старому человеку, за многие годы пребывания здесь пришлось видеть людей, которые зароют тут родного человека и больше ни разу ногой не ступят сюда. Он знает такого сына, который за двадцать лет ни разу не пришел на могилу отца и матери. — Взгляните вон на ту могилу. Почтенный человек в ней покоится. Знал я его когда-то, хороший был человек. Глядите-ка, как всемогущ аллах, какую судьбу он может предуготовить: у покойного есть сыновья и дочери, но никто из них ни разу не вспомнил того, кто подарил им жизнь, не пришел к могиле, не прочитал молитву. Слышал я, что они жизнь непотребную ведут. Если это правда, то уж лучше пусть сюда, где лежат многочтимые люди, не ступают ногой…
Арслан молча, кивком головы, выразил согласие с ним. Сторож повернулся и, прихрамывая, медленно пошел от него прочь.
Если заметишь сам или тебе дадут понять, что гордыня обуяла тебя, что ты начинаешь свысока поглядывать на мир, то сходи на кладбище. Если твои родные и близкие покоятся в другом месте, вдалеке отсюда, то не обязательно искать кровных родственников — здесь все тебе родственники. Постой минуту над могилой, задумайся, вспомни о том, что придет время и ты будешь лежать недвижно в сырой земле. Нет человека, который не вошел бы в толщу земли, — ведь время не остановить. Оно идет. Оно летит. Оно мчится. Позади тебя миллионы лет, и после тебя минует столько же. Жизнь твоя подобна промелькнувшей и сгоревшей звезде. Ты явился в этот мир — точно взглянул ненароком на зрелище, поставленное невесть кем на огромной зеленой сцене под названием Земля, и снова канул в небытие… И раз уж так коротка жизнь, и твоя, и твоих соплеменников, не делай никому зла, не причиняй людям боли — ведь этим обречешь себя на муки, тебя замучает совесть.
Когда сторож ушел, Арслан опустился на траву, уже пожелтевшую. Могилка была еще свежей, только две-три травинки успели прорасти на ней. Верх ее утрамбован тыльной стороной кетменя, а края обвалились. Рядом лежало несколько прутьев вербы, которые, видно, хотели посадить, да так и оставили, забыв про них. Зарывая могилу девочки, у которой не оказалось на похоронах никого из близких, даже могильщик не проявил особого рвения.
Свисту сабли, пронзительному полету стрелы уподобились сейчас мысли Арслана.
Почему судьба столь немилосердна и несправедлива?!
Кудрявой девочки, которая совсем недавно громко смеялась, играя с ребятишками, плясала, веселя прохожих, теперь нет на свете. Почему смерть накинулась на эту птаху, когда вокруг столько гнусных хищных созданий?
На верхушки пирамидальных тополей, растущих на краю кладбища, упал луч заходящего солнца, и они стали похожи на огромные, зажженные кем-то свечи. Арслан с трудом оторвал от них взгляд и снова посмотрел на маленькую могилу кудрявоволосой Субхии. А рядом была другая могила, большая, поросшая янтаком и пальчаткой. Возможно, в ней лежит старый и мудрый бобо, у него длинная белая борода и кустистые брови. Такие старики обычно бывают ласковы к детям. Может быть, он время от времени утешает Субхию, даря ей терпение, и говорит: «Успокойся, девочка, на купол медресе Кукалдаш обязательно сядет белый аист, и отец твой вернется с войны живым и здоровым…»
Арслан сидел, положив руки на колени и подперев подбородок ладонью. Его растревожили думы, которые могут прийти в голову только тут.
Здесь лежат и те, которые, полагая, что они никогда не умрут, жили, нагоняя страх на всех окружающих. Лежат и разбогатевшие скареды, и чужеспинники, которые ради костюма или ручных часов убивали человека. Лежат и льстецы, и гордецы, и презренные, и презиравшие. Лежат воровавшие, присваивавшие себе чужую долю. Но лежат тут, увы, и люди с благородными сердцами, отдавшие себя без остатка служению своему народу…
Да, было бы справедливо, если бы на том свете существовали ад и рай.
Через некоторое время Арслан вернулся к могиле отца, постоял в безмолвии. Ему почудилось, что он услышал родной и близкий голос: «Арсланджан, все ли в порядке у нас дома? Как поживают мама, сестры?»
— Мы все живы и здоровы. А мама и сестры велели вам кланяться, — вслух произнес Арслан.
«Блюдешь ли ты мои заветы?»
— Да, отец.
«Чисты ли твои помыслы и желания?»
— Да.
«Ступай, сынок. И живи так, чтобы тебе не стыдно было глядеть в глаза людям».
— Прощай, отец.
Арслан медленно повернулся и по тропе направился к аллее, проходившей через середину кладбища, ведущей к выходу.
Глава двадцать первая НАЧАЛО
Ожесточенные бои бушевали далеко на западе, но их отголоски доносились до глубокого тыла страны. На улицах все чаще встречались раненые. Народ к фронтовикам относился с уважением, им часто доверяли ответственные посты…
В один из дней некий молодой человек по фамилии Хашимов появился в отделе кадров завода Ташсельмаш. Одной рукой он опирался на костыль, другой на палку. Конечно же такого человека на тяжелую работу не пошлешь, его назначили заведующим клубом. Хашимов стал часто появляться в цехах, которые в самом начале войны были экстренно переоборудованы и теперь выпускали продукцию для фронта. Он беседовал с рабочими, проводил, как он выражался, культурно-просветительную работу. Человек он, по всему, был общительный, свойский, и в скором времени во всех цехах у него появились друзья-приятели.
Рабочий день близился к концу, Арслан уже работал из последних сил. Лопата выскальзывала из занемевших от усталости рук, голова раскалывалась от гула. Цех был наполнен синим чадом, и фигуры людей в нем еле различались. Арслан не сразу заметил подошедшего к нему Самандарова. Тот протянул руку, Арслан долго вглядывался, пока узнал его. Самандаров был в замасленной спецовке, будто только что отошел от своего рабочего места. Он пригласил Арслана покурить. Вышли во двор. Здесь было тихо. Арслан почувствовал, что встреча их неспроста, Самандаров собирался говорить о серьезном.
Так и было. После некоторого молчания Самандаров спросил:
— Вы знаете завклубом Хашимова? Он из махалли Каллахона…
Арслан усмехнулся. Помедлив, сказал:
— Знаю. Только, признаться, не помню фамилии. Прежде мы его звали просто Баят-бола.
— Хаят Хашимов?
— Да, кажется, Хаят. Мы в одной школе учились. А что?
— Какого мнения вы о нем?
Арслан пожал плечами.
— Кто его знает… Скользкий, по-моему. Весельчак, острослов, а наши ребята почему-то его недолюбливали. Не помню, чтобы с ним кто-нибудь дружил.
— Расскажите все, что вы о нем знаете. Это поручение комиссара. Вряд ли стоит мне говорить вам, что в этом деле не может быть мелочей. Мы располагаем сведениями, которые обязывают приглядеться к нему попристальнее.
Да, это был как раз тот случай, когда нельзя давать ответ не подумав. Папироса в руке Арслана медленно тлела, выпуская синюю спиральку дыма, а он думал. Представил себе, узкие улочки махалли, по которым бегали ватаги мальчишек с деревянными «саблями», просторную спортивную площадку позади школы, под которую отвели бывший огромный особняк Шоабдумавлянбая. Здесь каждый день на большой перемене и после уроков играли в баскетбол и волейбол. А Хаят Хашимов редко принимал участие в шумных играх. Чаще он катался на площадке на своем велосипеде, мешая играющим, которые, не зная, как бы отвадить его, старались, изловчившись, «срезать» мяч так, чтобы попасть в него. Однажды Арслан, угодив Хашимову в плечо, сбил его с велосипеда, и все-таки он продолжал досаждать играющим, разъезжая между ними с самодовольной ухмылкой на лице. Арслан не помнит, чтобы Хаят Хашимов дал кому-нибудь свой велосипед покататься…
Вспомнился Арслану школьный физический кабинет, размещенный в бывшей просторной гостиной бая, стены и изящные колонны которой были облицованы узорчатым ганчем. В застекленных нишах стояли диковинные приборы, вызывавшие у учеников изумление и восторг: эбонитовая палочка, электризующаяся от трения о бумагу, гальванический аппарат, вольтметр и множество других приборов.
Однажды Хаят Хашимов вынул из ниши большой термометр и разбил его, чтобы взять ртуть. Его поступок обсуждался на учкоме, куда был вызван и его отец, бывший халфа Хашим, который то и дело низко кланялся и умолял не выгонять сына из школы. Надо же, из-за ртути разбить термометр!
Одним из самых любимых учителей в школе был преподаватель биологии Муминов.
В один из дней он повесил на стену портрет бородатого человека и сказал ученикам, что это один из самых больших ученых — академик Павлов.
Ребятишки согласились с этим не сразу, потому что до сей поры в их глазах единственным ученым был сам учитель Муминов. Но в последующие дни Муминов столько рассказывал об академике Павлове, что ученики наконец признали его первым ученым, отведя учителю второе место.
Ребятишки любили его не только потому, что он интересно объяснял уроки. Этот учитель проявлял большую заботу о детях из бедных семей, делал все, чтобы они не оставляли учебу. А в ученике восьмого класса Азизе он обнаружил незаурядные способности, оформил его вторым лаборантом и платил ему часть своей зарплаты. Азиз же думал, что ему платит школа.
Родители Азиза жили бедно. В школу он ходил в латаной-перелатаной одежде и босиком. Лишь зимой надевал старые калоши. Неведомо, был ли он когда-нибудь сыт. Несмотря на это, он учился старательно и считался лучшим учеником в школе.
Хаят всякий раз насмехался над Азизом, над его поношенной одеждой, над тем, что его родители едва сводят концы с концами. А однажды, заявив всем: «Азиз украл у меня деньги», выволок его на улицу и крепко побил. Кошелек же с деньгами ребята потом нашли под партой.
Учитель биологии расстроился, не сдержался и закатил Хаяту пощечину, после чего и сам долго не мог прийти в себя. Признался ребятам, что впервые в жизни поднял руку на человека.
Отец Хаята пожаловался директору, и у Муминова были большие неприятности.
Хашим-халфа родился и вырос в махалле Каллахона. Оставшись вдовцом, на склоне лет он женился на пожилой вдове Рисолат-буви, и та переехала в его дом вместе с шестнадцатилетней дочерью Адолатхон. Бедная женщина вскоре поняла, что халфа приютил ее лишь для того, чтобы она за ним ухаживала да пятикратно в день подносила воду для омовения перед молитвой. И совсем занемогла от переживаний, когда стала замечать, что старый муж поглядывает маслеными глазками на дочь ее Адолатхон.
Однажды, когда Рисолат-буви пребывала в кишлаке на тое, Хашим-халфа скользнул под одеяло к сонной девушке и, пустив в ход все свои хитрости, овладел ею. Через какое-то время Адолатхон поняла, что беременна, и чуть было не покончила с собой. Халфа дает «уч талак» — «тройной развод» — ее матери и, совершив положенный обряд, объявляет своей женой Адолатхон.
Жители махалли, прослышав о таком кощунстве, вознамерились убить Хашима-халфу, закидать его камнями, но, ворвавшись в дом, застали только больную Рисолат-буви да беременную Адолатхон. Оказывается, халфа, пронюхав обо всем, своевременно сбежал в Келес, к одному своему дружку, и таким образом спас свою жизнь. Спустя какое-то время, воровски пробравшись в свой дом темной ночью, он увез в Келес и Адолатхон и почти год не показывался на глаза жителям махалли.
Рисолат-буви, не вынеся такого позора, предала свою дочь проклятию и в скором времени умерла от чахотки, так и не увидев внука, которого назвали Хаят. После этого халфа вернулся с новой семьей в свой дом. Махаллинцы теперь отказались от намерения убить его камнями, а просто перестали водиться с ним…
Позже, когда Хаят сделался танцором, за ним закрепилось прозвище Баят-бола, и редко кто называл его потом иначе.
Арслан поведал обо всем этом Самандарову.
— Вы должны найти способ как-то сблизиться с ним. Это важно. Нам нужна ваша помощь.
— Думаю, мне это удастся, — сказал Арслан.
— Нас интересуют его встречи с Зиё-афанди. Но ни у того, ни у другого не должно возникнуть подозрений. Вы должны себя вести так, чтобы они вам полностью доверяли.
— Понятно.
Дехкане по известным им приметам могут определять, теплой или холодной будет наступающая зима.
Хайитбай-аксакал, возвращаясь из махалли Актепа, завернул в чайхану, где давно уже не бывало тесно от посетителей. И на этот раз сидели здесь несколько человек. Хайитбай-аксакал, взобравшись на сури, стоявшую под навесом, поглядел на небо, подернутое белесоватым пологом, и кивнул на тополя, плотно растущие вдоль арыка.
— Листья опадают с вершин, — значит, зима будет злая, — задумчиво промолвил он, ни к кому не обращаясь. — А сынок мой Абдусаматджан на Северном фронте. Написал, что находится в тех местах, где некогда сражался Александр Невский. В том краю зима еще жестче бывает…
— В том краю уже давно выпал снег, и земля затвердела, как кремень, — сказал Чиранчик-палван.
— От твоих слов стужей веет, палван.
— Бай, аксакал, разве вы не слышали про страны, где бывает ночь, когда у нас день, и зима, когда у нас лето? Как же вы невежественны! А известно ли вам, что Искандер Зулкайнар завоевал государства, которые находятся на обратной стороне земли, под нами? Какие удивительные страны он видел!
— Оббо, какой ты! Знания твои через край переливаются. Не Зулкайнар, а Зулкарнайн, русские его зовут Александром Македонским.
— Мы не знаем, как там и кого зовут русские, мы называем по-своему, — сказал Чиранчик-палван и, легонько подтолкнув локтем Хайитбая-аксакала, заговорщическим шепотом произнес: — Баятджан вернулся с фронта, не навестим ли?
— Кто такой твой Баят?
— Сын Хашима-халфы. Разве не знаете?
— А-а, вон ты про кого! Это он-то на фронте побывал?
— Да. Недавно вернулся.
— Надо же! Не из таких он, кто мог держать винтовку. Ему сподручнее баб изображать.
— Держал, выходит.
— Ранили?
— Кажется…
— Гляди-ка, столько молодцов навеки там осталось, а какой-то зайчонка явился — и грудь колесом… Родственник он тебе, что ли?
— Дальний.
— Что ж, давай зайдем, поприветствуем.
Они проследовали узкой улочкой, сворачивавшей то вправо, то влево, и постучали в одну из калиток. Стучать, правда, было не обязательно, но во дворе могла быть собака. Из дома, опираясь на костыль и палку, вышел Баят в военной форме. Чиранчик-палван заспешил ему навстречу, распростерши объятия.
— С благополучным возвращением, братишка Баятджан! Услышали, что вы возвратились живым из ада, решили навестить. А это Хайитбай-аксакал, вы его помните, наверно…
— Помню, как же. Прошу, входите.
Баят ввел гостей во внутреннюю комнату, усадил за приготовленный дастархан. После традиционной молитвы налили в пиалы чаю. А Баят стал рассказывать, как в страшном бою — земля под ногами горела! — был ранен он в ногу и пять месяцев провалялся в госпитале.
— Немец, проклятый, силен, распотрошил нас, — заметил он как бы между прочим. — Вернулся вот калекой. Но можно ли в такую пору дома сидеть? Уже поступил на работу.
— Силен, говоришь? — выразил чрезвычайное удивление и досаду Хайитбай-аксакал. — Силен, значит?
— Одолеть невозможно. Мы с винтовками сидим в окопах, а он на нас с танками прет. Кого давит, кого в плен берет. Но к среднеазиатским, к мусульманам, немец хорошо относится…
— Епирай-а?![77]
— Да, мы об этом узнали.
Долго они еще сидели, беседуя и опустошая чайник за чайником. Потом Чиранчик-палван, попросив у хозяина позволения уйти, сказал:
— Укаджан, сделай милость, пожалуй в воскресенье к нам, нарын тебе приготовим. Ты вернулся живым из такой битвы, надо обмыть это дело.
Баят задумался.
— Не отказывайся, укаджан!
Баят улыбнулся и дал свое согласие.
Через день в своем загородном доме в Худжапар-хане Чиранчик-палван задал довольно роскошное по тем временам угощеньице, куда созвал наиболее близких дружков-приятелей. Был приглашен и Мусават Кари, а он привел с собой Зиё-афанди, представив его гостям как крупного специалиста по мехам. Кизил Махсум позвал с собой Арслана, и тот не отказался. Теперь-то ему нельзя отказываться. В глубине комнаты на почетном месте восседал Баят-бола. Справа от него сидел Хайитбай-аксакал. Арслан расположился рядом. С виновником торжества он поздоровался за руку. Они виделись иногда на работе, но им никак не удавалось поговорить по душам. Теперь они вспомнили и школьные годы, и учителей, над чем-то смеялись, о чем-то печалились.
— А тебя пока не трогают? — спросил Баят-бола с видом бывалого фронтовика.
— Да, оставили пока в покое.
— Вызывали, значит?
— Вызывали.
Баят-бола наклонился к нему и прошептал:
— Ищи любой способ и увиливай. Даром голову сложишь, не ходи! Вот возьми меня — ходил по щиколотку в крови, вернулся раненым, а что я имею?
Вспомнились Арслану слова Самандарова: «Хаят Хашимов во время боя у Белой Церкви сдался немцам. Через полгода объявился раненым на нашей территории. Документы у него безупречны. Однако установлено, что какое-то время он пребывал в туркестанском легионе. Сейчас выясняется, каким образом он оказался в нашем госпитале…»
Чиранчик-палван, видно, щедро потратился на вечеринку, В дни, когда люди не могли вдоволь наесться даже ржаным хлебом, это угощение можно было назвать ханским. Гости съели по две касы вкусно приготовленного нарына, даже выпили понемногу.
Чувствуя себя в центре внимания, больше всех говорил, конечно, Баят-бола. Все узнали, как сильно он тосковал по родимой земле, и сочувствующе качали головами, вздыхали. Баят-бола разглагольствовал о том, что нет на свете более прекрасной страны, чем их родной Узбекистан, что опротивели ему в чужих краях супы с капустой да картошкой. Потом, горестно качая головой, стал вопрошать, ради чего гибнут в далеких краях, на чужой земле, джигиты из Средней Азии, их сыновья, братья. Они, дескать, заслоняя других, подставляют себя под немецкие пули.
Зиё-афанди сидел, замерев, глядя ему прямо в рот. И едва тот умолк, не выдержав, взволнованно воскликнул:
— Долгой жизни батыру тюрков! — И, едва дотянувшись, хлопнул его по плечу. — Есть у меня отменный колпак из каракуля, дарю вам его! Мы наденем его на вас, когда вы пожалуете в гости в нашу скромную келью на Шайхантауре.
— Мы согласны, — ответствовал Баят-бола с важным видом и поднял пиалу с водкой. — Аксакалы, братья, будем здоровы. Я был, можно считать, мертвым, да аллах меня воскресил. Теперь знаю я настоящую цену жизни. Ею надо дорожить. Да будут благоденствовать узбеки!
— Будь здоров!
— Долгой жизни тебе.
— Баракалла!
Все выпили и поставили свои пиалушки на дастархан.
Чиранчик-палван услужливо подал Зиё-афанди чилим. Тот несколько раз затянулся и, выпустив клубы густого дыма, закашлялся, вытер тыльной стороной руки слезы, и обратился к Мусават Кари:
— Наш богатырь прав, Германия сильна безмерно. Железный поток, не сомневаюсь, дойдет и сюда. Дой-де-е-ет! И муки наши развеются, как вот этот дым чилима…
— Почему этот афанди все время исходит горючими слезами? — вполголоса произнес Хайитбай-аксакал, подтолкнув Мусавата Кари.
— Семья у него осталась в Стамбуле, — сказал Кари захмелевшему соседу, желая отвлечь его внимание и перевести разговор в другое русло.
Баят-бола посмотрел исподлобья на Хайитбая-аксакала, в его глазах промелькнула тревога, и он погрузился в молчание.
Стоит в махалле загореться дому, и стар и млад бегут туда. В такие минуты забывают о своем жилье — о посаженном в тандыр хлебе, о поставленном на очаг котле, о спящем в люльке ребенке, — спешат помочь соседу, спешат отвести от него беду.
А сейчас огромный пожар охватил западный край страны. Можно ли сидеть сложа руки?
Арслан незаметно оглядел сидящих. Они молчали. На лицах было недоумение.
Глава двадцать вторая КАК НА ФРОНТЕ…
Эркин, ставший в то утро случайным попутчиком Барчин, встретился в правлении колхоза с председателем и, отправившись после этого в поле, сфотографировал рекомендованных им колхозниц. Затем он отыскал в поле Дильбар и Барчин. Ему захотелось сфотографировать их вместе.
— Улыбайтесь, — сказал Эркин, направляя на девушек объектив.
Пока Эркин готовился, подружки разговорились.
— Улыбайтесь! — настаивал Эркин.
— Когда нам было весело, вы чего-то мешкали, — сказала Дильбар.
— Аппарат еще не был готов.
— А теперь нам не хочется смеяться, у нас серьезный разговор.
— Девушки, ну, умоляю вас! Хотя бы надо мной посмейтесь!
Барчин и Дильбар взглянули на Эркина и улыбнулись.
— Ну, молодцы! Ну, еще разочек!
Однако он не оставил девушек и после этого. То одну, то другую он фотографировал за сбором хлопка.
— Это замечательно! Я уж думал: удастся ли когда-нибудь увидеть Барчиной улыбающейся? А тут вот даже сфотографировать удалось. Теперь ваша улыбка всегда будет со мной!.. Вы прелестны, когда улыбаетесь. Я просто очарован вами.
— Прекратите несерьезные разговоры! — сказала Дильбар, строго взглянув на брата.
— Я сказал вполне серьезно.
— Пойдемте, Барчиной, попьем чаю, — предложила Дильбар, испытывая неловкость за брата. — А вы, ака, ступайте к бригадиру, составьте ему компанию за дастарханом. Он очень любит поить чаем корреспондентов…
— Если Барчин не возражает, я охотно попил бы чай вместе с вами.
— Какой же вы навязчивый! — засмеялась Дильбар.
— Эх, Барчин, не было бы моей сестры, пил бы я чай тут, с вами. А как же обычай даже незнакомых прохожих звать к дастархану? Тоже мне сестра! Что ж, ла-а-адно, я пошел!
Барчин и вправду расстроилась.
— Ну, пусть остался бы. Человек сделал доброе дело, а мы вместо благодарности…
— Эркинджан! Эй, Эркинджан, останьтесь! — крикнула Дильбар вслед Эркину.
Но тот, перекинув через плечо фотоаппарат, удалялся размашистым шагом. Сделал вид, что не слышит.
— Обиделся, — засмеялась Дильбар.
— Неловко как-то получилось.
— Что вы, Барчиной, его обиды надолго не хватит. Скоро отойдет и вернется. За ним это водится — немножечко поважничать.
Девушки дошли до конца своих рядков и, закинув фартуки за спину, направились к хирману пить чай.
Через неделю Эркин опять приехал в колхоз на велосипеде. Он отыскал поле, где собирали хлопок. Долго стоял на краю поля, вглядываясь. Наконец увидел Барчин. Сегодня было прохладно, небо затянули тучи, и с утра моросил дождь. Барчин была в старом сереньком платье. Эркин направился к ней. Услышав шаги, Барчин обернулась. Она очень удивилась, увидев Эркина. Не дожидаясь, пока девушка спросит, как он тут оказался, протянул ей один экземпляр свежей газеты:
— Вот… Привез вам…
Под заголовком «Передовые сборщицы», набранным крупными буквами, были напечатаны фотографии Барчин и еще нескольких девушек, а под ними дана коротенькая информация за подписью «Э. Раззаков».
— И заметку сами написали? Да вы на все руки мастер, Эркин-ака!
— Да… вроде бы так, — смущенно проговорил Эркин.
— А где же Дильбархон? Вы же ее тоже фотографировали!
— Редактор снял с номера. Говорит, надо показывать простых тружеников, а не руководителей района.
— Хорошо, что я отношусь к простым труженикам! — засмеялась Барчин. — Сбегать за Дильбархон?
Эркин нахмурился, он все еще был в обиде на сестру.
— Не стоит. Я приехал вас повидать… А этот узелок с провизией мать передала Дильбар. Передайте, пожалуйста, ей.
— Передам из рук в руки.
— До свидания.
Эркин зашагал к меже, где оставил велосипед. Подняв его с травы, сел и помчался в сторону города.
Выпал снег. Укрыл землю белым одеялом. Опустели поля. Собранный хлопок был уложен в огромные, с гору, бунты на хлопкопунктах и накрыт брезентом. Горожане разъехались по домам. А колхозники уже начали готовиться к весне…
У секретаря Хумаюна Саидбекова с наступлением зимы хлопот не стало меньше. Ежедневно из западных областей страны прибывали эвакуированные. Для райкома партии и райисполкома обеспечение эвакуированных семей жильем и питанием стало одной из основных задач. В учреждениях и предприятиях Шахрисябза уже работало немало людей, прибывших из Белоруссии и с Украины. Местные жители делились с ними кровом и своими припасами. Многие пожелали жить в сельской местности, и их поселили в близлежащих от Шахрисябза кишлаках.
Хумаюна Саидбекова известили из Москвы, что среди эвакуированных в Шахрисябз есть семьи командиров партизанских отрядов, действующих в Белоруссии. Секретарь лично навещал их, проявлял всяческую заботу.
В одну из комнат их соседки Айши-биби поселили пожилую женщину Марию Антоновну Богошевич с внучкой. Она прибыла из Черниговской области. Ее муж, зять и дочь — все трое ушли в партизаны.
На каждом заседании бюро секретарь райкома напоминал, что ни на минуту нельзя забывать о святом долге — заботиться об эвакуированных.
Шел снег. Не переставая валил хлопьями. Слабый ветер временами кружил его в хороводе. Зима вырядилась в белое и стала похожей на ту зиму, к которой привыкли новые жители Шахрисябза. Уже легкий морозец заставлял местных жителей прятаться в домах, а гостям приносил радость и усладу. И природа, видно, старалась им облегчить горечь расставания с милым сердцу родимым краем…
…Эркин Раззаков, первоначально работавший в военном комиссариате и сотрудничавший в районной газете, был назначен директором средней школы. Прежний директор ушел на фронт. Барчин в этой же школе вела начальные классы.
Однажды после окончания уроков Эркин подождал ее у выхода из школы и предложил проводить. Барчин не видела в этом ничего предосудительного, тем более что им было по пути. Они не спеша шли рядом. Рыхлый снег поскрипывал под ногами, снежинки, словно белые бабочки, кружились в воздухе. Барчин была в синем пальто с каракулевым воротником и черном цветастом платке, Эркин — в длинной шинели и шапке, на которой осталась отметина от звездочки. Но вскоре снег убелил их обоих и сделал похожими на Деда Мороза и Снегурочку. Эркин шел, размышляя о чем-то. Барчин чувствовала: собирается он что-то сказать, но не может решиться. Барчин заговорила с ним о школе, о новом методе преподавания русского языка в начальных классах, пожаловалась, что не хватает тетрадей и учебников, порой бедным ребятишкам приходится писать на обрывках газет. Потом говорили о делах на фронте, о последних передачах Совинформбюро. Барчин вспомнила брата — о том, как они вместе росли, ходили в школу и как Марат заступался, если ее обижали мальчишки…
Потом шли молча.
— Почему вы молчите? — спросила Барчин и улыбнулась. — Не думала, что вы такой молчун.
— Я вам хотел сказать…
Барчин подождала минуту и рассмеялась, потому что Эркин снова умолк.
— Ну, так говорите же!
Эркин остановился, взял ее руку в свои широкие ладони.
— Барчиной, я… люблю вас!
Барчин машинально отдернула руку, будто обожглась. На ее лице погасла улыбка, она опустила голову.
— Я люблю вас больше своей жизни. Сердце мое заполнено вами. Если не будет вас в нем, оно перестанет биться, — торопливо говорил Эркин, словно боялся, что Барчин его не выслушает до конца, сейчас вот повернется и убежит. — Извините, что я говорю так выспренне, но эти слова мне подсказаны сердцем…
— Не надо… — Барчин собиралась с мыслями. — Не надо, — произнесла она тихо. — Мне странно слышать это от вас… Я вас уважаю, Эркин-ака, как директора школы, как брата моей подруги, как своего друга, наконец. Но очень прошу вас — не говорите мне больше этого… Не сердитесь…
Она отступила на шаг, медленно повернулась и пошла к своему дому.
— Извините, Барчиной, — донесся до нее сдавленный голос Эркина.
В воздухе по-прежнему кружились снежинки. Растаяла вдали фигурка Барчин. А Эркин все стоял, глядя на следы, оставленные на ровном, чистом снегу.
Барчин сидела за столом и при тусклом свете керосиновой лампы писала конспект, готовясь к урокам. Она никак не могла сосредоточиться. Ее тревожило, что от Арслана давно не было писем. «Арсланджан! Если бы ты сейчас был рядом, я бы тебе сказала, что… люблю, люблю тебя. Да, это правда, дорогой мой. Я не забыла, милый, слова, данного тебе…»
Барчин отодвинула тетрадь, в которой писала план уроков на завтра, вырвала листок и начала торопливо строчить письмо.
Рассветало поздно. Барчин выходила из дому, когда было еще совсем темно. Пожалуй, она боялась бы идти пустынной в ранний час улицей, если бы не Каплан, каждый раз провожавший ее до самой школы. Он степенно вышагивал рядом, ни на шаг не отставая. У школы Барчин ласково трепала его за уши и исчезала. А Каплан переходил на другую сторону улицы, — словно чувствовал, что его боятся ребятишки, идущие в школу, — и сидел некоторое время неподвижно, уставившись на дверь, за которой скрылась Барчин. Потом трусцой бежал домой.
Барчин несколько дней не показывалась в учительской. Она испытывала неловкость перед Эркином. Они несколько раз неожиданно встретились в коридоре. Девушка краснела и, пролепетав еле слышно: «Здравствуйте», проходила мимо, низко наклонив голову.
Как-то Эркин Раззакович созвал педсовет. На нем разбирались важные вопросы. Директор сделал небольшой доклад о текущих делах. При этом он ни разу не взглянул на Барчин. Даже когда говорил непосредственно о классе Барчин, избегал ее взгляда. Если же девушка смотрела на него, внимательно слушая, он сбивался, краснел и начинал заикаться. Тогда Барчин открывала учебник по географии и делала вид, что читает.
Но проходили дни, Барчин начала забывать о происшедшем между ними разговоре, и постепенно к ней возвратилось спокойствие.
Однажды вечером домой к ней зашла Дильбар, и они пошли вдвоем в кино.
На обратном пути Дильбар взяла Барчин под руку и намеками дала понять, что знает об «осечке», постигшей брата при объяснении с нею.
— Я говорю ему: «Ака, оставьте мою подругу в покое, она еще и не думает о замужестве!» А он чуть не плача: «Сестра голубушка, скажите ей — если не суждено мне на ней жениться, всю жизнь я буду один!..» Вот так, подруженька! Сам не свой он стал в последнее время. И работу запустил. Только курит и курит целыми днями. И выглядит-то, как будто в нем хворь какая завелась…
Барчин неспешно шла рядом с Дильбар и думала, как бы сказать помягче, чтобы не обидеть подругу. И едва та умолкла, посмотрела на нее ласково и проговорила:
— Подруженька, ты правильно сказала ему, я не помышляю сейчас о замужестве. Ведь брат мой на фронте, а какая свадьба без него…
— Эркин-ака подождет, только пообещайте!
— И все наши родственники в Ташкенте. Мы же уехали, даже двери не заперев. Вот кончится война, вернемся к себе…
Дильбар умолкла. Нетрудно было понять, почему Барчин прямо не говорит, что не люб ей Эркин, — не хочет обидеть подругу. И Дильбар поняла это. Завела разговор совсем о другом.
Сегодня Хумаюн Саидбеков обещал прийти домой пораньше. Хамида-апа приготовила его любимое блюдо — плов — и завернула его, чтобы не остыл. Время близилось к семи, а муж все не возвращался. Хамида-апа принялась штопать протершиеся носки мужа, чтобы занять чем-нибудь себя и не мешать разговорами дочери, готовящейся к урокам.
О стекла окон, шурша, бился сухой снег. Наступили сильные морозы, каких не видывали люди в этих краях. Зима здесь всегда бывала мягкой, а сейчас деревья и земля трещали от мороза, земля покрылась наледью.
На айване послышались тяжелые шаги. В комнату вошел припорошенный снегом Хумаюн-ака.
— От райкома два шага, а вы в сосульку превратились! — сказала Хамида-апа, помогая ему снять пальто.
— Если бы так… Ехали из колхоза, дорога скользкая. Ну и занесло нас. В кювет угодили. И, как нарочно, ни одной машины на дороге. Пришлось мне пешком до города добираться. Послал сейчас отсюда грузовик, чтобы моего водителя вытащил.
Барчин налила в умывальник теплой воды, Хумаюн-ака умылся. Хамида-апа между тем накладывала в блюдо плов, попрекая мужа, что он обещал прийти домой пораньше, а сам едет в колхоз.
Оправдываясь, Хумаюн-ака рассказал, что Центральный Комитет партии Узбекистана принял специальное постановление по животноводству — об увеличении поголовья скота и заготовок кормов, — так как армию надо обеспечивать мясом. Вот и пришлось ему ездить по животноводческим фермам, знакомиться с положением. «Для твоего сына стараемся, чтобы пища у него калорийная была», — сказал он, желая окончательно задобрить жену. И та приветливо улыбнулась, разгадав его «тактический ход».
Уже собирались садиться за стол, как в дверь постучали. В комнату вошел почтальон Мирзамухаммад.
— Вот, только что прибыло, и я сразу же к вам, — сказал он, протянув письмо. И пока Хумаюн-ака разглядывал конверт, потоптался у порога, согревая дыханием красные, озябшие руки.
— Ну, мать, радуйся, письмо от сына! — сказал Хумаюн-ака. И, взяв почтальона под руку, усадил к столу. — Радостную весть принесли вы в дом, можно ли отпустить вас так просто? — засмеялся он.
Мирзамухаммад в своем тоненьком чапане изрядно продрог. Хумаюн-ака достал из ниши припрятанную бутылку.
— По такому случаю можно, — заговорщически подмигнул он Мирзамухаммаду. — К тому же нам с вами погреться не мешает.
Барчин и Хамида-апа тоже сели к столу. Мирзамухаммад, глядя на плов, проглотил слюну, Барчин повыше подняла фитиль в лампе и прочитала вслух письмо от брата. Хумаюн-ака внимательно слушал, слегка склонив голову. Хамида-апа украдкой смахнула слезу.
Потом мужчины чокнулись и выпили за здоровье наших бойцов.
Мирзамухаммад после плова осушил пиалушку чаю и, поблагодарив хозяев, попрощался.
За столом зашел разговор о том, почему фашисты позарились на нашу землю. Хумаюн-ака стал рассказывать, какая богатая у нас страна, сколько в ней еще неосвоенных просторов.
— А как ты думаешь, папа, сейчас есть ненайденные земли? Сегодня у меня ребятишки спросили, а я не знала, что ответить.
— Если говорить о вселенной, дочка, то здесь большие открытия еще только предстоят. Наступит время, когда Колумбы космоса будут открывать все новые и новые острова во вселенной. О дочка, прекрасное то будет время! Не знаю, доживу ли я, но ты, я верю, доживешь…
Заговорили об известных всему миру путешественниках. Барчин с восхищением говорила об испанце Христофоре Колумбе, об итальянце Америго Веспуччи, португальце Васко да Гама. По ее словам, не было более великих первооткрывателей, кроме них, повидавших столько чудесных стран.
Хумаюн-ака слушал дочь, снисходительно улыбаясь. Когда она закончила и перевела дух, он как бы между прочим заметил, что по некоторым сведениям — особенно доказательны исследования Бартольда и Якубовского — о существовании американского материка, о том, что «далее пространства морей есть земля», задолго до Колумба писал Абу Райхан Бируни, а впоследствии о том же говорил Мирзо Улугбек. Хумаюн-ака с возмущением говорил также о том, что буржуазные ученые нередко намеренно замалчивают имена великих философов, астрономов, ученых-медиков, поэтов, творивших на Востоке. Только в советское время засверкали имена таких гениев, как Бируни, Авиценна, Улугбек, Навои, Ал Хорезми, Ал Фараби…
— А знаешь ли ты, что логарифмы высшей математики выведены Ал Фаргани, жившим в нашей Фергане?.. А слышала ли ты что-нибудь об астрономической таблице «Зиджи курагани» Мирзо Улугбека? Когда она была составлена и подробно нанесен на карту небесный свод, еще не было на свете ни Коперника, ни Галилея, ни Ньютона… Вот ты восхищаешься западными путешественниками, а ты можешь мне сказать что-нибудь об Ибн-Баттуте?
— А кто это, папа?
— Величайший путешественник и этнограф!
— Надо же — я ничего о нем не слыхала…
— Он уроженец города Танжера в Марокко. Получил высшее юридическое образование и в тысяча триста двадцать пятом году совершил паломничество в Мекку. Испытав в пути множество трудностей и лишений, он пересек всю Северную Африку и добрался до Египта. Здесь путешественник повернул на юг и, идя вверх по Нилу, дошел до истоков великой реки. Из Египта Ибн-Баттута не поехал прямо в Мекку. Страсть путешественника и любознательность заставили его посетить Палестину, Сирию, Месопотамию. И только после этого он прибыл к цели своего путешествия.
Возвращаясь после поклонения в Танжер, Ибн-Баттута опять же избрал довольно сложный маршрут: из Мекки он подался на восток, через весь Аравийский полуостров. Далее, следуя вдоль берегов Персидского залива, по югу Персии достиг пролива Ормуз. Здесь Ибн-Баттута сел на корабль, шедший на восток и юг — в Занзибар, и только оттуда вернулся наконец домой.
Но жажда познаний не давала Ибн-Баттуте покоя. Ему даже казалось странным, что люди могут жить на одном месте в то время, когда на свете так много чудесных, не увиденных ими стран. Даже перелетные птицы превосходят в этом смысле человека, и это Ибн-Баттута считал несправедливостью аллаха.
Он решил совершить паломничество вторично.
На этот раз поехал прямо в Мекку. Но возвращение растянул на многие годы. Теперь путешественник избрал маршрут на север, через Малую Азию, и дошел до порта Синоп на Черном море. Оттуда на генуэзском корабле переправился в Крым. Пройдя через Крым, Ибн-Баттута направился на восток, и, достигнув устья Волги, пошел вверх по реке до татарской столицы Сарай-Берке. А как раз в это время из Сарай-Берке в Константинополь возвращалась византийская принцесса, Ибн-Баттута присоединился к ее свите. В Константинополе он пробыл совсем недолго — снова направился на восток. Пересек Малую Азию и прибыл в Хиву. Оттуда направился в Бухару, затем в Афганистан. И, следуя по берегу Инда, достиг столицы Индии Дели. Здесь Ибн-Баттута долгое время исполнял обязанности судьи, пока не прибыло туда арабское посольство, направлявшееся в Китай. Ибн-Баттута согласился поехать туда с миссией вместо послов — ему представился удобный случай посетить Китай… Возвращался он опять-таки по другому пути — через Яву, Суматру, Цейлон и другие острова Юго-Восточной Азии. На Мальдивских островах тоже он прожил некоторое время и занимал должность судьи. Высокая образованность позволяла ему везде исполнять дипломатические поручения или занимать судейские должности.
Это второе путешествие Ибн-Баттуты продолжалось двадцать четыре года. Однако дома он опять-таки отдыхал недолго. Вскоре отбыл в Андалузию и Гренаду, бывшие тогда арабскими колониями. Оттуда в тысяча триста пятьдесят втором году направился в Фес…
Слава о путешествиях Ибн-Баттуты достигла ушей султана Марокко, и он поручил опытному путешественнику дипломатическую миссию к властелину Мали в Томбукту. В Мали Ибн-Баттута поехал через Западную Сахару, а обратно вернулся через горы Ахаггар и Атлас.
Возвратившись из этого путешествия в Фес, Ибн-Баттута никуда больше не уезжал, а занялся составлением воспоминаний о своих путешествиях, где он дает подробное описание увиденных им стран, рассказывает об обычаях различных народов…
— Как интересно! Почему же раньше о нем нигде ничего не упоминалось?
Хумаюн Саидбеков усмехнулся. Подумав, сказал:
— До недавнего времени в мире господствовал капитализм. Все это время процветала политика колонизаторства. Империалисты прежде всего обвиняли народы Африки, Азии в отсталости и, внушая, будто делают благодеяния, захватывали их страны. Поэтому они старались предать забвению нашу тысячелетнюю культуру, имена наших ученых, при этом превознося культуру Западной Европы… То же самое сейчас делают фашисты, пошедшие на нас войной. Они внушают своим солдатам, что народы завоеванных ими стран неполноценны и им надлежит стать рабами сверхчеловеков — арийцев. Но немецкие фашисты не первые, кто поставил себе цель мирового господства. Были такие и до них. И, как правило, их планы кончались крахом. Эту коричневую чуму тоже сведем со света…
— Искусство древнего врачевания Авиценны изучается даже современной медициной, — задумчиво заметила Барчин.
— В те времена на Востоке врачевателей, подобных Авиценне, было немало. Их называли табибами. Это были люди, хорошо знающие народную медицину, лекарственные травы, многократно проверившие свои средства на практике. Конечно же нельзя сравнивать врачевание того времени с нашей современной медициной. Однако кое-кто, проводя такую аналогию, преподносит нашим современникам табибство как нечто невежественное и неприглядное… Что и говорить, есть и в настоящее время табибы двоякого рода — те, кто знает «секреты» народной медицины, и те, кто обманывает людей всякого рода заговорами, вымогая у них деньги…
Они беседовали до полуночи. Потом Хумаюн Саидбеков вышел во двор и принес из сарая несколько поленьев дров.
— Ночью будет сильный мороз, — сказал он и подбросил в печку дров.
Перед рассветом Хумаюн-ака разбудил жену и попросил валидол. Он лежал бледный, держась левой рукой за грудь. Хамида-апа дала лекарство, открыла форточку, помахала перед лицом мужа влажным полотенцем. Через несколько минут боль в груди отпустила, и Хумаюн-ака облегченно вздохнул.
— Зря я вчера дров в печку добавил, — сказал он. — Это, видно, от жары…
Как Хамида-апа ни уговаривала мужа не идти на работу, он все-таки ушел, сказав ей, что должно состояться бюро райкома.
Бюро началось в десять. На нем приняли в партию четырех новых членов. Потом был заслушан доклад начальника строительного треста, который вел строительство нового завода за чертой города. Хумаюн-ака считал, что строительство ведется слишком медленно, и хотел разобраться в причинах…
После окончания бюро он вместе с руководителями стройки выехал на объект.
В большом трехэтажном корпусе пять-шесть рабочих устанавливали оконные рамы. Ушанки у них были завязаны под подбородком.
Выйдя из машины, Хумаюн-ака увидел торчавшую из раствора цемента лопату. Бумажные мешки с алебастром и цементом покрыты слоем снега. Строительные материалы в беспорядке. Саидбеков внимательно оглядел все это, попытался вытащить из раствора лопату. Цемент успел затвердеть.
— Скоро из Хилкова прибудут пятьдесят тонн цемента. Его тоже оставите под снегом? — спросил он у начальника строительства.
В этот момент из покосившейся дощатой времянки вышли несколько строителей. Они начали поспешно подбирать с земли лопаты.
— Почему не работаете? — спросил секретарь райкома.
— Холод собачий… Зашли погреться…
— А может, лучше дождаться весенней оттепели? Пусть строительство завода подождет! Пусть фронт подождет, пока мы начнем ему поставлять продукцию! Пусть страна подождет!..
Рабочие стояли потупившись.
Хумаюну-ака, видно, самому было неприятно, что пришлось на этих людей повысить голос. Ничего больше не говоря, он в сердцах схватил лопату и начал заново разводить цемент. Рабочие смущенно потоптались вокруг и тоже взялись за дело. Руководители строительства переглянулись. Им ничего другого не осталось, кроме как тоже взяться за лопаты. Хумаюну-ака сделалось жарко. Он снял пальто.
— Если бы вы по-настоящему работали, вам не пришлось бы греться в этой хибаре! — отчитывал он рабочих, а заодно и руководителей строительства. — Мы должны чувствовать себя как на фронте.
— Хватит вам, товарищ Саидбеков, сами справимся, — сказал один из пожилых рабочих.
Хумаюн-ака улыбнулся и примирительно произнес:
— Ничего. Поработаю немножко. Ведь мы тоже из рабочих… Приятно потрудиться на свежем воздухе…
Вдруг он замер, опершись на лопату, — понял, что лишается сил. Пытался скрыть, что ему плохо, старался дышать медленно и глубоко — это ему не раз помогало. Сейчас бы достать валидол из левого кармана, но он чувствовал: если отпустит лопату, упадет. И все больше и больше клонился набок. Не успей подскочить к нему рабочий, свалился бы наземь. В ту же минуту подбежали начальник строительства и еще несколько человек. Подняли его на руки, внесли в дощатую времянку. Кто-то составил вместе две скамьи, и его уложили на них. Начальник строительства подложил ему под голову свое пальто, велел срочно вызвать врача.
…Но врач Хумаюну Саидбекову уже был не нужен.
— Да… Как на фронте… — произнес пожилой рабочий, вытирая слезы.
Глава двадцать третья ВРАГИ
Утром Шавкат Нургалиев окликнул Арслана, едва тот вошел в цех.
— С этого дня ты будешь работать заливальщиком, — сказал он. — Распоряжение начальника цеха.
— Хорошо, — согласился Арслан.
Нургалиев вынул пачку «Беломора». До начала смены оставалось несколько минут. Закурили.
— Поступил большой заказ, — сказал Нургалиев, щурясь от едкого дыма. — Будем отливать детали мин и снарядов.
— Наше дело — выполнять что скажут.
— Не просто так ведь нам с тобой броню дали, а для того, чтобы мы на совесть трудились.
— Лучше бы на фронт…
— А ты не расстраивайся, — Нургалиев положил руку Арслану на плечо, — тут тоже нужны люди. Если все уйдут на фронт, кто будет делать для фронта танки, снаряды? Тебе пора, Арслан, заступай!
Арслан кивнул. Быстро переодевшись, подошел к клокочущим вагранкам, выплескивающим пламя. Подтолкнул наполненный кипящим металлом ковш. Казалось, гудели от напряжения цепи, к которым был он подвешен, да где-то под потолком скрежетали на рельсах ролики. Чуть наклонив ковш над формой, Арслан заливал металл, который сердито шипел и разбрасывал искры. Не прошло и получаса, тело его уже лоснилось от пота.
Арслан работал самозабвенно. В таком состоянии человек, может быть, пребывает, если только слушает прекрасную музыку или углубился в чтение интересной книги. Работа Арслана захватывала именно так. Движения его быстры и точны, взгляд сосредоточен. Литейщику иначе нельзя. Малейшая неточность — деталь забракована. Во время работы литейщики не разговаривали. Да и все равно в таком шуме не услышали бы друг друга. Изредка изъяснялись знаками. А больше они старались понимать один другого по взгляду…
Усталость Арслан чувствовал только в те минуты, когда отвлекался от дела: снова слышал шум, а перед глазами искры, искры со всех сторон. Шум постепенно стихал, усталость проходила по мере того, как он вновь включался в работу. Однажды Нургалиев, со стороны любуясь им, сказал: «Вот что значит кровь! Поглядите на него — копия отца!»
В душе Арслан гордился собой. В литейном цехе работать может не каждый, а только тот, у кого отменное здоровье. Не всякий может выдержать это адское пекло да грохот, от которого, кажется, мозги начинают вибрировать. Когда в цехе появлялся новичок, ветераны переглядывались, «Посмотрим, — каков этот — калай[78] или пулат[79]?» — означали их взгляды. И это становилось известно самое большее через три дня. «Калай» не выдерживал больше…
В полдень, возвращаясь из столовой, Арслан встретил Нишана-ака.
— Тебе же была повестка, — сказал старый мастер. — Болезнь, что ли, приключилась какая?
Арслан повторил то, что уже повторял десятки раз. Ему очень хотелось ничего не таить от Нишана-ака, рассказать все как есть, чтобы старый друг его отца не смотрел на него с иронией. Но вынужден скрывать истину даже от матери.
— Ну, братец, — усмехнулся Нишан-ака, — моя сестра вон тоже одна-одинешенька, а у нее обоих сыновей призвали. Давеча из Пензы племяши мои прислали письмо. Миномет изучают. Выходит, сегодня-завтра отправят на фронт. Так что ты, братец, не криви душой.
— Ну, значит, я здесь больше нужен, — потупясь, пробубнил Арслан.
— А другие не нужны? — глянул на него в упор Нишан-ака.
— Вы же знаете, Нишан-ака, я хотел добровольно пойти.
— Знаю.
— Значит, излишни ваши упреки.
Нишан-ака уклончиво отвел взгляд в сторону.
— В махалле поговаривают и другое…
— Что… поговаривают? — насторожился Арслан.
— Говорят, зятек ваш Кизил Махсум сумел кое-кому подсунуть. Говорят также, что ты в близких отношениях с дочерью Хумаюна-домля и они оказывают тебе поддержку. Да мало ли что еще говорят…
— Услышать бы мне это самому! — вспылил Арслан, побагровев. Глаза его сверкнули, будто свет вагранки отразился в них. Он круто повернулся и размашисто зашагал в сторону своего цеха.
— Постой же! — донесся голос Нишана-ака.
Арслан не обернулся.
В один из поздних зимних вечеров, когда Арслан собирался укладываться спать, чтобы подняться опять ни свет ни заря, в дверь постучали, и в комнату вошел Кизил Махсум. Мадина-хола обрадовалась, не зная, куда усадить гостя. Арслан же старался скрыть раздражение, отложив объяснение для более подходящего момента: гость, какой он ни есть, все-таки гость, и закон требует ему оказывать знаки гостеприимства.
Выпив пиалушку чая, Кизил Махсум объяснил причину своего столь позднего визита:
— Днем тебя дома не застанешь, братец. У тебя все работа да работа, ничего другого, кроме работы, и не знаешь. Забыл всех своих друзей-приятелей. Зато друзья тебя не забывают. Завтра вечером приходи к Кари-ака, у него соберется хорошая компания.
Арслан, все-таки не выдержав, бросил:
— Этот Кари-ака устраивает угощение за угощением, а многие детей не могут накормить досыта.
Кизил Махсум насупил свои рыжие брови, посуровел.
— Ты, братец, ешь виноград, а из какого он сада, не спрашивай. Он из уважения к тебе приглашает, а ты…
— Ну ладно, — заставил себя улыбнуться Арслан. — Приду.
— То-то, братец, так-то лучше. Будешь сторониться хороших людей, друзья отвернутся от тебя и останешься один как перст в целом свете. Не так ли, матушка? — обратился Кизил Махсум к Мадине-хола.
Та поспешно закивала:
— Конечно, конечно, милый. Мудрые люди говорят: разговаривая с одним, ума набирайся, а на иного глядя, судьбе своей радуйся.
— С Кари-ака нам нынче не резон терять связь, — сказал Кизил Махсум, поднимаясь с места. — Теперь он хоть и не высокий бугор, а все же начальничек.
Мадина-хола вышла проводить его до калитки.
Мусавату Кари, ходившему прикрыв бритую наголо голову зеленой тюбетейкой, удалось продвинуться: к нему перешли дела председателя махаллинской комиссии. Прежний председатель уехал на фронт. Теперь, что бы в махалле ни предпринималось, Кари был главным советчиком. Той ли у кого, или похороны, а может, кто-то продает дом — Кари руководит всеми этими мероприятиями. Без его посредничества никто из вновь прибывших не может снять комнату в махалле. С первого взгляда он научился определять, кто перед ним стоит — может ли этот человек быть ему полезным. Новый председатель то и дело созывал махаллинцев в чайхану на собрания. Произносил перед ними речи, в которых часто употреблял слова «сосьолизм», «каланилизм» и произносил их на арабский лад — растянуто, точно читал Коран. С помощью краснобайства он многих махаллинцев склонил на свою сторону. Некоторые восхищались его деловитостью, организаторскими способностями, умением для кого-то что-то раздобыть, хотя и знали, что Мусават Кари вряд ли стал бы заниматься бесприбыльным для него делом.
Проходя мимо знакомой маленькой калитки, Арслан подошел к дувалу и, приподнявшись на цыпочки, заглянул во двор. Это был двор Баймата. Он зарос бурьяном и сделался местом обитания одичавших кошек. На айване все еще лежала груда тряпья, в которой спала когда-то маленькая Субхия.
Арслан долго стоял, глядя на двор, и не мог отогнать от себя тягостные мысли. Они не покинули его и когда он перешагнул порог калитки Мусавата Кари. В углу двора, зазвенев цепью, зычно залаяла собака. Та самая, которая когда-то укусила Субхию.
Появился Атамулла. Он поздоровался с Арсланом, проводил его в комнату для гостей. Вокруг большой хонтахты сидели сам хозяин, Кизил Махсум и Баят-бола в гимнастерке, перепоясанной широким ремнем. Мусават Кари поднялся и милостиво пригласил Арслана занять одно из почетных мест.
Арслан поздоровался и сел рядом с хозяином, ближе к двери.
— Прошу обратить внимание к дастархану, — сказал Мусават Кари, указав рукой, и протянул Арслану пиалу с чаем.
Минуты две-три царила неловкая тишина. Видно, Баят-бола что-то рассказывал, а когда вошел Арслан, умолк. Сейчас он сидел, сосредоточенно расщепляя фисташки.
— Глядите-ка, какие холода наступили, — сказал Арслан, чтобы как-то нарушить неловкую тишину.
— Ничего, зима, она тоже нужна. Полютует да пройдет, — сказал Мусават Кари и обратился к Баяту-бола: — А как в тех краях, где вы побывали? Зима небось еще злее?
— Да-а, снегу выше головы, — ответил тот и провел ладонью над макушкой. — Для наших джигитов российская зима смерти подобна. И длится-то больше полугода! Те, кто прибыл из теплых мест, не могут к ней привыкнуть.
— Арсланджан тоже чуть было не оказался в тех краях. Молодец, выкрутился! Сейчас каждый должен думать о том, чтобы сберечь свою жизнь. Зачем ни за что ни про что подставлять лоб немецкой пуле? Ну как, братишка, на заводе дела идут?
— Нормально.
— Ну, ты, пожалуйста, ешь. Ешь. Мы тут перекусили без тебя. Думали, ты еще позже придешь. Твой зять говорит, что ты всякий раз еще и после смены остаешься. Себя не жалеешь, братец, себя не жалеешь…
— Что поделаешь, все так работают, не уклоняться же мне.
— А кто работает-то? Да такие недалекие, как твой Нишан-ака. Работает-работает, а в доме как было пусто, так и сейчас хоть метлой мети. Работать тоже с умом надо, братец.
Мусават Кари по сей день считал Нишана-ака, который в своей жизни не сделал ничего такого, что заставило бы его жить, как говорится, с прикушенным языком, своим первым врагом. После того как Мусават Кари пробился в махаллинские начальники, ему казалось, что все заискивают перед ним. Если кто и недолюбливал его, все же делал вид, что уважает. Только этот упрямец Нишан при любом удобном случае насмехается над ним, вредит его авторитету. Мусават Кари же старался отплатить ему тем, что среди махаллинцев распространял о нем всякие небылицы и этим хотел отвадить от него людей: пусть, дескать, попробует в жизни побарахтаться один. Но после одного инцидента, происшедшего между ними, он стал опасаться, избегать встреч с ним и досаждал ему тайком, незаметно. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь…
Нишан-ака как-то встретился с Мусаватом Кари лицом к лицу на безлюдной улице. Вплотную подступив к нему, сказал грозно:
— Если ты не закроешь свой поганый рот, я намотаю тебе на голову твои кишки, чтобы ты ходил в чалме, как положено ходжам! — и даже сделал вид, что достает из кармана нож.
— Что вы кричите на меня! — еле выговорил, дрожа от страха, Мусават Кари.
— Я не из тех, которые увивались в свое время за «шурайи исламия», поэтому хожу прямо и разговариваю громко. Это ты, нечестивец, должен прятаться по закуткам. Знаешь ли, кто ты есть, Кари? Все кари[80] во все времена были чьими-нибудь блюдолизами и интриганами. Ты и сейчас остался таким…
Мусават Кари не знает, как тогда ноги унес. Даже сейчас ему стало не по себе, когда вспомнил про это.
— Этот Нишан продал душу дьяволу. Разве он узбек? — проговорил, меняясь в лице, Мусават Кари.
Чтобы как-то переменить тему разговора, Арслан обратился к Баяту-бола, спросил его о житье-бытье, о самочувствии.
— Хаятджан близкий нам человек, — сказал Мусават Кари подобревшим голосом. — Их отец был из старых муаллимов-учителей. Многоученый был человек. Мы с ним дружили. А Хаятджан единственный сынок нашего покойного друга, пусть пухом ему будет земля…
— Работаем на одном заводе, а видимся редко, — произнес Баят-бола, как бы упрекнув Арслана.
— Что поделаешь, все мы так заняты…
— Вы, кажется, в литейном?
— Да, перенял отцовскую профессию.
— И что льете?
Арслан замялся, посмотрел по сторонам, как бы выражая беспокойство, и сказал, понизив голос:
— Мины, бомбы…
— Какого калибра?
— Всякие есть.
Баят-бола засмеялся. Его рассмешило, что Арслан, так разоткровенничавшись, вдруг осекся. Он прикинул про себя, что из этого простодушного парня можно кое-что вытянуть. Довольно крякнув, уселся поудобнее, взял пиалу с чаем.
Арслан же поделился «тайной», которая на самом деле никакой тайны из себя не представляла. Все заводы выпускали оружие. Это было известно каждому.
— Ракеты для «катюш» тоже у вас выпускаются?
— Этого не знаю.
— Да, впрочем, какая разница, где они делаются… Ну и навели они страху на немца, — посмеиваясь, проговорил Баят-бола, как бы желая рассеять подозрение, если оно появилось у Арслана, и отпил глоток из пиалы. — Кари-ака, знаете, где я работаю?
— Вы же сказали — на заводе… Если хотите, я вас устрою в продовольственный или в хлебный магазин. Это я могу. Знакомых много. Хлебный магазин — самое жирное местечко. Ну как, а?
— Спасибо, Кари-ака, завод для меня лучше. Правда, я не могу работать в литейном цехе, как Арсланджан, но при заводском клубе кое-что уже организовал. Драмкружок работает, сейчас инструменты приобретаем для оркестра. Инвалиду подходяще…
Мусават Кари и Кизил Махсум в душе никак не могли согласиться с ним, но, чтобы не обидеть, утвердительно кивали, приговаривая: «Конечно, конечно…»
Гости разошлись за полночь, когда их, разморенных едой и выпитым, уже начало клонить ко сну.
…Прошло два дня. Чуть свет Баят-бола постучался в калитку Мусавата Кари. В руках он держал касу с застывшими сливками, купленными только что на базаре.
— Салам, Кари-ака! Не могу завтракать один, составьте компанию, помогите справиться вот с этими сливками, — сказал он удивленно разглядывающему его хозяину.
— Э-э, пожалуйста, укаджан!
Они вошли в комнату. Мусават Кари постелил курпачу в два слоя, придвинул хонтахту и накрыл ее. Заметно было, что он нервничает. Видно, понимал, что не эта пустяковая причина привела в его дом спозаранок гостя.
— Мне нужно с вами поговорить, — сказал Баят-бола.
— Пожалуйста. Только скажу сыну, чтобы чаю…
— Не надо беспокоить сына, принесите уж лучше сами.
Мусават Кари вышел в летнюю кухню, где Пистяхон уже развела огонь. Он подбросил в самовар несколько лучинок и наказал дочери, чтобы кликнула его, как только чай закипит. Вернувшись, сел напротив гостя, скрестив по-турецки ноги.
Баят-бола подался вперед, облокотившись на столик.
— Говорят, куй железо, пока горячо. Надо оповестить мусульман, которым мы с вами можем верить, что в Германии образовано туркестанское правительство. И пусть знают, что это правительство крепко борется за создание туркестано-исламского государства. Но успех в этом святом деле может быть обеспечен только в том случае, если выступит народ. Немцы подходят все ближе и ближе, надо готовить людей. Открыто беседовать небезопасно. Нужно распространять слухи: дескать, заходил кто-то в чайхану и говорил то-то и то-то. Следует позаботиться, чтобы и в других махаллях об этом узнали. Вы, аксакал, возьмите на себя это.
— Будет исполнено.
— Вы здесь влиятельный человек, к вам прислушиваются.
— Я теперь председатель махаллинской комиссии.
— Мне это известно, Кари-ака.
— А когда придет новое правительство, оно не отнесется ко мне соответственно, как к председателю махаллинской комиссии?
— Ха! — усмехнулся Баят-бола. — Напротив. Для будущего правительства вы будете очень ценным человеком.
Мусават Кари помолчал в раздумье, потом с волнением провел по лицу ладонями.
— Аминь!
— Сейчас удобный момент, внимание властей отвлечено фронтом. Мы должны действовать. Пока главное наше оружие — слово.
— Этим оружием мы пользуемся давно. Мы давно не молчим.
— На днях к вам придет джигит. Он был на фронте, после ранения отправлен в тыл. Найдете ему комнату.
— Будет сделано.
— Невысокого роста. Круглолицый. Фамилия Дадашев. Он прекрасный фотограф. Постарайтесь его устроить в какую-нибудь фотографию.
— Будет сделано.
— А что вы думаете о том джигите?
— О каком? Об Арслане?
— Да, о нем.
— Вы же его знаете не хуже меня. Умный парень, любит свой народ. Я Махсумхану верю, как себе, а Махсумхан его зять.
— Что ж, посмотрим, — задумчиво проговорил Баят-бола, хищно сощурившись. И, залпом выпив остатки чая из пиалы, неожиданно поднялся. — До свидания, Кари-ака.
— Посидели бы еще, сейчас завтрак будет готов.
— Некогда. Аллах велик, еще посидим. Придет праздник в нашу махаллю.
Слегка прихрамывая и опираясь на палку, Баят-бола пересек двор и вышел из калитки.
Глава двадцать четвертая РАСПЛАТА
О кончине Хумаюна Саидбекова через час уже знали в Центральном Комитете компартии Узбекистана.
На второй день по просьбе Хамиды-апа нашли возможность сообщить о случившемся Марату Саидбекову. Позвонили в Москву, оттуда передали телефонограмму на фронт, где сражался капитан Саидбеков.
В газете «Кизил Узбекистон» появился некролог с фотографией Хумаюна Саидбекова…
После ожесточенного боя наши части выбили фашистов из их укреплений и заняли новый рубеж, почти вплотную подступив к реке Угра. Стало известно, что немцы свои усиленные моторизованные части, расположенные в Починке, Ельне, Спас-Деменске, стали сосредоточивать вблизи города Мосальска. С минуты на минуту они могли перейти в наступление…
Батарея, которой командовал капитан Саидбеков, заняла позицию в десяти километрах северо-западнее реки Угра. По приказу командира артиллеристы рубили в лесу ветки и маскировали орудия. Держался такой мороз, что к металлу примерзали руки. Бойцы согревались, лишь работая. Мерзлая земля звенела под лопатами. Ярко светило солнце, снежная белизна слепила глаза.
Капитан Саидбеков осмотрел батарею и остался доволен.
Пожилой подполковник, прибывший из штаба дивизии, отыскал Саидбекова. Они обменялись рукопожатиями.
— Капитан! — сказал подполковник. — Я принес вам тяжелую весть. Но мы с вами люди волевые. Будьте мужественны!
— Что случилось? — глухим голосом спросил Марат Саидбеков, чувствуя, как в груди что-то оборвалось.
— Получена телефонограмма. Умер ваш отец. — Он протянул листок бумаги Марату.
«Капитану Марату Саидбекову.
10 декабря с. г. скоропостижно скончался ваш отец, первый секретарь Шахрисябзского райкома партии Хумаюн Саидбеков. Товарищ Саидбеков был одним из боевых командиров трудового фронта в тылу нашей страны. Его кончина тяжелая утрата для всех нас. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Юсупов».
Марат долго стоял неподвижно, как загипнотизированный.
— Идемте в блиндаж, — сказал подполковник.
Они спустились по ступенькам. Здесь, потрескивая, горела печь. Марат сел на ящик из-под снарядов, расстегнул пуговицы на вороте, который вдруг сделался тесным.
Марат Саидбеков каждый день, каждый час глядел в глаза смерти. Он в беспощадной схватке побеждал ее, делал все, чтобы не пропустить туда, где живут и трудятся люди его страны, чтобы уберечь от ее черного дыхания близких родных, А она прокралась… поразила отца.
Подполковник положил руку на плечо Марату.
— Капитан! Мне пора в штаб. Примите сочувствие и глубокое соболезнование генерала. Он просил передать вам. Тяжелое горе свалилось на вас. Но надо мужественно вынести этот удар судьбы. Сам я из Минска. На моих глазах погибла вся моя семья при бомбежке… Друг мой, будем мстить!
Марат проводил подполковника к машине. «Виллис» покатил в ту сторону, где разгорелась вечерняя заря, окрасив в багровый цвет ниточку облаков над горизонтом. А на окопы, где затаился враг, уже опустилась темень…
Рано утром загремели орудия. Покачнулась земля. Там, где окопался враг, небо разорвали огненные всполохи. Пушки стреляли непрерывно. В течение нескольких часов фашистские укрепления подвергались артиллерийскому обстрелу. И когда из-за горизонта, затянутого черным дымом, всплыло багровое солнце, показались наши «тридцатьчетверки» и ринулись в ту сторону, где вдали, откуда накатывался сплошной гул, все еще вырастали огромные черные деревья взрывов и падали, как подрубленные… Спустя час поступили сведения, что фашисты отступают.
— Настоящая битва еще только начинается! — сказал капитан Марат Саидбеков, вглядываясь в пылавшие вражеские укрепления. — Я повоюю за тебя тоже, отец.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцать пятая
ПОКРОВИТЕЛЬ ДЕГРЕЗОВ
Случалось, Арслан не уходил домой, оставался в цехе после смены. Работал он в парусиновых брюках, вправленных в кирзовые сапоги, и прожженной во многих местах майке. От расплавленного чугуна, струйкой стекающего в формы, несло жаром, искры, шипя, летели во все стороны. Арслан привык не обращать на это внимания. Когда он едва держался на ногах от усталости, старался представить себе, что не металл обжигает тело — это он лежит на пляже, подставив лицо и грудь полуденному солнцу. И, как ни странно, усталость проходила.
Верно говорят: дети наследуют качества отцов. Руки у Арслана сильные, пальцы длинные, как у отца. Музыкант сказал бы, что у него руки пианиста. Но с такими руками и у вагранки работать неплохо. Когда он поднимает тяжесть, на плечах и спине напрягаются мускулы. Он сильно похудел за последнее время, на боках можно пересчитать ребра, но силы, казалось, в нем не убавилось.
То в одном, то в другом конце цеха слышал Арслан Шавката Нургалиева, который отчитывал кого-то за нерадивость. Но с Арсланом он был всегда добр и приветлив. Видел, что парень старается.
А как не стараться! Ведь не елочные игрушки делают, а снаряды. Арслану порой виделся бой. Наползают неуклюжие вражеские танки. Все ближе и ближе они. Артиллеристы бьют их из пушек. Лица у них закопченные, как у дегрезов, — одни глаза сверкают. Марат-ака командует: «Огонь!.. Огонь!..» Артиллеристы поторапливают Арслана: «Подавай снаряды! Ну, живее!..» И Арслан торопится, подает снаряд за снарядом…
Вспомнилась поговорка: «О лошади судят по зубам, о джигите — по рукам». Ее часто повторял отец. А еще он любил говорить: «Покровителем дегрезов прежде был Давуд, теперь — завод». Вообще старики мудрые люди. Если сказали что-то, с ними не поспоришь…
Перед глазами возник рассерженный Нишан-ака, который часто говорил: «Навьюченный осел достоин уважения, но проклятье породистым скакунам, лодырничающим в такое время!» В последнее время он часто заводил разговор о «породистом скакуне», подразумевая своего махаллинца Аббасхана Худжаханова, разъезжающего в черном сверкающем автомобиле и всех поучающего. Высокие тесовые ворота его двора всегда были на затворе. Открывались, лишь когда въезжал и выезжал его собственный автомобиль. Этот человек только между прочим, как говорится, «лишь кончиком языка», мог сказать приятелям: «Ну, просим вас к себе, приходите…» Никто не помнит случая, чтобы он когда-нибудь пригласил к себе друзей. Сам, правда, принимал приглашения охотно. Почему люди такие разные? Живут в одной махалле, дышат одним воздухом, пьют одну воду, а все разные. Одни пекутся только о себе, о своем благополучии, другие думают о народе.
Арслан вспомнил многих известных людей, вышедших из махалли дегрезов, — поэтов, ученых, видных руководящих работников… Да взять хотя бы Хумаюна-ака. Он оставил свой обжитой дом, по зову Родины уехал в знойный Шахрисябз. Нет ничего более святого для этого человека, чем служение делу партии и народу… Точно наяву увидел Арслан перед собой Хумаюна Саидбекова, его задумчивые глаза, обаятельную улыбку на усталом лице. Он словно говорил: «Так держать, дорогой Арслан, никто, никакой враг нас не одолеет, если мы все силы приложим».
Ранним утром Арслан спешил на завод. На остановке трамвая увидел Нишана-ака. Поздоровались, перебросились двумя-тремя словами. Нишан-ака был хмур. Подошел трамвай. Арслан шагнул было к задним дверям, но Нишан-ака остановил его:
— Подождем следующего. Этот переполнен.
Арслан почувствовал, что дело совсем не в том, что вагон переполнен, — приходилось им ездить и не в такой тесноте. Видно, хочет что-то сказать ему Нишан-ака! Он заметно нервничал: кончики его усов то и дело вздрагивали, а он усердно поглаживал их, чтобы скрыть волнение. Похоже, что Нишан-ака специально стоял тут, поджидая Арслана. Да, скорее всего, так и есть.
— В тот день ты обиделся на меня, не так ли?
— За что? — спросил Арслан, сделав вид, что ничего не помнит.
— Я вмешался в твое «личное дело»…
Подошел следующий трамвай.
— Мы можем опоздать, — сказал Арслан, взглянув на ручные часы.
Они поднялись в вагон, остановились на задней площадке. Арслан молча ждал. Волнение Нишана-ака передалось и ему. Старик вынул из кармана пузырек с насваем, бросил под язык щепотку.
— Обиделся, значит?
— Что тут обижаться?
— Правильно, ничего обидного я тебе тогда не сказал. А сегодня мне во как хочется вас обидеть, уважаемый укаджан! — повысил голос Нишан-ака, неожиданно переходя на «вы», что он всегда делал, если хотел подчеркнуть свое нерасположение.
— За что же, ака?
— А вы не догадываетесь?
Арслан пожал плечами и отвернулся к окну, смутно догадываясь, за что именно мог разгневаться Нишан-ака.
— На угощениях у всяких там кари-мари бываете? Бываете!
— Разве грех бывать на угощениях?
— Не грех! Но смотря у кого! Если ты ходишь к порядочным людям, никто небе ничего не скажет.
— Люди как люди…
— Смотрите, чтобы эти люди не подвели вас под монастырь! Мусават Кари всюду болтает: «Герман скоро придет сюда, готовьтесь к этому. Создано туркестанское правительство, во главе которого наши люди — Валихан и Мустафахан из махалли Пичокчилик!» Вы знаете об этом, уважаемый укаджан?
— Кто это вам сказал?
— Люди! Люди сказали… Неужели Кари вам не говорил об этом? — Нишан-ака в упор посмотрел на Арслана.
— Что вы этим хотите сказать, Нишан-ака?
— А то, что вы, веселясь на пирах негодников, мечтающих встретить врагов с белым знаменем, работать на нашем заводе не можете. Мы сейчас не плуги делаем, а оружие… И не допустим, чтобы вы одной ногой были у них, другой — у нас!
— Вы много на себя берете, Нишан-ака! — вспылил Арслан, залившись краской от негодования.
— Вот как?! — Нишан-ака, казалось, готов был испепелить Арслана своим суровым взглядом. Он резко повернулся и прошел вперед, оставив Арслана одного.
Арслан, смущенный и растерянный, топтался, не зная, последовать за ним или остаться на месте. Люди, слышавшие их перебранку, но ничего не понявшие, поглядывали на него недоброжелательно. А он испытывал угрызения совести вдвойне — оттого, что обидел человека, которого почитал как отца, и оттого, что ничем не мог обелить себя перед ним… Не рассказывать же о причинах посещения им званых обедов!
…В махаллю пришло «черное письмо». В дом пожилой вдовы Мастуры постучалось горе. Женщина, не веря тому, что случилось, со стенаниями побежала в военкомат. Там, прочитав «черное письмо», ей сказали: «Ваш сын погиб смертью храбрых в боях за Родину».
Бедная Мастура, рыдая, шла по улице и кричала: «Вай, Абдувалиджан мой, ушедший из мира, ничего не увидев! Вай, проклятые пачисты, зачем они убили тебя? Лучше бы меня убили-и-и!..»
Был объявлен траур, народ повалил в узенькую улочку, заполнил двор занемогшей от горя Мастуры…
Еще не смолкли в этом доме стенания, «черное письмо» получила Маликахон. Старший ее сын Рустам погиб, Снова плач и крики — в другом конце махалли.
Прошло три дня — извещение о гибели сына получила тетушка Салима, мать Кудратджана. Она в гневе бросила «черное письмо» в топку самовара. «Ложь! Мой сын жив! Я не верю бумаге! Я ненавижу ее! Мой Кудратджан, даст бог, вернется домой!..»
Пришли извещения о гибели Нигматджана, ушедшего на фронт через три месяца после свадьбы, и Шопулата, острослова и весельчака.
Говорили, что в соседних махаллях положение точно такое же. «Фронт далеко, а бомбы проклятых пачистов падают на нашу махаллю», — сетовали женщины, вздыхая и утирая слезы.
Иногда женщины, освободившись от домашних хлопот, выходили на улицу, посидеть у калиток. Чаще всего они собирались у калитки Мастурахон. Тут обсуждались новости. Говорилось о положении на фронте, о ценах, о людях, недостойных называться людьми…
В один из выходных дней Арслан возвращался с гапа. Это, конечно, был не такой пышный гап, какие закатывались до войны, но все же у Мусавата Кари собралось несколько человек. Поели, выпили, послушали патефон и рассуждения хозяина…
Арслан был в выходном пальто, шапке, он на ходу просматривал только что купленную в киоске газету. Падал пушистый редкий снег. Смеркалось. Арслан заметил неподвижно, как изваяние, сидевшую на скамеечке тетушку Мастурахон, убеленную снегом.
— Хе-о-ой, веселый парень! — крикнула женщина, устремив на него безжизненные глаза. — Наши дети проливают кровь, чтобы раздавить пачиста, а ты на гулянках развлекаешься? До каких пор будешь увиливать от фронта?
Арслан остановился, не зная, что ответить. Нервно мял он в руках газету. Женщина медленно приближалась.
— Глядите-ка, от него еще и водкой разит!
— Да не пил я, Мастура-хола!
— Ах, не пил? — Мастурахон вцепилась обеими руками в ворот Арслана, — Вот я тебя сейчас сама отведу в военкомат! Пусть мне ответят, почему мой сын погиб, а ты тут околачиваешься без дела!..
Арслан тщетно пытался освободиться.
На крик прибежали тетушка Салиматхон и Малика-апа. Поняв, в чем дело, они тут же поддержали Мастурахон.
— Отец твой горой стоял за советскую власть! Мать тоже души в ней не чает! А как до дела дошло, выгородила своего сынка! Что ты тут делаешь, если тебе по-настоящему дорога советская власть? А кончится война — такие, как ты, снова окажутся в седле! — старались перекричать одна другую Салиматхон и Малика-апа.
— Нет на тебя погибели! — хрипела Мастурахон, брызгая в лицо Арслану слюной, и изо всех сил рванула его за ворот.
Кто-то схватил его за волосы, кто-то ударил в лицо. Шапка упала в снег, от пальто оторвались пуговицы.
— Вот тебе, щеголь проклятый! Вот тебе!..
— Знаем мы тебя — два месяца на чердаке прятался под железной крышей!
— Кизил Махсум, прохвост, его всеми документами обеспечил!
— Проклятье тебе, бесчестный!
— Быть тебе закопанным в сырой земле!..
Арслан эти упреки сносил молчаливо. Его лицо было исцарапано. Он не сопротивлялся, только заслонялся руками от ударов.
Когда женщины устали махать руками, осыпая Арслана проклятьями, они направились к своим калиткам и исчезли.
Арслан подобрал шапку, приложил к исцарапанному лицу снег. Под ногами валялась втоптанная в грязь газета. Он медленно побрел домой.
— Вай, боже, что с тобой?! — вскрикнула в испуге тетушка Мадина, отперев сыну калитку.
— Упал.
— Лицо у тебя в крови!
— Упал, потому и в крови. В сандале у нас есть теплая вода?
— Сейчас вынесу.
Арслан умылся. Зашел в свою комнату и плотно затворил дверь. Разделся и лег. Завтра чуть свет надо идти на завод. Однако долго не мог уснуть…
Мадина-хола тихонько зашла в комнату, собрала одежду сына. На айване она долго счищала с пальто грязь, затем сидела при керосиновой лампе и, склонившись, пришивала пуговицы. Выстирав носки, повесила их под сандалом, чтобы поскорее высохли. А в душе ее росла тревога. Чувствовала, что сын что-то скрывает…
Биби Халвайтар днем занесла ключ и платок, оброненные вчера Арсланом, и подробно рассказала Мадине-хола о том, что вчера произошло с ее сыном. Она видела все в щель своей калитки. Вскипевшая Мадина-хола хотела было тут же бежать к этой щуплой и невзрачной Мастуре и поломать свою скалку о ее голову, но в следующее мгновение, немного поостыв, остановилась. Надо сначала обо всем узнать у Арслана.
Вечером, едва Арслан ступил на порог, она сказала:
— А ну-ка, пойдем, поговорю я с этими недалекими женщинами, подобными цепным собакам! Сватья мне все рассказала!
— Не надо, мама.
— Почему это не надо?
— Если им полегчало от этого, пусть…
— Как так? Они могут нападать на каждого, кто пройдет мимо?!
— У них сыновья погибли на фронте. Обида у них на сердце…
— Ты, что ли, убил их сыновей?!
— Они хотят, чтобы такие, как я, были там же и мстили за их сыновей.
— Ты же не сам остался! Тебя военкомат оставил!
— До этого им нет дела. Они презирают всякого, кто здоров, силен, а не померился силой с врагом. Считают, что только трусы сейчас не на фронте…
— Это ты-то трус? Я им покажу, какой ты трус! — Мадина-хола схватила снова свою скалку.
— Мама, успокойтесь. Я на них не в обиде. И вам не стоит браниться с этими женщинами. Лучше дайте мне поесть, я очень голоден.
Последние слова сына заставили Мадину-хола заняться приготовлением ужина. Но она еще долго не могла успокоиться. Ругала на чем свет стоит женщин, которых еще недавно, глупая, принимала у себя и сама бегала к ним выпить пиалушку чаю да поболтать. И, не обращая внимания на уговоры сына, старалась бранить погромче — пусть соседи передадут.
Об этом случае каким-то образом узнал даже Джура-ака Самандаров. Он зашел в цех, отозвал Арслана в сторонку, расспросил обо всем. Они закурили.
— То, что вы снесли все это молча, похвально, — сказал Джура-ака. — А то черт знает какой скандал мог произойти. По-моему, вам труднее всего было уговорить мать, а? — засмеялся он.
Арслан кивнул и смущенно отвел глаза в сторону.
— А рученьки женщин даром что маленькие, а бывают твердые. Однажды меня побила собственная жена. Обнаружила в моем кармане записку… хм, знакомой. — Джура-ака раскатисто захохотал. — Мало показалось ей кулаков, шумовку схватила…
Арслан улыбнулся.
— Вот так, дружище, лучше. Незачем нос вешать. Работа у нас такая, всякое приходится сносить… — Джура-ака посмотрел по сторонам, понизив голос, добавил: — Опять нужна ваша помощь… По нашим данным, человек с фамилией Дадашев уже в Ташкенте. Он, вероятнее всего, войдет в контакт с Баятом. Их интересует наш завод. Постарайтесь узнать, куда ведут нити, с кем еще они связаны. Не исключено, что они имеют своих агентов и в других городах. Мы должны схватить их за руку в последний момент, когда они уже приготовятся вонзить нож нам в спину.
Арслан, глубоко затянувшись, мельком взглянул на Джуру-ака и кивнул.
В один из тех дней, когда люди жили, отмеривая хлеб по грамму, когда по многу часов простаивали в очередях за продуктами, по узкой улочке махалли шла старая женщина-казашка, ведя за руку мальчика лет одиннадцати-двенадцати. У чайханы она остановилась.
— Скажите, где махалля Казанши?
Она говорила по-казахски, но сидящие ее прекрасно понимали.
— Возможно, сестра, и есть где-то такая махалля, — отвечали ей, — но мы про нее не слыхали.
— А про аксакалов Мирюсуфа и Нишанбая тоже не слыхали? Там живет еще ученый человек Мусават Кари, — про него тоже не слышали? Казах по имени Джилкибай привозил на верблюдах саман, пшеницу в Казанши, — о нем тоже не слыхали?
— Да-а, — проговорил задумчиво Абдували-ака, — казаха, привозившего нам саман, действительно звали Джилкибаем.
— Он приезжал из Сарыагача. Умер он…
— Да будет милостив к нему аллах, — произнес Абдували-ака и молитвенно провел ладонями по лицу. — Ты, сестра, присядь-ка тут, отдохни. Объясни толком, зачем ходишь тут, что ищешь. Кари я знаю, Нишанбая тоже знаю. Как не знать! Нишанбай, о котором ты говоришь, и есть наш усатый Нишанбай. Но махалли Казанши тут нет, аллах свидетель.
— Как же нет? Казаны там делают, — сказала старуха, присаживаясь на краешек сури. Положив рядом с собой узелок, усадила мальчика. — Друзей Джилкибая ищу я. Джилкибай перед смертью сказал: «Идите туда, вам не дадут голодать. Там живет почтенный человек Мусават Кари, ему из уважения я всегда отдавал хлеб и мясо за полцены…» Вот и ищем мы махаллю Казанши…
— Понял теперь, — ответил Абдували-ака, хлопнув себя по колену. — Только ты название этой махалли произносишь по-казахски. Верно, у нас в былые времена лили казаны. Но махаллю нашу называют Дегрезлик, а не Казанши. Нишанбай и Кари здесь живут. Пойдемте, я покажу вам двор Кари…
Абдували-ака поднялся, взял узелок женщины. Он испытывал некоторую неловкость оттого, что сам не может сейчас проявить гостеприимство, а ведет оказавшуюся в беде жену знакомого человека в другой дом. Но не хотелось ему, чтобы женщина с ребенком осталась ночевать в пустой, холодной чайхане. Они шли по узкой улочке, сжатой с обеих сторон мокрыми глинобитными дувалами, и Абдували-ака молчал. Вскоре он остановился напротив широкой калитки и постучал. Через минуту во дворе послышалось шарканье шагов. Калитку открыл сам Мусават Кари.
— Э, Абдували-ака, как поживаете? — приветствовал он, стоя в проеме и ковыряясь щепкой в зубах.
— Ассалам алейкум. Как ваше здоровье, Кари-ака?
— Благодарю, благодарю…
— Вот эта женщина пришла пешком из Сарыагача. Вас спрашивает, я и привел…
— Меня? — удивился Мусават Кари. — Эй, дженгаша[81], ты меня спрашивала?
— Джилкибай умер… Успел сказать: «Иди к моим друзьям». Вот сын Джилкибая… Пришла я…
— Никакого Джилкибая-Милкибая я и знать не знаю. — нахмурился Мусават Кари и окинул недовольным взглядом «удружившего» ему махаллинца. — Ты пришла ко мне по ошибке.
Казашка смолкла, враз как-то осунулась, по лицу ее было видно, как она устала.
— Пойдем, дженге, — сказал Абдували-ака и, сдержанно кивнув, отвернулся от Мусавата Кари. Услышал, как позади хлопнула калитка. — Если и Нишан-ака скажет, что не знает твоего мужа, останешься у меня. Поживешь, пока найдешь себе работу. Правда, тесновато мы живем. Но чем сами богаты, тем поделимся.
Калитка Нишана-ака была открыта, но все же они, не входя во двор, постучали. Из дома вышла тетушка Рузван.
— Здравствуйте. Пожалуйста…
Она с интересом разглядывала незнакомую казашку, державшую за руку мальчика.
— Эта женщина прибыла из Сарыагача. Спрашивает Нишанбая. Она почти не знает этих мест… Привел вот. За добро зачтется… — бессвязно говорил Абдували-ака, испытывая смущение.
— Хорошо сделали, что привели. Входите.
Однако Абдували-ака, сославшись на дела, простился и ушел.
Хозяйка ввела женщину в дом, пригласила сесть к сандалу, отогреться. Казашка, разувшись у порога, опустилась на курпачу, и, усадив рядом сынишку, подсунула озябшие ноги под стеганое одеяло, которым был накрыт столик-сандал. Тетушка Рузван заварила чай, села напротив.
— Рада вас видеть. Как поживаете? — осведомилась она, как положено по обычаю.
— Пришла вот, нужда заставила. Спасибо, милая, за доброту вашу. — Женщина поднесла к глазам кончик косынки.
— В дом, куда пришел гость, беда не приходит.
— Муж мой, Джилкибай умер. А тремя месяцами раньше дочку похоронила. Сынок вот только остался. — Она ласково погладила мальчика по давно не стриженной голове. — В Сарыагаче положение трудное. А у нас ни скотины, ни птицы нету… Джилкибай предупредил: «Ступай туда, в Казанши, там есть мои друзья…» Я и пошла, взяв за руку сына. Не выгоните — останусь, а выгоните — дальше пойду…
— Благоразумно вы поступили, — сказала тетушка Рузван, придвигая к мальчику рассыпанный по дастархану изюм и дольки колотого ореха; она налила в пиалушку чай и, поломав на куски лепешку, протянула гостье. — Угощайтесь, дорогая, прошу вас, угощайтесь.
Спустя полчаса пришел хозяин. Он поздоровался с гостями. Тетушка Рузван полила ему на руки теплую воду, он умылся и сел к дастархану. Хозяйка подала каждому по касе горячей похлебки из маша. Нишан-ака, следуя мудрой пословице: «Сперва еда, потом слова», ел молча, ни о чем не спрашивая. Лишь после того, как гости утолили голод, Нишан-ака, как бы извиняясь, проговорил:
— Мяса нынче не достать. Маш, тыква да фасоль только и выручают. Иногда в нашем заводском магазине бывает вермишель. Жена моя даже научилась готовить «вермишелевый плов». Молодец, вкусно у нее получается. Рис иногда бывает на базаре, но очень дорог…
— В Сарыагаче тоже нет мяса. А еще недавно, помнится, какие стада овец, табуны лошадей паслись в степи! Война так прожорлива…
— Ты, значит, жена Джилкибая?.. Пусть будет ему пухом земля, очень хороший был человек. Мы были друзьями. Вот Рузван знает. Когда он приезжал из Сарыагача, всегда останавливался у нас. Он обычно привозил пшеницу, ячмень, овец пригонял. А в конце осени, — знал, что в эту пору нам более всего нужно, — привозил саман. Без самана крышу к зиме не зальешь новым слоем глины. Спасибо ему, выручал… А потом я помогал ему закупить кое-что в магазинах. Как появятся на нашей улице верблюды, на душе радость: Джилкибай приехал. Все помню, как же. Значит, покинул этот мир бедняжка Джилкибай?
— Помер Джилкибай, оставил нас одних…
— Не одни вы. Здесь много друзей Джилкибая. Хайитбай-аксакал тоже его друг.
— А вот один не признал нас.
— Кто это?
— Кажется, Кари его зовут.
— Э, не говори про него, дженге. И такие люди на земле есть, не обижайтесь.
— Понимаю и не обижаюсь. Ведь даже родные братья не все одинаковы.
— Добрых людей у нас гораздо больше, вот увидите. Поживете и увидите.
— Джилкибай очень любил жителей махалли Казанши. Жнет пшеницу — говорит: «В Казанши повезу». Подрастают ягнята — опять: «Погоню в Казанши». Других и знать не хотел.
— А сынок на него похож, — заметил Нишан-ака, кивнув на мальчика, у которого начали слипаться глаза. Затем сказал жене: — Ты бы уложила его, устал, видно, парень в дороге.
— Устал, конечно, — подтвердила мать. — От Сарыагача пешком шли.
Долго они сидели, вспоминая добрые довоенные дни.
Через два дня тетушка Рузван отвела гостью в швейную артель, где работала сама, и устроила ее уборщицей. Казашка, привыкшая к степному простору, к домашнему хозяйству, вскоре свыклась с новым укладом жизни. Махаллинцы обращались к ней с почтением, называя ее дженге. Мальчик же быстро сдружился со сверстниками и стал ходить с ними в узбекскую школу.
Глава двадцать шестая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Весь день гроб с телом Хумаюна Саидбекова стоял в актовом зале райкома партии. Проститься шли друзья, коммунисты Шахрисябза, рабочие, колхозники из отдаленных районов. Тихо звучала музыка.
Вечером гроб в сопровождении множества людей, объятых горем, отвезли на станцию и внесли в вагон скорого поезда, отправляющегося в Ташкент. Было холодно. Сыпал мелкий, колючий снег. Люди стояли на перроне не двигаясь. Барчин поднялась в вагон, опустилась на скамью рядом с гробом. По другую сторону сидела мать, низко склонив голову и приложив к глазам платок. В вагоне тоже было холодно, нельзя спять пальто или развязать пуховую шаль. Веки Барчин распухли и покраснели от слез. Поезд плавно тронулся. Барчин подошла к окну, подышав на стекло, протерла его ладошкой. Люди медленно двигались рядом с вагоном. Поодаль она увидела огромного серого пса. Это же Каплан! Он вертелся у людских ног, метался и скоро исчез где-то в толпе. Поезд все больше набирал скорость. Промелькнули последние огни светофоров, и все исчезло, будто погрузились они в пустую непроглядную тьму…
В купе вошли Эркин, Дильбар, второй секретарь райкома партии и председатель райисполкома, которые сопровождали семью Хумаюна Саидбекова.
Под потолком слабо светилась лампочка, рассеивая теплый свет. Барчин сидела, вжавшись в угол и прислонясь затылком к стенке, смотрела в черное окно. Рядом сидели неподвижно, как изваяния, друзья их семьи. Но Барчин казалось, что она вовсе не знает этих людей, не понимает, почему они здесь. Они казались ей просто похожими на кого-то из ее знакомых. Но в следующее мгновенье мысль о том, что эти люди, и она, и мать провожают в последний путь ее отца, пронзила ее, отдаваясь острой болью, И она не удержавшись всхлипнула.
Еще позавчера вечером они беседовали, сидя у стола, при керосиновой лампе. Барчин помогала матери кроить для отца новую рубашку. А он сидел, свободно откинувшись на спинку стула, и с запалом рассказывал, какое грандиозное строительство развернется в Шахрисябзе после войны. С восторгом говорил он и принимался объяснять, в каком месте, по его мнению, удобнее всего построить Дом культуры и где лучше разбить новый сквер, создать парк… Отец мечтал! И его мечты будут осуществлены. Только отец ничего этого уже не увидит!.. Слезы текли по щекам Барчин. Она старалась представить себе отца живым.
Слава о нем как о чутком и заботливом руководителе распространилась далеко за пределы их района. В обкоме нередко Хумаюна Саидбекова ставили в пример другим руководителям. И комсомольцы в нем души не чаяли. Дильбар как-то сказала Барчин: «Ты знаешь, Хумаюн-ака мне как отец. Такой внимательный. И так он относится не только ко мне, а ко всем, кто приходит к нему за советом».
Поезд резко затормозил. Видно, приближался к какой-то станции. Они подолгу простаивали на полустанках, пропуская мимо составы с нефтью, продовольствием, оружием — на фронт. В Ташкент прибыли утром.
Первым поднялся в вагон Арслан. Он снял с головы шапку и встал у гроба, забыв даже поприветствовать прибывших. За ним остановились остальные встречающие. Увидев знакомых, Барчин и Хамида-апа зарыдали. Арслан незаметно смахнул слезу.
Эркин, взглянув на него украдкой, подумал: «Не Марат ли это прибыл на похороны?..» Но понял, что ошибся, когда Хамида-апа обратилась к нему:
— Арсланджан, мы лишились Хумаюна-ака.
Работники Ташкентского горкома партии, родственники, преподаватели института, друзья стояли на перроне. Арслан, Эркин и еще несколько сильных джигитов вынесли гроб из вагона, осторожно поставили в покрытый ковром кузов грузовика. Медленно поехали к дому Саидбековых. Их сопровождали еще одна грузовая машина и несколько легковых.
До вечера в дом Саидбековых приходили родственники, махаллинцы, друзья — прощались с человеком, которого горячо любили.
Дильбар, Эркин и второй секретарь Шахрисябзского райкома партии пробыли в Ташкенте три дня. В день отъезда они снова увидели Арслана. Все эти дни Эркин считал неудобным справляться об этом парне. А когда Арслан и Барчин вместе приехали на вокзал их провожать, он все понял.
Поезд тронулся.
Барчин и Арслан стояли рядом. Смотрели вслед уходящему поезду, пока он не скрылся вдали.
Домой Арслан вернулся поздно. Мать спала в своей половине и не слышала, как он вошел. Арслан, не зажигая света, разделся и лег. Противоречивые мысли рождались в нем, будто два Арслана спорили между собой.
Первый Арслан:
«На вопрос Барчин, почему я писал ей, что ухожу на фронт, а сам остался в Ташкенте, я ответил, что нужен здесь. Ее испытующий взгляд еще некоторое время задержался на мне. Может, она не поверила, думает, что я схитрил?»
Второй Арслан:
«Нет, Барчин не подумала так. Ведь она любит. А любовь даже плохое заставляет видеть в лучшем свете. Барчин тебе верит».
Первый Арслан:
«А благородно ли что-то скрывать от того, кто тебе верит? Может, рассказать ей обо всем, ничего не утаив?»
Второй Арслан:
«Ты дал слово не открываться ни перед кем, если даже это будет тебе стоить мук. Ты можешь подвести и себя, и товарищей».
Первый Арслан:
«Но я верю Барчин так же, как себе!»
Второй Арслан:
«А матери ты разве веришь меньше? Разве она может тебя предать?»
Первый Арслан:
«Мать есть мать. Мать прощает все — если даже сын бесчестный. А Барчин не простит. Если в ее сердце родится сомнение, оно изгонит любовь».
Второй Арслан:
«Но ты сказал ей, что больше нужен здесь. Настоящий друг верит слову».
Первый Арслан:
«Нишан-ака тоже был мне другом — не поверил. Он сейчас ненавидит меня. Даже на похоронах Хумаюна Саидбекова отвернулся, когда я хотел к нему подойти. Что на это скажешь?»
Второй Арслан:
«Но с Барчин тебя связывает не только дружба, а и любовь. А что в мире сильнее любви? Ты должен не дать любви угаснуть».
Долго еще Арслан спорил с самим собой, пока рой мыслей не улетел, отогнанный навалившимся крепким сном.
…Проходили дни, недели. Близилась весна. Уже чаще солнце раздвигало облака и радовало землю своим сиянием. Над кронами деревьев, заждавшихся тепла, носились грачи, выбирая удобные места для гнезд. Днем на обочинах дорог струились ручейки, пробивая себе узкие и извилистые желобки; по ночам их снова сковывал легкий морозец.
Однажды Мадина-хола, встревоженная, встретила Арслана, вернувшегося с работы, у калитки.
— Что ты, сынок, так поздно? А я уж два раза ходила на трамвайную остановку — заждалась тебя.
— Зачем же? — засмеялся Арслан. — Я разве дороги не знаю?
— Ой, сынок, приходила сваха. Она мне такое сказала, что до сих пор я в себя прийти не могу. Вот и жду тебя. А ты, как всегда, задерживаешься.
— Что же она сказала такое? — спросил Арслан, не переставая улыбаться.
Мать понизила голос до шепота:
— Говорит, Нишана-ака кто-то убить собирается.
Арслан вздрогнул, как от удара, и резко обернулся.
— Откуда она это взяла?
— Махсум ей проговорился. А зачем и кто собирается убивать она не ведает. Он велел ей молчать. Она мне по секрету об этом сказала. И то лишь потому, что бабье нетерпенье ее одолело. Прямо не знаю, что и делать…
Арслан молча направился к калитке.
— Куда же ты, сынок?
— Поговорю с зятем.
— Только бы он не догадался, откуда ты прознал. Не то попадет нашей сватьюшке.
Арслан поспешно вышел, хлопнув калиткой.
Едва Кизил Махсум, проявляя радушие, усадил гостя за дастархан, велев жене принести чаю и сладостей, Арслан спросил, глядя на него в упор:
— Кто собирается убить Нишана-ака?
Кизил Махсум испуганно посмотрел на него. Вопрос был неожиданным.
— Мне известно, что против него замыслили недоброе. Но кто? — продолжал Арслан, не давая ему опомниться.
— Ты не горячись, укаджан, — проговорил Кизил Махсум, заерзав на месте. — Кто-то с кем-то сводит счеты — нам-то что до этого?
— Какие еще счеты?
— А ты не знаешь? Ну ладно, ты неглупый парень, сейчас поймешь…
Кизил Махсум умолк, потому что в этот момент в комнату вошла Сабохат с подносом. Она поставила чайник, пиалушки, вазу с конфетами, положила две лепешки и бесшумно удалилась. Арслан отметил про себя, что в глазах сестры угас задорный блеск. И ходит тихо, будто не хозяйка она здесь, а служанка.
— Нишан-ака опять публично обругал Кари-ака. Ну до каких пор это можно сносить, как ты считаешь? Вот тебя, к примеру, кто-то оскорблял бы без конца, стал бы ты это терпеть? Не стал бы. А Кари-ака терпелив, столько времени прощал. — Кизил Махсум подул в пиалу с чаем, шумно отхлебнул. — Пусть они там сводят счеты, как хотят, а наше дело — сторона. Нам лучше не вмешиваться. А кто тебе сказал об этом? — Кизил Махсум плутовато сощурился, устремив на Арслана пронизывающий взгляд.
— Если Нишан-ака публично оскорбил его, пусть подает в суд. Виновного накажут по справедливости…
— Экий ты! — усмехнулся Кизил Махсум. — А я-то думал, ты умный… Дело-то как раз в том, что Нишан-ака сам собирается на Кари-ака в суд подать.
— Как же это? — выразил недоумение Арслан. — Выходит, сам оскорбил, сам же и в суд собирается подать?
— Дело в том, — Кизил Махсум замялся, — что Нишану кто-то сказал, будто Кари-ака наши власти ругал. Мало ли что можно сказать про человека… Своими ушами Нишан этого не слышал!
Несколько минут молча пили чай. Арслан старался унять свое волнение. Он ни в коем случае не должен показать, что разделяет мнение Нишана-ака.
— Очень я уважаю Кари-ака, — проговорил Арслан глухо. — Он же всегда был здравомыслящим человеком. Надо его предостеречь от необдуманного шага. Вы поговорите с ним, он к вашим словам прислушается…
— Э-э! — махнул рукой Кизил Махсум. — Теперь есть другие, к кому он прислушивается.
— Я не знаю таких людей.
— Знаешь… Баят его убедил, что Нишана лучше убрать, пока не поздно. При мне дело было. Сидели вечером, бутылочку распили. Ну и зашел разговор о ссоре Кари-ака с Нишаном… Кари-ака, бедняга, растерялся, а Баят вынул из кармана маленькую склянку, сунул ему в руку. «Две-три капли в чай или в еду — и дело с концом», — говорит. У меня, честно тебе скажу, мурашки по спине побежали. А на днях у Кузибая-ата состоится хадим[82]. Кузибай, близкий друг Нишана, уж точно пригласит его. Слышал я, что и Кари-ака с Баятом туда намерены пойти.
— И вы там будете?
— Нет, я не пойду. И вы, укаджан, не ходите. Чует моя душа недоброе.
Арслан заставил себя рассмеяться.
— Э-э, да вам нужно просто подлечить нервы! Они у вас не в порядке, в таких случаях человека преследуют беспокойные мысли.
Арслан залпом выпил из пиалы остывший чай и поднялся. Сестра проводила его до калитки. На вопрос брата, хорошо ли ей здесь живется, пожала плечами и опустила голову.
На второй день Арслан обо всем рассказал Джуре-ака. Тот похлопал Арслана по плечу и сказал:
— Придумаем что-нибудь…
В день хадима, организованного Кузибаем-ата, на заводе проводилось собрание. Секретарь партийной организации послал Нишану-ака специальное приглашение, предупредив, что он обязательно должен присутствовать на собрании. Нишан-ака расстроился, что своим отсутствием на хадиме огорчит Кузибая-ата, но после смены все же направился в заводской клуб…
Арслан в тот вечер присутствовал на хадиме. Душой застолья по обыкновению был Мусават Кари. Он справился у Арслана о Кизил Махсуме и очень огорчился, узнав, что тот сегодня с утра чувствует себя неважно и не приедет. Спросил, не встречался ли Арслан на работе с Нишаном-ака, который еще месяц назад обещал Кузибаю-ата помочь в устройстве хадима, а сам до сих пор носа не кажет.
— На заводе сегодня важное собрание, всех рабочих с большим стажем пригласили туда, — сказал Арслан.
Через минуту Баят уже знал, что «старый правдолюб» не явится. Устроившись на самом видном месте, вновь начал рассказывать «о виденном и пережитом на войне». Говорил о том же: «о преимуществе и непобедимости» немецкой армии, о том, что они уже «полмира захватили, и Москва давно уплыла из наших рук, а правительство перебралось в Куйбышев, газеты же и радио предпочитают об этом умалчивать»… Собравшиеся из разных махаллей люди внимательно слушали «бывалого джигита, повидавшего фронт». Баят намеренно пришел на хадим в военной одежде, чтобы выглядеть внушительнее. И вот некоторых уже одолевает нетерпение — поскорее принести в свою махаллю услышанные новости и с видом осведомленного человека поведать о них домочадцам и соседям.
Зная, что Нишана-ака нет и, значит, некому заткнуть ему рот, Баят разошелся вовсю. Как ни старался Арслан сдержать себя, но все-таки заметил:
— Баятджан, вы сказали, что немцы взяли Москву. Это неправда. На днях сын Хумаюна-ака прислал письмо, в котором сообщает, что под Москвой немцам крепко дали под зад пинка.
Кто-то засмеялся. Баят же побагровел, метнул на Арслана испепеляющий взгляд.
— Не будьте простаком, — сказал он громко, чтобы слышали все сидящие. — Ваш друг написал по приказу всяких там комиссаров! Неужели вы думаете, что солдатам разрешается писать домой о наших поражениях?
— Писали же, когда наша армия отступала. Теперь об успехах все чаще пишут, — возразил Арслан. Ему не хотелось ввязываться в спор с Баятом: спорить имеет смысл с тем, кого можно переубедить. Но нельзя было допустить, чтобы этому иуде простодушные люди поверили: иногда слова бывают страшнее пули, это давно всем известно. Отпив чаю, Арслан продолжал: — У многих, кто сидит тут, сыновья воюют на фронте и присылают домой письма. В нашем народе испокон веку считается тяжким грехом обманывать родителей. Вот скажите вы, аксакал, — обратился Арслан к одному из сидящих поблизости седобородых старцев, — что вам пишет сын?
— У меня три сына на войне. Было четверо, на одного пришла похоронная… Эти трое пишут, что крепко бьют фашистов — мстят за брата, — а под Москвой разгромили фашистов в пух и прах…
— И что же, по-вашему, приятель, все трое сыновей обманывают почтенного аксакала?
— Быть того не может, — проговорил старик. — Мои сыновья не могут обманывать.
— Вы же не были на фронте! — вспылил Баят. — Блаженствуете тут, а спорите с человеком, который кровь проливал! Выходит, я вру? Не сегодня-завтра немцы появятся в Ташкенте — вот тогда уж вы мне поверите!
— Не видать им нашего Ташкента как своего затылка! — резко ответил Арслан.
— Не пустим их в Ташкент, — поддержал его кто-то. — Много охотников было под нашим солнышком погреться, но все они обратились в пепел.
— Стало быть, не верите? — Баят обвел взглядом присутствующих.
— Не верим, — отозвался пожилой мужчина в полосатом халате. — Одного я не пойму: к чему вам, дорогой, обманывать людей?
Баят сник, взял пиалу с чаем. Рука его дрожала. На пальце сверкал перстень с крупным изумрудом. Недавно он похвалялся, что снял этот перстень с убитого им немецкого офицера. Баят старался держать пиалу так, чтобы перстень был всем хорошо виден. Он слегка подался в сторону Арслана и, растянув рот в улыбке, тихо спросил:
— Место Нишана занял? Смотри, чтоб худо тебе не было.
В пятницу, примерно через час после обеденного перерыва, в литейном цехе появился Джура-ака Самандаров. Он и Арслан, как всегда, отошли покурить. Как бы между прочим Джура-ака сообщил, что некий Дадашев устроился фотографом в одной из центральных фотографий, иногда бывает у Зиё-афанди, снимающего хижину с небольшим двориком на Шейхантауре. Туда же приходит Баят. Но они навещают Зиё-афанди всегда порознь, в разное время. А сегодня собрались все вместе, и, кроме того, туда явился еще какой-то человек. Необходимо увидеть его и запомнить внешность.
— Сейчас Нургалиеву позвонят из дирекции, чтобы он тебя отпустил. Ты должен пойти к Зиё-афанди. Надо придумать повод…
— Повод можно найти, — проговорил Арслан, вспомнив недавнюю встречу с Баятом у заводской столовой. На голове у Баята была новая каракулевая шапка. «Поздравляю с обновой! — сказал тогда Арслан. — Где раздобыл такую?» — «У Зиё-афанди», — ответил тот. «А можно ли и мне заказать такую?» — «Отчего же нет? Для добрых людей у него всегда припрятаны лучшие смушки». Вот вам и повод.
Самандаров помолчал, что-то прикидывая, потом сказал:
— Хорошо. А с работы ушел, почувствовав себя плохо, в поликлинику ходил.
Арслан кивнул.
Подошел Шавкат Нургалиев, толкнул Арслана в плечо:
— Тебя, друг, оказывается, руководство знает! Ступай, срочно в дирекцию вызывают!
Арслан и Джура-ака переглянулись.
Арслан поднялся по широким полуразвалившимся ступенькам к знаменитым большим воротам, сохранившимся с той поры, когда город был обнесен стеной, и, миновав Шейхантаурский базар, свернул в узкий переулок. Пройдя мимо минарета, гробницы Алимкулибека и Шейхантаура-бувы, расположенных на возвышенности, спустился на улицу Джар, которая по внешнему виду вполне оправдывала свое название, означавшее — Овраг. Около узенькой резной калитки, с которой слетела почти вся краска, остановился. Вокруг ни души. Тихо постучал. Через минуту кто-то не спеша приблизился к калитке, отбросил цепочку. Перед Арсланом предстала старуха со сморщенным, как запеченное яблоко, лицом.
— Ассалам алейкум! Могу я повидать Зиё-афанди?
— Он недавно ушел… — начала было старуха, но Арслан уже перешагнул порог и размашистым шагом направился к дому. — Подожди, сынок! Его нету!.. — Твердила старуха, еле поспевая за ним, и все пыталась схватить его за рукав.
Арслан зашел в прихожую и толкнул дверь справа. Сидевшие у сандала стремительно обернулись. Их было четверо. Зиё-афанди и Баят переглянулись. Баят еле заметно шевельнул бровями, что могло означать: «Я же говорил!» — и, осклабясь в недоброй усмешке, отвел взгляд. Остальных Арслан видел впервые. Один из незнакомцев поспешно убрал с сандала какие-то бумаги.
— Извините, уважаемый, я сказала в точности, как вы велели, а этот парень, словно языка нашего не понимает, побежал в дом впереди меня! — оправдывалась старуха.
— Что ж, пусть заходит, это наш джигит, — сказал Зиё-афанди, заставив себя улыбнуться.
Когда старуха плотно закрыла дверь, спросил у Арслана:
— Соскучился? Или дело важное?
— Вы угадали, Зиё-афанди-ака! Важное дело! Недавно я увидел у Баятджана каракулевую шапку, очень она мне понравилась. Сегодня специально ушел пораньше с работы, прикинувшись больным. Сшейте мне такую шапку, Зиё-афанди-ака!
— Зачем же спешить? — усмехнулся Зиё-афанди. Вопреки обычаю, он даже не предлагал гостю сесть. — Дело к весне. К тому же ты мог бы прийти и после работы. Да и по выходным дням я дома бываю…
— Боялся я — вдруг истратите хорошие смушки.
— Что ж, дело молодое, желание мне твое понятно. Садись.
Арслан поздоровался за руку с присутствующими, гадая про себя, который из незнакомцев Дадашев.
Арслану налили чаю, повели беседу о пустяках. Баят рассказал пару фривольных анекдотов, особенно пришедшихся по душе Зиё-афанди, и сам хохотал вовсю. Но несмотря на его напускную веселость, Арслан заметил, с какой откровенной неприязнью он на него поглядывает. Чтобы не раздражать больше собравшихся своим присутствием, Арслан обратился к хозяину:
— Зиё-афанди-ака, мне еще нужно купить кое-что для дома. Снимите, пожалуйста, мерку и позвольте мне откланяться.
Зиё-афанди, кряхтя, поднялся с места и пригласил Арслана в соседнюю комнату, заваленную ящиками, шкафами. У окна стояла ножная швейная машина, подле которой валялись лоскутки различных мехов. Зиё-афанди открыл один из ящиков и достал коричнево-серебристый каракуль.
— Это сурх, лучшее, что могу предложить.
Арслан взял шкурку и стал рассматривать ее, приближаясь к окну, которое выходило во двор. А двор был обнесен дувалом, утыканным сверху осколками стекла. «Надежное логово», — мелькнула мысль у Арслана.
— Подойдет, Зиё-афанди-ака!
Зиё-афанди снял мерку и пошел проводить его до калитки. Но вслед за ними из дома вышли Баят и один из незнакомцев.
— Нам тоже пора, — сказал Баят. — Нам с Арсланджаном по пути, веселее будет.
Шли они по безлюдной улочке. Баят предложил, чтобы сократить путь, пойти по тропинке через овраг, где, бурля и пенясь, мчалась по крутолобым камням небольшая речка, не замерзающая даже в сильные морозы. Тропинка вывела к крутому откосу, в котором были вырублены ступеньки, и скоро они оказались перед бревнами, переброшенными с берега на берег. Арслан в нерешительности остановился — бревна покрыты льдом, с них легко можно сорваться. Из-за излучины доносился глухой шум водопада.
Арслан поставил ногу на бревно, и вдруг над головой его будто птица махнула крылом. Он машинально присел. Удар скользнул наискось по голове, сбив шапку, которая тут же исчезла в пене потока. Едва успел Арслан обернуться, незнакомец толкнул его в грудь. Но Арслан успел ухватиться обеими руками за бельбаг незнакомца, лицо которого перекосилось в бессильной злобе. Понимал: если толкнуть парня, он непременно увлечет за собой и его. Арслан стоял у самой кромки обрыва. За спиной шумел, разбиваясь о камни, стремительный поток. Арслан еще крепче ухватился за бельбаг, как обычно берутся курашисты[83] во время состязания. Краем глаза увидел приближающегося Баята. Незнакомец, сверля Арслана холодным взглядом, опустил руку в карман. Арслан отступил в сторону и нанес удар ему в подбородок. Незнакомец всплеснул руками и повалился в снег. Нож, точно рыбешка, блеснул в воздухе и упал в воду.
— Ну что вы?! Что вы тут не поделили? — закричал Баят, делая вид, что разнимает их, и незаметно оттесняя Арслана к краю берега.
Арслан понял его намерения, ударил Баята под дых. Тот согнулся, прижимая к животу локти.
— Вай, хулиган, за что ты меня? — визжал Баят. — Чтоб руки твои отсохли!
Арслан перебежал по бревнам через речку и стал подниматься по откосу. Оглянулся: Баят со своим дружком сидели на корточках у воды и умывались.
В калитке небольшого дворика, приютившегося на краю оврага, стояла женщина.
— Вай, сынок, я видела, как тот, накажи его аллах, напал на вас сзади, и ужаснулась. Бог вас сохранил, сынок. Позавчера за водопадом, у старой мельницы, зарезали человека.
«Наверно, я под счастливой звездой родился», — подумал Арслан и зашагал по переулку.
Глава двадцать седьмая
ДЕВУШКА КРАСНА ЛИЦОМ, ДЖИГИТ — ДЕЛАМИ
Говорят: если в день, когда весна встречается с зимой, курочке негде напиться, весна будет затяжной и холодной. А тут в начале марта повалил снег, покрыл белым пухом деревья, уже начавшие было распускаться почки. Телеграфные провода прогнулись от тяжести и казались витыми из белых толстых веревок. А снег все валил и валил, нагоняя страх на птиц, прилетевших прежде времени. Дивились старики: давно не шутила так с ними природа.
Арслан, кутаясь в телогрейку, наклонясь против мокрого, промозглого ветра, пересек заводской двор, спешил укрыться в цехе. Неподалеку от входа была целая гора металлолома, собранного пионерами. Куски труб, старые кровати, поломанные коньки, ржавые колеса от тачек, которые мальчишки и девчонки, точно муравьи, стаскивали сюда со всех концов города, — все это обратится в оружие, разящее врага.
Арслан зашел в цех, и снег, облепивший его, мгновенно растаял. На ходу снимая телогрейку, он поспешил в раздевалку. Надел спецовку, темные очки и подошел к вагранке, где собрались его товарищи по смене. Они обменялись рукопожатиями. Мастер Нургалиев длинным ковшом брал пробу из печи, гудевшей, как вулкан. Арслан подскочил к нему, помог поднять тяжелый ковш. Вдвоем вылили расплавленный металл в маленькую форму и отправили в лабораторию для химического анализа. Нургалиев взял лопатой доломит и подбросил в печь, в зеве которой билось голубоватое пламя. Слышно, как в ее чреве клокочет, кипит металл.
Арслан взглянул на часы и подбежал к телефону.
— Алло! Лаборатория?.. Почему не сообщаете результат?.. Нет, не десять, а одиннадцать минут прошло!.. Так, слушаю. Углерод — тридцать восемь, марганец — двенадцать, фосфор… Благодарю! Но за одну минуту вам придется держать ответ. Мы сейчас боремся за каждую минуту!
Для литейщиков каждая секунда имеет значение. Если металл передержать или слить раньше времени, получится сталь низкого качества.
Арслан убавил пламя и, приблизив лицо к зеву печи, внимательно смотрел сквозь зеленые очки на кипящий металл, стараясь определить по цвету его готовность.
Под кровлей цеха раздался пронзительный звонок. Работавшие, задрав головы, посмотрели на кран, передвигающийся вверху. Арслан знаками спросил у Валентины, девушки-крановщицы: «В чем дело?» Та ребром ладони провела по запястью другой руки, ответила: вагонетки, мол, задерживаются!
Арслан и Володя выбежали из цеха. Через некоторое время вагонетки, нагруженные доломитом и металлоломом, катились по цеху. Нургалиев кивнул Арслану:
— Молодец, — и улыбнулся.
Переход первой вагранки на скоростной метод работы заставлял сталеваров трудиться в полную силу, рассчитывать каждое свое движение. Бригада Шавката Нургалиева поставила цель; плавку чугуна — за четыре часа.
Вскоре расплавленный чугун устремился по желобам вагранок и полился в огромный котел.
— Четыре часа двадцать минут! — огласил результат вошедший в цех главный инженер. — Это большое дело!
— До четырех доведем, товарищ главный инженер, — пообещал Нургалиев. — Как думаете, ребята?
— Доведем, обязательно доведем! — отозвался Арслан.
В то время, когда Арслан ухватил щипцами ковш, кто-то осторожно тронул его за локоть. Это был Абдумаджид, несколько дней не появлявшийся на работе. Арслан втайне завидовал сложению этого парня. Казалось, на каждое плечо Абдумаджид мог взвалить по бочке вина и перенести без труда. Каждая ладонь с лопату. Арслан в шутку предлагал ему отбросить к черту лопату и работать руками: дескать, вдвойне быстрее. И действительно, работал Абдумаджид поначалу лопатой, как детской игрушкой. Этим сразу покорил он Арслана, который всегда старался поделиться тем, что знал и умел.
Скоро Абдумаджиду надоел тяжкий труд. Его поставили дежурить у пульта, теперь он большей частью сидел, покуривая. А однажды, разговаривая с ним, Арслан почувствовал запах спиртного. Но не попрекнул его, — может, с вечера запах, кто знает. Ведь такому детине надо ведро выпить, чтобы хоть чуть-чуть захмелеть… Потом Абдумаджид совсем обнаглел: стал вовсе не приходить на работу, то из одной поликлиники у него бюллетень, то из другой. Поговаривали, что он где-то «левачит»: видать, парень из тех, что, не утруждая себя, хотят побольше заработать. Арслан не верил этому, но между тем в их отношениях появилась отчужденность.
Арслан не спеша слил чугун в формы. Оттолкнув висевший на цепях ковш, машинально приподнял кепку и вытер рукавом пот со лба.
— Опять болел? — спросил он у Абдумаджида и, не дожидаясь ответа, направился к бачку с водой. Налив полную кружку, выпил в несколько глотков, прозрачные струи текли по подбородку.
Абдумаджид снова подошел к нему, мялся, будто ощущая какую-то неловкость.
— Не болел я, — сказал он, пряча глаза.
— А почему же опоздал тогда? Скоро обед.
— Ухожу я…
— Домой?
Абдумаджид отрицательно покачал головой.
— Совсем ухожу. Трудно мне здесь…
Взгляд Арслана сделался жестким.
— Нашел место выгоднее?
Абдумаджид пожал плечами, не поднимая головы.
— Ну и катись! — крикнул Арслан. — Катись! Здесь не место тебе!
И, резко повернувшись, зашагал к вагранке. Опустив на глаза очки, он слегка повернул рукоятку, желая прибавить жару. Выплеснувшееся из вагранки пламя обдало его, будто хищный зверь ударил когтистой лапой. Арслан отпрянул, закрыв руками лицо. Промелькнули в голове полушутливые слова Нургалиева: «Вагранка чувствует, с каким настроением ты подступаешь к ней. Она, как женщина, любит ласку…»
К Арслану подбежали товарищи, с трудом оторвали его руки от лица, которое за мгновение успело покраснеть и вспухнуть. Ни бровей, ни ресниц — будто сбрили.
— Подожди, не открывай глаз, — советовали ему.
Арслан по голосу узнавал, кто около него. Вот Валентина, управлявшая краном, взяла его под руку.
— Идем, милый, идем скорее, я отведу тебя в медпункт.
— Хорошо, что в очках был!
— Ничего, джигит, не расстраивайся, брови и ресницы отрастут!
Его медленно вели, держа с двух сторон под руки. А он все сильнее зажмуривался, боясь открыть глаза, замирая при мысли, что не увидит больше света.
Арслана положили в больницу. Два дня к нему никого не пускали. А на третий сняли с лица бинты. И первый, кого он увидел, был Самандаров Джура-ака. Он был в белом халате. Арслан сперва принял его за врача, удивительно похожего на кого-то из знакомых. Джура-ака спросил:
— Ну как, все в порядке?
Арслан улыбнулся.
— В порядке. Спасибо.
По другую сторону кровати стояли пожилая женщина-врач и медсестра.
— Вот и хорошо, — сказала врач, и Арслан уловил в ее голосе радость: видимо, до этой минуты она не совсем была уверена, что все обойдется без операции. — Поговорите, только недолго.
Врач и медсестра удалились, оставив их одних. Джура-ака придвинул стул и сел.
— Наши товарищи просили передать тебе благодарность.
Много интересного рассказал он Арслану. Пока Арслан преспокойно работал в своем литейном, а потом лежал в больнице, произошло немало событий.
Баята, Дадашева и Зиё-афанди арестовали в тот день, когда они совершили нападение на Арслана. Опасаясь, что Арслан заявит на них, они могли скрыться — медлить было нельзя. В доме у Баята обнаружили немецкие пистолеты и радиопередатчик. На первом же допросе Баят, прослезившись, признался, что все это к нему принес Дадашев и попросил временно спрятать. Впоследствии выяснилось, что Дадашев прошел специальную подготовку при немецкой разведшколе и получил инструкции в штабе Отто Скорцени, одного из любимчиков Гитлера. Он вел главным образом диверсионно-подрывную работу среди местного населения. Опираясь на буржуазно-националистические элементы, он должен был вести антисоветскую пропаганду, не допускать, чтобы на заводы, эвакуированные из западных районов, шли работать местные кадры, изыскивать возможность ликвидировать наиболее значимых специалистов и советских работников и поставлять сведения о важных промышленных объектах.
— Мне еще вот что надо выяснить, — сказал Джура-ака, вынимая из внутреннего кармана пиджака фотографию. — Эта личность вам знакома?
— Его я в тот раз видел у Зиё-афанди.
— А они делают вид, будто не знают его. Он тоже… Этот человек задержан ночью около железнодорожного моста через Сырдарью. Местность была тщательно осмотрена, и удалось найти припрятанную в тугаях взрывчатку. Арестованный, правда, утверждает, будто не имеет отношения к ней и даже не знает, что это такое… Поправляйтесь поскорее, голубчик: вы единственный свидетель, который видел его у Зиё-афанди. Видимо, пока не припрем к стенке, у этого типа язык не развяжется…
Арслан вспомнил, как Баят несколько раз приглашал его поехать на Сырдарью порыбачить. Вот, оказывается, что манило его к реке — мост. Они, конечно, понимали исключительно важное значение сырдарьинского моста. В то время, когда фашисты вплотную подступили к Волге, бакинская и эмбинская нефть поступала на фронт в основном через Среднюю Азию. Другой дороги не было. Вывести из строя сырдарьинский мост значило оставить на некоторое время фронт без горючего.
— А что с Мусават Кари? — спросил Арслан.
— Он мелкая сошка, — сказал Джура-ака задумчиво. — И все же без какой-то даже пустячной шестеренки машина не может работать… Мусават Кари, прознав об аресте Баята, зашагал напрямик к Шейхантауру и постучался в калитку Зиё-афанди. Хозяйка дома сказала, что за Зиё-афанди приезжали какие-то люди в машине и увезли его неизвестно куда. Мусават Кари, перепуганный насмерть, заспешил в махаллю Каштут. Зашел к своему дружку, парикмахеру, и пробыл у него до наступления темноты. Уходя, попросил: «Сообщи моим домашним, что я жив-здоров…» И как сквозь землю провалился. Ищем… Кстати, Кизил Махсума, родственничка твоего, тоже пришлось продержать пару деньков, — посмеиваясь, сказал Джура-ака. — После нескольких допросов его выпустили, предупредив, чтобы не вздумал скрыться. Он нам еще понадобится…
Арслан лежал некоторое время с закрытыми глазами. Форточка была открыта, и в палату, залитую солнечным светом, влетал свежий ветерок, пахнущий влажной землей. За окном позванивала, падая с карниза, капель.
— На заводе как дела? — спросил Арслан и удивленно открыл глаза, услышав громкий смех Самандарова.
— На Ташсельмаше работает твой махаллинец, Нишан-ака, знаешь его, наверное? Так вот, недавно является он в партком. «Посоветоваться, говорит, пришел. Несколько дней, говорит, ломаю голову, а ничего решить не могу. Есть у меня один знакомый, сын моего бывшего друга. С отцом-то его, дегрезом Мирюсуфом, мы закадычными приятелями были, а сынка в другую сторону потянуло. Сдружился он с людьми погаными, нашими врагами, — водой не разольешь. Ничего я с ним не смог поделать. Прошу общественность принять меры. Дружков его давеча арестовали, как бы и с парнем не случилось беды. Сердцем он чист, знаю. Но разговаривать с ним больше не буду — в обиде на него…»
Арслан улыбнулся.
— Ничего, выйду из больницы, пойду к нему, объясню все.
— Пришлось нам самим все объяснить. Такой старик настырный. «Не уйду, говорит, пока не скажете толком, что собираетесь предпринять».
— Он такой, наш Нишан-ака, — согласился Арслан.
Беседовали еще несколько минут. Потом Джура-ака, оставив на краешке тумбочки плитку шоколада, попрощался и ушел.
Арслан задумался о Барчин. Он все эти дни мысленно беседовал с ней. «Если бы она была в Ташкенте, наверно, приходила бы каждый день, — подумал он, стараясь представить, что она сейчас делает в далеком Шахрисябзе. — Что-то задержалась там. А обещала скоро вернуться». Барчин и Хамидахон-апа поехали, чтобы забрать документы и перевезти в Ташкент вещи.
В комнату заглянула медсестра.
— К вам опять гость, Ульмасбаев, — сказала она.
В дверях появился Нишан-ака. В руках он держал узелок с гостинцами.
Выписавшись из больницы, Арслан еще несколько дней находился дома.
Однажды в калитку постучали. Мадина-хола откинула цепочку и увидела красивую девушку.
— Здравствуйте, доченька, — ответила она на приветствие, слегка растерявшись. — Пожалуйста, входите.
— Благодарю. Мне нужен Арслан-ака. Он дома?
— Сейчас позову, — сказала Мадина-хола, гадая, кто же эта девушка. Она в смятении подумала: «Неугомонный мальчишка, не смутил ли он покой этой девушки?» Еще раз окинув гостью внимательным взглядом, обернулась и позвала: — Арслан! Арсланджа-ан! Эй, Арслан!
Шаркая калошами, надетыми на босу ногу, она направилась к дому. Арслан вышел на айван.
— Барчин! — воскликнул он и опрометью кинулся к калитке. — Здравствуй, Барчин! С приездом!
— Спасибо. Сегодня утром приехала.
— Входи же.
— Я на минутку, Арслан-ака. — Барчин осторожно коснулась его лица. — Мне только сейчас рассказали о несчастье, приключившемся с вами, я и прибежала. Больно?
— Нет. Может ли остаться боль после твоего прикосновения?
— Я серьезно спрашиваю, — смутилась Барчин. — Я так испугалась, узнав об этом.
— Входи! — Арслан взял Барчин за руку и почти насильно ввел во двор. — Мама! — окликнул он Мадину-хола, растерянно стоявшую посреди двора, словно только что выронила арбуз. — Мама, идите сюда!
— Ну что вы, Арслан…
— Должен же я тебя представить своей маме! В таких случаях и говорят, что счастье приходит своими ногами. Мама, эту девушку зовут Барчиной!
— Очень приятно, — сказала Мадина-хола и, как требует обычай, обняла девушку, слегка похлопала по плечу. — Слышала про вас. Проходите, не стесняйтесь.
Арслан подвел Барчин к супе. Разостлав коврик, усадил ее. Мадина-хола села с ней рядышком.
— Ну, как съездила, рассказывай, — попросил Арслан, не сводя глаз с девушки, отчего она еще больше смущалась и старалась смотреть в сторону.
Она рассказала о том, как трогательно заботились о них в Шахрисябзе Дильбар, Эркин и Айша-биби. А ее четвероногий друг Каплан, куда бы она ни шла, сопровождал ее всюду, не отставая ни на шаг. Оказывается, после их отъезда он все дни лежал перед калиткой, будто хворь какая нашла на него, а с появлением Барчин снова исцелился. Пришлось взять его с собой в Ташкент. Эркин заказал билеты, помогал упаковывать вещи. Их провожали все соседи, с которыми они успели сдружиться…
— А что это Эркин уделяет вам столько внимания? — спросил Арслан.
— Он брат Дильбар, подруги моей. — Барчин засмеялась. — Он говорит, что принял вас за Марата-ака!
— Кстати, от брата письма приходят?
— Вы не читали в газете указ? О присвоении Марату звания Героя Советского Союза!
— Да-а?.. Когда это было?
— Позавчера. У меня, кажется, эта газета с собой. — Барчин открыла сумочку и вынула газету. — Пожалуйста.
— Мне врачи посоветовали некоторое время воздержаться от чтения, я и не читаю, — с сожалением проговорил Арслан, разворачивая «Правду». Он медленно провел пальцем по списку фамилий, напечатанных столбиком, и прочитал вслух: — «Саидбеков Марат Хумаюнович…» Поздравляю, Барчиной! Это большое событие. Мама, вы слышали? Брат Барчиной Марат-ака стал Героем Советского Союза.
— Пусть вознесет его аллах еще выше, пусть будет здоров, пусть вернется он поскорее в объятия своей матери!
— А незадолго до этого Марат-ака прислал письмо, в котором обещал приехать в отпуск.
— А как же! Кучкар Турдыев, Ахмаджан Шукуров, Самиг Абдуллаев — все, кто получили звание Героя, приезжали домой на побывку.
— Марату дадут отпуск после лечения в госпитале.
Арслан подумал: «Как жаль, что Хумаюн-ака не дожил до этого радостного дня». Но вслух проговорил:
— Твой брат, Барчиной, один из тех, кем наш народ может гордиться.
Глава двадцать восьмая
ОРЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГНЕЗДА
«Встречайте 10 апреля поезд 89 Москва — Ташкент зпт вагон 6 тчк Обнимаю Марат тчк».
С той минуты, как принесли эту телеграмму, Хамида-апа ничего не могла делать, все валилось у нее из рук. Походит по дому, по двору и снова спешит в комнату мужа, берет с письменного стола телеграмму и подолгу смотрит на нее, словно хочет убедиться, что это не сон.
Наконец-то наступило десятое апреля…
С утра пришел Арслан. Он отпросился с работы, объяснив Нургалиеву, что должен встретить Героя Советского Союза Марата Саидбекова. Мастер, читавший про Саидбекова в газете, не сразу ему поверил, но все-таки отпустил…
За столом на веранде с Хамидой-апа и Барчин сидели две родственницы, которые, как видно, тоже собрались ехать на вокзал. Арслану налили чаю. Потом они с Барчин пошли ловить машину. И только вышли они за калитку, напротив остановился легковой автомобиль. Из него вышел молодой человек в черном костюме и спросил:
— Мне нужна Хамида Саидбекова.
— Мама, тебя спрашивают! — приоткрыв калитку, позвала Барчин.
Хамида-апа вышла.
— Я инструктор горкома партии, — представился молодой человек. — Мне поручено сопровождать вас на вокзал.
— Тогда берите бразды правления в свои руки и командуйте, — сказал Арслан, — а мы будем следовать вашим указаниям.
Хамида-апа тихо засмеялась. Впервые после того, как навеки рассталась она с Хумаюном-ака.
— Только я поеду не одна, — сказала она. — Вон сколько нас.
— Вы пока собирайтесь, а мы сейчас еще машину найдем, — сказал молодой человек и вопросительно посмотрел на Арслана.
— Конечно, найдем, — сказал Арслан.
И они вдвоем, беседуя, будто давно знали друг друга, пошли на улицу, где можно поймать машину…
У входа на перрон собралось немало народу. Ярко светило солнце, с заасфальтированной площади поднимался пар. Деревья, казалось, прямо на глазах разворачивают ярко-зеленые клейкие листочки. Людям не хотелось томиться в душном здании вокзала, они заняли все скамейки в сквере, сидели на ступеньках, постелив газеты. Хамидахон, Барчин, Арслан и приехавшие родственницы в сопровождении инструктора горкома прошли в зал для депутатов. Здесь их встретила и поздравила женщина, заведовавшая отделом в горисполкоме. Она однажды была у них в гостях — на юбилейном вечере Хумаюна-ака. Хамида-апа вспомнила, что ее, кажется, зовут Ходжархон. Они стояли посреди зала, образовав круг, и разговаривали. Пол под ними временами вздрагивал — проходили тяжелые составы, раздавались паровозные гудки. А Хамиде-апа хотелось сейчас же поспешить на перрон, будто поезд, на котором ехал ее сын, мог проскочить мимо.
Тем временем к подъезду подкатило еще несколько машин. В зал вошли солидные мужчины и представительные женщины. Большинство из них тоже Хамида-апа знала в лицо, хотя и не помнила, как зовут. Все они поздоровались с присутствующими за руку, поздравляя с таким днем.
Раздались звуки горна, рассыпалась дробь барабана. По перрону прошел со знаменем строй пионеров. Девочки держали в руках букеты ярких цветов.
Пришли рабочие — в спецовках, прямо от станков. Барчин взяла Арслана за руку, и они вышли на привокзальную площадь. Здесь тоже было много народу. Всюду алели плакаты, транспаранты:
«Слава советским богатырям-героям!», «Приветствуем воина-героя!», «Будем трудиться по-геройски!».
Барчин с удивлением посмотрела на Арслана: «Неужели все эти люди вышли встречать моего брата?»
Арслан кивнул. Родина всех своих героев чествовала так. Марат Саидбеков был одним из ее сынов, которыми народ мог гордиться.
Барчин порывисто повернулась, чтобы побежать в зал и рассказать матери обо всем, но было так тесно, что ей с трудом удалось пройти. Арслан следовал за ней. Они увидели, что Хамида-апа вытирает платочком слезы.
— Не плачьте, мама, не надо, — сказала Барчин.
— Был бы сейчас с нами твой отец, как бы он был доволен и счастлив, — проговорила Хамида-апа, стараясь унять слезы. — Он бы гордился, что сын выполнил его наказ…
Тут к ним подошли только что прибывшие секретарь и несколько сотрудников горкома партии.
— Поздравляю вас! Поздравляю с прибытием сына-героя! И позвольте поблагодарить вас, что вы вырастили такого батыра! — сказал секретарь.
Поезд с минуты на минуту должен прийти. Встречающие вышли на перрон. Вот издалека донесся отрывистый гудок.
Народ заволновался.
Заиграл духовой оркестр.
Поезд плавно подошел к перрону. Взоры всех обратились к шестому вагону.
— Ой, сынок!.. Вон он! — вскрикнула Хамида-апа, издалека увидев появившегося в дверях вагона Марата.
Он был в фуражке. Через плечо перекинута шинель, в руке чемодан. Жадно выискивал он кого-то в толпе. Наконец увидел мать, замахал ей рукой. Спрыгнул с подножки и бросился навстречу. Хамидахон-апа обняла сына, прижалась к его груди. Она плакала и гладила его плечи, до которых теперь уже с трудом могла дотянуться.
— Сынок, сынок мой, наконец-то свиделись…
Их окружили фоторепортеры и кинооператоры. Марат обнял Барчин. Как она выросла и похорошела — не узнать!
Арслан стоял в сторонке, испытывая некоторую неловкость, ожидая удобного момента, чтобы познакомиться с братом Барчин, о котором он столько наслышан. Марат был точь-в-точь такой, каким Арслан видел его на фотографиях. Офицерская форма ему очень к лицу. Золотые погоны со звездочкой майора подчеркивали его стройность и военную выправку. К нему подходили представители горкома партии, городского Совета, поздравляли. Марат был слегка растерян от внимания — он, видимо, не ожидал такой торжественной встречи. Затем, в сопровождении секретаря горкома партии и родных Марат Саидбеков направился на привокзальную площадь. Оркестр играл военный марш. Стоявшие в задних рядах приподнимались на цыпочки, вытягивали шеи, желая увидеть Героя Советского Союза Марата Саидбекова.
Секретарь горкома партии подошел к микрофону, установленному на возвышении, наскоро сбитом из досок, и открыл митинг. Он говорил о героизме, проявляемом советским народом как на фронте, так и в тылу, о победе под Москвой и под Сталинградом, о батарее, которая под командованием майора Саидбекова отражала танковые атаки врага, об отваге советских бойцов, назвал имена воинов, которыми может гордиться узбекский народ, — генерал Сабир Рахимов, Герои Советского Союза Кучкар Турдыев, Ахмаджан Шукуров, Баис Эргашев, Туйчи Эрйигитов, Самиг Абдуллаев и многие другие.
— А сегодня, товарищи, мы с вами встречаем еще одного славного сына нашего народа! — сказал он. — Пусть пример таких отважных джигитов, как Марат Саидбеков, вдохновит нас на славные дела!..
После секретаря горкома на трибуну поднялся Нишан-ака. Подойдя к микрофону, он разгладил усы и поприветствовал Марата Саидбекова от имени рабочих завода Ташсельмаш. Затем выступил прославленный председатель колхоза Хамракул Турсункулов. Он передал герою сердечный привет от колхозников. Едва он отошел от микрофона, на трибуну взбежала смуглая девочка в школьной форме, с торчащими косичками, в которых алели банты. У нее был звонкий голос. Девочка заверила Марата-ака, что она и ее товарищи будут хорошо учиться, а когда вырастут, станут такими же смелыми, как он, Марат Саидбеков, и его однополчане…
Девочка преподнесла ему букет ярких роз, и в ту же секунду на трибуну полетели цветы со всех сторон.
— Слово Герою Советского Союза Марату Саидбекову! — объявил секретарь горкома партии.
— Ассалам алейкум, дорогие земляки! — волнуясь, произнес Марат. — Горячий привет всем вам от ваших сыновей-батыров, отважно сражающихся с немецко-фашистскими захватчиками. Дорогие отцы и матери! Друзья! Мы заверяем вас в том, что наша могучая Советская Армия разгромит врага и освободит человечество от фашистской нечисти. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли сюда. Я считаю это проявлением огромного уважения к нашей армии и в свою очередь обещаю вам, что мы на фронте будем достойными этого уважения.
Перед глазами Марата Саидбекова на мгновенье возникло поле, застланное дымом, и он увидел бегущих по нему солдат…
Секретарь горкома партии и Марат спустились с трибуны. Толпа всколыхнулась, перед ними образовался проход. К Марату тянулись руки, он пожимал их на ходу. Его громко приветствовали, бросали к ногам цветы. Вот они подошли к машинам. В первую сели Хамидахон-апа, Марат и Барчин. Арслан, носивший чемодан и шинель Марата и в душе гордившийся, что исполняет такую почетную миссию, сел во вторую машину.
Когда проезжали по Красной площади, Марат попросил остановить машину. Он подошел к памятнику Ленину и положил у его подножья букеты. Затем машины свернули на улицу Навои и направились к Чорсу…
Старик и старуха, пожелавшие остаться дома, чтобы гость вошел не в пустующий дом, застелили дорожку от калитки до самого айвана коврами, сюзане, вышитыми шелковыми подстилками и теперь стояли у калитки, с волнением поглядывая то в одну сторону улицы, то в другую. Соседи тоже вышли на тротуар с рулонами плюшевых дорожек и ковров. И как только из-за поворота показался автомобиль, они бросили ковры наземь и поспешно развернули, устлав ими путь от калитки до самой середины проезжей части дороги.
Первая машина встала. За ней выстроилась целая вереница автомобилей. Марат вышел и остановился в смущении, не зная, как быть. Мать пришла на выручку:
— Ступай, сынок, по коврам. Постелили, желая, чтобы их сыновья тоже стали такими, как ты!
Марат, здороваясь с собравшимися здесь родственниками и знакомыми, зашел во двор. Старушка обняла его, хлопая по спине руками, и тут же побежала в летнюю кухню, откуда вынесла приготовленную заранее жаровню, на которой дымились, тлея, пахучие травы, предназначенные для ритуального окуривания. Священнодействуя с многозначительным и таинственным видом, она обошла с дымившейся жаровней вокруг Марата; провела ею подле его ног, затем настояла, чтобы Марат подержал руки над малиновым жаром, подернувшимся уже беловатым пеплом. После этого, отойдя в сторону, она опустилась на колени лицом к востоку, стала что-то шептать, воздела руки кверху, провела ими по лицу.
Марат обошел все комнаты, постоял минуту в кабинете отца и снова вышел во двор. Барчин подала ему стул, он сел. Во дворе расставляли столы, накрывали их скатертями. Женщины хлопотали в летней кухне.
Марат был задумчив. Гости заметили в глазах у него печаль, забеспокоились.
— Сестренка! Дай-ка мне садовые ножницы!
Барчин поспешно принесла ножницы.
Марат подошел к огромным кустам зацветших роз, которые когда-то так холил отец, осторожно срезал самые крупные и яркие цветы.
— Мама, давайте съездим на кладбище.
…Долго стоял он молча у могилы отца. Тихо проговорил:
— Не свиделись, ададжан[84], не услышал я больше ваш голос…
Он долго оставался неподвижным. Никто не беспокоил его. Приехавшие обложили могилу цветами.
Направляясь к выходу, Марат то и дело останавливался у других могил, читал фамилии, имена покоившихся здесь людей, высеченные на мраморных плитах. У выхода с кладбища он дал сторожу денег, сказал, что придет через несколько дней и поставит отцу памятник.
На следующий день Марата принял первый секретарь Центрального Комитета компартии Узбекистана и долго с ним беседовал. А вечером в своей загородной даче, в местечке Дурмен, устроил банкет в честь Марата Саидбекова.
Все последующие дни Марат был настолько занят, что ему не удавалось выкроить и часа свободного времени, чтобы пройтись по городу. Ему устраивали официальные приемы, звали на заводы и фабрики, в школы и институты. Хамидахон-апа сетовала, что сын почти не бывает дома. Ему звонили по телефону, присылали за ним посыльных. За день он побывал в военном училище и в двух колхозах. А вечером, едва приехал, усталый, домой, по пути с работы зашел Нишан-ака, передал ему просьбу рабочих завода Ташсельмаш прийти к ним, рассказать подробно о делах на фронте.
…Клуб украшен плакатами, флагами, будто к большому празднику приготовились. Был обеденный перерыв. Большинство рабочих пришли в спецовках, прямо от станков. Куда ни посмотри, кажется, всюду знакомые лица, хочется обнять всех. На Марата устремлены пытливые взгляды рабочих парней. Ты не должен обмануть их надежд. Ведь это они были твоей опорой, когда ты совершил свой подвиг. И даже вон тот тщедушный на вид паренек каждый день, всякий час — нажимает ли он шпиндель своего станка, пробивает ли отверстия в железе, точит ли резцы, шлифует ли напильником деталь, колотит ли тяжелым молотом раскаленный металл, придавая ему нужную форму, — отдает свои силы тому, чтобы ты смог одолеть врага на фронте.
Марату вспомнились слова командира: «Слава позорит того, кто не умеет носить ее с честью». Он учил, что герой всегда на виду у людей и поэтому слова, которые он произносит, должны быть значительными. Но сейчас чем больше Марат старался найти такие слова, тем труднее ему становилось говорить. И одежда вдруг показалась ему неудобной, и воротник кителя стал тесным.
В зале было душно, на лбу выступил пот. Кто-то из рабочих попросил рассказать о его подвиге.
Марат вытер платком лицо, помолчал, собираясь с мыслями. Как об этом расскажешь? Воевал, дрался, как умел, даже трудно восстановить в памяти подробности. Да, говорить об этом трудно.
Нишан-ака, сидевший в первом ряду, заметя его растерянность, сказал, желая подбодрить:
— Давай рассказывай-ка о себе. Послушать тебя все хотят. Не к чужим ты приехал, на родную землю ступил.
И Марат понял, что собравшиеся хотят услышать, конечно, не только о его личном подвиге, а и о том, как дерутся с врагом их земляки.
Больше часа выступал Марат.
Потом кто-то спросил:
— Тут у нас слушок прошел: дескать, германец так силен, что не сегодня-завтра в Ташкент придет. Правда ли это?
— Об этом же меня спрашивали мои махаллинцы, — сказал Марат. — Что вам сказать? Враг перед нами серьезный. Но и мы не лыком шиты. Мы уже гоним его с нашей земли. И Ташкента ему никогда не видать. Не верьте, друзья, подобным слухам. Их распространяют враги наши и трусы…
— Слова истинного джигита! — воскликнул Нишан-ака и захлопал в ладоши.
Зал взорвался аплодисментами. Сквозь них доносились выкрики:
— Слава героям!
— Баракалла, Саидбеков! Живи долго!
— Спасибо отцу, вырастившему такого сына!
Марат на могиле отца поставил мраморный обелиск, на котором было написано: «Хумаюн Саидбеков. 1892—1943». Что еще мог сделать теперь Марат для отца?
На следующий день Марат, взял с собой мать и сестру, отправился в Шахрисябз — в город, где отец работал.
Встретили их друзья отца. Большинство из них Марату были знакомы по рассказам матери и Барчин. Он знал, что этот высокий, чуть сутуловатый человек с поседевшими висками — секретарь райкома, а эта девушка в золотистом атласном платье, с нежным, как персик, лицом и черными косами, собранными в тяжелый узел, и есть та самая Дильбар, о которой столько рассказывала сестра.
Секретарь райкома хотел увезти гостей к себе, но Марат попросил поселить их в доме, где совсем недавно жили его родители.
Марат полагал, что двух дней будет достаточно, чтобы ознакомиться с городом. Секретарь райкома поручил Дильбар сопровождать его повсюду. Они ходили по городу, ездили в колхозы, но Дильбар не успела за два дня показать всего, что сделано в районе Хумаюном Саидбековым. Марат был доволен, что именно эта девушка знакомит его с городом. Она умела интересно и увлеченно рассказывать. Она не только хорошо знает все, что делается у них в районе, но горячо и самозабвенно любит свой край. Слушая ее, Марат любовался ею. И если он, случалось, задерживал на ней взгляд, Дильбар краснела от смущения и умолкала.
Марат решил задержаться в Шахрисябзе еще дня на два.
Только что вернулся он, усталый, из колхоза и, пока мать хлопотала, готовя ужин, прилег на диван отдохнуть. Мать спрашивала у него, понравилась ли поездка, что говорили люди о его отце. На все ее вопросы он отвечал односложно. Лежал и все о чем-то думал. Хамида-апа даже забеспокоилась, уж не заболел ли ее сын. Но Марат вдруг спросил:
— Мама, эта самая… секретарь комсомольский, замужем?
Дрогнуло сердце, она внимательно посмотрела на сына.
— Ты про Дильбар? Вы же весь день вместе были — спросил бы.
— Неловко. Несколько раз порывался спросить, но боязно как-то…
Хамидахон-апа улыбнулась.
— Тоже мне герой! Что подумает о тебе девушка, если об этом узнает?
— Ну, так она замужем или нет?
— Она же совсем молода, сынок. Не замужем еще.
— Сколько же ей?
— Еще девятнадцати нет. Подружка Барчин. Очень воспитанная, умная девушка.
— Не была бы умной, разве смогла бы руководить комсомольцами всего района? А это правда, что Эркин ее брат? А то наши девушки имеют обыкновение иногда кавалеров выдавать за братьев.
— Эркинджан брат Дильбар. Бедняжка, вернулся с фронта раненый. Образованный парень. Сейчас директором школы работает.
Грустно было Марату в последний день пребывания в Шахрисябзе. Утром встал он поздно. Умылся, побрился и опять уединился в своей комнате, делая вид, что просматривает газеты. В доме было тихо. Барчин рано убежала к подружкам прощаться. Солнце уже подбиралось к зениту, когда вновь услышал он ее звонкий голос. Марат, посмотрев в окно, увидел, что она пришла не одна, а с Дильбар.
Тотчас из кухни раздался голос матери:
— Ай, девочки, помогите-ка мне нарезать морковь для плова! Одной мне не управиться.
Марат отложил газету и стал прислушиваться. Из кухни доносились невнятные голоса. Марат приоткрыл дверь… Через некоторое время Хамида-апа сказала дочери:
— Сбегай-ка за Айша-буви. У нее рука легкая, пусть она заложит в казан рис.
Барчин побежала к соседям.
— Дильбархон, миленькая моя, занесите-ка вот этот чайник Марату. Совсем забыла — он ведь с утра чай не пил.
Марат машинально одернул гимнастерку, застегнул верхнюю пуговицу на вороте, взглянул на грудь, словно проверяя, все ли ордена на месте.
Дильбар взяла чайник, пиалу и вошла в комнату Марата.
Через минуту на кухню впорхнула Барчин.
— А где Дильбар? — удивилась она и тут же хотела было кинуться в комнату брата.
Но мать остановила ее.
— Посиди тут, — сказала она шепотом. — Режь морковь.
Барчин улыбнулась и занялась делом. Она все поняла.
Дильбар, поставив на стол чайник и пиалу, повернулась, чтобы уйти.
— Посидите немножко, Дильбархон. Попьем чаю, — сказал Марат.
— Спасибо, я уже пила.
— Тогда посидите просто так.
Марат встал и плотно закрыл дверь. Дильбар посмотрела в глаза Марату, ничего не понимая. Села на стул.
Марат сел напротив нее, положив руку на стол и барабаня по нему пальцами. Дильбар вспомнила, что и отец его имел обыкновение постукивать пальцами по столу, если нервничал, и улыбнулась.
— Вы хотели мне что-то сказать? — спросила она, когда их молчание слишком затянулось. Сама налила в пиалу чаю и протянула ему.
— Спасибо, — сказал Марат. — Сегодня вечером мы уезжаем…
— Я знаю об этом, — сказала Дильбар, чувствуя, как волнение Марата постепенно передается ей. Подумав, добавила: — Очень жаль.
— В Ташкенте я буду недолго. И все же хотел бы, чтобы вы погостили там у нас два-три дня…
— Не могу, я же работаю…
— Я договорюсь.
— Нет, нет, не надо!
— Ну что ж, Дильбархон, я всегда буду помнить дни, которые провел с вами. Пожалуйста, и вы не забывайте их, хорошо?
Дильбар кивнула и склонила голову, чтобы он не заметил, как она покраснела.
Марат снял с руки часы, положил на стол перед девушкой.
— Эти часы побывали со мной в окопах и блиндажах, они все еще хранят запах пороха. Но все равно ходят. Очень точно ходят. Пусть они останутся у вас…
— Зачем? — удивилась Дильбар, устремив на него растерянный взгляд.
— Ведь у нашего народа существует старый обычай: уходя, оставлять у… близкого человека какую-нибудь вещь. Тогда, говорят, эти люди непременно встретятся. Возьмите их, Дильбар. Я хочу надеяться, что мы еще увидимся… Вы будете меня ждать?
Дильбар кивнула и, внимательно посмотрев на него, будто хотела навеки запомнить, произнесла тихо:
— Конечно, Маратджан-ака! Разве вы этого не чувствуете? Я буду вас ждать.
Воспользовавшись тем, что Марат, глава семьи Саидбековых, дома, Хамидахон-апа, тетушка Мадина и Нишан-ака собрались на совет, чтобы ускорить ход событий. Все равно ведь свадьбы не избежать, так уж лучше сыграть ее, пока брат невесты пребывает дома.
В субботу справили свадьбу. Собралось множество уважаемых в городе людей. В этот день здесь распоряжался всеми делами секретарь горкома партии, старый друг Хумаюна-ака. И во время застолья он сидел на том месте, где полагается сидеть отцу невесты, и делал все, чтобы ни на минуту не угасало веселье.
В день отъезда Марата на фронт Арслан отпросился с работы и прибежал на вокзал. До отправления поезда оставалось несколько минут. Марат отвел Арслана в сторонку и сказал:
— Вы теперь не только муж моей сестры, но и брат мне. У меня к вам просьба. Если Барчин сейчас покинет наш дом, он совсем опустеет. Тоскливо будет матери одной и трудно. Поэтому живите пока с мамой, пусть ей не очень будет заметно мое отсутствие. И вашу маму перевезите к нам. А когда я вернусь, тогда, если захотите, разрешим вам жить отдельно.
— Хорошо, Марат-ака, не беспокойтесь.
Глава двадцать девятая
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
На купол медресе Кукалдаш сел аист. Перед этим долго кружился он, оглядывая с безоблачной высоты и желая убедиться, его ли это гнездо на куполе старого медресе. Бураны и дожди не снесли и не смыли его — крепко свил свое гнездо белый аист.
Люди стояли внизу и смотрели на птицу, радуясь, что она кружится все медленнее и с каждым кругом опускается все ниже и ниже.
И вот наконец сел аист в свое гнездо, похожее на большую корзину, сложил крылья и поджал одну ногу. Величаво посматривал он на знакомые улицы. И люди молча приветствовали его. Долго не прилетала эта птица. Подумывали, что она погибла, не осилив дальней и трудной дороги. Но нет, вот она сидит! Все дивились и были довольны.
С прилетом птицы праздник, длившийся вот уже много дней, стал еще радостнее. Начался этот праздник девятого мая — с того дня, как кончилась война. И будет продолжаться еще долго. Потому что возвращение каждого воина домой — праздник. А нынче каждый день кто-нибудь да возвращается. Великий настал праздник…
Вернулся с фронта и Баймат. До Берлина прошагал он от самой Волги. Получив известие о смерти жены, написал письмо Мусавату Кари — ведь сосед, по обычаю, считается ближе родственников. Баймат просил соседа на время приютить его дочь или отвезти в Чимкент, где живет сестра. Но не получил от него ответа. Трижды писал Баймат. Кари же, кичившийся своим родом и на каждом углу проповедовавший богобоязнь, не соизволил ему ответить. Должно быть, полагал, что сложит свою голову на фронте Баймат и не придется с ним встретиться лицом к лицу.
Возвратившись, Баймат узнал, что произошло. Ох, лучше бы нашла его в поле вражеская пуля, чем услышать такое: умерла его единственная дочурка Субхия! «Вон на купол медресе Кукалдаш прилетел белый аист. Субхия, э-э-эй, Субхия, дорогая моя доченька, где ты? Жизнь моя, детка, я вернулся. Я в дар тебе победу принес! Выбеги из дому резво, открой мне калитку!»
Баймат пришел в чайхану, бросил рюкзак на сури, сел, обхватив голову руками. Мимо проходил Арслан. Он с трудом узнал своего махаллинца. Подошел к нему, поприветствовал, поздравил с возвращением.
— Пойдемте к нам, Баймат-ака. Мама и моя жена будут очень рады.
Баймат покачал кудлатой головой, не отнимая от нее рук. Нет, не пойдет он. Он даже в свой двор не зашел. Ничего дорогого здесь не осталось.
— Идемте, Баймат-ака, вам надо отдохнуть.
— Не настаивайте, укаджан, не пойду я к вам, не обижайтесь. И к себе не зайду. Ни к одному соседу не постучусь в калитку. — Он медленно поднял голову и в упор посмотрел на Арслана. — Вы не смогли сберечь мою единственную дочь… Я верил людям, чья калитка рядом с моей. Ну почему бы моей дочке до моего возвращения не пожить вместе с их детьми?
«Субхия, где ты, доченька? Гляди, на куполе Кукалдаш сидит аист!»
Баймат сказал, что навсегда покинет эти места, но сначала сходит на кладбище. Арслан вызвался проводить его.
Долго сидел Баймат у могилы дочери и жены, слезы катились по его впалым небритым щекам. Арслан молча стоял в сторонке. Потом они отыскали старика сторожа.
— Вы мою дочь опускали в могилу?
— Я, — сказал сторож.
— И мою жену тоже вы?
— Да. Я положил их рядышком, хотелось благое дело сделать.
Сторож опустился на колени. Прочитав молитву, провел по лицу ладонями.
— Только это и можем теперь сделать для них, сынок, — сказал он, поднимаясь на ноги, и отряхнул с колен прилипшую сухую траву. — Пусть души их пребудут в раю.
— Вот, отец, возьмите. — Баймат вынул из кармана все деньги, что у него были, и протянул старику. — Приглядывайте за их могилами.
— Что ты, сынок, не надо, не надо денег!
— Возьмите, отец. Посадите здесь цветы. Я уезжаю далеко и не скоро сюда вернусь. Поставьте какой-нибудь знак, чтобы в следующий свой приезд я без труда отыскал эти могилки.
— Все сделаю, сынок.
— Спасибо. А теперь прощайте.
…Баймат поселился в Чимкенте. Бывший приятель-фронтовик уступил ему на окраине города свой домик. Сестра, прознавшая о его возвращении, не единожды прибегала к нему и уговаривала перебраться в их дом, оставшийся от отца в наследство. Пока она говорила без умолку, Баймат сидел неподвижно и молчал. И когда сестра прощалась, тоже не произнес ни слова. Велика была его обида на нее. Много раз еще приходила она и убеждала, пока Баймат не поверил, что о беде, случившейся с его семьей, она и родственники узнали лишь после того, как бедная девочка покинула этот мир.
Через некоторое время Баймат перенес нехитрые свои пожитки к сестре.
Родственники, желая развеять тоску Баймата, водили его на той и празднества. Но Баймат был постоянно хмур.
Увидев на улице играющих малышей, он подходил к ним, садился напротив на корточки и начинал рассказывать, какая была у него веселая девочка. И при этом вытирал глаза. Ребятишки поначалу боялись его. А потом привыкли — всякий раз угощал он их конфетами. Он всегда носил в кармане конфеты и раздавал их детям…
Родственники были обеспокоены. Посовещавшись, пришли к выводу, что в Баймата вселился джинн, которого непременно надо изгнать.
В окрестностях Чимкента с некоторых пор живет некий человек, прозванный Чирманда[85]-домля. Он, говорят, одинок, бородат, остронос, живет в каком-то отдаленном и глухом переулке старой части города и излечивает всякие болезни. Много всяких чудес порассказала Баймату сестра об этом Чирманда-домля. И уговорила наконец пойти к нему. Она взяла с собой казы, двух кур, сорок яиц, и они отправились на поиски прославленного Чирманда-домля.
Спрашивая у прохожих, нашли наконец нужный переулок, находившийся далеко за кладбищем Дервиш-бобо, на берегу арыка Кучкар-ата. Постучали в скособочившуюся калитку. Никто не ответил. Вошли во двор, который почти сплошь зарос лебедой и кустарниковым веником. Из этих зарослей, сверкая глазами, уставились на пришельцев кошки разных мастей. В углу двора, точно зев диковинного зверя, зияло отверстие тандыра. На айване перед приземистой хижиной горел примус. В кастрюле кипела шурпа с курицей. Из хижины с маленькими, заклеенными пожелтевшей бумагой оконцами слышны удары в бубен.
Заметив пришедших, на айван вышла старуха. Она сдержанно ответила на приветствие и пригласила в хижину. Указала на войлок, где можно подождать, пока Чирманда-домля, рассевшись посреди комнаты, беседует с духами. Приняла подношение и скрылась в соседней комнате.
Баймат и его сестра устроились на краешке войлока, украдкой поглядывая на хозяина.
— Что случилось, милая, с этим джигитом? — спросил наконец Чирманда-домля, отложив бубен.
— Вай, домляджан, болен братишка мой, злые духи поселились в смятенной душе его, пугнули бы вы их своими молитвами.
Баймат сидел напротив Чирманда-домля и не сводил с него глаз. И вдруг случилось нечто «кощунственное» — Баймат захохотал.
— Одурел, что ли? Сиди тихо! — шикнула на него сестра.
— Это же сосед наш!
— Что ты ерунду болтаешь? — рассердилась сестра и одновременно встревожилась: совсем неладное происходит с братом. — Говорят тебе, сиди тихо! Домля может обидеться!
— Ассалам алейкум, Кари-ака! — сказал Баймат со злой усмешкой. — Вот где довелось нам свидеться!
Домля метнул на него хмурый взгляд, глаза его сверкали:
— Что за выходки! Вы хотите излечиться нашими молитвами или собираетесь надругаться над нами?! Я бедный одинокий человек. Перестаньте потешаться или уходите! Не то прокляну я вас!
Баймат поднялся, едва не касаясь головой потолка.
— Своему дражайшему соседу, с коим земное счастье делить должно, вы такой прием оказываете? А ну, поднимайтесь-ка с места!
Казалось, стены дрогнули от его громового голоса. Сестра испуганно попятилась к двери.
— Вы вовсе не бедный и одинокий человек! — продолжал Баймат. — Бросив семью, скрываетесь тут! Людям головы дурите!
— Ошибаетесь! — взвизгнул домля. — Вы меня с кем-то путаете!
— В милиции разберутся, путаю я или нет. Идите за мной и не вздумайте бежать, а то задушу.
— Не стыдно ли, укаджан! Ведь я…
— Живо!
— Ты дивана![86] Уходи отсюда!
Баймат шагнул к Чирманда-домля, схватил за грудки и решительно толкнул его к двери. Тот выхватил из-за голенища нож. Женщины с воплями бросились из комнаты. С айвана донесся звон опрокинутой кастрюли.
— Кари, бросьте нож! Я солдат, вы же знаете, чем я занимался четыре года! — сказал Баймат, отступив на шаг, и вдруг крикнул: — Бросай нож, беглец!
Чирманда-домля вздрогнул. Баймат с силой ударил его по руке. Нож отлетел в угол.
Баймат выволок Мусавата Кари во двор. Разбежались во все стороны кошки, возлежавшие в тени среди травы. Мусават Кари перестал упираться и начал умолять:
— Джан, братишка, не причиняй мне вреда!
Их окружили сбежавшиеся соседи, пытались разнять.
— Вы не отрицаете, что вы Мусават Кари? — спросил Баймат грозно.
— Да, я Кари…
— Что же вы забились в эту глушь?
— Напасть обрушилась на мою голову, вот и мытарствую. Укаджан, отпусти меня. Я сейчас же покину Чимкент.
— В Ташкент поедете?
— В Ташкент, укаджан, в Ташкент.
— Я сам вас отвезу туда.
Баймат объяснил людям, что это за человек. Никто из соседей не вступился за Мусавата Кари.
Глава тридцатая
ДОВЕРИЕ
Для Арслана было полнейшей неожиданностью, когда коллектив завода Ташсельмаш выдвинул его кандидатуру в депутаты районного Совета. Он даже подумал, не подшутил ли кто, когда его вызвали в партбюро и, сообщив об этом, спросили, не имеет ли он возражений. Арслан в растерянности не мог произнести ни слова. А парторг сидел напротив, через стол, и курил, изучающе глядя на него сквозь дым сигареты.
— Почему меня? — спросил наконец Арслан.
Парторг улыбнулся.
— Самые уважаемые люди нашего коллектива, передовики, такие, как Нишан-ака, Матвеев Максим Петрович, Шавкат Нургалиев и многие другие, считают вашу кандидатуру наиболее подходящей. У меня не возникали сомнения. Вот уже много лет я знаю вас. Вначале вы были активным комсомольцем нашего завода. Потом, как сказал бы Нишан-ака, испеклись в горячем цехе и стали коммунистом. В самое трудное время руководство завода, партийная и профсоюзная организации видели опору именно в таких, как вы.
— Но… ведь рабочие трудились одинаково…
— Может, вы и правы, лодырей среди нас не было. Если и были, то у нас они долго не задерживались. Помните, как вы первый стали оставаться работать сверхурочно? Вы никого не агитировали, просто работали. А вашему примеру последовали ваши товарищи. Литейный цех сразу же увеличил выпуск продукции почти вдвое. Вскоре и весь коллектив завода подхватил ваш почин. А знаете, что это значило в военное время?.. Так что, товарищ Ульмасбаев, каждый человек у нас как на ладони. Товарищи увидели в вас человека, которому можно доверить честь и судьбу коллектива. Мне известно, к примеру, что вы всегда помогали молодым, только что пришедшим на завод рабочим, учили их тому, что умеете сами. И были беспощадны к тем, кто уклоняется от трудного дела, ищет легкого пути в жизни.
В последующие дни Арслан много раз воспроизводил в памяти разговор с парторгом, анализировал каждое слово. Ему всегда казалось, что он живет, трудится как все. И нелепо думать, что кто-то живет иначе, не так, как он. Ему никогда и в голову не приходило выделяться из общей массы. Хотелось одного — не быть хуже других, и он прилагал для этого все свои старания. И вдруг те самые люди, у которых он многому научился, которым старался подражать, оказывают ему такую высокую честь. Выдержат ли его плечи такую нагрузку?..
Теперь каждую неделю по средам, придя с работы, Арслан тщательно промывал руки бензином, детской маленькой щеткой вычищая из пор и из-под ногтей въевшуюся чугунную пыль и копоть. А утром Арслан надевал отглаженный женою костюм, белую сорочку. Всякий раз особые хлопоты ему доставляло завязывание галстука. Приходила на помощь Барчин. Она когда-то отцу тоже завязывала галстук и всегда знала, какие узлы нынче в моде.
Потом они вместе выходили из дому. На углу, на том самом углу, где некогда Барчин встретила Арслана с узелком, полным каракулевых шапок, они прощались. Барчин шла в школу, Арслан спешил в райисполком. По средам у него приемный день. В прохладном кабинете за массивным полированным столом он принимал посетителей. Перед началом приема он обычно сидел несколько минут один, как бы привыкая к этому уютному, тихому кабинету, застланному большим ярким ковром. В углу стояли мраморный бюст Ленина и пальма. После цеха, наполненного едким дымом, искрами, летящими из вагранок, таким грохотом и скрежетом, что не слышно голоса стоящего рядом человека, было как-то странно видеть себя в такой обстановке.
Люди приходили с самыми разными просьбами. Одному надо отремонтировать квартиру, у другого сосед дебошир, а милиция не принимает мер, третьему нужна ссуда, четвертый жалуется на сына, забывшего родителей. И во всем надо разобраться. И сами-то люди были разные. К каждому надо подобрать ключ, найти подход. Долгое время Арслан не мог привыкнуть к новым обязанностям. Порой ему казалось, куда легче лить в горячем цехе чугун. Но проходили дни, постепенно в нем крепло сознание, что он нужен этим людям.
Однажды, встретив мужа, Барчин сказала:
— Сегодня приходил какой-то человек без ноги. Назвался вашим другом и хотел повидать вас.
— Кто же это мог быть?
— Не знаю, не спросила. Предложила выпить чаю — отказался. Сказал, что зайдет вечером.
Хамида-апа и тетушка Мадина вдвоем сели ужинать. И только встали из-за стола, раздался стук в калитку.
Арслан вышел.
В человеке в солдатской форме, опиравшемся на костыль и палку, он с трудом узнал Атамуллу. Как он изменился! Обнял его, похлопывая по спине, пригласил в дом.
— Вернулся вот… — сказал Атамулла и тяжко вздохнул. — Да видите как? Без ноги.
Барчин принесла чай, поставила вазу с печеньем, конфеты. Арслан попросил ее принести коньяку и две рюмочки.
— За твое возвращение. Хорошо, что живым вернулся.
— Вернувшись, я услышал про все, что случилось с отцом… Хотел узнать подробно у наших махаллинцев, но никто не желает со мной разговаривать, проходят мимо, будто не знают меня. Словно я перед ними в чем-то виноват… Вы не знаете, за что посадили моего отца?
— Эх, дружище, лучше мне об этом не говорить, а тебе не слушать. Поверь мне, вина на нем большая. Мы знаем друг друга с детства, и давай по-прежнему на «ты». Кроме того, мне хотелось бы знать, где ты желаешь работать.
— Война меня научила многому, Арслан-ака. На жизнь я смотрю совсем иначе… Кое-кто мне советует заняться ремеслом отца: мол, торговля и скорняжное дело и сейчас доходны. К тому же ты, мол, инвалид, к тебе и претензий никто не предъявит. Но опротивело мне все это, хочу жить иначе… Сестрица моя Пистяхон все это время вышивала тюбетейки и продавала на базаре. Золотые руки у девушки. На второй день, как приехал, заставил ее устроиться на текстилькомбинат. Не хотела идти, плакала. «Не пойдешь — тогда считай: нет у тебя брата!» — сказал я ей. Поработала — понравилось. Теперь говорит: «Спасибо тебе, брат». Я и сам бы пошел, как вы, на завод, но не могу, видите…
— Может, тебя в магазин устроить? В нашем раймаге нужен продавец.
— Опять торговля! — проговорил Атамулла, поморщив лицо. — Люди скажут: неспроста Атамулла пошел в торговлю. Теперь из-за отца и мне веры нет.
— Да, ты прав, некоторые люди считают, что в торговую сеть идут работать, чтобы набить мошну. Вот постарайся разубедить их. Докажи, что в наших магазинах работают честные люди.
Атамулла несколько минут сидел молча. Арслан налил в пиалу горячего чая, придвинул к нему.
— Я согласен, — тихо произнес Атамулла. — Я глаза выколю тому, кто будет смотреть на меня как на вора!
— О человеке судят по его делам. Будешь хорошо работать — станут уважать. Давай послезавтра встретимся в исполкоме. Я представлю тебя заведующему райторга.
— Спасибо, Арслан-ака! Будьте уверены, я не подведу, — радостно сказал Атамулла.
Допоздна просидели они, вспоминая былое время.
Глава тридцать первая
МИР НЕ ИДЕАЛЕН
В сердце Хамиды-апа змеей вползла тревога. Вот уж четыре года, как дочь замужем, а до сих пор нет у нее, у Хамиды-апа, ни внука, ни внучки. Она делилась своими печалями с Мадиной-хола. Та отмалчивалась. Но ей-то легче, есть у нее и внуки и внучки. А у Хамиды-апа одна-единственная дочь — Барчин. Когда же родит она ребенка?..
К ним часто захаживала Биби Халвайтар. Увидев, что Барчин сидит на ступеньках, увлеченная книгой, говорила: «Доченька, не сиди ты на сыром цементе, вредно это!..» Барчин не обращала внимания, будто не к ней обращались. Не раз доводилось ей слышать, как Биби Халвайтар сетовала и на то, что девушки катаются на велосипедах. «Будь на то моя воля, запретила бы я девушкам и физкультурой заниматься, и в волейбол играть!» — говорила она, посасывая сушеный урюк, который не переводился в ее карманах. «Может, вы девушкам запретите и через арык прыгать, пусть вброд переходят?» — смеясь, возразила тогда Барчин. Старушка рассердилась: «Я знаю, что говорю, и молодежи следует прислушаться к моим мудрым словам!»
Когда разговор заходил о детях, Мадина-хола обычно не принимала в нем участия, но посматривала то на Арслана, то на Барчин, и эти взгляды были красноречивее всяких слов. Но двое влюбленных, опьяненные счастьем, были заняты собой. Они не думали о детях и только посмеивались. Когда Барчин слышала эти разговоры, ее душу охватывало смятение. Она становилась грустной и, уединившись где-нибудь, предавалась книгам или писала конспекты, готовила план завтрашних уроков.
Биби Халвайтар всегда старалась улучить момент, когда на веранде, где обычно она любила сиживать с Мадиной-хола и Хамидой-апа, присутствовали и Барчин с Арсланом. Тогда она принималась давать советы пожилым женщинам, но всяк понимал, что это куда более касается молодых…
— Когда муж и жена вознамерятся зачать ребенка, они непременно должны перед этим хорошенько поработать — копать землю или колоть дрова, — до тех пор, пока с них не потечет трудовой пот. Потом они должны наесться на заработанные деньги и лечь в постель. Тогда ребенок их родится трудолюбивым и здоровым…
Хамида-апа, у которой кошки скребли на сердце, смеясь, говорила:
— Ладно, пусть делают что им угодно, лишь бы поскорее подарили мне внучонка.
Биби Халвайтар, заметив, что обеим женщинам-сватушкам становится грустно, как только речь заходит о внуках, старалась их рассмешить и припоминала что-нибудь о днях своей молодости:
— Когда мой-то взял меня себе в жены, я тоже долго не могла ему родить наследника. А старику-то моему ох как хотелось сына. Не долго думая женился-таки на другой женщине. Я, не стерпев такой обиды, однажды, как только чуть-чуть стемнело, разделась донага, растрепала на себе волосы и взобралась в нишу. Соперница, увидев меня, пришла в ужас. Вопя на всю махаллю: «Привидение! Привидение!..» — убежала к своему брату… Не сделала бы я так, она, глядишь, быстрехонько родила бы, да и привязала к себе моего муженька…
Однако этот ее рассказ не вызвал и тени улыбки на лице Хамидахон. Ей не понравилась эта история. В ней она нашла тонкий намек Арслану: не горюй, дескать, не эта, так другая тебе родит. Она нахмурилась, вздохнула и, желая повернуть беседу на другое, негромко проговорила:
— Давайте говорить о хорошем…
Биби Халвайтар же, несколько туговатой на ухо, послышалось. «Расскажите еще что-нибудь такое…» И она стала говорить о почтальоне Мирзамухаммаде:
— В те годы, когда этот Мирзамухаммад, шустрец, охладел к жене, она возьми да и рожай ему каждый год по ребеночку. Вечно ходила со вздутым животом, он у нее, как в махалле все говорили, никогда не оставался пустым. До чего всемогущ господь! Теперь Мирзамухаммад, окруженный детьми, и не мог взять в толк, то ли холоден он к жене, то ли любит. Но в чайхане среди дружков-приятелей говорил: «Если придете к нам сейчас, то будете есть кизяк, а если придете через десять — пятнадцать лет, будете есть плов из золотых блюд…» То-то смеху было!
И в этом рассказе Хамида-апа узрела нежелательные мысли, которые могут запасть в голову ее зятя. Она оторвалась на секунду от шитья и не без досады сказала детям:
— Вы что сегодня, весь выходной решили просидеть дома? Сходили бы хоть в кино!
Арслан и Барчин переглянулись, скоренько собрались и ушли.
Однажды, когда Барчин сидела одна, Хамида-апа зашла к ней.
— Доченька, я договорилась с врачом, хочу тебя показать ей. Что ты на это скажешь?
— Как хотите, — грустно ответила Барчин, пожав плечами, и закрыла книгу. — Арслан сегодня тоже говорил о детях. «Ты, говорит, каждый день среди ребятишек, поэтому не чувствуешь, наверно, какой бесцветной кажется жизнь, когда не слышишь детского смеха…»
— Одевайся, доченька. Я знала, что рано или поздно будут такие разговоры. О господи, открой моей дочери дорогу к счастью! Пусть родится новая жизнь, пусть не повеет холодом отчуждения на их согласную жизнь!..
— Будет тебе, мама. Не надо причитать, и так тоскливо.
Барчин поставила книгу в шкаф. В последние дни она прочитала массу книг по изобразительному искусству. Она собиралась повести свой класс в музей изобразительных искусств. Там, конечно, искусствовед обо всем подробно расскажет. Но потом, когда они выйдут из музея, сколько будет вопросов! И нельзя ни один оставить без ответа, если не хочешь потерять уважение детворы.
Барчин стала переодеваться.
— И куда мы поедем?
— К Олии Умаровой. Она очень опытный врач, все ее знают.
— Мне как-то неловко.
— Что ты, доченька! Она нам не чужая, эта женщина. Это она, Олия-апа, роды у меня принимала. И твой отец был хорошо знаком с этой женщиной.
Барчин надела сшитый недавно коричневый костюм, лакированные туфли. Стоя перед трюмо, сложила на затылке волосы в тугой узел. Взяв замшевую сумку, вышла во двор.
Мать на веранде надевала туфли и украдкой поглядывала на дочь, задумчиво стоявшую у куста розы, сплошь усыпанного яркими осенними цветами. Уже сколько времени не замечала она в дочери прежней порывистости, задорного огонька в глазах.
Хамида-апа с щемящим сердцем сошла по ступенькам с веранды.
— Идем, доченька.
«Уж очень привлекательная она, моя Барчин, не сглазил ли кто-нибудь, соль ему в очи! — гадала Хамида-апа, шагая рядом с дочерью по улице и стыдясь произнести вслух то, что думала: — А может, какой враг пустил в дело отворотные средства? Надо позвать Биби Халвайтар, пусть произнесет свои заклинания…»
Домой они вернулись под вечер усталые. Тетушка Мадина уже пришла от своей дочери и дожидалась их, приготовив ужин. Узнав, где они были, одобрила их поступок и тут же, развернув бумажный сверток, вынула полинявшее ситцевое платье, встряхнула его и подала Барчин.
— Вот, доченька, еле выпросила у одной своей далекой родственницы, которую зовут Фазилатхон. Она родила двенадцать детей, и все красивее один другого. Поноси-ка это платье, пусть к тебе перейдут ее здоровье и плодовитость…
Барчин зарделась, но подарок приняла, чтобы не обидеть свекровь.
В калитку постучали. Уже был вечер. В это время Арслан приходил с работы. Барчин выскочила из-за стола, бросилась во двор. Через минуту прибежала она с радостным криком:
— Мама! Марат-ака приезжает!
И она закружилась по комнате, весело смеясь и размахивая телеграммой.
После окончания войны Марат служил некоторое время в Германии, а теперь демобилизовался.
На второй день после приезда он записался на прием в Центральном Комитете и попросил направить его работать в Шахрисябз. «Дела отца остались там незавершенными», — объяснил он. Но ему ответили, что в настоящее время он более полезен будет в Ташкенте, и предложили место заведующего отделом в горкоме партии. Сказали: «Выручайте, товарищ Саидбеков, давно ищем человека». — «Некоторое время я все-таки хочу поработать в Шахрисябзе», — настаивал Марат.
На следующий день он позвонил Дильбар.
Она, видно, узнала его голос.
— Здравствуйте, Марат-ака! — Голос девушки дрожал от волнения.
Марат явственно представил себе ее, прижавшую к уху телефонную трубку, слегка побледневшую. И губы, как у окоченевшего от холода человека, не повинуются ей. От радости или от испуга? Может, он позвонил совсем некстати? Ведь столько времени прошло…
— Как живете, Дильбархон? Что-то голос у вас другой…
— Голос у меня тот же, Марат-ака, — Дильбар тихо засмеялась и как-то мило и трогательно сказала: — Телефон плохой… Как ваше здоровье, Марат-ака?
— Спасибо, все нормально. Как идут мои разболтанные часы? По-прежнему тарахтят, как трактор?
— Хорошо идут. Я кладу их всякий раз под подушку и слышу, как трепетно они стучат. Привыкла уже… — засмеялась Дильбар.
— Знаете, Дильбархон, в ближайшие дни я буду в Шахрисябзе.
— Это прекрасно, Марат-ака. А когда?
— Это секрет.
— Почему же, Марат-ака? Мы должны подготовиться к встрече такого почетного гостя!
— Никаких встреч! Никто не должен об этом знать, слышите, Дильбархон?
— Почему?
— Хочу вас умыкнуть. Можно ли такое разглашать, скажите, пожалуйста!
Дильбар звонко рассмеялась.
— Вряд ли вам это удастся! Мы вас самого оставим тут!
— Это мы еще увидим.
— Приезжайте, Марат-ака. Только скажите: когда вас ждать?
— Скоро.
Утром Марат вылетел в Карши. Потом два часа добирался до Шахрисябза на попутной машине. Попросил водителя остановиться у знакомой калитки. К счастью, хозяйка оказалась дома. Айша-биби внимательно всматривалась в улыбающегося человека. Пришлось представиться — не узнала. Как же старушка обрадовалась! Обняла, как родного сына, прослезилась от радости и тут же засуетилась, принялась греть на очаге воду, чтобы гость умылся с дороги.
Такое прибытие Марата, сына Хумаюна Саидбекова, никем не замеченное, чрезвычайно удивило Айшу-биби.
— Сынок, почему же вы никого не оповестили? — спросила она, поливая ему на ладони из кружки.
— К чему, буви, это? В тот раз меня послали с фронта как официального гостя. И встречи, добрые слова и пожелания относились ко всем бойцам, воевавшим на фронте. А сейчас я прибыл по своим личным делам…
Айша-биби, кажется, поняла его. Во всяком случае, вопросов больше не задавала. А только подумала: «Люди, достойные истинного уважения, всегда скромны».
Когда Марат ушел, сославшись на неотложные дела и отказавшись даже от чая, Айша-биби позвала соседку, чтобы та помогла ей приготовить плов.
Дильбар как раз с кем-то разговаривала по телефону. Растерявшись, она уронила трубку.
— Пожалуйста, прошу вас. А я все звоню в аэропорт в Карши, прошу, чтобы мне сообщили, если вы прилетите.
— А я собственной персоной, — улыбнулся Марат, протягивая руку. — На денек. Завтра обратно…
Дильбар подала ему свою теплую ладонь.
— И никто не знает о вашем прибытии?
— Главное, что вы знаете. Остальным не обязательно.
— Как поживают Хамидахон-апа? Барчин? Арслан?
— Все здоровы. Надеются увидеть вас в Ташкенте.
Дильбар смущенно опустила голову.
— Ой, да что же это я? Садитесь, Марат-ака.
Они сели в кресла у журнального столика. Марат не сводил с девушки глаз. Любовался ее большими черными глазами, излучающими свет, изгибом черных бровей, тяжелыми косами, уложенными на голове вокруг вышитой бисером тюбетейки. Столько слов было им приготовлено! И все вылетели из памяти. «Почему она не смотрит на меня? Может, собирается сообщить что-нибудь неприятное? Вдруг влюбилась в кого-нибудь за это время?» Все эти мысли пронеслись в голове в одно мгновение. Сердце Марата гулко стучало.
— Я позвоню домой, — сказала Дильбар, прервав неловкое молчание, и встала. — Я приглашаю вас к нам.
— А я вас к нам.
— До вас далеко, Марат-ака, — засмеялась Дильбар.
— Я имею в виду дом Айши-биби. Я пообещал ей скоро вернуться, и она, кажется, там что-то затеяла.
Однако Дильбар уже набрала номер.
— Мама, это я. Марат-ака уже здесь… Да вот у меня, сидит напротив. Сейчас идем…
Она набрала еще один номер.
— Школа? Пожалуйста, Раззакова… Эркин-ака, это вы?.. Конечно, серьезный разговор! Товарищ Саидбеков приехал. После уроков прямо домой, хорошо? Договорились?
Дильбар открыла дверь и сделала знак рукой, пропуская Марата вперед. Проходя через приемную, она сказала девушке за пишущей машинкой:
— Если меня спросят, я дома. По неотложным вопросам пусть звонят…
Домой к Дильбар они отправились пешком. Марату было приятно ступать по земле, по которой ходил некогда отец. Марат с каким-то благоговением смотрел на эти дома, деревья, на эту улицу, словно они хранили на себе нечто такое, что остается от человека, который их видел. Чем-то родным веяло от этой земли, будто бегал по ней еще босоногим мальчишкой.
Дильбар жила недалеко, и шли они недолго. Дом уже был полон гостей. Вскоре появился Эркин. Пришли двоюродные братья Дильбар, дядюшки и тетушки. Застолье продолжалось до вечера.
Ночевать Марат отправился к Айше-биби. Старушка принялась было выговаривать ему, что поздно пришел, — он объяснил все, и она простила. «Будь счастлив, сынок!» — сказала она. Долго они сидели, разговаривали за чаем. Старушка вспоминала Хумаюна Саидбекова, как он был добр к людям.
К завтраку Дильбар принесла разные угощения.
— Это вам мама приготовила на дорогу, — смеясь, сказала Дильбар. — Я договорилась в райкоме о машине. Провожу вас и на ней же вернусь обратно.
Айша-биби подогрела оставшийся с вечера плов, и они втроем позавтракали. Старушка улыбалась, поглядывая то на Марата, то на Дильбар. Придвигала к ним касу с медом и приговаривала:
— Ешьте, детки, пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как этот мед…
Айша-биби проводила Марата и Дильбар до райкома. Пожелала ему счастливого пути, передала приветы, перечисляя всех и пожелав каждому здоровья, и заспешила обратно. Вдруг остановилась, словно вспомнила важное.
— Эй, сынок, у себя тут мы справим той по-каршински, а у вас пусть будет по-ташкентски!.. Так и скажи матери. Да привози поскорее ее и сестру.
Марат кивнул, улыбнувшись, а Дильбар покраснела и с тревогой огляделась по сторонам.
В райкоме Марат повидался с друзьями отца. Извинился, что не может погостить у них, и пообещал, что в скором времени он снова приедет в Шахрисябз. Те многозначительно посмотрели при этом на Дильбар…
Дорога была ровная, хорошо укатанная. Машина неслась, как птица. Влетающий в кабину ветерок пахнул только что скошенным сеном. Шофер Вася сосредоточенно смотрел вперед. Марат и Дильбар сидели рядом на заднем сиденье. Рука девушки покоилась в ладонях джигита. Полагая, что шофер не понимает по-узбекски, они тихо разговаривали.
— Айша-биби права, — сказал Марат, — той сыграем и здесь, и в Ташкенте.
— Хоп, Марат-ака, как вы желаете, пусть так и будет. — Дильбар наклонила голову и с грустью добавила: — Мне очень жалко расставаться с родным городом.
— Если хочешь, давай не сразу поедем в Ташкент, поживем некоторое время в Шахрисябзе.
— Правда? Это можно? — обрадовалась Дильбар. — Какой вы славный, Марат-ака! — Она сжала руки Марата своими слабыми ладошками.
— Мне этот город так же дорог, как и тот, где я родился, вырос. Здесь каждый камень напоминает мне отца…
— Вы у меня самый-самый хороший…
— Если так, позволь я тебя поцелую. — Марат обнял Дильбар за плечи, привлек к себе.
— Что вы! — испугалась девушка, стрельнув глазами в сторону шофера, и отстранилась. — Человек ведь все видит.
— Значит, все ваши слова неискренни, — обидчиво проговорил Марат, переходя на «вы», и вздохнул.
— Ну, потерпите немножко, вот выйдем из машины… — Дильбар прижалась к нему, положив голову на его плечо.
Почти у самого въезда в Карши машина завихляла из стороны в сторону. Шофер резко свернул на обочину и нажал на тормоз.
— Баллон спустил, — виновато сказал он. — Придется минут десять постоять.
Марат и Дильбар вышли из машины и медленно пошли вперед, стараясь держаться тени шелковиц, густо растущих у края дороги. Воробьи, о чем-то споря, перелетали с ветки на ветку. В пожелтевшей от жары траве стрекотали кузнечики. Где-то рокотал трактор.
Марат оглянулся. Машина стояла, слегка накренившись, Вася возился с колесом.
— Мне повезло, — сказал Марат, осторожно притянув к себе Дильбар. — Я стремился к тебе из такого далека, а ты и поцелуя не подаришь?
Дильбар зарделась и приникла к его груди лбом. Он слегка запрокинул ее лицо, нежно взяв за подбородок, и крепко поцеловал в губы.
А Вася как раз в этот момент посмотрел в их сторону. «Да, этот герой, видать, не напрасно пожаловал сюда. Как бы мы теперь не лишились своего секретаря…» — подумал он.
Марат и Дильбар пошли дальше, взявшись за руки. Через несколько минут их догнала машина.
Через месяц в Шахрисябзе состоялась свадьба. Новая семья поселилась в доме, где некогда жил Хумаюн Саидбеков. А мать Марат не отпустил после свадьбы в Ташкент. «Мы и так столько времени жили врозь, мама. Теперь ты будешь только со мной», — сказал он. И она осталась. Сын ее стал третьим секретарем Шахрисябзского райкома. И люди были довольны, что в их райкоме снова появился Саидбеков, теперь уже младший. Поначалу пристально приглядывались к Марату, все больше и больше находя в нем сходство с отцом.
Бывшего председателя райисполкома торжественно проводили на пенсию. На очередной сессии райисполкома Арслан был избран председателем.
— Во время войны не до учебы было, приходится сейчас наверстывать. Корплю над дипломной работой, государственные экзамены на носу… — начал было возражать Арслан.
Его прервали:
— Диплом — это ваша забота, а найти подходящую кандидатуру на пост председателя — наша забота. Мы все учли. Знаем, что вы загружены сверх меры. Но главное — глядите-ка, народ стремится попасть на прием именно к вам. Это уже о многом говорит, товарищ Ульмасбаев. Значит, и люди района будут удовлетворены, если вы станете одним из руководителей. А с мнением народа мы не можем не считаться.
— Знаете ли, мне трудно будет расстаться с заводом…
— Вам и не надо с заводом расставаться! Вы будете поддерживать с ним самую тесную связь! Вы послушайте, какую характеристику вам дали администрация и партийная организация Ташсельмаша.
Представитель облисполкома зачитал характеристику, обвел взглядом сидящих в зале.
— Как видите, коллектив завода будет только гордиться тем, что именно их представитель во главе района. — И, улыбнувшись, добавил: — Конечно, надо еще и постараться, чтобы они могли гордиться.
Через день Арслану в райисполком позвонил Самандаров. Он поздравил Арслана с новой должностью и сказал, что хотел бы повидать его.
— Завтра в десять я подъеду к вам, Джура-ака!
— Лучше я к вам подъеду. Вы же теперь занятой человек, минуты на счету.
— Хорошо, как вам угодно!
На следующий день ровно в десять Самандаров был в кабинете Арслана.
— От души поздравляю, укаджан, — проговорил Самандаров, похлопывая Арслана по спине. — Старики уходят, ваш черед становиться у руля.
Они сели за полированный стол друг против друга. Самандаров налил из графина воды.
— Как вы себя чувствуете, Джура-ака?
— Сейчас неплохо. Но, как ни говори, на шестой десяток пошло. Давление прыгает. Собираюсь поехать в Кисловодск, подлечиться… А у вас что нового, кроме… — Джура-ака выразительно обвел взглядом кабинет.
— Квартиру новую дали. На днях переезжаем с женой.
— А этот дом что же, пустым оставите?
— Скоро приедут Марат и Дильбар. Они ребенка ждут.
— А вы что же с Барчиной отстаете? Пора, пора уж и вам.
Арслан отвел взгляд в сторону. Воцарилось неловкое молчание. Джура-ака снова потянулся к графину.
— Я к вам, Арсланджан, вот по какому делу… Скажите, где сейчас ваш зять Кизил Махсум?
— Сестра говорила на днях, что он уехал в Бухару проведать какого-то приятеля.
— Ваш зять задержан в Бухаре с двумя чемоданами каракуля, приобретенного незаконным образом.
Арслан побледнел, нервно застучал по столу тупым концом карандаша.
— Собираетесь вступиться? — спросил Джура-ака, не отводя взгляда.
Арслан резко встал, подойдя к окну, распахнул форточку и закурил.
— Ни в коем случае! — резко сказал Арслан. — Мы неоднократно говорили с ним на эту тему. Он клялся, что никогда этим не будет заниматься. И даже устроился в махаллинский магазин сторожем.
— Для отвода глаз.
— Пусть пеняет на себя.
— Иного ответа я не ждал от вас, — сказал Самандаров, поднимаясь, и протянул руку. — Мне пора, в приемной у вас собрался народ. Так держать! — сказал он и вышел.
Новая квартира очень понравилась Барчин и Арслану. Они ходили из комнаты в комнату и мечтали, что где поставят, какая из комнат будет гостиной, какая спальней и где будет жить мама. Но Мадине-хола их апартаменты пришлись не по душе.
— Здесь у вас сандала не сделаешь, — с сожалением проговорила она, — а я привыкла зимой в сандале свои старые кости отогревать. Да и высоко очень, живи как на голубятнике. Лишний раз во двор не захочешь выйти. А мне так нравится сидеть летом на супе в тени нашей шелковицы и чай попивать…
Пожила Мадина-хола с ними недельку, да и вернулась в свой старый дом. Сюда перебралась после ареста мужа и Сабохат с сынишкой.
— У Сабохат ребенок малый, ей помощница нужна, — сказала мать. — Вот родите мне внука, и я приду к вам нянчить.
Как ни уговаривал ее Арслан остаться, не согласилась.
— В том доме я счастлива была, там состарилась, там мне и умирать, — сказала мать. — Уж, детки, не обессудьте. Живите вы по-новому, а моему сердцу наш старый дворик мил.
Арслан вызвал такси и отвез мать в махаллю дегрезов.
Обрадовались соседки возвращению подружки. До вечера в тот день Мадина-хола принимала гостей.
Глава тридцать вторая
ХУДЖАХАНОВЩИНА
Тура-бува, забытый всеми, в одиночестве и бедности жил в отдаленной, глухой махалле. Однажды в субботу напротив его перекосившейся калитки остановился роскошный черный автомобиль. Растерянному старику шофер сказал, что сын его, Аббасхан Худжаханов, велел доставить отца к нему домой. Старик надел порванные калоши, латаный чапан и сел в машину.
Едва ступив во двор сына, он остановился. Глядя на резные перила и веранды, на дом, отделанный резным ганчем снаружи, открыл рот от удивления. По обе стороны дорожки из жженого кирпича цвели розы.
Невестка Латофатхон вынесла из дома стул и поставила посередине двора.
— Садитесь, атаджан! Как поживаете?
— Благодарение вам! — Старик сел и молитвенно воздел руки. — Да состариться вам вместе, да будут у вас внуки и правнуки.
— Здоровье как?
— Да, хороший дом, очень хороший, — закивал старик, не поняв ее вопроса. Он давно уже плохо слышал.
— Я спрашиваю: здоровы ли? — повысила голос Латофатхон, наклоняясь к его уху.
— Какое там здоровье, дочка! Старость… Совсем плохо слышу. Да, здоровье дороже всего, дочка, — запинаясь и шамкая беззубым ртом, проговорил Тура-бува. — А чего позвали-то?
— Той хотим устроить, атаджан.
— Той — это хорошо, да поможет вам аллах.
— Ваш той справить.
— Мо-ой? Кхе-кхе-кхе… — засмеялся старик, будто закашлялся.
Латофатхон недовольно передернула плечами и снова наклонилась к его уху, приложив к краю рта ладонь.
— Мы собираемся…
— Может, женить меня хотите? Кхе-кхе-кхе!.. — Тура-бува так смеялся, что слезы выступили на глазах.
— Собираемся отметить ваше девяностолетие.
— Мне еще нет девяноста! Мне только восемьдесят семь!
— Подумаешь, три года! Сейчас люди справляют юбилеи, не обращая на это внимания.
— Правильно, правильно, — поддержал старик, думая про себя: «За два года ни разу не навестили, даже дешевеньких кавушей не купили, теперь зачем-то понадобилась моя старость».
Взглянув в лицо Латофат, он спросил:
— Что вы затеяли? Говорите прямо, не то сейчас уйду.
Латофат засмеялась, отвела взгляд. Ее напудренное лицо с румянами на щеках обрело глупое выражение.
Тура-бува поднялся с места. Латофат вцепилась в рукав его халата.
— Вечером придет ваш сын, он объяснит все…
— В таком случае вечером пусть мой сын придет ко мне домой.
— Атаджан, не спешите! Я сейчас все объясню. — Латофат сомкнула у груди пальцы, снова разняла их, сверкая длинными перламутровыми ногтями. — Мы хотим нашему сыну сделать обрезание. А в нынешние-то времена ответственные работники, которые придерживаются подобных обрядов, в немилости. Вот ваш сын и разослал всем приглашения якобы на ваш юбилей… Сделайте благородное дело, атаджан, аллах вам воздаст.
Старик кивнул, хмуря брови: понимаю, мол. И снова сел, опершись на палку.
— А сейчас умойтесь под колонкой. Вон висит полотенце. Потом зайдите в ту маленькую комнату и переоденьтесь. — Латофат, махнув полной рукой, отчего широкий рукав шелкового халата скользнул к самому плечу, показала на времянку в углу двора. — Там я приготовила вам новый чапан, рубашку и ичиги. А это тряпье, — она брезгливо сморщила нос, — снимите с себя и бросьте в угол.
— Пророк сказал: «Дай неимущему одно — аллах вернет тебе девять». А-аминь! — Старик провел по лицу ладонями и, постукивая палкой, направился к худжре около летней кухни.
— Кроме чапана, все ваше, насовсем! — с гордостью крикнула вслед ему Латофатхон.
Старик, шагавший было с явным удовольствием, замедлил шаги, сник. Очень хотелось ему наконец надеть новую одежду. Он остановился, недоуменно посмотрел на невестку.
— Я чапан взяла напрокат, после тоя должна вернуть, — пояснила та.
Бува промолчал, только кивнул и вошел в худжру. Перед вечером пришел Аббасхан Худжаханов. Увидев отца, сидевшего разодетым во дворе, на минуту задержался возле него.
— А-а, отец! Здравствуйте. Как поживаете? — сказал он, похлопывая Тура-буву по плечу, и, не дожидаясь ответа, направился к дому.
На ступеньках, облицованных плиткой, он снял туфли и в одних носках ступил на сверкающий паркет веранды. Этот паркет, выделенный для возглавляемого им учреждения, он привез домой и выложил все комнаты. Бесшумно ступая по плюшевой дорожке, он скрылся во внутренних покоях.
Через несколько минут Аббасхан вышел, облаченный в полосатую пижаму, и пригласил отца на веранду. Велел Латофатхон принести чаю. Он подробно рассказал обо всем Тура-буве, так сказать, проинструктировал…
В воскресенье двор Аббасхана Худжаханова, где были поставлены столы, накрытые белыми скатертями, заполнили гости. На «юбилей» Тура-бувы были приглашены уважаемые люди города, занимающие высокие посты. Пришли и махаллинцы, среди которых были Нишан-ака, Хайитбай-аксакал, Чиранчик-палван, который обрюзг за последние годы, полысел, и недавно освободившийся из тюрьмы Мусават Кари.
Гости, уже опьяневшие и разомлевшие от избытка еды, не обращая внимания на старика, звонко чокались бокалами, шумно разговаривали, смеялись.
К Тура-буве, растерянно поглядывавшему по сторонам, подошел Аббасхан и тихо, чтобы никто не слышал, сказал:
— Теперь ступайте, отец, туда, к себе.
— Хорошо, сынок, хорошо, — закивал старик и, постукивая палкой, засеменил к худжре.
— Эй, Хормамат! — позвал Аббасхан одного из присутствующих джигитов. — Заварите-ка крепкого чая да отнесите имениннику.
— Будет сделано, хозяин, — ответил паренек и умчался исполнять приказание.
Латофатхон после того, как пропустила с гостями несколько рюмочек коньяку, внезапно прониклась сочувствием ж тестю, собрала со стола того-сего и занесла к старику, проведала его, наказала, чтобы не скучал.
А за столами в честь Тура-бувы, «почтеннейшего и любимого отца», произносились тосты. То один, то другой заплетающимся языком произносил его имя, предлагал выпить за его здоровье и желал долгих лет.
Старику же хотелось совсем немногого: выйти из темной худжры и посидеть вместе с людьми, послушать, о чем они говорят, и понять в меру своего разумения. Но сын и невестка дали понять, где его место, исключили такую возможность. Опасаются, что он проговорится кому-нибудь. А зачем ему говорить? Ведь той в честь обрезания внука для него такой же праздник. Что ж, пусть будет так. Лишь бы пребывала в благополучии и благоденствии их семья…
А Нишан-ака и Хайитбай в это время как раз говорили о том, что не видно почему-то юбиляра за столом. Здоров ли он?
— Позовите своего отца, пусть посидит около меня, — обратился Нишан-ака к хозяину.
— А, что вы сказали? — переспросил Аббасхан, сделав вид, что не расслышал, и хотел было пересесть на другое место.
— Зачем ты спрятал старика в худжре? — громко произнес подвыпивший Хайитбай-аксакал. — Какой же ты человек после этого?
— Сейчас позову, — недовольно сказал Аббасхан и пошел за отцом.
— У нашего почтенного Аббасхана с некоторых пор появилась привычка прикидываться глуховатым, — посмеиваясь, заметил Нишан-ака. Он рассказал Хайитбаю-аксакалу, как ловко Худжаханов вывернулся, когда его спросили в учреждении, где он тогда работал: «Почему вы попустительствовали тому, что в вашем присутствии Зиё-афанди, Баят, Мусават Кари вели враждебные нашему обществу разговоры?» Аббасхан, приставив к уху ладонь, подался вперед и говорит: «Вы погромче, не слышу. Знаете ли, в детстве я перенес грипп, который дал осложнение на уши, с тех пор стал плохо слышать». Оказывается, он абсолютно ничего не слышал из того, что говорили упомянутые личности.
Нишан-ака тоже знал про это. Он даже как-то решил его проверить. Однажды, разговаривая с Аббасханом Худжахановым на трамвайной остановке, он вынул из кармана гривенник и незаметно бросил на асфальт. Аббасхан, услышавший, как звякнула монета, тут же посмотрел под ноги, отыскивая ее вокруг себя. Но, в следующее мгновение вспомнив про свою «глухоту», снова заговорил громко и слушал собеседника, приблизив ухо.
Нишан-ака и Хайитбай-аксакал громко засмеялись. В это время к ним подошел Тура-бува. Они потеснились, предлагая старику место рядом с собой.
— Пожалуйста, отец. К го хочет иметь в старости почет и уважение, должен сам почитать стариков, — сказал Нишан-ака.
…Сославшись на интересы учреждения, Аббасхан Худжаханов устроил себе служебную командировку. Наказав сотрудникам работать с таким же рвением, как и при нем, — «чтобы не заметно было мое отсутствие», как любил он сам выражаться, — махнул в Ферганскую долину. А для сотрудников не было секретом, почему Худжаханов так часто пускался в вояж именно в ту сторону. Что ему в это время года делать в жарком, пыльном Ташкенте, когда его ожидают пир и веселье в прохладном прекрасном кишлаке, утопающем в зелени садов! Кому не любо сидеть в окружении близких душе дружков за дастарханом, уставленным яствами? Тут и казы, и коньяк, и тонко нарезанный лучок-анзури, и гранатовый сок, тут и жареная курица, и самса. Кто откажется от удовольствия снимать по кусочку с вертела шипящий шашлычок и отправлять тепленьким в рот? А жизнерадостные и словоохотливые друзья, произнося любезные твоей душе слова, умножают восторг твоего сердца! Что может быть приятнее и притягательнее этого? Молодеет душа, чувствуется, что живешь, а не существуешь, — ведь в мир-то этот мы приходим раз!
В одном из цветущих, поистине сказочно прекрасных кишлаков в окрестностях Ферганы с утра велись приготовления. Был зарезан баран, накрыт богатый дастархан и под казанами разведен огонь. Покручивая свои загнутые кверху усы, прохаживался тут председатель, отдавая распоряжения. Несколько его проворных людей, умевших доставать даже то, чего нигде нет, бегают и хлопочут, прямо из кожи лезут, только бы достойно встретить дорогого гостя. В клетках, висящих на ветвях огромного карагача над хаузом, заливаются перепелки: бит-билик, бит-билик! Словно возвещают, что из Ташкента едет сам Аббасхан Худжаханов. Артистов областного театра эстрады, спешивших куда-то с концертом, пригласили в «Бустон», и они уже восседают на сури, застланном коврами, и настраивают свои инструменты.
За час до прибытия гостя председателя колхоза поставили в известность телефонным звонком, что Худжаханов любит телятину. По его велению из коровника вывели трехмесячного теленка и полоснули ножом по горлу. Две большущие рыбины, только что выловленные в канале, были зацеплены проволокой за жабры и брошены в хауз.
Машины, посланные на вокзал, привезли наконец Худжаханова и двух его приятелей. Знатная компания, возрадовав всех, придала начавшемуся пиру очарование. Велеречивые хозяева произносили тост за тостом. Скоро опьяневший Худжаханов, то и дело похлопывая председателя по плечу, обещал ему и одно, и другое, и третье. Председатель, близкие ему люди сидели, почтительно сложив на груди руки и зачарованно глядя на расщедрившегося Худжаханова.
— Наливай! Наливай полней! — приказывал председатель развеселому джигиту, сидящему рядом. — Налей и мне! Хочу выпить с товарищем Худжахановым! Хорошо, когда есть такие благородные друзья!
— Вы самый знаменитый председатель в Ферганской долине. Мы сделаем ваш колхоз еще лучше. А ну-ка, поднимем! До дна-а! — выкрикнул довольный Худжаханов.
Все сидящие изда́ли возглас одобрения, восхитившись «содержательным тостом» почетного гостя, и опрокинули рюмки себе в рот.
— В благословенный день родила нас святая мать, — произнес захмелевший Худжаханов. — По причине сей наш почтеннейший и любимейший отец сказал о нас: «Вы во чреве матери стали хаджой, и в сем мире счастье будет сопутствовать вам!» Так оно и есть: чего хотим вкусить — перед нами, а чего не хотим — за нами. И чин у нас приличный…
Пир длился до полуночи. Затем Худжаханов и его дружки уснули на веранде, утопая в атласных одеялах.
На следующий день Худжаханов гостил в доме бригадира. Опять пир продолжался почти до рассвета. Затем гостей зазвал к себе заведующий фермой…
Утром, возвращаясь в дом председателя, Худжаханов встретил молоденькую женщину с кетменем на плече, идущую, как видно, в поле. Тонкое платье облегало ее упругое, стройное тело. Походка у нее была плавной, грациозной. Худжаханов готов был поклясться, что до этого мгновения не видел женщины красивей. Да и взгляд ее показался Худжаханову кокетливым, зовущим. Не долго думая он преградил ей дорогу, раскинув руки и расплывшись в улыбке.
— Что такой красавице делать в поле? Ну, пойдем со мной, выпьем мусалласа. Не пожалеешь… — И поклонился, чуть не коснувшись рукой земли.
Женщина, крепче взявшись за черенок кетменя, шагнула навстречу и, гневно сверкнув глазами, крикнула на всю улицу:
— Я твою пустую башку сейчас превращу в капусту!
Худжаханов попятился, возмущенный ее «невоспитанностью», и поспешил укрыться в ближайшей калитке. Вечером же, во время застолья, он наказал председателю «усилить воспитательную работу среди колхозников».
Худжаханов, намеревавшийся погулять три дня, задержался здесь на неделю — не отпускали. Через семь дней, нахохлившийся, как петух, вернулся он в Ташкент и рассказывал, как много актуальных вопросов решил там прямо на месте…
Проходили месяцы… Люди, изредка приезжавшие из колхоза, не то что испить пиалушку чая из рук Худжаханова, не могли даже попасть в его приемную. Даже сам председатель, наведавшийся раза два-три в Ташкент, так и не смог встретиться с ним.
— Пять пальцев на одной руке, и те не одинаковы. Люди всякие бывают. Не оценил нашей доброты — ему же хуже, — говорили одни.
— Мал чином или велик, всяк может быть бесчестным, — соглашались другие.
— Недаром говорят: человека видно, когда к нему в гостя придешь, — вздыхая, замечали третьи.
И настало время, когда Худжаханов, выбрав пору созревания самых лучших дынь, снова приехал в кишлак. Несколько удивленный тем, что на станции его никто не встретил, он вышел из автобуса у чайханы, расположенной на крутом берегу сая. Поставил на землю чемодан, который привозил обычно пустым, а увозил полным, и из-под руки взглянул на долину, где располагался кишлак. Но не увидел ни домов в кущах садов, ни хауза с разросшимися по его краям карагачами, ни прохладных аллей, укрытых вьющимся виноградником. Вместо всего этого он увидел ровное вспаханное поле. Поодаль люди строили новые дома. Исчезла и тополиная аллея на околице…
Решив, что вышел не на той остановке, он поднял было с земли чемодан, но к нему подошел чайханщик, стоявший до сих пор в стороне и наблюдавший за ним.
— А-а, это вы, Гулямназир-ака! — обрадовался Худжаханов. — А я уж было подумал, что в другое место попал…
— Попали вы в те же места, где бывали прежде.
— А где же хауз с карагачами? Где дома? Председатель?..
— Слава аллаху, все здоровые, но дома снесло селем.
— Зачем же вы строились в местах, подверженных селю? — сказал Худжаханов. — Что же теперь делать будете?
— Строим. Государство помогает…
— Да-а, не ведали мы об этом, — промолвил Худжаханов, стараясь не смотреть на чайханщика, который не сводил с него пронзительного взгляда.
— Не ведали — ну, мы на вас и не в обиде. Мы в обиде на другого человека, который ел за одним дастарханом с нами хлеб-соль, а когда наши дома снесло селем, не приехал, не проведал.
— Верно, хвала вам! Есть на свете такие люди! Они как бородавки на здоровом теле…
— Да, вы правы, бородавки и есть, — подтвердил чайханщик. — Сейчас автобус поедет обратно, советую вам отправляться назад… Это место называют Бустон, что означает цветник! Нет тут места таким, как вы! — Глаза чайханщика, казалось, метали искры.
Худжаханов испугался не на шутку. Завидев приближающийся автобус, схватил чемодан и заспешил к остановке, негромко бормоча:
— Бескультурные дикари! Грубияны!..
— Ах, бесчестный, ах, бесчестный, — качал головой Гулямназяр-чайханщик, глядя ему вслед.
Пожилой колхозник, сидевший на супе и наблюдавший всю эту сцену, сказал спокойно:
— Не огорчайся, приятель. Болезнь эта называется худжахановщина. Как и при всех болезнях, важно вовремя ее заметить…
Глава тридцать третья
СНЕГОМ ЗАПОРОШЕННОЕ СЕРДЦЕ
Опять пришла зима. Такая же, как и множество прошлых зим, и чем-то не такая. В воздухе кружатся снежинки. По тротуарам идут прохожие, подняв воротники. Даже хлопотливых воробьев не видно — попрятались от стужи. А у Арслана на сердце тепло. Потому что по комнате, шурша легким халатиком, ходит Барчин. Потому что, проснувшись утром, он слышит ее голос: «Доброе утро». И утро действительно становится добрым, а день счастливым.
Арслан сидел перед зеркалом, намылив щеку. В окно он увидел горлинку, сидящую на перилах балкона. Птица нахохлилась, а студеный ветер взъерошивал ей перья. Грустно смотрит она на примерзшие к кормушке крошки хлеба. Арслан зашел на кухню, где Барчин готовила завтрак, отломил кусок батона и, раскрошив его в ладони, вышел на балкон.
— Оделись бы, Арслан-ака, простудитесь! — крикнула Барчин.
— Наша бедная горлинка совсем замерзла, — сказал Арслан, ссыпая крошки на деревянный поднос.
Птица, едва он скрылся за дверью, перелетела на поднос. Арслан снова подсел к зеркалу и начал бриться, искоса поглядывая на горлинку, клевавшую крошки.
— Гляди-ка, как похолодало, — сказал он.
— На то и зима, чтобы холодно было, — сказала Барчин, подойдя сзади и опустив руки ему на плечи.
— Правильно. Не будь холодов, мы не ценили бы тепла, — сказал Арслан, любуясь отражением жены в зеркале. Она уже была в платье, которое каждый день надевала на работу. Оно так шло ей! Отложив бритву, он встал, обнял Барчин, поцеловал ее в щеку.
— Вай, перестаньте, у вас же лицо в пене! — засмеялась Барчин, отбиваясь.
— Сейчас вытрусь! — Арслан схватил полотенце и провел по лицу. — Теперь можно?
— Вы же только одну сторону побрили!
— Ничего подобного. Потрогай своей ладошкой. Видишь, как гладко?
— За каждый поцелуй вы обещали подарок! — лукаво сказала Барчин.
— Куплю туристическую путевку и повезу тебя в Индию!
— Я вас так люблю, Арслан-ака!
— Я тоже люблю мою Барчин, мою единственную на свете!
Барчин отстранилась и, строго посмотрев на мужа, спросила:
— Сегодня у вас нет собрания? Не задержитесь?
— Если бы ты знала, как эти собрания надоели мне самому… Сейчас перед исполкомом две задачи: покончить с разного рода заседаниями, которые устраиваются ради «птички», и ликвидировать очереди, чтобы люди не толкались целыми днями в коридорах райисполкома, желая попасть на прием.
— Да, я знаю вас. Если уж вы за что возьметесь, то доведете до конца…
— Некоторым это, правда, может не понравиться…
— А вам очень хочется нравиться? Особенно женщинам, наверно? — пошутила Барчин.
— Ну что ты говоришь? У нас почти нет женщин.
— А Зейтуна в вашей приемной?
— Зейтуна замечательная секретарша.
— Вы ее имя так красиво произносите…
Стол уже был накрыт, Барчин пригласила мужа завтракать.
— Как бы мне не опоздать на первый урок, — сказала обеспокоенно Барчин, наливая мужу чай. — Вы меня подвезете в своей машине?
— Сегодня машина за мной не приедет, она сегодня весь день будет обслуживать детский сад номер двадцать два. Они переезжают в новое здание.
— И в прошлый раз свою машину отослали куда-то.
— Тогда попросила главный врач роддома Олия Умарова.
— Разве у них нет своих машин?
— Есть, но мало. Будь моя воля, я отобрал бы машины у многих бюрократов и передал больницам!
— Да-а, если бы вам позволили, уж вы наворочали бы дел! Потому вам и не дают таких прав!
Арслан засмеялся и встал из-за стола. У Барчин испортилось настроение. Арслан замечал, что в последнее время у нее часто ни с того, ни с сего портилось настроение. Причина, однако, была…
…Они шли под руку. Молчали. Снег поскрипывал под ногами. Легкие пушинки плавно ложились на голову, плечи. А Барчин казалось, что они припорашивают ее сердце. В ушах у нее звучал голос мужа: «детский сад», «роддом», «Олия Умарова». Она была уверена, что Арслан не случайно заговаривает об этом. Она чувствовала, как муж любит детей. Боялась, что угаснет любовь мужа к ней. Поэтому в день по многу раз заставляла его повторять, что он любит ее. И верила ему, и сомневалась.
Арслан всем сердцем привязался к маленькому Бабуру, сынишке соседки Махсудахон. Едва увидит его, лицо светится счастьем.
Он часто говорил с Барчин о своей работе, советовался с нею. Она знала, что первостепенным своим долгом муж считает помощь многодетным матерям, особенно тем, чьи мужья погибли на фронте. И когда он произносил слово «ребенок», снова боль сжимала ее сердце.
У Марата и Дильбар, поженившихся позже их, уже рос сын. Он родился в Ташкенте вскоре после того, как они переехали сюда из Шахрисябза. Мальчика в честь деда назвали Хумаюном. Хамида-апа не спускала ребенка с рук и точно бы забыла, что совсем недавно требовала у дочери родить ей внука, который может украсить ее старость. Нет, она скорее всего не забыла, а просто щадила Барчин. Знала, что ей и самой нелегко любоваться чужими детьми и не иметь своих…
— Ну, до вечера, — сказал Арслан.
Барчин, занятая невеселыми мыслями, не заметила, как они дошли до школы.
— До свидания, — сказала она, испытующе глядя на мужа. — Арслан-ака! Это правда, что вы меня очень любите?
Арслан смахнул с ее волос снежинки и прикоснулся теплыми губами к ее виску.
— Конечно. Почему ты об этом меня спрашиваешь?
— Так… — Она улыбнулась и опустила голову, чтобы он не заметил навернувшихся на глаза слез. — Приходите пораньше, — сказала она и быстро, почти бегом, зашагала к подъезду школы.
Зима в Узбекистане бывает короткой. Едва выпал снег — глядишь, он уже тает, солнышко ярко светит, и весна улыбчивая стоит на пороге.
В конце марта потоки теплых, ярких лучей непрерывно льются на землю. Арыки еще наполнены талой водой и по ночам, бывает, покрываются тонкой корочкой льда, а берега уже зазеленели. Ласточки радостно щебечут и носятся в прозрачной вышине. Букетики фиалок в руках у девушек принесли первозданный запах весны. Воробьи, благополучно пережившие зиму, резво перелетают с ветки на ветку, ликуют.
А Арслану весна вместо радости принесла огорчения. Тщательно скрывал он печаль свою, рожденную сознанием того, что детей у них, похоже, не будет. Мадина-хола где-то с кем-то поделилась болью души своей: «Если б знала, что девка эта окажется полой внутри, не позволила бы сыну взять ее в жены… Сынок мой мучается, не знает, что и делать, — вздыхая, сказала она. — Недаром говорят: бесплодная жена что чемодан без ручки — и нести неудобно, и выбросить жалко…»
Слова эти конечно же передали Барчин. С работы она не пошла домой, а направилась к матери. Едва увидела Хамиду-апа, губы ее задрожали, из глаз полились слезы. Мать выслушала, чем расстроена дочь, и посоветовала ей быть терпеливой и сдержанной.
Барчин стала задумчивой, рассеянной. Придя с работы, она, точно больная, ложилась на диван и, отвернувшись к стенке, предавалась раздумьям. Не могла она взяться за уборку, готовить еду. Она запустила дом, в ванной накопилась гора нестираного белья.
Арслана беспокоила душевная подавленность жены. Он пытался шутками отвлечь ее, рассмешить. Барчин видела старания мужа, но они казались ей искусственными. В ушах все еще звучали слова свекрови, будто не кто-то их передал ей, а сама слышала. И вздыхала. «Ведь свекровь права. Конечно же муж угнетен, что у меня все так обернулось. Только не подает виду, чтобы не обидеть. Притворяется веселым. А сам томится».
Спустя несколько дней до Барчин опять дошли разговоры, будто Мадина-хола жаловалась соседкам: «Подумайте-ка, эта женщина нажаловалась на меня моему сыну! Хочет его с родной матерью поссорить. Вместо радости один раздор принесла в нашу семью…»
Барчин так расстроилась, что у нее разболелась голова и она не смогла даже зайти на последний урок. Отпросившись у директора, ушла домой. Как только, зайдя в прихожую, закрыла за собой дверь, горло ей сдавили спазмы. Уронив книги на пол, Барчин вбежала в комнату и, рыдая, бросилась на диван. Дав волю слезам, долго лежала недвижно. Потом встала и, как человек, принявший твердое решение, села к письменному столу.
«Арслан-ака! Пусть вам не покажется мой поступок странным и поспешным. Я долго обо всем думала. Все равно это рано или поздно должно было случиться. Чем отдаляться друг от друга постепенно, каждый день, лучше порвать сразу. Я вижу, что никогда не смогу снять с вашего сердца тяжкий камень. И, значит, не смогу дать вам счастья. Моя любовь остается жить в моей душе, как сладкий сон. Будьте счастливы, Арслан-ака. Прощайте. Преданно любящая вас Б а р ч и н».
Барчин сидела несколько мгновений неподвижно. Хорошо, что она написала письмо, никогда не смогла бы она этого сказать мужу. Порывисто встала, как бы боясь, что может все еще передумать, побросала в маленький чемодан самые необходимые вещи. Остановилась перед фотографией. С нее радостно смотрели юноша и девушка. Глаза у них восторженно блестели, и видно было, как они счастливы в эту минуту. Сколько лет прошло с того дня, как они, прогуливаясь по улице Карла Маркса, решили сфотографироваться… Они еще не были женаты. И отец тогда был жив. Когда они жили в Шахрисябзе, отец случайно увидел эту фотографию. Долго разглядывал ее. Все те мгновения, пока он молчал, сердце Барчин готово было выпрыгнуть из груди. «Хороший парень, умный взгляд…» — сказал отец, возвращая фотографию. «Папа, я люблю его!» — хотелось крикнуть Барчин, но она лишь залилась краской и спрятала фотографию в альбом…
А недавно Барчин увеличила эту фотографию и повесила над диваном. Портрет напоминал ей о тех временах, когда они были счастливы…
Выйдя на лестничную площадку, тихо прикрыла дверь. Раздался щелчок английского замка, такой громкий, что Барчин вздрогнула. И ее вдруг охватило тягостное чувство, будто она совершает нечто бесчестное. Она торопливо сбежала по ступенькам.
Хамида-апа приняла бы приход дочери за обычное посещение, если бы не увидела чемодан в ее руках. И тут же отметила про себя, что давно ее сердце предчувствовало такую развязку. И внутренне себя готовила к этому. Обессиленно опустилась она на табуретку и проговорила, вздохнув:
— Напрасно ты так поступила, доченька. Он тебя обидел чем-нибудь?
— Нет. Мы не ссорились, мама. Но я же вижу… Он молчит. А я же вижу! Вижу!.. И его мать говорит, будто я сделала ее сына несчастным!..
Барчин села к столу и, обхватив голову руками, зарыдала.
— Да пусть отвалятся челюсти у твоей свекрови! — зло проворчала Хамида-апа. — А как сам Арслан? Не может разве сказать ей пару слов, чтобы не болтала своим поганым языком! Если б любил жену, смог бы защитить. Любовь его ломаного гроша не стоит. До чего довел — на себя не похожа…
— Не надо, мама, так… Арслан хороший. Он тут ни при чем. В деревянной резной колыбельке захныкал ребенок. Сын Марата. Ему уже полгодика.
— Ладно, доченька, ступай в комнату, — сказала Хамида-апа, вздохнув, и поднялась с места. — Внук мой есть захотел, а мать что-то задерживается на работе…
Дильбар работала инструктором в ЦК комсомола. Нередко приходилось ей уезжать в командировки, бывать на предприятиях, в учебных заведениях, где она неизменно задерживалась дотемна. А вечером с восторгом рассказывала о встречах с интересными людьми, восхищалась молодежью, которая ставит рекорд за рекордом на беговых дорожках стадионов, у станков, на хлопкоуборочных машинах или плавя сталь в мартеновских печах…
— А Марат-ака скоро должен прийти? — спросила Барчин. Ее беспокоило предстоящее объяснение с братом.
— В горкоме у них сегодня совещание, — сказала Хамида-апа, взяв на руки мальчика и покачивая его. — Проснулся, мой маленький. Смотри-ка, тетя твоя пришла. Скоро и мама придет, и папа…
Мальчик уставился на Барчин широко открытыми черными глазами и вдруг улыбнулся, замахал ручонками, загугукал, будто узнал ее. Барчин протянула руки, и мальчик потянулся к ней, приник к ее груди нежным, тепленьким тельцем. И Барчин охватила неизбывная нежность к этому маленькому существу.
— Вот так, подержи своего племянника, подержи, — сказала мать. — А я пока ширчай[87] приготовлю. Твой брат любит ширчай. Да столько перца добавляет, что даже у меня самой во рту жжет, когда гляжу на него.
Барчин зашла в гостиную и села на диван, оставив дверь открытой. Мать возилась на кухне у плиты и громко рассказывала о новостях. Барчин забавлялась с племянником.
— Да, вот еще что! Надо же! — воскликнула мать, словно собираясь рассказать о чем-то чрезвычайном. — К калитке неженатого джигита Васитджана кто-то подбросил запеленатого ребенка. А мать его, добрая женщина, и говорит: «Вот и хорошо, сынок, еще жены у тебя нет, а бог уже даровал мне внука!..» А людям ведь только дай языки почесать. По махалле слухи пошли: Васитджан дескать, совратил девушку, а жениться не захотел, вот она, мол, и подбросила ему его же чадо. Дело до милиции дошло. Вызвали туда Васитджана и приказывают: «Найди мать ребенка!» А он, веселый джигит, и говорит: «Коль приказываете, придется поскорее жениться, вот и будет мать у ребенка!..» Надо же, шутник какой… Эх, странная наша жизнь! — всплеснула руками Хамида-апа и вздохнула. — Кто тоскует по ребеночку, а кто бросает его на улице. Что же это за мир? Мед и яд рядом!..
Вскоре пришла Дильбар, бросилась в объятия Барчин. Видя, как та ласкает сына, не решилась взять у нее, пока Барчин сама не отдала.
— Возьми, он соскучился, — грустно сказала Барчин.
Они долго сидели, беседуя. За окном смеркалось. Хамида-апа включила свет.
— Кажется, Марат-ака пришел, — сказала Дильбар, услышав, как хлопнула калитка, и подошла к окну. — Нет, это твой муж.
Барчин, казалось, свернулась в комочек, опустила голову. В коридоре послышались шаги. В комнату вошел Арслан. Мгновенье он стоял на пороге, глядя на жену. Она не подняла головы.
— Что это за шутка, Барчин? — произнес Арслан сдавленным голосом. Он был бледен, губы его дрожали. Он хотел что-то сказать, но не мог.
Дильбар знаком показала на диван и вышла. Арслан отчего-то не решился сесть рядом, будто это была не жена, а чужая женщина. Может, все обернулось бы иначе, подойди он к ней, обними за плечи и скажи: «Ну что ты, Барчин, разве можно так? Мы же любим друг друга. Разве этого мало, чтобы быть счастливыми?..»
А Арслану даже было неловко заводить разговор о том, что между ними произошло. Ему не хотелось в это верить, казалось: если не напоминать об этом, то все забудется само по себе и они, посидев здесь, почаевничав, преспокойненько уйдут домой. А он, чтобы отвлечь Барчин от мрачных мыслей, стал рассказывать, как на заседании райисполкома настоял, чтобы на улицах Ташкента, в скверах сажались не только декоративные деревья, но и плодовые, а сегодня весь день ездил и смотрел, как озеленяется их район…
Барчин же, слушая его, все более раздражалась. «Я стала для него незначительной, как пустяковая безделушка, он даже не заметил моего ухода из дома, — думала она. — Я себя чувствую, будто отрезала кусок от своего сердца, а он о каких-то деревьях…»
И Барчин от жалости к себе неожиданно горько заплакала.
В комнате тотчас появилась Хамида-апа, прислушивавшаяся, как видно, к их разговору. Она подсела к дочери, прижала ее голову к груди.
— Оставьте уж ее в покое, не ладится ваша жизнь, — сказала она, не взглянув даже в сторону Арслана.
— Опомнитесь, Хамида-апа… Что вы такое говорите? Как же так?..
— А вот так. Каков накрытый дастархан, такова и возданная благодарность.
Вид у Арслана был потерянный. Он медленно поднялся и ушел. Хлопнула во дворе калитка. Стало тихо.
Спустя два месяца, в пору созревания черешни, из Шахрисябза приехал Эркин проведать сестру. В Ташкенте он пробыл четыре дня. Перед отъездом, улучив момент, когда Барчин была одна, зашел в ее комнату.
— Извините, что помешал, — сказал Эркин, видя, что Барчин проверяет тетради. — Я быстро уйду, у меня всего несколько слов к вам…
— Пожалуйста, — сказала Барчин и указала на стул.
Эркин сел и долго не мог начать разговор. Наконец спросил:
— Вы, наверно, догадываетесь, о чем я хочу сказать?
— Нет, Эркин-ака, я ни о чем не догадываюсь. Говорите. — Барчин положила на стол красный карандаш и внимательно посмотрела на Эркина.
— Мое отношение к вам вы знаете, — невнятно произнес Эркин, потупясь. — Я еще в Шахрисябзе сказал, что люблю вас. Я не такой бесчестный, как… Я на руках буду носить вас до конца жизни…
Барчин замерла. Вдруг она обнаружила в себе схожесть с одной знакомой женщиной, которая, изменяя мужу, старается оправдать себя, понося на чем свет стоит своего благоверного. И одному, и другому рассказывает она, за какого ничтожного человека вышла замуж. Но ведь Барчин положила голову на одну подушку с Арсланом, надеясь на счастье. И в том, что они расстались, виновата только сама.
Эркин хотел сказать еще что-то, Барчин перебила:
— Вы опять о том же… Я вас очень прошу к этому разговору никогда больше не возвращаться…
Эркин встал и, не промолвив больше ни слова, вышел.
Глава тридцать четвертая
НАВЕТ
Арслан не находил себе места. Только работа на время заглушала боль. Все эти дни Арслан был поглощен райисполкомовскими делами. Нередко с собрания спешил на стройку завода, с завода в микрорайон, где возводится жилой массив. Надо еще побывать и в махаллях, поговорить с людьми. А для того, чтобы привести в порядок бумаги, оставался только вечер, и Арслан задерживался в райисполкоме дотемна. Зачем спешить домой? Никто теперь его не ждет. Несколько раз Арслан даже оставался ночевать в своем кабинете, расположившись на диване. Иногда, придя домой, даже не зажигал свет. К чему он, если в самой душе так темно, что не посветлеет, хоть зажги в ней свечку…
Иногда на совещаниях он видится с Маратом. Они сухо здороваются, просто как знакомые. Арслан избегает разговора с ним. Боится услышать упреки… А в чем он, Арслан, виноват? Он никогда и словом не упрекнул ни в чем Барчин. Мать сказала что-то? Но ведь он просил ее не вмешиваться в его личную жизнь. А мать расплакалась, попрекая сына, что Барчин ему дороже матери.
Зять, отбыв срок наказания, вернулся. Кажется, образумился. Живут с Сабохат в мире и согласии. Устроился в Союзпечать — торгует в киоске газетами, журналами. Сестра как-то заметила в шутку:
— Я говорю Махсуму-ака: «Пойдите к моему братцу, просите его — он найдет для вас место получше». А он отмахивается: мне, мол, и это место сойдет, Арсланджану не с руки такими делами заниматься…
Арслан понял намек сестры и сказал зятю, что, если нужна его помощь, пусть не стесняется, говорит, он поможет. Кизил Махсум коротко ответил:
— Рахмат, укаджан, дела мои сейчас неплохи.
Разговор зашел о Мусавате Кари. Мать, вздохнув, сочувственно заметила:
— Да, бедняга пострадал ни за что.
— Что? — удивился Арслан. — Кто это вам сказал?
— Все в нашей махалле об этом говорят. Кари-ака сам говорил. За то, что его произвели в хаджи, срок получил. Зашел бы ты, сынок, навестил старика. Несколько дней назад он, бедняга, собрал у себя махаллинцев, дальних и близких родственников, и дал в честь их угощение. И за тобой человека присылал, да я занемогла в тот день и не смогла к тебе пойти, чтобы передать приглашение. Зайди к нему, сынок, соверши богоугодное дело…
Арслан усмехнулся, подумав о том, что аферист пытается играть роль великомученика. До него несколько раз доходили подобные слухи, но он не придавал им значения. Кто-то даже сказал, что Мусават Кари собирается отомстить Нишану-ака и Баймату. «Теперь в тюрьму сядут те, кто посадил меня!» — заявил он как-то, зайдя в чайхану и усадив рядом с собой Алимухаммеда, вместе с которым сидел в тюрьме.
«Да, наверно, он недаром подружился с этим громилой Алимухаммедом, — подумал Арслан. — Мусават Кари не из тех, кто бросает слова на ветер…»
Как-то сидел Арслан в своем кабинете и с заведующим райкомхоза Абдурасуловым подсчитывал, сколько леса, цемента, извести они могут выделить семьям погибших на войне фронтовиков для ремонта домов. Зашла Зейтуна. Принесла на подпись бумаги и как бы между прочим сказала, что пришел какой-то родственник Арслана и ждет в приемной. «Что же это за родственник?» — удивился Арслан и сказал девушке-секретарю:
— Сейчас мы закончим разговор, и пусть заходит.
Зейтуна кивнула и вышла.
Через некоторое время, едва Абдурасулов, выходя, закрыл за собой дверь, на пороге появился лысый человек низенького роста, с выпученными зеленоватыми глазами.
— Ассалам алейку-у-ум! — поклонился посетитель.
— Ва-алейкум ассалам! — Арслан вышел из-за стола, поздоровался с ним за руку.
— Вы не узнаете меня? Когда-то вы называли меня не иначе, как дядей. Поздравляю вас, племянник, с высокой должностью! — сказал он, ощерив щербатый рот в улыбке и задержав руку Арслана в своей потной, липкой ладони.
— Добро пожаловать! Садитесь! Как вы себя чувствуете? Все ли здоровы у вас дома? Как поживает Атамулла?
— Слава аллаху, все здоровы, благоденствуем.
Мусават Кари сел на диван, кивая головой и приглядываясь к Арслану, надеясь заметить на его лице признаки растерянности или испуга. Тот был спокоен.
— Чем обязаны вашему приходу? — спросил Арслан, опускаясь в свое кресло и тоже внимательно всматриваясь в посетителя.
— Как говорится, если гора не идет к Магомету… Да-а, вы же теперь большой человек, руководитель. А мы — сажа на казане, о которую можно испачкаться… Где побывал я, пусть не ступит туда нога наших близких. Аминь! — Кари молитвенно провел ладонями по лицу, потом обвел взглядом кабинет. В углу стоял сейф, на стене висела карта района, на столе чернильный прибор, бумаги, папки. — И как вам удалось достичь таких степеней?.. Мы рады, очень рады за вас…
Арслан нахмурился. Его раздражала приторно-елейная ухмылка Кари, тон разговора, будто он собирался в чем-то изобличить собеседника.
— Чем могу быть полезен? — сухо спросил Арслан.
— А, вот это другой разговор! — встрепенулся Кари. — Очень даже можете быть нам полезным. Хочу попросить вас помочь мне получить пособие, как пострадавшему во времена культа личности…
— Вы отбыли совсем по другому поводу.
— По какому же? — Кари слегка наклонил голову. Глазки его стали пронизывающими и злыми.
— За спекуляцию.
— Ха-ха, любезный, в кои-то времена мы вместе торговали! Иль забыли про каракулевые шапочки?
— Кроме того, вы имели связь с нашими врагами и всемерно содействовали им.
— Вот это да! — Кари обеими руками хлопнул себя по коленям. — Вот это да-а-а! Этого не ожидал от вас… Милый друг, ведь знакомые-то у нас были общие. Вот и выходит — вы по должностным ступенькам вверх поднимались, а меня низвергли в преисподнюю.
Арслан вспылил. Вскочив с места, он швырнул на стол карандаш и принялся ходить по кабинету.
— Вы уголовник и были посажены за спекуляцию и мошенничество. Баймат изобличил вас.
— Скажите уж прямо — вор!
— И еще какой!
— Не зарывайтесь, друг, у вас тоже рыльце в пуху. Думаете, я не знаю, как ваш зять при помощи взяток освободил вас от фронта?
Арслан у окна резко обернулся. Он был бледен.
— Прошу вас, покиньте мой кабинет. И больше не приходите сюда, пока вас не пригласят.
— Что ж, мальчик, выросший на моих руках, я с вами еще поговорю, — сказал Мусават Кари, поднимаясь с места. — До свидания. Аллах милостив, обстоятельства изменятся. Чем выше сидишь, тем больнее падать… Тогда и поговорим…
Мусават Кари вышел и резко захлопнул дверь.
Домой Арслан вернулся поздно. Настроение у него было подавленное. День пролетел так быстро, что ничего путного не успел сделать. В таких случаях Арслан всегда испытывал неудовлетворенность собой. Есть не хотелось, и он лег, намереваясь утром встать пораньше. Хотя окна открыты настежь, в комнате было душно. Арслану приснился сон. Находится он будто бы на кладбище…
Полгода назад было принято постановление о благоустройстве территории городского кладбища. Выделили деньги и сразу принялись за дело. Возвели каменную изгородь, проложили аллеи, посадили цветы, построили навесы, где люди могут спрятаться от жары. А тут глядит Арслан — ничего этого нет. Кладбище — что тебе пустыня. Только на безлистых, мертвых деревьях, торчащих там-сям, сверкают глазищами совы. Вдруг неподалеку зашевелилась могила, и из нее выбрался мертвец, волоча за собой белый саван. У Арслана сердце замерло. Он хотел было убежать, но ноги не слушаются. А мертвец подошел, скрежеща зубами, схватил его за горло и начал душить. Арслан силился закричать, но голос пропал. А мертвец приговаривал: «Вот я сейчас с тобой рассчитаюсь…» И голос его был похож на голос Мусавата Кари. Лицо же, наполовину закрытое саваном, Арслан не мог разглядеть. «Кари ведь еще жив!..» — подумал Арслан, делая усилие, чтобы проснуться. Открыв глаза, Арслан обрадовался, что это был всего лишь сон. Он встал, зашел в ванную и умылся холодной водой. Вернувшись, сел на кровать и задумался. Было тихо. Улица озарена желтоватым светом электрических фонарей. Изредка, шурша шинами, проносились автомобили. Когда унялось сердцебиение, он снова лег и натянул простыню до подбородка.
Вдруг перед глазами опять предстало кладбище. Что за чудо! В этот раз он увидел не заброшенное, тоскливое место, а зеленый благоухающий сад. Под раскидистой чинарой сидели на супе дегрез Мирюсуф и Эсан-бува. Арслан обрадовался встрече с ними, заспешил в их сторону. Отец поднял руку, делая предостерегающий жест. Арслан остановился в недоумении. Эсан-бува сказал: «Знаем, дела у вас неважны, сынок. Но и нам кое-что пришлось в жизни испытать. Клевета иной раз разит наповал. Надо суметь отразить ее. Я был стар, оттого и разошелся по швам после первого же удара. А вы молоды, не дайте себя одолеть врагу…»
Арслан хотел присесть с ними рядышком на супу, но отец строго сказал: «Ступай, сынок, ступай, занимайся своими делами. Не вмешивайся в разговоры старших! А ну, кому говорят!..»
Арслан проснулся. За окном серело утро.
В воскресенье пришла мать. Она принесла айву и разложила ее — на подоконники, на шкаф, в сервант, на полки с посудой.
— Аромат от нее будет. Гляди-ка, как щедра наша осень… А в прихожей на верх вешалки она незаметно положила пучок гармолы — от сглаза. Сын, однако, заметил.
— Мама, что это вы делаете? — спросил он.
— Это гармола, сынок. Пускай лежит. Она никому не помешает, не выбрасывай. Если не хочешь, чтобы кто-нибудь увидел, заверни в газету.
— Ладно, пусть лежит, — улыбнулся Арслан, не желая обидеть мать. — Коль уж вы пришли, схожу-ка я на базар, сготовите что-нибудь вкусненькое.
— Ай, сынок, я дома уже все приготовила для плова. Пришла, чтобы тебя позвать.
— Прямо сейчас собираться?
— Конечно. У нас Кари-ака сегодня будет. Он сказал, что вы немножко повздорили. Переживает очень. Старый человек, сынок, уважь его, помирись.
Арслан помрачнел. Это, видимо, была главная причина прихода матери. Подержал в руках белую капроновую рубашку, вынутую из шифоньера, и повесил обратно.
— У меня кой-какие дела, мама, сегодня непременно надо закончить.
— Вот и заканчивай. А как закончишь, приходи.
Мать собрала грязное белье, какое нашлось в доме, постирала, повесила на балконе сушиться. Уходя, сказала:
— Ждать будем. Не подводи, сынок. А то обижусь.
Придя домой, Мадина-хола позвала Сабохат, муж которой в пятницу уехал в Шуртепа проведать родственника, и они тут же принялись готовить плов. Арслан с детства любил плов из девзиринского риса. В четыре руки быстренько накрошили морковь, нарезали мяса и луку. Затем Мадина-хола прокалила кунжутное масло в казане, отлитом еще дедом покойного мужа. Часа через два плов был готов. Накрыв казан промасленной деревянной крышкой, оставила его допревать.
Вскоре калитка звякнула цепочкой, и в ней появился Арслан и Мусават Кари одновременно.
— Салам, старушка! Как здоровье? — приветствовал Мусават Кари и шутливо добавил: — Встретил вот по дороге беглеца и привел к вам. А то, сдается мне, хотел он мимо пройти, сделав вид, что не узнал меня.
— Салам алейкум! — ответила Мадина-хола. — Не говорите так, уважаемый. Арсланджан вовсе не бегает от вас. Я ходила сегодня к нему и сказала, что вы придете. Он должен с уважением относиться к товарищам своего отца.
— Пошутил, пошутил! Ну, как поживаете? — Мусават Кари сел на супу, покрытую паласом, провел по лицу ладонями. — Слышал, что у вас астма. Но главное — сердце. Если сердце здоровое, проживете и восемьдесят, и девяносто лет.
— Пусть здравствуют молодые, — сдержанно отозвалась тетушка Мадина, не любившая напоминаний о ее болезни, — мы уж свое пожили, что положено было, отведали. Продлит аллах наши годы — поживем еще. Главное, чтобы молодежь была здоровой.
— Прошу, пожалуйста, в дом, — пригласил Арслан.
— Бисмилло, — прошептал гость, поднимаясь с места. Он, степенно ступая по ступенькам, взошел на айван, где стояла хонтахта, а вокруг расстелены цветастые курпачи.
Сабохатхон принесла на подносе румяные тандырные лепешки, сладости и чай. Тихо поздоровалась сначала с гостем, потом с братом и неслышно вышла, направляясь в летнюю кухню.
— Мудрому властелину Або Муслиму подарили коня, — начал Мусават Кари. — Властелин спросил у своих полководцев: «Для каких дел скакун предназначен?» Полководцы в один голос ответили: «Эй, властелин, на этом коне хорошо преследовать убегающего врага». Або Муслим возразил: «Нет, на этом коне хорошо убегать от плохого соседа». Слава аллаху, махалля наша дружная, нет соседа, от которого надо убегать…
Арслан понял прозрачный намек: дескать, не следует ссориться, чтобы не было разлада среди махаллинцев, не следует нарушать древний обычай, по которому сосед считается ближе родственника.
«Да, конечно, я тогда погорячился, — подумал Арслан. — Можно было обойтись без горьких, обидных слов. Ведь об одном и том же можно сказать по-разному».
— Предки наши учили: «Сделаешь соседу добро — тот отплатит добром вдвойне. А вред причинишь соседу — в доме твоем поселится зло». Один вор дал сыну украденный чапан и сказал: «Отнеси на базар и продай». По дороге у мальчика чапан украли. Мальчик вернулся домой, отец спрашивает: «Эй, сын, за сколько продал чапан?!» Сын говорит: «За сколько ты приобрел, за столько я и продал…» Вот так-то.
Сабохат принесла плов.
— Вот, значит, и мы были любимы тещей — пришли прямо на плов! — воскликнул Мусават Кари, потирая ладони. — Да будет всегда на вашем дастархане такой плов. А казы… м-м… один запах чего стоит!
— Прошу вас, угощайтесь, — сказал Арслан, придвигая блюдо гостю поближе.
— Баракалла! Жить вам до ста лет! Ох уж эти проклятые зубы! — сказал Мусават Кари и пошатал пальцем передний золотой зуб. — Хоть и сверкают, а непрочны.
— Неужто ваши зубы так рано ослабли? — спросил Арслан.
Мусават Кари изучающе посмотрел на собеседника — в словах ему почудился намек. И рассмеялся, хлопнув себя по колену.
— О-о-о-о, хвала отцу твоему! И убегающий молит бога, и догоняющий… Хи-хи-хи!..
— Вино есть. Может, выпить?
— Давай, друг, отчего же не выпить.
— А как же Магомет? Он ведь запретил?
— Мы трижды повторим «бисмилло». Давай, друг, наливай!
Арслан наполнил пиалы. Мусават Кари выпил не отрываясь и показал, что посуда пуста.
— Хвала! — усмехнулся Арслан.
Арслан отпил из пиалушки до половины и поставил ее на хонтахту.
— Слабоваты вы, укаджан, молоды еще. А мы, простой-то люд, закрываем глаза и опрокидываем. «Ради друга и яд выпей», — говорят мудрецы. Мы всегда выполняем сей совет мудрецов, хи-хи-хи!..
— Берите плов, Кари-ака, а то остынет.
— Бисмилло, — произнес гость, протянув руку к еде. — Если бы вы позвали Махсума, было бы очень хорошо.
— Наш зять уехал в Шуртепа.
— Да, действительно, мы запамятовали.
— Еще налить?
— Конечно, конечно! Лейте этот райский напиток.
Мусават Кари выпил еще пиалушку. Опьяневший, предаваясь праздной болтовне, он жевал кусочки поджаренного мяса и казы, выхватывая их жирными руками из блюда, и то и дело принимался обсасывать пальцы.
Арслан, чувствуя, что гость не прочь выпить еще, закатил пустую бутылку под хонтахту, давая понять, что «райского напитка» больше не будет.
— Что же ты, укаджан, не допиваешь свое вино?
— Выпью. Постепенно.
— Ну какой же ты джигит! Пиалушку вина растягиваешь на целый час… А мы и плов берем вот по какому комочку — с голову ребенка. Да будет от него польза нашему здоровьицу! Эй-ей, послушай-ка, укаджан… — С трудом сжевав и проглотив плов, Мусават Кари устремил выпученные зеленоватые глаза на Арслана. — Послушай-ка, Арслан, я слышал, от тебя ушла жена… Ничего, закон на твоей стороне: не родила — можешь расходиться. Уж мы-то хорошо знаем законы. За что сколько дадут, спрашивай у нас — точно скажем. Если человек не может оставить после себя росток, какой толк от его жизни! Для чего мы живем? Для детей живем. Дети — украшение жизни. Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар…[88] — Недовольный тем, что Арслан помалкивает, Кари продолжал: — Мы с твоим отцом вот так же сиживали и ели из одного блюда. Мы с твоим отцом почти с детства знали друг друга. Как братья жили. Когда ты был маленький, я тебя на руках носил. Так что ты мне, считай, родной. Так-то… Поэтому и болит у меня душа за тебя. Ты породнился с несто́ящими людьми. Облапошили они тебя. Сплавили тебе бесплодную дочурку, кою никто не брал, — только в расходы ввели…
— Ешьте! Ешьте плов! — Арслан с трудом сдерживал себя, чтобы не оборвать его и не нагрубить. Он с детства, с молоком матери, впитал в себя понятие об уважении к гостю, оскорбить которого тяжкий грех. Он мог позволить себе сказать что-нибудь резкое в кабинете, но дома…
— Если ты меня уважаешь, я сам найду тебе отменную девицу-красавицу…
— Ешьте плов, остывает!
— Хоп, едим, едим!
— У вас дома все благополучно? — спросил Арслан, чтобы переменить тему разговора.
— Все вроде бы ничего… Хочу Атамуллу женить — денег не хватает. У арабов есть притча: один человек попросил у прохожего, которого впервые встретил, денег в долг. «Я же вас не знаю!» — удивился незнакомец. «Потому и прошу, — сказал человек. — Если бы вы меня знали, ни копейки не дали бы». Вот я и ищу, у кого бы одолжить денег. Вы не дадите ли взаймы несколько рублей?
— Чтобы устроить свадьбу Атамуллы? Почему же не дать… Сколько нужно?
— Тысячу хватит. Хвала твоему отцу!
Арслан вытер руки о край дастархана и, извинившись, поднялся с места. Он прошел в комнату, где мать и сестра, как полагается по обычаю, отдельно от мужчин ели плов. Арслан сел рядом с матерью и, обняв за плечи, шепнул ей на ухо:
— Кари-ака просит денег. У меня есть немножко, добавьте шестьсот рублей из своих запасов. Я завтра сниму с книжки и принесу вам.
— Вай, сынок, я же те деньги собираю на свой смертный день!
Арслан засмеялся.
— Они вам не скоро понадобятся. Долго еще жить вам. Давайте.
Тетушка Мадина вытерла о влажное полотенце ладони, кряхтя, поднялась с места и сунула руку между одеялами, сложенными на сундуке до самого верха ниши.
— Откуда ты узнал, сынок, про мои деньги? Всего-то их чуть поболее шестисот…
Арслан положил в карман деньги и вернулся на айван.
Мусават Кари сидел, облокотившись на подушку.
— Вот и наелись, слава создателю, — сказал он. — Теперь будем пить чай, укаджан, налейте чаю.
Арслан налил в пиалу, как полагается, до половины и протянул ему. Попили чаю, беседуя о том о сем.
Кари потер жирными руками ичиги, они засверкали, будто их ваксой начистили. Потом вытер полотенцем каждый палец в отдельности и нетерпеливо спросил:
— Ну как, наскребли?
— Пожалуйста. Здесь тысяча. Пусть они пойдут впрок Атамулле.
— Хвала, укаджан! — Кари взял деньги и стал невероятно быстро перебирать их пальцами. — Есть пословица: «Сосчитай даже найденные деньги». Посчитаем же их.
Он во второй раз пересчитал деньги, пошевеливая губами. Наконец, удовлетворенный, спрятал их в нагрудный карман и застегнул пуговицу. Отхлебнув чаю, прочитал над дастарханом молитву. На айване появились тетушка Мадина и Сабохат. Выразив им свою благодарность, Кари распростился и поспешно направился к калитке. Арслан вышел было его провожать, выглянул за калитку, а того уж и след простыл. По пустынной улице лишь трусила пегая бродячая собака.
Не прошло и недели, Мусават Кари вновь появился ранним утром в приемной председателя райисполкома. Зейтуна только что пришла и, глядя в зеркальце, подводила карандашом брови. При виде неожиданно вторгшихся посетителей растерялась и сказала, что товарища Ульмасбаева еще нет.
— Ничего, мы его подождем в кабинете. Я же дядя Арсланджана, — напомнил ей Мусават Кари и, сделав своему спутнику знак, чтобы тот следовал за ним, направился к двери.
— Вы что, товарищ? — возмущенная Зейтуна заслонила собою дверь.
— Разве вам не понятно? Я его дядя! — с расстановкой произнес Кари.
— Дядей можете быть дома, а здесь вы простой посетитель! — резко оборвала его Зейтуна.
В это время в приемной появился Арслан. Он поздоровался с Зейтуной и, пригласив Мусавата Кари и его спутника, проследовал в кабинет.
Кари окинул испепеляющим взглядом девушку и шагнул в председательский кабинет, подталкивая приятеля.
Арслан, перебирая на своем столе утреннюю корреспонденцию, предложил им сесть. Мельком взглянул на незнакомца. Это был полный мужчина средних лет, с нависшими веками. Брюки заправлены в хромовые сапоги. На голове синяя бархатная тюбетейка. Видимо, чтобы показать себя культурным, надел, несмотря на жару, черный пиджак и поверх клетчатой рубашки завязал зеленый галстук.
Мусават Кари церемонно представил его:
— Талибджаном их зовут.
Интонация его была такой, будто он желал подчеркнуть: «Это и есть тот замечательный джигит, о котором я много раз вам говорил».
Арслан вопросительно посмотрел на посетителей:
— Чем обязан вашему визиту?
Те переглянулись. Потом Мусават Кари сказал:
— Освободилось место заведующего базой райпотребсоюза. Неплохо бы этого славного джигита назначить…
— Но вы не по адресу обратились, — перебил его Арслан. — Райисполком к этому не имеет отношения.
— Райисполком ко всему имеет отношение, — возразил Мусават Кари.
— Вы преувеличиваете, — засмеялся Арслан.
— Мы тоже с понятием, дорогой друг Арсланджан. Вы позвоните начальнику треста. Достаточно одного вашего звонка…
— Как же я могу рекомендовать человека, которого не знаю?
— Разве вам мало того, что я его прекрасно знаю? Приведу ли я к вам плохого человека? Э-э, племянник, надо опираться на народ, укреплять с нами связь. Вы в своих кабинетах, с утра до вечера дымя папиросами, устраиваете собрания, а я вот привожу к вам лучших сыновей нашего народа!
Арслан усмехнулся.
— Извините, не могу я этого сделать. Вы ведь сами не раз говорили: чтобы узнать человека, не один пуд соли надо с ним съесть.
Мусават Кари насупился.
— Жаль, дорогой Арсланджан. Я думал, из уважения к памяти отца… Талибджан хорошо знал вашего отца…
— Я дорожу памятью отца, потому и не могу этого сделать.
— Ну что ж! Спасибо и на этом. Пойдем, Талибджан. В нынешние времена люди перестали почитать родственников.
Сухо попрощавшись, Мусават Кари вышел из кабинета, увлекая за собой дружка-приятеля.
В конце месяца в горкоме партии состоялось заседание ответственных работников города. Во время перерыва Арслан вышел в фойе покурить и надеясь улучить удобный момент, чтобы подойти к Марату и узнать, как живет Барчин. Первое время Арслан звонил им по телефону, справлялся о здоровье, но Хамида-апа как-то намекнула, что Барчин будет гораздо спокойнее, если он не будет ей напоминать о себе.
К Арслану, широко улыбаясь, подошел начальник треста столовых и ресторанов. Они давно были знакомы, но при встречах обычно ограничивались приветствиями. А тут начальник панибратски обнял Арслана за плечи и повел к открытому окну. Принялся расспрашивать о здоровье домочадцев. Долг вежливости требовал и Арслану ответить тем же. Они стояли у окна и курили, стряхивая пепел за подоконник. Человек этот, высокий и плечистый, вызывал у Арслана симпатию. Он был остроумен, весело шутил.
— А знаете, дорогой Арслан Мирюсуфович, ваш родственник опытный работник, — как бы случайно вспомнив, заметил вдруг начальник треста.
— Какой родственник? — не сразу догадался Арслан, о ком идет речь.
— Талибджан… Недавно он пришел ко мне с вашим дядей. Представился, попросился на работу. «Как можно родственнику товарища Ульмасбаева отказать?» — сказал я ему.
Арслан, стараясь подавить в себе гнев, выбирал слова, как бы повежливее сказать начальнику треста, чтобы не обидеть ненароком, о том, что его попросту надули, что ни Талиб, ни Мусават Кари никакие ему не родственники. Но в этот момент всех пригласили на заседание, и они, поспешно загасив папиросы, направились в зал.
…Вечером, вернувшись с работы, Арслан застал у себя мать. У нее был свой ключ от квартиры. Окна и дверь на балкон были отворены. Из кухни доносился вкусный запах жареного мяса. Арслан разулся в прихожей и, надев домашние тапочки, прошел в комнату. Мать обняла его и тут же принялась выкладывать все новости, какие знала. Не переставая говорить, заспешила на кухню, чтобы помешать мясо. Арслан пошел умываться, он изрядно проголодался сегодня.
— Утречком заходил твой друг Талибджан, пусть аллах пошлет ему здоровья, проведал твою матушку. И здоровенный кусище баранины принес, одна мякоть да сало. Сказал, что никогда не забудет добра, которое ты ему сделал… Посмотри-ка, сынок, какое молоденькое, мягкое. Вот таких бы друзей побольше… Он, кажется, влиятельный человек, этот твой приятель? Сказал, что и Кари-ака взял к себе работать… «А где, спрашиваю, работаете-то?» — «А там, — говорит, — где парадные двери узки, а с черного хода просторны». И смеется. Веселый человек…
Арслан выскочил из ванной. Разгневанный, он резко сказал матери, чтобы не смела она принимать у себя в доме этого человека.
Прошло недели четыре, и история эта стала постепенно забываться. У председателя райисполкома много дел поважнее. Порой лишь, вспомнив, как Мусават Кари и его дружок Талиб надули начальника треста, Арслан внутренне усмехался, успокаивая себя тем, что начальник-то в общем доволен работой, а если люди трудятся неплохо, то какая разница, родственники они Арслану Ульмасбаеву или не родственники. Даже выглядеть будет как-то несолидно, возьми он сейчас трубку и позвони начальнику треста: слушайте, дескать, ведь те люди, которые у вас работают, никакого отношения к моему роду не имеют. «Ну и что? — спросит тот. — А вы бы хотели, чтобы я принимал людей только из вашего рода?..»
На днях Мусават Кари зашел к тетушке Мадине и, вернув долг, пригласил ее на свадьбу Атамуллы. Объяснил, что невеста — дочь ювелира Нигматуллы.
Тетушка Мадина понесла на той целое корыто самсы и отрез яркого шелка. Арслан на свадьбу не пошел, сказался больным, но зато тетушка Мадина сидела там на атласных курпачах на самом почетном месте.
Кажется, не будет конца разговорам о богатом дядюшке невесты Талибходже, у которого и миска-то для собаки золотая. Поскольку его величали не иначе, как Талибходжа, Талибхан, Талиббек, тетушка Мадина не сразу сообразила, что разговор идет о том самом Талибе, который как-то занес им мясо. С тех пор она его и не видела.
— Сперва сам устроился на базу, а потом и братьев пристроил, и племянников. Недаром говорят: свой своему поневоле друг, — сказала какая-то мудрая старушка.
— Да, как скорняк богатеет, сосед не ведает, — с иронией заметила ее соседка.
— А поглядели бы вы, сколько жемчуга да золотых украшении у его женушки! — с завистью проговорила третья.
Раздумывая над тем, что рассказала ему мать, Арслан готовился к приему посетителей. Зашла Зейтуна и доложила:
— Арслан-ака, пришел ваш дядя, говорит, что у него к вам срочное дело. Просит впустить его без очереди.
Арслан, конечно, сразу догадался, что за «дядя» к нему пожаловал. Не успел ответить, дверь отворилась, и на пороге появился сам Мусават Кари. Зейтуна тут же выскользнула из кабинета.
— Ассалам алейкум! — проговорил Мусават Кари, согнувшись в поклоне, и обеими руками потряс ладонь Арслана. Затем, не дожидаясь приглашения, сел на диван и, отметив, что в кабинете никого, кроме них, нет, молитвенно воздел руки и произнес: — Куда ступила наша нога, пусть не ступит ни одно бедствие, аллах велик!
— Слушаю вас, Кари-ака.
Мусават Кари отметил про себя, что председатель райисполкома, кажется, сегодня не в духе.
— Там, в приемной, премного людей дожидаются, поэтому не стану отнимать у вас время… Всего на минутку зашел к вам сказать, что Талибджан благодарит вас. Он очень доволен. Работает засучив рукава. Бездельником, как говорится, и бог недоволен. И я при нем тружусь, на хлеб-соль хватает. Жить-то надо… А неподалеку от нашего гузара место директора ресторана освободилось. Хорошо бы устроиться туда — к дому близко… Я человек уж не молодой, трудно мне далеко ездить. Если вас не затруднит, позвоните начальнику райпищеторга, и да удостоитесь вы новых степеней величия! Да будет вам подмогой дух вашего отца! Вы же знаете, что я честный человек — долг вон вернул вам раньше времени. Сделайте своему дяде доброе дело.
— Послушайте, Кари-ака!.. — Арслан в сердцах швырнул на стол карандаш и встал. — Давайте договоримся раз и навсегда, чтобы вы нигде не рекомендовали себя как моего родственника.
Мусават Кари хотел что-то сказать, но Арслан остановил его:
— Знаю, что хотите сказать! Я уважаю людей, знавших в свое время моего отца, считаю их близкими нашей семье. Но я не могу позволить никому извлекать из этого выгоду!
— Вы уже во второй раз невежливы с человеком, намного старше вас по возрасту. Разве отец вас не учил уважать старших?
— Отец меня учил также разбираться в людях! И знать, кого уважать, а кого нет…
— Выходит, мы недостойны уважения? — Мусават Кари встал. Его глаза превратились в щелочки. Лицо стало бледным.
— Я так не сказал, — тихо произнес Арслан и, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол.
— Что ж, мы вас поняли, — процедил сквозь зубы Мусават Кари. — Обойдемся и без вас. Мир не без добрых людей.
Он круто повернулся и, зачем-то поправляя на голове неизменную темно-зеленую тюбетейку, широкими шагами направился к выходу.
Арслан стоял и смотрел в окно. Он не обернулся, когда позади него хлопнула дверь.
* * *
Не прошло много времени, и Талиб, этот плут, за короткий срок разбогатевший пуская в ход всякие хитрости, теперь должен предстать перед судом.
Жена Мусавата Кари Мазлума-хола не сидела сложа руки. Прослышав, что в доме Талибходжи произвели обыск, она собрала два больших ящика с ценностями, скатала ковры и развезла все это по домам дальних и близких родственников. С трудом дождалась вечера, когда наконец вернулся с работы муж.
— О, мой ходжа, не грозит ли нам участь Талибхана? — спросила она, дрожа от страха. — Откуда на нашу голову напасть такая? Чем мы прогневали аллаха?
— Это все проделки того… сына дегреза Мирюсуфа. Не иначе — он позвонил куда следует. Что ж, ладно, еще пожалеет! — зло проговорил Мусават Кари, на скулах его вздулись желваки.
— А мы как же?! — воскликнула Мазлума.
— Ко мне никто не подкопается. Я не такой дурак. Советовал ему, поучал, говорил: «Будь осторожен». Не послушался. Совал в рот сразу пять пальцев, глупец! Даже ворона учит своего птенца: «Раз клюнь, три раза оглянись». А Талибходжа три раза клевал и только раз оглядывался.
Слова мужа несколько успокоили Мазлуму-хола, она с облегчением вздохнула.
Муж забросил под язык щепотку насвая и продолжал:
— Если встретишься с женой дегреза Мирюсуфа, скажи: дескать, Кари-ака очень гневаются на этого негодника Талиба, правильно сделали, что его арестовали, — проучить надо. Теперь Кари-ака, мол, беспокоится, как бы чужая грязь к нему не прилипла. Поняла? Пусть передаст эти слова своему сынку. Хотя нам бояться-то его нечего. Скорее он нас должен бояться. Мы хорошо знаем, что это за личность Арслан. Он не имеет права занимать такой высокий пост. Если он начнет и под меня подкапываться, я разоблачу его. Нам известно, как он во время войны от службы отделался… А его шурин, секретарь горкома Марат Саидбеков, сейчас как раз зуб на него имеет, того и гляди шкуру с него сдерет. Ульмасбаев, видно, и сам это чувствует. Если бы его кресло не было так шатко, не побоялся бы рекомендовать меня на хорошую работу. Похоже, он непрочно себя чувствует, жена! Поэтому, думаю, он сейчас и не пикнет. Будет себе работать спокойненько, будто ни о чем не ведая. Нынешние руководители такие — только о своем благополучии пекутся. Это, пожалуй, и к лучшему. Как говорится, нет худа без добра…
Однако прошло несколько дней, и ревизоры, представители народного контроля, пожаловали на склад, которым заведовал Мусават Кари. И Кари, как говорится, забегал, подобно курице с обожженными лапками.
Об этом Арслану подробно рассказал заведующий отделом торговли райисполкома. И спустя каких-нибудь полчаса после их разговора зазвонил телефон. Арслан снял трубку и сразу узнал голос Марата Саидбекова.
— Здравствуйте, Марат-ака, — ответил Арслан на приветствие. — Все ли дома благополучно?
— У нас-то благополучно. А вот у тебя, братец, не все благополучно, — сказал Марат и, помолчав, добавил: — До нас дошли слухи, что ты семейственность, понимаешь, развел…
— Не понимаю, Марат-ака, какую семейственность?
— Да вот рассовал по некоторым торговым точкам своих родственников, а они попадаются с поличным.
— Да нет же, Марат-ака, это недоразумение. Никаких родственников я никуда не рассовывал…
— Что ж, проверим.
В трубке послышались короткие гудки.
Арслан был ошарашен. Несколько мгновений он еще сидел неподвижно, прижимая трубку к уху. Не заметил, как в кабинет вошла Зейтуна. Положив трубку, Арслан вопросительно взглянул на нее, а в ушах все еще звучал холодный голос секретаря горкома.
— Пришел тот самый дядечка… низкого роста, — смущенно доложила Зейтуна, заметив, что ее начальник не в себе. — Говорит, что у него срочное дело…
— Мусават Кари, что ли? Зови, черт его дери!
Зейтуна, не привыкшая видеть своего начальника в таком гневе, быстро вышла из кабинета.
— Ассалам алейкум! — произнес Мусават Кари и осторожно прикрыл обе створки двери. Проворно подскочив к Арслану, пожал ему руку, которую тот протянул, не глядя на него, скорее просто из приличия. — Куда ступила наша нога, пусть не ступит туда беда!
— Ну? Что скажете? — Арслан в упор смотрел на него, с трудом сдерживая гнев.
— Как живете? Здоровы ли мать, сестры?
— Здоровы. Вашими молитвами… Выкладывайте, что привело вас ко мне.
— О, дорогой Арслан, на нашу голову напасть свалилась. В мой склад пришла комиссия… Скверно получается… — затараторил Кари, беспокойно шаря по столу глазами.
— Ну и что же, что комиссия?
— Вот это интересно! Зачем она на складе? Ей нечего там делать.
— Пусть проверяют. Если честно работали, вам нечего бояться.
— Находят… — Кари двинул головой, будто в горле у него что-то застряло. — Ревизоры, они такой народ — ничему не верят. Они придираются ко мне…
— Ступайте и не отрывайте меня от работы! — вспылил Арслан. — Вы у них сестер, что ли, украли, чтобы им к вам придираться?!
— Сейчас не время нервничать и пререкаться. Во гневе ум покидает, — спокойно сказал Мусават Кари, поразительно владевший собой. — Арсланджан, заклинаю вас, позвоните по телефону, чтобы прекратили ревизию, ушли со склада. Или пусть меня сейчас же переводят на другую базу…
— Ступайте вон! — процедил Арслан, сжимая кулаки.
— Это вы мне?
— Вам! И чтобы ноги вашей здесь больше не было!
Мусават Кари попятился к двери.
— Мы еще посмотрим! Только твоей ноги тоже здесь не будет! Выскочка! — взвизгнул он, брызжа слюной, и, видя, что Арслан вскочил, кинулся прочь.
Зейтуна вошла в кабинет.
— Что с вами, Арслан-ака? Успокойтесь! Разве можно так нервничать?
Она налила в стакан воды, дала ему напиться. Арслан поблагодарил ее, сел на место и обхватил руками голову.
— Принести вам чаю? Только что заварила, — сказала Зейтуна.
— Спасибо, не хочется. В приемной есть люди?
— Нет никого.
— Тогда, с вашего разрешения, я сейчас уйду. Голова разболелась.
— Я разрешаю, — улыбнулась Зейтуна. — Может, вам таблетку дать?
— Не надо. Если спросят — я дома. До свидания.
* * *
Придя домой, Арслан открыл сервант, взял начатую бутылку коньяку, наполнил рюмку и выпил ее. Голова была тяжелой, как от угара. После перепалки с Кари будто свинцом налилась.
Арслан лег на диван не раздеваясь. Окажись сейчас Барчин дома, забеспокоилась бы: «Вот выпейте-ка крепкого чая с медом. Может, сбегать в аптеку?..» Но тихо в доме, пусто. На подоконниках, на полках с книгами, на полированном столе слой пыли. В груди у Арслана заныло, горло будто перехватило железным обручем. Но некому пожаловаться на свою боль. И никого нет, кто бы ему посочувствовал… За окном шелестит листва деревьев, а ему кажется — это Барчин ходит по комнате, тихо ступает, чтобы не разбудить его. И он не открывает глаза, чтобы не разрушить мираж… Не заметил, как уснул. А проснувшись, решил, что уже утро. Подошел к окну. Огни ярко освещали город. Взглянул на часы — десять. Э-ге, ночь-то только начинается. Надо же, он совсем выбит из колеи! Была бы Барчин, разве такое случилось бы! Эх, Барчин, Барчин…
Арслан умылся, переоделся в пижаму. Поставил на плиту чая. Сварил пельмени, купленные еще позавчера, поел, почитал книгу. Потом быстро подошел к письменному столу и включил настольную лампу с голубым абажуром. Долго сидел неподвижно, глядя на белый лист бумаги. Потом начал быстро и нервно писать:
Да, милая, невесел соловей,
Он тоскует по тебе, прекрасной,
И, листая лепестки на розе, в ней
Читает газели о любви напрасной.
Промчится жизнь, как ветерок,
Ласки на мгновения даруя,
Нет тебя со мной. Я одинок,
Лишь во сне тебя целую…
Я добровольный пленник твой!
Глаза твои, такие колдовские,
Манят, манят повсюду за собой,
Суля блаженства неземные…
Я по тебе грущу давно,
Меня давно покинула отрада.
Твою любовь, как пролитое вино,
Мне, видно, не вернуть обратно…
Показалось, что на кухне не завинчен кран. Взглянул — и понял, что это в ушах у него шумит. Уснул не скоро. А потом снились кошмарные сны.
Утром, пошатываясь от слабости, Арслан подошел к телефону и вызвал врача. После этого медленно поднялся на четвертый этаж, к Джамшиду, полагая, что он еще не успел уйти на работу. Но жена его Махсудахон оказалась дома одна. Арслан знал, что она едва справляется с домашними делами, поэтому было неудобно просить ее об одолжении. Извинившись, он хотел было уйти, во Махсудахон сказала:
— Арслан-ака, вы неважно выглядите, не заболели ли?
— Да, плохо себя чувствую, — ответил он.
— Надо вызвать врача!
— Я уже вызвал.
— Тогда я позову вашу маму. Как же вы, больной, будете один в доме?
— Спасибо, Махсудахон, как раз об этом я и хотел вас попросить.
— Я сию минутку соберусь и поеду. А мой Бабурджан пусть у вас часок поиграет.
— Конечно, приведите его ко мне.
* * *
Врач сказала, что сильно подскочило давление и надлежит несколько дней полежать в постели. Тетушка Мадина принялась расспрашивать у нее, что ее сыну можно есть, а чего нельзя. И тут же, как только врач ушла, пошла на базар купить все необходимое.
Арслан ежедневно звонил на работу.
— Все в порядке, Арслан-ака, — неизменно отвечала Зейтуна, — не беспокойтесь.
— Никто не звонил, меня не спрашивали? — спросил как-то Арслан.
— Из горкома партии звонили, — тихо ответила Зейтуна.
— Кто?
— Товарищ Саидбеков.
— Когда это было?
— Дня три назад.
— Почему же сразу мне не сообщила? — рассердился Арслан.
— Не хотелось вас беспокоить, Арслан-ака.
— Беспокоить… Если что-нибудь важное, обязательно звони. Ясно?
— Поняла, товарищ Ульмасбаев! — отчеканила Зейтуна.
Арслан тут же набрал номер.
— Алло, Марат Хумаюнович?.. Здравствуйте, Арслан говорит.
— А-а, здравствуй! Как здоровье? Мне сказали, что ты болен.
— Сейчас лучше. Наверное, скоро выйду на работу. Вы мне звонили?
— Звонил, и вот по какому поводу, — Марат помолчал. Слышно было шуршание бумаги. — Послушай-ка, может, вернемся к этому разговору, когда ты уже выйдешь на работу?
— Нет, нет, я почти здоров. Если надо, я могу и завтра выйти.
— Тут на тебя жалобы поступили. Не одна, а несколько. Вот целых четыре письма передо мной…
— От кого? — сдавленно спросил Арслан, чувствуя, как к горлу подступает ком.
— Да вот неизвестно. Письма не подписаны.
— И что в них?
— Всякое пишут. Мы, конечно, не придаем особого значения анонимным письмам. Но когда их четыре…
— Когда собираетесь начать проверку?
— Откладывать, думаю, нет смысла…
— Я понимаю.
— Желаю скорейшего выздоровления.
— До свидания.
Глава тридцать пятая
СЧАСТЬЕ
Слухи, распространявшиеся с быстротой молнии, посеяли в сердцах людей, даже хорошо его знавших, сомнения. Обо всем услышанном, возмущаясь, рассказывала Арслану мать, должно быть не ведая о том, какие муки ему доставляет и как усугубляет этим его болезнь. Худо ему сейчас, ох, как худо! Врач предложила лечь в больницу, но Арслан отказался.
А недавно позвонила Зейтуна.
— Арслан-ака, приходили свидетели, беседовали с членами комиссии.
— Кто такие? — спросил Арслан, приподнявшись в постели. Телефон мать придвинула к его кровати.
— Тот самый… ваш дядя. И тучный мужчина, который с ним приходил однажды… И еще двое…
— Кто вызвал?
— Аббасхан-ака…
Аббасхан Худжаханов с недавнего времени был назначен заместителем Арслана. Они еще не успели сработаться. Арслану было известно, за какие проделки его заместителя понизили в должности, поэтому не доверял ему. Худжаханов это чувствовал и всеми силами старался войти в доверие. Теперь же всеми райисполкомовскими делами единолично правил он. И, кажется, изрядно старался. Старался не только выполнять свои обязанности, но и, пользуясь благоприятной для него ситуацией, насколько возможно скомпрометировать председателя райисполкома Ульмасбаева, делал это, надеясь впоследствии занять его место. Арслан замечал со стороны Худжаханова неискренность, но полагал, что не надо пускать в ход шило там, где можно обойтись иголкой. А враги-то взялись за сабли.
Когда у человека настают тяжелые дни, он вспоминает друзей, успокаивает себя: если пятнадцать дней месяца темные, то пятнадцать-то светлые! Верно говорят — друзья познаются в беде. Многие еще недавно выдававшие себя за близких друзей, не переступали сейчас его порога.
Взять хотя бы родственников. О существовании многих из них до недавнего времени он даже не подозревал. На тоях и всяких торжествах они с гордостью говорили окружающим о том, что являются родичами Ульмасбаева. Молоденькие джигиты, у которых и усы-то едва-едва пробились, а иногда и седобородые старцы не раз являлись в его кабинет с просьбами, предварительно терпеливо и подробно объяснив, какими «близкими родственниками» они доводятся ему.
«Где теперь эти самые родственники? Поверили наветам врагов моих? Или хотят, чтобы я один справился с недугом и недругами — закалился в этой борьбе?.. Говорят же, что горные орлы, взлетев высоко-высоко в небо, бросают оттуда своих орлят вниз, где громоздятся остроскальные горы. Если птенцы беспомощно машут крыльями, трепыхаясь, то орлы, ринувшись камнем вниз, настигают их и ловят. Так они учат своих птенцов летать… Но я ведь уже вышел из детского возраста! Вот только не познал мудрости, как разбираться в людях.
Отец часто говаривал: «Не будь верхом колышка — будут бить по тебе, не будь и его острием — в землю вгонят». Может, прав был отец?..»
Барчин в коротком старом халатике, босиком поливала двор, черпая ладошкой воду из ведра. Забрызганные грязью ступни ног приятно холодила влажная земля. Горячий воздух был густо пропитан ароматом цветов. Над пышно расцветшими розами жужжали пчелы. На яблонях суетились воробьи, будто хотели привлечь ее внимание к уже созревшим румяным плодам, от которых гнулись ветки. Давно пора собирать яблоки и варить на зиму компот. А у Барчин все руки не доходят. Некогда. Неделю назад мать положили в больницу — радикулит обострился. Сейчас, слава богу, ей уже лучше, выходит в больничный двор, прогуливается…
Позади звякнула цепочка, и калитка без стука отворилась.
— Ой! — вскрикнула Барчин смущенно, увидев Эркина с чемоданом в руке.
Эркин поставил чемодан на цементированную дорожку, улыбнулся.
— Здравствуйте, Барчиной!..
— Здравствуйте! Заходите!
Барчин бросилась к колонке. Пустив сильную струю, подставила ноги и, не вытирая их, надела тапочки.
Приглаживая непричесанные волосы, подошла к гостю, подала руку. Эркин заметил, что она смущена, расценил это по-своему. Неожиданно притянул Барчин к себе и крепко поцеловал. Барчин с трудом высвободилась из его объятий. Отступила на несколько шагов и посмотрела в упор на Эркина не то с упреком, не то с презрением.
— Теперь я не обижусь, если и скажете: «Уходите!» — сдавленным от волнения голосом произнес он.
— Вы за этим и ехали сюда? Чтобы оскорбить меня? — еле слышно проговорила Барчин, опустив низко голову.
— Да!.. Я люблю тебя, Барчин. Мои мысли только о тебе… Жизнь меня может радовать только тогда, если ты будешь рядом со мной. Если же отвергнешь мою любовь, навсегда буду обречен на одиночество…
— Оставьте это! Я же замужем.
— Можно ли называть мужем человека, который не оценил тебя?
— Вы неправы, Эркин-ака, скорее я его не оценила.
Эркин сел на курпачу, постланную на краю веранды, открыл чемодан. Барчин скрылась в комнате.
Дильбар прислала матери письмо, в котором сообщала: «Хамидахон-апа, напереживавшись из-за дочери, слегла в больницу. По-моему, она теперь ни за что не согласится, чтобы Барчин к нему вернулась…» В тот же день Эркин сказал матери, что ему надо съездить в Ташкент — дела в Министерстве просвещения. Мать собрала чемодан подарков — и Дильбар, и зятю, и Хамидахон, и Барчин…
Всю ночь Эркин провел в поезде. Ему не спалось. Он лежал на верхней полке и думал о том, каким же он был слюнтяем, что из-под носа у него увели такую девушку… А еще бывший фронтовик! Нет, правы те, кто говорит, что женщины любят мужчин решительных. Позор ему, если он и на сей раз не подберет ключи к сердцу Барчин!
— Барчиной, выйдите сюда.
— Я ставлю вам чай! — донесся голос Барчин из кухни.
Через несколько минут Барчин появилась на веранде. На ней было свободного покроя хонатласное платье, волосы на голове аккуратно уложены. Она расстелила дастархан, поставила поднос с конфетами, варенье.
Эркин наблюдал за каждым ее движением. Барчин почувствовала это, лицо ее залила краска. Приняв это за хороший признак, Эркин взял ее за руку и попросил:
— Барчин, присядьте.
Она усмехнулась, освободила руку и направилась к калитке. Вскоре она вернулась и заварила чай. Села напротив.
— Сели бы сюда, — сказал Эркин, указав на место рядом с собой.
Барчин отрицательно покапала головой, сказала:
— Пейте чай.
— Тогда позвольте мне перебраться поближе.
В это время во двор вошла старушка и, постукивая палкой, направилась к веранде. Заметив тень, пробежавшую по лицу Эркина, Барчин улыбнулась.
— Наша соседка, — сказала она.
Старушка видела очень плохо, поднесла ладонь ко лбу и пристально посмотрела на Эркина. Усаживаясь с ним рядом, произнесла:
— Добро пожаловать, сынок. Барчиной принесла мне радостную весть — свояк, говорит, приехал… Матушка ваша здорова? Все дома пребывают в благополучии? Да дарует вам аллах здоровье, и телесное, и духовное. Рада, сынок, вас видеть…
— И вам приятной долгой жизни!
— Угощайтесь. — Старуха, как бы подавая пример, отщипнула кусочек булки, положила себе в рот и задвигала челюстями. — Надо же, сынок, как раз нету Хамидахон. Вы, наверно, ее хотели бы видеть? В больнице ее грязями лечат…
— Я слышал, что она болеет, сестра написала. Сейчас ей лучше?
— Лучше, — сказала Барчин. — Через день-два выпишется…
— Я хотел бы навестить ее. Барчиной, составьте мне компанию.
— Я утром у нее была. Я дам адрес, и вы легко ее найдете.
Барчин быстро встала, вырвала листок из тетрадки и написала адрес больницы.
— Пожалуйста, Эркин-ака.
Эркин достал из чемодана яркий шелковый платок.
— Это вам, Барчиной, от моей мамы.
— Спасибо. Я тоже непременно ей что-нибудь подарю.
Эркин встал.
— Когда мы увидимся, Барчиной? Из больницы я поеду к сестре. Посмотрю, как они устроились на новом месте.
— О, у них так здорово! — воскликнула Барчин. — Они в новом районе получили квартиру. Огромная лоджия выходит в тенистый сквер…
— Вот у них и увидимся, — сказал Эркин, направляясь к калитке. — До свидания.
Барчин пошла проводить его. Старушка семенила позади них, жалуясь на жару и на то, что сил в ее ногах уже не осталось…
На углу они остановились, до трамвайной остановки Эркин шел один. Высок и статен, в нем все еще чувствовалась военная выправка.
— Эх, пусть аллах ниспошлет молодым здоровья! — вздохнула старуха. — Нынче молодежь слабее стариков пошла. Недаром говорят: старое дерево скрипит, да не ломается. А молодые… — Старуха махнула рукой: что, дескать, и говорить. Пошла по тротуару. Барчин взяла ее под руку. — Арсланджан вон какой здоровый джигит был, а подкосила его болезнь — лежит уж сколько времени.
Барчин вздрогнула, как от удара, остановилась:
— Что вы сказали? Арслан болен?
— А ты разве не знаешь? Все ж добрые люди говорят об этом, жалеют его.
Барчин стремительно побежала к дому. Она слышала, что у Арслана неприятности на работе, но не знала, что он болен. Что с ним?
Быстро переодевшись, пошла к трамвайной остановке.
Через четверть часа Барчин была уже в своем районе. А вон и красивый пятиэтажный дом, в котором она жила совсем еще недавно. Словно на крыльях поднялась на площадку второго этажа. Остановилась, чтобы унять сердцебиение. Потом робко надавила на кнопку. Дверь отворилась, и Барчин увидела пышнотелую соседку Махсудахон. И побледнела. Смотрела на соседку широко раскрытыми от ужаса глазами.
— Что с вами, Барчиной? Заходите! — сказала Махсудахон приветливо.
Барчин отступила, намереваясь уйти. Навсегда. И постараться никогда не вспоминать ни этого дома, ни Арслана.
— Вы?.. Вы тут?.. — с трудом выговорила она, еле шевеля непослушными губами.
— А вы разве не знаете? Ведь Арслан-ака отдал нам эту квартиру, а сам перебрался в нашу.
— Вот как… — произнесла Барчин и покраснела. Ей стало стыдно за себя, за свои мысли. От сердца сразу отлегло, в ногах почувствовала слабость. Взялась за перила. — Я поднимусь к нему.
— Арслана-ака сейчас нет дома, — сказала Махсудахон. — Утром приходила девушка и тоже позвонила к нам…
— Какая девушка? — вновь насторожилась Барчин. — Наверно, Зейтуна. С его работы?
— Нет, она сказала, что с завода. И увела его с собой. Арслана-ака вызвали на завод, где он прежде работал. Посидите у нас, он, наверно, скоро вернется.
— Нет, спасибо. Я думала, он болен. Мне сказали, что он болен.
— Он очень болел, а теперь уже ходит. Но работать ему врачи еще не разрешают.
— Хорошо, что он выздоровел. Спасибо вам, Махсудахон. Только… не говорите, пожалуйста, что я была.
Барчин медленно спустилась по лестнице.
Придя домой, она швырнула на стол сумку и бросилась на кровать. В комнату неслышно вошла соседка. Предположив, что у Барчин болит голова, поставила на тумбочку около нее чай и пиалушку, однако заговорить не решилась.
Барчин спала до самого вечера. Ей приснился сон. Арслан и Зейтуна, резвясь, гонялись друг за дружкой в большом красивом саду. Они не обращали внимания на Барчин, стоявшую неподалеку, даже не глядели в ее сторону.
Барчин, застонав, как от боли, проснулась. У ее изголовья сидела старуха.
— Детка, у тебя, кажется, температура. Бредишь… — сказала она.
В этот день парторг завода Ташсельмаш несколько раз пытался дозвониться к Ульмасбаеву домой. Но из трубки неизменно доносились короткие гудки. Тогда он попросил секретаря поехать к нему и, если тот сможет, незамедлительно привезти его на завод.
Утром к нему зашли ветераны завода Нишан-ака и Матвеев. Очень удивил и огорчил парторга их рассказ о том, как недостойные личности оклеветали Ульмасбаева. И он решил не откладывая поговорить с Арсланом. Знал: Ульмасбаев расскажет все как есть, выкручиваться не станет. Если где сплоховал, возьмет вину на себя, если ошибся в чем, признается… А там коллективу судить, прав он, виноват ли…
Часа полтора спустя Арслан был в партийном комитете завода. Парторг вышел из-за стола, пожал ему руку. Сели в кресла друг против друга за журнальным столиком, закурили…
Часа два беседовали они, не вставая с места. Потом парторг проводил Арслана до литейного цеха. Шум и грохот, доносившиеся оттуда, теперь мешали разговору. Они расстались, крепко пожав друг другу руки.
Родной цех был по-прежнему наполнен гуденьем вагранок, шипеньем наливаемого в формы металла, скрежетом подъемных кранов. Тела обнаженных до пояса людей смутно вырисовывались сквозь синеватую мглу. Вдоль транспортера все так же стояли мускулистые парии, спины которых лоснились от пота, они накладывали песок в медленно проплывающие мимо железные ящики. Какой-то парень, видно, новичок, все никак не мог приноровиться: совковая лопата перекашивалась у него в руках то в одну сторону, то в другую, песок просыпался на пол. Он суетливо подскакивал к куче песка, брал на лопату, поворачивался и спешил к транспортеру. Арслан улыбнулся, глядя на него. Вспомнился ему тот день, когда сам он впервые пришел на завод… Подошел к пареньку сзади, положил руку ему на плечо. Тот обернулся, во взгляде его промелькнуло смятение: дескать, что за человек в костюме, белой сорочке да еще при галстуке объявился в литейном цехе?! Арслан взял у него лопату.
— Гляди, как надо! — сказал он погромче, чтобы тот расслышал. — Поворот на носке правой ноги и шаг левой к песку. Захватываешь песок и снова переносишь левую ногу к транспортеру, а правая на месте, понял? В баскетбол играл когда-нибудь?
Парень закивал, улыбаясь во весь рот.
— Тогда легко научиться. В баскетболе есть прием такой. Как челнок — вправо-влево, вправо-влево…
Парень кивал и продолжал улыбаться, дивясь незнакомцу, который так ловко работает. По лицу Арслана уже ручьями лил пот. Воротник рубахи взмок. Он машинально ослабил узел галстука и так увлекся работой, что не заметил, как к ним подошли люди.
— Арсланджан! Эй, Арсланджан! — услышал он позади себя голос и отдал лопату:
— На, попробуй!..
И тут же попал в объятия Шавката Нургалиева.
— А говорили, что Арслан теперь не лев[89], что силы покинули его, — смеясь, говорил Нургалиев, похлопывая бывшего коллегу по спине. — А он вон какой.
Известие о том, что председатель райисполкома Арслан Ульмасбаев пришел к ним, быстро распространилось по цеху. К Арслану подходили, здоровались за руку, справлялись о здоровье, о делах. Пользуясь случаем, высказывали и свои просьбы.
Арслан в сопровождении Нургалиева обошел цех. Много нового увидел он здесь. Вагранки были снабжены сложными приборами, и теперь расплавленный металл извлекался из них полуавтоматическим способом. Старые тали, которые при малейшей перегрузке кряхтели, будто старики, заменены новыми…
Нургалиев пригласил Арслана во двор покурить. Приятная прохлада охватила разгоряченное тело, и воздух показался таким чистым и живительным, что трудно было надышаться. Так чувствует себя путник, истомленный жаждой и едва добравшийся до ключевой воды.
Арслан отказался от предложенной Нургалиевым «Примы».
— Вы же «Беломор» курили, Шавкат-ака.
— Э-э, изменений много, как видишь. Цех перешел на высококачественные мощные печи, коллектив пополнился новыми кадрами. Ну, а я перешел на «Приму», — смеясь, сказал Нургалиев. — Послушай-ка, женушка моя Марзия и мать в обиде на тебя. Говорят: «Как стал большим человеком, забыл нас…»
— Передайте им, что я не забыл их, — улыбнулся Арслан. — Кланяйтесь. Как-нибудь выберу время и зайду.
— Слышал я о неприятностях, свалившихся на тебя, — сказал Нургалиев, стряхивая в урну пепел. — Недавно узнал о них. И обиделся на тебя. Признаюсь — подумал, что ты зазнался… Почему сразу же не пришел к нам и не рассказал обо всем? Ты же, можно сказать, испечен в печи нашего цеха, а мы только высококачественную продукцию даем. Провинился — спросим с тебя, не виноват — заступимся…
— Спасибо, Шавкат-ака. Я поначалу не придавал всяким мелочам значения. А потом заболел.
— Почему не сказал, что тебя оклеветали, когда мы заходили к тебе?.. Ладно, дело прошлое. Мы тут, несколько коммунистов, ветераны завода, решили — пойдем в горком и поговорим там.
Домой Арслан вернулся перед вечером. Махсудахон, заметив его с балкона, выбежала на лестничную площадку и, как только Арслан поднялся, выпалила:
— Арслан-ака, приходила Барчин. Я пригласила ее посидеть у нас, но она отказалась. Оказывается, она не знала, что мы поменялись квартирами…
Арслан, заметив, с какой радостью соседка сообщает ему эту новость, улыбнулся. Тревожно застучало сердце.
— Зачем приходила?
— Не знаю, ничего не сказала…
Арслан постоял мгновенье в задумчивости и снова стал подниматься по лестнице. Обернувшись, спросил:
— Как там Бабур Мирзо? Такой же резвун?
— Зашли бы проведать.
— Рахмат. Передайте привет ему и Джамшидбеку.
Арслан открыл дверь и оказался в полусумеречной тихой прихожей. Постоял, прислонясь спиной к двери. Пусто в доме. Мать, видно, опять отправилась к Сабохат, у которой разболелся ребенок. Казалось, что из комнаты сейчас выйдет, шурша халатом, Барчин, легкая, как ветерок, повиснет у него на шее и скажет: «А я заждалась…»
Арслан вздохнул и прошел в гостиную. «Зачем же она приходила?»
Арслан принял ванну, достал из шифоньера свежую сорочку. Надел другой костюм и торопливо вышел из дома.
Махсудахон, увидевшая из окна, как энергично шагает Арслан по тротуару, догадалась, что он направился к Барчин.
За окном сгущались сумерки. А Барчин продолжала лежать в кровати, уткнувшись лицом в подушку.
Пронзительно зазвонил телефон. Она вздрогнула, нехотя поднялась, сняла трубку.
— Алло! Алло! Барчин? — раздался веселый голос Дильбар.
— Да… я… — произнесла Барчин тихо, стараясь унять дрожь в голосе.
— Вас не было дома? Я три раза звонила!
— Во дворе была.
— Барчиной! Сейчас же собирайтесь и приходите к нам. Стол накрыт, ждем.
— Спасибо. Я не могу…
— Как «не могу»? Марат-ака вас просит. И Эркин-ака тут. Мы все вас просим!
— Не могу, у меня болит голова.
— Подождите, передаю трубку вашему брату, — сказала Дильбар, и в трубке послышался рокочущий голос Марата:
— Барчин, приходи к нам. Обязательно, слышишь?
— Мне нездоровится, акаджан. В другой раз…
— Могла бы уж прийти! — сказала Дильбар обиженным тоном.
Барчин осторожно положила трубку. Недвижно сидела минутку и только хотела встать, как вновь зазвонил телефон. «Ну и настырные!» — подумала Барчин, с трудом подавляя желание поднять трубку. Телефон умолк и через некоторое время вновь зазвонил. Барчин в сердцах схватила трубку.
— Я же сказала вам, что мне нездоровится!
— А что с тобой, Барчин?.. Здравствуй, — раздался мягкий голос Арслана. Барчин сразу его узнала. Она узнала бы его, даже если бы вся махалля кричала одновременно.
— Здравствуйте, Арслан-ака, — сдавленным от волнения голосом произнесла она.
— Мне сказали, что ты приходила…
Барчин долго молчала, стараясь справиться с собой, прежде чем произнесла:
— Я только сегодня узнала, что вы были больны… Что с вами?
— Гипертонический криз… Барчин, что ты сейчас делаешь?
— Ничего.
— Ты одна?
— Да.
— Я приду к тебе.
Из трубки донеслись короткие гудки. Барчин сидела некоторое время неподвижно, не в силах опустить трубку. Потом вдруг бросилась к калитке, будто Арслан давно уже стоит там и не может дождаться, когда она откроет.
Барчин сбросила с петли цепочку. Сама не знала, сколько простояла. Наконец услышала знакомые шаги. Калитка медленно отворилась, и она увидела Арслана, похудевшего после болезни, с горячими грустными глазами.
— Проходите, — сказала она, отступая с дорожки в сторонку, хотя ей хотелось броситься ему навстречу. Повернулась и направилась к дому.
Они поднялись на веранду. Сели за стол и несколько мгновений изучающе смотрели друг другу в глаза.
— Кажется, Хамида-апа нездорова?
— Она в больнице. Но ей уже лучше.
— Не страшно одной?
— Со мной ночует соседка, добрая старушка. А иногда уезжаю к Марату-ака.
Барчин держала розу и сама не замечала, что выщипывает лепестки. Арслан бережно коснулся ее руки.
— Барчин, милая, у тебя же есть свой дом… И муж, который очень, очень любит тебя.
Барчин молчала. На ресницах у нее заблестели слезы.
— Я пришел за тобой, Барчин. Хватит испытывать друг друга. Ты должна понимать…
Барчин мокрым лицом приникла к груди его и затряслась от рыданий.
— Я сама… сама во всем виновата… — с трудом выговаривала она. — Простите меня, Арслан-ака… Я такая глупая…
— Успокойся. Ну, успокойся, милая! — Он целовал ее волосы, мокрые щеки.
…Город был залит огнями. Проезжая часть улицы была вымыта поливомоечными машинами, и от нее веяло прохладой. В клумбах благоухали цветы. Откуда-то издалека, наверно из парка, доносилась музыка. Они издалека увидели свой пятиэтажный дом. Все окна в нем светились. Кроме их окна. Сейчас в их окне тоже загорится свет. Арслан и Барчин посмотрели друг на друга и улыбнулись. Видно, подумали об одном и том же.
Махсудахон стояла на балконе, любуясь вечерними огнями. Увидев Арслана и Барчин, идущих вместе, она от радости чуть не крикнула мужу: «Я те говорила тебе, что помирятся! Гляди!..» Но вместо этого потихоньку отступила назад, чтобы те ее не заметили.
Барчин, однако, ее увидела. Искоса взглянув на мужа, произнесла:
— Махсудахон очень красивая женщина, правда?
Ей показалось, что муж чуточку смутился, и, спеша прийти ему на помощь, добавила:
— Красивая… И добрая…
Они, смеясь, точно на крыльях взлетели по лестничным пролетам и остановились у собственной двери, с трудом переводя дыхание. Арслан прислушался, не идет ли кто по лестнице. Было тихо. Он крепко обнял Барчин и поцеловал, а потом уж открыл дверь.
Глава тридцать шестая
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ…
— Мы, представители народа, разоблачаем нечестных людей! Там, наверху, должны прислушиваться к гласу, доносящемуся снизу! Надо гнать двуличных из всех правительственных учреждений! — разглагольствовал Мусават Кари в чайхане, попивая чай. И те, кто его не знал или знал недостаточно хорошо, кивали ему, ибо слова истины произносил человек. — Если Арслан Ульмасбаев не будет снят с работы и его не накажут, то мы и до Москвы дойдем! Там уж правду найдем! Подадим жалобу на Саидбекова, который всячески прикрывает грехи своего родственничка. Мы народ простой, мы не можем терпеть карьеристов и взяточников.
По всему было видно, что Мусават Кари недоволен работой комиссии в райисполкоме.
— Есть на земле еще порядочные люди, которые пойдут в среду со мной в горком! — продолжал Мусават Кари, выпивая одну пиалу за другой. — Мы там выведем на чистую воду всех! Пусть знают, что солнышко ладонью не прикроешь. Правда — она все равно верх возьмет…
Встревоженная услышанным, тетушка Мадина уже в сумерках прибежала к Нишану-ака.
— Ах, чтоб пусто было этому Кари! — закричала она. — Я-то к нему как к брату относилась… Нишан-ака, родной, заступитесь за моего сына. Вы же ему вместо отца…
— В чем дело? Говори спокойно. И садись, — сказал Нишан-ака, подавая женщине пиалу с чаем.
Они сидели на сури в виноградной беседке, где ярко горела двухсотсвечовая лампочка, а вокруг нее вились ночные бабочки. Хозяйка поднялась, постелила еще одну курпачу, чтобы мягко было сидеть. Тетушка Мадина пристроилась на краешке сури и подробно изложила, что говорил сегодня в чайхане Мусават Кари.
— Зря боишься, — успокоил Нишан-ака. — Комиссия в работе Арсланджана никаких серьезных просчетов не нашла. Есть, правда, мелочи… А у кого их не бывает? Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Да нет, уважаемый, Кари сказал, что нашел каких-то свидетелей. Ведь есть еще в наше время люди, которые за копейку совесть продадут…
Нишан-ака посидел молча, как бы размышляя. Потом произнес, ни к кому не обращаясь:
— Что ж, посмотрим, ты, Кари, со своими приспешниками народ или мы народ!
Рабочие первой смены литейного цеха закончили работу. Шавкат Нургалиев их дождался у выхода. Оглядев собравшихся, он с сомнением проговорил:
— Братцы, удобно ли, если все скопом явимся в горком? Может, человек пять-шесть откомандируем?
И тут же все разом загалдели, словно стая встревоженных галок. Нельзя понять, кто что говорит. Тогда один из литейщиков поднялся на опрокинутую железную бочку и сказал громовым голосом:
— Мы должны доказать всяким паразитам, которые кусают исподтишка, что нас не пять-шесть, а много! Мы не позволим никому марать нашу рабочую честь!
— Правильно!
— Пошли!
Толпа громко спорящих между собой джигитов вышла за ворота завода. Подкатил трамвай. Рабочие, подсаживая и торопя друг друга, заполнили оба вагона.
В раскинувшемся перед зданием горкома партии скверике они увидели Нишана-ака и старика Матвеева. Здесь же сидела на скамейках люди из махалли дегрезов. Вновь прибывшие обменялись со всеми рукопожатиями. Нишан-ака сказал:
— Молодцы! Вы прибыли вовремя. Кари со своими тремя дружками полчаса назад зашел туда. Думаю, пора и нам. Сначала зайдем мы вчетвером — я, Матвеев, Хайитбай-аксакал и Нургалиев.
…Второй секретарь горкома их встретил в своем кабинете очень приветливо.
По левую сторону от его стола сидели Мусават Кари и его люди. Нишан-ака сел на один из стульев, стоявших по правую сторону.
— Я вас слушаю, — сказал второй секретарь, располагаясь в своем кресле.
Нишан-ака сказал, чем вызван их визит. Секретарь внимательно слушал. Лицо его ничего не выражало. Только когда он поднял голову, в глазах его промелькнул веселый огонек.
— Я уже имел беседу с парторгом вашего завода, с председателем месткома, так что не было необходимости беспокоиться, товарищи, — сказал он с улыбкой. И, кивнув в сторону Мусавата Кари, добавил: — Этим гражданам я тоже разъяснил, что наша комиссия во всем разобралась и указанные анонимщиками факты не подтвердились…
— Мы хотим, — произнес Нишан-ака, окинув презрительным взглядом сидящих напротив, — чтобы эти говорили, что хотят сказать, при нас! Если их десять, нас сотня наберется. Если их двадцать, нас тысяча соберется!
— Мне понятен ваш благородный порыв. Вы не хотите допустить несправедливости. Это достойно одобрения. Мы тоже давно знаем Ульмасбаева…
В это время зашел инструктор горкома партии и сказал, что перед горкомом собралось человек сто, если не больше. Секретарь, удивившись, поднялся с места, подошел к окну.
— Все ваши?
— Большинство с завода. Но есть из махалли Дегрезлик.
— Что же, сразу видно, как спаян ваш коллектив. Один за всех, все за одного, — смеясь, заметил секретарь. — Что ж, пойдемте туда. Столько людей не вместит мой кабинет.
Второй секретарь горкома партии, сопровождаемый Нишаном-ака, Матвеевым, Нургалиевым, Хайитбаем-аксакалом, вышел из кабинета, находившегося на втором этаже, и стал спускаться по широким мраморным ступеням, устланным красной плюшевой дорожкой. Мусават Кари и его дружки приотстали. На первом этаже они зашли в буфет, затем юркнули в боковую дверь и, пробежав вдоль длинной застекленной галереи, выскочили на малолюдную улочку позади горкома.
Ступив на широкую площадку с колоннами, секретарь обернулся, как бы желая удостовериться, следует ли за ним Мусават Кари со «свидетелями». Нишан-ака заметил, посмеиваясь:
— Товарищ секретарь! Не утруждайте себя, вы их не найдете! Они бежали!
— Надо было их вывести к народу! — горячился Нургалиев. — Послушали бы мы, что они скажут, глядя людям в глаза! Эх, упустили!
Второй секретарь горкома оглядел собравшихся и улыбнулся. Здесь были и молодые джигиты, и улыбчивые девушки в ярких платьях, и старцы. При его появлении все притихли, ближе подступили к ступенчатой площадке. На лицах беспокойство. Взгляды устремлены на него.
— Здравствуйте, товарищи! — сказал секретарь.
Толпа зашевелилась, будто ветер пробежал над нивой. Множество нестройных голосов ответило:
— Здравствуйте!
— Ваш приход я понимаю как проявление уважения к нашему товарищу! И как вашу озабоченность его судьбой…
— Ты прав, сынок. Потому мы и собрались!..
— Арсланджан много добрых дел сделал для района, нельзя его за это наказывать!
Секретарь поднял руку, дождался тишины.
— Комиссия горкома партии установила, что обвинения, выдвинутые против товарища Ульмасбаева, не имеют под собою почвы.
— Мы знаем, кто это сделал! — опять зашумели люди. — Мы раз и навсегда отучим заниматься такими делами!
— Товарищи! Успокойтесь! Нам тоже уже известны имена этих людей. Сегодня мы беседовали с ними. По-моему, они поняли свою ошибку. А товарищ Ульмасбаев со вчерашнего дня приступил к работе.
— Спасибо тебе, сынок, — сказали старики и провели ладонями по седым бородам.
— Не меня надо благодарить, а вас, товарищи! При такой сплоченности никогда никакой враг нас не сможет сломить!
— Баракалла! Да будет у тебя изобилие, сынок!
Люди, удовлетворенные таким исходом дела, радостно переговариваясь, стали расходиться. Секретарь и другие сотрудники горкома стояли, пока площадь не опустела.
Аббасхан Худжаханов, прознавший, что Арслан Ульмасбаев выходит на работу, раздобыл две путевки и отправился с Латофатхон в Ялту. Он знал, что в эти дни люди во всех махаллях направо и налево склоняют имя Мусавата Кари, но немало был обеспокоен и тем, что те, кто проницателен, догадываются, кто именно водил рукой этого человека. Хотя он и предусмотрел все, чтобы не за что было к нему прицепиться, однако побаивался встречи с Ульмасбаевым. Желая хотя бы немного отдалить ее, скакнул кузнечиком и очутился в Ялте.
Многие понимали, что заставило Худжаханова так срочно уехать на курорт. Они с усмешкой пожимали плечами и говорили: «Что поделаешь, худжахановщина…» Худжаханов пользовался испытанным методом: главное — пока не показываться на глаза, а там, глядишь, возмущение людей поуляжется. Этот прием уже многие годы с выгодой для себя использовал Аббасхан Худжаханов…
О Мусавате Кари всякое говорили, но видеть его никто не видел. Не показывался он ни на улице, ни в чайхане. Много высказывалось предположений. Даже были разговоры, что он занялся своими старыми делишками.
Лишь спустя несколько дней узнали, что Кари слег. Тяжкий недуг приковал его к постели. Лишился он дара речи. Лежал, вперив взгляд в потолок. Когда его посещали родственники, он пытался что-то сказать, но лишь нечленораздельное мычание слетало с его недвижных губ. Понять его было невозможно. Бедный Атамулла с ног сбился, бегая по врачам.
При встрече с махаллинцами он испытывал неловкость за отца, с опущенной головой проходил мимо. И все-таки мучила его совесть за то, что накричал он на родителя в тот день, когда тот вернулся из горкома партии. Наговорил ему дерзостей… Утром все встали, собираясь на работу, а отец остался лежать. Лежит до сих пор. Кто знает, не накричи на него тогда Атамулла, может, ничего бы и не случилось.
Спокойнее отнеслась к болезни мужа Мазлума-хола. «Все в его возрасте становятся такими, — философски рассудила она. — Рано или поздно все придем к этому…»
Пистяхон в болезни отца винила всех махаллинцев. Встречаясь с женщинами, не знала, как побольнее кольнуть, кого облить помоями. Всем она говорила, что ее отец интеллигент старой закваски, каких в наше время можно по пальцам сосчитать.
Люди знали, в каком положении находится отец ее, и проникались к ней сочувствием. Если даже не верили ее словам, все же согласно кивали головами. Не нашлось человека, который сказал бы: «Эй, девушка, твой отец был отпетым аферистом!»
Через два дня, видя, что больной тает на глазах, по настоянию матери, Атамулла все же согласился испросить у отца прощения и благословения. Он опустился на колени и склонился над больным.
— Ада, если что было между нами… — произнес он, с трудом сдерживая слезы и чувствуя, как спазмы сдавили горло. — Простите, ададжан…
По телу Мусавата Кари пробежала дрожь, но вытаращенные глаза его застыли, ничего не выражая. Он лежал, точно ничего не слыша. Тогда дядя Атамуллы написал на клочке бумаги по-арабски:
«Кариджан, дайте свое благословение. Мир этот бренен, дети ваши просят их простить».
Кари мрачно взглянул на своего брата. У того мороз по коже пробежал от этого взгляда, который, казалось, говорил: «Ах, сволочи, вы думаете, я умру! Я назло вам буду жить! Я всех вас переживу!..»
Дядя Атамуллы снова написал по-арабски:
«Кари, если вы кому-нибудь должны были, скажите. Если куда положили деньги, тоже скажите. Ведь у вас есть дети…»
Взгляд Мусавата Кари будто приклеился к записке, написанной ясно и разборчиво. На провалившихся висках у него проступил пот. Он медленно перевел взгляд на брата и еле заметно покачал головой.
— Что ж, нет так нет, — промолвил дядя Атамуллы и поднялся с места. Стоявшему рядом племяннику сказал: — Укаджан, ваши предположения не оправдались. У вашего отца нет отложенных денег. Он бы их, конечно, оставил вам…
На шестой день к полуночи Мусават Кари умер. Утром состоялся вынос его тела. По дороге похоронная процессия завернула в мечеть. Прочитали молитву и после этого отнесли его на кладбище. Перед тем как опустить его в могилу, сторож Акиф обратился к тем, кто нес на плечах гроб, с вопросом:
— Каким человеком был Мусават Кари?
Люди, согласно обычаю, ответили:
— Хорошим человеком был…
— Да будет ему пухом земля…
Эй, великодушный народ, перед твоим благородством я преклоняю колени и припадаю к ногам твоим челом! Даже этого человека вы не осудили в последний миг конечного пути!
…В начале весны Атамулла и его дядя, решив произвести небольшой ремонт дома, штукатурили комнату. Атамулла в уголке ниши, заставленной посудой, случайно заметил щербинку, где отвалился кусочек штукатурки. Поскоблил его мастерком, чтобы получше замазать. Под глиной обнаружилась фанера, едва державшаяся в стене. Удивившись, зачем она тут, он отодрал ее и увидел отверстие, из которого торчало голенище сапога, набитого тряпьем. Придя в еще большее замешательство, он вытащил сапог, показавшийся ему довольно тяжелым, и вытряхнул содержимое на пол. К ногам с глухим стуком упали нити жемчуга, кулоны и медальоны с драгоценными камнями, со звоном покатились по полу кольца, браслеты… Атамулла так и застыл с сапогом в руке.
Дядя опрокинул ведро с глиной на палас. Побледнев, стоял минуту молча. Потом гневно сказал:
— Эх, человек, столько у тебя было добра, а ты скрывал! Даже на похороны свои не оставил ни копейки…
Они не слышали, когда в комнату вошла Мазлума-хола. Заметили ее, лишь услышав причитания, прерываемые всхлипываниями:
— Сколько лет я прожила в этом доме, все время руки мои были кочергой, а волосы веником!.. Ни разу не сказал мне: «Вот, купил тебе платье…»
Глава тридцать седьмая
А МИР ВСЕ-ТАКИ СОВЕРШЕНЕН
Пришла весна. Природа вновь помолодела. Оголившиеся к зиме деревья, похожие на черных согбенных старух, вновь надели легкий ярко-зеленый наряд. А у ног их волшебница весна расстелила изумрудный ковер. Скворцы и воробьи порхают по веткам, радостно поют, щебечут, и мнится, будто это не простые пернатые, а птицы счастья, опустившиеся на плечи невест… Говорят, деревья стареют. Разве могут они стареть, когда весна каждый год им возвращает молодость?
Приятно из дому выйти поутру, когда прохладный ветерок еще не умчался невесть куда, прячась от раскаленного солнца, и идти на работу пешком. Зелень влажна от выпавшей ночью росы. И цветы на клумбах в эту пору пахнут особенно сильно. Вымытый асфальт на проезжей части улиц постепенно просыхает, и над ним курится парок…
Зейтуна уже сидела в приемной и, глядясь в маленькое зеркальце, поправляла прическу. При появлении председателя она поспешно убрала все со стола и встала. Арслан пожал ей руку, справился о настроении и проследовал в кабинет. Зейтуна занесла газеты, письма и удалилась.
Перебирая бумаги, Арслан увидел конверт со штампом ЦК КП Узбекистана. Быстро вскрыл его. Письмо было от заведующего отделом строительства. Он уведомлял, что бюро ЦК приняло решение возложить на Арслана Ульмасбаева полномочия парторга на строительстве крупного цинкового завода в Алмалыке и просит его согласия. Арслан несколько раз перечитал письмо. Это было для него неожиданностью. Трудно сразу принять решение. Теперь он должен думать не только о себе, но и о Барчин, о Раано — о дочурке, которой недавно исполнилось восемь месяцев. Они взяли девочку из дома ребенка, но кто об этом не знает, не скажет, что это не их ребенок. У нее крупные черные, как маслины, глаза, слегка вздернутый носик — точь-в-точь как у Барчин. А брови, сросшиеся на переносице, что считается признаком счастья, как у отца. Арслан теперь, где бы ни был, всегда спешил домой, к своей дочурке. И как только открывается дверь, в комнате уже слышится звонкий голосок Раано:
— Па-а… Па-а…
— Да, доченька, папа пришел, — ласково говорит ей Барчин.
Неведомо, сколько Арслан просидел, задумавшись. К действительности его возвратила Зейтуна. Она открыла дверь и сказала:
— Арслан-ака, люди ждут приема. Можно входить?
— Пожалуйста. Просите…
Первой зашла старушка. Села, положив натруженные руки на колени. Арслан Ульмасбаев выслушал ее, внимательно прочитал заявление. Наложив визу, вызвал заведующего отделом.
— Товарищ Абдурахимов, эта женщина мать погибшего на войне Наркузи Файзуллаева. У нее протекает крыша. Надо произвести ремонт. Сколько времени вам потребуется на это?
Абдурахимов помолчал, размышляя, и ответил:
— Через месяц сможем приступить.
— А на ремонт сколько дней? — спросил Арслан, и заведующий заметил в его взгляде насмешку.
— Столько же и на ремонт, наверно. Месяц…
— Арслан, сынок, я уже дважды была у этого джигита, — вмешалась в разговор старушка. — Он оба раза посылал меня к Худжаханову. В первый-то раз я так и не дождалась, когда Худжаханов меня примет. А во второй раз он мне сказал: «Не приходите, мать, сюда с такими пустяками. У нас авторитетное государственное учреждение, мы занимаемся делами поважнее». Я и не ходила с осени. Всю зиму просидела не под крышей, а, считай, под решетом. А недавно мне посоветовали: «Зайди-ка ты к самому председателю». Вот и пришла я к тебе, сынок.
Арслан слушал ее не перебивая. И как только она умолкла, приказал Абдурахимову:
— Завтра же пошлите комиссию осмотреть дом. А через десять дней чтоб ремонт был закончен. — Он полистал настольный календарь и сделал запись на одном из листков. — О завершении ремонта известите меня.
— Хорошо, — согласился Абдурахимов, прикладывая руку к груди. — Разрешите идти?
— Пожалуйста. — И обратился к старушке: — Все, хола, завтра к вам придут мастера.
— Да будет у вас изобилие! — заприговаривала старушка, поднявшись с места и направляясь к двери.
Прием длился до полудня. Зейтуна по лицам выходивших из кабинета людей легко определяла, удовлетворена их просьба или нет. Когда приемная опустела, она занесла Арслану чайник крепкого зеленого чая и попросила разрешения уйти на обед.
Оставшись один, Арслан вновь задумался о сделанном ему предложении. «Надо вечером заехать к Нишану-ака, посоветоваться», — подумал он. И после некоторого колебания набрал номер Марата.
— Саидбеков слушает, — раздался знакомый голос.
— Марат-ака, здравствуйте. Я хотел посоветоваться…
— А-а, догадываюсь о чем. О новом назначении?
— Да.
— Что тебя беспокоит? Не хочется на периферию?
— Дело не в этом… Как Барчин к этому отнесется?
— Во-первых, препятствовать тебе она не станет. Свою сестру я хорошо знаю… А во-вторых, к лицу ли нам, коммунистам, колебаться, если партия считает, что так нужно?
— Вы вопрос ставите ребром, Марат-ака…
— Иначе нам нельзя, укаджан. Выбор пал на тебя не случайно. Решили, что ты, сам рабочий, хорошо знаешь душу рабочего человека. В Алмалыке закладывается серьезное строительство. Нужен хороший организатор.
— Я понял, Марат-ака.
— Вот и хорошо, укаджан. Приходите вечером с Барчин. Обсудим.
Арслан выпил чаю. Было обеденное время, но есть не хотелось. В такую жару только бы пить и пить. Зейтуна скоро вернется, и можно будет ее попросить заварить еще чайник чаю. А вечером Барчин приготовит что-нибудь вкусное. Когда жара спадет, можно и поесть!
Арслан взглянул на часы. Барчин, должно быть, уже вернулась из школы. Она приходит рано, чтобы освободить мать от забот. В первой половине дня, когда Арслан и Барчин на работе, с Раано сидят то Хамида-апа, то тетушка Мадина.
Арслан позвонил домой. Попросил Барчин приготовить к вечеру чучвару. Она обещала исполнить его просьбу. И поднесла трубку к дочурке, предупредив: «Арслан-ака, Раано хочет вам что-то сказать!..» Арслан улыбнулся, услышав нежный певучий голосок: «Ум-ба-а-а… Па-а… па-а-а…»
Барчин засмеялась, и опять зазвучал ее голос:
— Дочка просит вас не задерживаться. Мы скучаем…
Пришлось рассказать о письме, присланном из ЦК. Барчин молчала. Арслан встревожился и все больше и больше нервничал. Он более всего опасался, что очень огорчит этим известием Барчин.
— Когда придете, поговорим, — произнесла Барчин изменившимся, как показалось Арслану, голосом.
— Мне утром надо сообщить в ЦК о принятом решении, — сказал он. — Для раздумий времени в обрез — до вечера.
— Хорошо. Мы с дочкой тут подумаем, — сказала Барчин и засмеялась.
…Перед вечером приплыли откуда-то тучи, обложили небо. Быстро сгустились сумерки. Пошел дождь.
Барчин приготовила чучвару и ждала прихода Арслана, чтобы опустить в кастрюлю. Раано сидела в деревянной детской кроватке с перильцами и сосредоточенно играла с игрушками, то и дело поднося каждую ко рту. Барчин подошла к раскрытому окну. На нее пахнуло прохладным, влажным ветром. Шумел дождь. Благодатный дождь! Он смывал пыль с деревьев, с цветов, с тротуара и проезжей части дороги, как зеркало отражающей желтые и красные огоньки проносящихся по ней машин. Казалось, он умывает лицо земли, чтобы не осталось на нем нигде грязного пятнышка. И Барчин вдруг захотелось выскочить во двор босой, в ситцевом платьице и петь: «Дождик, дождик, посильней!..» Она протянула в окно руки, оголенные до локтей, и держала их под упругими струями.
Дождь прекратился так же неожиданно, как начался. И было слышно, как падают, позванивая, с веток деревьев и стрех тяжелые капли.
В наружной двери заворочался ключ. Барчин бросилась в прихожую. Раано, оставив игрушки, ухватилась за перильца кроватки, подпрыгивая, громко крикнула:
— Па-па-а!..
Арслан был мокрый с головы до ног, с него стекала вода, расплываясь по полу темным пятном. Барчин бросилась ему на шею, приникла к груди. И тут же метнулась к шифоньеру, чтобы достать сухую одежду.
Когда Арслан, приняв душ и переодевшись, вышел из ванной, жена стояла посредине комнаты с дочкой на руках. Девочка, увидев отца, протянула к нему ручонки. Лицо Барчин, прижавшейся щекой к головке ребенка, было одухотворенно и прекрасно.
— Что вы так смотрите на меня? — спросила Барчин.
Она подошла к зеркалу, стала обеспокоенно рассматривать себя. Арслан обнял ее за плечи, любуясь отражением жены и дочери.
— Ты помнишь «Сикстинскую мадонну» Рафаэля? Не с тебя ли он писал свою картину?
Барчин улыбнулась и кокетливо повела бровями.
— А вы еще не разучились делать комплименты, — сказала она, передавая мужу ребенка.
И вдруг взгляд ее сделался строгим. Она увидела у него седой волос и вырвала его.
— Еще один…
— Стареем, Барчиной, — невесело улыбнулся Арслан. — И если ты намерена вырывать все мои седые волосы, то вскоре оставишь меня лысым.
Барчин рассмеялась.
— Ну, ты подумала? — спросил Арслан.
Лицо Барчин стало серьезным, она опустила голову.
— Подумала.
— Что решила?
Жена молчала. И, чтобы вывести ее из неловкого положения, Арслан сказал:
— Алмалык недалеко, правда, но там не будет таких условий, как здесь. Наверно, и жильем не сразу обеспечат. Ты можешь остаться с ребенком в Ташкенте. Я уж как-нибудь… Подумай.
— Подумала.
— Ну, так говори.
— Что еще скажете?
— Я там не буду сидеть в чистеньком кресле. День-деньской буду пропадать на стройке, в кирзовых сапогах месить грязь по дорогам. Ты подумай.
— Подумала.
— Говори.
— Скажите еще что-нибудь…
— Трудности, конечно, временные. На всех стройках в начале бывают условия тяжелые. Мужчинам это не так заметно. Но для женщин, к тому же еще с ребенком… Будем жить в бараке. А вокруг степь, на несколько километров ни жилья. Представь себе все это. Словом, подумай.
— Подумала.
— Ну?
— Моя мама всюду следовала за моим отцом-непоседой. Я же ее дочь! Не хочу разлучаться с вами ни на один день, ни на час, ни на минуту! Куда вы, туда и мы с дочкой. Верно, доченька?
Девочка загугукала, пуская пузыри, и обняла отца за шею ручонками.
Арслан подхватил на руки Барчин и закружил по комнате жену и дочь.

Глава двадцать пятая ПОКРОВИТЕЛЬ ДЕГРЕЗОВ
Случалось, Арслан не уходил домой, оставался в цехе после смены. Работал он в парусиновых брюках, вправленных в кирзовые сапоги, и прожженной во многих местах майке. От расплавленного чугуна, струйкой стекающего в формы, несло жаром, искры, шипя, летели во все стороны. Арслан привык не обращать на это внимания. Когда он едва держался на ногах от усталости, старался представить себе, что не металл обжигает тело — это он лежит на пляже, подставив лицо и грудь полуденному солнцу. И, как ни странно, усталость проходила.
Верно говорят: дети наследуют качества отцов. Руки у Арслана сильные, пальцы длинные, как у отца. Музыкант сказал бы, что у него руки пианиста. Но с такими руками и у вагранки работать неплохо. Когда он поднимает тяжесть, на плечах и спине напрягаются мускулы. Он сильно похудел за последнее время, на боках можно пересчитать ребра, но силы, казалось, в нем не убавилось.
То в одном, то в другом конце цеха слышал Арслан Шавката Нургалиева, который отчитывал кого-то за нерадивость. Но с Арсланом он был всегда добр и приветлив. Видел, что парень старается.
А как не стараться! Ведь не елочные игрушки делают, а снаряды. Арслану порой виделся бой. Наползают неуклюжие вражеские танки. Все ближе и ближе они. Артиллеристы бьют их из пушек. Лица у них закопченные, как у дегрезов, — одни глаза сверкают. Марат-ака командует: «Огонь!.. Огонь!..» Артиллеристы поторапливают Арслана: «Подавай снаряды! Ну, живее!..» И Арслан торопится, подает снаряд за снарядом…
Вспомнилась поговорка: «О лошади судят по зубам, о джигите — по рукам». Ее часто повторял отец. А еще он любил говорить: «Покровителем дегрезов прежде был Давуд, теперь — завод». Вообще старики мудрые люди. Если сказали что-то, с ними не поспоришь…
Перед глазами возник рассерженный Нишан-ака, который часто говорил: «Навьюченный осел достоин уважения, но проклятье породистым скакунам, лодырничающим в такое время!» В последнее время он часто заводил разговор о «породистом скакуне», подразумевая своего махаллинца Аббасхана Худжаханова, разъезжающего в черном сверкающем автомобиле и всех поучающего. Высокие тесовые ворота его двора всегда были на затворе. Открывались, лишь когда въезжал и выезжал его собственный автомобиль. Этот человек только между прочим, как говорится, «лишь кончиком языка», мог сказать приятелям: «Ну, просим вас к себе, приходите…» Никто не помнит случая, чтобы он когда-нибудь пригласил к себе друзей. Сам, правда, принимал приглашения охотно. Почему люди такие разные? Живут в одной махалле, дышат одним воздухом, пьют одну воду, а все разные. Одни пекутся только о себе, о своем благополучии, другие думают о народе.
Арслан вспомнил многих известных людей, вышедших из махалли дегрезов, — поэтов, ученых, видных руководящих работников… Да взять хотя бы Хумаюна-ака. Он оставил свой обжитой дом, по зову Родины уехал в знойный Шахрисябз. Нет ничего более святого для этого человека, чем служение делу партии и народу… Точно наяву увидел Арслан перед собой Хумаюна Саидбекова, его задумчивые глаза, обаятельную улыбку на усталом лице. Он словно говорил: «Так держать, дорогой Арслан, никто, никакой враг нас не одолеет, если мы все силы приложим».
Ранним утром Арслан спешил на завод. На остановке трамвая увидел Нишана-ака. Поздоровались, перебросились двумя-тремя словами. Нишан-ака был хмур. Подошел трамвай. Арслан шагнул было к задним дверям, но Нишан-ака остановил его:
— Подождем следующего. Этот переполнен.
Арслан почувствовал, что дело совсем не в том, что вагон переполнен, — приходилось им ездить и не в такой тесноте. Видно, хочет что-то сказать ему Нишан-ака! Он заметно нервничал: кончики его усов то и дело вздрагивали, а он усердно поглаживал их, чтобы скрыть волнение. Похоже, что Нишан-ака специально стоял тут, поджидая Арслана. Да, скорее всего, так и есть.
— В тот день ты обиделся на меня, не так ли?
— За что? — спросил Арслан, сделав вид, что ничего не помнит.
— Я вмешался в твое «личное дело»…
Подошел следующий трамвай.
— Мы можем опоздать, — сказал Арслан, взглянув на ручные часы.
Они поднялись в вагон, остановились на задней площадке. Арслан молча ждал. Волнение Нишана-ака передалось и ему. Старик вынул из кармана пузырек с насваем, бросил под язык щепотку.
— Обиделся, значит?
— Что тут обижаться?
— Правильно, ничего обидного я тебе тогда не сказал. А сегодня мне во как хочется вас обидеть, уважаемый укаджан! — повысил голос Нишан-ака, неожиданно переходя на «вы», что он всегда делал, если хотел подчеркнуть свое нерасположение.
— За что же, ака?
— А вы не догадываетесь?
Арслан пожал плечами и отвернулся к окну, смутно догадываясь, за что именно мог разгневаться Нишан-ака.
— На угощениях у всяких там кари-мари бываете? Бываете!
— Разве грех бывать на угощениях?
— Не грех! Но смотря у кого! Если ты ходишь к порядочным людям, никто небе ничего не скажет.
— Люди как люди…
— Смотрите, чтобы эти люди не подвели вас под монастырь! Мусават Кари всюду болтает: «Герман скоро придет сюда, готовьтесь к этому. Создано туркестанское правительство, во главе которого наши люди — Валихан и Мустафахан из махалли Пичокчилик!» Вы знаете об этом, уважаемый укаджан?
— Кто это вам сказал?
— Люди! Люди сказали… Неужели Кари вам не говорил об этом? — Нишан-ака в упор посмотрел на Арслана.
— Что вы этим хотите сказать, Нишан-ака?
— А то, что вы, веселясь на пирах негодников, мечтающих встретить врагов с белым знаменем, работать на нашем заводе не можете. Мы сейчас не плуги делаем, а оружие… И не допустим, чтобы вы одной ногой были у них, другой — у нас!
— Вы много на себя берете, Нишан-ака! — вспылил Арслан, залившись краской от негодования.
— Вот как?! — Нишан-ака, казалось, готов был испепелить Арслана своим суровым взглядом. Он резко повернулся и прошел вперед, оставив Арслана одного.
Арслан, смущенный и растерянный, топтался, не зная, последовать за ним или остаться на месте. Люди, слышавшие их перебранку, но ничего не понявшие, поглядывали на него недоброжелательно. А он испытывал угрызения совести вдвойне — оттого, что обидел человека, которого почитал как отца, и оттого, что ничем не мог обелить себя перед ним… Не рассказывать же о причинах посещения им званых обедов!
…В махаллю пришло «черное письмо». В дом пожилой вдовы Мастуры постучалось горе. Женщина, не веря тому, что случилось, со стенаниями побежала в военкомат. Там, прочитав «черное письмо», ей сказали: «Ваш сын погиб смертью храбрых в боях за Родину».
Бедная Мастура, рыдая, шла по улице и кричала: «Вай, Абдувалиджан мой, ушедший из мира, ничего не увидев! Вай, проклятые пачисты, зачем они убили тебя? Лучше бы меня убили-и-и!..»
Был объявлен траур, народ повалил в узенькую улочку, заполнил двор занемогшей от горя Мастуры…
Еще не смолкли в этом доме стенания, «черное письмо» получила Маликахон. Старший ее сын Рустам погиб, Снова плач и крики — в другом конце махалли.
Прошло три дня — извещение о гибели сына получила тетушка Салима, мать Кудратджана. Она в гневе бросила «черное письмо» в топку самовара. «Ложь! Мой сын жив! Я не верю бумаге! Я ненавижу ее! Мой Кудратджан, даст бог, вернется домой!..»
Пришли извещения о гибели Нигматджана, ушедшего на фронт через три месяца после свадьбы, и Шопулата, острослова и весельчака.
Говорили, что в соседних махаллях положение точно такое же. «Фронт далеко, а бомбы проклятых пачистов падают на нашу махаллю», — сетовали женщины, вздыхая и утирая слезы.
Иногда женщины, освободившись от домашних хлопот, выходили на улицу, посидеть у калиток. Чаще всего они собирались у калитки Мастурахон. Тут обсуждались новости. Говорилось о положении на фронте, о ценах, о людях, недостойных называться людьми…
В один из выходных дней Арслан возвращался с гапа. Это, конечно, был не такой пышный гап, какие закатывались до войны, но все же у Мусавата Кари собралось несколько человек. Поели, выпили, послушали патефон и рассуждения хозяина…
Арслан был в выходном пальто, шапке, он на ходу просматривал только что купленную в киоске газету. Падал пушистый редкий снег. Смеркалось. Арслан заметил неподвижно, как изваяние, сидевшую на скамеечке тетушку Мастурахон, убеленную снегом.
— Хе-о-ой, веселый парень! — крикнула женщина, устремив на него безжизненные глаза. — Наши дети проливают кровь, чтобы раздавить пачиста, а ты на гулянках развлекаешься? До каких пор будешь увиливать от фронта?
Арслан остановился, не зная, что ответить. Нервно мял он в руках газету. Женщина медленно приближалась.
— Глядите-ка, от него еще и водкой разит!
— Да не пил я, Мастура-хола!
— Ах, не пил? — Мастурахон вцепилась обеими руками в ворот Арслана, — Вот я тебя сейчас сама отведу в военкомат! Пусть мне ответят, почему мой сын погиб, а ты тут околачиваешься без дела!..
Арслан тщетно пытался освободиться.
На крик прибежали тетушка Салиматхон и Малика-апа. Поняв, в чем дело, они тут же поддержали Мастурахон.
— Отец твой горой стоял за советскую власть! Мать тоже души в ней не чает! А как до дела дошло, выгородила своего сынка! Что ты тут делаешь, если тебе по-настоящему дорога советская власть? А кончится война — такие, как ты, снова окажутся в седле! — старались перекричать одна другую Салиматхон и Малика-апа.
— Нет на тебя погибели! — хрипела Мастурахон, брызгая в лицо Арслану слюной, и изо всех сил рванула его за ворот.
Кто-то схватил его за волосы, кто-то ударил в лицо. Шапка упала в снег, от пальто оторвались пуговицы.
— Вот тебе, щеголь проклятый! Вот тебе!..
— Знаем мы тебя — два месяца на чердаке прятался под железной крышей!
— Кизил Махсум, прохвост, его всеми документами обеспечил!
— Проклятье тебе, бесчестный!
— Быть тебе закопанным в сырой земле!..
Арслан эти упреки сносил молчаливо. Его лицо было исцарапано. Он не сопротивлялся, только заслонялся руками от ударов.
Когда женщины устали махать руками, осыпая Арслана проклятьями, они направились к своим калиткам и исчезли.
Арслан подобрал шапку, приложил к исцарапанному лицу снег. Под ногами валялась втоптанная в грязь газета. Он медленно побрел домой.
— Вай, боже, что с тобой?! — вскрикнула в испуге тетушка Мадина, отперев сыну калитку.
— Упал.
— Лицо у тебя в крови!
— Упал, потому и в крови. В сандале у нас есть теплая вода?
— Сейчас вынесу.
Арслан умылся. Зашел в свою комнату и плотно затворил дверь. Разделся и лег. Завтра чуть свет надо идти на завод. Однако долго не мог уснуть…
Мадина-хола тихонько зашла в комнату, собрала одежду сына. На айване она долго счищала с пальто грязь, затем сидела при керосиновой лампе и, склонившись, пришивала пуговицы. Выстирав носки, повесила их под сандалом, чтобы поскорее высохли. А в душе ее росла тревога. Чувствовала, что сын что-то скрывает…
Биби Халвайтар днем занесла ключ и платок, оброненные вчера Арсланом, и подробно рассказала Мадине-хола о том, что вчера произошло с ее сыном. Она видела все в щель своей калитки. Вскипевшая Мадина-хола хотела было тут же бежать к этой щуплой и невзрачной Мастуре и поломать свою скалку о ее голову, но в следующее мгновение, немного поостыв, остановилась. Надо сначала обо всем узнать у Арслана.
Вечером, едва Арслан ступил на порог, она сказала:
— А ну-ка, пойдем, поговорю я с этими недалекими женщинами, подобными цепным собакам! Сватья мне все рассказала!
— Не надо, мама.
— Почему это не надо?
— Если им полегчало от этого, пусть…
— Как так? Они могут нападать на каждого, кто пройдет мимо?!
— У них сыновья погибли на фронте. Обида у них на сердце…
— Ты, что ли, убил их сыновей?!
— Они хотят, чтобы такие, как я, были там же и мстили за их сыновей.
— Ты же не сам остался! Тебя военкомат оставил!
— До этого им нет дела. Они презирают всякого, кто здоров, силен, а не померился силой с врагом. Считают, что только трусы сейчас не на фронте…
— Это ты-то трус? Я им покажу, какой ты трус! — Мадина-хола схватила снова свою скалку.
— Мама, успокойтесь. Я на них не в обиде. И вам не стоит браниться с этими женщинами. Лучше дайте мне поесть, я очень голоден.
Последние слова сына заставили Мадину-хола заняться приготовлением ужина. Но она еще долго не могла успокоиться. Ругала на чем свет стоит женщин, которых еще недавно, глупая, принимала у себя и сама бегала к ним выпить пиалушку чаю да поболтать. И, не обращая внимания на уговоры сына, старалась бранить погромче — пусть соседи передадут.
Об этом случае каким-то образом узнал даже Джура-ака Самандаров. Он зашел в цех, отозвал Арслана в сторонку, расспросил обо всем. Они закурили.
— То, что вы снесли все это молча, похвально, — сказал Джура-ака. — А то черт знает какой скандал мог произойти. По-моему, вам труднее всего было уговорить мать, а? — засмеялся он.
Арслан кивнул и смущенно отвел глаза в сторону.
— А рученьки женщин даром что маленькие, а бывают твердые. Однажды меня побила собственная жена. Обнаружила в моем кармане записку… хм, знакомой. — Джура-ака раскатисто захохотал. — Мало показалось ей кулаков, шумовку схватила…
Арслан улыбнулся.
— Вот так, дружище, лучше. Незачем нос вешать. Работа у нас такая, всякое приходится сносить… — Джура-ака посмотрел по сторонам, понизив голос, добавил: — Опять нужна ваша помощь… По нашим данным, человек с фамилией Дадашев уже в Ташкенте. Он, вероятнее всего, войдет в контакт с Баятом. Их интересует наш завод. Постарайтесь узнать, куда ведут нити, с кем еще они связаны. Не исключено, что они имеют своих агентов и в других городах. Мы должны схватить их за руку в последний момент, когда они уже приготовятся вонзить нож нам в спину.
Арслан, глубоко затянувшись, мельком взглянул на Джуру-ака и кивнул.
В один из тех дней, когда люди жили, отмеривая хлеб по грамму, когда по многу часов простаивали в очередях за продуктами, по узкой улочке махалли шла старая женщина-казашка, ведя за руку мальчика лет одиннадцати-двенадцати. У чайханы она остановилась.
— Скажите, где махалля Казанши?
Она говорила по-казахски, но сидящие ее прекрасно понимали.
— Возможно, сестра, и есть где-то такая махалля, — отвечали ей, — но мы про нее не слыхали.
— А про аксакалов Мирюсуфа и Нишанбая тоже не слыхали? Там живет еще ученый человек Мусават Кари, — про него тоже не слышали? Казах по имени Джилкибай привозил на верблюдах саман, пшеницу в Казанши, — о нем тоже не слыхали?
— Да-а, — проговорил задумчиво Абдували-ака, — казаха, привозившего нам саман, действительно звали Джилкибаем.
— Он приезжал из Сарыагача. Умер он…
— Да будет милостив к нему аллах, — произнес Абдували-ака и молитвенно провел ладонями по лицу. — Ты, сестра, присядь-ка тут, отдохни. Объясни толком, зачем ходишь тут, что ищешь. Кари я знаю, Нишанбая тоже знаю. Как не знать! Нишанбай, о котором ты говоришь, и есть наш усатый Нишанбай. Но махалли Казанши тут нет, аллах свидетель.
— Как же нет? Казаны там делают, — сказала старуха, присаживаясь на краешек сури. Положив рядом с собой узелок, усадила мальчика. — Друзей Джилкибая ищу я. Джилкибай перед смертью сказал: «Идите туда, вам не дадут голодать. Там живет почтенный человек Мусават Кари, ему из уважения я всегда отдавал хлеб и мясо за полцены…» Вот и ищем мы махаллю Казанши…
— Понял теперь, — ответил Абдували-ака, хлопнув себя по колену. — Только ты название этой махалли произносишь по-казахски. Верно, у нас в былые времена лили казаны. Но махаллю нашу называют Дегрезлик, а не Казанши. Нишанбай и Кари здесь живут. Пойдемте, я покажу вам двор Кари…
Абдували-ака поднялся, взял узелок женщины. Он испытывал некоторую неловкость оттого, что сам не может сейчас проявить гостеприимство, а ведет оказавшуюся в беде жену знакомого человека в другой дом. Но не хотелось ему, чтобы женщина с ребенком осталась ночевать в пустой, холодной чайхане. Они шли по узкой улочке, сжатой с обеих сторон мокрыми глинобитными дувалами, и Абдували-ака молчал. Вскоре он остановился напротив широкой калитки и постучал. Через минуту во дворе послышалось шарканье шагов. Калитку открыл сам Мусават Кари.
— Э, Абдували-ака, как поживаете? — приветствовал он, стоя в проеме и ковыряясь щепкой в зубах.
— Ассалам алейкум. Как ваше здоровье, Кари-ака?
— Благодарю, благодарю…
— Вот эта женщина пришла пешком из Сарыагача. Вас спрашивает, я и привел…
— Меня? — удивился Мусават Кари. — Эй, дженгаша[81], ты меня спрашивала?
— Джилкибай умер… Успел сказать: «Иди к моим друзьям». Вот сын Джилкибая… Пришла я…
— Никакого Джилкибая-Милкибая я и знать не знаю. — нахмурился Мусават Кари и окинул недовольным взглядом «удружившего» ему махаллинца. — Ты пришла ко мне по ошибке.
Казашка смолкла, враз как-то осунулась, по лицу ее было видно, как она устала.
— Пойдем, дженге, — сказал Абдували-ака и, сдержанно кивнув, отвернулся от Мусавата Кари. Услышал, как позади хлопнула калитка. — Если и Нишан-ака скажет, что не знает твоего мужа, останешься у меня. Поживешь, пока найдешь себе работу. Правда, тесновато мы живем. Но чем сами богаты, тем поделимся.
Калитка Нишана-ака была открыта, но все же они, не входя во двор, постучали. Из дома вышла тетушка Рузван.
— Здравствуйте. Пожалуйста…
Она с интересом разглядывала незнакомую казашку, державшую за руку мальчика.
— Эта женщина прибыла из Сарыагача. Спрашивает Нишанбая. Она почти не знает этих мест… Привел вот. За добро зачтется… — бессвязно говорил Абдували-ака, испытывая смущение.
— Хорошо сделали, что привели. Входите.
Однако Абдували-ака, сославшись на дела, простился и ушел.
Хозяйка ввела женщину в дом, пригласила сесть к сандалу, отогреться. Казашка, разувшись у порога, опустилась на курпачу, и, усадив рядом сынишку, подсунула озябшие ноги под стеганое одеяло, которым был накрыт столик-сандал. Тетушка Рузван заварила чай, села напротив.
— Рада вас видеть. Как поживаете? — осведомилась она, как положено по обычаю.
— Пришла вот, нужда заставила. Спасибо, милая, за доброту вашу. — Женщина поднесла к глазам кончик косынки.
— В дом, куда пришел гость, беда не приходит.
— Муж мой, Джилкибай умер. А тремя месяцами раньше дочку похоронила. Сынок вот только остался. — Она ласково погладила мальчика по давно не стриженной голове. — В Сарыагаче положение трудное. А у нас ни скотины, ни птицы нету… Джилкибай предупредил: «Ступай туда, в Казанши, там есть мои друзья…» Я и пошла, взяв за руку сына. Не выгоните — останусь, а выгоните — дальше пойду…
— Благоразумно вы поступили, — сказала тетушка Рузван, придвигая к мальчику рассыпанный по дастархану изюм и дольки колотого ореха; она налила в пиалушку чай и, поломав на куски лепешку, протянула гостье. — Угощайтесь, дорогая, прошу вас, угощайтесь.
Спустя полчаса пришел хозяин. Он поздоровался с гостями. Тетушка Рузван полила ему на руки теплую воду, он умылся и сел к дастархану. Хозяйка подала каждому по касе горячей похлебки из маша. Нишан-ака, следуя мудрой пословице: «Сперва еда, потом слова», ел молча, ни о чем не спрашивая. Лишь после того, как гости утолили голод, Нишан-ака, как бы извиняясь, проговорил:
— Мяса нынче не достать. Маш, тыква да фасоль только и выручают. Иногда в нашем заводском магазине бывает вермишель. Жена моя даже научилась готовить «вермишелевый плов». Молодец, вкусно у нее получается. Рис иногда бывает на базаре, но очень дорог…
— В Сарыагаче тоже нет мяса. А еще недавно, помнится, какие стада овец, табуны лошадей паслись в степи! Война так прожорлива…
— Ты, значит, жена Джилкибая?.. Пусть будет ему пухом земля, очень хороший был человек. Мы были друзьями. Вот Рузван знает. Когда он приезжал из Сарыагача, всегда останавливался у нас. Он обычно привозил пшеницу, ячмень, овец пригонял. А в конце осени, — знал, что в эту пору нам более всего нужно, — привозил саман. Без самана крышу к зиме не зальешь новым слоем глины. Спасибо ему, выручал… А потом я помогал ему закупить кое-что в магазинах. Как появятся на нашей улице верблюды, на душе радость: Джилкибай приехал. Все помню, как же. Значит, покинул этот мир бедняжка Джилкибай?
— Помер Джилкибай, оставил нас одних…
— Не одни вы. Здесь много друзей Джилкибая. Хайитбай-аксакал тоже его друг.
— А вот один не признал нас.
— Кто это?
— Кажется, Кари его зовут.
— Э, не говори про него, дженге. И такие люди на земле есть, не обижайтесь.
— Понимаю и не обижаюсь. Ведь даже родные братья не все одинаковы.
— Добрых людей у нас гораздо больше, вот увидите. Поживете и увидите.
— Джилкибай очень любил жителей махалли Казанши. Жнет пшеницу — говорит: «В Казанши повезу». Подрастают ягнята — опять: «Погоню в Казанши». Других и знать не хотел.
— А сынок на него похож, — заметил Нишан-ака, кивнув на мальчика, у которого начали слипаться глаза. Затем сказал жене: — Ты бы уложила его, устал, видно, парень в дороге.
— Устал, конечно, — подтвердила мать. — От Сарыагача пешком шли.
Долго они сидели, вспоминая добрые довоенные дни.
Через два дня тетушка Рузван отвела гостью в швейную артель, где работала сама, и устроила ее уборщицей. Казашка, привыкшая к степному простору, к домашнему хозяйству, вскоре свыклась с новым укладом жизни. Махаллинцы обращались к ней с почтением, называя ее дженге. Мальчик же быстро сдружился со сверстниками и стал ходить с ними в узбекскую школу.
Глава двадцать шестая ВОЗВРАЩЕНИЕ
Весь день гроб с телом Хумаюна Саидбекова стоял в актовом зале райкома партии. Проститься шли друзья, коммунисты Шахрисябза, рабочие, колхозники из отдаленных районов. Тихо звучала музыка.
Вечером гроб в сопровождении множества людей, объятых горем, отвезли на станцию и внесли в вагон скорого поезда, отправляющегося в Ташкент. Было холодно. Сыпал мелкий, колючий снег. Люди стояли на перроне не двигаясь. Барчин поднялась в вагон, опустилась на скамью рядом с гробом. По другую сторону сидела мать, низко склонив голову и приложив к глазам платок. В вагоне тоже было холодно, нельзя спять пальто или развязать пуховую шаль. Веки Барчин распухли и покраснели от слез. Поезд плавно тронулся. Барчин подошла к окну, подышав на стекло, протерла его ладошкой. Люди медленно двигались рядом с вагоном. Поодаль она увидела огромного серого пса. Это же Каплан! Он вертелся у людских ног, метался и скоро исчез где-то в толпе. Поезд все больше набирал скорость. Промелькнули последние огни светофоров, и все исчезло, будто погрузились они в пустую непроглядную тьму…
В купе вошли Эркин, Дильбар, второй секретарь райкома партии и председатель райисполкома, которые сопровождали семью Хумаюна Саидбекова.
Под потолком слабо светилась лампочка, рассеивая теплый свет. Барчин сидела, вжавшись в угол и прислонясь затылком к стенке, смотрела в черное окно. Рядом сидели неподвижно, как изваяния, друзья их семьи. Но Барчин казалось, что она вовсе не знает этих людей, не понимает, почему они здесь. Они казались ей просто похожими на кого-то из ее знакомых. Но в следующее мгновенье мысль о том, что эти люди, и она, и мать провожают в последний путь ее отца, пронзила ее, отдаваясь острой болью, И она не удержавшись всхлипнула.
Еще позавчера вечером они беседовали, сидя у стола, при керосиновой лампе. Барчин помогала матери кроить для отца новую рубашку. А он сидел, свободно откинувшись на спинку стула, и с запалом рассказывал, какое грандиозное строительство развернется в Шахрисябзе после войны. С восторгом говорил он и принимался объяснять, в каком месте, по его мнению, удобнее всего построить Дом культуры и где лучше разбить новый сквер, создать парк… Отец мечтал! И его мечты будут осуществлены. Только отец ничего этого уже не увидит!.. Слезы текли по щекам Барчин. Она старалась представить себе отца живым.
Слава о нем как о чутком и заботливом руководителе распространилась далеко за пределы их района. В обкоме нередко Хумаюна Саидбекова ставили в пример другим руководителям. И комсомольцы в нем души не чаяли. Дильбар как-то сказала Барчин: «Ты знаешь, Хумаюн-ака мне как отец. Такой внимательный. И так он относится не только ко мне, а ко всем, кто приходит к нему за советом».
Поезд резко затормозил. Видно, приближался к какой-то станции. Они подолгу простаивали на полустанках, пропуская мимо составы с нефтью, продовольствием, оружием — на фронт. В Ташкент прибыли утром.
Первым поднялся в вагон Арслан. Он снял с головы шапку и встал у гроба, забыв даже поприветствовать прибывших. За ним остановились остальные встречающие. Увидев знакомых, Барчин и Хамида-апа зарыдали. Арслан незаметно смахнул слезу.
Эркин, взглянув на него украдкой, подумал: «Не Марат ли это прибыл на похороны?..» Но понял, что ошибся, когда Хамида-апа обратилась к нему:
— Арсланджан, мы лишились Хумаюна-ака.
Работники Ташкентского горкома партии, родственники, преподаватели института, друзья стояли на перроне. Арслан, Эркин и еще несколько сильных джигитов вынесли гроб из вагона, осторожно поставили в покрытый ковром кузов грузовика. Медленно поехали к дому Саидбековых. Их сопровождали еще одна грузовая машина и несколько легковых.
До вечера в дом Саидбековых приходили родственники, махаллинцы, друзья — прощались с человеком, которого горячо любили.
Дильбар, Эркин и второй секретарь Шахрисябзского райкома партии пробыли в Ташкенте три дня. В день отъезда они снова увидели Арслана. Все эти дни Эркин считал неудобным справляться об этом парне. А когда Арслан и Барчин вместе приехали на вокзал их провожать, он все понял.
Поезд тронулся.
Барчин и Арслан стояли рядом. Смотрели вслед уходящему поезду, пока он не скрылся вдали.
Домой Арслан вернулся поздно. Мать спала в своей половине и не слышала, как он вошел. Арслан, не зажигая света, разделся и лег. Противоречивые мысли рождались в нем, будто два Арслана спорили между собой.
Первый Арслан:
«На вопрос Барчин, почему я писал ей, что ухожу на фронт, а сам остался в Ташкенте, я ответил, что нужен здесь. Ее испытующий взгляд еще некоторое время задержался на мне. Может, она не поверила, думает, что я схитрил?»
Второй Арслан:
«Нет, Барчин не подумала так. Ведь она любит. А любовь даже плохое заставляет видеть в лучшем свете. Барчин тебе верит».
Первый Арслан:
«А благородно ли что-то скрывать от того, кто тебе верит? Может, рассказать ей обо всем, ничего не утаив?»
Второй Арслан:
«Ты дал слово не открываться ни перед кем, если даже это будет тебе стоить мук. Ты можешь подвести и себя, и товарищей».
Первый Арслан:
«Но я верю Барчин так же, как себе!»
Второй Арслан:
«А матери ты разве веришь меньше? Разве она может тебя предать?»
Первый Арслан:
«Мать есть мать. Мать прощает все — если даже сын бесчестный. А Барчин не простит. Если в ее сердце родится сомнение, оно изгонит любовь».
Второй Арслан:
«Но ты сказал ей, что больше нужен здесь. Настоящий друг верит слову».
Первый Арслан:
«Нишан-ака тоже был мне другом — не поверил. Он сейчас ненавидит меня. Даже на похоронах Хумаюна Саидбекова отвернулся, когда я хотел к нему подойти. Что на это скажешь?»
Второй Арслан:
«Но с Барчин тебя связывает не только дружба, а и любовь. А что в мире сильнее любви? Ты должен не дать любви угаснуть».
Долго еще Арслан спорил с самим собой, пока рой мыслей не улетел, отогнанный навалившимся крепким сном.
…Проходили дни, недели. Близилась весна. Уже чаще солнце раздвигало облака и радовало землю своим сиянием. Над кронами деревьев, заждавшихся тепла, носились грачи, выбирая удобные места для гнезд. Днем на обочинах дорог струились ручейки, пробивая себе узкие и извилистые желобки; по ночам их снова сковывал легкий морозец.
Однажды Мадина-хола, встревоженная, встретила Арслана, вернувшегося с работы, у калитки.
— Что ты, сынок, так поздно? А я уж два раза ходила на трамвайную остановку — заждалась тебя.
— Зачем же? — засмеялся Арслан. — Я разве дороги не знаю?
— Ой, сынок, приходила сваха. Она мне такое сказала, что до сих пор я в себя прийти не могу. Вот и жду тебя. А ты, как всегда, задерживаешься.
— Что же она сказала такое? — спросил Арслан, не переставая улыбаться.
Мать понизила голос до шепота:
— Говорит, Нишана-ака кто-то убить собирается.
Арслан вздрогнул, как от удара, и резко обернулся.
— Откуда она это взяла?
— Махсум ей проговорился. А зачем и кто собирается убивать она не ведает. Он велел ей молчать. Она мне по секрету об этом сказала. И то лишь потому, что бабье нетерпенье ее одолело. Прямо не знаю, что и делать…
Арслан молча направился к калитке.
— Куда же ты, сынок?
— Поговорю с зятем.
— Только бы он не догадался, откуда ты прознал. Не то попадет нашей сватьюшке.
Арслан поспешно вышел, хлопнув калиткой.
Едва Кизил Махсум, проявляя радушие, усадил гостя за дастархан, велев жене принести чаю и сладостей, Арслан спросил, глядя на него в упор:
— Кто собирается убить Нишана-ака?
Кизил Махсум испуганно посмотрел на него. Вопрос был неожиданным.
— Мне известно, что против него замыслили недоброе. Но кто? — продолжал Арслан, не давая ему опомниться.
— Ты не горячись, укаджан, — проговорил Кизил Махсум, заерзав на месте. — Кто-то с кем-то сводит счеты — нам-то что до этого?
— Какие еще счеты?
— А ты не знаешь? Ну ладно, ты неглупый парень, сейчас поймешь…
Кизил Махсум умолк, потому что в этот момент в комнату вошла Сабохат с подносом. Она поставила чайник, пиалушки, вазу с конфетами, положила две лепешки и бесшумно удалилась. Арслан отметил про себя, что в глазах сестры угас задорный блеск. И ходит тихо, будто не хозяйка она здесь, а служанка.
— Нишан-ака опять публично обругал Кари-ака. Ну до каких пор это можно сносить, как ты считаешь? Вот тебя, к примеру, кто-то оскорблял бы без конца, стал бы ты это терпеть? Не стал бы. А Кари-ака терпелив, столько времени прощал. — Кизил Махсум подул в пиалу с чаем, шумно отхлебнул. — Пусть они там сводят счеты, как хотят, а наше дело — сторона. Нам лучше не вмешиваться. А кто тебе сказал об этом? — Кизил Махсум плутовато сощурился, устремив на Арслана пронизывающий взгляд.
— Если Нишан-ака публично оскорбил его, пусть подает в суд. Виновного накажут по справедливости…
— Экий ты! — усмехнулся Кизил Махсум. — А я-то думал, ты умный… Дело-то как раз в том, что Нишан-ака сам собирается на Кари-ака в суд подать.
— Как же это? — выразил недоумение Арслан. — Выходит, сам оскорбил, сам же и в суд собирается подать?
— Дело в том, — Кизил Махсум замялся, — что Нишану кто-то сказал, будто Кари-ака наши власти ругал. Мало ли что можно сказать про человека… Своими ушами Нишан этого не слышал!
Несколько минут молча пили чай. Арслан старался унять свое волнение. Он ни в коем случае не должен показать, что разделяет мнение Нишана-ака.
— Очень я уважаю Кари-ака, — проговорил Арслан глухо. — Он же всегда был здравомыслящим человеком. Надо его предостеречь от необдуманного шага. Вы поговорите с ним, он к вашим словам прислушается…
— Э-э! — махнул рукой Кизил Махсум. — Теперь есть другие, к кому он прислушивается.
— Я не знаю таких людей.
— Знаешь… Баят его убедил, что Нишана лучше убрать, пока не поздно. При мне дело было. Сидели вечером, бутылочку распили. Ну и зашел разговор о ссоре Кари-ака с Нишаном… Кари-ака, бедняга, растерялся, а Баят вынул из кармана маленькую склянку, сунул ему в руку. «Две-три капли в чай или в еду — и дело с концом», — говорит. У меня, честно тебе скажу, мурашки по спине побежали. А на днях у Кузибая-ата состоится хадим[82]. Кузибай, близкий друг Нишана, уж точно пригласит его. Слышал я, что и Кари-ака с Баятом туда намерены пойти.
— И вы там будете?
— Нет, я не пойду. И вы, укаджан, не ходите. Чует моя душа недоброе.
Арслан заставил себя рассмеяться.
— Э-э, да вам нужно просто подлечить нервы! Они у вас не в порядке, в таких случаях человека преследуют беспокойные мысли.
Арслан залпом выпил из пиалы остывший чай и поднялся. Сестра проводила его до калитки. На вопрос брата, хорошо ли ей здесь живется, пожала плечами и опустила голову.
На второй день Арслан обо всем рассказал Джуре-ака. Тот похлопал Арслана по плечу и сказал:
— Придумаем что-нибудь…
В день хадима, организованного Кузибаем-ата, на заводе проводилось собрание. Секретарь партийной организации послал Нишану-ака специальное приглашение, предупредив, что он обязательно должен присутствовать на собрании. Нишан-ака расстроился, что своим отсутствием на хадиме огорчит Кузибая-ата, но после смены все же направился в заводской клуб…
Арслан в тот вечер присутствовал на хадиме. Душой застолья по обыкновению был Мусават Кари. Он справился у Арслана о Кизил Махсуме и очень огорчился, узнав, что тот сегодня с утра чувствует себя неважно и не приедет. Спросил, не встречался ли Арслан на работе с Нишаном-ака, который еще месяц назад обещал Кузибаю-ата помочь в устройстве хадима, а сам до сих пор носа не кажет.
— На заводе сегодня важное собрание, всех рабочих с большим стажем пригласили туда, — сказал Арслан.
Через минуту Баят уже знал, что «старый правдолюб» не явится. Устроившись на самом видном месте, вновь начал рассказывать «о виденном и пережитом на войне». Говорил о том же: «о преимуществе и непобедимости» немецкой армии, о том, что они уже «полмира захватили, и Москва давно уплыла из наших рук, а правительство перебралось в Куйбышев, газеты же и радио предпочитают об этом умалчивать»… Собравшиеся из разных махаллей люди внимательно слушали «бывалого джигита, повидавшего фронт». Баят намеренно пришел на хадим в военной одежде, чтобы выглядеть внушительнее. И вот некоторых уже одолевает нетерпение — поскорее принести в свою махаллю услышанные новости и с видом осведомленного человека поведать о них домочадцам и соседям.
Зная, что Нишана-ака нет и, значит, некому заткнуть ему рот, Баят разошелся вовсю. Как ни старался Арслан сдержать себя, но все-таки заметил:
— Баятджан, вы сказали, что немцы взяли Москву. Это неправда. На днях сын Хумаюна-ака прислал письмо, в котором сообщает, что под Москвой немцам крепко дали под зад пинка.
Кто-то засмеялся. Баят же побагровел, метнул на Арслана испепеляющий взгляд.
— Не будьте простаком, — сказал он громко, чтобы слышали все сидящие. — Ваш друг написал по приказу всяких там комиссаров! Неужели вы думаете, что солдатам разрешается писать домой о наших поражениях?
— Писали же, когда наша армия отступала. Теперь об успехах все чаще пишут, — возразил Арслан. Ему не хотелось ввязываться в спор с Баятом: спорить имеет смысл с тем, кого можно переубедить. Но нельзя было допустить, чтобы этому иуде простодушные люди поверили: иногда слова бывают страшнее пули, это давно всем известно. Отпив чаю, Арслан продолжал: — У многих, кто сидит тут, сыновья воюют на фронте и присылают домой письма. В нашем народе испокон веку считается тяжким грехом обманывать родителей. Вот скажите вы, аксакал, — обратился Арслан к одному из сидящих поблизости седобородых старцев, — что вам пишет сын?
— У меня три сына на войне. Было четверо, на одного пришла похоронная… Эти трое пишут, что крепко бьют фашистов — мстят за брата, — а под Москвой разгромили фашистов в пух и прах…
— И что же, по-вашему, приятель, все трое сыновей обманывают почтенного аксакала?
— Быть того не может, — проговорил старик. — Мои сыновья не могут обманывать.
— Вы же не были на фронте! — вспылил Баят. — Блаженствуете тут, а спорите с человеком, который кровь проливал! Выходит, я вру? Не сегодня-завтра немцы появятся в Ташкенте — вот тогда уж вы мне поверите!
— Не видать им нашего Ташкента как своего затылка! — резко ответил Арслан.
— Не пустим их в Ташкент, — поддержал его кто-то. — Много охотников было под нашим солнышком погреться, но все они обратились в пепел.
— Стало быть, не верите? — Баят обвел взглядом присутствующих.
— Не верим, — отозвался пожилой мужчина в полосатом халате. — Одного я не пойму: к чему вам, дорогой, обманывать людей?
Баят сник, взял пиалу с чаем. Рука его дрожала. На пальце сверкал перстень с крупным изумрудом. Недавно он похвалялся, что снял этот перстень с убитого им немецкого офицера. Баят старался держать пиалу так, чтобы перстень был всем хорошо виден. Он слегка подался в сторону Арслана и, растянув рот в улыбке, тихо спросил:
— Место Нишана занял? Смотри, чтоб худо тебе не было.
В пятницу, примерно через час после обеденного перерыва, в литейном цехе появился Джура-ака Самандаров. Он и Арслан, как всегда, отошли покурить. Как бы между прочим Джура-ака сообщил, что некий Дадашев устроился фотографом в одной из центральных фотографий, иногда бывает у Зиё-афанди, снимающего хижину с небольшим двориком на Шейхантауре. Туда же приходит Баят. Но они навещают Зиё-афанди всегда порознь, в разное время. А сегодня собрались все вместе, и, кроме того, туда явился еще какой-то человек. Необходимо увидеть его и запомнить внешность.
— Сейчас Нургалиеву позвонят из дирекции, чтобы он тебя отпустил. Ты должен пойти к Зиё-афанди. Надо придумать повод…
— Повод можно найти, — проговорил Арслан, вспомнив недавнюю встречу с Баятом у заводской столовой. На голове у Баята была новая каракулевая шапка. «Поздравляю с обновой! — сказал тогда Арслан. — Где раздобыл такую?» — «У Зиё-афанди», — ответил тот. «А можно ли и мне заказать такую?» — «Отчего же нет? Для добрых людей у него всегда припрятаны лучшие смушки». Вот вам и повод.
Самандаров помолчал, что-то прикидывая, потом сказал:
— Хорошо. А с работы ушел, почувствовав себя плохо, в поликлинику ходил.
Арслан кивнул.
Подошел Шавкат Нургалиев, толкнул Арслана в плечо:
— Тебя, друг, оказывается, руководство знает! Ступай, срочно в дирекцию вызывают!
Арслан и Джура-ака переглянулись.
Арслан поднялся по широким полуразвалившимся ступенькам к знаменитым большим воротам, сохранившимся с той поры, когда город был обнесен стеной, и, миновав Шейхантаурский базар, свернул в узкий переулок. Пройдя мимо минарета, гробницы Алимкулибека и Шейхантаура-бувы, расположенных на возвышенности, спустился на улицу Джар, которая по внешнему виду вполне оправдывала свое название, означавшее — Овраг. Около узенькой резной калитки, с которой слетела почти вся краска, остановился. Вокруг ни души. Тихо постучал. Через минуту кто-то не спеша приблизился к калитке, отбросил цепочку. Перед Арсланом предстала старуха со сморщенным, как запеченное яблоко, лицом.
— Ассалам алейкум! Могу я повидать Зиё-афанди?
— Он недавно ушел… — начала было старуха, но Арслан уже перешагнул порог и размашистым шагом направился к дому. — Подожди, сынок! Его нету!.. — Твердила старуха, еле поспевая за ним, и все пыталась схватить его за рукав.
Арслан зашел в прихожую и толкнул дверь справа. Сидевшие у сандала стремительно обернулись. Их было четверо. Зиё-афанди и Баят переглянулись. Баят еле заметно шевельнул бровями, что могло означать: «Я же говорил!» — и, осклабясь в недоброй усмешке, отвел взгляд. Остальных Арслан видел впервые. Один из незнакомцев поспешно убрал с сандала какие-то бумаги.
— Извините, уважаемый, я сказала в точности, как вы велели, а этот парень, словно языка нашего не понимает, побежал в дом впереди меня! — оправдывалась старуха.
— Что ж, пусть заходит, это наш джигит, — сказал Зиё-афанди, заставив себя улыбнуться.
Когда старуха плотно закрыла дверь, спросил у Арслана:
— Соскучился? Или дело важное?
— Вы угадали, Зиё-афанди-ака! Важное дело! Недавно я увидел у Баятджана каракулевую шапку, очень она мне понравилась. Сегодня специально ушел пораньше с работы, прикинувшись больным. Сшейте мне такую шапку, Зиё-афанди-ака!
— Зачем же спешить? — усмехнулся Зиё-афанди. Вопреки обычаю, он даже не предлагал гостю сесть. — Дело к весне. К тому же ты мог бы прийти и после работы. Да и по выходным дням я дома бываю…
— Боялся я — вдруг истратите хорошие смушки.
— Что ж, дело молодое, желание мне твое понятно. Садись.
Арслан поздоровался за руку с присутствующими, гадая про себя, который из незнакомцев Дадашев.
Арслану налили чаю, повели беседу о пустяках. Баят рассказал пару фривольных анекдотов, особенно пришедшихся по душе Зиё-афанди, и сам хохотал вовсю. Но несмотря на его напускную веселость, Арслан заметил, с какой откровенной неприязнью он на него поглядывает. Чтобы не раздражать больше собравшихся своим присутствием, Арслан обратился к хозяину:
— Зиё-афанди-ака, мне еще нужно купить кое-что для дома. Снимите, пожалуйста, мерку и позвольте мне откланяться.
Зиё-афанди, кряхтя, поднялся с места и пригласил Арслана в соседнюю комнату, заваленную ящиками, шкафами. У окна стояла ножная швейная машина, подле которой валялись лоскутки различных мехов. Зиё-афанди открыл один из ящиков и достал коричнево-серебристый каракуль.
— Это сурх, лучшее, что могу предложить.
Арслан взял шкурку и стал рассматривать ее, приближаясь к окну, которое выходило во двор. А двор был обнесен дувалом, утыканным сверху осколками стекла. «Надежное логово», — мелькнула мысль у Арслана.
— Подойдет, Зиё-афанди-ака!
Зиё-афанди снял мерку и пошел проводить его до калитки. Но вслед за ними из дома вышли Баят и один из незнакомцев.
— Нам тоже пора, — сказал Баят. — Нам с Арсланджаном по пути, веселее будет.
Шли они по безлюдной улочке. Баят предложил, чтобы сократить путь, пойти по тропинке через овраг, где, бурля и пенясь, мчалась по крутолобым камням небольшая речка, не замерзающая даже в сильные морозы. Тропинка вывела к крутому откосу, в котором были вырублены ступеньки, и скоро они оказались перед бревнами, переброшенными с берега на берег. Арслан в нерешительности остановился — бревна покрыты льдом, с них легко можно сорваться. Из-за излучины доносился глухой шум водопада.
Арслан поставил ногу на бревно, и вдруг над головой его будто птица махнула крылом. Он машинально присел. Удар скользнул наискось по голове, сбив шапку, которая тут же исчезла в пене потока. Едва успел Арслан обернуться, незнакомец толкнул его в грудь. Но Арслан успел ухватиться обеими руками за бельбаг незнакомца, лицо которого перекосилось в бессильной злобе. Понимал: если толкнуть парня, он непременно увлечет за собой и его. Арслан стоял у самой кромки обрыва. За спиной шумел, разбиваясь о камни, стремительный поток. Арслан еще крепче ухватился за бельбаг, как обычно берутся курашисты[83] во время состязания. Краем глаза увидел приближающегося Баята. Незнакомец, сверля Арслана холодным взглядом, опустил руку в карман. Арслан отступил в сторону и нанес удар ему в подбородок. Незнакомец всплеснул руками и повалился в снег. Нож, точно рыбешка, блеснул в воздухе и упал в воду.
— Ну что вы?! Что вы тут не поделили? — закричал Баят, делая вид, что разнимает их, и незаметно оттесняя Арслана к краю берега.
Арслан понял его намерения, ударил Баята под дых. Тот согнулся, прижимая к животу локти.
— Вай, хулиган, за что ты меня? — визжал Баят. — Чтоб руки твои отсохли!
Арслан перебежал по бревнам через речку и стал подниматься по откосу. Оглянулся: Баят со своим дружком сидели на корточках у воды и умывались.
В калитке небольшого дворика, приютившегося на краю оврага, стояла женщина.
— Вай, сынок, я видела, как тот, накажи его аллах, напал на вас сзади, и ужаснулась. Бог вас сохранил, сынок. Позавчера за водопадом, у старой мельницы, зарезали человека.
«Наверно, я под счастливой звездой родился», — подумал Арслан и зашагал по переулку.
Глава двадцать седьмая ДЕВУШКА КРАСНА ЛИЦОМ, ДЖИГИТ — ДЕЛАМИ
Говорят: если в день, когда весна встречается с зимой, курочке негде напиться, весна будет затяжной и холодной. А тут в начале марта повалил снег, покрыл белым пухом деревья, уже начавшие было распускаться почки. Телеграфные провода прогнулись от тяжести и казались витыми из белых толстых веревок. А снег все валил и валил, нагоняя страх на птиц, прилетевших прежде времени. Дивились старики: давно не шутила так с ними природа.
Арслан, кутаясь в телогрейку, наклонясь против мокрого, промозглого ветра, пересек заводской двор, спешил укрыться в цехе. Неподалеку от входа была целая гора металлолома, собранного пионерами. Куски труб, старые кровати, поломанные коньки, ржавые колеса от тачек, которые мальчишки и девчонки, точно муравьи, стаскивали сюда со всех концов города, — все это обратится в оружие, разящее врага.
Арслан зашел в цех, и снег, облепивший его, мгновенно растаял. На ходу снимая телогрейку, он поспешил в раздевалку. Надел спецовку, темные очки и подошел к вагранке, где собрались его товарищи по смене. Они обменялись рукопожатиями. Мастер Нургалиев длинным ковшом брал пробу из печи, гудевшей, как вулкан. Арслан подскочил к нему, помог поднять тяжелый ковш. Вдвоем вылили расплавленный металл в маленькую форму и отправили в лабораторию для химического анализа. Нургалиев взял лопатой доломит и подбросил в печь, в зеве которой билось голубоватое пламя. Слышно, как в ее чреве клокочет, кипит металл.
Арслан взглянул на часы и подбежал к телефону.
— Алло! Лаборатория?.. Почему не сообщаете результат?.. Нет, не десять, а одиннадцать минут прошло!.. Так, слушаю. Углерод — тридцать восемь, марганец — двенадцать, фосфор… Благодарю! Но за одну минуту вам придется держать ответ. Мы сейчас боремся за каждую минуту!
Для литейщиков каждая секунда имеет значение. Если металл передержать или слить раньше времени, получится сталь низкого качества.
Арслан убавил пламя и, приблизив лицо к зеву печи, внимательно смотрел сквозь зеленые очки на кипящий металл, стараясь определить по цвету его готовность.
Под кровлей цеха раздался пронзительный звонок. Работавшие, задрав головы, посмотрели на кран, передвигающийся вверху. Арслан знаками спросил у Валентины, девушки-крановщицы: «В чем дело?» Та ребром ладони провела по запястью другой руки, ответила: вагонетки, мол, задерживаются!
Арслан и Володя выбежали из цеха. Через некоторое время вагонетки, нагруженные доломитом и металлоломом, катились по цеху. Нургалиев кивнул Арслану:
— Молодец, — и улыбнулся.
Переход первой вагранки на скоростной метод работы заставлял сталеваров трудиться в полную силу, рассчитывать каждое свое движение. Бригада Шавката Нургалиева поставила цель; плавку чугуна — за четыре часа.
Вскоре расплавленный чугун устремился по желобам вагранок и полился в огромный котел.
— Четыре часа двадцать минут! — огласил результат вошедший в цех главный инженер. — Это большое дело!
— До четырех доведем, товарищ главный инженер, — пообещал Нургалиев. — Как думаете, ребята?
— Доведем, обязательно доведем! — отозвался Арслан.
В то время, когда Арслан ухватил щипцами ковш, кто-то осторожно тронул его за локоть. Это был Абдумаджид, несколько дней не появлявшийся на работе. Арслан втайне завидовал сложению этого парня. Казалось, на каждое плечо Абдумаджид мог взвалить по бочке вина и перенести без труда. Каждая ладонь с лопату. Арслан в шутку предлагал ему отбросить к черту лопату и работать руками: дескать, вдвойне быстрее. И действительно, работал Абдумаджид поначалу лопатой, как детской игрушкой. Этим сразу покорил он Арслана, который всегда старался поделиться тем, что знал и умел.
Скоро Абдумаджиду надоел тяжкий труд. Его поставили дежурить у пульта, теперь он большей частью сидел, покуривая. А однажды, разговаривая с ним, Арслан почувствовал запах спиртного. Но не попрекнул его, — может, с вечера запах, кто знает. Ведь такому детине надо ведро выпить, чтобы хоть чуть-чуть захмелеть… Потом Абдумаджид совсем обнаглел: стал вовсе не приходить на работу, то из одной поликлиники у него бюллетень, то из другой. Поговаривали, что он где-то «левачит»: видать, парень из тех, что, не утруждая себя, хотят побольше заработать. Арслан не верил этому, но между тем в их отношениях появилась отчужденность.
Арслан не спеша слил чугун в формы. Оттолкнув висевший на цепях ковш, машинально приподнял кепку и вытер рукавом пот со лба.
— Опять болел? — спросил он у Абдумаджида и, не дожидаясь ответа, направился к бачку с водой. Налив полную кружку, выпил в несколько глотков, прозрачные струи текли по подбородку.
Абдумаджид снова подошел к нему, мялся, будто ощущая какую-то неловкость.
— Не болел я, — сказал он, пряча глаза.
— А почему же опоздал тогда? Скоро обед.
— Ухожу я…
— Домой?
Абдумаджид отрицательно покачал головой.
— Совсем ухожу. Трудно мне здесь…
Взгляд Арслана сделался жестким.
— Нашел место выгоднее?
Абдумаджид пожал плечами, не поднимая головы.
— Ну и катись! — крикнул Арслан. — Катись! Здесь не место тебе!
И, резко повернувшись, зашагал к вагранке. Опустив на глаза очки, он слегка повернул рукоятку, желая прибавить жару. Выплеснувшееся из вагранки пламя обдало его, будто хищный зверь ударил когтистой лапой. Арслан отпрянул, закрыв руками лицо. Промелькнули в голове полушутливые слова Нургалиева: «Вагранка чувствует, с каким настроением ты подступаешь к ней. Она, как женщина, любит ласку…»
К Арслану подбежали товарищи, с трудом оторвали его руки от лица, которое за мгновение успело покраснеть и вспухнуть. Ни бровей, ни ресниц — будто сбрили.
— Подожди, не открывай глаз, — советовали ему.
Арслан по голосу узнавал, кто около него. Вот Валентина, управлявшая краном, взяла его под руку.
— Идем, милый, идем скорее, я отведу тебя в медпункт.
— Хорошо, что в очках был!
— Ничего, джигит, не расстраивайся, брови и ресницы отрастут!
Его медленно вели, держа с двух сторон под руки. А он все сильнее зажмуривался, боясь открыть глаза, замирая при мысли, что не увидит больше света.
Арслана положили в больницу. Два дня к нему никого не пускали. А на третий сняли с лица бинты. И первый, кого он увидел, был Самандаров Джура-ака. Он был в белом халате. Арслан сперва принял его за врача, удивительно похожего на кого-то из знакомых. Джура-ака спросил:
— Ну как, все в порядке?
Арслан улыбнулся.
— В порядке. Спасибо.
По другую сторону кровати стояли пожилая женщина-врач и медсестра.
— Вот и хорошо, — сказала врач, и Арслан уловил в ее голосе радость: видимо, до этой минуты она не совсем была уверена, что все обойдется без операции. — Поговорите, только недолго.
Врач и медсестра удалились, оставив их одних. Джура-ака придвинул стул и сел.
— Наши товарищи просили передать тебе благодарность.
Много интересного рассказал он Арслану. Пока Арслан преспокойно работал в своем литейном, а потом лежал в больнице, произошло немало событий.
Баята, Дадашева и Зиё-афанди арестовали в тот день, когда они совершили нападение на Арслана. Опасаясь, что Арслан заявит на них, они могли скрыться — медлить было нельзя. В доме у Баята обнаружили немецкие пистолеты и радиопередатчик. На первом же допросе Баят, прослезившись, признался, что все это к нему принес Дадашев и попросил временно спрятать. Впоследствии выяснилось, что Дадашев прошел специальную подготовку при немецкой разведшколе и получил инструкции в штабе Отто Скорцени, одного из любимчиков Гитлера. Он вел главным образом диверсионно-подрывную работу среди местного населения. Опираясь на буржуазно-националистические элементы, он должен был вести антисоветскую пропаганду, не допускать, чтобы на заводы, эвакуированные из западных районов, шли работать местные кадры, изыскивать возможность ликвидировать наиболее значимых специалистов и советских работников и поставлять сведения о важных промышленных объектах.
— Мне еще вот что надо выяснить, — сказал Джура-ака, вынимая из внутреннего кармана пиджака фотографию. — Эта личность вам знакома?
— Его я в тот раз видел у Зиё-афанди.
— А они делают вид, будто не знают его. Он тоже… Этот человек задержан ночью около железнодорожного моста через Сырдарью. Местность была тщательно осмотрена, и удалось найти припрятанную в тугаях взрывчатку. Арестованный, правда, утверждает, будто не имеет отношения к ней и даже не знает, что это такое… Поправляйтесь поскорее, голубчик: вы единственный свидетель, который видел его у Зиё-афанди. Видимо, пока не припрем к стенке, у этого типа язык не развяжется…
Арслан вспомнил, как Баят несколько раз приглашал его поехать на Сырдарью порыбачить. Вот, оказывается, что манило его к реке — мост. Они, конечно, понимали исключительно важное значение сырдарьинского моста. В то время, когда фашисты вплотную подступили к Волге, бакинская и эмбинская нефть поступала на фронт в основном через Среднюю Азию. Другой дороги не было. Вывести из строя сырдарьинский мост значило оставить на некоторое время фронт без горючего.
— А что с Мусават Кари? — спросил Арслан.
— Он мелкая сошка, — сказал Джура-ака задумчиво. — И все же без какой-то даже пустячной шестеренки машина не может работать… Мусават Кари, прознав об аресте Баята, зашагал напрямик к Шейхантауру и постучался в калитку Зиё-афанди. Хозяйка дома сказала, что за Зиё-афанди приезжали какие-то люди в машине и увезли его неизвестно куда. Мусават Кари, перепуганный насмерть, заспешил в махаллю Каштут. Зашел к своему дружку, парикмахеру, и пробыл у него до наступления темноты. Уходя, попросил: «Сообщи моим домашним, что я жив-здоров…» И как сквозь землю провалился. Ищем… Кстати, Кизил Махсума, родственничка твоего, тоже пришлось продержать пару деньков, — посмеиваясь, сказал Джура-ака. — После нескольких допросов его выпустили, предупредив, чтобы не вздумал скрыться. Он нам еще понадобится…
Арслан лежал некоторое время с закрытыми глазами. Форточка была открыта, и в палату, залитую солнечным светом, влетал свежий ветерок, пахнущий влажной землей. За окном позванивала, падая с карниза, капель.
— На заводе как дела? — спросил Арслан и удивленно открыл глаза, услышав громкий смех Самандарова.
— На Ташсельмаше работает твой махаллинец, Нишан-ака, знаешь его, наверное? Так вот, недавно является он в партком. «Посоветоваться, говорит, пришел. Несколько дней, говорит, ломаю голову, а ничего решить не могу. Есть у меня один знакомый, сын моего бывшего друга. С отцом-то его, дегрезом Мирюсуфом, мы закадычными приятелями были, а сынка в другую сторону потянуло. Сдружился он с людьми погаными, нашими врагами, — водой не разольешь. Ничего я с ним не смог поделать. Прошу общественность принять меры. Дружков его давеча арестовали, как бы и с парнем не случилось беды. Сердцем он чист, знаю. Но разговаривать с ним больше не буду — в обиде на него…»
Арслан улыбнулся.
— Ничего, выйду из больницы, пойду к нему, объясню все.
— Пришлось нам самим все объяснить. Такой старик настырный. «Не уйду, говорит, пока не скажете толком, что собираетесь предпринять».
— Он такой, наш Нишан-ака, — согласился Арслан.
Беседовали еще несколько минут. Потом Джура-ака, оставив на краешке тумбочки плитку шоколада, попрощался и ушел.
Арслан задумался о Барчин. Он все эти дни мысленно беседовал с ней. «Если бы она была в Ташкенте, наверно, приходила бы каждый день, — подумал он, стараясь представить, что она сейчас делает в далеком Шахрисябзе. — Что-то задержалась там. А обещала скоро вернуться». Барчин и Хамидахон-апа поехали, чтобы забрать документы и перевезти в Ташкент вещи.
В комнату заглянула медсестра.
— К вам опять гость, Ульмасбаев, — сказала она.
В дверях появился Нишан-ака. В руках он держал узелок с гостинцами.
Выписавшись из больницы, Арслан еще несколько дней находился дома.
Однажды в калитку постучали. Мадина-хола откинула цепочку и увидела красивую девушку.
— Здравствуйте, доченька, — ответила она на приветствие, слегка растерявшись. — Пожалуйста, входите.
— Благодарю. Мне нужен Арслан-ака. Он дома?
— Сейчас позову, — сказала Мадина-хола, гадая, кто же эта девушка. Она в смятении подумала: «Неугомонный мальчишка, не смутил ли он покой этой девушки?» Еще раз окинув гостью внимательным взглядом, обернулась и позвала: — Арслан! Арсланджа-ан! Эй, Арслан!
Шаркая калошами, надетыми на босу ногу, она направилась к дому. Арслан вышел на айван.
— Барчин! — воскликнул он и опрометью кинулся к калитке. — Здравствуй, Барчин! С приездом!
— Спасибо. Сегодня утром приехала.
— Входи же.
— Я на минутку, Арслан-ака. — Барчин осторожно коснулась его лица. — Мне только сейчас рассказали о несчастье, приключившемся с вами, я и прибежала. Больно?
— Нет. Может ли остаться боль после твоего прикосновения?
— Я серьезно спрашиваю, — смутилась Барчин. — Я так испугалась, узнав об этом.
— Входи! — Арслан взял Барчин за руку и почти насильно ввел во двор. — Мама! — окликнул он Мадину-хола, растерянно стоявшую посреди двора, словно только что выронила арбуз. — Мама, идите сюда!
— Ну что вы, Арслан…
— Должен же я тебя представить своей маме! В таких случаях и говорят, что счастье приходит своими ногами. Мама, эту девушку зовут Барчиной!
— Очень приятно, — сказала Мадина-хола и, как требует обычай, обняла девушку, слегка похлопала по плечу. — Слышала про вас. Проходите, не стесняйтесь.
Арслан подвел Барчин к супе. Разостлав коврик, усадил ее. Мадина-хола села с ней рядышком.
— Ну, как съездила, рассказывай, — попросил Арслан, не сводя глаз с девушки, отчего она еще больше смущалась и старалась смотреть в сторону.
Она рассказала о том, как трогательно заботились о них в Шахрисябзе Дильбар, Эркин и Айша-биби. А ее четвероногий друг Каплан, куда бы она ни шла, сопровождал ее всюду, не отставая ни на шаг. Оказывается, после их отъезда он все дни лежал перед калиткой, будто хворь какая нашла на него, а с появлением Барчин снова исцелился. Пришлось взять его с собой в Ташкент. Эркин заказал билеты, помогал упаковывать вещи. Их провожали все соседи, с которыми они успели сдружиться…
— А что это Эркин уделяет вам столько внимания? — спросил Арслан.
— Он брат Дильбар, подруги моей. — Барчин засмеялась. — Он говорит, что принял вас за Марата-ака!
— Кстати, от брата письма приходят?
— Вы не читали в газете указ? О присвоении Марату звания Героя Советского Союза!
— Да-а?.. Когда это было?
— Позавчера. У меня, кажется, эта газета с собой. — Барчин открыла сумочку и вынула газету. — Пожалуйста.
— Мне врачи посоветовали некоторое время воздержаться от чтения, я и не читаю, — с сожалением проговорил Арслан, разворачивая «Правду». Он медленно провел пальцем по списку фамилий, напечатанных столбиком, и прочитал вслух: — «Саидбеков Марат Хумаюнович…» Поздравляю, Барчиной! Это большое событие. Мама, вы слышали? Брат Барчиной Марат-ака стал Героем Советского Союза.
— Пусть вознесет его аллах еще выше, пусть будет здоров, пусть вернется он поскорее в объятия своей матери!
— А незадолго до этого Марат-ака прислал письмо, в котором обещал приехать в отпуск.
— А как же! Кучкар Турдыев, Ахмаджан Шукуров, Самиг Абдуллаев — все, кто получили звание Героя, приезжали домой на побывку.
— Марату дадут отпуск после лечения в госпитале.
Арслан подумал: «Как жаль, что Хумаюн-ака не дожил до этого радостного дня». Но вслух проговорил:
— Твой брат, Барчиной, один из тех, кем наш народ может гордиться.
Глава двадцать восьмая ОРЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ГНЕЗДА
«Встречайте 10 апреля поезд 89 Москва — Ташкент зпт вагон 6 тчк Обнимаю Марат тчк».
С той минуты, как принесли эту телеграмму, Хамида-апа ничего не могла делать, все валилось у нее из рук. Походит по дому, по двору и снова спешит в комнату мужа, берет с письменного стола телеграмму и подолгу смотрит на нее, словно хочет убедиться, что это не сон.
Наконец-то наступило десятое апреля…
С утра пришел Арслан. Он отпросился с работы, объяснив Нургалиеву, что должен встретить Героя Советского Союза Марата Саидбекова. Мастер, читавший про Саидбекова в газете, не сразу ему поверил, но все-таки отпустил…
За столом на веранде с Хамидой-апа и Барчин сидели две родственницы, которые, как видно, тоже собрались ехать на вокзал. Арслану налили чаю. Потом они с Барчин пошли ловить машину. И только вышли они за калитку, напротив остановился легковой автомобиль. Из него вышел молодой человек в черном костюме и спросил:
— Мне нужна Хамида Саидбекова.
— Мама, тебя спрашивают! — приоткрыв калитку, позвала Барчин.
Хамида-апа вышла.
— Я инструктор горкома партии, — представился молодой человек. — Мне поручено сопровождать вас на вокзал.
— Тогда берите бразды правления в свои руки и командуйте, — сказал Арслан, — а мы будем следовать вашим указаниям.
Хамида-апа тихо засмеялась. Впервые после того, как навеки рассталась она с Хумаюном-ака.
— Только я поеду не одна, — сказала она. — Вон сколько нас.
— Вы пока собирайтесь, а мы сейчас еще машину найдем, — сказал молодой человек и вопросительно посмотрел на Арслана.
— Конечно, найдем, — сказал Арслан.
И они вдвоем, беседуя, будто давно знали друг друга, пошли на улицу, где можно поймать машину…
У входа на перрон собралось немало народу. Ярко светило солнце, с заасфальтированной площади поднимался пар. Деревья, казалось, прямо на глазах разворачивают ярко-зеленые клейкие листочки. Людям не хотелось томиться в душном здании вокзала, они заняли все скамейки в сквере, сидели на ступеньках, постелив газеты. Хамидахон, Барчин, Арслан и приехавшие родственницы в сопровождении инструктора горкома прошли в зал для депутатов. Здесь их встретила и поздравила женщина, заведовавшая отделом в горисполкоме. Она однажды была у них в гостях — на юбилейном вечере Хумаюна-ака. Хамида-апа вспомнила, что ее, кажется, зовут Ходжархон. Они стояли посреди зала, образовав круг, и разговаривали. Пол под ними временами вздрагивал — проходили тяжелые составы, раздавались паровозные гудки. А Хамиде-апа хотелось сейчас же поспешить на перрон, будто поезд, на котором ехал ее сын, мог проскочить мимо.
Тем временем к подъезду подкатило еще несколько машин. В зал вошли солидные мужчины и представительные женщины. Большинство из них тоже Хамида-апа знала в лицо, хотя и не помнила, как зовут. Все они поздоровались с присутствующими за руку, поздравляя с таким днем.
Раздались звуки горна, рассыпалась дробь барабана. По перрону прошел со знаменем строй пионеров. Девочки держали в руках букеты ярких цветов.
Пришли рабочие — в спецовках, прямо от станков. Барчин взяла Арслана за руку, и они вышли на привокзальную площадь. Здесь тоже было много народу. Всюду алели плакаты, транспаранты:
«Слава советским богатырям-героям!», «Приветствуем воина-героя!», «Будем трудиться по-геройски!».
Барчин с удивлением посмотрела на Арслана: «Неужели все эти люди вышли встречать моего брата?»
Арслан кивнул. Родина всех своих героев чествовала так. Марат Саидбеков был одним из ее сынов, которыми народ мог гордиться.
Барчин порывисто повернулась, чтобы побежать в зал и рассказать матери обо всем, но было так тесно, что ей с трудом удалось пройти. Арслан следовал за ней. Они увидели, что Хамида-апа вытирает платочком слезы.
— Не плачьте, мама, не надо, — сказала Барчин.
— Был бы сейчас с нами твой отец, как бы он был доволен и счастлив, — проговорила Хамида-апа, стараясь унять слезы. — Он бы гордился, что сын выполнил его наказ…
Тут к ним подошли только что прибывшие секретарь и несколько сотрудников горкома партии.
— Поздравляю вас! Поздравляю с прибытием сына-героя! И позвольте поблагодарить вас, что вы вырастили такого батыра! — сказал секретарь.
Поезд с минуты на минуту должен прийти. Встречающие вышли на перрон. Вот издалека донесся отрывистый гудок.
Народ заволновался.
Заиграл духовой оркестр.
Поезд плавно подошел к перрону. Взоры всех обратились к шестому вагону.
— Ой, сынок!.. Вон он! — вскрикнула Хамида-апа, издалека увидев появившегося в дверях вагона Марата.
Он был в фуражке. Через плечо перекинута шинель, в руке чемодан. Жадно выискивал он кого-то в толпе. Наконец увидел мать, замахал ей рукой. Спрыгнул с подножки и бросился навстречу. Хамидахон-апа обняла сына, прижалась к его груди. Она плакала и гладила его плечи, до которых теперь уже с трудом могла дотянуться.
— Сынок, сынок мой, наконец-то свиделись…
Их окружили фоторепортеры и кинооператоры. Марат обнял Барчин. Как она выросла и похорошела — не узнать!
Арслан стоял в сторонке, испытывая некоторую неловкость, ожидая удобного момента, чтобы познакомиться с братом Барчин, о котором он столько наслышан. Марат был точь-в-точь такой, каким Арслан видел его на фотографиях. Офицерская форма ему очень к лицу. Золотые погоны со звездочкой майора подчеркивали его стройность и военную выправку. К нему подходили представители горкома партии, городского Совета, поздравляли. Марат был слегка растерян от внимания — он, видимо, не ожидал такой торжественной встречи. Затем, в сопровождении секретаря горкома партии и родных Марат Саидбеков направился на привокзальную площадь. Оркестр играл военный марш. Стоявшие в задних рядах приподнимались на цыпочки, вытягивали шеи, желая увидеть Героя Советского Союза Марата Саидбекова.
Секретарь горкома партии подошел к микрофону, установленному на возвышении, наскоро сбитом из досок, и открыл митинг. Он говорил о героизме, проявляемом советским народом как на фронте, так и в тылу, о победе под Москвой и под Сталинградом, о батарее, которая под командованием майора Саидбекова отражала танковые атаки врага, об отваге советских бойцов, назвал имена воинов, которыми может гордиться узбекский народ, — генерал Сабир Рахимов, Герои Советского Союза Кучкар Турдыев, Ахмаджан Шукуров, Баис Эргашев, Туйчи Эрйигитов, Самиг Абдуллаев и многие другие.
— А сегодня, товарищи, мы с вами встречаем еще одного славного сына нашего народа! — сказал он. — Пусть пример таких отважных джигитов, как Марат Саидбеков, вдохновит нас на славные дела!..
После секретаря горкома на трибуну поднялся Нишан-ака. Подойдя к микрофону, он разгладил усы и поприветствовал Марата Саидбекова от имени рабочих завода Ташсельмаш. Затем выступил прославленный председатель колхоза Хамракул Турсункулов. Он передал герою сердечный привет от колхозников. Едва он отошел от микрофона, на трибуну взбежала смуглая девочка в школьной форме, с торчащими косичками, в которых алели банты. У нее был звонкий голос. Девочка заверила Марата-ака, что она и ее товарищи будут хорошо учиться, а когда вырастут, станут такими же смелыми, как он, Марат Саидбеков, и его однополчане…
Девочка преподнесла ему букет ярких роз, и в ту же секунду на трибуну полетели цветы со всех сторон.
— Слово Герою Советского Союза Марату Саидбекову! — объявил секретарь горкома партии.
— Ассалам алейкум, дорогие земляки! — волнуясь, произнес Марат. — Горячий привет всем вам от ваших сыновей-батыров, отважно сражающихся с немецко-фашистскими захватчиками. Дорогие отцы и матери! Друзья! Мы заверяем вас в том, что наша могучая Советская Армия разгромит врага и освободит человечество от фашистской нечисти. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли сюда. Я считаю это проявлением огромного уважения к нашей армии и в свою очередь обещаю вам, что мы на фронте будем достойными этого уважения.
Перед глазами Марата Саидбекова на мгновенье возникло поле, застланное дымом, и он увидел бегущих по нему солдат…
Секретарь горкома партии и Марат спустились с трибуны. Толпа всколыхнулась, перед ними образовался проход. К Марату тянулись руки, он пожимал их на ходу. Его громко приветствовали, бросали к ногам цветы. Вот они подошли к машинам. В первую сели Хамидахон-апа, Марат и Барчин. Арслан, носивший чемодан и шинель Марата и в душе гордившийся, что исполняет такую почетную миссию, сел во вторую машину.
Когда проезжали по Красной площади, Марат попросил остановить машину. Он подошел к памятнику Ленину и положил у его подножья букеты. Затем машины свернули на улицу Навои и направились к Чорсу…
Старик и старуха, пожелавшие остаться дома, чтобы гость вошел не в пустующий дом, застелили дорожку от калитки до самого айвана коврами, сюзане, вышитыми шелковыми подстилками и теперь стояли у калитки, с волнением поглядывая то в одну сторону улицы, то в другую. Соседи тоже вышли на тротуар с рулонами плюшевых дорожек и ковров. И как только из-за поворота показался автомобиль, они бросили ковры наземь и поспешно развернули, устлав ими путь от калитки до самой середины проезжей части дороги.
Первая машина встала. За ней выстроилась целая вереница автомобилей. Марат вышел и остановился в смущении, не зная, как быть. Мать пришла на выручку:
— Ступай, сынок, по коврам. Постелили, желая, чтобы их сыновья тоже стали такими, как ты!
Марат, здороваясь с собравшимися здесь родственниками и знакомыми, зашел во двор. Старушка обняла его, хлопая по спине руками, и тут же побежала в летнюю кухню, откуда вынесла приготовленную заранее жаровню, на которой дымились, тлея, пахучие травы, предназначенные для ритуального окуривания. Священнодействуя с многозначительным и таинственным видом, она обошла с дымившейся жаровней вокруг Марата; провела ею подле его ног, затем настояла, чтобы Марат подержал руки над малиновым жаром, подернувшимся уже беловатым пеплом. После этого, отойдя в сторону, она опустилась на колени лицом к востоку, стала что-то шептать, воздела руки кверху, провела ими по лицу.
Марат обошел все комнаты, постоял минуту в кабинете отца и снова вышел во двор. Барчин подала ему стул, он сел. Во дворе расставляли столы, накрывали их скатертями. Женщины хлопотали в летней кухне.
Марат был задумчив. Гости заметили в глазах у него печаль, забеспокоились.
— Сестренка! Дай-ка мне садовые ножницы!
Барчин поспешно принесла ножницы.
Марат подошел к огромным кустам зацветших роз, которые когда-то так холил отец, осторожно срезал самые крупные и яркие цветы.
— Мама, давайте съездим на кладбище.
…Долго стоял он молча у могилы отца. Тихо проговорил:
— Не свиделись, ададжан[84], не услышал я больше ваш голос…
Он долго оставался неподвижным. Никто не беспокоил его. Приехавшие обложили могилу цветами.
Направляясь к выходу, Марат то и дело останавливался у других могил, читал фамилии, имена покоившихся здесь людей, высеченные на мраморных плитах. У выхода с кладбища он дал сторожу денег, сказал, что придет через несколько дней и поставит отцу памятник.
На следующий день Марата принял первый секретарь Центрального Комитета компартии Узбекистана и долго с ним беседовал. А вечером в своей загородной даче, в местечке Дурмен, устроил банкет в честь Марата Саидбекова.
Все последующие дни Марат был настолько занят, что ему не удавалось выкроить и часа свободного времени, чтобы пройтись по городу. Ему устраивали официальные приемы, звали на заводы и фабрики, в школы и институты. Хамидахон-апа сетовала, что сын почти не бывает дома. Ему звонили по телефону, присылали за ним посыльных. За день он побывал в военном училище и в двух колхозах. А вечером, едва приехал, усталый, домой, по пути с работы зашел Нишан-ака, передал ему просьбу рабочих завода Ташсельмаш прийти к ним, рассказать подробно о делах на фронте.
…Клуб украшен плакатами, флагами, будто к большому празднику приготовились. Был обеденный перерыв. Большинство рабочих пришли в спецовках, прямо от станков. Куда ни посмотри, кажется, всюду знакомые лица, хочется обнять всех. На Марата устремлены пытливые взгляды рабочих парней. Ты не должен обмануть их надежд. Ведь это они были твоей опорой, когда ты совершил свой подвиг. И даже вон тот тщедушный на вид паренек каждый день, всякий час — нажимает ли он шпиндель своего станка, пробивает ли отверстия в железе, точит ли резцы, шлифует ли напильником деталь, колотит ли тяжелым молотом раскаленный металл, придавая ему нужную форму, — отдает свои силы тому, чтобы ты смог одолеть врага на фронте.
Марату вспомнились слова командира: «Слава позорит того, кто не умеет носить ее с честью». Он учил, что герой всегда на виду у людей и поэтому слова, которые он произносит, должны быть значительными. Но сейчас чем больше Марат старался найти такие слова, тем труднее ему становилось говорить. И одежда вдруг показалась ему неудобной, и воротник кителя стал тесным.
В зале было душно, на лбу выступил пот. Кто-то из рабочих попросил рассказать о его подвиге.
Марат вытер платком лицо, помолчал, собираясь с мыслями. Как об этом расскажешь? Воевал, дрался, как умел, даже трудно восстановить в памяти подробности. Да, говорить об этом трудно.
Нишан-ака, сидевший в первом ряду, заметя его растерянность, сказал, желая подбодрить:
— Давай рассказывай-ка о себе. Послушать тебя все хотят. Не к чужим ты приехал, на родную землю ступил.
И Марат понял, что собравшиеся хотят услышать, конечно, не только о его личном подвиге, а и о том, как дерутся с врагом их земляки.
Больше часа выступал Марат.
Потом кто-то спросил:
— Тут у нас слушок прошел: дескать, германец так силен, что не сегодня-завтра в Ташкент придет. Правда ли это?
— Об этом же меня спрашивали мои махаллинцы, — сказал Марат. — Что вам сказать? Враг перед нами серьезный. Но и мы не лыком шиты. Мы уже гоним его с нашей земли. И Ташкента ему никогда не видать. Не верьте, друзья, подобным слухам. Их распространяют враги наши и трусы…
— Слова истинного джигита! — воскликнул Нишан-ака и захлопал в ладоши.
Зал взорвался аплодисментами. Сквозь них доносились выкрики:
— Слава героям!
— Баракалла, Саидбеков! Живи долго!
— Спасибо отцу, вырастившему такого сына!
Марат на могиле отца поставил мраморный обелиск, на котором было написано: «Хумаюн Саидбеков. 1892—1943». Что еще мог сделать теперь Марат для отца?
На следующий день Марат, взял с собой мать и сестру, отправился в Шахрисябз — в город, где отец работал.
Встретили их друзья отца. Большинство из них Марату были знакомы по рассказам матери и Барчин. Он знал, что этот высокий, чуть сутуловатый человек с поседевшими висками — секретарь райкома, а эта девушка в золотистом атласном платье, с нежным, как персик, лицом и черными косами, собранными в тяжелый узел, и есть та самая Дильбар, о которой столько рассказывала сестра.
Секретарь райкома хотел увезти гостей к себе, но Марат попросил поселить их в доме, где совсем недавно жили его родители.
Марат полагал, что двух дней будет достаточно, чтобы ознакомиться с городом. Секретарь райкома поручил Дильбар сопровождать его повсюду. Они ходили по городу, ездили в колхозы, но Дильбар не успела за два дня показать всего, что сделано в районе Хумаюном Саидбековым. Марат был доволен, что именно эта девушка знакомит его с городом. Она умела интересно и увлеченно рассказывать. Она не только хорошо знает все, что делается у них в районе, но горячо и самозабвенно любит свой край. Слушая ее, Марат любовался ею. И если он, случалось, задерживал на ней взгляд, Дильбар краснела от смущения и умолкала.
Марат решил задержаться в Шахрисябзе еще дня на два.
Только что вернулся он, усталый, из колхоза и, пока мать хлопотала, готовя ужин, прилег на диван отдохнуть. Мать спрашивала у него, понравилась ли поездка, что говорили люди о его отце. На все ее вопросы он отвечал односложно. Лежал и все о чем-то думал. Хамида-апа даже забеспокоилась, уж не заболел ли ее сын. Но Марат вдруг спросил:
— Мама, эта самая… секретарь комсомольский, замужем?
Дрогнуло сердце, она внимательно посмотрела на сына.
— Ты про Дильбар? Вы же весь день вместе были — спросил бы.
— Неловко. Несколько раз порывался спросить, но боязно как-то…
Хамидахон-апа улыбнулась.
— Тоже мне герой! Что подумает о тебе девушка, если об этом узнает?
— Ну, так она замужем или нет?
— Она же совсем молода, сынок. Не замужем еще.
— Сколько же ей?
— Еще девятнадцати нет. Подружка Барчин. Очень воспитанная, умная девушка.
— Не была бы умной, разве смогла бы руководить комсомольцами всего района? А это правда, что Эркин ее брат? А то наши девушки имеют обыкновение иногда кавалеров выдавать за братьев.
— Эркинджан брат Дильбар. Бедняжка, вернулся с фронта раненый. Образованный парень. Сейчас директором школы работает.
Грустно было Марату в последний день пребывания в Шахрисябзе. Утром встал он поздно. Умылся, побрился и опять уединился в своей комнате, делая вид, что просматривает газеты. В доме было тихо. Барчин рано убежала к подружкам прощаться. Солнце уже подбиралось к зениту, когда вновь услышал он ее звонкий голос. Марат, посмотрев в окно, увидел, что она пришла не одна, а с Дильбар.
Тотчас из кухни раздался голос матери:
— Ай, девочки, помогите-ка мне нарезать морковь для плова! Одной мне не управиться.
Марат отложил газету и стал прислушиваться. Из кухни доносились невнятные голоса. Марат приоткрыл дверь… Через некоторое время Хамида-апа сказала дочери:
— Сбегай-ка за Айша-буви. У нее рука легкая, пусть она заложит в казан рис.
Барчин побежала к соседям.
— Дильбархон, миленькая моя, занесите-ка вот этот чайник Марату. Совсем забыла — он ведь с утра чай не пил.
Марат машинально одернул гимнастерку, застегнул верхнюю пуговицу на вороте, взглянул на грудь, словно проверяя, все ли ордена на месте.
Дильбар взяла чайник, пиалу и вошла в комнату Марата.
Через минуту на кухню впорхнула Барчин.
— А где Дильбар? — удивилась она и тут же хотела было кинуться в комнату брата.
Но мать остановила ее.
— Посиди тут, — сказала она шепотом. — Режь морковь.
Барчин улыбнулась и занялась делом. Она все поняла.
Дильбар, поставив на стол чайник и пиалу, повернулась, чтобы уйти.
— Посидите немножко, Дильбархон. Попьем чаю, — сказал Марат.
— Спасибо, я уже пила.
— Тогда посидите просто так.
Марат встал и плотно закрыл дверь. Дильбар посмотрела в глаза Марату, ничего не понимая. Села на стул.
Марат сел напротив нее, положив руку на стол и барабаня по нему пальцами. Дильбар вспомнила, что и отец его имел обыкновение постукивать пальцами по столу, если нервничал, и улыбнулась.
— Вы хотели мне что-то сказать? — спросила она, когда их молчание слишком затянулось. Сама налила в пиалу чаю и протянула ему.
— Спасибо, — сказал Марат. — Сегодня вечером мы уезжаем…
— Я знаю об этом, — сказала Дильбар, чувствуя, как волнение Марата постепенно передается ей. Подумав, добавила: — Очень жаль.
— В Ташкенте я буду недолго. И все же хотел бы, чтобы вы погостили там у нас два-три дня…
— Не могу, я же работаю…
— Я договорюсь.
— Нет, нет, не надо!
— Ну что ж, Дильбархон, я всегда буду помнить дни, которые провел с вами. Пожалуйста, и вы не забывайте их, хорошо?
Дильбар кивнула и склонила голову, чтобы он не заметил, как она покраснела.
Марат снял с руки часы, положил на стол перед девушкой.
— Эти часы побывали со мной в окопах и блиндажах, они все еще хранят запах пороха. Но все равно ходят. Очень точно ходят. Пусть они останутся у вас…
— Зачем? — удивилась Дильбар, устремив на него растерянный взгляд.
— Ведь у нашего народа существует старый обычай: уходя, оставлять у… близкого человека какую-нибудь вещь. Тогда, говорят, эти люди непременно встретятся. Возьмите их, Дильбар. Я хочу надеяться, что мы еще увидимся… Вы будете меня ждать?
Дильбар кивнула и, внимательно посмотрев на него, будто хотела навеки запомнить, произнесла тихо:
— Конечно, Маратджан-ака! Разве вы этого не чувствуете? Я буду вас ждать.
Воспользовавшись тем, что Марат, глава семьи Саидбековых, дома, Хамидахон-апа, тетушка Мадина и Нишан-ака собрались на совет, чтобы ускорить ход событий. Все равно ведь свадьбы не избежать, так уж лучше сыграть ее, пока брат невесты пребывает дома.
В субботу справили свадьбу. Собралось множество уважаемых в городе людей. В этот день здесь распоряжался всеми делами секретарь горкома партии, старый друг Хумаюна-ака. И во время застолья он сидел на том месте, где полагается сидеть отцу невесты, и делал все, чтобы ни на минуту не угасало веселье.
В день отъезда Марата на фронт Арслан отпросился с работы и прибежал на вокзал. До отправления поезда оставалось несколько минут. Марат отвел Арслана в сторонку и сказал:
— Вы теперь не только муж моей сестры, но и брат мне. У меня к вам просьба. Если Барчин сейчас покинет наш дом, он совсем опустеет. Тоскливо будет матери одной и трудно. Поэтому живите пока с мамой, пусть ей не очень будет заметно мое отсутствие. И вашу маму перевезите к нам. А когда я вернусь, тогда, если захотите, разрешим вам жить отдельно.
— Хорошо, Марат-ака, не беспокойтесь.
Глава двадцать девятая ЛИЦОМ К ЛИЦУ
На купол медресе Кукалдаш сел аист. Перед этим долго кружился он, оглядывая с безоблачной высоты и желая убедиться, его ли это гнездо на куполе старого медресе. Бураны и дожди не снесли и не смыли его — крепко свил свое гнездо белый аист.
Люди стояли внизу и смотрели на птицу, радуясь, что она кружится все медленнее и с каждым кругом опускается все ниже и ниже.
И вот наконец сел аист в свое гнездо, похожее на большую корзину, сложил крылья и поджал одну ногу. Величаво посматривал он на знакомые улицы. И люди молча приветствовали его. Долго не прилетала эта птица. Подумывали, что она погибла, не осилив дальней и трудной дороги. Но нет, вот она сидит! Все дивились и были довольны.
С прилетом птицы праздник, длившийся вот уже много дней, стал еще радостнее. Начался этот праздник девятого мая — с того дня, как кончилась война. И будет продолжаться еще долго. Потому что возвращение каждого воина домой — праздник. А нынче каждый день кто-нибудь да возвращается. Великий настал праздник…
Вернулся с фронта и Баймат. До Берлина прошагал он от самой Волги. Получив известие о смерти жены, написал письмо Мусавату Кари — ведь сосед, по обычаю, считается ближе родственников. Баймат просил соседа на время приютить его дочь или отвезти в Чимкент, где живет сестра. Но не получил от него ответа. Трижды писал Баймат. Кари же, кичившийся своим родом и на каждом углу проповедовавший богобоязнь, не соизволил ему ответить. Должно быть, полагал, что сложит свою голову на фронте Баймат и не придется с ним встретиться лицом к лицу.
Возвратившись, Баймат узнал, что произошло. Ох, лучше бы нашла его в поле вражеская пуля, чем услышать такое: умерла его единственная дочурка Субхия! «Вон на купол медресе Кукалдаш прилетел белый аист. Субхия, э-э-эй, Субхия, дорогая моя доченька, где ты? Жизнь моя, детка, я вернулся. Я в дар тебе победу принес! Выбеги из дому резво, открой мне калитку!»
Баймат пришел в чайхану, бросил рюкзак на сури, сел, обхватив голову руками. Мимо проходил Арслан. Он с трудом узнал своего махаллинца. Подошел к нему, поприветствовал, поздравил с возвращением.
— Пойдемте к нам, Баймат-ака. Мама и моя жена будут очень рады.
Баймат покачал кудлатой головой, не отнимая от нее рук. Нет, не пойдет он. Он даже в свой двор не зашел. Ничего дорогого здесь не осталось.
— Идемте, Баймат-ака, вам надо отдохнуть.
— Не настаивайте, укаджан, не пойду я к вам, не обижайтесь. И к себе не зайду. Ни к одному соседу не постучусь в калитку. — Он медленно поднял голову и в упор посмотрел на Арслана. — Вы не смогли сберечь мою единственную дочь… Я верил людям, чья калитка рядом с моей. Ну почему бы моей дочке до моего возвращения не пожить вместе с их детьми?
«Субхия, где ты, доченька? Гляди, на куполе Кукалдаш сидит аист!»
Баймат сказал, что навсегда покинет эти места, но сначала сходит на кладбище. Арслан вызвался проводить его.
Долго сидел Баймат у могилы дочери и жены, слезы катились по его впалым небритым щекам. Арслан молча стоял в сторонке. Потом они отыскали старика сторожа.
— Вы мою дочь опускали в могилу?
— Я, — сказал сторож.
— И мою жену тоже вы?
— Да. Я положил их рядышком, хотелось благое дело сделать.
Сторож опустился на колени. Прочитав молитву, провел по лицу ладонями.
— Только это и можем теперь сделать для них, сынок, — сказал он, поднимаясь на ноги, и отряхнул с колен прилипшую сухую траву. — Пусть души их пребудут в раю.
— Вот, отец, возьмите. — Баймат вынул из кармана все деньги, что у него были, и протянул старику. — Приглядывайте за их могилами.
— Что ты, сынок, не надо, не надо денег!
— Возьмите, отец. Посадите здесь цветы. Я уезжаю далеко и не скоро сюда вернусь. Поставьте какой-нибудь знак, чтобы в следующий свой приезд я без труда отыскал эти могилки.
— Все сделаю, сынок.
— Спасибо. А теперь прощайте.
…Баймат поселился в Чимкенте. Бывший приятель-фронтовик уступил ему на окраине города свой домик. Сестра, прознавшая о его возвращении, не единожды прибегала к нему и уговаривала перебраться в их дом, оставшийся от отца в наследство. Пока она говорила без умолку, Баймат сидел неподвижно и молчал. И когда сестра прощалась, тоже не произнес ни слова. Велика была его обида на нее. Много раз еще приходила она и убеждала, пока Баймат не поверил, что о беде, случившейся с его семьей, она и родственники узнали лишь после того, как бедная девочка покинула этот мир.
Через некоторое время Баймат перенес нехитрые свои пожитки к сестре.
Родственники, желая развеять тоску Баймата, водили его на той и празднества. Но Баймат был постоянно хмур.
Увидев на улице играющих малышей, он подходил к ним, садился напротив на корточки и начинал рассказывать, какая была у него веселая девочка. И при этом вытирал глаза. Ребятишки поначалу боялись его. А потом привыкли — всякий раз угощал он их конфетами. Он всегда носил в кармане конфеты и раздавал их детям…
Родственники были обеспокоены. Посовещавшись, пришли к выводу, что в Баймата вселился джинн, которого непременно надо изгнать.
В окрестностях Чимкента с некоторых пор живет некий человек, прозванный Чирманда[85]-домля. Он, говорят, одинок, бородат, остронос, живет в каком-то отдаленном и глухом переулке старой части города и излечивает всякие болезни. Много всяких чудес порассказала Баймату сестра об этом Чирманда-домля. И уговорила наконец пойти к нему. Она взяла с собой казы, двух кур, сорок яиц, и они отправились на поиски прославленного Чирманда-домля.
Спрашивая у прохожих, нашли наконец нужный переулок, находившийся далеко за кладбищем Дервиш-бобо, на берегу арыка Кучкар-ата. Постучали в скособочившуюся калитку. Никто не ответил. Вошли во двор, который почти сплошь зарос лебедой и кустарниковым веником. Из этих зарослей, сверкая глазами, уставились на пришельцев кошки разных мастей. В углу двора, точно зев диковинного зверя, зияло отверстие тандыра. На айване перед приземистой хижиной горел примус. В кастрюле кипела шурпа с курицей. Из хижины с маленькими, заклеенными пожелтевшей бумагой оконцами слышны удары в бубен.
Заметив пришедших, на айван вышла старуха. Она сдержанно ответила на приветствие и пригласила в хижину. Указала на войлок, где можно подождать, пока Чирманда-домля, рассевшись посреди комнаты, беседует с духами. Приняла подношение и скрылась в соседней комнате.
Баймат и его сестра устроились на краешке войлока, украдкой поглядывая на хозяина.
— Что случилось, милая, с этим джигитом? — спросил наконец Чирманда-домля, отложив бубен.
— Вай, домляджан, болен братишка мой, злые духи поселились в смятенной душе его, пугнули бы вы их своими молитвами.
Баймат сидел напротив Чирманда-домля и не сводил с него глаз. И вдруг случилось нечто «кощунственное» — Баймат захохотал.
— Одурел, что ли? Сиди тихо! — шикнула на него сестра.
— Это же сосед наш!
— Что ты ерунду болтаешь? — рассердилась сестра и одновременно встревожилась: совсем неладное происходит с братом. — Говорят тебе, сиди тихо! Домля может обидеться!
— Ассалам алейкум, Кари-ака! — сказал Баймат со злой усмешкой. — Вот где довелось нам свидеться!
Домля метнул на него хмурый взгляд, глаза его сверкали:
— Что за выходки! Вы хотите излечиться нашими молитвами или собираетесь надругаться над нами?! Я бедный одинокий человек. Перестаньте потешаться или уходите! Не то прокляну я вас!
Баймат поднялся, едва не касаясь головой потолка.
— Своему дражайшему соседу, с коим земное счастье делить должно, вы такой прием оказываете? А ну, поднимайтесь-ка с места!
Казалось, стены дрогнули от его громового голоса. Сестра испуганно попятилась к двери.
— Вы вовсе не бедный и одинокий человек! — продолжал Баймат. — Бросив семью, скрываетесь тут! Людям головы дурите!
— Ошибаетесь! — взвизгнул домля. — Вы меня с кем-то путаете!
— В милиции разберутся, путаю я или нет. Идите за мной и не вздумайте бежать, а то задушу.
— Не стыдно ли, укаджан! Ведь я…
— Живо!
— Ты дивана![86] Уходи отсюда!
Баймат шагнул к Чирманда-домля, схватил за грудки и решительно толкнул его к двери. Тот выхватил из-за голенища нож. Женщины с воплями бросились из комнаты. С айвана донесся звон опрокинутой кастрюли.
— Кари, бросьте нож! Я солдат, вы же знаете, чем я занимался четыре года! — сказал Баймат, отступив на шаг, и вдруг крикнул: — Бросай нож, беглец!
Чирманда-домля вздрогнул. Баймат с силой ударил его по руке. Нож отлетел в угол.
Баймат выволок Мусавата Кари во двор. Разбежались во все стороны кошки, возлежавшие в тени среди травы. Мусават Кари перестал упираться и начал умолять:
— Джан, братишка, не причиняй мне вреда!
Их окружили сбежавшиеся соседи, пытались разнять.
— Вы не отрицаете, что вы Мусават Кари? — спросил Баймат грозно.
— Да, я Кари…
— Что же вы забились в эту глушь?
— Напасть обрушилась на мою голову, вот и мытарствую. Укаджан, отпусти меня. Я сейчас же покину Чимкент.
— В Ташкент поедете?
— В Ташкент, укаджан, в Ташкент.
— Я сам вас отвезу туда.
Баймат объяснил людям, что это за человек. Никто из соседей не вступился за Мусавата Кари.
Глава тридцатая ДОВЕРИЕ
Для Арслана было полнейшей неожиданностью, когда коллектив завода Ташсельмаш выдвинул его кандидатуру в депутаты районного Совета. Он даже подумал, не подшутил ли кто, когда его вызвали в партбюро и, сообщив об этом, спросили, не имеет ли он возражений. Арслан в растерянности не мог произнести ни слова. А парторг сидел напротив, через стол, и курил, изучающе глядя на него сквозь дым сигареты.
— Почему меня? — спросил наконец Арслан.
Парторг улыбнулся.
— Самые уважаемые люди нашего коллектива, передовики, такие, как Нишан-ака, Матвеев Максим Петрович, Шавкат Нургалиев и многие другие, считают вашу кандидатуру наиболее подходящей. У меня не возникали сомнения. Вот уже много лет я знаю вас. Вначале вы были активным комсомольцем нашего завода. Потом, как сказал бы Нишан-ака, испеклись в горячем цехе и стали коммунистом. В самое трудное время руководство завода, партийная и профсоюзная организации видели опору именно в таких, как вы.
— Но… ведь рабочие трудились одинаково…
— Может, вы и правы, лодырей среди нас не было. Если и были, то у нас они долго не задерживались. Помните, как вы первый стали оставаться работать сверхурочно? Вы никого не агитировали, просто работали. А вашему примеру последовали ваши товарищи. Литейный цех сразу же увеличил выпуск продукции почти вдвое. Вскоре и весь коллектив завода подхватил ваш почин. А знаете, что это значило в военное время?.. Так что, товарищ Ульмасбаев, каждый человек у нас как на ладони. Товарищи увидели в вас человека, которому можно доверить честь и судьбу коллектива. Мне известно, к примеру, что вы всегда помогали молодым, только что пришедшим на завод рабочим, учили их тому, что умеете сами. И были беспощадны к тем, кто уклоняется от трудного дела, ищет легкого пути в жизни.
В последующие дни Арслан много раз воспроизводил в памяти разговор с парторгом, анализировал каждое слово. Ему всегда казалось, что он живет, трудится как все. И нелепо думать, что кто-то живет иначе, не так, как он. Ему никогда и в голову не приходило выделяться из общей массы. Хотелось одного — не быть хуже других, и он прилагал для этого все свои старания. И вдруг те самые люди, у которых он многому научился, которым старался подражать, оказывают ему такую высокую честь. Выдержат ли его плечи такую нагрузку?..
Теперь каждую неделю по средам, придя с работы, Арслан тщательно промывал руки бензином, детской маленькой щеткой вычищая из пор и из-под ногтей въевшуюся чугунную пыль и копоть. А утром Арслан надевал отглаженный женою костюм, белую сорочку. Всякий раз особые хлопоты ему доставляло завязывание галстука. Приходила на помощь Барчин. Она когда-то отцу тоже завязывала галстук и всегда знала, какие узлы нынче в моде.
Потом они вместе выходили из дому. На углу, на том самом углу, где некогда Барчин встретила Арслана с узелком, полным каракулевых шапок, они прощались. Барчин шла в школу, Арслан спешил в райисполком. По средам у него приемный день. В прохладном кабинете за массивным полированным столом он принимал посетителей. Перед началом приема он обычно сидел несколько минут один, как бы привыкая к этому уютному, тихому кабинету, застланному большим ярким ковром. В углу стояли мраморный бюст Ленина и пальма. После цеха, наполненного едким дымом, искрами, летящими из вагранок, таким грохотом и скрежетом, что не слышно голоса стоящего рядом человека, было как-то странно видеть себя в такой обстановке.
Люди приходили с самыми разными просьбами. Одному надо отремонтировать квартиру, у другого сосед дебошир, а милиция не принимает мер, третьему нужна ссуда, четвертый жалуется на сына, забывшего родителей. И во всем надо разобраться. И сами-то люди были разные. К каждому надо подобрать ключ, найти подход. Долгое время Арслан не мог привыкнуть к новым обязанностям. Порой ему казалось, куда легче лить в горячем цехе чугун. Но проходили дни, постепенно в нем крепло сознание, что он нужен этим людям.
Однажды, встретив мужа, Барчин сказала:
— Сегодня приходил какой-то человек без ноги. Назвался вашим другом и хотел повидать вас.
— Кто же это мог быть?
— Не знаю, не спросила. Предложила выпить чаю — отказался. Сказал, что зайдет вечером.
Хамида-апа и тетушка Мадина вдвоем сели ужинать. И только встали из-за стола, раздался стук в калитку.
Арслан вышел.
В человеке в солдатской форме, опиравшемся на костыль и палку, он с трудом узнал Атамуллу. Как он изменился! Обнял его, похлопывая по спине, пригласил в дом.
— Вернулся вот… — сказал Атамулла и тяжко вздохнул. — Да видите как? Без ноги.
Барчин принесла чай, поставила вазу с печеньем, конфеты. Арслан попросил ее принести коньяку и две рюмочки.
— За твое возвращение. Хорошо, что живым вернулся.
— Вернувшись, я услышал про все, что случилось с отцом… Хотел узнать подробно у наших махаллинцев, но никто не желает со мной разговаривать, проходят мимо, будто не знают меня. Словно я перед ними в чем-то виноват… Вы не знаете, за что посадили моего отца?
— Эх, дружище, лучше мне об этом не говорить, а тебе не слушать. Поверь мне, вина на нем большая. Мы знаем друг друга с детства, и давай по-прежнему на «ты». Кроме того, мне хотелось бы знать, где ты желаешь работать.
— Война меня научила многому, Арслан-ака. На жизнь я смотрю совсем иначе… Кое-кто мне советует заняться ремеслом отца: мол, торговля и скорняжное дело и сейчас доходны. К тому же ты, мол, инвалид, к тебе и претензий никто не предъявит. Но опротивело мне все это, хочу жить иначе… Сестрица моя Пистяхон все это время вышивала тюбетейки и продавала на базаре. Золотые руки у девушки. На второй день, как приехал, заставил ее устроиться на текстилькомбинат. Не хотела идти, плакала. «Не пойдешь — тогда считай: нет у тебя брата!» — сказал я ей. Поработала — понравилось. Теперь говорит: «Спасибо тебе, брат». Я и сам бы пошел, как вы, на завод, но не могу, видите…
— Может, тебя в магазин устроить? В нашем раймаге нужен продавец.
— Опять торговля! — проговорил Атамулла, поморщив лицо. — Люди скажут: неспроста Атамулла пошел в торговлю. Теперь из-за отца и мне веры нет.
— Да, ты прав, некоторые люди считают, что в торговую сеть идут работать, чтобы набить мошну. Вот постарайся разубедить их. Докажи, что в наших магазинах работают честные люди.
Атамулла несколько минут сидел молча. Арслан налил в пиалу горячего чая, придвинул к нему.
— Я согласен, — тихо произнес Атамулла. — Я глаза выколю тому, кто будет смотреть на меня как на вора!
— О человеке судят по его делам. Будешь хорошо работать — станут уважать. Давай послезавтра встретимся в исполкоме. Я представлю тебя заведующему райторга.
— Спасибо, Арслан-ака! Будьте уверены, я не подведу, — радостно сказал Атамулла.
Допоздна просидели они, вспоминая былое время.
Глава тридцать первая МИР НЕ ИДЕАЛЕН
В сердце Хамиды-апа змеей вползла тревога. Вот уж четыре года, как дочь замужем, а до сих пор нет у нее, у Хамиды-апа, ни внука, ни внучки. Она делилась своими печалями с Мадиной-хола. Та отмалчивалась. Но ей-то легче, есть у нее и внуки и внучки. А у Хамиды-апа одна-единственная дочь — Барчин. Когда же родит она ребенка?..
К ним часто захаживала Биби Халвайтар. Увидев, что Барчин сидит на ступеньках, увлеченная книгой, говорила: «Доченька, не сиди ты на сыром цементе, вредно это!..» Барчин не обращала внимания, будто не к ней обращались. Не раз доводилось ей слышать, как Биби Халвайтар сетовала и на то, что девушки катаются на велосипедах. «Будь на то моя воля, запретила бы я девушкам и физкультурой заниматься, и в волейбол играть!» — говорила она, посасывая сушеный урюк, который не переводился в ее карманах. «Может, вы девушкам запретите и через арык прыгать, пусть вброд переходят?» — смеясь, возразила тогда Барчин. Старушка рассердилась: «Я знаю, что говорю, и молодежи следует прислушаться к моим мудрым словам!»
Когда разговор заходил о детях, Мадина-хола обычно не принимала в нем участия, но посматривала то на Арслана, то на Барчин, и эти взгляды были красноречивее всяких слов. Но двое влюбленных, опьяненные счастьем, были заняты собой. Они не думали о детях и только посмеивались. Когда Барчин слышала эти разговоры, ее душу охватывало смятение. Она становилась грустной и, уединившись где-нибудь, предавалась книгам или писала конспекты, готовила план завтрашних уроков.
Биби Халвайтар всегда старалась улучить момент, когда на веранде, где обычно она любила сиживать с Мадиной-хола и Хамидой-апа, присутствовали и Барчин с Арсланом. Тогда она принималась давать советы пожилым женщинам, но всяк понимал, что это куда более касается молодых…
— Когда муж и жена вознамерятся зачать ребенка, они непременно должны перед этим хорошенько поработать — копать землю или колоть дрова, — до тех пор, пока с них не потечет трудовой пот. Потом они должны наесться на заработанные деньги и лечь в постель. Тогда ребенок их родится трудолюбивым и здоровым…
Хамида-апа, у которой кошки скребли на сердце, смеясь, говорила:
— Ладно, пусть делают что им угодно, лишь бы поскорее подарили мне внучонка.
Биби Халвайтар, заметив, что обеим женщинам-сватушкам становится грустно, как только речь заходит о внуках, старалась их рассмешить и припоминала что-нибудь о днях своей молодости:
— Когда мой-то взял меня себе в жены, я тоже долго не могла ему родить наследника. А старику-то моему ох как хотелось сына. Не долго думая женился-таки на другой женщине. Я, не стерпев такой обиды, однажды, как только чуть-чуть стемнело, разделась донага, растрепала на себе волосы и взобралась в нишу. Соперница, увидев меня, пришла в ужас. Вопя на всю махаллю: «Привидение! Привидение!..» — убежала к своему брату… Не сделала бы я так, она, глядишь, быстрехонько родила бы, да и привязала к себе моего муженька…
Однако этот ее рассказ не вызвал и тени улыбки на лице Хамидахон. Ей не понравилась эта история. В ней она нашла тонкий намек Арслану: не горюй, дескать, не эта, так другая тебе родит. Она нахмурилась, вздохнула и, желая повернуть беседу на другое, негромко проговорила:
— Давайте говорить о хорошем…
Биби Халвайтар же, несколько туговатой на ухо, послышалось. «Расскажите еще что-нибудь такое…» И она стала говорить о почтальоне Мирзамухаммаде:
— В те годы, когда этот Мирзамухаммад, шустрец, охладел к жене, она возьми да и рожай ему каждый год по ребеночку. Вечно ходила со вздутым животом, он у нее, как в махалле все говорили, никогда не оставался пустым. До чего всемогущ господь! Теперь Мирзамухаммад, окруженный детьми, и не мог взять в толк, то ли холоден он к жене, то ли любит. Но в чайхане среди дружков-приятелей говорил: «Если придете к нам сейчас, то будете есть кизяк, а если придете через десять — пятнадцать лет, будете есть плов из золотых блюд…» То-то смеху было!
И в этом рассказе Хамида-апа узрела нежелательные мысли, которые могут запасть в голову ее зятя. Она оторвалась на секунду от шитья и не без досады сказала детям:
— Вы что сегодня, весь выходной решили просидеть дома? Сходили бы хоть в кино!
Арслан и Барчин переглянулись, скоренько собрались и ушли.
Однажды, когда Барчин сидела одна, Хамида-апа зашла к ней.
— Доченька, я договорилась с врачом, хочу тебя показать ей. Что ты на это скажешь?
— Как хотите, — грустно ответила Барчин, пожав плечами, и закрыла книгу. — Арслан сегодня тоже говорил о детях. «Ты, говорит, каждый день среди ребятишек, поэтому не чувствуешь, наверно, какой бесцветной кажется жизнь, когда не слышишь детского смеха…»
— Одевайся, доченька. Я знала, что рано или поздно будут такие разговоры. О господи, открой моей дочери дорогу к счастью! Пусть родится новая жизнь, пусть не повеет холодом отчуждения на их согласную жизнь!..
— Будет тебе, мама. Не надо причитать, и так тоскливо.
Барчин поставила книгу в шкаф. В последние дни она прочитала массу книг по изобразительному искусству. Она собиралась повести свой класс в музей изобразительных искусств. Там, конечно, искусствовед обо всем подробно расскажет. Но потом, когда они выйдут из музея, сколько будет вопросов! И нельзя ни один оставить без ответа, если не хочешь потерять уважение детворы.
Барчин стала переодеваться.
— И куда мы поедем?
— К Олии Умаровой. Она очень опытный врач, все ее знают.
— Мне как-то неловко.
— Что ты, доченька! Она нам не чужая, эта женщина. Это она, Олия-апа, роды у меня принимала. И твой отец был хорошо знаком с этой женщиной.
Барчин надела сшитый недавно коричневый костюм, лакированные туфли. Стоя перед трюмо, сложила на затылке волосы в тугой узел. Взяв замшевую сумку, вышла во двор.
Мать на веранде надевала туфли и украдкой поглядывала на дочь, задумчиво стоявшую у куста розы, сплошь усыпанного яркими осенними цветами. Уже сколько времени не замечала она в дочери прежней порывистости, задорного огонька в глазах.
Хамида-апа с щемящим сердцем сошла по ступенькам с веранды.
— Идем, доченька.
«Уж очень привлекательная она, моя Барчин, не сглазил ли кто-нибудь, соль ему в очи! — гадала Хамида-апа, шагая рядом с дочерью по улице и стыдясь произнести вслух то, что думала: — А может, какой враг пустил в дело отворотные средства? Надо позвать Биби Халвайтар, пусть произнесет свои заклинания…»
Домой они вернулись под вечер усталые. Тетушка Мадина уже пришла от своей дочери и дожидалась их, приготовив ужин. Узнав, где они были, одобрила их поступок и тут же, развернув бумажный сверток, вынула полинявшее ситцевое платье, встряхнула его и подала Барчин.
— Вот, доченька, еле выпросила у одной своей далекой родственницы, которую зовут Фазилатхон. Она родила двенадцать детей, и все красивее один другого. Поноси-ка это платье, пусть к тебе перейдут ее здоровье и плодовитость…
Барчин зарделась, но подарок приняла, чтобы не обидеть свекровь.
В калитку постучали. Уже был вечер. В это время Арслан приходил с работы. Барчин выскочила из-за стола, бросилась во двор. Через минуту прибежала она с радостным криком:
— Мама! Марат-ака приезжает!
И она закружилась по комнате, весело смеясь и размахивая телеграммой.
После окончания войны Марат служил некоторое время в Германии, а теперь демобилизовался.
На второй день после приезда он записался на прием в Центральном Комитете и попросил направить его работать в Шахрисябз. «Дела отца остались там незавершенными», — объяснил он. Но ему ответили, что в настоящее время он более полезен будет в Ташкенте, и предложили место заведующего отделом в горкоме партии. Сказали: «Выручайте, товарищ Саидбеков, давно ищем человека». — «Некоторое время я все-таки хочу поработать в Шахрисябзе», — настаивал Марат.
На следующий день он позвонил Дильбар.
Она, видно, узнала его голос.
— Здравствуйте, Марат-ака! — Голос девушки дрожал от волнения.
Марат явственно представил себе ее, прижавшую к уху телефонную трубку, слегка побледневшую. И губы, как у окоченевшего от холода человека, не повинуются ей. От радости или от испуга? Может, он позвонил совсем некстати? Ведь столько времени прошло…
— Как живете, Дильбархон? Что-то голос у вас другой…
— Голос у меня тот же, Марат-ака, — Дильбар тихо засмеялась и как-то мило и трогательно сказала: — Телефон плохой… Как ваше здоровье, Марат-ака?
— Спасибо, все нормально. Как идут мои разболтанные часы? По-прежнему тарахтят, как трактор?
— Хорошо идут. Я кладу их всякий раз под подушку и слышу, как трепетно они стучат. Привыкла уже… — засмеялась Дильбар.
— Знаете, Дильбархон, в ближайшие дни я буду в Шахрисябзе.
— Это прекрасно, Марат-ака. А когда?
— Это секрет.
— Почему же, Марат-ака? Мы должны подготовиться к встрече такого почетного гостя!
— Никаких встреч! Никто не должен об этом знать, слышите, Дильбархон?
— Почему?
— Хочу вас умыкнуть. Можно ли такое разглашать, скажите, пожалуйста!
Дильбар звонко рассмеялась.
— Вряд ли вам это удастся! Мы вас самого оставим тут!
— Это мы еще увидим.
— Приезжайте, Марат-ака. Только скажите: когда вас ждать?
— Скоро.
Утром Марат вылетел в Карши. Потом два часа добирался до Шахрисябза на попутной машине. Попросил водителя остановиться у знакомой калитки. К счастью, хозяйка оказалась дома. Айша-биби внимательно всматривалась в улыбающегося человека. Пришлось представиться — не узнала. Как же старушка обрадовалась! Обняла, как родного сына, прослезилась от радости и тут же засуетилась, принялась греть на очаге воду, чтобы гость умылся с дороги.
Такое прибытие Марата, сына Хумаюна Саидбекова, никем не замеченное, чрезвычайно удивило Айшу-биби.
— Сынок, почему же вы никого не оповестили? — спросила она, поливая ему на ладони из кружки.
— К чему, буви, это? В тот раз меня послали с фронта как официального гостя. И встречи, добрые слова и пожелания относились ко всем бойцам, воевавшим на фронте. А сейчас я прибыл по своим личным делам…
Айша-биби, кажется, поняла его. Во всяком случае, вопросов больше не задавала. А только подумала: «Люди, достойные истинного уважения, всегда скромны».
Когда Марат ушел, сославшись на неотложные дела и отказавшись даже от чая, Айша-биби позвала соседку, чтобы та помогла ей приготовить плов.
Дильбар как раз с кем-то разговаривала по телефону. Растерявшись, она уронила трубку.
— Пожалуйста, прошу вас. А я все звоню в аэропорт в Карши, прошу, чтобы мне сообщили, если вы прилетите.
— А я собственной персоной, — улыбнулся Марат, протягивая руку. — На денек. Завтра обратно…
Дильбар подала ему свою теплую ладонь.
— И никто не знает о вашем прибытии?
— Главное, что вы знаете. Остальным не обязательно.
— Как поживают Хамидахон-апа? Барчин? Арслан?
— Все здоровы. Надеются увидеть вас в Ташкенте.
Дильбар смущенно опустила голову.
— Ой, да что же это я? Садитесь, Марат-ака.
Они сели в кресла у журнального столика. Марат не сводил с девушки глаз. Любовался ее большими черными глазами, излучающими свет, изгибом черных бровей, тяжелыми косами, уложенными на голове вокруг вышитой бисером тюбетейки. Столько слов было им приготовлено! И все вылетели из памяти. «Почему она не смотрит на меня? Может, собирается сообщить что-нибудь неприятное? Вдруг влюбилась в кого-нибудь за это время?» Все эти мысли пронеслись в голове в одно мгновение. Сердце Марата гулко стучало.
— Я позвоню домой, — сказала Дильбар, прервав неловкое молчание, и встала. — Я приглашаю вас к нам.
— А я вас к нам.
— До вас далеко, Марат-ака, — засмеялась Дильбар.
— Я имею в виду дом Айши-биби. Я пообещал ей скоро вернуться, и она, кажется, там что-то затеяла.
Однако Дильбар уже набрала номер.
— Мама, это я. Марат-ака уже здесь… Да вот у меня, сидит напротив. Сейчас идем…
Она набрала еще один номер.
— Школа? Пожалуйста, Раззакова… Эркин-ака, это вы?.. Конечно, серьезный разговор! Товарищ Саидбеков приехал. После уроков прямо домой, хорошо? Договорились?
Дильбар открыла дверь и сделала знак рукой, пропуская Марата вперед. Проходя через приемную, она сказала девушке за пишущей машинкой:
— Если меня спросят, я дома. По неотложным вопросам пусть звонят…
Домой к Дильбар они отправились пешком. Марату было приятно ступать по земле, по которой ходил некогда отец. Марат с каким-то благоговением смотрел на эти дома, деревья, на эту улицу, словно они хранили на себе нечто такое, что остается от человека, который их видел. Чем-то родным веяло от этой земли, будто бегал по ней еще босоногим мальчишкой.
Дильбар жила недалеко, и шли они недолго. Дом уже был полон гостей. Вскоре появился Эркин. Пришли двоюродные братья Дильбар, дядюшки и тетушки. Застолье продолжалось до вечера.
Ночевать Марат отправился к Айше-биби. Старушка принялась было выговаривать ему, что поздно пришел, — он объяснил все, и она простила. «Будь счастлив, сынок!» — сказала она. Долго они сидели, разговаривали за чаем. Старушка вспоминала Хумаюна Саидбекова, как он был добр к людям.
К завтраку Дильбар принесла разные угощения.
— Это вам мама приготовила на дорогу, — смеясь, сказала Дильбар. — Я договорилась в райкоме о машине. Провожу вас и на ней же вернусь обратно.
Айша-биби подогрела оставшийся с вечера плов, и они втроем позавтракали. Старушка улыбалась, поглядывая то на Марата, то на Дильбар. Придвигала к ним касу с медом и приговаривала:
— Ешьте, детки, пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как этот мед…
Айша-биби проводила Марата и Дильбар до райкома. Пожелала ему счастливого пути, передала приветы, перечисляя всех и пожелав каждому здоровья, и заспешила обратно. Вдруг остановилась, словно вспомнила важное.
— Эй, сынок, у себя тут мы справим той по-каршински, а у вас пусть будет по-ташкентски!.. Так и скажи матери. Да привози поскорее ее и сестру.
Марат кивнул, улыбнувшись, а Дильбар покраснела и с тревогой огляделась по сторонам.
В райкоме Марат повидался с друзьями отца. Извинился, что не может погостить у них, и пообещал, что в скором времени он снова приедет в Шахрисябз. Те многозначительно посмотрели при этом на Дильбар…
Дорога была ровная, хорошо укатанная. Машина неслась, как птица. Влетающий в кабину ветерок пахнул только что скошенным сеном. Шофер Вася сосредоточенно смотрел вперед. Марат и Дильбар сидели рядом на заднем сиденье. Рука девушки покоилась в ладонях джигита. Полагая, что шофер не понимает по-узбекски, они тихо разговаривали.
— Айша-биби права, — сказал Марат, — той сыграем и здесь, и в Ташкенте.
— Хоп, Марат-ака, как вы желаете, пусть так и будет. — Дильбар наклонила голову и с грустью добавила: — Мне очень жалко расставаться с родным городом.
— Если хочешь, давай не сразу поедем в Ташкент, поживем некоторое время в Шахрисябзе.
— Правда? Это можно? — обрадовалась Дильбар. — Какой вы славный, Марат-ака! — Она сжала руки Марата своими слабыми ладошками.
— Мне этот город так же дорог, как и тот, где я родился, вырос. Здесь каждый камень напоминает мне отца…
— Вы у меня самый-самый хороший…
— Если так, позволь я тебя поцелую. — Марат обнял Дильбар за плечи, привлек к себе.
— Что вы! — испугалась девушка, стрельнув глазами в сторону шофера, и отстранилась. — Человек ведь все видит.
— Значит, все ваши слова неискренни, — обидчиво проговорил Марат, переходя на «вы», и вздохнул.
— Ну, потерпите немножко, вот выйдем из машины… — Дильбар прижалась к нему, положив голову на его плечо.
Почти у самого въезда в Карши машина завихляла из стороны в сторону. Шофер резко свернул на обочину и нажал на тормоз.
— Баллон спустил, — виновато сказал он. — Придется минут десять постоять.
Марат и Дильбар вышли из машины и медленно пошли вперед, стараясь держаться тени шелковиц, густо растущих у края дороги. Воробьи, о чем-то споря, перелетали с ветки на ветку. В пожелтевшей от жары траве стрекотали кузнечики. Где-то рокотал трактор.
Марат оглянулся. Машина стояла, слегка накренившись, Вася возился с колесом.
— Мне повезло, — сказал Марат, осторожно притянув к себе Дильбар. — Я стремился к тебе из такого далека, а ты и поцелуя не подаришь?
Дильбар зарделась и приникла к его груди лбом. Он слегка запрокинул ее лицо, нежно взяв за подбородок, и крепко поцеловал в губы.
А Вася как раз в этот момент посмотрел в их сторону. «Да, этот герой, видать, не напрасно пожаловал сюда. Как бы мы теперь не лишились своего секретаря…» — подумал он.
Марат и Дильбар пошли дальше, взявшись за руки. Через несколько минут их догнала машина.
Через месяц в Шахрисябзе состоялась свадьба. Новая семья поселилась в доме, где некогда жил Хумаюн Саидбеков. А мать Марат не отпустил после свадьбы в Ташкент. «Мы и так столько времени жили врозь, мама. Теперь ты будешь только со мной», — сказал он. И она осталась. Сын ее стал третьим секретарем Шахрисябзского райкома. И люди были довольны, что в их райкоме снова появился Саидбеков, теперь уже младший. Поначалу пристально приглядывались к Марату, все больше и больше находя в нем сходство с отцом.
Бывшего председателя райисполкома торжественно проводили на пенсию. На очередной сессии райисполкома Арслан был избран председателем.
— Во время войны не до учебы было, приходится сейчас наверстывать. Корплю над дипломной работой, государственные экзамены на носу… — начал было возражать Арслан.
Его прервали:
— Диплом — это ваша забота, а найти подходящую кандидатуру на пост председателя — наша забота. Мы все учли. Знаем, что вы загружены сверх меры. Но главное — глядите-ка, народ стремится попасть на прием именно к вам. Это уже о многом говорит, товарищ Ульмасбаев. Значит, и люди района будут удовлетворены, если вы станете одним из руководителей. А с мнением народа мы не можем не считаться.
— Знаете ли, мне трудно будет расстаться с заводом…
— Вам и не надо с заводом расставаться! Вы будете поддерживать с ним самую тесную связь! Вы послушайте, какую характеристику вам дали администрация и партийная организация Ташсельмаша.
Представитель облисполкома зачитал характеристику, обвел взглядом сидящих в зале.
— Как видите, коллектив завода будет только гордиться тем, что именно их представитель во главе района. — И, улыбнувшись, добавил: — Конечно, надо еще и постараться, чтобы они могли гордиться.
Через день Арслану в райисполком позвонил Самандаров. Он поздравил Арслана с новой должностью и сказал, что хотел бы повидать его.
— Завтра в десять я подъеду к вам, Джура-ака!
— Лучше я к вам подъеду. Вы же теперь занятой человек, минуты на счету.
— Хорошо, как вам угодно!
На следующий день ровно в десять Самандаров был в кабинете Арслана.
— От души поздравляю, укаджан, — проговорил Самандаров, похлопывая Арслана по спине. — Старики уходят, ваш черед становиться у руля.
Они сели за полированный стол друг против друга. Самандаров налил из графина воды.
— Как вы себя чувствуете, Джура-ака?
— Сейчас неплохо. Но, как ни говори, на шестой десяток пошло. Давление прыгает. Собираюсь поехать в Кисловодск, подлечиться… А у вас что нового, кроме… — Джура-ака выразительно обвел взглядом кабинет.
— Квартиру новую дали. На днях переезжаем с женой.
— А этот дом что же, пустым оставите?
— Скоро приедут Марат и Дильбар. Они ребенка ждут.
— А вы что же с Барчиной отстаете? Пора, пора уж и вам.
Арслан отвел взгляд в сторону. Воцарилось неловкое молчание. Джура-ака снова потянулся к графину.
— Я к вам, Арсланджан, вот по какому делу… Скажите, где сейчас ваш зять Кизил Махсум?
— Сестра говорила на днях, что он уехал в Бухару проведать какого-то приятеля.
— Ваш зять задержан в Бухаре с двумя чемоданами каракуля, приобретенного незаконным образом.
Арслан побледнел, нервно застучал по столу тупым концом карандаша.
— Собираетесь вступиться? — спросил Джура-ака, не отводя взгляда.
Арслан резко встал, подойдя к окну, распахнул форточку и закурил.
— Ни в коем случае! — резко сказал Арслан. — Мы неоднократно говорили с ним на эту тему. Он клялся, что никогда этим не будет заниматься. И даже устроился в махаллинский магазин сторожем.
— Для отвода глаз.
— Пусть пеняет на себя.
— Иного ответа я не ждал от вас, — сказал Самандаров, поднимаясь, и протянул руку. — Мне пора, в приемной у вас собрался народ. Так держать! — сказал он и вышел.
Новая квартира очень понравилась Барчин и Арслану. Они ходили из комнаты в комнату и мечтали, что где поставят, какая из комнат будет гостиной, какая спальней и где будет жить мама. Но Мадине-хола их апартаменты пришлись не по душе.
— Здесь у вас сандала не сделаешь, — с сожалением проговорила она, — а я привыкла зимой в сандале свои старые кости отогревать. Да и высоко очень, живи как на голубятнике. Лишний раз во двор не захочешь выйти. А мне так нравится сидеть летом на супе в тени нашей шелковицы и чай попивать…
Пожила Мадина-хола с ними недельку, да и вернулась в свой старый дом. Сюда перебралась после ареста мужа и Сабохат с сынишкой.
— У Сабохат ребенок малый, ей помощница нужна, — сказала мать. — Вот родите мне внука, и я приду к вам нянчить.
Как ни уговаривал ее Арслан остаться, не согласилась.
— В том доме я счастлива была, там состарилась, там мне и умирать, — сказала мать. — Уж, детки, не обессудьте. Живите вы по-новому, а моему сердцу наш старый дворик мил.
Арслан вызвал такси и отвез мать в махаллю дегрезов.
Обрадовались соседки возвращению подружки. До вечера в тот день Мадина-хола принимала гостей.
Глава тридцать вторая ХУДЖАХАНОВЩИНА
Тура-бува, забытый всеми, в одиночестве и бедности жил в отдаленной, глухой махалле. Однажды в субботу напротив его перекосившейся калитки остановился роскошный черный автомобиль. Растерянному старику шофер сказал, что сын его, Аббасхан Худжаханов, велел доставить отца к нему домой. Старик надел порванные калоши, латаный чапан и сел в машину.
Едва ступив во двор сына, он остановился. Глядя на резные перила и веранды, на дом, отделанный резным ганчем снаружи, открыл рот от удивления. По обе стороны дорожки из жженого кирпича цвели розы.
Невестка Латофатхон вынесла из дома стул и поставила посередине двора.
— Садитесь, атаджан! Как поживаете?
— Благодарение вам! — Старик сел и молитвенно воздел руки. — Да состариться вам вместе, да будут у вас внуки и правнуки.
— Здоровье как?
— Да, хороший дом, очень хороший, — закивал старик, не поняв ее вопроса. Он давно уже плохо слышал.
— Я спрашиваю: здоровы ли? — повысила голос Латофатхон, наклоняясь к его уху.
— Какое там здоровье, дочка! Старость… Совсем плохо слышу. Да, здоровье дороже всего, дочка, — запинаясь и шамкая беззубым ртом, проговорил Тура-бува. — А чего позвали-то?
— Той хотим устроить, атаджан.
— Той — это хорошо, да поможет вам аллах.
— Ваш той справить.
— Мо-ой? Кхе-кхе-кхе… — засмеялся старик, будто закашлялся.
Латофатхон недовольно передернула плечами и снова наклонилась к его уху, приложив к краю рта ладонь.
— Мы собираемся…
— Может, женить меня хотите? Кхе-кхе-кхе!.. — Тура-бува так смеялся, что слезы выступили на глазах.
— Собираемся отметить ваше девяностолетие.
— Мне еще нет девяноста! Мне только восемьдесят семь!
— Подумаешь, три года! Сейчас люди справляют юбилеи, не обращая на это внимания.
— Правильно, правильно, — поддержал старик, думая про себя: «За два года ни разу не навестили, даже дешевеньких кавушей не купили, теперь зачем-то понадобилась моя старость».
Взглянув в лицо Латофат, он спросил:
— Что вы затеяли? Говорите прямо, не то сейчас уйду.
Латофат засмеялась, отвела взгляд. Ее напудренное лицо с румянами на щеках обрело глупое выражение.
Тура-бува поднялся с места. Латофат вцепилась в рукав его халата.
— Вечером придет ваш сын, он объяснит все…
— В таком случае вечером пусть мой сын придет ко мне домой.
— Атаджан, не спешите! Я сейчас все объясню. — Латофат сомкнула у груди пальцы, снова разняла их, сверкая длинными перламутровыми ногтями. — Мы хотим нашему сыну сделать обрезание. А в нынешние-то времена ответственные работники, которые придерживаются подобных обрядов, в немилости. Вот ваш сын и разослал всем приглашения якобы на ваш юбилей… Сделайте благородное дело, атаджан, аллах вам воздаст.
Старик кивнул, хмуря брови: понимаю, мол. И снова сел, опершись на палку.
— А сейчас умойтесь под колонкой. Вон висит полотенце. Потом зайдите в ту маленькую комнату и переоденьтесь. — Латофат, махнув полной рукой, отчего широкий рукав шелкового халата скользнул к самому плечу, показала на времянку в углу двора. — Там я приготовила вам новый чапан, рубашку и ичиги. А это тряпье, — она брезгливо сморщила нос, — снимите с себя и бросьте в угол.
— Пророк сказал: «Дай неимущему одно — аллах вернет тебе девять». А-аминь! — Старик провел по лицу ладонями и, постукивая палкой, направился к худжре около летней кухни.
— Кроме чапана, все ваше, насовсем! — с гордостью крикнула вслед ему Латофатхон.
Старик, шагавший было с явным удовольствием, замедлил шаги, сник. Очень хотелось ему наконец надеть новую одежду. Он остановился, недоуменно посмотрел на невестку.
— Я чапан взяла напрокат, после тоя должна вернуть, — пояснила та.
Бува промолчал, только кивнул и вошел в худжру. Перед вечером пришел Аббасхан Худжаханов. Увидев отца, сидевшего разодетым во дворе, на минуту задержался возле него.
— А-а, отец! Здравствуйте. Как поживаете? — сказал он, похлопывая Тура-буву по плечу, и, не дожидаясь ответа, направился к дому.
На ступеньках, облицованных плиткой, он снял туфли и в одних носках ступил на сверкающий паркет веранды. Этот паркет, выделенный для возглавляемого им учреждения, он привез домой и выложил все комнаты. Бесшумно ступая по плюшевой дорожке, он скрылся во внутренних покоях.
Через несколько минут Аббасхан вышел, облаченный в полосатую пижаму, и пригласил отца на веранду. Велел Латофатхон принести чаю. Он подробно рассказал обо всем Тура-буве, так сказать, проинструктировал…
В воскресенье двор Аббасхана Худжаханова, где были поставлены столы, накрытые белыми скатертями, заполнили гости. На «юбилей» Тура-бувы были приглашены уважаемые люди города, занимающие высокие посты. Пришли и махаллинцы, среди которых были Нишан-ака, Хайитбай-аксакал, Чиранчик-палван, который обрюзг за последние годы, полысел, и недавно освободившийся из тюрьмы Мусават Кари.
Гости, уже опьяневшие и разомлевшие от избытка еды, не обращая внимания на старика, звонко чокались бокалами, шумно разговаривали, смеялись.
К Тура-буве, растерянно поглядывавшему по сторонам, подошел Аббасхан и тихо, чтобы никто не слышал, сказал:
— Теперь ступайте, отец, туда, к себе.
— Хорошо, сынок, хорошо, — закивал старик и, постукивая палкой, засеменил к худжре.
— Эй, Хормамат! — позвал Аббасхан одного из присутствующих джигитов. — Заварите-ка крепкого чая да отнесите имениннику.
— Будет сделано, хозяин, — ответил паренек и умчался исполнять приказание.
Латофатхон после того, как пропустила с гостями несколько рюмочек коньяку, внезапно прониклась сочувствием ж тестю, собрала со стола того-сего и занесла к старику, проведала его, наказала, чтобы не скучал.
А за столами в честь Тура-бувы, «почтеннейшего и любимого отца», произносились тосты. То один, то другой заплетающимся языком произносил его имя, предлагал выпить за его здоровье и желал долгих лет.
Старику же хотелось совсем немногого: выйти из темной худжры и посидеть вместе с людьми, послушать, о чем они говорят, и понять в меру своего разумения. Но сын и невестка дали понять, где его место, исключили такую возможность. Опасаются, что он проговорится кому-нибудь. А зачем ему говорить? Ведь той в честь обрезания внука для него такой же праздник. Что ж, пусть будет так. Лишь бы пребывала в благополучии и благоденствии их семья…
А Нишан-ака и Хайитбай в это время как раз говорили о том, что не видно почему-то юбиляра за столом. Здоров ли он?
— Позовите своего отца, пусть посидит около меня, — обратился Нишан-ака к хозяину.
— А, что вы сказали? — переспросил Аббасхан, сделав вид, что не расслышал, и хотел было пересесть на другое место.
— Зачем ты спрятал старика в худжре? — громко произнес подвыпивший Хайитбай-аксакал. — Какой же ты человек после этого?
— Сейчас позову, — недовольно сказал Аббасхан и пошел за отцом.
— У нашего почтенного Аббасхана с некоторых пор появилась привычка прикидываться глуховатым, — посмеиваясь, заметил Нишан-ака. Он рассказал Хайитбаю-аксакалу, как ловко Худжаханов вывернулся, когда его спросили в учреждении, где он тогда работал: «Почему вы попустительствовали тому, что в вашем присутствии Зиё-афанди, Баят, Мусават Кари вели враждебные нашему обществу разговоры?» Аббасхан, приставив к уху ладонь, подался вперед и говорит: «Вы погромче, не слышу. Знаете ли, в детстве я перенес грипп, который дал осложнение на уши, с тех пор стал плохо слышать». Оказывается, он абсолютно ничего не слышал из того, что говорили упомянутые личности.
Нишан-ака тоже знал про это. Он даже как-то решил его проверить. Однажды, разговаривая с Аббасханом Худжахановым на трамвайной остановке, он вынул из кармана гривенник и незаметно бросил на асфальт. Аббасхан, услышавший, как звякнула монета, тут же посмотрел под ноги, отыскивая ее вокруг себя. Но, в следующее мгновение вспомнив про свою «глухоту», снова заговорил громко и слушал собеседника, приблизив ухо.
Нишан-ака и Хайитбай-аксакал громко засмеялись. В это время к ним подошел Тура-бува. Они потеснились, предлагая старику место рядом с собой.
— Пожалуйста, отец. К го хочет иметь в старости почет и уважение, должен сам почитать стариков, — сказал Нишан-ака.
…Сославшись на интересы учреждения, Аббасхан Худжаханов устроил себе служебную командировку. Наказав сотрудникам работать с таким же рвением, как и при нем, — «чтобы не заметно было мое отсутствие», как любил он сам выражаться, — махнул в Ферганскую долину. А для сотрудников не было секретом, почему Худжаханов так часто пускался в вояж именно в ту сторону. Что ему в это время года делать в жарком, пыльном Ташкенте, когда его ожидают пир и веселье в прохладном прекрасном кишлаке, утопающем в зелени садов! Кому не любо сидеть в окружении близких душе дружков за дастарханом, уставленным яствами? Тут и казы, и коньяк, и тонко нарезанный лучок-анзури, и гранатовый сок, тут и жареная курица, и самса. Кто откажется от удовольствия снимать по кусочку с вертела шипящий шашлычок и отправлять тепленьким в рот? А жизнерадостные и словоохотливые друзья, произнося любезные твоей душе слова, умножают восторг твоего сердца! Что может быть приятнее и притягательнее этого? Молодеет душа, чувствуется, что живешь, а не существуешь, — ведь в мир-то этот мы приходим раз!
В одном из цветущих, поистине сказочно прекрасных кишлаков в окрестностях Ферганы с утра велись приготовления. Был зарезан баран, накрыт богатый дастархан и под казанами разведен огонь. Покручивая свои загнутые кверху усы, прохаживался тут председатель, отдавая распоряжения. Несколько его проворных людей, умевших доставать даже то, чего нигде нет, бегают и хлопочут, прямо из кожи лезут, только бы достойно встретить дорогого гостя. В клетках, висящих на ветвях огромного карагача над хаузом, заливаются перепелки: бит-билик, бит-билик! Словно возвещают, что из Ташкента едет сам Аббасхан Худжаханов. Артистов областного театра эстрады, спешивших куда-то с концертом, пригласили в «Бустон», и они уже восседают на сури, застланном коврами, и настраивают свои инструменты.
За час до прибытия гостя председателя колхоза поставили в известность телефонным звонком, что Худжаханов любит телятину. По его велению из коровника вывели трехмесячного теленка и полоснули ножом по горлу. Две большущие рыбины, только что выловленные в канале, были зацеплены проволокой за жабры и брошены в хауз.
Машины, посланные на вокзал, привезли наконец Худжаханова и двух его приятелей. Знатная компания, возрадовав всех, придала начавшемуся пиру очарование. Велеречивые хозяева произносили тост за тостом. Скоро опьяневший Худжаханов, то и дело похлопывая председателя по плечу, обещал ему и одно, и другое, и третье. Председатель, близкие ему люди сидели, почтительно сложив на груди руки и зачарованно глядя на расщедрившегося Худжаханова.
— Наливай! Наливай полней! — приказывал председатель развеселому джигиту, сидящему рядом. — Налей и мне! Хочу выпить с товарищем Худжахановым! Хорошо, когда есть такие благородные друзья!
— Вы самый знаменитый председатель в Ферганской долине. Мы сделаем ваш колхоз еще лучше. А ну-ка, поднимем! До дна-а! — выкрикнул довольный Худжаханов.
Все сидящие изда́ли возглас одобрения, восхитившись «содержательным тостом» почетного гостя, и опрокинули рюмки себе в рот.
— В благословенный день родила нас святая мать, — произнес захмелевший Худжаханов. — По причине сей наш почтеннейший и любимейший отец сказал о нас: «Вы во чреве матери стали хаджой, и в сем мире счастье будет сопутствовать вам!» Так оно и есть: чего хотим вкусить — перед нами, а чего не хотим — за нами. И чин у нас приличный…
Пир длился до полуночи. Затем Худжаханов и его дружки уснули на веранде, утопая в атласных одеялах.
На следующий день Худжаханов гостил в доме бригадира. Опять пир продолжался почти до рассвета. Затем гостей зазвал к себе заведующий фермой…
Утром, возвращаясь в дом председателя, Худжаханов встретил молоденькую женщину с кетменем на плече, идущую, как видно, в поле. Тонкое платье облегало ее упругое, стройное тело. Походка у нее была плавной, грациозной. Худжаханов готов был поклясться, что до этого мгновения не видел женщины красивей. Да и взгляд ее показался Худжаханову кокетливым, зовущим. Не долго думая он преградил ей дорогу, раскинув руки и расплывшись в улыбке.
— Что такой красавице делать в поле? Ну, пойдем со мной, выпьем мусалласа. Не пожалеешь… — И поклонился, чуть не коснувшись рукой земли.
Женщина, крепче взявшись за черенок кетменя, шагнула навстречу и, гневно сверкнув глазами, крикнула на всю улицу:
— Я твою пустую башку сейчас превращу в капусту!
Худжаханов попятился, возмущенный ее «невоспитанностью», и поспешил укрыться в ближайшей калитке. Вечером же, во время застолья, он наказал председателю «усилить воспитательную работу среди колхозников».
Худжаханов, намеревавшийся погулять три дня, задержался здесь на неделю — не отпускали. Через семь дней, нахохлившийся, как петух, вернулся он в Ташкент и рассказывал, как много актуальных вопросов решил там прямо на месте…
Проходили месяцы… Люди, изредка приезжавшие из колхоза, не то что испить пиалушку чая из рук Худжаханова, не могли даже попасть в его приемную. Даже сам председатель, наведавшийся раза два-три в Ташкент, так и не смог встретиться с ним.
— Пять пальцев на одной руке, и те не одинаковы. Люди всякие бывают. Не оценил нашей доброты — ему же хуже, — говорили одни.
— Мал чином или велик, всяк может быть бесчестным, — соглашались другие.
— Недаром говорят: человека видно, когда к нему в гостя придешь, — вздыхая, замечали третьи.
И настало время, когда Худжаханов, выбрав пору созревания самых лучших дынь, снова приехал в кишлак. Несколько удивленный тем, что на станции его никто не встретил, он вышел из автобуса у чайханы, расположенной на крутом берегу сая. Поставил на землю чемодан, который привозил обычно пустым, а увозил полным, и из-под руки взглянул на долину, где располагался кишлак. Но не увидел ни домов в кущах садов, ни хауза с разросшимися по его краям карагачами, ни прохладных аллей, укрытых вьющимся виноградником. Вместо всего этого он увидел ровное вспаханное поле. Поодаль люди строили новые дома. Исчезла и тополиная аллея на околице…
Решив, что вышел не на той остановке, он поднял было с земли чемодан, но к нему подошел чайханщик, стоявший до сих пор в стороне и наблюдавший за ним.
— А-а, это вы, Гулямназир-ака! — обрадовался Худжаханов. — А я уж было подумал, что в другое место попал…
— Попали вы в те же места, где бывали прежде.
— А где же хауз с карагачами? Где дома? Председатель?..
— Слава аллаху, все здоровые, но дома снесло селем.
— Зачем же вы строились в местах, подверженных селю? — сказал Худжаханов. — Что же теперь делать будете?
— Строим. Государство помогает…
— Да-а, не ведали мы об этом, — промолвил Худжаханов, стараясь не смотреть на чайханщика, который не сводил с него пронзительного взгляда.
— Не ведали — ну, мы на вас и не в обиде. Мы в обиде на другого человека, который ел за одним дастарханом с нами хлеб-соль, а когда наши дома снесло селем, не приехал, не проведал.
— Верно, хвала вам! Есть на свете такие люди! Они как бородавки на здоровом теле…
— Да, вы правы, бородавки и есть, — подтвердил чайханщик. — Сейчас автобус поедет обратно, советую вам отправляться назад… Это место называют Бустон, что означает цветник! Нет тут места таким, как вы! — Глаза чайханщика, казалось, метали искры.
Худжаханов испугался не на шутку. Завидев приближающийся автобус, схватил чемодан и заспешил к остановке, негромко бормоча:
— Бескультурные дикари! Грубияны!..
— Ах, бесчестный, ах, бесчестный, — качал головой Гулямназяр-чайханщик, глядя ему вслед.
Пожилой колхозник, сидевший на супе и наблюдавший всю эту сцену, сказал спокойно:
— Не огорчайся, приятель. Болезнь эта называется худжахановщина. Как и при всех болезнях, важно вовремя ее заметить…
Глава тридцать третья СНЕГОМ ЗАПОРОШЕННОЕ СЕРДЦЕ
Опять пришла зима. Такая же, как и множество прошлых зим, и чем-то не такая. В воздухе кружатся снежинки. По тротуарам идут прохожие, подняв воротники. Даже хлопотливых воробьев не видно — попрятались от стужи. А у Арслана на сердце тепло. Потому что по комнате, шурша легким халатиком, ходит Барчин. Потому что, проснувшись утром, он слышит ее голос: «Доброе утро». И утро действительно становится добрым, а день счастливым.
Арслан сидел перед зеркалом, намылив щеку. В окно он увидел горлинку, сидящую на перилах балкона. Птица нахохлилась, а студеный ветер взъерошивал ей перья. Грустно смотрит она на примерзшие к кормушке крошки хлеба. Арслан зашел на кухню, где Барчин готовила завтрак, отломил кусок батона и, раскрошив его в ладони, вышел на балкон.
— Оделись бы, Арслан-ака, простудитесь! — крикнула Барчин.
— Наша бедная горлинка совсем замерзла, — сказал Арслан, ссыпая крошки на деревянный поднос.
Птица, едва он скрылся за дверью, перелетела на поднос. Арслан снова подсел к зеркалу и начал бриться, искоса поглядывая на горлинку, клевавшую крошки.
— Гляди-ка, как похолодало, — сказал он.
— На то и зима, чтобы холодно было, — сказала Барчин, подойдя сзади и опустив руки ему на плечи.
— Правильно. Не будь холодов, мы не ценили бы тепла, — сказал Арслан, любуясь отражением жены в зеркале. Она уже была в платье, которое каждый день надевала на работу. Оно так шло ей! Отложив бритву, он встал, обнял Барчин, поцеловал ее в щеку.
— Вай, перестаньте, у вас же лицо в пене! — засмеялась Барчин, отбиваясь.
— Сейчас вытрусь! — Арслан схватил полотенце и провел по лицу. — Теперь можно?
— Вы же только одну сторону побрили!
— Ничего подобного. Потрогай своей ладошкой. Видишь, как гладко?
— За каждый поцелуй вы обещали подарок! — лукаво сказала Барчин.
— Куплю туристическую путевку и повезу тебя в Индию!
— Я вас так люблю, Арслан-ака!
— Я тоже люблю мою Барчин, мою единственную на свете!
Барчин отстранилась и, строго посмотрев на мужа, спросила:
— Сегодня у вас нет собрания? Не задержитесь?
— Если бы ты знала, как эти собрания надоели мне самому… Сейчас перед исполкомом две задачи: покончить с разного рода заседаниями, которые устраиваются ради «птички», и ликвидировать очереди, чтобы люди не толкались целыми днями в коридорах райисполкома, желая попасть на прием.
— Да, я знаю вас. Если уж вы за что возьметесь, то доведете до конца…
— Некоторым это, правда, может не понравиться…
— А вам очень хочется нравиться? Особенно женщинам, наверно? — пошутила Барчин.
— Ну что ты говоришь? У нас почти нет женщин.
— А Зейтуна в вашей приемной?
— Зейтуна замечательная секретарша.
— Вы ее имя так красиво произносите…
Стол уже был накрыт, Барчин пригласила мужа завтракать.
— Как бы мне не опоздать на первый урок, — сказала обеспокоенно Барчин, наливая мужу чай. — Вы меня подвезете в своей машине?
— Сегодня машина за мной не приедет, она сегодня весь день будет обслуживать детский сад номер двадцать два. Они переезжают в новое здание.
— И в прошлый раз свою машину отослали куда-то.
— Тогда попросила главный врач роддома Олия Умарова.
— Разве у них нет своих машин?
— Есть, но мало. Будь моя воля, я отобрал бы машины у многих бюрократов и передал больницам!
— Да-а, если бы вам позволили, уж вы наворочали бы дел! Потому вам и не дают таких прав!
Арслан засмеялся и встал из-за стола. У Барчин испортилось настроение. Арслан замечал, что в последнее время у нее часто ни с того, ни с сего портилось настроение. Причина, однако, была…
…Они шли под руку. Молчали. Снег поскрипывал под ногами. Легкие пушинки плавно ложились на голову, плечи. А Барчин казалось, что они припорашивают ее сердце. В ушах у нее звучал голос мужа: «детский сад», «роддом», «Олия Умарова». Она была уверена, что Арслан не случайно заговаривает об этом. Она чувствовала, как муж любит детей. Боялась, что угаснет любовь мужа к ней. Поэтому в день по многу раз заставляла его повторять, что он любит ее. И верила ему, и сомневалась.
Арслан всем сердцем привязался к маленькому Бабуру, сынишке соседки Махсудахон. Едва увидит его, лицо светится счастьем.
Он часто говорил с Барчин о своей работе, советовался с нею. Она знала, что первостепенным своим долгом муж считает помощь многодетным матерям, особенно тем, чьи мужья погибли на фронте. И когда он произносил слово «ребенок», снова боль сжимала ее сердце.
У Марата и Дильбар, поженившихся позже их, уже рос сын. Он родился в Ташкенте вскоре после того, как они переехали сюда из Шахрисябза. Мальчика в честь деда назвали Хумаюном. Хамида-апа не спускала ребенка с рук и точно бы забыла, что совсем недавно требовала у дочери родить ей внука, который может украсить ее старость. Нет, она скорее всего не забыла, а просто щадила Барчин. Знала, что ей и самой нелегко любоваться чужими детьми и не иметь своих…
— Ну, до вечера, — сказал Арслан.
Барчин, занятая невеселыми мыслями, не заметила, как они дошли до школы.
— До свидания, — сказала она, испытующе глядя на мужа. — Арслан-ака! Это правда, что вы меня очень любите?
Арслан смахнул с ее волос снежинки и прикоснулся теплыми губами к ее виску.
— Конечно. Почему ты об этом меня спрашиваешь?
— Так… — Она улыбнулась и опустила голову, чтобы он не заметил навернувшихся на глаза слез. — Приходите пораньше, — сказала она и быстро, почти бегом, зашагала к подъезду школы.
Зима в Узбекистане бывает короткой. Едва выпал снег — глядишь, он уже тает, солнышко ярко светит, и весна улыбчивая стоит на пороге.
В конце марта потоки теплых, ярких лучей непрерывно льются на землю. Арыки еще наполнены талой водой и по ночам, бывает, покрываются тонкой корочкой льда, а берега уже зазеленели. Ласточки радостно щебечут и носятся в прозрачной вышине. Букетики фиалок в руках у девушек принесли первозданный запах весны. Воробьи, благополучно пережившие зиму, резво перелетают с ветки на ветку, ликуют.
А Арслану весна вместо радости принесла огорчения. Тщательно скрывал он печаль свою, рожденную сознанием того, что детей у них, похоже, не будет. Мадина-хола где-то с кем-то поделилась болью души своей: «Если б знала, что девка эта окажется полой внутри, не позволила бы сыну взять ее в жены… Сынок мой мучается, не знает, что и делать, — вздыхая, сказала она. — Недаром говорят: бесплодная жена что чемодан без ручки — и нести неудобно, и выбросить жалко…»
Слова эти конечно же передали Барчин. С работы она не пошла домой, а направилась к матери. Едва увидела Хамиду-апа, губы ее задрожали, из глаз полились слезы. Мать выслушала, чем расстроена дочь, и посоветовала ей быть терпеливой и сдержанной.
Барчин стала задумчивой, рассеянной. Придя с работы, она, точно больная, ложилась на диван и, отвернувшись к стенке, предавалась раздумьям. Не могла она взяться за уборку, готовить еду. Она запустила дом, в ванной накопилась гора нестираного белья.
Арслана беспокоила душевная подавленность жены. Он пытался шутками отвлечь ее, рассмешить. Барчин видела старания мужа, но они казались ей искусственными. В ушах все еще звучали слова свекрови, будто не кто-то их передал ей, а сама слышала. И вздыхала. «Ведь свекровь права. Конечно же муж угнетен, что у меня все так обернулось. Только не подает виду, чтобы не обидеть. Притворяется веселым. А сам томится».
Спустя несколько дней до Барчин опять дошли разговоры, будто Мадина-хола жаловалась соседкам: «Подумайте-ка, эта женщина нажаловалась на меня моему сыну! Хочет его с родной матерью поссорить. Вместо радости один раздор принесла в нашу семью…»
Барчин так расстроилась, что у нее разболелась голова и она не смогла даже зайти на последний урок. Отпросившись у директора, ушла домой. Как только, зайдя в прихожую, закрыла за собой дверь, горло ей сдавили спазмы. Уронив книги на пол, Барчин вбежала в комнату и, рыдая, бросилась на диван. Дав волю слезам, долго лежала недвижно. Потом встала и, как человек, принявший твердое решение, села к письменному столу.
«Арслан-ака! Пусть вам не покажется мой поступок странным и поспешным. Я долго обо всем думала. Все равно это рано или поздно должно было случиться. Чем отдаляться друг от друга постепенно, каждый день, лучше порвать сразу. Я вижу, что никогда не смогу снять с вашего сердца тяжкий камень. И, значит, не смогу дать вам счастья. Моя любовь остается жить в моей душе, как сладкий сон. Будьте счастливы, Арслан-ака. Прощайте. Преданно любящая вас Б а р ч и н».
Барчин сидела несколько мгновений неподвижно. Хорошо, что она написала письмо, никогда не смогла бы она этого сказать мужу. Порывисто встала, как бы боясь, что может все еще передумать, побросала в маленький чемодан самые необходимые вещи. Остановилась перед фотографией. С нее радостно смотрели юноша и девушка. Глаза у них восторженно блестели, и видно было, как они счастливы в эту минуту. Сколько лет прошло с того дня, как они, прогуливаясь по улице Карла Маркса, решили сфотографироваться… Они еще не были женаты. И отец тогда был жив. Когда они жили в Шахрисябзе, отец случайно увидел эту фотографию. Долго разглядывал ее. Все те мгновения, пока он молчал, сердце Барчин готово было выпрыгнуть из груди. «Хороший парень, умный взгляд…» — сказал отец, возвращая фотографию. «Папа, я люблю его!» — хотелось крикнуть Барчин, но она лишь залилась краской и спрятала фотографию в альбом…
А недавно Барчин увеличила эту фотографию и повесила над диваном. Портрет напоминал ей о тех временах, когда они были счастливы…
Выйдя на лестничную площадку, тихо прикрыла дверь. Раздался щелчок английского замка, такой громкий, что Барчин вздрогнула. И ее вдруг охватило тягостное чувство, будто она совершает нечто бесчестное. Она торопливо сбежала по ступенькам.
Хамида-апа приняла бы приход дочери за обычное посещение, если бы не увидела чемодан в ее руках. И тут же отметила про себя, что давно ее сердце предчувствовало такую развязку. И внутренне себя готовила к этому. Обессиленно опустилась она на табуретку и проговорила, вздохнув:
— Напрасно ты так поступила, доченька. Он тебя обидел чем-нибудь?
— Нет. Мы не ссорились, мама. Но я же вижу… Он молчит. А я же вижу! Вижу!.. И его мать говорит, будто я сделала ее сына несчастным!..
Барчин села к столу и, обхватив голову руками, зарыдала.
— Да пусть отвалятся челюсти у твоей свекрови! — зло проворчала Хамида-апа. — А как сам Арслан? Не может разве сказать ей пару слов, чтобы не болтала своим поганым языком! Если б любил жену, смог бы защитить. Любовь его ломаного гроша не стоит. До чего довел — на себя не похожа…
— Не надо, мама, так… Арслан хороший. Он тут ни при чем. В деревянной резной колыбельке захныкал ребенок. Сын Марата. Ему уже полгодика.
— Ладно, доченька, ступай в комнату, — сказала Хамида-апа, вздохнув, и поднялась с места. — Внук мой есть захотел, а мать что-то задерживается на работе…
Дильбар работала инструктором в ЦК комсомола. Нередко приходилось ей уезжать в командировки, бывать на предприятиях, в учебных заведениях, где она неизменно задерживалась дотемна. А вечером с восторгом рассказывала о встречах с интересными людьми, восхищалась молодежью, которая ставит рекорд за рекордом на беговых дорожках стадионов, у станков, на хлопкоуборочных машинах или плавя сталь в мартеновских печах…
— А Марат-ака скоро должен прийти? — спросила Барчин. Ее беспокоило предстоящее объяснение с братом.
— В горкоме у них сегодня совещание, — сказала Хамида-апа, взяв на руки мальчика и покачивая его. — Проснулся, мой маленький. Смотри-ка, тетя твоя пришла. Скоро и мама придет, и папа…
Мальчик уставился на Барчин широко открытыми черными глазами и вдруг улыбнулся, замахал ручонками, загугукал, будто узнал ее. Барчин протянула руки, и мальчик потянулся к ней, приник к ее груди нежным, тепленьким тельцем. И Барчин охватила неизбывная нежность к этому маленькому существу.
— Вот так, подержи своего племянника, подержи, — сказала мать. — А я пока ширчай[87] приготовлю. Твой брат любит ширчай. Да столько перца добавляет, что даже у меня самой во рту жжет, когда гляжу на него.
Барчин зашла в гостиную и села на диван, оставив дверь открытой. Мать возилась на кухне у плиты и громко рассказывала о новостях. Барчин забавлялась с племянником.
— Да, вот еще что! Надо же! — воскликнула мать, словно собираясь рассказать о чем-то чрезвычайном. — К калитке неженатого джигита Васитджана кто-то подбросил запеленатого ребенка. А мать его, добрая женщина, и говорит: «Вот и хорошо, сынок, еще жены у тебя нет, а бог уже даровал мне внука!..» А людям ведь только дай языки почесать. По махалле слухи пошли: Васитджан дескать, совратил девушку, а жениться не захотел, вот она, мол, и подбросила ему его же чадо. Дело до милиции дошло. Вызвали туда Васитджана и приказывают: «Найди мать ребенка!» А он, веселый джигит, и говорит: «Коль приказываете, придется поскорее жениться, вот и будет мать у ребенка!..» Надо же, шутник какой… Эх, странная наша жизнь! — всплеснула руками Хамида-апа и вздохнула. — Кто тоскует по ребеночку, а кто бросает его на улице. Что же это за мир? Мед и яд рядом!..
Вскоре пришла Дильбар, бросилась в объятия Барчин. Видя, как та ласкает сына, не решилась взять у нее, пока Барчин сама не отдала.
— Возьми, он соскучился, — грустно сказала Барчин.
Они долго сидели, беседуя. За окном смеркалось. Хамида-апа включила свет.
— Кажется, Марат-ака пришел, — сказала Дильбар, услышав, как хлопнула калитка, и подошла к окну. — Нет, это твой муж.
Барчин, казалось, свернулась в комочек, опустила голову. В коридоре послышались шаги. В комнату вошел Арслан. Мгновенье он стоял на пороге, глядя на жену. Она не подняла головы.
— Что это за шутка, Барчин? — произнес Арслан сдавленным голосом. Он был бледен, губы его дрожали. Он хотел что-то сказать, но не мог.
Дильбар знаком показала на диван и вышла. Арслан отчего-то не решился сесть рядом, будто это была не жена, а чужая женщина. Может, все обернулось бы иначе, подойди он к ней, обними за плечи и скажи: «Ну что ты, Барчин, разве можно так? Мы же любим друг друга. Разве этого мало, чтобы быть счастливыми?..»
А Арслану даже было неловко заводить разговор о том, что между ними произошло. Ему не хотелось в это верить, казалось: если не напоминать об этом, то все забудется само по себе и они, посидев здесь, почаевничав, преспокойненько уйдут домой. А он, чтобы отвлечь Барчин от мрачных мыслей, стал рассказывать, как на заседании райисполкома настоял, чтобы на улицах Ташкента, в скверах сажались не только декоративные деревья, но и плодовые, а сегодня весь день ездил и смотрел, как озеленяется их район…
Барчин же, слушая его, все более раздражалась. «Я стала для него незначительной, как пустяковая безделушка, он даже не заметил моего ухода из дома, — думала она. — Я себя чувствую, будто отрезала кусок от своего сердца, а он о каких-то деревьях…»
И Барчин от жалости к себе неожиданно горько заплакала.
В комнате тотчас появилась Хамида-апа, прислушивавшаяся, как видно, к их разговору. Она подсела к дочери, прижала ее голову к груди.
— Оставьте уж ее в покое, не ладится ваша жизнь, — сказала она, не взглянув даже в сторону Арслана.
— Опомнитесь, Хамида-апа… Что вы такое говорите? Как же так?..
— А вот так. Каков накрытый дастархан, такова и возданная благодарность.
Вид у Арслана был потерянный. Он медленно поднялся и ушел. Хлопнула во дворе калитка. Стало тихо.
Спустя два месяца, в пору созревания черешни, из Шахрисябза приехал Эркин проведать сестру. В Ташкенте он пробыл четыре дня. Перед отъездом, улучив момент, когда Барчин была одна, зашел в ее комнату.
— Извините, что помешал, — сказал Эркин, видя, что Барчин проверяет тетради. — Я быстро уйду, у меня всего несколько слов к вам…
— Пожалуйста, — сказала Барчин и указала на стул.
Эркин сел и долго не мог начать разговор. Наконец спросил:
— Вы, наверно, догадываетесь, о чем я хочу сказать?
— Нет, Эркин-ака, я ни о чем не догадываюсь. Говорите. — Барчин положила на стол красный карандаш и внимательно посмотрела на Эркина.
— Мое отношение к вам вы знаете, — невнятно произнес Эркин, потупясь. — Я еще в Шахрисябзе сказал, что люблю вас. Я не такой бесчестный, как… Я на руках буду носить вас до конца жизни…
Барчин замерла. Вдруг она обнаружила в себе схожесть с одной знакомой женщиной, которая, изменяя мужу, старается оправдать себя, понося на чем свет стоит своего благоверного. И одному, и другому рассказывает она, за какого ничтожного человека вышла замуж. Но ведь Барчин положила голову на одну подушку с Арсланом, надеясь на счастье. И в том, что они расстались, виновата только сама.
Эркин хотел сказать еще что-то, Барчин перебила:
— Вы опять о том же… Я вас очень прошу к этому разговору никогда больше не возвращаться…
Эркин встал и, не промолвив больше ни слова, вышел.
Глава тридцать четвертая НАВЕТ
Арслан не находил себе места. Только работа на время заглушала боль. Все эти дни Арслан был поглощен райисполкомовскими делами. Нередко с собрания спешил на стройку завода, с завода в микрорайон, где возводится жилой массив. Надо еще побывать и в махаллях, поговорить с людьми. А для того, чтобы привести в порядок бумаги, оставался только вечер, и Арслан задерживался в райисполкоме дотемна. Зачем спешить домой? Никто теперь его не ждет. Несколько раз Арслан даже оставался ночевать в своем кабинете, расположившись на диване. Иногда, придя домой, даже не зажигал свет. К чему он, если в самой душе так темно, что не посветлеет, хоть зажги в ней свечку…
Иногда на совещаниях он видится с Маратом. Они сухо здороваются, просто как знакомые. Арслан избегает разговора с ним. Боится услышать упреки… А в чем он, Арслан, виноват? Он никогда и словом не упрекнул ни в чем Барчин. Мать сказала что-то? Но ведь он просил ее не вмешиваться в его личную жизнь. А мать расплакалась, попрекая сына, что Барчин ему дороже матери.
Зять, отбыв срок наказания, вернулся. Кажется, образумился. Живут с Сабохат в мире и согласии. Устроился в Союзпечать — торгует в киоске газетами, журналами. Сестра как-то заметила в шутку:
— Я говорю Махсуму-ака: «Пойдите к моему братцу, просите его — он найдет для вас место получше». А он отмахивается: мне, мол, и это место сойдет, Арсланджану не с руки такими делами заниматься…
Арслан понял намек сестры и сказал зятю, что, если нужна его помощь, пусть не стесняется, говорит, он поможет. Кизил Махсум коротко ответил:
— Рахмат, укаджан, дела мои сейчас неплохи.
Разговор зашел о Мусавате Кари. Мать, вздохнув, сочувственно заметила:
— Да, бедняга пострадал ни за что.
— Что? — удивился Арслан. — Кто это вам сказал?
— Все в нашей махалле об этом говорят. Кари-ака сам говорил. За то, что его произвели в хаджи, срок получил. Зашел бы ты, сынок, навестил старика. Несколько дней назад он, бедняга, собрал у себя махаллинцев, дальних и близких родственников, и дал в честь их угощение. И за тобой человека присылал, да я занемогла в тот день и не смогла к тебе пойти, чтобы передать приглашение. Зайди к нему, сынок, соверши богоугодное дело…
Арслан усмехнулся, подумав о том, что аферист пытается играть роль великомученика. До него несколько раз доходили подобные слухи, но он не придавал им значения. Кто-то даже сказал, что Мусават Кари собирается отомстить Нишану-ака и Баймату. «Теперь в тюрьму сядут те, кто посадил меня!» — заявил он как-то, зайдя в чайхану и усадив рядом с собой Алимухаммеда, вместе с которым сидел в тюрьме.
«Да, наверно, он недаром подружился с этим громилой Алимухаммедом, — подумал Арслан. — Мусават Кари не из тех, кто бросает слова на ветер…»
Как-то сидел Арслан в своем кабинете и с заведующим райкомхоза Абдурасуловым подсчитывал, сколько леса, цемента, извести они могут выделить семьям погибших на войне фронтовиков для ремонта домов. Зашла Зейтуна. Принесла на подпись бумаги и как бы между прочим сказала, что пришел какой-то родственник Арслана и ждет в приемной. «Что же это за родственник?» — удивился Арслан и сказал девушке-секретарю:
— Сейчас мы закончим разговор, и пусть заходит.
Зейтуна кивнула и вышла.
Через некоторое время, едва Абдурасулов, выходя, закрыл за собой дверь, на пороге появился лысый человек низенького роста, с выпученными зеленоватыми глазами.
— Ассалам алейку-у-ум! — поклонился посетитель.
— Ва-алейкум ассалам! — Арслан вышел из-за стола, поздоровался с ним за руку.
— Вы не узнаете меня? Когда-то вы называли меня не иначе, как дядей. Поздравляю вас, племянник, с высокой должностью! — сказал он, ощерив щербатый рот в улыбке и задержав руку Арслана в своей потной, липкой ладони.
— Добро пожаловать! Садитесь! Как вы себя чувствуете? Все ли здоровы у вас дома? Как поживает Атамулла?
— Слава аллаху, все здоровы, благоденствуем.
Мусават Кари сел на диван, кивая головой и приглядываясь к Арслану, надеясь заметить на его лице признаки растерянности или испуга. Тот был спокоен.
— Чем обязаны вашему приходу? — спросил Арслан, опускаясь в свое кресло и тоже внимательно всматриваясь в посетителя.
— Как говорится, если гора не идет к Магомету… Да-а, вы же теперь большой человек, руководитель. А мы — сажа на казане, о которую можно испачкаться… Где побывал я, пусть не ступит туда нога наших близких. Аминь! — Кари молитвенно провел ладонями по лицу, потом обвел взглядом кабинет. В углу стоял сейф, на стене висела карта района, на столе чернильный прибор, бумаги, папки. — И как вам удалось достичь таких степеней?.. Мы рады, очень рады за вас…
Арслан нахмурился. Его раздражала приторно-елейная ухмылка Кари, тон разговора, будто он собирался в чем-то изобличить собеседника.
— Чем могу быть полезен? — сухо спросил Арслан.
— А, вот это другой разговор! — встрепенулся Кари. — Очень даже можете быть нам полезным. Хочу попросить вас помочь мне получить пособие, как пострадавшему во времена культа личности…
— Вы отбыли совсем по другому поводу.
— По какому же? — Кари слегка наклонил голову. Глазки его стали пронизывающими и злыми.
— За спекуляцию.
— Ха-ха, любезный, в кои-то времена мы вместе торговали! Иль забыли про каракулевые шапочки?
— Кроме того, вы имели связь с нашими врагами и всемерно содействовали им.
— Вот это да! — Кари обеими руками хлопнул себя по коленям. — Вот это да-а-а! Этого не ожидал от вас… Милый друг, ведь знакомые-то у нас были общие. Вот и выходит — вы по должностным ступенькам вверх поднимались, а меня низвергли в преисподнюю.
Арслан вспылил. Вскочив с места, он швырнул на стол карандаш и принялся ходить по кабинету.
— Вы уголовник и были посажены за спекуляцию и мошенничество. Баймат изобличил вас.
— Скажите уж прямо — вор!
— И еще какой!
— Не зарывайтесь, друг, у вас тоже рыльце в пуху. Думаете, я не знаю, как ваш зять при помощи взяток освободил вас от фронта?
Арслан у окна резко обернулся. Он был бледен.
— Прошу вас, покиньте мой кабинет. И больше не приходите сюда, пока вас не пригласят.
— Что ж, мальчик, выросший на моих руках, я с вами еще поговорю, — сказал Мусават Кари, поднимаясь с места. — До свидания. Аллах милостив, обстоятельства изменятся. Чем выше сидишь, тем больнее падать… Тогда и поговорим…
Мусават Кари вышел и резко захлопнул дверь.
Домой Арслан вернулся поздно. Настроение у него было подавленное. День пролетел так быстро, что ничего путного не успел сделать. В таких случаях Арслан всегда испытывал неудовлетворенность собой. Есть не хотелось, и он лег, намереваясь утром встать пораньше. Хотя окна открыты настежь, в комнате было душно. Арслану приснился сон. Находится он будто бы на кладбище…
Полгода назад было принято постановление о благоустройстве территории городского кладбища. Выделили деньги и сразу принялись за дело. Возвели каменную изгородь, проложили аллеи, посадили цветы, построили навесы, где люди могут спрятаться от жары. А тут глядит Арслан — ничего этого нет. Кладбище — что тебе пустыня. Только на безлистых, мертвых деревьях, торчащих там-сям, сверкают глазищами совы. Вдруг неподалеку зашевелилась могила, и из нее выбрался мертвец, волоча за собой белый саван. У Арслана сердце замерло. Он хотел было убежать, но ноги не слушаются. А мертвец подошел, скрежеща зубами, схватил его за горло и начал душить. Арслан силился закричать, но голос пропал. А мертвец приговаривал: «Вот я сейчас с тобой рассчитаюсь…» И голос его был похож на голос Мусавата Кари. Лицо же, наполовину закрытое саваном, Арслан не мог разглядеть. «Кари ведь еще жив!..» — подумал Арслан, делая усилие, чтобы проснуться. Открыв глаза, Арслан обрадовался, что это был всего лишь сон. Он встал, зашел в ванную и умылся холодной водой. Вернувшись, сел на кровать и задумался. Было тихо. Улица озарена желтоватым светом электрических фонарей. Изредка, шурша шинами, проносились автомобили. Когда унялось сердцебиение, он снова лег и натянул простыню до подбородка.
Вдруг перед глазами опять предстало кладбище. Что за чудо! В этот раз он увидел не заброшенное, тоскливое место, а зеленый благоухающий сад. Под раскидистой чинарой сидели на супе дегрез Мирюсуф и Эсан-бува. Арслан обрадовался встрече с ними, заспешил в их сторону. Отец поднял руку, делая предостерегающий жест. Арслан остановился в недоумении. Эсан-бува сказал: «Знаем, дела у вас неважны, сынок. Но и нам кое-что пришлось в жизни испытать. Клевета иной раз разит наповал. Надо суметь отразить ее. Я был стар, оттого и разошелся по швам после первого же удара. А вы молоды, не дайте себя одолеть врагу…»
Арслан хотел присесть с ними рядышком на супу, но отец строго сказал: «Ступай, сынок, ступай, занимайся своими делами. Не вмешивайся в разговоры старших! А ну, кому говорят!..»
Арслан проснулся. За окном серело утро.
В воскресенье пришла мать. Она принесла айву и разложила ее — на подоконники, на шкаф, в сервант, на полки с посудой.
— Аромат от нее будет. Гляди-ка, как щедра наша осень… А в прихожей на верх вешалки она незаметно положила пучок гармолы — от сглаза. Сын, однако, заметил.
— Мама, что это вы делаете? — спросил он.
— Это гармола, сынок. Пускай лежит. Она никому не помешает, не выбрасывай. Если не хочешь, чтобы кто-нибудь увидел, заверни в газету.
— Ладно, пусть лежит, — улыбнулся Арслан, не желая обидеть мать. — Коль уж вы пришли, схожу-ка я на базар, сготовите что-нибудь вкусненькое.
— Ай, сынок, я дома уже все приготовила для плова. Пришла, чтобы тебя позвать.
— Прямо сейчас собираться?
— Конечно. У нас Кари-ака сегодня будет. Он сказал, что вы немножко повздорили. Переживает очень. Старый человек, сынок, уважь его, помирись.
Арслан помрачнел. Это, видимо, была главная причина прихода матери. Подержал в руках белую капроновую рубашку, вынутую из шифоньера, и повесил обратно.
— У меня кой-какие дела, мама, сегодня непременно надо закончить.
— Вот и заканчивай. А как закончишь, приходи.
Мать собрала грязное белье, какое нашлось в доме, постирала, повесила на балконе сушиться. Уходя, сказала:
— Ждать будем. Не подводи, сынок. А то обижусь.
Придя домой, Мадина-хола позвала Сабохат, муж которой в пятницу уехал в Шуртепа проведать родственника, и они тут же принялись готовить плов. Арслан с детства любил плов из девзиринского риса. В четыре руки быстренько накрошили морковь, нарезали мяса и луку. Затем Мадина-хола прокалила кунжутное масло в казане, отлитом еще дедом покойного мужа. Часа через два плов был готов. Накрыв казан промасленной деревянной крышкой, оставила его допревать.
Вскоре калитка звякнула цепочкой, и в ней появился Арслан и Мусават Кари одновременно.
— Салам, старушка! Как здоровье? — приветствовал Мусават Кари и шутливо добавил: — Встретил вот по дороге беглеца и привел к вам. А то, сдается мне, хотел он мимо пройти, сделав вид, что не узнал меня.
— Салам алейкум! — ответила Мадина-хола. — Не говорите так, уважаемый. Арсланджан вовсе не бегает от вас. Я ходила сегодня к нему и сказала, что вы придете. Он должен с уважением относиться к товарищам своего отца.
— Пошутил, пошутил! Ну, как поживаете? — Мусават Кари сел на супу, покрытую паласом, провел по лицу ладонями. — Слышал, что у вас астма. Но главное — сердце. Если сердце здоровое, проживете и восемьдесят, и девяносто лет.
— Пусть здравствуют молодые, — сдержанно отозвалась тетушка Мадина, не любившая напоминаний о ее болезни, — мы уж свое пожили, что положено было, отведали. Продлит аллах наши годы — поживем еще. Главное, чтобы молодежь была здоровой.
— Прошу, пожалуйста, в дом, — пригласил Арслан.
— Бисмилло, — прошептал гость, поднимаясь с места. Он, степенно ступая по ступенькам, взошел на айван, где стояла хонтахта, а вокруг расстелены цветастые курпачи.
Сабохатхон принесла на подносе румяные тандырные лепешки, сладости и чай. Тихо поздоровалась сначала с гостем, потом с братом и неслышно вышла, направляясь в летнюю кухню.
— Мудрому властелину Або Муслиму подарили коня, — начал Мусават Кари. — Властелин спросил у своих полководцев: «Для каких дел скакун предназначен?» Полководцы в один голос ответили: «Эй, властелин, на этом коне хорошо преследовать убегающего врага». Або Муслим возразил: «Нет, на этом коне хорошо убегать от плохого соседа». Слава аллаху, махалля наша дружная, нет соседа, от которого надо убегать…
Арслан понял прозрачный намек: дескать, не следует ссориться, чтобы не было разлада среди махаллинцев, не следует нарушать древний обычай, по которому сосед считается ближе родственника.
«Да, конечно, я тогда погорячился, — подумал Арслан. — Можно было обойтись без горьких, обидных слов. Ведь об одном и том же можно сказать по-разному».
— Предки наши учили: «Сделаешь соседу добро — тот отплатит добром вдвойне. А вред причинишь соседу — в доме твоем поселится зло». Один вор дал сыну украденный чапан и сказал: «Отнеси на базар и продай». По дороге у мальчика чапан украли. Мальчик вернулся домой, отец спрашивает: «Эй, сын, за сколько продал чапан?!» Сын говорит: «За сколько ты приобрел, за столько я и продал…» Вот так-то.
Сабохат принесла плов.
— Вот, значит, и мы были любимы тещей — пришли прямо на плов! — воскликнул Мусават Кари, потирая ладони. — Да будет всегда на вашем дастархане такой плов. А казы… м-м… один запах чего стоит!
— Прошу вас, угощайтесь, — сказал Арслан, придвигая блюдо гостю поближе.
— Баракалла! Жить вам до ста лет! Ох уж эти проклятые зубы! — сказал Мусават Кари и пошатал пальцем передний золотой зуб. — Хоть и сверкают, а непрочны.
— Неужто ваши зубы так рано ослабли? — спросил Арслан.
Мусават Кари изучающе посмотрел на собеседника — в словах ему почудился намек. И рассмеялся, хлопнув себя по колену.
— О-о-о-о, хвала отцу твоему! И убегающий молит бога, и догоняющий… Хи-хи-хи!..
— Вино есть. Может, выпить?
— Давай, друг, отчего же не выпить.
— А как же Магомет? Он ведь запретил?
— Мы трижды повторим «бисмилло». Давай, друг, наливай!
Арслан наполнил пиалы. Мусават Кари выпил не отрываясь и показал, что посуда пуста.
— Хвала! — усмехнулся Арслан.
Арслан отпил из пиалушки до половины и поставил ее на хонтахту.
— Слабоваты вы, укаджан, молоды еще. А мы, простой-то люд, закрываем глаза и опрокидываем. «Ради друга и яд выпей», — говорят мудрецы. Мы всегда выполняем сей совет мудрецов, хи-хи-хи!..
— Берите плов, Кари-ака, а то остынет.
— Бисмилло, — произнес гость, протянув руку к еде. — Если бы вы позвали Махсума, было бы очень хорошо.
— Наш зять уехал в Шуртепа.
— Да, действительно, мы запамятовали.
— Еще налить?
— Конечно, конечно! Лейте этот райский напиток.
Мусават Кари выпил еще пиалушку. Опьяневший, предаваясь праздной болтовне, он жевал кусочки поджаренного мяса и казы, выхватывая их жирными руками из блюда, и то и дело принимался обсасывать пальцы.
Арслан, чувствуя, что гость не прочь выпить еще, закатил пустую бутылку под хонтахту, давая понять, что «райского напитка» больше не будет.
— Что же ты, укаджан, не допиваешь свое вино?
— Выпью. Постепенно.
— Ну какой же ты джигит! Пиалушку вина растягиваешь на целый час… А мы и плов берем вот по какому комочку — с голову ребенка. Да будет от него польза нашему здоровьицу! Эй-ей, послушай-ка, укаджан… — С трудом сжевав и проглотив плов, Мусават Кари устремил выпученные зеленоватые глаза на Арслана. — Послушай-ка, Арслан, я слышал, от тебя ушла жена… Ничего, закон на твоей стороне: не родила — можешь расходиться. Уж мы-то хорошо знаем законы. За что сколько дадут, спрашивай у нас — точно скажем. Если человек не может оставить после себя росток, какой толк от его жизни! Для чего мы живем? Для детей живем. Дети — украшение жизни. Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар…[88] — Недовольный тем, что Арслан помалкивает, Кари продолжал: — Мы с твоим отцом вот так же сиживали и ели из одного блюда. Мы с твоим отцом почти с детства знали друг друга. Как братья жили. Когда ты был маленький, я тебя на руках носил. Так что ты мне, считай, родной. Так-то… Поэтому и болит у меня душа за тебя. Ты породнился с несто́ящими людьми. Облапошили они тебя. Сплавили тебе бесплодную дочурку, кою никто не брал, — только в расходы ввели…
— Ешьте! Ешьте плов! — Арслан с трудом сдерживал себя, чтобы не оборвать его и не нагрубить. Он с детства, с молоком матери, впитал в себя понятие об уважении к гостю, оскорбить которого тяжкий грех. Он мог позволить себе сказать что-нибудь резкое в кабинете, но дома…
— Если ты меня уважаешь, я сам найду тебе отменную девицу-красавицу…
— Ешьте плов, остывает!
— Хоп, едим, едим!
— У вас дома все благополучно? — спросил Арслан, чтобы переменить тему разговора.
— Все вроде бы ничего… Хочу Атамуллу женить — денег не хватает. У арабов есть притча: один человек попросил у прохожего, которого впервые встретил, денег в долг. «Я же вас не знаю!» — удивился незнакомец. «Потому и прошу, — сказал человек. — Если бы вы меня знали, ни копейки не дали бы». Вот я и ищу, у кого бы одолжить денег. Вы не дадите ли взаймы несколько рублей?
— Чтобы устроить свадьбу Атамуллы? Почему же не дать… Сколько нужно?
— Тысячу хватит. Хвала твоему отцу!
Арслан вытер руки о край дастархана и, извинившись, поднялся с места. Он прошел в комнату, где мать и сестра, как полагается по обычаю, отдельно от мужчин ели плов. Арслан сел рядом с матерью и, обняв за плечи, шепнул ей на ухо:
— Кари-ака просит денег. У меня есть немножко, добавьте шестьсот рублей из своих запасов. Я завтра сниму с книжки и принесу вам.
— Вай, сынок, я же те деньги собираю на свой смертный день!
Арслан засмеялся.
— Они вам не скоро понадобятся. Долго еще жить вам. Давайте.
Тетушка Мадина вытерла о влажное полотенце ладони, кряхтя, поднялась с места и сунула руку между одеялами, сложенными на сундуке до самого верха ниши.
— Откуда ты узнал, сынок, про мои деньги? Всего-то их чуть поболее шестисот…
Арслан положил в карман деньги и вернулся на айван.
Мусават Кари сидел, облокотившись на подушку.
— Вот и наелись, слава создателю, — сказал он. — Теперь будем пить чай, укаджан, налейте чаю.
Арслан налил в пиалу, как полагается, до половины и протянул ему. Попили чаю, беседуя о том о сем.
Кари потер жирными руками ичиги, они засверкали, будто их ваксой начистили. Потом вытер полотенцем каждый палец в отдельности и нетерпеливо спросил:
— Ну как, наскребли?
— Пожалуйста. Здесь тысяча. Пусть они пойдут впрок Атамулле.
— Хвала, укаджан! — Кари взял деньги и стал невероятно быстро перебирать их пальцами. — Есть пословица: «Сосчитай даже найденные деньги». Посчитаем же их.
Он во второй раз пересчитал деньги, пошевеливая губами. Наконец, удовлетворенный, спрятал их в нагрудный карман и застегнул пуговицу. Отхлебнув чаю, прочитал над дастарханом молитву. На айване появились тетушка Мадина и Сабохат. Выразив им свою благодарность, Кари распростился и поспешно направился к калитке. Арслан вышел было его провожать, выглянул за калитку, а того уж и след простыл. По пустынной улице лишь трусила пегая бродячая собака.
Не прошло и недели, Мусават Кари вновь появился ранним утром в приемной председателя райисполкома. Зейтуна только что пришла и, глядя в зеркальце, подводила карандашом брови. При виде неожиданно вторгшихся посетителей растерялась и сказала, что товарища Ульмасбаева еще нет.
— Ничего, мы его подождем в кабинете. Я же дядя Арсланджана, — напомнил ей Мусават Кари и, сделав своему спутнику знак, чтобы тот следовал за ним, направился к двери.
— Вы что, товарищ? — возмущенная Зейтуна заслонила собою дверь.
— Разве вам не понятно? Я его дядя! — с расстановкой произнес Кари.
— Дядей можете быть дома, а здесь вы простой посетитель! — резко оборвала его Зейтуна.
В это время в приемной появился Арслан. Он поздоровался с Зейтуной и, пригласив Мусавата Кари и его спутника, проследовал в кабинет.
Кари окинул испепеляющим взглядом девушку и шагнул в председательский кабинет, подталкивая приятеля.
Арслан, перебирая на своем столе утреннюю корреспонденцию, предложил им сесть. Мельком взглянул на незнакомца. Это был полный мужчина средних лет, с нависшими веками. Брюки заправлены в хромовые сапоги. На голове синяя бархатная тюбетейка. Видимо, чтобы показать себя культурным, надел, несмотря на жару, черный пиджак и поверх клетчатой рубашки завязал зеленый галстук.
Мусават Кари церемонно представил его:
— Талибджаном их зовут.
Интонация его была такой, будто он желал подчеркнуть: «Это и есть тот замечательный джигит, о котором я много раз вам говорил».
Арслан вопросительно посмотрел на посетителей:
— Чем обязан вашему визиту?
Те переглянулись. Потом Мусават Кари сказал:
— Освободилось место заведующего базой райпотребсоюза. Неплохо бы этого славного джигита назначить…
— Но вы не по адресу обратились, — перебил его Арслан. — Райисполком к этому не имеет отношения.
— Райисполком ко всему имеет отношение, — возразил Мусават Кари.
— Вы преувеличиваете, — засмеялся Арслан.
— Мы тоже с понятием, дорогой друг Арсланджан. Вы позвоните начальнику треста. Достаточно одного вашего звонка…
— Как же я могу рекомендовать человека, которого не знаю?
— Разве вам мало того, что я его прекрасно знаю? Приведу ли я к вам плохого человека? Э-э, племянник, надо опираться на народ, укреплять с нами связь. Вы в своих кабинетах, с утра до вечера дымя папиросами, устраиваете собрания, а я вот привожу к вам лучших сыновей нашего народа!
Арслан усмехнулся.
— Извините, не могу я этого сделать. Вы ведь сами не раз говорили: чтобы узнать человека, не один пуд соли надо с ним съесть.
Мусават Кари насупился.
— Жаль, дорогой Арсланджан. Я думал, из уважения к памяти отца… Талибджан хорошо знал вашего отца…
— Я дорожу памятью отца, потому и не могу этого сделать.
— Ну что ж! Спасибо и на этом. Пойдем, Талибджан. В нынешние времена люди перестали почитать родственников.
Сухо попрощавшись, Мусават Кари вышел из кабинета, увлекая за собой дружка-приятеля.
В конце месяца в горкоме партии состоялось заседание ответственных работников города. Во время перерыва Арслан вышел в фойе покурить и надеясь улучить удобный момент, чтобы подойти к Марату и узнать, как живет Барчин. Первое время Арслан звонил им по телефону, справлялся о здоровье, но Хамида-апа как-то намекнула, что Барчин будет гораздо спокойнее, если он не будет ей напоминать о себе.
К Арслану, широко улыбаясь, подошел начальник треста столовых и ресторанов. Они давно были знакомы, но при встречах обычно ограничивались приветствиями. А тут начальник панибратски обнял Арслана за плечи и повел к открытому окну. Принялся расспрашивать о здоровье домочадцев. Долг вежливости требовал и Арслану ответить тем же. Они стояли у окна и курили, стряхивая пепел за подоконник. Человек этот, высокий и плечистый, вызывал у Арслана симпатию. Он был остроумен, весело шутил.
— А знаете, дорогой Арслан Мирюсуфович, ваш родственник опытный работник, — как бы случайно вспомнив, заметил вдруг начальник треста.
— Какой родственник? — не сразу догадался Арслан, о ком идет речь.
— Талибджан… Недавно он пришел ко мне с вашим дядей. Представился, попросился на работу. «Как можно родственнику товарища Ульмасбаева отказать?» — сказал я ему.
Арслан, стараясь подавить в себе гнев, выбирал слова, как бы повежливее сказать начальнику треста, чтобы не обидеть ненароком, о том, что его попросту надули, что ни Талиб, ни Мусават Кари никакие ему не родственники. Но в этот момент всех пригласили на заседание, и они, поспешно загасив папиросы, направились в зал.
…Вечером, вернувшись с работы, Арслан застал у себя мать. У нее был свой ключ от квартиры. Окна и дверь на балкон были отворены. Из кухни доносился вкусный запах жареного мяса. Арслан разулся в прихожей и, надев домашние тапочки, прошел в комнату. Мать обняла его и тут же принялась выкладывать все новости, какие знала. Не переставая говорить, заспешила на кухню, чтобы помешать мясо. Арслан пошел умываться, он изрядно проголодался сегодня.
— Утречком заходил твой друг Талибджан, пусть аллах пошлет ему здоровья, проведал твою матушку. И здоровенный кусище баранины принес, одна мякоть да сало. Сказал, что никогда не забудет добра, которое ты ему сделал… Посмотри-ка, сынок, какое молоденькое, мягкое. Вот таких бы друзей побольше… Он, кажется, влиятельный человек, этот твой приятель? Сказал, что и Кари-ака взял к себе работать… «А где, спрашиваю, работаете-то?» — «А там, — говорит, — где парадные двери узки, а с черного хода просторны». И смеется. Веселый человек…
Арслан выскочил из ванной. Разгневанный, он резко сказал матери, чтобы не смела она принимать у себя в доме этого человека.
Прошло недели четыре, и история эта стала постепенно забываться. У председателя райисполкома много дел поважнее. Порой лишь, вспомнив, как Мусават Кари и его дружок Талиб надули начальника треста, Арслан внутренне усмехался, успокаивая себя тем, что начальник-то в общем доволен работой, а если люди трудятся неплохо, то какая разница, родственники они Арслану Ульмасбаеву или не родственники. Даже выглядеть будет как-то несолидно, возьми он сейчас трубку и позвони начальнику треста: слушайте, дескать, ведь те люди, которые у вас работают, никакого отношения к моему роду не имеют. «Ну и что? — спросит тот. — А вы бы хотели, чтобы я принимал людей только из вашего рода?..»
На днях Мусават Кари зашел к тетушке Мадине и, вернув долг, пригласил ее на свадьбу Атамуллы. Объяснил, что невеста — дочь ювелира Нигматуллы.
Тетушка Мадина понесла на той целое корыто самсы и отрез яркого шелка. Арслан на свадьбу не пошел, сказался больным, но зато тетушка Мадина сидела там на атласных курпачах на самом почетном месте.
Кажется, не будет конца разговорам о богатом дядюшке невесты Талибходже, у которого и миска-то для собаки золотая. Поскольку его величали не иначе, как Талибходжа, Талибхан, Талиббек, тетушка Мадина не сразу сообразила, что разговор идет о том самом Талибе, который как-то занес им мясо. С тех пор она его и не видела.
— Сперва сам устроился на базу, а потом и братьев пристроил, и племянников. Недаром говорят: свой своему поневоле друг, — сказала какая-то мудрая старушка.
— Да, как скорняк богатеет, сосед не ведает, — с иронией заметила ее соседка.
— А поглядели бы вы, сколько жемчуга да золотых украшении у его женушки! — с завистью проговорила третья.
Раздумывая над тем, что рассказала ему мать, Арслан готовился к приему посетителей. Зашла Зейтуна и доложила:
— Арслан-ака, пришел ваш дядя, говорит, что у него к вам срочное дело. Просит впустить его без очереди.
Арслан, конечно, сразу догадался, что за «дядя» к нему пожаловал. Не успел ответить, дверь отворилась, и на пороге появился сам Мусават Кари. Зейтуна тут же выскользнула из кабинета.
— Ассалам алейкум! — проговорил Мусават Кари, согнувшись в поклоне, и обеими руками потряс ладонь Арслана. Затем, не дожидаясь приглашения, сел на диван и, отметив, что в кабинете никого, кроме них, нет, молитвенно воздел руки и произнес: — Куда ступила наша нога, пусть не ступит ни одно бедствие, аллах велик!
— Слушаю вас, Кари-ака.
Мусават Кари отметил про себя, что председатель райисполкома, кажется, сегодня не в духе.
— Там, в приемной, премного людей дожидаются, поэтому не стану отнимать у вас время… Всего на минутку зашел к вам сказать, что Талибджан благодарит вас. Он очень доволен. Работает засучив рукава. Бездельником, как говорится, и бог недоволен. И я при нем тружусь, на хлеб-соль хватает. Жить-то надо… А неподалеку от нашего гузара место директора ресторана освободилось. Хорошо бы устроиться туда — к дому близко… Я человек уж не молодой, трудно мне далеко ездить. Если вас не затруднит, позвоните начальнику райпищеторга, и да удостоитесь вы новых степеней величия! Да будет вам подмогой дух вашего отца! Вы же знаете, что я честный человек — долг вон вернул вам раньше времени. Сделайте своему дяде доброе дело.
— Послушайте, Кари-ака!.. — Арслан в сердцах швырнул на стол карандаш и встал. — Давайте договоримся раз и навсегда, чтобы вы нигде не рекомендовали себя как моего родственника.
Мусават Кари хотел что-то сказать, но Арслан остановил его:
— Знаю, что хотите сказать! Я уважаю людей, знавших в свое время моего отца, считаю их близкими нашей семье. Но я не могу позволить никому извлекать из этого выгоду!
— Вы уже во второй раз невежливы с человеком, намного старше вас по возрасту. Разве отец вас не учил уважать старших?
— Отец меня учил также разбираться в людях! И знать, кого уважать, а кого нет…
— Выходит, мы недостойны уважения? — Мусават Кари встал. Его глаза превратились в щелочки. Лицо стало бледным.
— Я так не сказал, — тихо произнес Арслан и, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол.
— Что ж, мы вас поняли, — процедил сквозь зубы Мусават Кари. — Обойдемся и без вас. Мир не без добрых людей.
Он круто повернулся и, зачем-то поправляя на голове неизменную темно-зеленую тюбетейку, широкими шагами направился к выходу.
Арслан стоял и смотрел в окно. Он не обернулся, когда позади него хлопнула дверь.
Не прошло много времени, и Талиб, этот плут, за короткий срок разбогатевший пуская в ход всякие хитрости, теперь должен предстать перед судом.
Жена Мусавата Кари Мазлума-хола не сидела сложа руки. Прослышав, что в доме Талибходжи произвели обыск, она собрала два больших ящика с ценностями, скатала ковры и развезла все это по домам дальних и близких родственников. С трудом дождалась вечера, когда наконец вернулся с работы муж.
— О, мой ходжа, не грозит ли нам участь Талибхана? — спросила она, дрожа от страха. — Откуда на нашу голову напасть такая? Чем мы прогневали аллаха?
— Это все проделки того… сына дегреза Мирюсуфа. Не иначе — он позвонил куда следует. Что ж, ладно, еще пожалеет! — зло проговорил Мусават Кари, на скулах его вздулись желваки.
— А мы как же?! — воскликнула Мазлума.
— Ко мне никто не подкопается. Я не такой дурак. Советовал ему, поучал, говорил: «Будь осторожен». Не послушался. Совал в рот сразу пять пальцев, глупец! Даже ворона учит своего птенца: «Раз клюнь, три раза оглянись». А Талибходжа три раза клевал и только раз оглядывался.
Слова мужа несколько успокоили Мазлуму-хола, она с облегчением вздохнула.
Муж забросил под язык щепотку насвая и продолжал:
— Если встретишься с женой дегреза Мирюсуфа, скажи: дескать, Кари-ака очень гневаются на этого негодника Талиба, правильно сделали, что его арестовали, — проучить надо. Теперь Кари-ака, мол, беспокоится, как бы чужая грязь к нему не прилипла. Поняла? Пусть передаст эти слова своему сынку. Хотя нам бояться-то его нечего. Скорее он нас должен бояться. Мы хорошо знаем, что это за личность Арслан. Он не имеет права занимать такой высокий пост. Если он начнет и под меня подкапываться, я разоблачу его. Нам известно, как он во время войны от службы отделался… А его шурин, секретарь горкома Марат Саидбеков, сейчас как раз зуб на него имеет, того и гляди шкуру с него сдерет. Ульмасбаев, видно, и сам это чувствует. Если бы его кресло не было так шатко, не побоялся бы рекомендовать меня на хорошую работу. Похоже, он непрочно себя чувствует, жена! Поэтому, думаю, он сейчас и не пикнет. Будет себе работать спокойненько, будто ни о чем не ведая. Нынешние руководители такие — только о своем благополучии пекутся. Это, пожалуй, и к лучшему. Как говорится, нет худа без добра…
Однако прошло несколько дней, и ревизоры, представители народного контроля, пожаловали на склад, которым заведовал Мусават Кари. И Кари, как говорится, забегал, подобно курице с обожженными лапками.
Об этом Арслану подробно рассказал заведующий отделом торговли райисполкома. И спустя каких-нибудь полчаса после их разговора зазвонил телефон. Арслан снял трубку и сразу узнал голос Марата Саидбекова.
— Здравствуйте, Марат-ака, — ответил Арслан на приветствие. — Все ли дома благополучно?
— У нас-то благополучно. А вот у тебя, братец, не все благополучно, — сказал Марат и, помолчав, добавил: — До нас дошли слухи, что ты семейственность, понимаешь, развел…
— Не понимаю, Марат-ака, какую семейственность?
— Да вот рассовал по некоторым торговым точкам своих родственников, а они попадаются с поличным.
— Да нет же, Марат-ака, это недоразумение. Никаких родственников я никуда не рассовывал…
— Что ж, проверим.
В трубке послышались короткие гудки.
Арслан был ошарашен. Несколько мгновений он еще сидел неподвижно, прижимая трубку к уху. Не заметил, как в кабинет вошла Зейтуна. Положив трубку, Арслан вопросительно взглянул на нее, а в ушах все еще звучал холодный голос секретаря горкома.
— Пришел тот самый дядечка… низкого роста, — смущенно доложила Зейтуна, заметив, что ее начальник не в себе. — Говорит, что у него срочное дело…
— Мусават Кари, что ли? Зови, черт его дери!
Зейтуна, не привыкшая видеть своего начальника в таком гневе, быстро вышла из кабинета.
— Ассалам алейкум! — произнес Мусават Кари и осторожно прикрыл обе створки двери. Проворно подскочив к Арслану, пожал ему руку, которую тот протянул, не глядя на него, скорее просто из приличия. — Куда ступила наша нога, пусть не ступит туда беда!
— Ну? Что скажете? — Арслан в упор смотрел на него, с трудом сдерживая гнев.
— Как живете? Здоровы ли мать, сестры?
— Здоровы. Вашими молитвами… Выкладывайте, что привело вас ко мне.
— О, дорогой Арслан, на нашу голову напасть свалилась. В мой склад пришла комиссия… Скверно получается… — затараторил Кари, беспокойно шаря по столу глазами.
— Ну и что же, что комиссия?
— Вот это интересно! Зачем она на складе? Ей нечего там делать.
— Пусть проверяют. Если честно работали, вам нечего бояться.
— Находят… — Кари двинул головой, будто в горле у него что-то застряло. — Ревизоры, они такой народ — ничему не верят. Они придираются ко мне…
— Ступайте и не отрывайте меня от работы! — вспылил Арслан. — Вы у них сестер, что ли, украли, чтобы им к вам придираться?!
— Сейчас не время нервничать и пререкаться. Во гневе ум покидает, — спокойно сказал Мусават Кари, поразительно владевший собой. — Арсланджан, заклинаю вас, позвоните по телефону, чтобы прекратили ревизию, ушли со склада. Или пусть меня сейчас же переводят на другую базу…
— Ступайте вон! — процедил Арслан, сжимая кулаки.
— Это вы мне?
— Вам! И чтобы ноги вашей здесь больше не было!
Мусават Кари попятился к двери.
— Мы еще посмотрим! Только твоей ноги тоже здесь не будет! Выскочка! — взвизгнул он, брызжа слюной, и, видя, что Арслан вскочил, кинулся прочь.
Зейтуна вошла в кабинет.
— Что с вами, Арслан-ака? Успокойтесь! Разве можно так нервничать?
Она налила в стакан воды, дала ему напиться. Арслан поблагодарил ее, сел на место и обхватил руками голову.
— Принести вам чаю? Только что заварила, — сказала Зейтуна.
— Спасибо, не хочется. В приемной есть люди?
— Нет никого.
— Тогда, с вашего разрешения, я сейчас уйду. Голова разболелась.
— Я разрешаю, — улыбнулась Зейтуна. — Может, вам таблетку дать?
— Не надо. Если спросят — я дома. До свидания.
Придя домой, Арслан открыл сервант, взял начатую бутылку коньяку, наполнил рюмку и выпил ее. Голова была тяжелой, как от угара. После перепалки с Кари будто свинцом налилась.
Арслан лег на диван не раздеваясь. Окажись сейчас Барчин дома, забеспокоилась бы: «Вот выпейте-ка крепкого чая с медом. Может, сбегать в аптеку?..» Но тихо в доме, пусто. На подоконниках, на полках с книгами, на полированном столе слой пыли. В груди у Арслана заныло, горло будто перехватило железным обручем. Но некому пожаловаться на свою боль. И никого нет, кто бы ему посочувствовал… За окном шелестит листва деревьев, а ему кажется — это Барчин ходит по комнате, тихо ступает, чтобы не разбудить его. И он не открывает глаза, чтобы не разрушить мираж… Не заметил, как уснул. А проснувшись, решил, что уже утро. Подошел к окну. Огни ярко освещали город. Взглянул на часы — десять. Э-ге, ночь-то только начинается. Надо же, он совсем выбит из колеи! Была бы Барчин, разве такое случилось бы! Эх, Барчин, Барчин…
Арслан умылся, переоделся в пижаму. Поставил на плиту чая. Сварил пельмени, купленные еще позавчера, поел, почитал книгу. Потом быстро подошел к письменному столу и включил настольную лампу с голубым абажуром. Долго сидел неподвижно, глядя на белый лист бумаги. Потом начал быстро и нервно писать:
Да, милая, невесел соловей,
Он тоскует по тебе, прекрасной,
И, листая лепестки на розе, в ней
Читает газели о любви напрасной.
Промчится жизнь, как ветерок,
Ласки на мгновения даруя,
Нет тебя со мной. Я одинок,
Лишь во сне тебя целую…
Я добровольный пленник твой!
Глаза твои, такие колдовские,
Манят, манят повсюду за собой,
Суля блаженства неземные…
Я по тебе грущу давно,
Меня давно покинула отрада.
Твою любовь, как пролитое вино,
Мне, видно, не вернуть обратно…
Показалось, что на кухне не завинчен кран. Взглянул — и понял, что это в ушах у него шумит. Уснул не скоро. А потом снились кошмарные сны.
Утром, пошатываясь от слабости, Арслан подошел к телефону и вызвал врача. После этого медленно поднялся на четвертый этаж, к Джамшиду, полагая, что он еще не успел уйти на работу. Но жена его Махсудахон оказалась дома одна. Арслан знал, что она едва справляется с домашними делами, поэтому было неудобно просить ее об одолжении. Извинившись, он хотел было уйти, во Махсудахон сказала:
— Арслан-ака, вы неважно выглядите, не заболели ли?
— Да, плохо себя чувствую, — ответил он.
— Надо вызвать врача!
— Я уже вызвал.
— Тогда я позову вашу маму. Как же вы, больной, будете один в доме?
— Спасибо, Махсудахон, как раз об этом я и хотел вас попросить.
— Я сию минутку соберусь и поеду. А мой Бабурджан пусть у вас часок поиграет.
— Конечно, приведите его ко мне.
Врач сказала, что сильно подскочило давление и надлежит несколько дней полежать в постели. Тетушка Мадина принялась расспрашивать у нее, что ее сыну можно есть, а чего нельзя. И тут же, как только врач ушла, пошла на базар купить все необходимое.
Арслан ежедневно звонил на работу.
— Все в порядке, Арслан-ака, — неизменно отвечала Зейтуна, — не беспокойтесь.
— Никто не звонил, меня не спрашивали? — спросил как-то Арслан.
— Из горкома партии звонили, — тихо ответила Зейтуна.
— Кто?
— Товарищ Саидбеков.
— Когда это было?
— Дня три назад.
— Почему же сразу мне не сообщила? — рассердился Арслан.
— Не хотелось вас беспокоить, Арслан-ака.
— Беспокоить… Если что-нибудь важное, обязательно звони. Ясно?
— Поняла, товарищ Ульмасбаев! — отчеканила Зейтуна.
Арслан тут же набрал номер.
— Алло, Марат Хумаюнович?.. Здравствуйте, Арслан говорит.
— А-а, здравствуй! Как здоровье? Мне сказали, что ты болен.
— Сейчас лучше. Наверное, скоро выйду на работу. Вы мне звонили?
— Звонил, и вот по какому поводу, — Марат помолчал. Слышно было шуршание бумаги. — Послушай-ка, может, вернемся к этому разговору, когда ты уже выйдешь на работу?
— Нет, нет, я почти здоров. Если надо, я могу и завтра выйти.
— Тут на тебя жалобы поступили. Не одна, а несколько. Вот целых четыре письма передо мной…
— От кого? — сдавленно спросил Арслан, чувствуя, как к горлу подступает ком.
— Да вот неизвестно. Письма не подписаны.
— И что в них?
— Всякое пишут. Мы, конечно, не придаем особого значения анонимным письмам. Но когда их четыре…
— Когда собираетесь начать проверку?
— Откладывать, думаю, нет смысла…
— Я понимаю.
— Желаю скорейшего выздоровления.
— До свидания.
Глава тридцать пятая СЧАСТЬЕ
Слухи, распространявшиеся с быстротой молнии, посеяли в сердцах людей, даже хорошо его знавших, сомнения. Обо всем услышанном, возмущаясь, рассказывала Арслану мать, должно быть не ведая о том, какие муки ему доставляет и как усугубляет этим его болезнь. Худо ему сейчас, ох, как худо! Врач предложила лечь в больницу, но Арслан отказался.
А недавно позвонила Зейтуна.
— Арслан-ака, приходили свидетели, беседовали с членами комиссии.
— Кто такие? — спросил Арслан, приподнявшись в постели. Телефон мать придвинула к его кровати.
— Тот самый… ваш дядя. И тучный мужчина, который с ним приходил однажды… И еще двое…
— Кто вызвал?
— Аббасхан-ака…
Аббасхан Худжаханов с недавнего времени был назначен заместителем Арслана. Они еще не успели сработаться. Арслану было известно, за какие проделки его заместителя понизили в должности, поэтому не доверял ему. Худжаханов это чувствовал и всеми силами старался войти в доверие. Теперь же всеми райисполкомовскими делами единолично правил он. И, кажется, изрядно старался. Старался не только выполнять свои обязанности, но и, пользуясь благоприятной для него ситуацией, насколько возможно скомпрометировать председателя райисполкома Ульмасбаева, делал это, надеясь впоследствии занять его место. Арслан замечал со стороны Худжаханова неискренность, но полагал, что не надо пускать в ход шило там, где можно обойтись иголкой. А враги-то взялись за сабли.
Когда у человека настают тяжелые дни, он вспоминает друзей, успокаивает себя: если пятнадцать дней месяца темные, то пятнадцать-то светлые! Верно говорят — друзья познаются в беде. Многие еще недавно выдававшие себя за близких друзей, не переступали сейчас его порога.
Взять хотя бы родственников. О существовании многих из них до недавнего времени он даже не подозревал. На тоях и всяких торжествах они с гордостью говорили окружающим о том, что являются родичами Ульмасбаева. Молоденькие джигиты, у которых и усы-то едва-едва пробились, а иногда и седобородые старцы не раз являлись в его кабинет с просьбами, предварительно терпеливо и подробно объяснив, какими «близкими родственниками» они доводятся ему.
«Где теперь эти самые родственники? Поверили наветам врагов моих? Или хотят, чтобы я один справился с недугом и недругами — закалился в этой борьбе?.. Говорят же, что горные орлы, взлетев высоко-высоко в небо, бросают оттуда своих орлят вниз, где громоздятся остроскальные горы. Если птенцы беспомощно машут крыльями, трепыхаясь, то орлы, ринувшись камнем вниз, настигают их и ловят. Так они учат своих птенцов летать… Но я ведь уже вышел из детского возраста! Вот только не познал мудрости, как разбираться в людях.
Отец часто говаривал: «Не будь верхом колышка — будут бить по тебе, не будь и его острием — в землю вгонят». Может, прав был отец?..»
Барчин в коротком старом халатике, босиком поливала двор, черпая ладошкой воду из ведра. Забрызганные грязью ступни ног приятно холодила влажная земля. Горячий воздух был густо пропитан ароматом цветов. Над пышно расцветшими розами жужжали пчелы. На яблонях суетились воробьи, будто хотели привлечь ее внимание к уже созревшим румяным плодам, от которых гнулись ветки. Давно пора собирать яблоки и варить на зиму компот. А у Барчин все руки не доходят. Некогда. Неделю назад мать положили в больницу — радикулит обострился. Сейчас, слава богу, ей уже лучше, выходит в больничный двор, прогуливается…
Позади звякнула цепочка, и калитка без стука отворилась.
— Ой! — вскрикнула Барчин смущенно, увидев Эркина с чемоданом в руке.
Эркин поставил чемодан на цементированную дорожку, улыбнулся.
— Здравствуйте, Барчиной!..
— Здравствуйте! Заходите!
Барчин бросилась к колонке. Пустив сильную струю, подставила ноги и, не вытирая их, надела тапочки.
Приглаживая непричесанные волосы, подошла к гостю, подала руку. Эркин заметил, что она смущена, расценил это по-своему. Неожиданно притянул Барчин к себе и крепко поцеловал. Барчин с трудом высвободилась из его объятий. Отступила на несколько шагов и посмотрела в упор на Эркина не то с упреком, не то с презрением.
— Теперь я не обижусь, если и скажете: «Уходите!» — сдавленным от волнения голосом произнес он.
— Вы за этим и ехали сюда? Чтобы оскорбить меня? — еле слышно проговорила Барчин, опустив низко голову.
— Да!.. Я люблю тебя, Барчин. Мои мысли только о тебе… Жизнь меня может радовать только тогда, если ты будешь рядом со мной. Если же отвергнешь мою любовь, навсегда буду обречен на одиночество…
— Оставьте это! Я же замужем.
— Можно ли называть мужем человека, который не оценил тебя?
— Вы неправы, Эркин-ака, скорее я его не оценила.
Эркин сел на курпачу, постланную на краю веранды, открыл чемодан. Барчин скрылась в комнате.
Дильбар прислала матери письмо, в котором сообщала: «Хамидахон-апа, напереживавшись из-за дочери, слегла в больницу. По-моему, она теперь ни за что не согласится, чтобы Барчин к нему вернулась…» В тот же день Эркин сказал матери, что ему надо съездить в Ташкент — дела в Министерстве просвещения. Мать собрала чемодан подарков — и Дильбар, и зятю, и Хамидахон, и Барчин…
Всю ночь Эркин провел в поезде. Ему не спалось. Он лежал на верхней полке и думал о том, каким же он был слюнтяем, что из-под носа у него увели такую девушку… А еще бывший фронтовик! Нет, правы те, кто говорит, что женщины любят мужчин решительных. Позор ему, если он и на сей раз не подберет ключи к сердцу Барчин!
— Барчиной, выйдите сюда.
— Я ставлю вам чай! — донесся голос Барчин из кухни.
Через несколько минут Барчин появилась на веранде. На ней было свободного покроя хонатласное платье, волосы на голове аккуратно уложены. Она расстелила дастархан, поставила поднос с конфетами, варенье.
Эркин наблюдал за каждым ее движением. Барчин почувствовала это, лицо ее залила краска. Приняв это за хороший признак, Эркин взял ее за руку и попросил:
— Барчин, присядьте.
Она усмехнулась, освободила руку и направилась к калитке. Вскоре она вернулась и заварила чай. Села напротив.
— Сели бы сюда, — сказал Эркин, указав на место рядом с собой.
Барчин отрицательно покапала головой, сказала:
— Пейте чай.
— Тогда позвольте мне перебраться поближе.
В это время во двор вошла старушка и, постукивая палкой, направилась к веранде. Заметив тень, пробежавшую по лицу Эркина, Барчин улыбнулась.
— Наша соседка, — сказала она.
Старушка видела очень плохо, поднесла ладонь ко лбу и пристально посмотрела на Эркина. Усаживаясь с ним рядом, произнесла:
— Добро пожаловать, сынок. Барчиной принесла мне радостную весть — свояк, говорит, приехал… Матушка ваша здорова? Все дома пребывают в благополучии? Да дарует вам аллах здоровье, и телесное, и духовное. Рада, сынок, вас видеть…
— И вам приятной долгой жизни!
— Угощайтесь. — Старуха, как бы подавая пример, отщипнула кусочек булки, положила себе в рот и задвигала челюстями. — Надо же, сынок, как раз нету Хамидахон. Вы, наверно, ее хотели бы видеть? В больнице ее грязями лечат…
— Я слышал, что она болеет, сестра написала. Сейчас ей лучше?
— Лучше, — сказала Барчин. — Через день-два выпишется…
— Я хотел бы навестить ее. Барчиной, составьте мне компанию.
— Я утром у нее была. Я дам адрес, и вы легко ее найдете.
Барчин быстро встала, вырвала листок из тетрадки и написала адрес больницы.
— Пожалуйста, Эркин-ака.
Эркин достал из чемодана яркий шелковый платок.
— Это вам, Барчиной, от моей мамы.
— Спасибо. Я тоже непременно ей что-нибудь подарю.
Эркин встал.
— Когда мы увидимся, Барчиной? Из больницы я поеду к сестре. Посмотрю, как они устроились на новом месте.
— О, у них так здорово! — воскликнула Барчин. — Они в новом районе получили квартиру. Огромная лоджия выходит в тенистый сквер…
— Вот у них и увидимся, — сказал Эркин, направляясь к калитке. — До свидания.
Барчин пошла проводить его. Старушка семенила позади них, жалуясь на жару и на то, что сил в ее ногах уже не осталось…
На углу они остановились, до трамвайной остановки Эркин шел один. Высок и статен, в нем все еще чувствовалась военная выправка.
— Эх, пусть аллах ниспошлет молодым здоровья! — вздохнула старуха. — Нынче молодежь слабее стариков пошла. Недаром говорят: старое дерево скрипит, да не ломается. А молодые… — Старуха махнула рукой: что, дескать, и говорить. Пошла по тротуару. Барчин взяла ее под руку. — Арсланджан вон какой здоровый джигит был, а подкосила его болезнь — лежит уж сколько времени.
Барчин вздрогнула, как от удара, остановилась:
— Что вы сказали? Арслан болен?
— А ты разве не знаешь? Все ж добрые люди говорят об этом, жалеют его.
Барчин стремительно побежала к дому. Она слышала, что у Арслана неприятности на работе, но не знала, что он болен. Что с ним?
Быстро переодевшись, пошла к трамвайной остановке.
Через четверть часа Барчин была уже в своем районе. А вон и красивый пятиэтажный дом, в котором она жила совсем еще недавно. Словно на крыльях поднялась на площадку второго этажа. Остановилась, чтобы унять сердцебиение. Потом робко надавила на кнопку. Дверь отворилась, и Барчин увидела пышнотелую соседку Махсудахон. И побледнела. Смотрела на соседку широко раскрытыми от ужаса глазами.
— Что с вами, Барчиной? Заходите! — сказала Махсудахон приветливо.
Барчин отступила, намереваясь уйти. Навсегда. И постараться никогда не вспоминать ни этого дома, ни Арслана.
— Вы?.. Вы тут?.. — с трудом выговорила она, еле шевеля непослушными губами.
— А вы разве не знаете? Ведь Арслан-ака отдал нам эту квартиру, а сам перебрался в нашу.
— Вот как… — произнесла Барчин и покраснела. Ей стало стыдно за себя, за свои мысли. От сердца сразу отлегло, в ногах почувствовала слабость. Взялась за перила. — Я поднимусь к нему.
— Арслана-ака сейчас нет дома, — сказала Махсудахон. — Утром приходила девушка и тоже позвонила к нам…
— Какая девушка? — вновь насторожилась Барчин. — Наверно, Зейтуна. С его работы?
— Нет, она сказала, что с завода. И увела его с собой. Арслана-ака вызвали на завод, где он прежде работал. Посидите у нас, он, наверно, скоро вернется.
— Нет, спасибо. Я думала, он болен. Мне сказали, что он болен.
— Он очень болел, а теперь уже ходит. Но работать ему врачи еще не разрешают.
— Хорошо, что он выздоровел. Спасибо вам, Махсудахон. Только… не говорите, пожалуйста, что я была.
Барчин медленно спустилась по лестнице.
Придя домой, она швырнула на стол сумку и бросилась на кровать. В комнату неслышно вошла соседка. Предположив, что у Барчин болит голова, поставила на тумбочку около нее чай и пиалушку, однако заговорить не решилась.
Барчин спала до самого вечера. Ей приснился сон. Арслан и Зейтуна, резвясь, гонялись друг за дружкой в большом красивом саду. Они не обращали внимания на Барчин, стоявшую неподалеку, даже не глядели в ее сторону.
Барчин, застонав, как от боли, проснулась. У ее изголовья сидела старуха.
— Детка, у тебя, кажется, температура. Бредишь… — сказала она.
В этот день парторг завода Ташсельмаш несколько раз пытался дозвониться к Ульмасбаеву домой. Но из трубки неизменно доносились короткие гудки. Тогда он попросил секретаря поехать к нему и, если тот сможет, незамедлительно привезти его на завод.
Утром к нему зашли ветераны завода Нишан-ака и Матвеев. Очень удивил и огорчил парторга их рассказ о том, как недостойные личности оклеветали Ульмасбаева. И он решил не откладывая поговорить с Арсланом. Знал: Ульмасбаев расскажет все как есть, выкручиваться не станет. Если где сплоховал, возьмет вину на себя, если ошибся в чем, признается… А там коллективу судить, прав он, виноват ли…
Часа полтора спустя Арслан был в партийном комитете завода. Парторг вышел из-за стола, пожал ему руку. Сели в кресла друг против друга за журнальным столиком, закурили…
Часа два беседовали они, не вставая с места. Потом парторг проводил Арслана до литейного цеха. Шум и грохот, доносившиеся оттуда, теперь мешали разговору. Они расстались, крепко пожав друг другу руки.
Родной цех был по-прежнему наполнен гуденьем вагранок, шипеньем наливаемого в формы металла, скрежетом подъемных кранов. Тела обнаженных до пояса людей смутно вырисовывались сквозь синеватую мглу. Вдоль транспортера все так же стояли мускулистые парии, спины которых лоснились от пота, они накладывали песок в медленно проплывающие мимо железные ящики. Какой-то парень, видно, новичок, все никак не мог приноровиться: совковая лопата перекашивалась у него в руках то в одну сторону, то в другую, песок просыпался на пол. Он суетливо подскакивал к куче песка, брал на лопату, поворачивался и спешил к транспортеру. Арслан улыбнулся, глядя на него. Вспомнился ему тот день, когда сам он впервые пришел на завод… Подошел к пареньку сзади, положил руку ему на плечо. Тот обернулся, во взгляде его промелькнуло смятение: дескать, что за человек в костюме, белой сорочке да еще при галстуке объявился в литейном цехе?! Арслан взял у него лопату.
— Гляди, как надо! — сказал он погромче, чтобы тот расслышал. — Поворот на носке правой ноги и шаг левой к песку. Захватываешь песок и снова переносишь левую ногу к транспортеру, а правая на месте, понял? В баскетбол играл когда-нибудь?
Парень закивал, улыбаясь во весь рот.
— Тогда легко научиться. В баскетболе есть прием такой. Как челнок — вправо-влево, вправо-влево…
Парень кивал и продолжал улыбаться, дивясь незнакомцу, который так ловко работает. По лицу Арслана уже ручьями лил пот. Воротник рубахи взмок. Он машинально ослабил узел галстука и так увлекся работой, что не заметил, как к ним подошли люди.
— Арсланджан! Эй, Арсланджан! — услышал он позади себя голос и отдал лопату:
— На, попробуй!..
И тут же попал в объятия Шавката Нургалиева.
— А говорили, что Арслан теперь не лев[89], что силы покинули его, — смеясь, говорил Нургалиев, похлопывая бывшего коллегу по спине. — А он вон какой.
Известие о том, что председатель райисполкома Арслан Ульмасбаев пришел к ним, быстро распространилось по цеху. К Арслану подходили, здоровались за руку, справлялись о здоровье, о делах. Пользуясь случаем, высказывали и свои просьбы.
Арслан в сопровождении Нургалиева обошел цех. Много нового увидел он здесь. Вагранки были снабжены сложными приборами, и теперь расплавленный металл извлекался из них полуавтоматическим способом. Старые тали, которые при малейшей перегрузке кряхтели, будто старики, заменены новыми…
Нургалиев пригласил Арслана во двор покурить. Приятная прохлада охватила разгоряченное тело, и воздух показался таким чистым и живительным, что трудно было надышаться. Так чувствует себя путник, истомленный жаждой и едва добравшийся до ключевой воды.
Арслан отказался от предложенной Нургалиевым «Примы».
— Вы же «Беломор» курили, Шавкат-ака.
— Э-э, изменений много, как видишь. Цех перешел на высококачественные мощные печи, коллектив пополнился новыми кадрами. Ну, а я перешел на «Приму», — смеясь, сказал Нургалиев. — Послушай-ка, женушка моя Марзия и мать в обиде на тебя. Говорят: «Как стал большим человеком, забыл нас…»
— Передайте им, что я не забыл их, — улыбнулся Арслан. — Кланяйтесь. Как-нибудь выберу время и зайду.
— Слышал я о неприятностях, свалившихся на тебя, — сказал Нургалиев, стряхивая в урну пепел. — Недавно узнал о них. И обиделся на тебя. Признаюсь — подумал, что ты зазнался… Почему сразу же не пришел к нам и не рассказал обо всем? Ты же, можно сказать, испечен в печи нашего цеха, а мы только высококачественную продукцию даем. Провинился — спросим с тебя, не виноват — заступимся…
— Спасибо, Шавкат-ака. Я поначалу не придавал всяким мелочам значения. А потом заболел.
— Почему не сказал, что тебя оклеветали, когда мы заходили к тебе?.. Ладно, дело прошлое. Мы тут, несколько коммунистов, ветераны завода, решили — пойдем в горком и поговорим там.
Домой Арслан вернулся перед вечером. Махсудахон, заметив его с балкона, выбежала на лестничную площадку и, как только Арслан поднялся, выпалила:
— Арслан-ака, приходила Барчин. Я пригласила ее посидеть у нас, но она отказалась. Оказывается, она не знала, что мы поменялись квартирами…
Арслан, заметив, с какой радостью соседка сообщает ему эту новость, улыбнулся. Тревожно застучало сердце.
— Зачем приходила?
— Не знаю, ничего не сказала…
Арслан постоял мгновенье в задумчивости и снова стал подниматься по лестнице. Обернувшись, спросил:
— Как там Бабур Мирзо? Такой же резвун?
— Зашли бы проведать.
— Рахмат. Передайте привет ему и Джамшидбеку.
Арслан открыл дверь и оказался в полусумеречной тихой прихожей. Постоял, прислонясь спиной к двери. Пусто в доме. Мать, видно, опять отправилась к Сабохат, у которой разболелся ребенок. Казалось, что из комнаты сейчас выйдет, шурша халатом, Барчин, легкая, как ветерок, повиснет у него на шее и скажет: «А я заждалась…»
Арслан вздохнул и прошел в гостиную. «Зачем же она приходила?»
Арслан принял ванну, достал из шифоньера свежую сорочку. Надел другой костюм и торопливо вышел из дома.
Махсудахон, увидевшая из окна, как энергично шагает Арслан по тротуару, догадалась, что он направился к Барчин.
За окном сгущались сумерки. А Барчин продолжала лежать в кровати, уткнувшись лицом в подушку.
Пронзительно зазвонил телефон. Она вздрогнула, нехотя поднялась, сняла трубку.
— Алло! Алло! Барчин? — раздался веселый голос Дильбар.
— Да… я… — произнесла Барчин тихо, стараясь унять дрожь в голосе.
— Вас не было дома? Я три раза звонила!
— Во дворе была.
— Барчиной! Сейчас же собирайтесь и приходите к нам. Стол накрыт, ждем.
— Спасибо. Я не могу…
— Как «не могу»? Марат-ака вас просит. И Эркин-ака тут. Мы все вас просим!
— Не могу, у меня болит голова.
— Подождите, передаю трубку вашему брату, — сказала Дильбар, и в трубке послышался рокочущий голос Марата:
— Барчин, приходи к нам. Обязательно, слышишь?
— Мне нездоровится, акаджан. В другой раз…
— Могла бы уж прийти! — сказала Дильбар обиженным тоном.
Барчин осторожно положила трубку. Недвижно сидела минутку и только хотела встать, как вновь зазвонил телефон. «Ну и настырные!» — подумала Барчин, с трудом подавляя желание поднять трубку. Телефон умолк и через некоторое время вновь зазвонил. Барчин в сердцах схватила трубку.
— Я же сказала вам, что мне нездоровится!
— А что с тобой, Барчин?.. Здравствуй, — раздался мягкий голос Арслана. Барчин сразу его узнала. Она узнала бы его, даже если бы вся махалля кричала одновременно.
— Здравствуйте, Арслан-ака, — сдавленным от волнения голосом произнесла она.
— Мне сказали, что ты приходила…
Барчин долго молчала, стараясь справиться с собой, прежде чем произнесла:
— Я только сегодня узнала, что вы были больны… Что с вами?
— Гипертонический криз… Барчин, что ты сейчас делаешь?
— Ничего.
— Ты одна?
— Да.
— Я приду к тебе.
Из трубки донеслись короткие гудки. Барчин сидела некоторое время неподвижно, не в силах опустить трубку. Потом вдруг бросилась к калитке, будто Арслан давно уже стоит там и не может дождаться, когда она откроет.
Барчин сбросила с петли цепочку. Сама не знала, сколько простояла. Наконец услышала знакомые шаги. Калитка медленно отворилась, и она увидела Арслана, похудевшего после болезни, с горячими грустными глазами.
— Проходите, — сказала она, отступая с дорожки в сторонку, хотя ей хотелось броситься ему навстречу. Повернулась и направилась к дому.
Они поднялись на веранду. Сели за стол и несколько мгновений изучающе смотрели друг другу в глаза.
— Кажется, Хамида-апа нездорова?
— Она в больнице. Но ей уже лучше.
— Не страшно одной?
— Со мной ночует соседка, добрая старушка. А иногда уезжаю к Марату-ака.
Барчин держала розу и сама не замечала, что выщипывает лепестки. Арслан бережно коснулся ее руки.
— Барчин, милая, у тебя же есть свой дом… И муж, который очень, очень любит тебя.
Барчин молчала. На ресницах у нее заблестели слезы.
— Я пришел за тобой, Барчин. Хватит испытывать друг друга. Ты должна понимать…
Барчин мокрым лицом приникла к груди его и затряслась от рыданий.
— Я сама… сама во всем виновата… — с трудом выговаривала она. — Простите меня, Арслан-ака… Я такая глупая…
— Успокойся. Ну, успокойся, милая! — Он целовал ее волосы, мокрые щеки.
…Город был залит огнями. Проезжая часть улицы была вымыта поливомоечными машинами, и от нее веяло прохладой. В клумбах благоухали цветы. Откуда-то издалека, наверно из парка, доносилась музыка. Они издалека увидели свой пятиэтажный дом. Все окна в нем светились. Кроме их окна. Сейчас в их окне тоже загорится свет. Арслан и Барчин посмотрели друг на друга и улыбнулись. Видно, подумали об одном и том же.
Махсудахон стояла на балконе, любуясь вечерними огнями. Увидев Арслана и Барчин, идущих вместе, она от радости чуть не крикнула мужу: «Я те говорила тебе, что помирятся! Гляди!..» Но вместо этого потихоньку отступила назад, чтобы те ее не заметили.
Барчин, однако, ее увидела. Искоса взглянув на мужа, произнесла:
— Махсудахон очень красивая женщина, правда?
Ей показалось, что муж чуточку смутился, и, спеша прийти ему на помощь, добавила:
— Красивая… И добрая…
Они, смеясь, точно на крыльях взлетели по лестничным пролетам и остановились у собственной двери, с трудом переводя дыхание. Арслан прислушался, не идет ли кто по лестнице. Было тихо. Он крепко обнял Барчин и поцеловал, а потом уж открыл дверь.
Глава тридцать шестая ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ…
— Мы, представители народа, разоблачаем нечестных людей! Там, наверху, должны прислушиваться к гласу, доносящемуся снизу! Надо гнать двуличных из всех правительственных учреждений! — разглагольствовал Мусават Кари в чайхане, попивая чай. И те, кто его не знал или знал недостаточно хорошо, кивали ему, ибо слова истины произносил человек. — Если Арслан Ульмасбаев не будет снят с работы и его не накажут, то мы и до Москвы дойдем! Там уж правду найдем! Подадим жалобу на Саидбекова, который всячески прикрывает грехи своего родственничка. Мы народ простой, мы не можем терпеть карьеристов и взяточников.
По всему было видно, что Мусават Кари недоволен работой комиссии в райисполкоме.
— Есть на земле еще порядочные люди, которые пойдут в среду со мной в горком! — продолжал Мусават Кари, выпивая одну пиалу за другой. — Мы там выведем на чистую воду всех! Пусть знают, что солнышко ладонью не прикроешь. Правда — она все равно верх возьмет…
Встревоженная услышанным, тетушка Мадина уже в сумерках прибежала к Нишану-ака.
— Ах, чтоб пусто было этому Кари! — закричала она. — Я-то к нему как к брату относилась… Нишан-ака, родной, заступитесь за моего сына. Вы же ему вместо отца…
— В чем дело? Говори спокойно. И садись, — сказал Нишан-ака, подавая женщине пиалу с чаем.
Они сидели на сури в виноградной беседке, где ярко горела двухсотсвечовая лампочка, а вокруг нее вились ночные бабочки. Хозяйка поднялась, постелила еще одну курпачу, чтобы мягко было сидеть. Тетушка Мадина пристроилась на краешке сури и подробно изложила, что говорил сегодня в чайхане Мусават Кари.
— Зря боишься, — успокоил Нишан-ака. — Комиссия в работе Арсланджана никаких серьезных просчетов не нашла. Есть, правда, мелочи… А у кого их не бывает? Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Да нет, уважаемый, Кари сказал, что нашел каких-то свидетелей. Ведь есть еще в наше время люди, которые за копейку совесть продадут…
Нишан-ака посидел молча, как бы размышляя. Потом произнес, ни к кому не обращаясь:
— Что ж, посмотрим, ты, Кари, со своими приспешниками народ или мы народ!
Рабочие первой смены литейного цеха закончили работу. Шавкат Нургалиев их дождался у выхода. Оглядев собравшихся, он с сомнением проговорил:
— Братцы, удобно ли, если все скопом явимся в горком? Может, человек пять-шесть откомандируем?
И тут же все разом загалдели, словно стая встревоженных галок. Нельзя понять, кто что говорит. Тогда один из литейщиков поднялся на опрокинутую железную бочку и сказал громовым голосом:
— Мы должны доказать всяким паразитам, которые кусают исподтишка, что нас не пять-шесть, а много! Мы не позволим никому марать нашу рабочую честь!
— Правильно!
— Пошли!
Толпа громко спорящих между собой джигитов вышла за ворота завода. Подкатил трамвай. Рабочие, подсаживая и торопя друг друга, заполнили оба вагона.
В раскинувшемся перед зданием горкома партии скверике они увидели Нишана-ака и старика Матвеева. Здесь же сидела на скамейках люди из махалли дегрезов. Вновь прибывшие обменялись со всеми рукопожатиями. Нишан-ака сказал:
— Молодцы! Вы прибыли вовремя. Кари со своими тремя дружками полчаса назад зашел туда. Думаю, пора и нам. Сначала зайдем мы вчетвером — я, Матвеев, Хайитбай-аксакал и Нургалиев.
…Второй секретарь горкома их встретил в своем кабинете очень приветливо.
По левую сторону от его стола сидели Мусават Кари и его люди. Нишан-ака сел на один из стульев, стоявших по правую сторону.
— Я вас слушаю, — сказал второй секретарь, располагаясь в своем кресле.
Нишан-ака сказал, чем вызван их визит. Секретарь внимательно слушал. Лицо его ничего не выражало. Только когда он поднял голову, в глазах его промелькнул веселый огонек.
— Я уже имел беседу с парторгом вашего завода, с председателем месткома, так что не было необходимости беспокоиться, товарищи, — сказал он с улыбкой. И, кивнув в сторону Мусавата Кари, добавил: — Этим гражданам я тоже разъяснил, что наша комиссия во всем разобралась и указанные анонимщиками факты не подтвердились…
— Мы хотим, — произнес Нишан-ака, окинув презрительным взглядом сидящих напротив, — чтобы эти говорили, что хотят сказать, при нас! Если их десять, нас сотня наберется. Если их двадцать, нас тысяча соберется!
— Мне понятен ваш благородный порыв. Вы не хотите допустить несправедливости. Это достойно одобрения. Мы тоже давно знаем Ульмасбаева…
В это время зашел инструктор горкома партии и сказал, что перед горкомом собралось человек сто, если не больше. Секретарь, удивившись, поднялся с места, подошел к окну.
— Все ваши?
— Большинство с завода. Но есть из махалли Дегрезлик.
— Что же, сразу видно, как спаян ваш коллектив. Один за всех, все за одного, — смеясь, заметил секретарь. — Что ж, пойдемте туда. Столько людей не вместит мой кабинет.
Второй секретарь горкома партии, сопровождаемый Нишаном-ака, Матвеевым, Нургалиевым, Хайитбаем-аксакалом, вышел из кабинета, находившегося на втором этаже, и стал спускаться по широким мраморным ступеням, устланным красной плюшевой дорожкой. Мусават Кари и его дружки приотстали. На первом этаже они зашли в буфет, затем юркнули в боковую дверь и, пробежав вдоль длинной застекленной галереи, выскочили на малолюдную улочку позади горкома.
Ступив на широкую площадку с колоннами, секретарь обернулся, как бы желая удостовериться, следует ли за ним Мусават Кари со «свидетелями». Нишан-ака заметил, посмеиваясь:
— Товарищ секретарь! Не утруждайте себя, вы их не найдете! Они бежали!
— Надо было их вывести к народу! — горячился Нургалиев. — Послушали бы мы, что они скажут, глядя людям в глаза! Эх, упустили!
Второй секретарь горкома оглядел собравшихся и улыбнулся. Здесь были и молодые джигиты, и улыбчивые девушки в ярких платьях, и старцы. При его появлении все притихли, ближе подступили к ступенчатой площадке. На лицах беспокойство. Взгляды устремлены на него.
— Здравствуйте, товарищи! — сказал секретарь.
Толпа зашевелилась, будто ветер пробежал над нивой. Множество нестройных голосов ответило:
— Здравствуйте!
— Ваш приход я понимаю как проявление уважения к нашему товарищу! И как вашу озабоченность его судьбой…
— Ты прав, сынок. Потому мы и собрались!..
— Арсланджан много добрых дел сделал для района, нельзя его за это наказывать!
Секретарь поднял руку, дождался тишины.
— Комиссия горкома партии установила, что обвинения, выдвинутые против товарища Ульмасбаева, не имеют под собою почвы.
— Мы знаем, кто это сделал! — опять зашумели люди. — Мы раз и навсегда отучим заниматься такими делами!
— Товарищи! Успокойтесь! Нам тоже уже известны имена этих людей. Сегодня мы беседовали с ними. По-моему, они поняли свою ошибку. А товарищ Ульмасбаев со вчерашнего дня приступил к работе.
— Спасибо тебе, сынок, — сказали старики и провели ладонями по седым бородам.
— Не меня надо благодарить, а вас, товарищи! При такой сплоченности никогда никакой враг нас не сможет сломить!
— Баракалла! Да будет у тебя изобилие, сынок!
Люди, удовлетворенные таким исходом дела, радостно переговариваясь, стали расходиться. Секретарь и другие сотрудники горкома стояли, пока площадь не опустела.
Аббасхан Худжаханов, прознавший, что Арслан Ульмасбаев выходит на работу, раздобыл две путевки и отправился с Латофатхон в Ялту. Он знал, что в эти дни люди во всех махаллях направо и налево склоняют имя Мусавата Кари, но немало был обеспокоен и тем, что те, кто проницателен, догадываются, кто именно водил рукой этого человека. Хотя он и предусмотрел все, чтобы не за что было к нему прицепиться, однако побаивался встречи с Ульмасбаевым. Желая хотя бы немного отдалить ее, скакнул кузнечиком и очутился в Ялте.
Многие понимали, что заставило Худжаханова так срочно уехать на курорт. Они с усмешкой пожимали плечами и говорили: «Что поделаешь, худжахановщина…» Худжаханов пользовался испытанным методом: главное — пока не показываться на глаза, а там, глядишь, возмущение людей поуляжется. Этот прием уже многие годы с выгодой для себя использовал Аббасхан Худжаханов…
О Мусавате Кари всякое говорили, но видеть его никто не видел. Не показывался он ни на улице, ни в чайхане. Много высказывалось предположений. Даже были разговоры, что он занялся своими старыми делишками.
Лишь спустя несколько дней узнали, что Кари слег. Тяжкий недуг приковал его к постели. Лишился он дара речи. Лежал, вперив взгляд в потолок. Когда его посещали родственники, он пытался что-то сказать, но лишь нечленораздельное мычание слетало с его недвижных губ. Понять его было невозможно. Бедный Атамулла с ног сбился, бегая по врачам.
При встрече с махаллинцами он испытывал неловкость за отца, с опущенной головой проходил мимо. И все-таки мучила его совесть за то, что накричал он на родителя в тот день, когда тот вернулся из горкома партии. Наговорил ему дерзостей… Утром все встали, собираясь на работу, а отец остался лежать. Лежит до сих пор. Кто знает, не накричи на него тогда Атамулла, может, ничего бы и не случилось.
Спокойнее отнеслась к болезни мужа Мазлума-хола. «Все в его возрасте становятся такими, — философски рассудила она. — Рано или поздно все придем к этому…»
Пистяхон в болезни отца винила всех махаллинцев. Встречаясь с женщинами, не знала, как побольнее кольнуть, кого облить помоями. Всем она говорила, что ее отец интеллигент старой закваски, каких в наше время можно по пальцам сосчитать.
Люди знали, в каком положении находится отец ее, и проникались к ней сочувствием. Если даже не верили ее словам, все же согласно кивали головами. Не нашлось человека, который сказал бы: «Эй, девушка, твой отец был отпетым аферистом!»
Через два дня, видя, что больной тает на глазах, по настоянию матери, Атамулла все же согласился испросить у отца прощения и благословения. Он опустился на колени и склонился над больным.
— Ада, если что было между нами… — произнес он, с трудом сдерживая слезы и чувствуя, как спазмы сдавили горло. — Простите, ададжан…
По телу Мусавата Кари пробежала дрожь, но вытаращенные глаза его застыли, ничего не выражая. Он лежал, точно ничего не слыша. Тогда дядя Атамуллы написал на клочке бумаги по-арабски:
«Кариджан, дайте свое благословение. Мир этот бренен, дети ваши просят их простить».
Кари мрачно взглянул на своего брата. У того мороз по коже пробежал от этого взгляда, который, казалось, говорил: «Ах, сволочи, вы думаете, я умру! Я назло вам буду жить! Я всех вас переживу!..»
Дядя Атамуллы снова написал по-арабски:
«Кари, если вы кому-нибудь должны были, скажите. Если куда положили деньги, тоже скажите. Ведь у вас есть дети…»
Взгляд Мусавата Кари будто приклеился к записке, написанной ясно и разборчиво. На провалившихся висках у него проступил пот. Он медленно перевел взгляд на брата и еле заметно покачал головой.
— Что ж, нет так нет, — промолвил дядя Атамуллы и поднялся с места. Стоявшему рядом племяннику сказал: — Укаджан, ваши предположения не оправдались. У вашего отца нет отложенных денег. Он бы их, конечно, оставил вам…
На шестой день к полуночи Мусават Кари умер. Утром состоялся вынос его тела. По дороге похоронная процессия завернула в мечеть. Прочитали молитву и после этого отнесли его на кладбище. Перед тем как опустить его в могилу, сторож Акиф обратился к тем, кто нес на плечах гроб, с вопросом:
— Каким человеком был Мусават Кари?
Люди, согласно обычаю, ответили:
— Хорошим человеком был…
— Да будет ему пухом земля…
Эй, великодушный народ, перед твоим благородством я преклоняю колени и припадаю к ногам твоим челом! Даже этого человека вы не осудили в последний миг конечного пути!
…В начале весны Атамулла и его дядя, решив произвести небольшой ремонт дома, штукатурили комнату. Атамулла в уголке ниши, заставленной посудой, случайно заметил щербинку, где отвалился кусочек штукатурки. Поскоблил его мастерком, чтобы получше замазать. Под глиной обнаружилась фанера, едва державшаяся в стене. Удивившись, зачем она тут, он отодрал ее и увидел отверстие, из которого торчало голенище сапога, набитого тряпьем. Придя в еще большее замешательство, он вытащил сапог, показавшийся ему довольно тяжелым, и вытряхнул содержимое на пол. К ногам с глухим стуком упали нити жемчуга, кулоны и медальоны с драгоценными камнями, со звоном покатились по полу кольца, браслеты… Атамулла так и застыл с сапогом в руке.
Дядя опрокинул ведро с глиной на палас. Побледнев, стоял минуту молча. Потом гневно сказал:
— Эх, человек, столько у тебя было добра, а ты скрывал! Даже на похороны свои не оставил ни копейки…
Они не слышали, когда в комнату вошла Мазлума-хола. Заметили ее, лишь услышав причитания, прерываемые всхлипываниями:
— Сколько лет я прожила в этом доме, все время руки мои были кочергой, а волосы веником!.. Ни разу не сказал мне: «Вот, купил тебе платье…»
Глава тридцать седьмая А МИР ВСЕ-ТАКИ СОВЕРШЕНЕН
Пришла весна. Природа вновь помолодела. Оголившиеся к зиме деревья, похожие на черных согбенных старух, вновь надели легкий ярко-зеленый наряд. А у ног их волшебница весна расстелила изумрудный ковер. Скворцы и воробьи порхают по веткам, радостно поют, щебечут, и мнится, будто это не простые пернатые, а птицы счастья, опустившиеся на плечи невест… Говорят, деревья стареют. Разве могут они стареть, когда весна каждый год им возвращает молодость?
Приятно из дому выйти поутру, когда прохладный ветерок еще не умчался невесть куда, прячась от раскаленного солнца, и идти на работу пешком. Зелень влажна от выпавшей ночью росы. И цветы на клумбах в эту пору пахнут особенно сильно. Вымытый асфальт на проезжей части улиц постепенно просыхает, и над ним курится парок…
Зейтуна уже сидела в приемной и, глядясь в маленькое зеркальце, поправляла прическу. При появлении председателя она поспешно убрала все со стола и встала. Арслан пожал ей руку, справился о настроении и проследовал в кабинет. Зейтуна занесла газеты, письма и удалилась.
Перебирая бумаги, Арслан увидел конверт со штампом ЦК КП Узбекистана. Быстро вскрыл его. Письмо было от заведующего отделом строительства. Он уведомлял, что бюро ЦК приняло решение возложить на Арслана Ульмасбаева полномочия парторга на строительстве крупного цинкового завода в Алмалыке и просит его согласия. Арслан несколько раз перечитал письмо. Это было для него неожиданностью. Трудно сразу принять решение. Теперь он должен думать не только о себе, но и о Барчин, о Раано — о дочурке, которой недавно исполнилось восемь месяцев. Они взяли девочку из дома ребенка, но кто об этом не знает, не скажет, что это не их ребенок. У нее крупные черные, как маслины, глаза, слегка вздернутый носик — точь-в-точь как у Барчин. А брови, сросшиеся на переносице, что считается признаком счастья, как у отца. Арслан теперь, где бы ни был, всегда спешил домой, к своей дочурке. И как только открывается дверь, в комнате уже слышится звонкий голосок Раано:
— Па-а… Па-а…
— Да, доченька, папа пришел, — ласково говорит ей Барчин.
Неведомо, сколько Арслан просидел, задумавшись. К действительности его возвратила Зейтуна. Она открыла дверь и сказала:
— Арслан-ака, люди ждут приема. Можно входить?
— Пожалуйста. Просите…
Первой зашла старушка. Села, положив натруженные руки на колени. Арслан Ульмасбаев выслушал ее, внимательно прочитал заявление. Наложив визу, вызвал заведующего отделом.
— Товарищ Абдурахимов, эта женщина мать погибшего на войне Наркузи Файзуллаева. У нее протекает крыша. Надо произвести ремонт. Сколько времени вам потребуется на это?
Абдурахимов помолчал, размышляя, и ответил:
— Через месяц сможем приступить.
— А на ремонт сколько дней? — спросил Арслан, и заведующий заметил в его взгляде насмешку.
— Столько же и на ремонт, наверно. Месяц…
— Арслан, сынок, я уже дважды была у этого джигита, — вмешалась в разговор старушка. — Он оба раза посылал меня к Худжаханову. В первый-то раз я так и не дождалась, когда Худжаханов меня примет. А во второй раз он мне сказал: «Не приходите, мать, сюда с такими пустяками. У нас авторитетное государственное учреждение, мы занимаемся делами поважнее». Я и не ходила с осени. Всю зиму просидела не под крышей, а, считай, под решетом. А недавно мне посоветовали: «Зайди-ка ты к самому председателю». Вот и пришла я к тебе, сынок.
Арслан слушал ее не перебивая. И как только она умолкла, приказал Абдурахимову:
— Завтра же пошлите комиссию осмотреть дом. А через десять дней чтоб ремонт был закончен. — Он полистал настольный календарь и сделал запись на одном из листков. — О завершении ремонта известите меня.
— Хорошо, — согласился Абдурахимов, прикладывая руку к груди. — Разрешите идти?
— Пожалуйста. — И обратился к старушке: — Все, хола, завтра к вам придут мастера.
— Да будет у вас изобилие! — заприговаривала старушка, поднявшись с места и направляясь к двери.
Прием длился до полудня. Зейтуна по лицам выходивших из кабинета людей легко определяла, удовлетворена их просьба или нет. Когда приемная опустела, она занесла Арслану чайник крепкого зеленого чая и попросила разрешения уйти на обед.
Оставшись один, Арслан вновь задумался о сделанном ему предложении. «Надо вечером заехать к Нишану-ака, посоветоваться», — подумал он. И после некоторого колебания набрал номер Марата.
— Саидбеков слушает, — раздался знакомый голос.
— Марат-ака, здравствуйте. Я хотел посоветоваться…
— А-а, догадываюсь о чем. О новом назначении?
— Да.
— Что тебя беспокоит? Не хочется на периферию?
— Дело не в этом… Как Барчин к этому отнесется?
— Во-первых, препятствовать тебе она не станет. Свою сестру я хорошо знаю… А во-вторых, к лицу ли нам, коммунистам, колебаться, если партия считает, что так нужно?
— Вы вопрос ставите ребром, Марат-ака…
— Иначе нам нельзя, укаджан. Выбор пал на тебя не случайно. Решили, что ты, сам рабочий, хорошо знаешь душу рабочего человека. В Алмалыке закладывается серьезное строительство. Нужен хороший организатор.
— Я понял, Марат-ака.
— Вот и хорошо, укаджан. Приходите вечером с Барчин. Обсудим.
Арслан выпил чаю. Было обеденное время, но есть не хотелось. В такую жару только бы пить и пить. Зейтуна скоро вернется, и можно будет ее попросить заварить еще чайник чаю. А вечером Барчин приготовит что-нибудь вкусное. Когда жара спадет, можно и поесть!
Арслан взглянул на часы. Барчин, должно быть, уже вернулась из школы. Она приходит рано, чтобы освободить мать от забот. В первой половине дня, когда Арслан и Барчин на работе, с Раано сидят то Хамида-апа, то тетушка Мадина.
Арслан позвонил домой. Попросил Барчин приготовить к вечеру чучвару. Она обещала исполнить его просьбу. И поднесла трубку к дочурке, предупредив: «Арслан-ака, Раано хочет вам что-то сказать!..» Арслан улыбнулся, услышав нежный певучий голосок: «Ум-ба-а-а… Па-а… па-а-а…»
Барчин засмеялась, и опять зазвучал ее голос:
— Дочка просит вас не задерживаться. Мы скучаем…
Пришлось рассказать о письме, присланном из ЦК. Барчин молчала. Арслан встревожился и все больше и больше нервничал. Он более всего опасался, что очень огорчит этим известием Барчин.
— Когда придете, поговорим, — произнесла Барчин изменившимся, как показалось Арслану, голосом.
— Мне утром надо сообщить в ЦК о принятом решении, — сказал он. — Для раздумий времени в обрез — до вечера.
— Хорошо. Мы с дочкой тут подумаем, — сказала Барчин и засмеялась.
…Перед вечером приплыли откуда-то тучи, обложили небо. Быстро сгустились сумерки. Пошел дождь.
Барчин приготовила чучвару и ждала прихода Арслана, чтобы опустить в кастрюлю. Раано сидела в деревянной детской кроватке с перильцами и сосредоточенно играла с игрушками, то и дело поднося каждую ко рту. Барчин подошла к раскрытому окну. На нее пахнуло прохладным, влажным ветром. Шумел дождь. Благодатный дождь! Он смывал пыль с деревьев, с цветов, с тротуара и проезжей части дороги, как зеркало отражающей желтые и красные огоньки проносящихся по ней машин. Казалось, он умывает лицо земли, чтобы не осталось на нем нигде грязного пятнышка. И Барчин вдруг захотелось выскочить во двор босой, в ситцевом платьице и петь: «Дождик, дождик, посильней!..» Она протянула в окно руки, оголенные до локтей, и держала их под упругими струями.
Дождь прекратился так же неожиданно, как начался. И было слышно, как падают, позванивая, с веток деревьев и стрех тяжелые капли.
В наружной двери заворочался ключ. Барчин бросилась в прихожую. Раано, оставив игрушки, ухватилась за перильца кроватки, подпрыгивая, громко крикнула:
— Па-па-а!..
Арслан был мокрый с головы до ног, с него стекала вода, расплываясь по полу темным пятном. Барчин бросилась ему на шею, приникла к груди. И тут же метнулась к шифоньеру, чтобы достать сухую одежду.
Когда Арслан, приняв душ и переодевшись, вышел из ванной, жена стояла посредине комнаты с дочкой на руках. Девочка, увидев отца, протянула к нему ручонки. Лицо Барчин, прижавшейся щекой к головке ребенка, было одухотворенно и прекрасно.
— Что вы так смотрите на меня? — спросила Барчин.
Она подошла к зеркалу, стала обеспокоенно рассматривать себя. Арслан обнял ее за плечи, любуясь отражением жены и дочери.
— Ты помнишь «Сикстинскую мадонну» Рафаэля? Не с тебя ли он писал свою картину?
Барчин улыбнулась и кокетливо повела бровями.
— А вы еще не разучились делать комплименты, — сказала она, передавая мужу ребенка.
И вдруг взгляд ее сделался строгим. Она увидела у него седой волос и вырвала его.
— Еще один…
— Стареем, Барчиной, — невесело улыбнулся Арслан. — И если ты намерена вырывать все мои седые волосы, то вскоре оставишь меня лысым.
Барчин рассмеялась.
— Ну, ты подумала? — спросил Арслан.
Лицо Барчин стало серьезным, она опустила голову.
— Подумала.
— Что решила?
Жена молчала. И, чтобы вывести ее из неловкого положения, Арслан сказал:
— Алмалык недалеко, правда, но там не будет таких условий, как здесь. Наверно, и жильем не сразу обеспечат. Ты можешь остаться с ребенком в Ташкенте. Я уж как-нибудь… Подумай.
— Подумала.
— Ну, так говори.
— Что еще скажете?
— Я там не буду сидеть в чистеньком кресле. День-деньской буду пропадать на стройке, в кирзовых сапогах месить грязь по дорогам. Ты подумай.
— Подумала.
— Говори.
— Скажите еще что-нибудь…
— Трудности, конечно, временные. На всех стройках в начале бывают условия тяжелые. Мужчинам это не так заметно. Но для женщин, к тому же еще с ребенком… Будем жить в бараке. А вокруг степь, на несколько километров ни жилья. Представь себе все это. Словом, подумай.
— Подумала.
— Ну?
— Моя мама всюду следовала за моим отцом-непоседой. Я же ее дочь! Не хочу разлучаться с вами ни на один день, ни на час, ни на минуту! Куда вы, туда и мы с дочкой. Верно, доченька?
Девочка загугукала, пуская пузыри, и обняла отца за шею ручонками.
Арслан подхватил на руки Барчин и закружил по комнате жену и дочь.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ