ГОРОД
РОМАН

Перевод Вадима ВЛАСОВА
ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ
До Города было уже совсем близко. Поезд, как добрый конь, что, возвращаясь домой, чует знакомый запах родного жилья, галопировал, отсчитывая частым постукиванием последние километры пути.
Пассажиры зашевелились, поснимали с полок чемоданы, узлы: возле окон, в купе и коридоре терпеливо ждали последней остановки.
Нестор набил трубку, раскурил и открыл дверь купе.
В коридоре было полно людей и накурено, пассажиры столпились возле обоих выходов, лишь посредине, за откидным столиком, неподвижные, словно маршрут этого поезда заканчивался не в Городе, а где-нибудь у самой границы, сидели двое молодых людей, играя в шахматы.
Пышночубый, с первыми серебряными нитями в волнистых волосах, отчаянно защищал ферзем короля, отступал; его атаковал конем, турой и пешкой мужчина с красивым тюркского типа лицом. Партия подходила к концу — азарт игроков был вполне естественным, но все-таки равнодушие шахматистов к дорожной суете отдавало определенной нарочитостью: так ведут себя люди, большую часть своей жизни проводящие в командировках.
Нестор наблюдал за игрой. Положение пышночубого было критическим, однако еще не безнадежным, но вот он совсем без необходимости, не думая, отвел короля в сторону и потерял ферзя. Поднял голову и произнес, вздохнув:
— Сдаюсь.
— Всемилостивый аллах свидетель, что я не хотел причинить тебе неприятности, — сказал с ощутимым восточным акцентом противник. — Я не знаю, о чем ты думал сейчас, но, во всяком случае, не об этой партии. Такие необдуманные ходы, такая детская порывистость и пас… Вай-вай, да ты холерик, а холерики всегда проигрывают… Разве можно так по-глупому терять королеву?
— Нельзя, нет… Так легко, как я ее потерял, — нельзя.
— Ты снова о своем… Так зачем садиться за шахматы, если думаешь бог знает о чем?
— Каждый играет свою партию, старик. Каждый делает свой первый ход с твердой верой в победу: защита, маневры — все продумано, но бывает, что неожиданно складывается для тебя такое положение, что выйти из него уцелевшим невозможно, и тебе ставят мат.
— Тогда надо начинать вторую партию, третью, четвертую, ибо зачем у человека голова, зачем у человека сердце?
— Ах, каким отважным стал мой бухарец, с тех пор как женился на своей неземной Юлдуз! Умнее Насреддина и самого Авиценны… Юлдуз — сахар, рахат-лукум, шербет, сахарин! Скажи мне, дорогой, я-то со своей Юлдуз встречусь?
— А что такое встретиться? Встретиться — это еще ничто. Беда твоя в том, что ты хочешь продолжить давно начатую партию, а надо сыграть новую. Пусть с тем же самым партнером, но только новую, ведь партнер уже не тот и ты тоже иной. Ты хочешь дважды ступить в ту же самую реку, дважды пережить одну и ту же минуту, дважды сорвать один и тот же гранат… Вай-вай…
— Ошибаешься, старик, тогда я не начинал партию… но начну ее теперь, какой бы сложной она ни была, даже если увижу заранее мучительный проигрыш.

Друзья разговаривали так, будто в поезде их было только двое. На Нестора, стоявшего возле них, прислонившись спиной к двери купе, не обращали внимания, а он слушал чужой разговор и не мог заставить себя отойти, Нет, не тайна пышночубого мужчины интересовала его — просто эта мысль о шахматной партии поразила Нестора, словно была его собственной, только до сих пор не сформулированной.
— Расставь фигуры, Меджнун, — улыбнулся мужчина с тюркским лицом. — Есть еще немного времени.
— Времени еще много, да вот не знаю, как сделать первый ход… Ну, ты скажи мне, я встречусь с ней?
Поезд пошел тише, зашипели тормоза, друзья повернули головы к окну. Что, уже Город?
— Париж! — крикнула из тамбура проводница, и пассажиры засмеялись, хотя давно привыкли к такому названию полустанка — последнего перед Городом.
КОСТЬ АМЕРИКАНЕЦ
От этого полустанка, у которого было самое простое на свете название — Париж, или по-простонародному Парище, до Города оставалось около десяти километров. «Это не так много, — мгновенно отметил Нестор, — когда-то тут, идя по дороге из своего села, я определял полпути…». Он торопливо направился к выходу, еще раз оглянулся на двух мужчин за шахматной доской, словно желая запомнить их лица, протиснулся по узкому проходу между пассажирами, докуривавшими последние папиросы у опущенных окон, деликатно отстранил молодую проводницу, стоявшую в дверях тамбура с желтым флажком в руках, и спрыгнул на насыпь.
В это время, лязгнув буферами, поезд тронулся, проводница что-то хотела сказать чудаковатому пассажиру с длинными волосами и претенциозной трубкой в зубах, но только неопределенно взмахнула рукой: мол, это еще не Город, до Города еще ого-го сколько! Нестор послал ей издали воздушный поцелуй и крикнул:
— Не знаете, девушка, сюда, в Парище, и до сих пор водят подковывать коз?
Шахматисты только теперь заметили Нестора, бухарец улыбнулся ему, помахал рукой.
Девушка скривила губы, потому что вызывающий тон из уст не слишком уже молодого человека, с этими седоватыми патлами, да еще с этой полированной трубкой в зубах, отдавал нарочитой развязностью или, как она могла бы по-своему назвать, «сыромудростью».
— Подковывают ли коз, не знаю, а что тут живет Кузькина мать, так это чистая правда! — ответила она, презрительно надув губы.
— Да не может быть! — Нестор вынул трубку изо рта. — Наверно, уже сильно постарела?
— Для вас — в аккурат!
Разговор оборвался, потому что поезд как раз выгнулся дугой, надутые губки проводницы скрылись за выступом вагона, еще какое-то мгновение трепетали из-под черного форменного берета ее завитые русые волосы, но вот и они исчезли. Прогремел последний вагон, и сразу легла такая мертвая тишина, какой в природе не бывает, и только через некоторое время она начала оживать — свистом вечерней птицы в придорожной посадке, бомканьем колокола возле станционного домика, приглушенным стуком вагонных колес.
Из всех звуков вечерней тишины Нестор отчетливее всего услышал именно стук колес. Как только исчез за поворотом хвост поезда, где-то глубоко в душе шевельнулось раскаяние за этот романтический порыв — прийти в Город своей юности именно пешком; но вот все отчетливее слышится ритмичный стук, и откликается он чем-то далеким, как вечность, и уносит это минутное сомнение: глухое татаканье вагонных колес было сейчас таким же, как в те времена, когда он вечерами выбегал из села на выгон и, вслушиваясь со щемящей тоской, устремлялся душой за этим зовом, в незнакомый, удивительный мир.
«Эх ты, гримасничающая проводница с надутыми губками и кудрявыми волосами, и ты мне о Кузькиной матери?.. Где-то ты слышала, да недослышала, потому, что сама вон как привычно пересекаешь землю, но ты бы, наверное, даже и не поверила, что когда-то у меня по дороге в тот мир, из которого я теперь возвращаюсь в свой Город, стояло вот это Парище с кузнецами, похожими на чертей, что подковывают коз и малых детей, да еще с этой ведьмой — Кузькиной матерью, у которой, чтобы попасть в Город, надо было как самое маленькое — поцеловать руку».
За спиной Нестора, далеко в горах, спряталось село, из которого он и его ровесники выбегали по вечерам на зов паровозных колес, а потом, когда у родителей не было уже сил удержать их дома и парищев-ская Кузькина мать постепенно и нехотя становилась сказкой, уходили и больше не возвращались, — в это мгновение он еще раз проходил сквозь старые ворота, которые вывели его когда-то из родного села в большой мир.
В первый раз это было давным-давно: той. осенью, когда из окна сельской школы в яму, в которой гасили известь, полетели портреты вождей санационной Польши, а отец, бедолага с полморгом земли, торопливо, словно боясь, что упустит счастливое мгновение, взял Нестора за руку, повел его в Первую городскую школу и сказал при директоре:
— Сокрушался я, сынок, что батраком станешь, не спал ночами, видя тебя поденщиком, а теперь — человеком будешь.
Он поклонился директору и ушел, оставив сына в украшенном кумачом Городе, чтобы он тут рос и познал радость свободного детства и тяжкое отрочество под сапогом гитлеровского оккупанта, а в юности — радость освобождения от фашизма.
Все было тут… А потом — уход из Города в большой мир. Надолго. Чтобы получить образование в советском вузе и стать мастером. Чтобы через много лет, сегодня, вернуться в Город и в его воротах, облегченно вздохнув, сказать:
«Покойный мой отец! Я не знаю, кем ты видел меня, когда впервые привел сюда за руку: рабочим, врачом, инженером или кинорежиссером. Да это не так уже и важно — кем. Я вернулся человеком».
Нестор добрался до центра поздно… Улицы уже были совсем безлюдны. Нет, он теперь не жалел, что вместо десяти минут поездом шел больше трех часов пешком — из Парища напрямик по знакомым и совсем новым дорожкам. Хорошо было так идти и думать о Городе, который вот-вот увидит после долгой разлуки, какой он теперь? Небось не тот, который оставил юношей… Шагая, Нестор ощущал, как поднимаются в душе глубоко ушедшие воспоминания и ширится ожидание нового. Это^было радостное ощущение: он еще вчера был до предела утомлен, сегодня же пробудилась жажда познания.
Город уже крепко спал. Нестор прошел по центральной улице, ища гостиницу. Нашел. Постоял у дверей. В гостинице было тихо. Стучать не хотелось. Разве уж так далеко до рассвета?
На перекрестке двух улиц, которые бежали вверх, беря свое начало от ратуши, благоухал освещенный гирляндами фонарей треугольный сквер. О, этот окруженный старыми липами сквер! Расположившись в самом центре, темный и настороженный, он когда-то был словно не частью Города, а автономным его уголком, который не зависел ни ог шумного базара — справа, ни от многолюдной цивилизованной улицы — слева, ни от высокой официозной ратуши со старинными часами, на которых ежечасно поднимались два молотка, отбивая на выпуклых медных тарелках время; ему безразличны были ряды фиакров, ожидавших богатых пассажиров, чтобы отвезти их на станцию; в этом скверике прямо на траве сидели и обедали босые крестьяне; в жаркие дни тут всегда стояла бочка с пивом, и любители его располагались с полными кружками на траве, беседуя, а по воскресеньям играя в карты; тут на лавочках средь бела дня целовались влюбленные, веря в то, что их никто не видит, хотя об их невинных утехах в тот же вечер уже знали все аж на Монаховке и даже на Розенберга; в этом сквере доночевывали гимназисты, которые, загуляв, боялись возвращаться в бурсу, чтобы не нарваться на сурового наставника Штефана Сичкарню, сквер пользовался полной автономией, и туда по старой привычке направился теперь Нестор.
Остановился посреди сквера, огляделся вокруг, и ему сразу показалось, что он попал в совсем чужой город. Прежними тут были лишь этот сквер и ратуша; в просветах между липами мерцали огнями блоки высоких домов, которые выросли на месте бывших старых халуп, и Нестор подумал, что и люди, должно быть, тоже изменились и что фильм, который он привез сюда, возможно, отразит лишь прошлое Города, нынешний же его день надо еще увидеть.
В эту минуту из гущи лип вынырнул какой-то человек и пошел прямо на него; Нестор отступил в сторону, но, увидев, что человек не пьяный, спросил:
— Не скажете ли, где в это время можно найти такое место, чтобы за пивом или просто так посидеть до утра?
Незнакомец был пожилым, и у Нестора мелькнула мысль, почему это он по ночам, да еще и трезвый, блуждает по безлюдным улицам (впрочем, это его не касается): он ждал ответа.
Старик поднял глаза, добрые и, кажется, грустные, склонил набок голову и, о чем-то размышляя, начал загибать палец за пальцем на левой руке. Потом сказал:
— В гостинице, милостивый государь, не переспите, потому что к нам понаехало много артистов из кино, завтра будут это кино показывать, и они что-то будут говорить людям. Поэтому в гостиницу не попадете. Взял бы вас к себе, но сам живу на квартире. Ну, а пивом — чтобы до утра… Гм… На Розенберга закрывают в двенадцатом часу, а уже пробило час. Значит, опоздали В пять должен бы открыться буфет на станции — так еще рано У Копыла — там и вовсе в шесть. А на автобусной… ежели Перцова не выполнила план, то торгует всю ночь.
Только теперь Нестор заметил, что из-за спины незнакомца выглядывает гриф гитары или мандолины. Еще и музыка тут… По всему было видно, что старик чувствует себя в Городе давнишним хозяином — и улицы и «злачные» места называет по-старому. Упоминание о Перцовой вернуло Нестора на три десятка лет назад, когда он, ученик второго класса гимназии, обитал в двухэтажном красном каменном доме на Монаховке у пани… да, у пани Перцовичевой, у которой была возле ратуши мануфактурная лавочка, на пальце левой руки — перстень с дорогим бриллиантом, дома, на стене — гимназический аттестат в резной рамке и этажерка с книгами, к которым и пальцем никто не смел дотронуться, разве что один лишь друг дома — учитель закона божьего — отец-профессор Баранкевич.
— Перцовичева пивом торгует? — переспросил удивленно Нестор.
— А что? — пожал плечами старик. — Продает пиво, да и все тут. Это когда-то было так, что одна работа шла попу, а другая — дьякону. Теперь даже Перцовичева понимает, что любой труд — не стыд.
Он постоял еще с минуту, о чем-то подумал, а потом сказал:
— Пойду и я с вами. Летняя ночь коротка, скоро рассветет. Не по-божески это — будить хозяев ночью.
Они свернули на Торговую улицу, которая и сейчас, в ночной тишине, казалось, скрипела крестьянскими возами, полнилась конским ржаньем, блеяньем овец, визгом поросят и откормленных свиней, которых вели и везли каждый вторник и пятницу на базар; эта асфальтированная улица когда-то была грязной и разбитой, это была черная улица Города потому, что в конце ее шумела торговля и голосила ревом животных бойня, а недалеко, за базаром и бойней, синел густой Шипитский лес, в который когда-то, в те Несторовы гимназические годы, фашисты гнали, как овец и коров, толпы людей на смерть. Эта улица осталась и доныне в памяти черной, поэтому Нестор молчал, и может быть, поэтому же молчал и его новый знакомый.
Нестор внимательнее присмотрелся к своему спутнику, ему хотелось узнать его: старых людей Города он помнил почти всех. Но нет, он не узнал его, не видел его никогда, и ему удивительно было, откуда у старика вот эта хозяйская уверенность, будто он тут родился.
— Вы давно живете в Городе? — спросил Нестор.
— С деда-прадеда мы тут, — коротко ответил старик.
— Я вас не знаю…
— И я вас тоже, милостивый государь. — Он замолчал, но ненадолго. Словно сам себе, не поворачивая головы, стал рассказывать: — Ямы, гляньте-ка, засыпали щебнем, залили асфальтом, дорогу расширили — и уже совсем иной вид… А вон там, слева, школу строят — на тысячу учеников, да такую, что куда там твоя гимназия… А еще дальше — завод сельхозмашин. Этот издавна стоит, но как растет! Что этих цехов, сударь, что этих машин — с конвейера каждый день, что этих людей! И это все, сударь, делаешь своими руками и знаешь, что для себя. Не то что там…
— Где — там? — спросил Нестор.
— Как где? В Америке…
Нестор пожал плечами, ибо то, что сказал старик, было само собой разумевшимся, и, подумав, что разговаривает с ветераном этого завода, спросил:
— Еще работаете или уже на пенсии?
— Уже на пенсии, но буду работать, пускай он хоть на дыбы встанет.
Нестор ничего не понял, но больше не расспрашивал и, вспомнив шахматистов в поезде, подумал про себя: «Интересно, какую очередную партию начинает этот старик?»
На автобусной остановке было пусто и темно. Нестор, правду говоря, не надеялся, что в такую пору где-то может быть открыт буфет, рад был, что есть с кем скоротать ночь, однако попутчик, прищурясь, некоторое время внимательно всматривался в конец автобусной площадки и наконец сказал:
— Торгует…
Он устремился впереди Нестора прямиком через площадь, и Нестор только теперь присмотрелся к инструменту, висевшему у старика за спиной. «Да это же банджо, откуда взялось оно у него?» — подумал он.
Старик подошел к деревянному павильону и осторожно потрогал двери. В павильоне кто-то кашлянул, послышались шаги, упала щеколда, и в дверь просунулась голова немолодой женщины с длинным носом на худом напудренном лице. Женщина тихо воскликнула: «Сногсшибательно!» — и пропустила пришельцев внутрь. Она была высокая и широкобедрая, пудра заботливо прикрывала морщины. Нестор сразу узнал Перцовичеву, или, как ее называли в Городе, Перцову, бывшую красивую вдовушку, которая гордилась своей мануфактурной лавочкой, гимназическим аттестатом, перстнем с дорогим бриллиантом, этажеркой с книгами и знакомством с молодыми священниками и самим отцом-профессором Баранкевичем.
— Далеко едете, Американец?
— В Гонолулу.
— Сногсшибательно! И эту мандолину берете с собой?
— А вы не печальтесь. Я же вернусь и еще на вашей свадьбе сыграю на ней.
— Что-то я до сих пор не слыхала, чтобы вы играли, для форса носитесь с ней. Ну, счастливого пути, Кость. А что пьете: вино или водку?
— И пиво, Перцова, и пиво. А вы тут уже совсем поселились?
— Наполовину. Ведь надо быть глупой, чтобы под базарный день спать дома.
— Вы правы… Да еще и позавтракать нам дайте.
Перцова метнулась к дверце в прилавке. Она вроде бы и не изменилась. Нестор помнит, как вертелась когда-то молодая Перцова, подавая святым отцам на стол пироги и торты: она знала, как принимать гостей. Нестору в эти минуты вспомнились некоторые киевские официантки, и он искренне пожалел, что талант его знакомой так безнадежно растрачивается в маленьком провинциальном буфете. Перцова подала на стол буженину и водку, Нестор присмотрелся к ее рукам и узнал драгоценный перстень на среднем пальце. Перцова заметила этот взгляд, и когда вторично подошла с вилками и ножами, перстень уже был повернут бриллиантом внутрь. Перцова разложила вилки и ножи, она решительно не утратила старых привычек: в памяти Нестора из пропасти прошлого вдруг вынырнул хорошо воспитанный и не в пример юному Нестору интеллигентный соквартирант-гимназист — одноклассник Мисько Два Пальчика.

«Не держи нож, как лопату, а вилку, как грабли! Смотри, как Мисько умеет вести себя за столом», — будто услышал Нестор постоянные замечания Перцовой; разрезая ножом буженину, он машинально оттопырил два пальца, как это умел делать только Мисько, но Мисько умел это делать, а у Нестора эти два пальца всегда смешно торчали, как рога у жука, торчали они, наверно, именно так и теперь, потому что Перцова вдруг остановилась, оцепенела, кружки с пенистым пивом задрожали в ее руках, она осторожно поставила их на стол и прошептала:
— Нестор!.. Нестор!..
— Как поживаете, сударыня?
— Так это вы… А я не верила, что это вы, думала — однофамилец… Вы приехали на завтрашнюю премьеру? Боже, боже… Нестор, наш маленький Нестор — кинорежиссер! Сногсшибательно!..
Старик как раз наполнял водкой бокалы, спокойно слушая причитания Перцовой, но после ее последних слов поставил бутылку и, подняв густые седые брови, проговорил:
— Мне и не снилось собутыльничать среди ночи с большим человеком. Но почему вы, милостливый государь, не вместе с этими, что в гостинице?
— Слишком давно я не был в Городе, чтобы ехать вместе. Самому надо было. А вы, кто вы такой, что я вас никогда не видел? — все-таки не удержался Нестор, чтобы не удовлетворить своего любопытства.
— Да говорю же — тутошний. Мы с вами просто во времени разминулись. Когда я жил в Городе, вас еще тут не было, когда же вернулся из-за океана, вас уже не было. Я — Кость Американец.
«А-а, — подумал Нестор, — это ведь он оттуда привез банджо».
Перцова, не дожидаясь приглашения, уже сидела за столом. Вряд ли это нужно, если люди встречаются через несколько десятков лет. Украдкой, как-то виновато она поглядывала на Нестора и шептала:
— Боже, боже, почему это человек не знает ничего наперед? Как же ваши дети, жена?
— Не успел еще обзавестись семьей, — смущенно улыбнулся Нестор. — Все времени не хватает. Вот если бы вы подыскали мне в нашем Городе пару… Ну что ж, выпьем за встречу.
Перцова нерешительно отпила, опустила руку с бокалом на стол, другую, с перевернутым перстнем, бессильно уронила на колени, она точно отсутствовала, только время от времени повторяла шепотом:
— Сногсшибательно!.. Феноменально!
ВАДИМ ИВАНОВИЧ
Был предрассветный час. За разговором не заметили, как прошло время: розовое зарево подожгло белые тучки на небосклоне, багрянец высветил невыспавшиеся лица собеседников Нестора. Он внимательно поглядел на Перцову и почувствовал, как в душе шевельнулось нечто злорадное… «Ну, конечно, если бы ты знала наперед… Да нет, мещанская спесь затемняла даже тот разум, который был у тебя. «Деревенщина», — называла ты таких, как я, и обрекала их на последнее место в обществе…» Но тут же Нестор одернул себя: перед ним смеркается вчерашний день Города. Перед своим уходом ему суждено увидеть новый день и понять его. Хорошо — если поймет.
Нестор перевел взгляд на Костя. Из скупой речи Американца он уже узнал, что старик в свои шестьдесят твердо решил начать работать на заводе, ведь он «слесарь первого класса. Либо, сударь, хотя бы сторожем в проходной».
— Пора мне устраиваться, — встал Нестор. — Приглашаю вас на премьеру.
В гостинице Нестор прилег, чтобы немного подремать, но усталости, к своему удивлению, не ощутил. Он еле дождался девяти, быстро собрался и направился в райком партии нанести визит товарищу Ткаченко, который любезно принял предложение друзей Нестора — организовать премьеру его фильма в Городе.
Молодцеватый, подвижный заведующий отделом райкома Ткаченко вышел из-за стола, поздоровался с Нестором за руку, предложил сесть и без трафаретных вопросов «Как доехали?», «Как устроились?» заговорил:
— Значит, в четыре. Я вас представлю. В Городе, знаете, ажиотаж: как-никак свой режиссер! Я, разумеется, был на просмотре. Прекрасно… Новеллистическая композиция, операторские находки… Один аист, этот розовокрылый, как фламинго, аист, который обрамляет своим полетом весь фильм, — этот аист, что взлетает в первом кадре от выстрела, а в последнем мечется над пожарищами как символ жизни, — это просто чудесно. Только… Я не знаю, насколько вы чувствительны к критике… Ну, ладно, об этом потом. Знаете, что я вам хочу предложить? Пойдемте сейчас, у нас полдня времени, я вас познакомлю с одним чрезвычайно интересным человеком. С Вадимом Ивановичем. Так все его называют, не иначе. Спросите на улице любого, как найти Вадима Ивановича, и каждый, даже ребенок, направит вас на завод или на его квартиру. Это директор нашего «Сельмаша».
— Я вас понял, — ответил Нестор, — я даже знаю, за что вы меня хотите критиковать, я понял это еще вчера, как только очутился в центре Города. Мне самому хотелось попросить вас, чтобы вы провели меня на завод.
— Ну и хорошо! — встал Ткаченко. — Вот и пойдемте. А по дороге я вам расскажу кое-что про нашего директора. К тому же и вы, как я понял из вашего фильма, были свидетелем тех или похожих событий, о которых мне рассказывал Вадим Иванович.
Они шли не спеша, Нестор внимательно слушал.
…Деморализованная хортистская армия в марте сорок четвертого в панике, побросав на разбитых дорогах пушки, лошадей, ящики со снарядами, отступала в Карпаты, чтобы там на некоторое время занять оборону. Ей на пятки наступали наши передовые части, оставляя гарнизоны в населенных пунктах прифронтовой полосы.

Вадим Иванович возглавлял такие гарнизоны поочередно в нескольких селах. Он знакомился с людьми, заходил в хаты, изучал настроения жителей.
Далеко за селом высилась лысая гора — там стояла бедная хатка, которую можно было бы принять за пустую чабанскую хижину, если бы изредка не поднимался над нею жиденький дымок. Но потом и этот признак чьей-то жизни на горе исчез — дымок больше не курился, и тогда-то Вадим Иванович решил наведаться туда с группой бойцов.
Подергали за щеколду — дверь заперта, сквозь закопченное оконце нельзя было разглядеть, что делается в хате, вокруг тишина: ни собаки, ни курицы; подумали сперва — пустая. Но один боец заметил, что дверь заперта изнутри. Не надо было большой силы, чтобы сорвать ее с петель. Бойцы с Вадимом Ивановичем вошли в хату.
Первое, что они увидели в сумерках, — глаза. Блестящие стеклянные глаза и лицо как у мертвеца — высохшее, сморщенное, желтое. Вадим Иванович сперва растерялся, не зная, что делать, но веки мигнули, губы задвигались, — и он услышал шепот:
— Не убивай ребенка…
Вадим Иванович бросился к постели:
— Мы не фашисты, бабушка, мы советские! Где ребенок?
Старуха долго всматривалась в пришельцев, потом протянула высохшую руку, откинула рядно, и Вадим Иванович увидел худенькое белое тельце девочки-младенца, в котором тоже еле теплилась жизнь. Ребенок не плакал, только водил зелеными глазенками.
— Чья девочка, где мать? — спросил Вадим Иванович, боясь, что старуха умрет и не успеет сказать.
— Матери нет уже больше полгода, — прошамкала старуха. — Она жила у меня, ковпаковцы привели ее сюда, когда пришла пора рожать… тут и родила. А когда немцы делали облаву, схватили ее… я дитятку спрятала… А Оленку вон там, за хатой, расстреляли. Я Галюсю выходила, а теперь помираю, должна была умереть и она… да вы пришли, так заберите. Пусть живет… Она только начала, а мне кончать, потому как нет уже сил…
— Кто эта Оленка, откуда?
— Да разве ж я знаю… Партизаны привели, женой была одного ковпаковца… Она все мне наказывала, если что случится с ней, то когда фронт уйдет в горы и придут наши, чтоб я отнесла малышку в Город и отдала какому-то Стефураку. Но я в Городе никогда не была, да и не могу ходить. Говорила она: скажите Стефураку, что это от Оленки…
Больше старая не могла ничего сказать, в тот же день и умерла. Бойцы ее похоронили, а Галюсю Вадим Иванович отнес…
— Стефураку? — перебил Нестор Ткаченко. — Почему Стефураку?.. Я знал его. Он еще жив?
— Да, но очень уж старенький, — ответил Ткаченко. — Я не знаю, почему именно ему. Да обо всем вы сможете расспросить самого Вадима Ивановича.
Они дошли до проходной завода, и Ткаченко остановился.
— То, что я рассказал, — только один эпизод. Вадим Иванович после войны остался в нашем Городе. Сначала был на партийной работе, потом заочно окончил сельскохозяйственный институт, и его назначили директором вот этого завода… Этого, да не такого же. Вы только посмотрите, какую он занимает территорию. При буржуазной Польше тут была фабрика плугов. Ну, не фабрика, большая кузница. А это все, что вы видите, выросло при нем… Выросла при нем и Галюся. То есть воспитал ее Стефурак, а учебой занимался Вадим Иванович. Галя окончила политехнический институт во Львове и пришла сюда на должность инженера производственного отдела… Вот приедете еще раз — увидите, сколько интересного у нас.
— Непременно, непременно… — проговорил Нестор в задумчивости. — Но почему — к Стефураку?..
Охранник пропустил Нестора и Ткаченко, и они вошли во двор, в глубине которого высилось над низкими строениями еще не законченное сооружение, справа находилось четырехэтажное здание заводского управления.
— Боюсь только, что не застанем его в кабинете, — сказал Ткаченко. — Идемте в новый блок цехов. Это его гордость, там днюет и ночует… А что я говорил! вот он стоит.
Они подошли. Приземистый, жилистый мужчина, лет уже, должно быть, за пятьдесят, прямо-таки растерялся, когда Ткаченко познакомил его с Нестором.
— Да, слышал я. Но хотя бы позвонили… У нас скоро пуск, поэтому мы днем и ночью… Приходили уже к нам, снимали для киножурнала, но вам, наверное, не масштабы и цифры нужны, вам, так сказать, подавай рабочий класс. Об этом подумать надо, стоит подумать…
Нестору сразу понравился этот на вид добродушный и медлительный человек, по разговору видно, откуда-то с Полтавщины; пригляделся к нему, и на мгновение ему показалось, что он когда-то его видел — глаза показались знакомыми… Но нет, это снова дала о себе знать профессиональная привычка Нестора — искать типаж для ролей. Нестор вспомнил: когда он просматривал актеров на роль лейтенанта, представлял себе своего героя именно с такими глазами: светло-серыми, в которых глубоко, на дне, таится настороженный холодок, свидетельствующий об упрямой воле и решительности. Сказал:
— Не беспокойтесь, Вадим Иванович, я скоро приеду еще раз, и с вашего позволения…
— Вот и хорошо, — охотно согласился директор, — но вы не убегайте, я вас все-таки задержу на несколько минут. Провожу только к конвейеру. Наш завод десять лет назад начал изготовлять для Кубы грейдерные погрузчики. Для сафры.
…Машины, выкрашенные в яркий цвет, медленно выползали, будто из туннеля, и одна за другой выстраивались в длинный ряд. Нестору часто доводилось бывать на заводах, и каждый раз его охватывало чувство своей малости перед творениями человеческих рук, а тут еще сработал эффект неожиданности. Нестор не думал, что в родном Городе встретится с таким промышленным гигантом.
— Полторы тысячи машин запланировали мы на этот год, — заговорил директор. — И качество все время повышается. А литейный цех уже полностью охвачен системой бездефектного изготовления продукции…
Нестор не сводил глаз с конвейера. Ткаченко тронул его за локоть.
— Я думаю, что для начала достаточно. Вижу по вашим глазам — приедете.
— Зайдемте еще в мой кабинет, — пригласил Вадим Иванович.
В кабинете без умолку звонил телефон. Директор поднял трубку, лицо его просветлело.
— A-а, это ты, малышка… об этом надо подумать, стоит подумать, вот… Нет, все-таки не смогу. До конца рабочего дня не смогу. Ты иди… А я вечером… Ну, большая шишка — режиссер, — подмигнул он Нестору. — Да я уже его видел, вот он передо мной. А фильм посмотрю потом. Да, да… — Директор положил трубку и покачал головой, делая вид, что недоволен. — Ну и шуму вы наделали! Хоть закрывай на полдня завод. А у нас план, план! Это Галя звонила, — сказал он Ткаченко. — Я отделам разрешил, а все другие — потом. Так что извините…
Нестор встрепенулся и хотел было спросить о том, что так взбудоражило его любопытство: почему Вадим Иванович о тес ребенка именно к Стефураку, но директор, о чем-то вспомнив, шагнул к шкафу. Ткаченко предусмотрительным движением остановил его.
— Вы что? — улыбнулся Вадим Иванович. — Подумали — я за коньяком? Э, нет. Это я… это мы говорили, что вам о людях надо, так у меня есть для вас прелюбопытная деталь. — Он вытащил из шкафа кожаный чемодан, открыл его: в нем лежал разнообразный слесарный инструмент.
— Правда, ничего удивительного? Но удивительно то, как настойчиво даже престарелые люди добиваются возможности работать на нашем заводе. Прямо за честь считают. Вот один дед целую неделю обивал пороги: примите да примите. Я ему и то и се — на какой агрегат поставишь старика, а он позавчера принес этот вот чемодан, порылся в нем и говорит: «Я этим инструментом монтировал корабли в американских доках, разве у вас так уж все автоматизировано, что и ключ больше не нужен? Я же слесарь первого класса, на фрезерном работал!»
— Кость Американц! — воскликнул Нестор. — Так как же — примете его?
— A-а, и вы его знаете? Да кто же его не знает, старого музыканта… Приму, а что прикажете делать? Техника меняется, но и человеческая психология — тоже. Научим старика.
Время летело, Вадим Иванович уже поглядывал на гостей так, что видно было: не имел бы он ничего против, если бы они потихонечку ушли.
— Вадим Иванович, — сказал, смущаясь, Нестор, — товарищ Ткаченко рассказал мне кое-что про вас… Я хотел бы спросить о Гале…
Директор нахмурился, и Нестор понял: тут не место для таких разговоров. Пожалел, что поторопился, но ничего не поделаешь.
— А вы же говорили — приедете еще, — поднял голову Вадим Иванович. — Да и не годится: наделал шуму, похвалился своей персоной — и снова на верхние места. Вот приедете, так и расскажу. Ну, а теперь вы — за свой пульт, я а — за свой.
ДОЧЬ СОТНИКА
Этот дом, похожий на большую виллу или миниатюрный дворец с ажурными колоннами и барочными капителями, с белым гипсовым щитом на фронтоне, где, возможно, был когда-то выбит герб Города, жители с незапамятных времен называли театром.
Театр был гордостью Города даже тогда, когда этого здания не существовало. С Города, как считали когда-то некоторые его обитатели, чрезмерно проникнутые местным патриотизмом, вообще начиналось многое. Копачева, например, при каждом удобном случае доказывала собеседникам, что не только театр, а и издательское дело, художественные промыслы, фотография, керамика, сыроварение, пивоварение, мыловарение, образование и просвещение, производство щеток и суперфосфата брали свое начало отсюда, не говоря уже о том, что много писателей вели славную родословную из Города, который всегда был культурным и административным центром небольшого треугольного кусочка планеты, расположенного между двумя реками, из которых одна, меньшая, впадала в другую — большую. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сейчас есть в Городе — завод, который производит машины для всего мира.
В единственной лишь отрасли культуры не имел Город приоритета — в кинематографии.
Вахтер театра Августин Копач и упомянутая уже его супруга Каролина Копачева, которые еще при буржуазной Польше, обеднев до последней нитки, вынуждены были покинуть село за Рекой и перебраться в Город, где фортуна навеки бросила их в объятия Мельпомены, единодушно утверждали, что в Городе бывал когда-то Чарли Чаплин на пути из Америки в Европу, но эта легенда мало кого убеждала, и, возможно, самолюбие некоторых жителей Города было задето — до сегодняшнего дня.
Сегодня в театре шла премьера фильма своего, местного режиссера.
Демонстрация фильма только что окончилась, но зал молчал, рукоплескания взорвались лишь тогда, когда на авансцену перед экраном вышли киноактеры, которых представил публике заведующий отделом райкома Ткаченко. Нестор стоял в середине, самый высокий из своих коллег, длинные волосы сползали на воротник блузы, в лице было что-то детски ласкозое. Со всех сторон светили прожекторы, вписывая фигуры в белый экран, и зрителям казалось, что это тоже кадры фильма, только актеры уже без грима, потому что на экране сам его создатель, и они должны теперь предстать в первозданном виде — tadulae rasae, на которых он создал свое произведение.
Нестор стоял на сцене, ослепленный снопами света и жгуче-сладкой радостью. Он успел уже завоевать немалую славу, изъездил Европу и Америку, получал на мировых кинофестивалях призы, награды и медали, но для полного счастья среди разных зрителей не хватало именно этих, среди всех рамп — этой рампы, об этом догадывались друзья, поэтому и устроили премьеру нового фильма в его родном Городе — как подарок к сорокалетию.
Свет бил в глаза, через потоки желтых лучей прожекторов Нестор смог разглядеть лишь три первых ряда и во втором с краю увидел старого дородного Стефурака, который едва умещался в кресле; увидел его и не удивился, потому что если Стефурак еще жив, то где же ему, бывшему режиссеру и директору этого театра, быть, как не здесь — на премьере фильма Нестора? Старик сидел и непрерывно шмыгал носом, вытирал глаза и все покачивал головой: он плакал, и эго было особой радостью для Нестора. Никто ведь не знал, никто в этом зале не знал…
— Ах ты, безбилетный голодранец, ты снова тут?
Пальцы директора театра нащупали его, гимназиста второго класса, где-то внизу, под ногами важных господ и дам, схватили за хлястик тужурки. Нестор оставляет эту ненужную деталь одежды в директорской руке и удирает на улицу, чтобы, простояв там часа два, пусть даже под дождем, хотя бы на третье действие, когда неумолимый цербер Августин Копач уберется из вестибюля, все-таки проникнуть в театр.
Поэтому Нестор видел третьи и четвертые действия всех спектаклей, а первые два — ни в одном. И не раз, слоняясь возле театра добрых два часа, он проклинал как только мог бессердечного Стефурака, который, заботясь о театральной кассе, не хотел понять, что кое у кого из будущих театральных светил «касса» тоже пуста.
Но однажды Нестору повезло — от разговорчивого, когда не на службе, Августина Копача он узнавал обо всем, что делалось в театре: захворал актер, который играл Гриця, а все билеты были проданы, и, чтобы спасти кассу, эту роль решил сыграть сам директор со своим круглым животом и длинным красным носом. Итак, он должен быть на сцене, а без него Августин Копач становился по-деревенски добродушен: Августин сделал вид, что не видит пронырливого гимназиста; Нестор проскользнул в затемненный, зал через первые двери, что возле самой оркестровой ямы, впопыхах позабыв, что надо юркнуть на галерку, об этом он догадался поздно: занавес уже был поднят, декорация вмиг очаровала мальчиками он замер у дверей, освещенный предательским светом рампы. Толстый длинноносый Гриць уже шел навстречу Марусе, шокируя публику своей фигурой, но в это мгновение он заметил возле парадных дверей злостного безбилетника и, оборвав на полуслове самую драматическую реплику, указал на Нестора пальцем и закричал:
— Августин! Августин! Этот сопляк снова влез без билета! Августин, холера тебя возьми, с работы выгоню!
Это было что-то неимоверное. Перцова сказала бы: «Сногсшибательно!» Зал хохотал и безумно ревел, Нестор почувствовал, что этот смех и ярость вдруг обрушились на него и он из маленького стал совсем крохотным — горошиной, маковым зернышком. Но его все равно видели, его позор видел весь Город, завтра ему здесь уже не быть и в гимназию нечего нос показывать. Августин сцапал его, теперь горошину, маковое зернышко, взял за воротник, вынес через двери и толкнул со ступенек вниз, на тротуар.
А в театре шло и первое, и второе действие спектакля «Ой, не ходи, Грицю…», да только его уже никогда не придется увидеть бедному Нестору, потому что все теперь вдруг пропало — и театр, и гимназия, и Город. Он блуждал по темным улицам и плакал; спрятался в переулке, когда зрители выходили из театра, дождался, когда снова стало тихо на улицах, и только тогда поплелся на Монаховку — вспомнил, что после одиннадцати Перцова в дом не пускает. Вышел из переулка и чуть не столкнулся со своим злейшим врагом Стефураком, который шел домой после сегодняшнего бенефиса, — Нестор готов был бросить в него камень или хотя бы вцепиться зубами в его пухлые, заложенные за спину руки, но в эту минуту раздался пронзительный свист, какие-то сорвиголовы выскочили из-за угла театра и заорали:

— Бейте его, это он играл Гриця!
Директор странно дернулся, будто его вдруг ударили по спине, на мгновение остановился, а потом, осознав свою сегодняшнюю вину перед публикой, сорвался с места и помчался куда глаза глядят, тряся круглым животом.
Переполненный мстительной радостью, Нестор бежал в толпе незнакомых преследователей и в непомерном праведном гневе, не понимая толком смысл и причины воинственного вопля, сам закричал:
— Бейте его, это он играл Гриця!
…Прожекторы слепили глаза, кто-то из киноактеров рассказывал безмолвной публике о своей работе над ролью, а Нестор, отдаленный от мира яркими снопами прожекторов, пребывал в тех давних временах: он вспомнил и тот спектакль, на который впервые пришел с полноценным билетом, и посмотрел его весь, от начала до конца, вспомнил свою первую любовь.
Это был «Вий» Гоголя. И была дочка Сотника, которая вышла на сцену не из гримерной, а из самого ведьмовского вертепа, вынеся из него на свет божий свою греховную красоту.
«Крест на мне, крест на спине, крест вокруг меня… — молился на сцене в безумном страхе бурсак, когда ведьма — дочь Сотника — вставала из гроба, и крестился под тужуркой Нестор. Гроб поднимался и летал над сценой, черти справляли адский шабаш, мороз ходил по спине, хотелось убежать отсюда прочь, не оглядываясь, потому что не было сил вынести все эти ужасы, но дочка Сотника была так прекрасна, что он не мог от нее оторвать глаз, он согласился бы даже на ад и вечные муки, только бы стать рядом с ней вместо перепуганного бурсака, и поэтому сидел, оцепенев, в последнем ряду на галерке.
А потом встретил дочь Сотника на улице. Нет, это не была артистка Завадовская — по улице шла дочь Сотника из «Вия», ведьма и сообщница нечистой силы, которая превращала своим взглядом все вокруг в камень, окаменел и Нестор и так и стоял столбом посреди тротуара, загородив ей дорогу, а ведьма, привыкшая к восхищению зрителей, смилостивилась над ним, улыбнулась, погладила его ладонью по мягкой шевелюре. И он ожил, он из камня снова стал человеком, но уже не тем подростком, каким был до сих пор. Ведьма все-таки совершила над ним злодейское чудо — Нестор преждевременно стал взрослым и понес в сердце боль первой любви.
С тех пор не стало маленького Нестора, с тех пор Нестора не узнавали даже учителя, а догадливый и опытный в таких делах отец-профессор Баранкевич часто, смакуя, рассказывал ученикам на уроках закона божьего о греховных страстях, которые приходят к молодому человеку в виде вавилонских блудниц и от которых можно спастись только молитвами.
И Нестор молился. Он стоял в церкви на коленях перед образом богоматери, а видел ее — гоголевскую ведьму. Он стоял в подъезде на Театральной, выжидая, когда пройдет дочь Сотника в театр на спектакль или на репетицию, и тогда ему казалось, что по улице идет сама матерь божья: все взвихрилось, перемешалось в душе паренька, все в мире изменило свою ценность. Он еще не мог определить новых ценностей и из-за этого вконец растерялся и решил стать когда-нибудь актером, чтобы всегда быть возле нее.
Но настало время огня и крови. Дочь Сотника вдруг исчезла из Города, а Нестор пошел своими дорогами, понеся сквозь жизнь неутолимую жажду и печаль…
— Дорогие товарищи, — говорил, должно быть, уже достаточно долго киноактер, который исполнял главную роль в фильме. — Некоторые критики напоминают мне врачей, которые, чтобы определить группу крови, отрезают у человека палец. Некоторые критики прислушиваются больше к бурчанью в своем собственном животе, нежели к грому эпохи…
Слова коллеги вывели Нестора из задумчивости, он эти его экспромты слышал уже не раз, и где-то в других городах, перед другими аудиториями они, может быть, и имели какой-то смысл, но тут решительно никакого. Нестор искоса посмотрел на коллегу, но тот продолжал:
— Дорогие наши старшие товарищи, мы с вами как одни часы, и лгут те, что твердят о каком-то разрыве между старшим и младшим поколениями, мы — стрелки, а вы — те гири, которые не дают часам остановиться, но все мы вместе показываем и отражаем время нашей эпохи. Товарищи! Наш мир — это одна…
Должно быть, под впечатлением только что вспомнившегося Гриця — Стефурака, который всего несколько минут назад выкрикивал здесь свое неуместное: «Августин, этот сопляк снова пролез без билета!» Нестор совсем неожиданно для публики сказал громким шепотом:
— Если сейчас ты скажешь о буханке, которую мы с родителями едим с двух сторон, я тебя убью…
Зал молчал, потому что им, зачарованным, наверное, показалось, что так и должно быть, что этот диалог между режиссером и актером заранее предусмотрен для некоторого оживления, по залу прошелестел только легкий, ради приличия, смешок, но вдруг где-то во втором ряду громко взорвался девичий смех. Он Был так естествен и искренен, что, вместо того чтобы зашикать на девушку и пристыдить, весь зал тоже дружно захохотал.
Нестор посмотрел на передние ряды — рядом со Стефураком сидела с букетом роз девушка с пшеничными волосами, ее большие глаза были почему-то знакомы, но слепил свет, и она терялась в темноте зала; кто-то из задних рядов закричал: «Слово режиссеру! Режиссеру слово!» — и Нестор поднял руку. Когда в зале стихло, он показал на белый неживой экран, на котором только недавно неистовствовала жизнь, и произнес:
— Я все сказал. И понимаю, что очень мало. Спасибо вам.
Тогда из второго ряда вышла девушка с букетом роз, а за ней пошли и другие с цветами, девушка изящно прошла по помосту над оркестровой ямой и остановилась перед Нестором. Он смотрел на нее, он напряженно взглядывался, потому что узнал, но поверить в такое не мог: давно вышел из возраста, когда верил в чудеса «Вия». И все же это была она — обольстительница из ведьмовского вертепа, которая могла превращаться то в очаровательную девушку, то в матерь божью. Нестор шагнул вперед и вскрикнул:
— Дочь Сотника!
— Я ее дочь, — тихо сказала девушка и сбежала со сцены.
Зал гремел «браво!». Еще минуту назад Нестор думал, что постиг истинное счастье, ибо наконец здесь, среди родных людей, после всех триумфов, оно стало для него осязаемым и реальным, но теперь та радость отдалилась, поблекла, потому что в зале где-то была дочь Сотника — то неуловимое и утраченное личное счастье, которого не могут заменить человеку никакие лавры.
Нестор сошел со сцены. Высокий, длинноволосый, какой-то иконописно-торжественный, он сошел со сцены в отведенную для гостей ложу, чтобы послушать концерт, который приготовил для них Город, и оттуда все время смотрел в зал, ища дочь Сотника.
Каролина Копачева сидела рядом с Перцовой недалеко от ложи, они вместе вполголоса беседовали, и сквозь густой гул зала Нестор услышал слова Копаневой:
— Кто бы мог подумать, что в нашем Городе вырастет такой человек.
— Вы себе как хотите, а я вам все-таки скажу: из-за этих патл он во многом проигрывает, — ответила Перцова.
МИСЬКО ДВА ПАЛЬЧИКА
На сцену тем временем выкатился кругленький человечек с напомаженными блестяще-черными волосами, ровно разделенными посредине; его пухленькое личико, на котором сияла снисходительная, обращенная к публике улыбка, вдруг приобрело драматическую серьезность, он искоса посмотрел на экран и, увидев, что стоит не совсем в его центре, сделал шаг влево, потом его подбородок поднялся вверх, губы сжались подковой, и в то мгновение, когда с них должна была слететь первая фраза, случился неожиданный конфуз.
Августин Копач, который ведал теперь в театре реквизитом и исполнял функции машиниста сцены, хорошо знал, кому что полагается на этом святом помосте: кому сколько света, какая и для кого декорация. Он решил про себя, что экран не для конферансье. Еще до его выхода Августин взобрался на колосники и именно тогда, когда кругленький человечек встал в позу Демосфена и приготовился произнести речь, отвязал шнурок с верхней планки экрана.
Конферансье успел только сказать: «Друзья, в этот прекрасный июньский день, когда…», как белое квадратное полотно, на котором еще фосфоресцировал отблеск большой славы и на фоне которого кругленький человечек очень хотел перед началом концерта произнести речь, упало на него и окутало, как саван. Белое привидение быстро поползло вдоль рампы и исчезло за кулисами, но буквально через секунду конферансье снова вырос перед зрителями с тем же самым пухленьким личиком, исполненным драматической серьезности и пренебрежения к мелочам жизни, которые хотя иногда и мешают, однако не могут сбить с ритма человека, на долю которого выпала ответственная миссия — произносить речи.
Он быстро оглянулся и, убедившись, что темновишневый бархатный занавес недостаточно оттеняет его фигуру, махнул рукой Августину, который снова стоял у прожектора, чтобы дал больше света, тот скомандовал своему помощнику, и, когда два ослепительных круга слились и образовали вокруг головы конферансье нимб, сделав его выше ростом, он простер вперед руку и еще минуту молчал, пока из оркестровой ямы не блеснул фотоблиц, и только тогда цепкая подкова его сжатых губ раздвинулась: одна губа сделалась дугою вверх, а другая вниз, и через это отверстие, как из брандспойта, ударила в зал струя слов:
— Любимые друзья! В этот цветущий июньский день, когда вся земля нарядилась, словно калина к свадьбе, в медовые венки молодости, наш Город, некогда страждущий и затоптанный вражескими ордами, расцвел ныне вишневым цветом радости, которая до краев наполняет наши сердца, полные дерзаний и благородных порывов, что как весеннее половодье устремились вперед и прорвали плотины равнодушия, неся вечный непокой, потому что покой, товарищи, нам только снится, ибо, как сказал поэт, который поставил на стражу слово, которое сегодня громоподобно прозвучало в этом зале…
Из оркестровой ямы еще раз сверкнул блиц, оратор на миг остановился, машинально принял позу для фотографирования, заложив правую руку за борт пиджака, хотя уже и было поздно, и именно в этот момент, наверное, благодаря этому блицу или, может быть, по этой почему-то запомнившейся бонапартовской позе оратора Нестор узнал его.
Это был Мисько Два Пальчика.
Мисько — конферансье?!

Открытие было ошеломляющим. Хорошо воспитанный сынок адвоката из соседнего городка, этот Мисько, который, невзирая на свой низенький рост, умел так вести себя, что в любой ситуации всегда удерживался на виду, и которому пророчили большое будущее, — конферансье?
Трудно действительно было понять причину Миськовой популярности. Учился он не блестяще, а то и Совсем плохо, и только иногда папочкин авторитет спасал его от второгодничества; он был толстым карапузом, и девчата называли его не иначе, как «бочонком»; спорта боялся, порывался, правда, играть в волейбол, но так как мяч никогда не попадал к нему в руки, его прогоняли с площадки; однако вопреки всему этому на протяжении учебы в гимназии он был бессменным старостой класса: один из всех имел честь класть учителям на стол журнал, в религиозные праздники приводить учеников в спортзал на собеседования, докладывать опекуну класса о полученных сценках успеваемости и поведения товарищей за день и, что важнее всего, прислуживать отцу Баранкевичу вместо дьячка на богослужении.
«Господи, помилуй… Тебе, господи… Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя… Аминь…» — вполголоса бормотал Мисько, стоя на коленях возле аналоя, когда отец Баранкевич заканчивал фразу из знаменитого сценария Иоанна Златоуста; дьячковал он, никогда не сбиваясь, и Нестор завидовал ему, потому что было такое время, когда он верил, что отец-профессор Баранкевич — святой. Эта вера, однако, просуществовала недолго, потому что однажды Нестор, гоняясь за черным котом по коридору каменного дома пани Перцовой, сгоряча забежал в спальню хозяйки, где застал ее в объятиях «святого». Но пока вера в святого отца-профессора жила в душе Нестора, он завидовал Миську и все пытался понять, в чем заключается его превосходство, откуда оно возникает, почему только он имеет право быть приближенным сильных и великих мира сего.
Да, Мисько Два Пальчика, этот Мисько из хорошей семьи, всегда каким-то образом держался на поверхности. Бог его знает, каким секретом он владел, какие чары были в его глазах, но даже сам Вехтер, губернатор дистрикта «Галициен» Отто Вехтер, во время посещения Города пожелав, к ужасу всей гимназии, присутствовать на уроке немецкого языка в третьем классе, и он среди тридцати трех учеников заметил именно Миська и, с удовлетворением наблюдая, как цепенеет от страха лицо учителя Ругика, поманил мальчика пальцем:
— Коmm, Коmm…[1]
Класс замер, учитель уронил из рук учебник, один только Мисько не растерялся — и как это он сумел не растеряться? — перед высокой фуражкой с изображением человеческого черепа, перед ремнем с тисненной на пряжке большой черной свастикой, перед петлицами с серебряными «молниями» СС, перед зверем, по приказу которого вчера расстреляли на рынке девятерых парней из строительной службы за саботаж? А ведь не испугался-таки, — наверное, было в нем что-то, не зависящее ни от ума, ни от возраста и чего не имели другие, — он стукнул каблуками и произнес четко:
— Ich höre Sie, herr Gubernator![2]
— Warum bist du so klein?[3] — гаркнул Вехтер.
Нестор хорошо помнит, как передернуло Миська: это было его больным местом, ахиллесовой пятой, но этот комплекс неполноценности, который так несчастливо соединялся с плохой памятью, он возмещал сознанием высокого положения отца, используя каждую возможность, чтобы дать это понять. Нестор в этот напряженный момент даже злорадно улыбнулся, поняв, что отныне сможет на пренебрежительные замечания Миська о его, Несторовой, мужицкой неотесанности, огрызнуться по-немецки: «Warum bist du so klein?» Эту опасность почувствовал и сам Мисько, он пробежал взглядом по лицам одноклассников, на которых уже появлялись улыбки, что предвещало крах его карьеры, и вдруг сразу выпрямился и, заложив руку за борт тужурки, воскликнул:
— Buonaparte war auch klein![4]
Вехтер широко раскрыл от удивления глаза и, криво улыбнувшись, пробормотал:
— Gut… Sehr gut… Kolossal![5]
Нет, что-то все-таки было бонапартовское в этом Миське! Императорская поза стала для него с тех пор привычной, ведь как-никак, а он завоевал себе на это право.
Как же он ухитрился стать конферансье?..
Тем временем Мисько Два Пальчика продолжал свою речь, а зал гудел. Смотри, болтливого чужого актера слушали, а своего не хотят. Воистину трудно быть пророком в родном Городе…
Мисько уже чувствовал, что пора заканчивать, но ему еще жаль было уходить из слепящего нимба, который придал ему высоту, а может, даже величественность, его голос возвысился до пафоса, а пафос — это такая вещь, что всегда на некоторое время кружит публике голову. Нестор знал одного актера, который умел целых пять минут так читать телефонный справочник что его слушали. Голос Миська начал подниматься к высоким нотам, суть произносимого не имела теперь для него никакого значения, существовала только мелодика — нарастающая, драматическая, надрывная, трагичная, и на высшей ноте, на которой, казалось, должно было что-то треснуть в горле оратора, его голос неожиданно понизился, и вдруг он умолк: на фоне ярко-слепящего нимба обрисовалась опущенная на грудь Миськова голова, и в зале раздались аплодисменты.
Зааплодировал и Нестор. От только теперь разгадал секрет таланта Миська. Быть конферансье! Всюду быть конферансье, и тогда никогда не выйдешь из поля зрения; ты надоешь, осточертеешь, но все равно будешь самым популярным среди своих коллег. Актер три — десять раз войдет на сцену, исполнит свой номер и должен сойти и не появляться до тех пор, пока не подготовит нового, а за это время его позабудут, ибо на поверхности появится другой — лучший либо худший, — а конферансье, который хотя и не умеет ничего исполнять — ни лучше, ни хуже, — будет появляться перед рампой раз за разом и так намозолит зрителям глаза, что и на улице его будут узнавать, еще и сниться будет.
«Надо иметь такой дар судьбы — ничего не сказать, а говорить полчаса, ничего не уметь делать, а получать в награду аплодисменты, быть маленьким, а всегда попадать в зрачок объектива…» — размышлял Нестор, глядя на поднимающийся занавес, — наконец-то начинался концерт.
АНЕЛЯ ПЕРЦОВА
На протяжении получаса зрителям могло казаться, что нимб, созданный двумя прожекторами, предназначался для того, чтобы освещать до скончания времен голову конферансье, но вот он расширился, как круг на воде, и люди оживились, увидев за пухленьким лицом Миська более широкий простор сцены; покашливанье, скрип кресел перекрыли наконец пустозвонную речь, и воцарилась тишина: на сцене стоял хор медицинских работников; три ряда хористов возвышались друг над другом почти до самых колосников, у хора был величественный вид, и с Миськом Два Пальчика, который выбежал объявить номер, произошла удивительная метаморфоза. Из монументальной бонапартовской статуи, которой он уподобился, стоя на фоне опущенного занавеса, Мисько вдруг превратился в очень маленького, откормленного балбеса с зажатой плечами головой, и Перцова, еще минуту назад увлеченно аплодировавшая бывшему своему квартиранту, сказала с упреком Каролине Копачевой, которая, по ее мнению, несла ответственность за все, что происходило в театре:
— Можно подумать, что во всем Городе нет мужчины выше…
— Хорошо вам крутить носом, — вздохнула Копачева, — а вы найдите такого, чтобы хотел, как этот, выступать…
— Сногсшибательно… — пожала плечами Перцова, но сейчас ее любимое словечко не было ответом Копачевой, оно выражало то глубочайшее удивление, которое не покидало Перцову вот уже почти целые сутки: как это могло все так в мире измениться, что те люди, которые когда-то ничего не значили на белом свете, ходят теперь в фаворе, а те, что считались элитой Города, должны продавать пиво или так, как этот адвокатский сын, выпендриваться перед публикой.
Она на мгновение снова погрузилась в свое прошлое и, говоря по правде, ничего там не нашла лучшего, чем то, что имеет сейчас, кроме разве что молодости, но одно было преимущество в этом прошлом — гонор. Как мало тогда было надо, чтобы люди тебе кланялись! Ну, мог идти себе человек из самого Пацыкова в Город прямиком — босым, как и все, а за рекой, где начинался большак, надеть лакированные штиблеты, и смотри же: босые крестьяне первыми говорили ему «добрый день» или «слава Ису», ибо это уже шел пан. Ну, мог ты не иметь и гроша ломаного за душой, а зайдешь в лавку в шляпе с перьями, и лавочники лучший товар бросают на прилавок перед тобой, а ты себе пальчиком щиплешь этот материал, эти меха, эти мерлушки гладишь и гордо идешь в другой магазин, потому что все для тебя дешевка, ерунда. Ну, мог Ты, в конце концов, иметь даже собственную лавочку возле ратуши и платить больший налог, чем получал от этой торговли прибыли, но на тебя смотрели с почтеньем те, что такой лавочки не имели, — и ты ходил с гонором.
А что уж говорить, если человек имел гимназический аттестат, двухэтажный каменный дом на Монаховке, этажерку с книжками и перстень с дорогим бриллиантом…
Все это имеется и теперь у Анели Перцовой, а вот гонору нет. Ничего у нее не отобрали, кроме лавочки и второго этажа, где поселились сразу же после войны приезжие люди. Перцова не протестовала против такой конфискации, потому что этот дом она не строила; он до войны принадлежал евреям, у которых она снимала комнату, а когда хозяев отправили в гетто, на дом никто не претендовал. Все у нее осталось: и аттестат, и этажерка с книгами, и перстень, и одежда, но все эти вещи уже не имели той цены, ибо каждый теперь стал ходить в лакированных туфлях, каждая женщина могла надеть на голову шляпку с перьями, у каждого аттестат, хоть и не гимназический, каждый может теперь стоять за прилавком в магазине, да еще и привередничать, каждый имеет возможность покупать книжки в книжном и перстни в ювелирном магазинах…
Мощная песня вдруг хлынула в зал. Перцова вздрогнула; отключившись на минуту, она не услышала, как Мисько Два Пальчика объявил номер, мелодия песни была знакомой, но название она не помнила. Перцова прислушалась: эту песню о бурлаках она слышала, еще когда была девушкой. Ставили в театре какую-то пьесу… Кажется, называлась «Тучи»… Мелодия тогда трогала до слез. Перцова и теперь заслушалась, но внезапно заметила, что перстень на руке повернут вверх бриллиантом, искоса поглядела на Копаневу и быстро повернула камнем внутрь.
Ах, этот перстень! Одно беспокойство, а не перстень.
А достался он ей… Да чего уж себя тем казнить, как ей перстень достался, — разве одна она такая, разве мало людей прокрадывалось тогда на Банковскую, где был выход на гетто, чтобы выменять у голодных евреев всякие драгоценности за хлеб. И ведь она туда все-таки не ходила. Зильберман, бывший собственник ее нынешнего дома, сам как-то пробрался на Монаховку — как он только сумел! — и, заросший, тощий, страшный, остановился на пороге комнаты, протягивая ее хозяйке последнее свое сокровище:
— Пани, смилуйтесь, дети опухли от голода. Все уже выменял, а этот перстень будет вам так к лицу. Буханочку хлеба, одну буханочку…
И что в этом плохого: хлеб у нее был, а порядочного перстня она никогда не имела, торг произошел быстро. Зильберман, плача от счастья, выбежал из дому, прижимая к груди хлеб, но это видел все тот же невоспитанный, в полотняных штанах квартирант Нестор. Перцова заметила, как паренек, стоявший в конце темного коридора, всхлипнул и опрометью бросился к себе в комнату, испуганная хозяйка — где-нибудь еще ляпнет! — рванулась за ним и, тормоша, допытывалась у него, что случилось, а он сквозь рыданья повторял одно и то же — непонятное:
— Я… так тоже… ходил в театр…
Все это быстро забылось, Нестор успокоился и об этом случае не вспоминал. Перцова, идя по Городу, оттопыривала палец с перстнем, а когда сидела, сложив руки на коленях, то непременно левая рука лежала на правой. Отец-профессор Баранкевич восхищался перцовичевской бижутерией, а соседи, как это всегда бывает в таких случаях, завидовали черной завистью.
Но прошли годы, и перстень врос в палец, снять его Перцова уже не могла, перстень мешал ей в работе, особенно когда она замешивала тесто. Пришлось идти к ювелиру, чтобы снять его с пальца.
Золотых дел мастер сильно подергал перстень на пальце Перцовой, так, что даже хрустнули суставы, и золотое колечко очутилось на его ладони. Он поднес его к свету и зачмокал, да так, что рука Перцовой невольно протянулась к сокровищу, а мастер тем временем возился с пинцетом над бриллиантом, вытаскивая из гнездышка какие-то волокна, и, сопя при этом, вдруг он спросил:
— Что это, что это такое?
— Да, должно быть, тесто…
— Тесто? Такой шедевр в тесте? Да понимаете ли вы, что запихивать его в тесто — это то же самое, что устилать пол полотнами Рафаэля?
— Сногсшибательно! — крикнула Перцова. По тону ювелира она поняла, какую ценность представляет перстень, хотя полотен Рафаэля никогда не видала. Перцова мгновенно смекнула, что это целое состояние, что он выручит в черный день: она выхватила сокровище из рук мастера и без «будьте здоровы» выбежала из мастерской, снова надела перстень на палец и больше не пробовала его снимать. И стал он для нее сокровенной радостью, и стал он для нее мукой, ибо выставлять на людях такое богатство ‘не смела, идти на Монаховку поздно вечером боялась и поэтому, заторговавшись допоздна, ночевала в буфете на автобусной площади, и давил этот перстень на ладонь большим камнем, и отнимал у нее сон, но и приносил ей радость: созерцая его и думая о нем, она легко переносилась в те времена, когда была молодой, когда определенная мелочь обеспечивала человеку красоту, самоуверенность и хорошее обхождение.
Торжественная и тревожно-грустная песня окончилась неожиданно веселой частушкой, и Перцова очнулась от задумчивости.
— Это что, уже другую поют? — спросила у соседки.
— Давно уже другую поют, — фыркнула Копачева. — Это вам все еще старое мурлычется. И чего бы это я, глухая, ходила на концерты, — снова фыркнула Копачева. — Для гонора и для людских глаз и в кафе за мороженым посидеть можно. Уйдете и даже знать не будете, что это исполнили песню нашего местного композитора Паламарского.
— Не смешили бы вы бога и людей, Копачева, — надула губы Перцова. — Я эту песню слышала еще тогда, когда шла к первому причастию. Разве что коломыйку прилепил к песне ваш Паламарский, да и то она ей идет, как козе второй хвост.
СОЛО НА БАНДЖО
— Соло на банджо! — выкрикнул со сцены Мисько Два Пальчика. Его появление перед занавесом после каждого номера зрители уже перестали было замечать, и Нестор подумал, что даже вечными напоминаниями о себе конферансье не всегда может спастись от забвения, но сейчас Мисько сумел снова привлечь к себе внимание, неожиданно заменив длинные тирады лаконичными и звучными словами:
— Соло на банджо!
В зале наступила напряженная тишина, потому что мало кто знал, что такое банджо, и авторитет Миська, поскольку он понимал значение этого слова, неизмеримо вырос; конферансье воспользовался благоприятной ситуацией и, торжественно сделав шаг вперед, взволнованно заговорил:
— И, распродав последние клочки земли, которые на глинистых холмах пересекались частыми межами, что врезались в души обездоленных гуцулов, они, как журавли, которые пролетают серыми шнурками за океан, устремились искать лучшей доли, и там, братаясь с обездоленными неграми, которые по вечерам грустно пели в сопровождении…
Миську вдруг изменило красноречие, он запнулся на полуслове, и Перцова раздраженно толкнула локтем Копачеву:
— Что он — белены объелся?
— А кто его знает… — ответила обескураженная Копачева, но в эту минуту Мисько снова обрел дар речи и, не рискуя больше вдаваться в поэтичный стиль, проинформировал:
— Они пели в сопровождении банджо. Банджо — это негритянский щипковый инструмент, у которого четыре или семь струн и на котором играют с помощью пластинки, которая называется плектр.
— Вот видите! — обрадовалась Копачева. — Поняли теперь?
— Почему бы это сразу не говорить по-человечески, а плести четыре ряда в десять прядей! — раздраженно фыркнула Перцова.
— Оставьте меня в покое! — рассердилась Копачева. — Ведь Мисько у вас набирался наук, а не у меня. Это же вы с паном адвокатом — может, вам и теперь старое снится? — выкручивали слова на такой манер, что обыкновенному человеку, слушая, даже неловко было за свою простоватость. То — «резюмируя», то «эвентуально», то — «консеквентно», а Мисько слушал, слушал, да и стал при вас пустомелей… Но кого это он зовет из зала?
Мисько приглашал кого-то рукой, зрители оглядывались назад, и наконец все остановили свои взгляды на Косте Американце, который и в театр пришел со своей неразлучной «мандолиной».
Эта «мандолина» с длинным грифом несколько дней назад стала предметом разговоров в Городе. Кто-то от кого-то слышал, что Кость по вечерам — в сквере или над Рекой — наигрывает на ней такой грустный мотив, что даже сердце сжимается, и люди удивлялись: что за причина?
Растерявшийся Кость встал с кресла и начал открещиваться жестами от такой чести, но на него смотрел весь зал, а безжалостный Мисько безостановочно махал ему рукой; Американец нерешительно подошел к сцене, Мисько подал ему руку, втащил старика на помост и объявил еще раз:
— Соло на банджо!
Перцова нагнулась к Копачевой и примирительно прошептала:
— А разве теперь не переиначивают? Печерицы называют шампиньонами, заплесневелый сыр — рокфором, а вот обыкновенную мандолину, только с длинным грифом, — ба-а-нджом!
— Да это еще старое не выветрилось…
Косгь прижал правым локтем инструмент, судорожно дернул пальцами, взмахнул кистью руки, но пока плектр не коснулся струн банджо, Кость посмотрел на ложу и встретился взглядом с Нестором: лицо режиссера было чуть грустным, и Кость почувствовал некую общность между собой и этим знаменитым «милостивым государем». В чем заключалась эта общность, Кость не мог бы сказать, ибо и по положению, и по образованию они были очень далеки друг от друга. Может, в том, что на большой планете существовал для них обоих единственный и одинаково дорогой Город, в который оба вернулись из своих дальних краев пешком? Наверно, так, но не только в этом…

Тогда, оставив на станции Парище три чемодана с американским добром, Кость так же, как и Нестор вчера, побрел через; дубравы, а когда добрался до Реки, упал на колени, чего не сделал Нестор, и так, на четвереньках, пополз по берегу, плача и целуя землю; прохожие и пастухи, глядя на него, удивлялись, принимали за сумасшедшего.
Нестор же вернулся, овеянный радостью и славой, В один Город они прибились, но из разных судеб. Что общего у них, кроме Города? Может, то, что они оба хотят принести людям пользу…
Кость и Нестор встретились глазами, подмигнули друг другу, как старые заговорщики, и улыбнулись, им обоим стало хорошо оттого, что вернулись из далеких странствий к своим, что над головами — крыша лучшего на свете театра, что в переднем ряду шмыгает длинным носом талантливейший из режиссеров — старый Стефурак, а рядом с ним — да, рядом с ним! — сидит с распущенными русыми волосами королева красоты — дочь Сотника, и возле ложи изредка переговариваются всезнающая Перцова и покровительница искусств — Копачева.
Кость еще раз дернул пальцами, но и на этот раз не ударил по струнам, он словно жалел свой инструмент, с которым приехал из-за океана. «А может, это единственное достояние, которое он там заработал?» — подумал Нестор.
О, нет! Кость за долгие годы заработал в Америке и собственный домик. Но вот случилось непонятное для него самого. Отдохнув наконец от непосильного труда, он нашел время для размышлений — до сих пор было некогда — и понял, что у этого труда на чужбине был какой-то свой, иной смысл: он спасал жизнь, а жить надо каждому человеку, достаток же и сытое существование среди чужих людей вдруг утратили смысл; в человеческом муравейнике Бостона Кость стал одиноким, как монах в пустыне, и никому, даже богу, не нужным. А кому достался труд его рук? Докеры продолжали грузить тюки в порту, в Бостоне вздымались небоскребы, а чьи они были — только не тех, кто надрывался на работах. А где-то там, в далеком Городе, человек ходит по улицам, как хозяин по своим комнатам… Начал думать, говорить об этом, но никто его не понимал, рассказы Костя о лучшем на свете Городе над Рекой не интересовали и смешили бостонцев. Ну. а что делать человеку, душу которого не понимают? Неужели он, человек, создан лишь для того, чтобы есть и переваривать пищу?
Иногда, уйдя на покой, тосковал о порте: там люди сочувствовали друг другу, если даже не могли понять языка друг друга, так как всех роднила тоска, тут же она донимала только одного Костя, и поделиться ею ему было не с кем.
Возвращаться в порт было ни к чему, и Кость надумал стать настоящим американцем, потому что жить в своей печали, как улитка в раковине, стало невмоготу: он надел цилиндр, купил себе трость — с такой, может, ходит сам Морган или Рокфеллер, — ни одного слова больше не произнес об этом галицком Городе, никому ни гугу, и поскольку жил в католическом квартале, не пропускал ни одной мессы в соборе.
И сразу стало легче жить, и, быть может, со временем превратился бы Кость в настоящего американца, — не он такой первый и не он последний, — если бы не случай в соборе в одну пасхальную пятницу, когда ему пришлось убедиться, что волка всегда в лес потянет, даже если он этого и не хочет.
Он стоял, как всегда, в набитом людьми храме такой же, как все, и принятый всеми за своего. Кость уже не заставлял себя думать, как надо складывать пальцы для креста и сколько раз креститься, и молился по-латыни не хуже, чем другие, но вот его взгляд упал на распятье, и так как-то тяжко вошло в его глаза измученное лицо Христа, и так был этот Христос похож на него самого — на того прежнего портового грузчика, а потом слесаря в доке — и еще напомнил ему Христос покойного отца, когда тот умирал под венгерскими шомполами в первую мировую войну, что Кость тяжело вздохнул среди шуршащей соборной тишины и произнес вслух, да еще с присвистом:
— То-то натерпелся, Иисусе — сын божий, фью-ю-ть!
И тогда Кость понял, что отрезал пути навсегда, что больше уже в это общество как свой не войдет, ибо ошарашенные и возмущенные бостонцы расступились и освободили ему дорогу, чтобы богохульник, который свистит в соборе, убрался вон из храма.
Он вышел. А идти ему было некуда, разве в свой нарядный коттеджик, в котором всегда господствовала жуткая тишина, как в подвальной тюрьме. Не хотел идти домой, поплелся по городу куда глаза глядят и невольно забрел в негритянский квартал. Негры в праздник отдыхали возле своих домов. Кость словно впервые увидел этих черных людей, его внимание привлекло тихое бренчанье струн и жгуче-тоскливая песня. Остановился и подумал, что у них такая же судьба, как и у него: может, и они в страстную пятницу вспоминали, как их свободных предков вырывали из родной земли охотники за людьми и продавали в вечное рабство…
Стоял и слушал. Старый негр оборвал песню, накрыв ладонью струны, и присмотрелся к белому человеку в цилиндре, долго смотрел на его печальное лицо, а потом спросил:
— Ты откуда?
Кость неопределенно махнул рукой в сторону океана, негр ударил по струнам, и снова зазвучала песня и снова оборвалась, негр протянул Костю инструмент и спросил:
— Играешь на банджо?
Кость кивнул головой, хотя подобного инструмента никогда в руках не держал — когда-то он умел немного бренчать на цимбалах, — взял банджо из рук негра и кое-как, неумело заиграл, да еще и запел, и хотя его песня была совсем иной, чем негритянские, черные люди закачали в тоске головами, ибо услыхали в ней эту тоску:
Вандрівництво — ізрадництво, вандрівництво — горе.
Хто би хотів вандрувати, най скочить у море…
Кость умолк и до крови прикусил губу, потому что только теперь к нему пришло полное осознание безысходности; старый негр встал и, тронув Костя за плечо, сказал:
— Возьми себе банджо. С ним будет легче.
Но легче не стало. Стало тяжелее. Песня будоражила, тоска сдавила сердце.
И Костю снова захотелось в порт, но уже руки не тянулись к работе, потому что был у него достаток; труд, который когда-то наполнял его жизнь, теперь был не нужен… Грузчики пели свои песни, а слышалась ему всегда та, которую сложил сам; опустошенный и измученный, он садился за руль и гнал автомобиль по ровной автостраде, гнал без цели, чтобы просто быть в движении, чтобы создавалась Иллюзия возвращения обратно. Сперва это помогало, но скоро тоже утратило смысл — как и вся жизнь. Здесь имели цену его физические силы, духовные же, которые проснулись в нем, никому не могли понадобиться: ни воспоминания, ни песни, ни язык; он сидел дома и играл, играл на банджо, а песня мучила и укоряла. Не будучи ни в чем виноватым перед родными краями, он начал чувствовать себя изменником. И однажды…
Однажды Кость, просматривая газеты, вдруг наткнулся на маленькую, в несколько строк, заметку, в которой сообщалось о сафре на Кубе. И не обратил бы он на нее, как и на сотни других, никакого внимания, если бы не одна фраза: «На тростниковых плантациях работают комбайны, которые поставляет Кубе… Город». Да неужели это его Город, о котором не хотели слушать гордые бостонцы? Город, который многим славился, но в промышленности остановился на производстве суперфосфата и щеток? Неужели это он поставляет теперь миру свои машины?
И Кость сообразил, что не видел его десятки лет, а за эти годы он, Кость, постарел, а Город, как видно, помолодел; пускай себе бостонцы живут у себя, а Костю надо, пока не поздно, мчаться к отчему порогу, ведь не тут, а там, наверно, нужны и его руки, и сердце, и мозг.
Он продал за бесценок все свое добро, купил билет и, упаковав три больших чемодана, два полегче и один очень тяжелый, сел на теплоход.
В чужім краю, в чужім краю марно пропадаю,
Бідна ж моя головонька, що роду не маю!
Но в Городе о нем помнили. В Городе жили в одном доме две его сестры.
Младшая, вдова с двумя детьми, работала в больнице медсестрой. Старшая, старая дева, несколько лет назад сбежала от сельского труда к сестре, та приняла ее, а потом не раз каялась, стыдясь перед людьми за тунеядку-спекулянтку. Кость из писем младшей знал кое-что об этом. Но все же приехал — к ним.
Три дня на радостях, что брат вернулся, справляли-сестры пир за его счет, но пир наконец закончился, и надо было подумать, как жить дальше. И Кость, чтобы не было недоразумений, заплатил сестрицам за вечное квартирование, отдал каждой по чемодану американских гостинцев, а в свою комнату отнес самый Тяжеленный чемодан, запертый на хитроумный замок.
И стало Костю хорошо жить. Кость ловил на реке рыбу, ходил поболтать к соседям и в буфет к Перцовой выпить пива, просиживал воскресенья в скверике в центре Города и рассказывал людям любопытные бывальщины о далекой Америке. Он носил с собой «мандолину» с длинным грифом, но не играл на людях, может, стеснялся.
Сестры уважали Костя и опекали его, но с какого-то времени он стал замечать в глазах старшей жадное любопытство. О, он понимал этот взгляд людей, которые узнали вкус денег! И заранее предупредил, что из всего заработанного в Америке оставил себе совсем немного — на пиво. Наконец старшая все-таки отважилась спросить, что у него там, в этом тяжеленном чемодане.
— Тебе нет дела до него, дудки, — сказал он с горечью. — Это мое добро. И только мое.
С тех пор Кость стал ощущать холодок старшей. Младшая же была по-прежнему любезна, собственно говоря, именно она его и опекала. Но вскоре Костю самому стало надоедать безделье. Он быстро уразумел, что без труда, который приносил бы пользу его Городу, не может чувствовать себя полноправным хозяином, без труда Кость — квартирант не только у сестер, но и в Городе, и он стал обхаживать директора завода.
Вадим Иванович долго присматривался к крепкому еще старику и все улыбался, повторяя: «Об этом надо подумать, стоит подумать», а в конце концов сказал — тоже добродушно, но вполне категорично:
— Рыбку ловите, Кость. Куда же я вас… Теперь все автоматизировано, темпы, ритмы, а вы уже немолоды…
— Что же вы меня так долго обнадеживали? — в упреком посмотрел на директора Кость.
— Надо было подумать…
Кость рывком передвинул из-за спины банджо, ударил по струнам и запел:
Америко, Америко, бодай би-сь пропала,
Що молодость i здоров’я у мене забрала! —
потом так же рывком перебросил за спину банджо и, уже не глядя на директора, который хотел было что-то сказать, вышел из кабинета.
А потом в Городе узнали, что Кость перешел жить от сестер на квартиру. Но по какой причине, никто не мог объяснить. А потом кто-то кому-то сказал, что Американец начал в тоске наигрывать над Рекой и в сквере, и люди подумали, что Кость быстро стареет.
Нестор смотрел на Костя. Он очень мало знал о нем, но все же тогда, ночью, почувствовал его печаль и понял, что старика мучит что-то, а поэтому не удивился, увидев, как две струны лопнули над грифом, когда Кость взял первый аккорд.
НЕСТОР
То ли конфуз Костя на сцене — а таких постыдных и смешных неудач было и у самого Нестора немало, — то ли то, что дочь Сотника повернула голову в сторону ложи, почувствовав на себе взгляд режиссера, и Нестор еще раз на мгновение снова пережил свою первую любовь, а скорее всего и то и другое побудило его вдруг задуматься: откуда же все началось, по каким дорожкам шла его судьба в искусстве, которая увела его из родного Города в далекий мир, а теперь возвратила обратно — седого и полного грусти?..
И зашуршали, как камешки в стремительном ручье, воспоминания за воспоминаниями…
Исчезла из глаз сцена, — маленький Нестор сидит у окна и смотрит на спокойное предвечернее село. Тихо, даже слишком тихо — ни шума, нм песен. Только вот по узкой дороге вдоль села между хатами проскакали всадники, и их закрыла завеса пыли. Ударилось об окна приземистых хат тревожное эхо, и сразу его подхватили вопли женщин и детей, со двора во двор летел страх, запирались двери на замки, ворота — на засовы, люди прятались на печках и на огородах в кукурузе.
— Штефанюк в селе!
— Разбойник Штефанюк в селе!
На какое-то время село затаило дыхание, онемело, а потом мужчины начали вылезать из-за плетней с топорами и вилами, кто-то бежал прямиком через выгон — давать знать гминной[6] полиции: люди выходили боязливо, но решительно и останавливались на дороге у конца села, как раз напротив окон Несторовой хаты.
Нестор оцепенел от страха, прижавшись лбом к стеклу, но оторвать взгляд от улицы не мог. «Отойди!» — крикнула на него мать и потянула за руку. И вдруг… вдруг он увидел, как сквозь разорванную завесу пыли, будто сквозь дым на пожарище, шел высокий коренастый мужчина с опущенными руками и поникшей головой.
— Он! — прошептала мать и судорожно схватила Нестора за плечи, но мальчик не понимал, почему мать боится: по дороге шагал совсем не страшный человек, согнутый, словно под непосильной ношей, и только одно отличало его от тех, что стояли стеной на дороге, — карабин в опущенной руке. Он подошел к ощетинившейся вилами и топорами стене и остановился.
Нестор приоткрыл окно.
— Кого из вас я ограбил, люди? — спросил человек громко, но мягко.
Стена покачнулась, но молчала.
— Кому петуха пустил, ребенка замучил, дочку обесчестил? — спросил громче мужчина, впиваясь теперь взглядом по очереди в каждое лицо. — Я же за вас… Почему вы с вилами?
— Мы хотим жить спокойно…. — И люди начали расступаться, теснясь поближе к своим воротам и огородам.
— Ой, люди, ой, людоньки… — сказал Штефанюк почти шепотом, поднял руку и с силой швырнул карабин в дорожную пыль.
Еще мгновение постоял, ожидая увидеть что-то в глазах мужчин, но они образовали проход в живой стене и жались к своим запертым воротам; он прошел по этому коридору, затем прямо пошел по улице и исчез за вербами. А приземистые хаты слепо смотрели ему вслед запыленными окнами, будто бельмами. Улица опустела, только посреди дороги чернел карабин Штефанюка. Его никто не поднял.

А на другой день в сельской читальне ставили спектакль «Олекса Довбуш». Наконец! Целый год полиция не разрешала, два раза — Нестор сам видел — разгоняла зрителей после первого действия. Село роптало, молодежь взбунтовалась, ворчали и старшие. Но наконец из повета[7] дали разрешение.
Шло третье действие. Нестор стоял у входа в толпе ребятишек, вытягивал шею, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. Он еще не умел хорошо схватывать смысл пьесы и чуть не плакал, что не мог до сих пор узнать, кто же из этих в расшитых бисером и украшенных цветами шляпах — Довбуш.
А ему так хотелось увидеть его, этого опрышка, про которого рассказывали перед сном сказки, этого разбойника, которым почему-то детей не пугали, а убаюкивали.
Потом на сцену вышел тот самый, что вчера бросил карабин в пыль, и люди ахнули.
«Это же Штефанюк играет самого Довбуша, — подумал Нестор. — Почему же его вчера прогнали из села?»
Штефанюк гневно посмотрел на оторопевших артистов, быстро окинул взглядом онемевший зал и крикнул:
— Довбуша почитаете? Вон отсюда! Не вам… не вам надевать опрышковский пояс!
Все это длилось какую-нибудь секунду, никто не успел даже крикнуть. Нестор спокойно смотрел, потому что думал, что это так и должно быть в спектакле.
Штефанюк расстегнул меховую, расшитую безрукавку, вытащил револьвер и так же, как тогда, на дороге, прошептал:
— Ой, люди, ой, людоньки…
Прозвучал выстрел. Нестор вздрогнул. «Наверное, в кого-то из панов», — подумал он, но тут увидел, что упал сам Довбуш и его сорочку залила крбвь. Слева от него валялся блестящий револьвер…
«Убили… Да… Его должны убить», — объяснял себе Нестор, только не понял, почему кричали люди и толпились у выхода, почему в дверях с противоположной стороны появилась полиция. Он стоял за дверью, трясся от страха и смотрел большими глазами на мертвое тело последнего атамана опрышков.
Смысл происшедшего Нестор понял гораздо позже. Но тогда впервые чудесным образом переплелись в его сознании правда жизни и каноны лицедейства, и поныне он не может выбраться из этого лабиринта.
На другой день после стефураковского «бенефиса» Нестор с отчаяннейшей решимостью отважился на риск. Он спрятал обеденную порцию хлеба в карман и в сумерках, когда евреи должны были возвращаться в гетто с работ, отправился на Банковскую.
Был голоден, потому что без этого обеденного куска хлеба «болтушка» Перцовичевой только булькала в животе; было страшно, потому что за такую торговлю его мог пристрелить без предупреждения щуцполицай; подбадривал себя мыслью, что проявит милосердие — поможет голодному, и только: о деньгах старался не думать, но взял их, конечно, все-таки взял — десять оккупационных злотых — из рук исхудавшей девчушки.
В ту минуту, когда брал деньги, что-то обожгло лицо. Он не знал, что это: снопик света от фонарика щуцполицая или это так ярко блеснули глаза голодной девчушки, когда она отломила кусочек хлеба и запихнула в рот. Нестор в ужасе побежал по Банковской, в переулках щупал ладонями свои щеки, которые горели, как обожженные, но он еще не понимал, что это значит…
В темноте наткнулся на знакомого: это был гимназист — восьмиклассник Миндик, бурсацкий староста, которого боялись не потому, что он верховодил в гимназической бурсе на улице Мицкевича, а потому, что вместе со своим коллегой Штабелем участвовал в акциях в гетто, — оба они уже понюхали живой крови, а люди, которым безразлична живая кровь, страшны. Нестор оторопел, но Миндик не задержал его, а только усмехнулся, как сообщнику, и пошел дальше, и тогда лицо Нестора стало гореть еще сильнее, и он все еще не осознавал отчего.
А потом видел «Вий» — от первого до последнего действия, а еще позже встретил на улице девушку, которая умела превращаться то в богоматерь, то в ведьму, и наконец решил стать актером, чтобы всегда быть рядом с ней.
Но как им стать? Прежде всего — надо знать пьесы и уметь произносить монологи. И он горячо взялся за драматургию. «Не было суждено» Старицкого учил на память на родном языке, «Балладину» Словацкого — по-польски, «Разбойников» Шиллера — по-немецки.
Больше всего восхищался Шиллером. Монологи Карла Моора бередили сердце саркастическим пафосом. Франц Моор возмущал его хитростью и коварством, однако суть произведения куда-то пряталась от Нестора, он не мог ее постичь, сознавал, что знает слишком мало, что для начала ему необходимо послушать хотя бы один урок о «Разбойниках» у прославленного в гимназии германиста, которого ученики за высокий рост прозвали Страусом.
Шиллера проходили только в седьмом классе, а Нестор учился в третьем, и он не мог осуществить свое намерение иначе, как убежать с урока и, когда Страус будет читать «Разбойников», послушать под дверью.
В коридоре было тихо, даже гимназический сторож, который любил прохаживаться по этажам и ловить прогульщиков, не появлялся. Нестор прилип к дверям седьмого класса и с затаенным дыханием слушал торжественный голос знаменитого германиста.
«…Карл и Франц — символы добра и зла. Между ними вечная борьба. Люди, восставшие против зла, победят, если верят в справедливость своего дела. Карл изуверился… Штефанюк изуверился… Одинокие герои бессильны… Против зла надо стать стеной… В мире теперь льется кровь… Добро борется со злом…»
Нестор слушал и злился, что у них, в третьем классе, преподает немецкий язык и литературу пусть и не сердитый, но слишком уж крикливый Ругик, который больше чем пол-урока все выкрикивает: «Ruhig!»[8], а другие могут слушать мудреца и настоящего артиста. Но Нестору мало было слышать голос несравненного Страуса, ему хотелось увидеть его жестикуляцию, поэтому, не стыдясь, он нагнулся к замочной скважине.
«Зачем я дал себя обмануть коварством злого сына? — потряс руками старый Моор — Страус. — Я поверил змее и потерял обоих сыновей!»
В эту драматическую минуту какой-то проказник или сам сторож толкнул Нестора в спину, он головой распахнул дверь, влетел в класс и, потеряв равновесие, рухнул на колени перед учителем. Раздался громкий вопль восторга, но тут же все смолкло. Страус, которого уважали за знания и представительную внешность, поднял руку, призывая к порядку, и спокойно спросил Нестора:
— Куда ты так спешишь?
Растерянность Нестора длилась лишь мгновение: впервые в жизни он очутился перед публикой и ему надо было играть роль. Поняв, что уклониться от этого уже невозможно, он встал, вытянулся перед учителем и сказал:
— Я хочу отвечать.
— Отвечать? — воскликнул Страус. — А что ты знаешь о «Разбойниках» Шиллера?
— Я знаю на память первое действие этой драмы.
— Ого!.. — Ну, хорошо. Тогда прочитай мне монолог Карла из второго явления.
Нестор подумал, затем на глазах пораженного класса подошел к столу, взял первую попавшуюся книжку, вынес на середину кресло, сел и углубился в чтение. (В классе было так тихо, что Нестор почувствовал: еще мгновение — и взорвется негодующий крик учеников и самого учителя, но паузу Карла он должен был выдержать, — небрежно отложив книгу, Нестор произнес сквозь зубы:
— «Меня тошнит от этого чернильного века, когда я читаю у моего Плутарха о великих людях… — Нестор встал, взмахнул рукой. — Яркая искра Прометеева огня погасла, вместо нее обходятся теперь бенгальским огнем, этим театральным пламенем, которым и трубку не зажжешь. Французский аббат поучает, что Александр Великий был труслив, как заячий хвост. Чахоточный профессор, — в голосе Нестора зазвучал саркастический смех, — после каждого слова подносит флакон с нашатырным спиртом к своему носу и читает лекцию о силе…».
— Genug… — сжал ладонями виски Страус. — Genug!
Со второй парты встал какой-то ученик, учитель махнул ему рукой, чтобы не мешал, тот сел, а Нестор, не слыша Страуса, продолжал в экстазе:
«Им не хватает духа опорожнить стакан, потому что им приходится пить за чье-то здоровье, они подлизываются к дворнику, чтобы он замолвил за них словечко перед его милостью…»
— Genug! — учитель вытер платком глаза, а со второй парты снова вскочил тот же ученик.
— Извините, профессор, — смущенно сказал он. — Я сегодня не подготовился.
— A-а, попался, голубчик Генюк, получай цваер! — засмеялся Страус и записал в журнал двойку ученику, который перепутал немецкое слово «Genug» — «довольно» — со своей собственной фамилией, затем положил Нестору руку на плечо и вдохновенно произнес:
— Артистом будешь, юноша… Артистом! — Он оглядел с ног до головы неуклюжего третьеклассника, который едва еще пришел в себя и стоял теперь смущенный, в полотняных крашеных штанах и мятой курточке, и, вздохнув, добавил: — Ничего… Ходи в театр, не пропускай ни одного спектакля. Только, когда пойдешь, хорошенько вымой руки…
Нестор покраснел, поднес пальцы к глазам, руки были чистые, и он, обиженный на знаменитого германиста, которого обожествлял, опрометью выбежал из класса.
Не пропустить ни одного спектакля? Но как? Ведь в проходной театра стоят длинноносый злющий Стефурак и Августин Копач, а у Нестора ни гроша нет за душой. Однако он уже знает, как можно раздобыть деньги — надо достать буханку хлеба! Но у Перцовой не получишь и крошки лишней, а у отца в селе — только кукурузная мука на кулеш. Нестор долго думал, И перед Новым годом в его голове созрел неожиданный план. Он соберет нескольких ребят, они пойдут с козой в бурсу и станут колядовать!
Ех, бурсо, кохана бурсо,
Ми твої вірнії сини…
Коли ми йдемо з бурси
На ті любовні курси…
Когда и кто из обитателей общежития на улице Мицкевича сложил эту бравурную песню и что означали слова о каких-то «любовных курсах», над этим Несторовы ровесники не задумывались, но наставник бурсы Штефан Сичкарня хорошо понимал их смысл и знал, что призывает песня не только к кавалерским подвигам. Услышав мелодию бурсацкого гимна, он мгновенно выходил к воротам, подозрительно приглядывался к гимназистам и, если это происходило еще ранней осенью, запирал на ключ калитку в свой огород, где можно было голодному бурсаку попастись на огурцах, початках кукурузы и спелых тыквах, зимой же он выставлял на стражу возле кухни кухарку Ганну. Грозная и неприступная, с тяжелым половником в руке, она простаивала так часами, и разве только взрослому Павлюку из восьмого класса удавалось очаровать ее любезным разговором, во время которого на кухне что-то исчезало — буханка хлеба или котелок каши.
Каждый добывал себе хлеб или деньги как только мог, ибо той пайки, что выдавали гимназистам, не хватало, чтоб быть сытым, даже на дорогу до гимназии, а не то чтобы выдержать шесть уроков за филиппиками Демосфена, комментариями Цезаря о Галльской войне и комедиями Аристофана.
Шестиклассник Гарбузович, у которого была склонность больше к технике, чем к классическим наукам, в самом разгаре подготовки к коллоквиумам устраивал в электросети замыкания, а так как исправлять никто не умел, то он ходил из комнаты в комнату и объявлял: «По восьмушке хлеба с группы — и будет вам свет». А Миндик со своим коллегой Штабелем делали иначе, но об их способах добывания денег Нестор узнал немного позже…
Итак; с козой в бурсу! Мисько не хотел идти. Миську и не надо было, ибо его папаша как-никак, а все-таки был адвокатом; наконец, у Миська не было особой тяги к театру, его привлекала больше литургия. Что ж, это тоже своеобразный театр (разве не научился он искусству конферансье во время дьячкования?). Нестор махнул на Миська рукой, нашел в своем классе трех энтузиастов, и в новогодний вечер, отложив пение бурсацкого гимна на потом, когда уже будут возвращаться с богатой добычей, они, наряженные козой, чертом, медведем и Маланкой, тихо проскользнули в гимназическое общежитие.
Наша Малайка товар пасла
Та й, пасучи, загубила… —
вкрадчиво забубнили мальчишечьи голоса под комнатой шестого класса. Скрипнули двери, раздался смех, Нестор с друзьями быстрехонько прошмыгнули в комнату и закрыли за собой дверь — не дай бог Штефан Сичкарня услышит, тогда будет им колядованье! Маланка с медведем пустились плясать, черт подталкивал их вилами, чтобы плясали быстрей, а коза ходила с торбой от ученика к ученику, собирала за колядованье краюшки хлеба, благодаря учеников каждый раз изысканным книксеном, которому позавидовала бы изнеженнейшая барышня из института Василианок.
Из соседних комнат, заслышав колядку, начали сходиться старшие гимназисты, в торбу козе посыпалось еще больше добра, колядующие на радостях допели длинную щедровку про Маланку, как та, ища коров, заблудилась в чистом поле, где Васильчик пашет-сеет, и все окончилось бы наилучшим образом, но в комнату вошли восьмиклассники — выкормыши УЦК[9] — Миндик и Штибель.
— Много собрали для торгов на Банковской? — Миндик содрал козью маску с головы Нестора и заглянул в торбу. — Ого, — причмокнул он языком, — это, наверное, для самого раввина?
Нестор побледнел. Он вспомнил свою встречу с Миндиком в переулке возле гетто и понял, что попался, но сверлящие глаза Миндика потеплели, он потрепал Нестора по плечу и сказал:
— Больше не ходи туда, парень, а то устрою тебе пиф-паф, — он сделал жест указательным пальцем. — Я тебя научу, как продавать хлеб. А где же ваш цыган? Что это за Маланка без цыгана? А ну-ка приведи, Штибель, нашего.
Ученики, находившиеся в комнате, похолодели, так как знали, кого имеет в виду Миндик. Наставник бурсы, этот скряга Штефан Сичкарня, который, казалось, все время что-то ел, потому что безостановочно жевал беззубым ртом, за что его и прозвали Сичкарней (Соломорезкой), тайно держал в дровяном сарае цыгана. Цыган рубил для кухни дрова, зарабатывал деньги, а по вечерам ходил по богатым домам и, рискуя жизнью, покупал хлеб для своих цыганят, которых прятал неизвестно где…
Штибель по эсэсовски щелкнул каблуками, вышел маршевым шагом и через несколько минут втолкнул в комнату перепуганного смуглого мужчину с проседью в черных кудрявых волосах. Глаза у цыгана бегали, как у загнанного зверька, он умоляюще смотрел на ребят и вдруг съежился под жестким взглядом Миндика.
— Не бойся, дурень, — Миндик цыкнул слюной сквозь зубы. — Мы тебе хотим продать хлеб, чтобы ты не шлялся по Городу по вечерам, не то там немец тебе сделает пиф-паф! Вот видишь, сколько его — хватит на целую неделю для всей твоей оравы. Давай сто злотых.

Губы цыгана мелко задрожали, он с благодарностью посмотрел на грозного Миндика и вынул из кармана десять измятых банкнотов.
— Паночек… Спасибо, паночек.
— Ему плати, — показал Миндик на Нестора.
И снова тот же самый жар, что и тогда на Банковской, обжег Нестору лицо, только теперь он уже знал, что не свет из фонарика щуцполицая, и не жестокость Миндика, и не голодная жадность цыганских глаз обжигают его, — это ошпаривал лицо кипящей смолой страшный стыд. Нестор, постигший теперь науку этих упырей, которые понюхали живую кровь, взял у цыгана деньги и отдал ему наколядованный хлеб. И вдруг… перед ним открылись массивные кованые двери театра. Стефурак и Августин Копач отвернулись, словно и не видели его, никто не требовал у него билета, на сцене шел «Вий», люди, увидев Нестора, вставали со своих мест и переходили в последние ряды, он сидел в первом ряду один, черти со сцены протягивали к нему когти, ибо узнали своего…
Цыган с мешком хлеба вышел впереди Штибеля и Миндика.
Нестор опрометью бросился по коридору к выходу и там встретился со всеми тремя. Цыган сидел на полу и отчаянно выл, Штабель с Миндиком остановили Нестора и подали ему торбу с хлебом.
— Бери, это твое, наколядованное, — сказал Мин-дик. — А нам за маклерство дай пять бумажек. Теперь ты уже знаешь, как доставать деньги: чтобы и в кармане они были и чтобы на Банковской не сделали тебе пиф-паф?.. А ты замолчи, — гаркнул он на цыгана, — не то немца приведу!
Нестор дико закричал. Он закричал так, что даже Штабель с Миндиком оторопели, бросил мешок с хлебом цыгану, а все десять банкнот — в лицо упырям и выбежал, плача и проклиная и себя, и театр, а обожженные щеки пылали от жара, и он уже слишком хорошо знал, что это такое.
А кто-то вдогонку ему кричал голосом учителя Страуса:
— Вымой руки! Вымой руки! Вымой руки!
Третье воспоминание было таким болезненным, что для Нестора оно было как открытая рана.
Шла последняя гимназическая весна…
Предстоящей осенью учебный год уже не начнется — гитлеровцы реквизировали гимназию под госпиталь, а потом, убегая из Города, подожгли ее, и после трех дней зловещего пожара, который в отчаянии наблюдала вся округа, на месте гимназии остались только обгоревшие массивные стены, из которых через десять лет возродилась еще более красивая Первая городская школа…
Это и случилось в ту весну, когда в Город прибыл сам губернатор Отто Вехтер руководить набором в дивизию СС «Галичина». В честь его визита ребята из баудинста[10] вывели из строя мощную камнедробилку, которая день и ночь без умолку скрежетала на городском рынке.
Генюк, тот семиклассник, что так неудачно схватил двойку во время дебюта Нестора как актера, поймал его в коридоре во время большой перемены и потащил в свой класс.
— Ты, артист из погорелого театра, ты, наверное, и «Фауста» знаешь на память? Будешь сегодня за меня отвечать!
Нестор ни о каком Фаусте вообще ничего не знал, он упирался, но Генюк силком посадил его возле себя.
— Ты у меня смотри: как только войдет Страус, должен встать и сказать: «Я еще и «Фауста» знаю на память». Если не сделаешь этого, он спросит меня и влепит другую двойку, а одну я уже заработал из-за тебя.
— Да я не знаю, кто это такой — твой Фауст, которым ты мне голову морочишь, — еще раз дернулся Нестор.
— Ну и осел! — Генюк в отчаянии взмахнул руками. — Тогда катись отсюда к черту, на что ты мне, такой дурак, сдался?
Однако уходить уже было поздно: в класс вошел, прижимая к груди томик Гёте, величественный Страус.
Но Генюк не растерялся. Он держал в запасе на самый критический момент еще один спасительный фокус. Зная, что у грозного учителя есть уязвимое место — страх перед всем, что может выстрелить, — он вынул из кармана карабиновый патрон и поставил его торчком в круглое гнездышко под чернильницей.
Учитель обвел взглядом класс, задержался на Несторе, едва заметно улыбнулся ему, но ничего не сказал; взгляд Страуса скользнул влево, и жертва — Генюк — уже была поймана, однако тот, не ожидая, пока его вызовут, сам встал и многозначительно посмотрел на патрон.
— Erzahlen Sie mir…[11] — начал было Страус, но вдруг заметил патрон — глаза его испуганно округлились, и он проговорил, запинаясь:
— Что это… Что это такое?
— Эго патрон из десятизарядного карабина, господин профессор.
— Так… но он может… он может выстрелить!
— Может, господин профессор, — спокойно ответил Генюк, — если его вставить…
И в этот момент раздался выстрел. Но не в классе, а где-то совсем близко за окном.
Ученики вскочили с мест, бросились к окну, подбежал и Страус: на рыночной площади — ее хорошо было видно с третьего этажа здания гимназии — стояли привязанные за ноги к вбитым в брусчатку железным сваям восьмеро парней из баудинста, а еще один уже лежал ничком; раздался второй выстрел — ученики вздрогнули, Страус зажмурился — и упал второй парень; выстрелы раздавались еще и еще, парни молча падали навзничь, один за другим, и только последний, перед тем как прозвучал девятый выстрел, закричал:
— Я не виноват, не виноват!
Но и он упал лицом вниз.
Класс стоял, замерев от ужаса. Выстрелов больше не было слышно, но плечи Страуса продолжали вздрагивать, как после каждого выстрела. Потом учитель повернулся к классу и дрожащей рукой показал на патрон, что стоял торчком в гнездышке для чернильницы.
— Ты… ты хотел стрелять в Гёте, а надо… надо — в выродков, которых породила его земля.
Генюк всхлипнул, накрыл ладонью патрон, сжал его в кулак, стиснул зубы и, с трудом шевельнув губами, произнес одно только слово, но его услышали все:
— Хорошо.
Он стоял — коренастый, совсем взрослый, мужественный, и трудно было теперь поверить, что этот сёмнадцатилетний юноша несколько минут назад из страха перед двойкой пускался на наивные мальчишеские хитрости.
У Страуса еще долго мелко тряслась голова, но наконец он овладел собой, выпрямился и тихо начал читать последний монолог доктора Фауста:
…Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они…[12]
Вскоре исчез из Города гимназист Генюк и пропала неведомо куда молодая артистка театра Завадовская. Больше их Нестор не встречал.
Оно только промелькнуло…
Советские войска изгнали оккупантов. Хортисты отступили за Карпатский хребет. Нестор жил в селе у родителей, потому что никакой учебы пока не было.
В селе стоял гарнизон. В хате Нестора жил начальник гарнизона лейтенант Скоробогатый. Офицер и Нестор подружились, парень признался лейтенанту, что мечтает о театре, Скоробогатый рассказал, как он, еще мальчуганом, снимался статистом в Довженковском фильме. Нестор очень привязался к молодому командиру и часто приносил ему из лесу землянику.
Однажды лейтенант сказал:
— Чем я могу тебя отблагодарить за твои вкусные подарки?
— Дайте разок выстрелить из вашего револьвера…
— Это можно, — согласился лейтенант.
Они пошли на луг, и Скоробогатый спросил, подавая пареньку револьвер:
— Во что ты хочешь выстрелить?
Нестор оглядел луг, он был ровный, ни одной подходящей мишени не было видно, только по кочкам бродил высокий аист. Нестор потом не мог объяснить себе, почему прицелился в птицу, если прежде убегал со двора, когда мать резала курицу; то ли детская душа уже привыкла к кровавым зрелищам, то ли так обесценивалась жизнь в его глазах за время фашистской оккупации, что какая-то там птица уже ничего не значила, — он прицелился в аиста.
В то же мгновение лейтенант Скоробогатый, который прошел по полям смерти от Киева до Карпат, ударил Нестора снизу по руке, пуля свистнула в небо, аист взлетел, а лейтенант яростно крикнул:
— Негодяй! — и грубо выругался. — Театра захотел!..
…Концерт окончился. В зале поднялся шум. Мисько Два Пальчика раскланивался со сцены за всех исполнителей, скромно прижав руку к сердцу, отводя глаза: мол, не хвалите меня так, я всего-навсего исполнял свою обязанность. Люди вставали, кое-кто поглядывал в ложу. И, конечно, никто в зале не знал, о чем думал сейчас режиссер. Впрочем, нет — знали. Они видели фильм, это его воспоминания ожили час назад на экране.
Нестор стоял, переполненный щемящим ощущением счастья, и думал: «Мне хорошо сегодня… Я достиг того, о чем мечтал еще в детстве. Все прожитые годы я отдал осуществлению своей мечты, но никогда не думал, что она так счастливо исполнится. Большая радость пришла ко мне, и мне порой кажется, что все это не явь, а юношеский сон… Да. Тебе хорошо, Нестор… Однако берегись: как бы незаметно не вкралось в твою душу самодовольство улитки, которой так же уютно в раковине, как тебе — в тоге славы?… Но разве ради славы я вступил на путь искусства? Нет! Я хотел принести какую-то пользу тем людям, которые распахнули для. меня мир. Отблагодарить их… Так достиг ли я того, о чем мечтал? Я задумал создать фильм о моем ровеснике, но сегодня показал своим землякам лишь начало этого фильма, ибо сегодняшнего ровесника с его новой жизнью в этом обновленном Городе я еще должен познать».
И Нестору снова вспомнились шахматисты в поезде. Это же они, это они — нынешние, обдумывающие ходы в сложной шахматной партии своей жизни, а он их так мало знает.
Это новое поколение родилось тогда, когда расстреливали на рынке парней из баудинста, когда юноша Генюк во время визита Вехтера поклялся мстить фашистам, а пятнадцатилетний Нестор, месяцем позже, когда уже в Город приехал сам генерал-губернатор Франк, встретился со Страусом и Стефураком в темном подвале керамического училища — как заложник.
«В то время и родились нынешние шахматисты. Они не помнят войны, военное эхо могло только отдаленно отозваться на нетронутой струне их памяти, но они о нас знают больше, чем мы о них. Справедливо ли это? Познавая их, нужно ли так уж много привносить им из своего пережитого? Конечно, надо — как предостережение. Только надо остерегаться, чтобы это не сопровождалось жестами превосходства, высокомерия, потому что их полноценность измеряется категориями не менее весомыми, чем когда-то наша, — трудом измеряется — родным братом борьбы… Может, я не использовал в своем фильме эпизод встречи со Страусом и Стефураком в тюрьме только потому, что боялся противопоставлять себя тем, кто ничего подобного не мог пережить? Или слишком оно болезненное — это воспоминание?.. Слишком мое… или сохраняю его для нового произведения — о них, сегодняшних гроссмейстерах жизни?»
БАНКЕТ
— О tempora, о mores![13] Сколько лет, сколько зим! Per aspera ad astra![14] Смелого пуля боится! Fortes fortune juvat![15] — выпалил всю свою премудрость словно из пулемета Мисько Два Пальчика, остановившись с распростертыми для объятий руками в дверях ложи.
— О Мисько, — прервал его Нестор, — ты прирожденный артист, но пойми, что на сегодня всем нам уже довольно сцены.
— Что ты, что ты! «Театр — мой кумир, священный храм для меня…» Ну, откуда это? «Суета». О Нестор, тебя сам бог послал к нам в Город! А я тоже вырваться хочу отсюда! Ты не можешь меня понять: провинция, заскорузлость, примитивные вкусы. Я ночами не сплю, думая о том, что где-то существуют большие города, избранная публика, столичная сцена, киностудия! Вот только послушай, что я могу! — Мисько задвинул за собой ширму и, не давая Нестору вставить хотя бы слово, продекламировал, закрывая лицо полою блузы, как мантией: «Да. Быть или не быть — вот в чем вопрос. В чем больше достоинства: молча терпеть тяжкие удары ненавистной судьбы или стать с оружием против моря мук!» Ну, откуда это? «Гамлет», мой дорогой Нестор. Возьми меня на киностудию, ибо я тут пропаду, ведь, как говорили древние римляне: искра, которая не хочет попасть под пяту, должна стать звездой!
— Ну, хорошо, хорошо, Мисько, но прежде всего нам надо поужинать, уже семь. Беги опрометью вниз и задержи товарища Ткаченко, Перцову, Копачей, Американца и… и кого там знаешь… — Нестор почему-то не мог при Миське произнести «дочь Сотника», и к тому же он не знал, как зовут ее дочь, взял Миська за плечо легонько вытолкнул из ложи, сам тоже сбежал по ступенькам вниз и в узком фойе вдруг встретился лицом к лицу с самой красивой на свете девушкой, которую назвал именем гоголевской героини.
— Вы — моя пленница, — взял он ее за руки, — но сперва скажите, как вас зовут?
— Вашу пленницу, — она сложила руки на груди и смиренно поклонилась, — зовут Галей, а фамилия ее — Генюк.
— Генюк?! Почему — Генюк… — изменился в лице Нестор. — Вы же Завадовская.
— Разве вы не знаете, что детей называют по фамилии отца, — улыбнулась Галя. — Мой отец был Генюк… Василь.
— Был?.. — «Genug!» — хотелось выкрикнуть Нестору любимое слово Страуса, чтобы вызвать из небытия переростка из седьмого класса, который в одну трагическую минуту стал мужчиной и одним коротким словом поклялся бороться с убийцами.
— А мама была Завадовской.
— Была… Тоже — была?
— Да. Меня еще младенцем принесли с гор к Стефуракам…
— Это вас… Вадим Иванович?!
— Да, да… У меня два названых отца. А родной не вернулся из Ковпаковского рейда. Маму же гитлеровцы расстреляли… Но зачем вы об этом? Мы вспомнили слишком тягостное. Не надо… — Галя снова улыбнулась, и ее большие глаза приблизились к Нестору. — Стефурак, как только прочитал сообщение в газете о премьере, места не мог себе найти. А сколько рассказывал о вас… — и замолчала, будто ей неудобно стало, что она посвящена в тайны чужого человека.
Нестор неподвижно стоял, держа за руки девушку. Смотрел в ее глаза, а видел ту, которую полюбил впервые — слишком преждевременно, и видел эту вот, что пришла к нему вместо матери: эх, не поздновато ли…
Перед ним снова предстала волшебница из «Вия», та, что когда-то ослепила его красотой и благодаря которой он, терзаясь в слепой тоске, нашел вместо любви славу. А что несет ему эта — обыкновенное человеческое счастье, которого он не знает, или еще одну муку, которая окупится новыми лаврами?
Глаза у дочери Сотника были зеленые, как трава, они все росли и росли, и стали одним большим кругом, и стали озером, а потом морем…
— Дочь Сотника, — прошептал Нестор.
— Нет, я не дочь Сотника… Я совсем не та, кого вы вспомнили. Не надо иллюзий…
— Почему я вижу в ваших глазах грусть?
— У меня была своя жизнь, как и у каждого…
— Я о вас ничего не знаю, Галя. Для меня вы сегодня — только образ вашей матери.
— Ничто не повторяется, Нестор. Я — другая, и прошлые чувства ваши тоже не могут повториться… — Галя высвободила свои руки из его ладоней, — вы ведь пропащий человек, для вас каждое впечатление, каждая встреча — это только материал для творчества. Правда?
— Кто знает, Галя…
— Не надо сантиментов, режиссер. Идемте. Я же ваша пленница. Ведите же меня в свой плен.
— Неужели не может повториться? — сказал Нестор точно про себя и склонился к Гале.
— Нет. Может начаться только новое. И у каждого — свое… Но для этого надо освободиться от прошлого. А это так трудно…
Оба встрепенулись от возгласа:
— Бесподобно! Мы ждем его у выхода, а он…
Возле них, лукаво улыбаясь, стояли Перцова и Копачева.
— Простите, — проговорил взволнованный Нестор, — я же ищу вас, Миська послал…
— Кого вы искали и кого нашли, мы уже видим. Но свою вину вы тяжело искупите. Зовите, Копачева, всех в буфет. Ты смотри, какой он гордый, — в ресторацию собрался нас вести! Да разве я, Перцовичева, позволила бы, чтобы гость угощал хозяев? Целый день готовилась. А ну, айда на вареники!
— Я сейчас, — метнулась куда-то раскрасневшаяся Галя. — Где-то папа Стефурак ждет.
— А куда делись ваши артисты? — спросила Копачева у Нестора.
— Они подойдут, не тревожьтесь.
…Перцову будто подменили. Это заметили все, кроме разве что старого Стефурака, который сидел рядом в приемной дочерью и все время тянулся через стол к Нестору, будто хотел ему сказать что-то важное, да еще Миська Два Пальчика — он все-таки сел возле Нестора и, приложив ко рту ладонь лодочкой, безостановочно о чем-то нашептывал ему на ухо. Однако и Кость Американец, и супружеская пара Копачей, и сам Нестор видели, что Перцова будто вдруг сбросила с лица маску гордого превосходства, напускного аристократизма и стала такой, какой она была, должно быть, еще до того, как стала собственницей гимназического аттестата в резной рамке, мануфактурной лавочки возле ратуши и перстня с дорогим бриллиантом на пальце левой руки.
Еще сегодня, готовя вареники, она лепила их с каким-то глухим раздражением: ведь правда, как же это так сумел этот паренек в полотняных штанах, извините, подняться вон как высоко над ней, над всем Городом? Сегодня на концерте ее раздражало все: и длинные волосы Нестора, и кривлянье Миська, и Копачева с ее наивным восхищением патлатым режиссером, и вдруг — откуда только взялось это ощущение? — в тот момент, когда несла на стол первую миску вареников, почувствовала, что все эти высокие гости — и ее гости тоже, и ее гордость, и ими не кто-то там, а она должна гордиться, и уж ни в коем случае нет у нее оснований завидовать им.
А Копачева подумала: «Да, резко я ей сказала, у меня что на уме, го и на языке. Но пусть знает, что все ее чванство, как мыльный пузырь, что теперь ценят людей за труд и ум, а не за то, из какой семьи они происходят…» Каролина пристально посмотрела на Анелю, с которой как-никак дружила много лет, и сказала про себя: «Право же, помогли мои слова… А может, не мои слова, а этот Нестор причина того, что, глянь, на глазах выветривается из нее мещанский дух».
Пока накрывался стол, Мисько уже успел выпытать у Нестора, сколько он зарабатывает, как оплачиваются кинороли и режиссура, сколько у него комнат в столичной квартире, похвалился, что построил себе особнячок в предместье намного лучше, чем у Перцовой на Монаховке, и, наконец, шепотом спросил о том, что его больше всего интересовало:
— Машина есть?
— Нет…
— Почему?
— Путаю каждый раз левую руку с правой.
— Это плохо… А я буду иметь. Не сегодня-завтра. Хочешь спросить, откуда у меня деньги? Э-э, надо уметь жить! Мама свиней откармливает, а сосед продает. Это, я тебе скажу, лучший бизнес. Кое-кто разводит нутрий, но это пустое дело, ибо зависит от моды: когда покупают, а когда — нет. Я пробовал. А свиньи с деда-прадеда хорошо окупаются, ведь людям всегда надо есть. Я со дня на день жду машину — мне удалось пробиться вне очереди. Да, не сегодня-завтра буду иметь…
— Это хорошо, Мисько… — сказал Нестор, не глядя на собеседника. — Сможешь на ней возить поросят на рынок.
Наконец стол был накрыт. Ткаченко поднял рюмку.
— Я буду краток, товарищи. Поднимаю этот тост за нашего Нестора, за актеров, за удачу. И выпить эту рюмку хочу за вторую серию фильма. Нестор знает, что я имею в виду.
— Спасибо, — поклонился Нестор. — Я знаю — что, но еще не знаю — как. Как сделать…
— Это дело наживное, — встал тяжелый, широкоплечий, с добродушным крестьянским лицом Августин Копач. — Потому как говорится: если бы я был таким мудрым вчера, как сегодня, то знал бы, что должен делать завтра… Мой отец, скажу вам по правде, был совсем простой человек, только то и умел, что торговать скотиной, но в Вене бывал чаще, чем сам император Франц-Иосиф. А что с того — не было ничегошеньки с того. А я, если бы так пил при буржуазной Польше, как сегодня, то стал бы нищенствовать. Да и все тут. А сегодня, как говорится, есть и хлеб и к хлебу, да еще и на кино. А ежели бы кино не было б, так не было бы и режиссеров. Вот я, по правде вам говоря, хочу выпить за нашего режиссера, потому что это не какой-нибудь там растяпа, а человек из нашего Города. Потому что, как говорится, — Августин кашлянул в кулак, — коль дали тебе пить — пей, а не выпьешь, так выпьет кто-нибудь другой…
Ткаченко засмеялся, ничуть не обидевшись на копачевское дополнение к его тосту, Галя улыбнулась и обдала горячим взглядом Нестора, искренне засмеялся и сам Нестор.
Приободрившийся Копач ловко опрокинул рюмку, потом покосился на Каролину. Увидев, что она занята разговором с Перцовой, налил себе еще раз и, воспользовавшись тишиной, всегда наступающей после первого тоста, поторопился начать разговор, потому что боялся, что если не наговорится теперь, то потом уже не дадут.
— Это я начал о кино говорить, о людях театра, но я вот про себя не раз думаю, как это происходит: из-за какого-нибудь глупого поступка, который никогда и во сне не мог привидеться, иногда человек может стать не тем, кем должен быть, а совсем другим. Ну вот я, простой мужик, столяр из Залучья, стал человеком театра, и из-за кого бы вы думали — из-за козы…
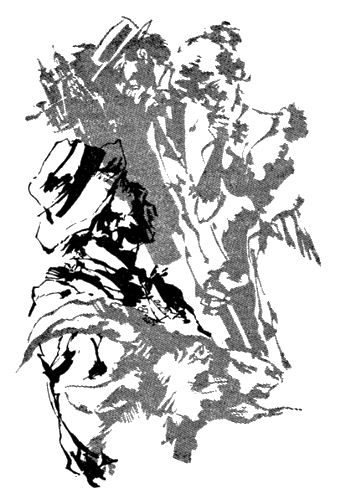
Галя подмигнула Нестору, приглашая его послушать историю, которую слышала уже не раз, но он и без того не сводил глаз с Копача: сторож театра, которого в детстве называл не иначе, как цербером, теперь раскрывался перед ним во всей своей человеческой колоритности.
— Знаете, после первой мировой войны мне так туго пришлось, что с голодухи опух. Во время пацификации[16] трижды били меня польские полицейские, но за что — не понимаю и теперь. Однако терпел. А вот как пришла лицитация[17] за подати, то уже выдержать не мог. Продал корову, продал свинью, одна коза осталась — все одно податей не заплатил. А Каролина говорит: «Тут, в селе, мало платят, ты бы пошел с козой в Город да продал ее на рынке». В Городе я еще не бывал, но моя Каролина такая, что как скажет иди, то и должен идти. Взял я козу на шнурок и пока протопал эти четыре мили и добрался до Города, рынок уже почти опустел. Стал с козой в сторонке — подходит какой-то маклер и просит дать за посредничество пять злотых. Пять злотых в Залу чье — это были большие деньги, и я, конечно, не согласился. А потом пожалел, потому как покупателей не было, а солнце уже начало краснеть над загородными халупами. Потащил я козу за шнурок и подался домой через самый центр Города…
Копач отпил из рюмки, снова покосился на Каролину: слава богу, она еще не наговорилась с Перцовой.
— Настоящих городских панов я еще не видал, так говорю вам правду, аж рот раскрыл! Ведь полицейские хотя и паны, но в мундирах — вроде как военные. Залучанский помещик — тоже пан, но, как говорится, с заплатанным нижним местом: земли много, денег до черта, а ходит в худшем рванье, чем Гершко-лавочник. Гершко, эго каждый знает, не пан, как эта коза — не скотина. А тут — боже мой! И молодые и старые такие тебе пышные да разнаряженные, все в шляпах, даже панночки, колени, прости господи, голые, аж стыдно, губы намалеванные, ногти намалеванные…
— Уже напился, старик, и стыд потерял! — оборвала Копачева разговор с соседкой, решив, что Августин слишком много себе позволяет в присутствии важных гостей.
— Пусть говорит, — успокоил ее Ткаченко. — Это ведь интересно.
А Нестор даже поморщился, взглядом умоляя Копаневу, чтобы не перебивала.
— Ну вот, стал я посреди тротуара, — продолжал Копач, — смотрю на дамочек и… — понизил он голос, — и показалась мне тогда Каролина такой облезлой, как мокрая курица, хотя на селе считалась первой молодицей. Идут паны, обходят меня, губу кривят, платочками носики закрывают, а я стою. Вдруг останавливается возле меня господин с дамочкой, ладной такой и в такой блузочке, что и не знаешь, зачем она: напрочь все насквозь видно. Останавливаются, и панок спрашивает по-польски: «Козу продаешь, мужик?» — «Ага», — говорю. «А сколько просишь?» Тогда дамочка фыркнула: «Зачем тебе эта коза?» — «Козье мясо вкусное и питательное. — объяснил пан дамочке и снова ко мне: — Так сколько просишь, мужик?» И тут бог у меня отнял разум. Забыл я и про Каролину, и про брачную клятву в церкви, и пролицитацию забыл напрочь. Говорю пану: «Я бы, как говорится, хотел бы поцеловать вашу пани, потому что такой еще сроду не видал». Не знаю, как у меня эти слова вырвались, а пан, что вы думаете, подмигнул даме да и говорит мне: «Согласен». И нынче не могу припомнить, каким способом я содеял этот грех, потому как опомнился аж тогда, когда увидал в боковом переулке обоих грабителей, тащивших за собой бедную козу — мою последнюю надежду, а та жалобно блеяла и все время оглядывалась… Ну, вот. Вы уж извините, что долго говорил, но чем это вам не кино?
Эту историю все присутствующие знали давно, поэтому реагировали на нее только Ткаченко и Нестор: Ткаченко то и дело взрывался заразительным смехом, а Нестор не смеялся, он так внимательно слушал, словно хотел запомнить весь копачевский рассказ слово в слово.
Один Стефурак, казалось, не слушал вовсе, дремал, но, когда Августин кончил, он недовольно произнес:
— Ты столько наболтал, а главного не рассказал, как все-таки из-за той козы попал в театр.
— Да так и попал… Ночью я добрел в село, признался во всем, как на исповеди, Каролине, а через неделю мы оба стояли с котомками возле ратуши и просили то одного, то другого прохожего, чтобы взял нас на службу. И смилостивился над нами господь: подошел к нам один господин, такой из себя с длинным носом и круглым животиком, и сказал: «Возьму вас к себе в театр. Вы, женщина, будете убирать, а ты, мужчина, будешь стоять в дверях перед началом представлений, а пропустишь хоть одного зайца без билета — выгоню…» Так что поэтому я теперь за вас выпью, Иван Бонифатьевич, живите сто лет!
— А мне до ста не так уж много, — ответил Стефурак.
Нестор поднес к губам рюмку, но рука его замерла. Опять, как и в ложе, перед ним мысленно промелькнули все кадры фильма, но теперь он задержался на эпизоде в родном селе. Чего-то будто не хватало этой сцене. Да, уж слишком все хорошо… Так хорошо, что прежде казалось — исчерпаны все его творческие возможности, но сейчас — манера говорить, сам облик и прошлое Копача неопровержимо доказывали, что поиски совершенного не могут иметь предела, ведь очевидно же: сцена с крестьянином, прототипом которого был отец Нестора, в исполнении Августина могла бы выглядеть иначе, лучше…
НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ АВГУСТИНА КОПАЧА
Нестор смотрел невидящим взглядом поверх лиц окружающих, мысленно он видел сейчас тот эпизод из фильма, только роль крестьянина играл теперь Копач. Он точно слился с этой ролью…
Время было такое, что людям не до смеха. Но на Ивана Купалу Августин выпил рюмку, вышел из кооператива, побрел по выгону и остановился перед клубом. Захотелось с людьми поговорить. Сколько же лет держать язык за зубами, не хватит ли?
В помещении читальни располагался гарнизон. Возле ограды стоял вкопанный колесами в землю «максим» — фронтовые бои гремели за Карпатским хребтом, гула их тут не было слышно, другой отголосок войны скитался по лесам Покутья, поэтому и стоял возле читальни пулемет, а часовой рядом с ним всматривался в недалекий лес: солдату, который прошел тысячи километров сквозь огонь, не хотелось погибать теперь. Его руки за годы окопов привыкли гладить сталь, но эти же руки тосковали по изборожденному морщинами лицу матери и румяному личику невесты.
Августин выпил рюмочку на Ивана Купалу, и мир, и люди стали добрее. Забылись фашистское лихолетье и сегодняшние ночные тревоги; летний расцветающий день поднялся выше в небо и рассыпал по выгону ярко-желтые горчаки, белые маргаритки, солнечные пятна на крышй. «Слушайте, люди, заговорите, и я скажу вам правду, по-человечески, пускай сегодня еще тяжело, но уже миновала беда из бед, и скоро станет жить легче!»
— Добрый день! — крикнул издалека Августин и, споткнувшись о кротовую нору, неуклюже приблизился к часовому и поклонился.
— Добрый день… — Часовой смерил взглядом смешную фигуру Августина с ног до головы.
— А я вот, как говорится, хотел спросить у тебя, нет ли закурить.
— Это можно. — Солдат вынул из кармана растерзанную пачку махорки. — Закуривайте.
— Гм… — произнес Августин, закручивая махорочную крупу в обрывок газеты, — раз ты угостил меня, и я в долгу не останусь.
Он вытащил из-за пазухи кисет, расшнуровал его и запустил внутрь корявые пальцы. Желтый самосад засветился между черными кончиками пальцев, как уголек.
Солдат насторожился.
— А чего же вы мудрите — табачку просите?
— Да я хотел, как говорится, потолковать с тобой. Ты должен лучше знать, когда Гитлеру капут будет и как мы будем жить после войны… А из такой пукалки Я стрелял еще в пятнадцатом году. — Августин нагнулся, приглядываясь к пузатому «максиму».
Солдату, видно, показался подозрительным этот разговорчивый мужичок, он положил в нагрудный карман горсточку желтого табака и, ступив на шаг ближе к Августину, сказал, кивая на дверь читальни:
— А ну, пройдем-ка со мной к начальнику.
— Ну, раз ты такой, — криво улыбнулся Августин, — то скажу тебе «с богом» и найду среди твоих же вон там, возле сельсовета, кого-нибудь более охочего до разговора.
Теперь мужичок стал еще более подозрителен часовому, и он проговорил уже решительнее:
— Идем, идем!
В эту минуту на пороге читальни показался молодой лейтенант, сошел по ступенькам вниз:
— Что случилось?
Августин узнал своего квартиранта, улыбнулся ему сквозь слезы. Лейтенант, бросив взгляд на часового, сказал Августину:
— Идите, дядя, домой. Тут пост, нельзя. Я скоро приду, тогда и побеседуем.
— Да я только поговорить хотел… Эх… — махнул Августин рукой и побрел снова в кооператив.
Продавец давал в долг, и после третьей рюмки Августин разговорился:
— Я к нему с добрым словом, а он…
Продавец оперся локтями о прилавок, нагнулся к Августину:
— А откуда часовой знает, кто вы?.. Я бы вам посоветовал — шли бы вы лучше домой и не болтали лишнего. Выпили немножко — да и на печь.
Неуютно стало на душе у Августина, ведь Копач это не Копач, ежели и поговорить не с кем. И он поплелся домой, обходя людей.
Из хаты вышла Копачева… (Нет, Копачева на такую роль не годится.) Из хаты вышла… ну, Явдоха.
— Ой, милая Явдошка, ты у меня одна такая, что выслушаешь и горесть и обиду…
Но у Явдохи напряглись на шее сухожилья.
— Где был, старый, чьи деньги пропиваешь?
— Як нему так ласково, а он, вижу, не верит… Ты вот скажи мне, сделал ли я кому-нибудь хоть столечко плохого, как грязи под ногтем?
— Чьи деньги пропиваешь, спрашиваю! — подскочила Явдоха. — Потрепаться захотелось!
Августин стоял посреди двора поникший — боже мой, да неужели все напрочь забыли, что есть на свете праздник Ивана Купалы, когда костры жгут, чтобы набраться на целый год тепла, венки плетут, цветы папоротника ищут? Или это все умерло за эту войну, и никому не хочется не то что сказать — услышать доброе слово?
Явдоха заперла двери — ночуй, мол, возле пса, пьяница, либо иди, откуда пришел. И Августин поплелся к собачьей будке. Пес настороженно поглядывал на хозяина и не вылезал.
— Бурко, дай хоть ты лапу… Слышь, дай лапу.
Пес свернулся клубком и повернулся в будке хвостом к Августину.
И тут старика взорвало. Он пнул пса ногой, тот взвизгнул и выскочил из будки, Августин бил его по спине палкой, и только когда Бурко уже еле скулил, Августин опомнился, отшвырнул палку в сторону и заплакал. Упал на колени, обнял пса и так, сидя, и заснул возле него.
В это время сын человека, которого мог бы вот так сыграть Копач, — тощий, в полотняных штанах паренек, тот самый, что в раннем детстве видел смерть последнего опрышка, тот, которого в сентябре тридцать девятого привел за руку в Первую городскую гимназию старый отец, который потом девять раз содрогнулся, когда расстреливали баудинстов, а вскоре сам очутился на грани смерти в подвале керамической школы, — пригнал корову с пастбища, неся в руке лукошко, полное земляники. Возле ворот, увидев офицера, остановился, сказал:
— Товарищ лейтенант! Идите сюда быстрее, видите, что я вам принес?
Начальник гарнизона взъерошил пареньку шевелюру.
— Чем же я могу отблагодарить тебя за твои вкусные подарки?
— Дайте разок выстрелить из вашего револьвера…
ПЕСНЯ ГАЛИ
Все это было в фильме, но не так. Нестор смотрел на Августина, который аппетитно закусывал вареником и вполголоса доказывал Копачевой, что из пустого человека ничего не выйдет, хотя бы он даже и родился в Вене, ведь пустое, как говорится, ни для работы, ни для еды, ни для уважения, а о рюмке — уже нечего и говорить, потому что за рюмкой каждый себя покажет, кто он: человек или свинья, а мудрый человек будет мудрым, даже если он торговал скотиной в Пацикове… Нестор слушал и с горечью сознавал, что та сцена вышла все-таки бледной.
А может, и нет… Но что-то вдруг случилось с Нестором. Он только что думал о том, что стал счастливым как никогда прежде, и это было правдой, ибо успех фильма в Городе принес ему большую радость: рукоплескания в зале были для него словно похвала матери. Такой похвалы, искренной, как материнская любовь, он еще не знал. Да… Однако за этим ощущением счастья было не только удовлетворение сделанным, но и страх, что он уже не сможет создать лучшего фильма. Но сейчас вдруг все эти переживания, которые было сковали его, как гипс скульптурную модель, разом спали, обкрошились, и он снова стал тем податливым материалом, который можно бесконечно совершенствовать.
Нет, это еще не конец его работы. Это только доброе начало. Ткаченко прав: Галя… Вадим Иванович… Копач… Перцова… Новый Город, которому удивился, очутившись в сквере… И два шахматиста в поезде, их он тоже не знает… Глаза Нестора, перебегая с лица на лицо, остановились на Косте, и какая-то мысль, как зарница летней ночью, засветилась в его сознании. Он услышал, как Галя произнесла: «Где вы сейчас, Нестор?», однако не отозвался, хотя каждое ее слово было для него дорого. Боясь потерять эту еще не оформившуюся мысль, он не отрывал глаз от Костя и вдруг спросил:
— Почему у вас сегодня порвались струны на банджо?
Кость положил вилку, тяжелым взглядом посмотрел на «милостивого государя» и пропел:
Порвались струни в моїй гітарі,
Гей, наливайте повнії чари…
В эту минуту настежь раскрылись двери — шестеро актеров и актрис с шумом ворвались в буфет, неся в поднятых руках шампанское.
— Эй, наливайте полные чары! — воскликнул молодой актер, который играл главную роль, а после демонстрации фильма выступал со своими экспромтами. — Наливайте, потому что нашему деспоту сегодня сорок!
— Сногсшибательно! — взвизгнула Перцова и вскочила с места. — И ничего мне не сказал! Неблагодарный…
Копачева всхлипнула:
— Ну, почему, почему такие люди тоже должны стареть…
— Не жалейте его, — успокоил Копачеву молодой актер. — Сорок лет — это самый буйный период молодости.
— Зато — последний в молодости, — бросил Нестор.
— Все в мире относительно, Нестор, все относительно. Если спросить о вашем возрасте уважаемого Стефурака, то он назовет вас ребенком, если же спросить о том же ребенка, то он может назвать вас дедушкой. Если снимать сверху телевизионную башню, то на экране она покажется комнатной антенной, если же снимать снизу пакгауз, то он покажется небоскребом… За ваше здоровье, юбиляр!
— О, — поднял руку Нестор, — слава богу, ты кончил витийствовать, но хорошенько поразмысли и сам над этим. Мудро сказано. Разве мы все иногда не стремимся, чтоб нас фотографировали в фальшивых ракурсах? И разве не принижаем мы иной раз то, что создали другие, и не завышаем иногда оценки своего «я»?
Его слова обрушились на всех неожиданно, как слепой дождь на разморенных солнцем пляжников, и все встрепенулись и замолчали, один только Августин Копач, который всегда был самим собою, никогда не лицедействовал и по самой своей природе не знал, что такое поза, продолжал давно начатый рассказ:
— …Прибежал он ко мне и кричит в лицо: «Твой пес разорвал моего кота!» «А я при чем? — отвечаю ему. — Я же пса не подговаривал, или, может, как говорится, у меня собачий ум?..»
Августин замолчал, потому что стало слишком тихо, и он сам не поверил, что его могут так внимательно слушать после которой уже чарки.
А потом откуда-то, как нежный побег, проросла песня, печальная, как ветка плакучей ивы:
Чому-сь не прийшов, як місяць зійшов,
Як я тобі казала…
И только через какое-то мгновение присутствующие поняли, что поет Галя, склонившись на плечо старого Стефурака.
…Почему ты не пришел?.. Я давно тебя ждала и заждалась. Ты мне всегда снился, хотя я никогда тебя не видела, и был ты не таким — совсем другим. Твое лицо я узнавала каждый раз, но только во сне, наяву вспомнить не могла. Знала я про тебя от папы Стефурака. Он часто рассказывал о пареньке, влюбленном в артистку Завадовскую, а ты думал, что это твоя тайна? Наивный, ведь знаешь, что в нашем Городе не существует тайн… Знала об этом и Завадовская. Ты был еще ребенком, а она любила только одного и с ним пошла на смерть. Но пожалела и тебя: чтобы не причинить тебе неизбывной боли, дала Городу меня, так похожую на нее, — чтобы ты мог отыскать, Я училась в той же самой школе, что и ты, — ее построили через десять лет после пожаров, — и как ты мог так надолго забыть отчий порог своей almae matris, что не наведался ни разу?..
…Почему я не наведался ни разу?.. Я долго не хотел возвращаться туда, где было распято, растерзано, растоптано мое детство. Так жутко было в Городе: черные пятна высохшей крови на рынке, трупный смрад, которым тянуло из Шипитского леса, и пустота, когда исчезла из Города твоя мать. А потом моя детская беззаботность прикончена была навсегда в фашистской тюрьме. Потом умер отец. Умер именно тогда, когда надо было жить. Он так хотел увидеть эту новую послевоенную жизнь: как расспрашивал о ней тогда, на Ивана Купалу! Но слишком много бед выпало на его долю — износился до времени. А мать, которая из-за нужды и забот никогда не сказала отцу ласкового слова, стала совсем беспомощной без него и угасла, — я учился тогда в десятом классе. Пришел домой, а она сказала: «Учись теперь один…» Вот я и ушел, чтобы больше не возвращаться сюда, в Город, принесший мне столько бед. И исполнил ее наказ — о, как я учился! Чтобы только найти себя и заполнить пустоту на месте проклятого мною самим детства. Я еще не знал тогда, что это детство все время будет жить во мне и когда-нибудь больно во мне заговорит. Я хватался за все, что попадало на глаза, часто фальшь принимал за золото чистой правды, заблуждался, находил, терял, и когда пришел к старой-престарой истине — простоте, детство, тяжелое, но правдивое, заговорило во мне, и тогда я понял, что с него, именно с него, начался я. Оно вернулось ко мне живым цельным образом, я лелеял его в душе, в мыслях, в воображении — пока не создал вот этот фильм. Почему же я не приехал, чтобы сверить с жизнью истинность этого образа? Боялся разрушить его. А теперь вижу, что он так же далек от подлинной жизни, как и я — от своего детства…
…Потом я училась в политехническом и уже знала, что режиссер Нестор — это ты; твое лицо я увидела на экране и в журнале, но снился ты мне и после этого тем, прежним, и я ждала тебя. Я закончила учебу, начала работать на нашем заводе в Городе и верила, что ты не забудешь отчий порог. Мы строили, творили, сами росли, но ты не менялся в моем воображении, а в твоей памяти, наверное, не менялся наш старый Город. Об этом ты сам сказал своим сегодняшним фильмом. Но хорошо, что ты вернулся, теперь ты увидишь нас по-настоящему, ты захочешь увидеть нас, правда? Ты пришел уже седой, и я давно стала взрослой…
…Это не ты говоришь, Галя, это я, размечтавшись, так думаю. У тебя была своя жизнь, она успела уже оставить след в твоих глазах, но я ее не знаю. Может, ты и слышала обо мне, может, и хотела встретить, но ведь вернулась в Город не ради меня. Верно, ради Стефурака и Вадима Ивановича? А потом, мы еще и сами не знаем: почему все возвращаемся к своему порогу. Но возвращаемся, и это хорошо, ибо так должно быть. Вернулся Кость, и ты, и я… И вот тот пышночубый мужчина тоже вернулся доиграть свою шахматную партию… Пой, пой, Галя.
Чому-сь не прийшов, як місяць зійшов,
Як я тобі казала?
Чи коня не мав, дороги не знав,
Чи тя мати не пускала?
Мелодия была гибкой и грустной, как ветка плакучей ивы, Нестор знал эту песню с раннего детства от своей матери, он радовался, что ее поет для него Галя, потому что всю жизнь ждал, чтобы этой песней упрекнула его когда-нибудь самая красивая на свете девушка. И хотя сознавал, что, вероятно, не ему адресует ее дочь дочери Сотника, ответил песней:
Та я коня мав і дорогу знав,
Мати мені не спирала,
Найменша сестра, бодай не зросла,
Сіделечко сховала…
…Да, спрятала седло и подпруги, и я гонялся за неоседланным конем. Младшая сестра… Слава. Я долго добивался от нее, чтобы отдала мне седло, а она — неумолимая и жестокая — сделала это только тогда, когда я сам обуздал неоседланного скакуна. Поэтому я и опоздал. И, вернувшись, увидел, что не слава моя нужна, а труд, и я должен слиться с людьми, чтобы своей жизнью дополнить их жизни.
Гей, приїхав я до миленької
Та й став побіля двору;
Ой, вийди, вийди, моє серденько,
Най з тобою поговорю.
…Ты ничего обо мне не знал, ты тосковал по моей матери, не ведая о том, что она вместо себя послала к тебе меня, и я — посланница твоей любимой, ее продолжение, — должна узнать обо всех подробностях твоей жизни. Вот, например, я знаю, что ты когда-то отказался от своей первой роли, только бы не обидеть товарища.
…Ты этого не могла знать, Галя, хотя мне и хотелось бы, чтобы знала. Должно быть, уже тогда я понимал, что такое чистые руки. Я учился в Киеве, в театральном. Однажды ребята, товарищи по общежитию, разбудили меня утром:
— Вставай, кинозвезда! Тебя хочет послушать Сам.
— Это правда? Неужели я в сорочке родился?
Я вскочил, собрался и к девяти уже был у Самого.
— Вот вам текст роли, — сказал Сам, — посмотрите. И не дома, — остановил он меня, — садитесь вот сюда, и сейчас мы вас послушаем.
Я углубился в чтение и сразу «поймал бога за бороду», я тут же понял, как надо делать роль, и благодарил судьбу, что из десятков моих собратьев она избрала именно меня — мне тогда было всего двадцать четыре года.
Потом я заметил, что в кабинете Самого, в углу, сидит еще и третий. Это был честный и трудолюбивый неудачник, старше меня, которого мы называли Невезучим. Я понял, что отбираю у него роль. Нет, не только роль — отбираю у него последнюю надежду стать артистом. «И правильно сделаю, — с беспощадностью сильнейшего решил я, — сделаю этим для него только добро: он сейчас поймет, что пошел не по той дороге, и успеет еще выбрать себе другую, свою». Я встал, чтобы прочитать роль Самому, а Невезучий смотрел на меня не с укором, а с тоской по зря потраченным годам, по таланту, которого не удалось в себе пробудить, по умершей надежде… А сыграть надо было именно человека, который не может высечь из себя огонь, хотя и есть он, этот огонь, в нем; это была роль неудачника, а Невезучий не мог ее сыграть. Я вышел на середину кабинета и в эту минуту ощутил боль от сознания того, что сейчас произойдет. Не на экране, не где-то там, перед зрителями, будет убит нераскрывшийся талант, а здесь, в кабинете Самого, и это сделаю я. И я вспомнил слова Страуса о чистых руках и ругань лейтенанта Скоробогатого; я подошел и остановился не перед Самим, а перед Невезучим и прочитал роль. Когда я кончил, Сам встал, хлопнул ладонями и этим хлопком решил судьбы — мою и моего коллеги. Я подошел к Невезучему, унылому и обреченному, и сказал:
— Неужели вы не знаете, как делать эту роль? Ведь знаете — и лучше меня.
Я отдал ему рукопись и вышел… И Невезучий сыграл. Он блестяще сыграл самого себя и поверил в свои силы. Этого актера ты знаешь, Галя. Его тут нет, но в сегодняшнем фильме он играл роль Цыгана, которого грабят Миндик и Штибель…
…И поэтому ты так поздно пришел ко мне… или не поздно?
Ой, рада би я, ти мій миленький,
Із тобою говорити,
Та вчула ненька, вчула рідненька,
Не хоче м’я пустити…
…Это правда. Не отпустит она и меня. Я в тебе всегда видел бы ее. Разве согласилась бы ты стать чьей-то Тенью?
…Не знаю, Нестор, может, я слишком растрогалась сегодня. Такой вечер… Я увлеклась тобою, а вспомнила свое, и мне стало больно.
…Ты прекрасна, и я счастлив, что ты есть на свете. Что ты в моем Городе. Что в тебе — твоя мать. Что ничего не проходит бесследно. Благодарю тебя за твою песню, Галя…
Они смотрели друг другу в глаза, а старый Стефурак все время морщил лоб, должно быть, пытался что-то вспомнить, и тянулся через стол к Нестору.
— Как они спелись, что за пара!.. — снова вытерла глаза сентиментальная Копачева.
— Это еще неизвестно, как они спелись, — ответила Перцовичева. — Это будет видно потом.
Стефурак наконец нашел повод заговорить с Нестором. Нестор видел, как он тянется к нему, и опередил старика:
— Вам хочется знать, был ли я среди тех сорвиголов, кричавших: «Бейте его, это он играл Гриця!» Был, маэстро…
— Э-э, нет, я знал, что ты там должен быть… Я о другом… Почему ты не вспомнил в фильме о Германии? Неужели забыл: заложники, керамическое училище и его трагическая песня?..
— Разве можно забыть о таком, Иван Бонифатьевич? Но Гарматий… Он заслуживает отдельного фильма или только мучительной памяти.
СОЛЬНЫЕ НОМЕРА
— А помните, — Копачева тронула за локоть Стефурака: ее, растроганную дуэтом Нестора и Гали, потянуло на воспоминания, — помните, как это было в «Невольнике», когда вы играли слепого кобзаря? Неужели не помните? Ну, когда вы забыли слова песни и давай что-то там мурлыкать, а хористы стоят за кулисами и все ждут, когда вы начнете. Потом догадались, в чем дело, и запели одни. А в антракте вы как начали, как начали кричать — то на реквизитора, то на Августина: «Бандура же не настроена! Почему мне ее не настроили?» А эта бандура вовсе без струн…
— Было, было… — покачал головой Стефурак.
— Что было, то было, — заговорил Августин: он слегка подвыпил и был вполне равнодушен к тому, слушают его или нет и вяжется ли его рассказ с тем, что говорят другие. — Бывало, идет по середине Города паровичок, фыркает из топки черным дымом, ползет на Парище, как та черепаха, а по улице идут бабы с базара Машинист и кричит: «Садитесь, бабоньки, подвезу!» — «Э, разве что в другой раз, — отвечают бабы, — сегодня мы торопимся». А теперь уже паровичка нет — автобус ходит. И ничего…
— Ничего? — сказал Нестор. — А поставь вам сейчас паровичок вместо автобуса… Я и говорю: мы не всегда умеем справедливо оценить то, что у нас есть.
— Э, да я ведь о другом. Автобус ходит, как говорится, быстрее, да смеху нет. А я, скажу вам по правде, люблю посмеяться. Даже над смертью. Все вы знаете, что я — театральный человек, а мой сосед знает, что я еще и столяр. И вот приходит он ко мне и говорит: «Мастер, сделайте мне гроб, чтобы у моих не было из-за меня хлопот, когда умру!» — «Еще и себе-то не сделал, — отвечаю, — а я на два года старше вас». А он как ляпнет: «Видите, какой вы сосед, не лучше вашего пса, который у меня кота задушил».
В зале брызнул смех, только Перцова не смеялась, она и не слушала болтовни Августина. Снова думала о том же самом, вообще за эти два дня она передумала немало. Да… Этот Нестор, который сидит с трубкой в зубах, такой уважаемый и сосредоточенный, растревожил ее сонную жизнь своим приездом и своим фильмом, разбудил все то давнее, полузабытое и вроде бы никому не нужное… Перцова давно смирилась со всем: и с тем, что ни на кого уже не производит впечатления ее гимназический аттестат, и что никого больше не интересуют ее приятные воспоминания о визитах молодых священников и самого отца-профессора Баранкевича.
Покорная своей судьбе, она даже перстень прятала от чужих глаз и спокойно торговала пивом, но вот теперь все взвихрилось, все снова предстало перед глазами, и она должна все это по-новому оценить. Ведь что такое кокетничанье учеными словечками? Разве это мудрость? Слышали мы сегодня такую мудрость от Миська Два Пальчика. Да, эта Копачева иногда злая как оса. но в этот раз, извините, у нее таки было основание. А что такое перстень? Перцова снова вспомнила, как он достался, и ей вдруг стало стыдно перед самой собой и перед этими людьми. Она заложила руки за спину и, закусив от боли губу, стащила перстень с пальца. Слава богу!.. Пусть пропадет он пропадом, думала она, засовывая его в карман фартука, и тут же промелькнула другая, скорбная мысль, что никто никогда не видел у нее на руке обычного обручального кольца… Ну, а что такое аттестат и этажерка с книгами? Они еще не свидетельствуют об уме их хозяйки, и что такое роман с отцом-профессором Баранкевичем? Разве кто-нибудь в молодости не грешил? А вот талант человека — это подлинная ценность, и если его у тебя немного, гордись тем, у кого его больше, — ведь настоящий талант принадлежит всем, не только одному человеку. Но гордись достойно, а не смотри на него телячьими глазами, как эта Копачева.
— Чего вы на него вытаращились, как на боженьку, — толкнула она локтем соседку.
— Потому что есть на кого, — отрезала Копачева.
«Что есть, то есть, — согласилась про себя Перцова. — Особенно если сравнить Нестора с этим кругленьким балбесом Миськом. Вот он снова вертится в кресле, небось не терпится поболтать».
— Если он сейчас начнет разводить турусы на колесах, я ему заткну рот вареником, — сказала Перцова.
— Вы что, сдурели? — шикнула Копачева. — Так он для того и приехал, чтобы что-нибудь нам рассказать.
— Да я не о Несторе… Вы, извините, сейчас похожи на неоперившуюся гимназистку, которая впервые; увидела молодого преподавателя, и не латынь у нее в голове, а всякие глупости. Я о Миське…
Нестор поглядывал на Перцовичеву, слышал обрывки ее язвительных фраз в адрес Миська и думал: «Неужели она и впрямь изменилась? Или умеет приспосабливаться? А что ее угощение — неужели искреннее? Должно быть, да… Только, милостивая государыня Анеля, вряд ли вы осознаете, что истинная хозяйка тут не вы — Галя. Молчаливая юная дочь — героини Гоголя. А вы, хотите этого или нет, все-таки — пережиток прошлого, который, возможно, и не вредит, но и не несет никакой активной жизненной функции. Впрочем, вы — колоритная фигура. На переломе эпох во все времена были такие трагикомические типы…»
А Мисько пил себе «сольно», и на душе его становилось все лучше и лучше… Ощущение своей ущербности по сравнению с Нестором, которое он хотел заглушить то краснобайством, то сознанием близкой перспективы иметь собственную машину, сгладилось теперь выпитым. Мисько вспомнил, что кроме всех достоинств, которые у него есть, он еще и поэт, а Нестор не поэт. И он встал и объявил:
— В честь моего дорогого коллеги я прочитаю вам цикл своих лирических стихов!
Но артисты — то ли они не услышали, что конферансье объявил свой собственный номер, то ли с умыслом — начали скандировать:
— Со-ло на бан-джо! Со-ло на бан-джо!
Кость Американец отрицательно покачал головой, прикоснулся к банджо, но инструмента в руки не взял, и снова печаль тенью наползла на его сморщенное лицо. Нестор не сводил с него глаз и, когда шум стих, сам попросил:
— Сыграйте, Кость…
Но Американец и на этот раз не согласился.
Моментом затишья воспользовался Мисько. Он вскочил и. стоя на цыпочках, чтобы казаться выше, выбросил руку вперед, а взглядом мечтательно полетел в безграничность мирового простора, и этому мечтательному полету не мешали ни шум гостей, ни плюшевые шторы на окнах:
Там, за рекою, запах сена
И маков алый цвет…
Я обнимал твои колени,
А ты сказала: «Нет».
Зачем промолвила ты «нет»,
К кому теперь пойдет поэт,
Печаль свою разделит с кем?
Ведь сердце извелось в тоске!
О, так, как я тебя любил,
Никто, никто на свете
Не сможет повторить тот пыл —
Ни средь зимы, ни летом[18].
— Так, может, весной или осенью все-таки кому-то удалось? — бросила Перцова.
Неизвестно, как реагировали бы на ее реплику гости, но в этот миг ворвался в буфет высокий мужчина с лицом патриция и захлопал в ладоши.
— Браво, браво! Я конфискую у вас это стихотворение и завтра же положу его на ноты. Оно не является, так сказать, образцом глубокомысленной поэзии, но ритмика его очень мелодична… Товарищи, имею честь представиться: композитор Паламарский!
— Я пишу так, чтобы понимал народ, — заявил обиженный Мисько.
Нестора передернуло. Он решил было про себя не вступать ни в какие дискуссии, однако не утерпел!
— Неужели ты думаешь, Мисько, что интеллект народа на уровне этого твоего стихотворения?
— Пардон, пардон! — взмахнул рукой Паламарский и схватил стоявший перед Миськом полный стакан. — Мы говорим, так сказать, о ритмомелодике стиха. Так я хочу поднять этот скромный тост за настоящую лирическую поэзию, за прекрасное искусство десятой музы и… — он галантно поклонился Перцовой, — и за вкуснейшие в мире украинские вареники!
— Виват, композитор! — воскликнул Августин Копач. — Выпьем за эти пироги, о которых поют: «Любил казак дивчину и с сыром…»
Перцова поклонилась Паламарскому и язвительно спросила:
— А эта песня тоже ваша?
— Что касается ее — то уж нет, — фыркнул Паламарский, — но минуточку внимания: я хочу пропеть уважаемым гостям мелодию моей новой песни. Минуточку… До-ми-ля-соль… Гм…
Колись весна така була,
черемха цвіла,
Кущами квітів
слалася на нас..
Перцова встала и, заломив руки, пропела вторую половину куплета:
Від любощів і пахощів
душа п’яніла,
Як в казці був такий
чудовий час…
— Это, так сказать, — смутился Паламарский, — моя обработка, я добываю из глубин веков жемчужины народных мелодий и выношу их на дневной свет…
— И ставите под ними свою фамилию, — добавила Перцова.
«Ну и въедливая же эта Перцова», — подумал Нестор. Он чуть не засмеялся, чем навсегда бы обидел Миська, который еще стоял в мечтательной позе, но в это время вдруг зазвучала песня.
Эта песня была о нем, Несторе, о его седине, прядью упавшей на глаза и напомнившей, что пора возвращаться домой, возвращаться и принести с собой то добро, что нашел на жизненных дорогах.
Нестор слушал, задумавшись: большая правда была в этих словах о далеких странствиях, которые каждого, кто честно их прошел, ведут в итоге к отцовскому порогу, и счастлив тот, кто в безвестности жизненных странствий сумел сберечь самый драгоценный изначальный дар — любовь и тоску.
— Когда-то не так пели… — вздохнула Перцова. — Где-то наши романтические песни!.. Теперь уже другое поют… Но, скажу вам, извините, — снова повернулась к Копачевой, — не так уж и плохо!
Нестор встал. Его нахмуренное лицо просветлело. Под звуки этой песни в запутанном клубке мыслей высветилось главное: Копач, Перцова, Галя уже контурно очерчивались как персонажи нового фильма, и неразгаданным остался только один, может, главный — Кость Американец. И Нестор еще раз попросил Костя:
— Сыграйте ту песню, которая сорвалась у вас сегодня на сцене…
Кость не поднял головы. Тогда к нему подошла Галя.
— Почему вы терзаетесь, сосед? Ведь у вас все хорошо. Я забыла вам сказать… Только вы выбежали от Вадима Ивановича, оставив у него на столе чемодан со своим сокровищем, как он послал за мной в производственный отдел. Он ведь знает, что мы соседи. Когда я вошла, он сказал, покачав головой: «Что за нетерпеливый народ эти галичане! Надо ведь подумать, вот… Надо подумать, куда его… Скажи, пусть зайдет ко мне на той неделе!» Слышите, Американец? Завтра в девять приходите. Пропуск на вас уже заготовлен. Возьмете в проходной. Успокойтесь. Сыграйте свое соло.
— И мне то же самое сказал директор, — поддакнул Нестор.
— Соло… — проговорил Кость, и глаза его заблестели. — А вы и не заметили, что я весь вечер наигрываю на своем банджо. Гм… Должно быть, слишком тихо играл…?
Американец взял банджо в руки, ударил по струнам и рассыпал по комнате дробь живой коломыйки.
— Вы хорошенько смотрели? — нагнулась Перцова к Копачевой. — Он играл или нет?
— Так ведь сказал, что играет все время.
— Должно быть, мне уже нужны очки.
— И еще немножко слуха.
Кость пел, аккомпанируя на банджо:
Будь здорова, моя мила, бо я вже мандрую,
Підступися до коника, най тя поцілую.
Подай, мила, біле личко і праву рученьку,
Та най я тя поцілую, бо йду в доріженьку.
Ой місяцю-місяченьку, світи, не ховайся.
Хоч поїдеш, мій миленький, борзо повертайся.
То ли прощальный мотив песни, то ли поздний час напомнил некоторым гостям, что пора расходиться: первым встал Ткаченко.
— Когда вы к своим пенатам, Нестор?
— Может, и сегодня.
— Ничего подобного! — тоскливо простонала Перцова. — Я ничего и знать не хочу о вашем глупом, простите, райзефибере[19]. Не съедено, не выпито, так для кого же я…
— А за него управимся мы, нам не к спеху! — хором заявили артисты.
Мисько был более категоричен. Он сказал, что Нестор не уедет из Города до тех пор, пока Мисько не получит машину, а это будет не сегодня-завтра. Тогда они оба съездят в столицу, и там Мисько сдаст экзамен на артиста.
— А дом на кого оставишь, Мисько, а свиней?
— Не волнуйся, Нестор, всем движимым и недвижимым имуществом ведает мама.
— Но ведь семья, Мисько, подумай, — забавлялся Нестор. — Неужели твоя жена, привыкшая к собственному дому, захочет жить в столичной тесноте?

Мисько воровски посмотрел на Галю и, приложив лодочкой ладонь ко рту, прошептал, став на цыпочки:
— Volens nolens[20], сейчас я — вольная птица…
— A-а, ясно… Кость, — повернулся Нестор к Американцу, — проводите меня, будьте любезны.
Копачева всплакнула. Только Августин, самый рассудительный из всех, сказал:
— Кто должен ехать сегодня, пускай едет, потому что завтра, как говорится, может уже не уехать. Ежели бы я тогда, на второй день после лицитации, не забрал старуху в Город, то не было бы ничего из того, что есть, и был бы нынче Августин Копач не театральным человеком, а обыкновенным босяком.
Нестор подошел к Гале.
— Не вернетесь… — проговорила она.
— Возвращусь… Должен возвратиться. А если сейчас не уеду, то завтра наведаюсь к Ивану Бонифатьеви-чу, — сказал Нестор, и снова ему показалось, что зеленые глаза Гали стали огромным кругом, озером, морем…
— Тогда приходите завтра в шесть в театр, у нас репетиция. Хорошо?
Перцова и Копачева издали наблюдали за ними.
— Какое это счастье, что он нашел ее, — вздохнула Копачева.
— Вы думаете, это ему впервой? — ответила Перцова.
— Э, не говорите, такой, как Галя, нигде нет.
— А верно, ведь нигде нет и такого Города, как наш.
— Слава богу, что хоть раз вы мне не возразили!
…В центре Города между двумя улицами, что разбегались вверх, беря свое начало от ратуши, пах медом треугольный сквер. Кость Американец привел сюда Нестора, они сели на скамейку, и только теперь Нестор узнал то, что ему очень нужно быть знать.
…Сестры уважали и опекали Костя, но с некоторого времени он стал замечать в глазах старшей жадную пытливость к его чемодану, и однажды она все-таки осмелилась спросить, что у него там, в этом самом тяжелом чемодане.
— Забудь о нем думать, — сказал с горечью Кость. — Это мое добро.
А несколько дней назад… Кость не знает, но, должно быть, все это произошло так…
— Ну, зачем ему этот чемодан? — сказала старшая сестра.
— Не цепляйся, это ведь не твое. Все тебе мало, вечно тебе мало, спекулянтка! — не выдержала младшая. — Мы уже свое получили.
— Но на что деньги ему, старому грибу? Ведь у нас он ни в чем не нуждается.
— Да оставь ты его в покое, не возьмет он с собой в гроб этот чемодан.
— Да мы только посмотрим, что там.
— Я не буду. Смотри сама, если хочешь.
Старшая сестра взяла, наверное, топор, воткнула в щель чемодана лезвие, нажала, и скоба вместе с замочком выпрыгнула из гнездышка. Крышка отскочила, сестра посмотрела и, пристыженная, выскочила из комнаты.
Кость пришел домой поздно, слегка под хмельком: засиделся в буфете Перцовой на автобусной площадке. Он вошел в комнату и оторопел: выдвинутый на середину чемодан был открыт, а в нем нетронутыми лежали напильники, стамеска, лобзик, долота разных размеров, гаечные ключи и замусоленный комбинезон.
Он закрыл чемодан, обвязал его шнурком и вышел с ним из дому.
На другой день Кость отнес свое добро на завод, без стука вошел в директорский кабинет, поднял крышку чемодана и сказал:
— Я этими причиндалами зарабатывал в Америке доллары — как слуга. Думаете, у себя дома не смогу этим орудовать — как хозяин? — Не дожидаясь ответа, вышел и направился к знакомым расспросить, где можно снять квартиру…
— Вот и все мое «соло», милостивый государь, — закончил Кость свою исповедь. — А завтра начинается новая моя песня.
Нестор долго молчал, а когда на ратуше забили куранты, встал.
— Будьте здоровы, Кость. Желаю вам счастья.
— Благодарю. Даже не верится, что завтра засучу рукава. Как молодой! А вы все-таки сегодня едете?
— Не знаю…
Нестор пожал Костю руку и зашагал в гостиницу.
…В театральном буфете остались слегка погрустневшие друзья Нестора — так бывает в конце свадьбы, когда молодой уводит молодую: гости еще не расходятся, но и веселья уже нет.
Мисько Два Пальчика что-то нашептывал Паламарскому, украдкой поглядывая на присутствующих. Возле Гали сидел артист, игравший главную роль, и пытался развлечь ее своими экспромтами, она вежливо улыбалась, но мысленно уже возвращалась из нынешнего удивительного дня в свою привычную жизнь, которая была вчера и будет завтра; Стефурак дремал; Августин Копач рассказывал о Вене и критиковал императора Франца-Иосифа, «потому, как тот, скажу вам по правде, меньше бывал в своей столице, чем простой мужик, торговавший скотом…». Копачева сидела грустная, как мать, проводившая сына в далекий путь. Глубоко вздохнув, она вдруг проговорила:
— Вы, Анеля, на сей раз молчите и не возражайте: от нас уехал гений.
Перцовичева, высокомерно посмотрев на Копачеву, сказала:
— Бесподобно! Гений! Гении рождаются где-нибудь, может, в Париже или в Коломые. А от нас уехал, извините, обыкновеннейший человек. И пусть едет. У каждого своя дорога, но каждая берет где-то свое начало… Это хорошо, ибо человек время от времени возвращается в те места, откуда отправился в странствия: напоминает сам себе, из какого теста слеплен. Но мы остались, дорогие мои гости, и добро не должно пропадать — мы обязаны все это вместе уничтожить…
УТРО
Город просыпается сразу. Как дремучая дубрава в мае после первого выстрела солнечного луча.
Такое сравнение каждый раз приходит на ум Августину Копачу, когда его будит рокот городского автобуса, отправляющегося со станции на Монаховку в шесть утра. Копач не раз сам удивлялся, почему это он, человек, проживший в Городе большую часть своей жизни, связывает такие несовместимые вещи: городской шум и щебет лесных птиц. Должно быть, единственно потому, что то и другое начинается с рассветом.
Только выедет автобус со станции и повернет вверх по Торговой к ратуше, спугивая тишину сонной улицы, как сразу же во всем Городе, от Монаховки до Заводской, поднимается шум: стучат двери, цокают каблуки по тротуарам, скрипят жалюзи, прогреваются моторы машин во дворах, потом на ратуше часы бьют шесть, и начинает все вертеться волчком.
И все же незачем, наверное, сравнивать одно с другим, потому что, как говорится, город — не село, а село — не город. Но разве же не так именно сорок лет тому назад пробуждался дубовый лес в Залучье майским утром — вон там, за рекой, аж под первой цепью гор? Только-только выскользнет из-за горизонта скупой лучик солнца, как враз засвистит дрозд, будя сонное царство дубравы, зальются наперебой соловьи, их пение, безбожно фальшивя, подхватят скворцы, затем начинают продирать горла крикливые сойки, а дальше уже и не разберешь, кто что поет, только потом кукушка своим равномерным кукованьем, словно древние часы на ратуше, устанавливает в лесном гаме порядок и слаженный ритм.
Гей, гей!.. Может, звуки леса и города и разные, но начинаются они одновременно.
Копач просыпается вместе с автобусом. Сквозь сладкую дремоту мечтательно улыбается, и грезятся ему в это мгновение залучанские леса, в которых, наверное, и сейчас, как и сорок лет назад, так же пробуждаются птицы. Он слышит их щебет сквозь городской гул, но только развеется дремота — и смолкают лесные звуки, и исчезают очертания маленького села, разбросанного по холмам, да и слава богу, что исчезают, ибо зачем вспоминать то, чему нет возврата, и хорошо, что этого возврата нет: какая нужда Копачу — вахтеру городского театра, реквизитору, костюмеру, кассиру и привратнику, — какая нужда возвращаться в это далекое и уже нереальное для него село? А все-таки каждый раз, когда просыпается, что-то щемит в груди, что-то давящее подкатывает к горлу, ведь, как говорится, что в горшке закипит, тем и будет пахнуть.
Августин потягивается, чешет волосатую грудь, поправляет одеяло, сдвинувшееся с Каролины, которая еще спит, ибо некуда ей спешить, потом натягивает холстинные подштанники, к хлопковым так и не привык, завязывает тесемки, — сейчас он еще крестьянин, хотя сам об этом и не подозревает, но вот уже на нем брюки с кантом и полосатая рубашка, и галстук под накрахмаленным воротничком, и шляпа не прошлой моды, — вот теперь уже никто не узнал бы в нем бывшего залучанского столяра, теперь он настоящий, как говорится, человек из Города.
Каролина еще спит, а он уже позавтракал, уже собрался, уже выходит из дома, потому что, пока дойдет до театра, должен сделать свой ежедневный обход тех, кто встает еще раньше, чем он. Сначала завернуть в буфет Перцовичевой — не ради пива, а так, для «доброго утра», дальше — к Стефураку, которому каждый раз отчитывается обо всем, что произошло накануне в театре, хотя старый директор давно на пенсии, но все равно для Копача он и теперь единственный начальник, а уже потом — в театр.
Сегодня мог бы этого обхода и не делать, потому что вчера имел возможность наговориться со всеми вдоволь, но привычка — неизлечимая болезнь, кроме того, не терпится поделиться впечатлениями о вчерашнем вечере.
Августин выходит со двора и долго стоит на кромке тротуара, ждет, пока проедут машины. Сколько уже лет живет на этой Торговой, — до недавнего еще времени жил чуть ниже по улице в старой развалюхе, которую снесли, когда прокладывали автостраду, теперь — на втором этаже в новом доме, а привыкнуть к этому бешеному движению не может. Должно быть, этот тракт ведет во все города на свете, даже до самой Коломыи! А как хорошо было в Залучье! Идешь себе посреди дороги, и никто тебя не заденет, фура и то объедет, даже если задним колесом в ров ее забросит, а тут — вечно берегись.
Чтобы кто-нибудь не подумал, что он — сельский недотепа, Копач наконец отваживается перейти дорогу: Солидно делает несколько шагов по асфальту, но этой выдержки хватает у него только до половины шоссе, потом, не глядя ни налево, ни направо, бросается вперед, придерживая рукой шляпу. Где-то там — сбоку или. позади — пронзительно скрипят тормоза, кто-то бранится, кто-то на той стороне улицы смеется, но это уже его не касается: залучанский мужик из первой половины двадцатого столетья существовал лишь одну секунду. По другой стороне улицы идет теперь Именитый обитатель Города — Августин Гаврилович Копач…
И, как всегда, после этой метаморфозы, происходящей с ним каждое утро, вспоминается Копачу первое знакомство с теперь родным, а когда-то чужим и враждебным Городом. Ведь напротив, где сейчас автобусная станция и знаменитый буфет Анели Перцовой, шумел когда-то базар, и он, Копач, стоял на нем однажды полдня с козой — униженный, растерянный.
На ратуше часы пробили семь. Августин поглядел в сторону буфета, видневшегося в конце автобусной площади; на двери висел замок.
«Отсыпается Перцова после вчерашнего, ведь засиделись-таки до полуночи», — улыбнулся Копач и направился вверх к Бляшному переулку, где жил Стефу-рак со своей приемной дочерью Галей.
Город дышал привычным размеренным ритмом. Стефурак, наверное, уже сидит за столиком, водя носом по исписанной бумаге: заканчивает свои мемуары. Сидит и, разумеется, ждет Копача, который вот-вот должен постучать в дверь.
Августин и на этот раз не слышал, как его ругает какой-то шофер, чуть не попавший из-за него в аварию, когда Копач на другой половине шоссе «превращался» из городского человека в залучанского мужика; не слышал, потому что опять вспоминалось ему то приключение, не будь которого он никогда не стал бы театральным человеком, а остался бы навеки обычным крестьянином.
Копач оставил свои воспоминания на Торговой, где-то там они смешались с рокотом, лязгом, скрежетом и угасли; в Бляшном переулке, тесном и глухом, было тихо, как в колодце. И Копач подумал, что такой квартал будто для Стефурака и создан — вот уже сколько лет старик пишет историю своей жизни, а это значит — историю Городского театра, который теперь называется народным, ибо играют в нем не профессионалы, а учителя, инженеры, рабочие, медики…
На Бляшном Копач совсем отвлекся от непрошеных воспоминаний, хотя они давно перестали быть горькими. Ведь все, что бесповоротно прошло, окутывается потом романтической дымкой, потому что происходило это в молодости, а еще — появляется гордость, что все претерпел достойно, без унижений. Теперь Августин жил уже нынешним днем, а конкретнее — сегодняшней репетицией «Маклены Грасы» Миколы Кулиша, с которой театр должен был выехать на гастроли во Львов.
Итак, есть о чем поговорить со Стефураком,
ГАЛЯ
Галя тихо возилась в своей комнате, собираясь на работу. Погожее утро новой недели уже мобилизовало ее, сняло праздничную расслабленность, охватившую ее вчера и выбившую из привычного рабочего ритма. Сегодняшнее утро было чистым и суровым, как чувство долга.
А в памяти, в мыслях с ней был Нестор. Он упрямо стоял перед глазами, но Галя заставляла себя отдалиться от него и трезво разобраться в себе самой: правда ли, что к ней, в ее двадцать девять лет, пришла любовь или это только минутное впечатление.
Уже не ждала никого, и никто ей не был нужен. Объявление в газете о премьере фильма с участием известного режиссера восприняла спокойно. Заинтриговали только слова Стефурака.
— Нестор? Да неужели! — произнес старик, отложив газету. — Это же он учился в нашем Городе… Галя, ты и не знаешь, Нестор еще подростком был влюблен в твою маму. Да, да! И в каком месте я об этом узнал — в тюрьме!..
— Во время оккупации?! — удивилась Галя. — А что же вы ничего об этом не говорили?..
— A-а, было такое… Ну, мы с ним вспомним свое!
Теперь уже Галя ждала премьеры. Какой же он — этот Нестор? Влюбленный в маму…
Потом, когда смотрела на него — молчаливого седоватого мужчину с внимательными глазами, — не могла себе представить его подростком, которого преждевременно сразила любовь. Вызывала в воображении маму и юношу-гимназиста, замиравшего при встречах на улице с красавицей артисткой. И было почему-то горько. То ли за маму, забравшую с собой навсегда его большое чувство, ведь он до сих пор одинок, то ли за Нестора, который отдал его артистке Завадовской и, может быть, никогда не сможет подарить такой любви другой женщине.
Спрашивала себя: хотела ли бы она его любви? Но нелегко было ответить даже самой себе, тем более что ничего и никого уже не ждала. Однако этот его взгляд, когда стояли вдвоем в фойе, и песня, которую он ей пел с такой знакомой тоской, растревожили ее, и избавиться от этой тревоги она уже была не в силах.
Нет, не стоит мучить себя, может, он уже уехал и, наверное, больше не вернется… Только заснувшую боль растревожил.
Готовила завтрак и пыталась думать о Несторе-режиссере. О нем и о Стефураке. Об учителе и ученике. О преемственности и новых человеческих качествах, которые не наследуются, а рождаются как результат опыта многих поколений. О работнике и изобретателе, о материале и творении. Четко обозначалась взаимосвязанность между этими людьми, знакомство которых началось в тюрьме.
Галя возилась тихо, хотя знала, что Стефурак давно уже не спит. Закутавшись в плед, сидит, наверное, за столиком и водит пальцем по мелко исписанной бумаге, в который уже раз перечитывая и правя свои записи. Простодушный старик надеется, что его мемуары опубликуют — пусть хотя бы после смерти. Галя читала кое-что из его толстой рукописи и снисходительно относится к его мечте. Жизнь Стефурака была намного интереснее, чём эти записи. Определенно. Жизнь каждого человека — это целая эпопея, но для нового поколения интересным в ней будет только то, что созвучно новому мышлению. Сумел ли Стефурак это интересное передать на бумаге? К сожалению… Его воспоминания разве только у одного Августина Копача могут вызвать сопереживание, потому что он был свидетелем каждого события, свидетелем времени, когда эти события были не корявым словом, а живой страстью, гневом или смехом.
Зато жизнь Стефурака значила много для Нестора. И записи старика могли бы послужить режиссеру как материал, из которого он взял бы пусть хоть несколько мазков для своего нового произведения, взволновавшего бы не одного только Копача, а тысячи людей, которые могли бы сказать: «Это обо мне, о моем друге, любимой, о любви и ненависти моего современника».
Галя пыталась думать о Несторе спокойно, холодно, а он упрямо приближался к ней, словно молил, чтобы открылась ему: «Ведь материал для произведения — это не чьи-то записи, а живые люди, и я хотел бы знать о тебе, Галя, все не только как художник, но и как человек, мне нужно знать причину той боли, что легла тенью глубоко в твоих глазах…»
В ранней юности я жаждала быть красивой, Нестор. Все девушки лелеют такую мечту. Только у меня эти стремления проявлялись несколько иначе, чем у моих подруг. Я не любовалась собою перед зеркалом, не допытывалась у старших, хороша ли. Возможно, если бы жива была мама, я бы доискалась правды наипростейшим способом, но ее не было, — знала только, что мама была красавицей, и мне тоже хотелось ощутить, в чем заключается смысл красоты. И когда я находила в окружающей жизни прекрасное, то задумывалась: а есть ли нечто похожее во мне? Ну вот: волна тумана ранним утром над рекой — эта легкость, задумчивость и чистота, — есть ли они во мне? Стремительный полет самолета в вечернем небе, — способна ли я на такую порывистость, целеустремленность? Вспышка молнии и внезапный гром, — могу ли я быть решительной и сильной? Яблоня в шуме весеннего цветенья, — я хотела быть такой же роскошной; ажурность стиля древнего собора, — пусть судьба мне подарит такую грацию и стройность; поле молодого клевера в седых каплях росы, — таков ли цвет моих глаз; гроздья инея на деревьях, — такой мечтала стоять в свадебном наряде под венцом; осенняя тишина в загородном парке, — и мне хотелось быть ласковой и доброй…
Это трудно передать, как я ощущала окружающую красоту и как доискивалась ее в самой себе. Я всегда была недовольна собой, ибо, казалось, ничего этого во мне нет, но однажды услышала то, что жаждет услышать каждая девушка: «Ты красивая».
Было это мне сказано не в головокружительном вальсе, не в новогоднюю ночь за бокалом шампанского, не на свадьбе, когда я была подружкой невесты, а в очень прозаической обстановке — на вокзале, среди узлов, в нудном ожидании поезда, ночью.
Я ехала домой после окончания первого курса, из-за экзаменов некогда было заранее запастись билетом, а на вокзале застала такую сутолоку, что про отъезд первым поездом нечего было и думать. Я должна была ждать следующего поезда, отходившего после полуночи, а потом почти полсуток трясущегося кружным путем, кланяясь каждому столбу.

Сидела возле кассы на чемодане — усталая, с пересохшими от жажды губами, одурманенная специфическим вокзальным запахом. Думала я только о том. что буфеты уже позакрывались, а мне так хотелось пить, и вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Покосилась в сторону. Вторым или третьим за мной в очереди сидел на набитом рюкзаке мужчин! лет под тридцать, с рыжей шкиперской бородкой, сероглазый. Он попивал из бутылки пиво и не отрываясь смотрел на меня. Поймав мой взгляд, отнял от губ бутылку, вытер ладонью горлышко и, подавая мне, сказал просто и как-то буднично:
— А ведь ты красивая!
Я была шокирована: все-таки существуют какие-то приличия…
Но возмущения хорошо воспитанной девушки из Города хватило только на мгновение, даже долю мгновения. Вместо этого меня охватила радость; кто-то и во мне, как я — в волнах тумана, в росистом клевере, в осенней ласковости леса, — увидал красоту, свое представление о ней. Так, значит, я красива!
Я взяла бутылку, жадно выпила несколько глотков и сдержанно спросила, будто речь шла о ком-то другом:
— Почему?
— Разве я знаю? — пожал плечом незнакомец. — Красивая, да и все. — И он наивно-радостно улыбнулся.
И правда, что за вопрос… Разве я могла бы объяснить, в чем красота тех предметов или явлений, которую ощущала я.
Но тут же радость во мне погасла. А чем, собственно, его слова отличаются от банальностей во время танца или на улице?
Я почувствовала, как мои губы уже складываются в, постную мину. Но мне очень хотелось пить, и я снова наклонила бутылку, чтобы утолить жажду, однако успела сделать только глоток. Он протянул руку, забрал бутылку.
— А это уже не годится, тут еще есть жаждущие.
Мне стало неловко, потому что только теперь увидела двух парней, тоже сидевших на набитых рюкзаках, попросила извинения, но он лишь махнул рукой — мелочи, мол, и, глядя на меня усталыми серыми глазами, повторил:
— Правда, ты очень красива.
— Слава богу, — вздохнула я и почувствовала вдруг, что от моей неуверенности не осталось и следа. Это Не было банальной фразой. Все у него выходило как-то просто и искренне: и то, что пожалел меня, дав напиться, и то, что отобрал бутылку для товарищей, и то, как он непосредственно высказывал свое впечатление обо мне.
Мне стало хорошо. А ведь не раз случалось, что в обществе парня было мучительно трудно, приходилось выдумывать любую чепуху для поддержания разговора, иначе хоть беги. Сколько раз возникало желание вот так просто взять и убежать — от пустоты, вынужденности, натянутости. Я вспомнила, как мне трудно было вести себя в компании молодых нарочито солидных людей, собиравшихся иногда у папы Стефурака. Велись степенные, важные разговоры, нужно было заранее продумывать каждую фразу, чтобы вовремя ее вставить и чтобы она хорошо пришлась к месту… А как иногда хотелось — только воспитание не позволяло — громко посмеяться над патетичным признанием какого-нибудь настойчивого поклонника!
Теперь было даже странно: почему меня не раздражает поведение этого человека, почему мне приятно его восхищение, почему поверила ему? И почему, в конце концов, я не боюсь, что вдруг оборвется разговор и проскользнет между нами полоса отчужденности?
Мне стало уютно — от этих нескольких слов, от его открытого взгляда. Так уютно бывает, наверное, ребенку возле матери. Прежде я такого не знала. Доверчивый покой охватил меня впервые.
Я с благодарностью смотрела в его добрые глаза, мы долго сидели, не перекинувшись и словом, но молчание меня не угнетало. Я не смутилась, когда он встал, высокий и крепкий, провел ладонью по русой щеточке волос, переступил через узлы и присел с краешку на мой чемодан.
— Я в Долину, а ты — дальше?
— В Город.
— Жаль, потому что нам только в Долину… Мы нефтяники. Прилетели вот из Туркмении, возвращаемся в свой штаб.
Я нигде не бывала, кроме Львова, и мне это «из Туркмении», выговоренное так, словно они возвращаются от соседа, у которого гостили, показалось невероятным.
— Откуда, откуда?
— Из Небит-Дага. А это мои коллеги по работе, — кивнул он на ребят, дремавших, прижавшись плечами друг к другу.
— Вы часто так?
— Все время. С места на место, с места на место.
— Всегда в дороге… — проговорила я не то с сочувствием, не то с завистью.
А потом, незаметно для себя, унеслась с ним в далекие края. Время, недавно тянувшееся страшно медленно, заспешило поездами, самолетами, и была я уже не тут, на вокзале, а в каракумских песках, сыпучих и горячих, по которым, гордо подняв головы, бредут верблюды; проходила мимо саманных аулов, древних мавзолеев, стерегущих в безлюдных степях вечность кочевников; стояла на горячем такыре, как на раскаленной плите; видела, как, опаленные нестерпимой жарой, вгрызаются нефтяники в глубь земли… Дрожала от ночного холода, внезапно упавшего над Каспием, как только вонзился в песок расплавленный шар солнца, чувствовала глухое одиночество человека, которому в пустыне живой мир кажется нереальным… Я ходила в далекие рейсы с инженером Андрием, уже несколько лет ищущим какой-то особенно ценный новый сорт нефти.
Смотрела на него и видела, как он идет по земле, гонимый жаждой познания, идет трудно и с тоской всматривается: где бы найти ему пристанище, куда он мог бы каждый раз вернуться из путешествия, когда допечет его глухое одиночество и нереальным покажется живой мир…
Люди задвигались, окошечко кассы открылось, и мы вернулись из далекого странствия. Мне интересно было в обществе инженера Андрия. Нет, я в него еще не была влюблена, но мне с ним было хорошо, легко, и если бы он предложил сойти с ним в Долине…
В поезде мы стояли у окна, разговаривали. Андрий забыл меня познакомить со своими товарищами, да и ребята не изъявляли такого желания: усталые, они залезли на полки и заснули. Правда, я заметила, что один из них поначалу все же посматривал на нас сквозь зажмуренные веки, но я не обращала на это внимания — рассказывала Андрию о себе.
На станции в Долине Андрий сказал:
— Я зайду к тебе, когда буду в Городе.
На третий день после нашей встречи он пришел. Я еле узнала его. Это был не тот сдержанный человек, в глазах которого только изредка вспыхивала радость, когда он смотрел на меня, — растерянный паренек, бегущий за поездом, отчаянный смельчак, бросающийся в охваченный пожаром дом, — таким он стоял на моем пороге и, увидев меня, затих, обмяк, а затем проговорил, переводя дух:
— Галина… Я за эти два дня… Ну, словом, мне показалось, и как это могло прийти этакое в голову, что ты… что ты не тот адрес мне дала. Ведь девушки так иногда шутят, знакомясь с ребятами в. дороге…
— Зачем мне было это делать? — спросила я и в эту минуту поняла, что ждала его, что в нем была вся красота моего мира, потому что для него я была прекрасна и необходима.
— Мы едем в экспедицию в горы, собирайся.
И я ушла с ним.
…Это было давно, Нестор. Боль уже угасла, и я вся отдалась работе. Но ты растревожил эту боль, заглянув в мои глаза так, как когда-то он. И мне на какое-то мгновение показалось, что это вернулся Андрий. Через семь лет…
МАЭСТРО СТЕФУРАК
Августин Копач встретился с Галей на лестнице, когда она сбегала вниз. При виде ее у него всегда хорошо становится на душе. Эту Галю любят все, а Копачи даже слишком, может, из-за того, что нет своих детей.
Августин взял Галю за подбородок, покачал головой: «Понимаю, ой, как понимаю тебя, бедняжка. Сколько ты пережила, а тут, может, новое. Нестор… Появился, как молния, и исчез. Тебе грустно, ведь Он хороший человек. Но, как говорится, свет, дочка, велик, и кто знает, приедет ли он еще сюда когда-нибудь… Потому как жизнь такая суетливая, столько в ней неожиданностей и случаев подстерегают человека, что не всегда он может собою руководить. Ну, разве то, что ты родился, не случайность? А то, что женился на той, а не на другой; а то, что стал врачом, или же учителем, или рабочим, или, скажем, театральным человеком, — разве ж это все в какой-то мере не случайности? Мог ли бы я сейчас сказать, кем бы я был, если б не просватал лучшую в Залучье девушку, не говоря уж о том случае во время лицитации — с козой? Ну, а ты, голубушка, — если бы Вадим Иванович возглавлял гарнизон не в этом, а в другом селе, — не погибла бы ты еще младенцем? Так и с Нестором…»
— Августин Гаврилович, — в глазах Гали был укор, — вы… пожалеть меня хотите? Не надо…
— Да что ты, бог с тобой! — всполошился Августин. — Я только это… мне кажется, что он вчера, не уехал, ведь как он мог уехать, не увидев тебя еще раз, — проговорил Копач запинаясь, и, сам не веря в это, обойдя Галю, заторопился по ступенькам вверх.
Нажал пуговку звонка. Ждал под дверью долго. Но вот послышался глухой кашель, и дверь наконец открылась.
Стефурак стоял перед Копачем, о чем-то размышляя. Потом, решительно подняв голову, сказал:
— О театральных делах позже… Я еще позавчера закончил свою писанину. И хочу, чтобы ты послушал. Ты умеешь слушать. Да… Дни мои сочтены, поэтому, когда я… чтобы ты мог сказать: «Старик оставил что-то там написанное. А ну как пригодится кому-нибудь». Мне будет жаль, если то, что я знаю, уйдет со мною… Да ты не чеши в затылке, я всего читать не буду.
Стефурак пригласил Копача в свой кабинет, посадил его в кресло.
— Ты вот, Августин, — заговорил маэстро Стефурак, перелистывая страницы своей рукописи, — ты в каждом случае, к месту и не к месту, всегда напоминаешь: «Я — театральный человек», а сам вовсе ничего не знаешь об истории нашего театра. Твоя Каролина одно твердит, что все началось с нашего Города: и техника, и наука, и культура, словом, Город — пуп земли. Над ней подтрунивают, но в чем-то все-таки Она права. Театр, дорогой Августин, которому мы с тобой посвятили свою жизнь, зародился все-таки у нас.
— Потому, как говорится… — начал было свое Августин, но Стефурак нетерпеливо оборвал его:
— «Как говорится, как говорится»! Никто тебе ничего не говорил, и ничего ты не знаешь. Лучше послушай, так и узнаешь! Ибо. все-таки в нашем Городе начал свою жизнь галицкий театр. Да… Давно, еще и меня на свете не было, жил тут писатель Иван Озаркевич, человек очень деятельный, болел душой за наш простой люд, за его культуру, растоптанную австрийским сапогом… — Стефурак будто читал лекцию, забыв, что перед ним не аудитория, а один Копач. — Ты помнишь полонизацию при буржуазной Польше, а я скажу тебе, что при Австрии, до революции 1848 года, было еще хуже — нас совсем не воспринимали как народ, а считали каким-то полудиким племенем; которое следует онемечить, чтобы превратить нас в послушных кнехтов. Но ведь, теперь это каждый знает, народ убить нельзя: вспыхнула в Европе революция, и подали голос за угнетенных русинов светлые головы во Львове, а в нашем Городе этот никому еще не ведомый Озаркевич создал любительский кружок, переработал известную тебе «Наталку Полтавку» покойного уже тогда Котляревского на гуцульский лад, назвал ее «Девка на выданье» и поставил. Это было событие! Народ валом валил, чтобы услышать со сцены родное слово. После окончания представления публика кричала «браво!», «бис!», «автора!»… Как известно, автор не мог выйти на сцену, ибо его давно уже на свете не было, а если бы и жил, то где Полтава, а где наш Город…
— Как говорится, где Рим, а где Крым… — заикнулся было Копач и тут же умолк, смешавшись под осуждающим взглядом Стефурака.
— …а публика кричала свое: «Автора!» Тогда вышел на авансцену режиссер Лайтнер, вышел, чтобы объяснить причину отсутствия автора, но зрители приняли его за Котляревского и устроили ему получасовую овацию. Вот с тех пор и пошел слух, он еще гулял и в дни моей молодости: будто в 1848 году Котляревский был в Городе. Ну, а потом выросли любительские кружки во Львове, в Перемышле, из которых гораздо позже стараниями украинского культурного товарищества «Руська Бесiда» был создан профессиональный театр во Львове.
Августин Копач зевнул, но Стефурак сделал вид, что не заметил этого, и продолжал:
— Обо всем я тебе читать не стану, хочу только сказать несколько слов о себе, ибо умру, а ты и знать не будешь, откуда я взялся.
— Э-э, да почему бы не знать, — Копач лукаво прищурился. — Все мы, как говорится…
— Оставь, Августин, свои плоские залучанские шуточки, от них никому не смешно… Вот я тебе начал о театре «Руська Бесiда». Тяжелая была жизнь актеров, ездили они по нашим городам и городкам, как кочующие цыгане, голодали, помещений не имели, реквизит был нищенский, потому что все ломалось и портилось в дорогах, а все-таки выросли в этом театре такие светила, как Теофила Бачинская, Иван Гриневецкий — знаменитый режиссер и актер, Владислав Плошевский, тот, что, бедолага, от огромного нервного перенапряжения и недоедания сошел с ума на сцене. Да, да, буквально на сцене! Играл он в Станиславе шиллеровского Франца Моора, успех имел колоссальный, после пятого действия публика вызывала его пятнадцать раз. Он выходил на сцену, кланялся, но друзья заметили, что болезненная гримаса искривляет его лицо. Обезумевшего Плошевского забрали прямо со сцены, повезли во Львов, где он через две недели и умер… Выросли в этом театре и Катерина Рубчакова — звезда, скажу тебе, и ее муж Иван Рубчак, и — кто бы ты подумал, Августин? — талантливый комедийный актер Степан Стефурак — мой дядя!
— О, это уже другая пара галош! — произнес Копач и зевнул во второй раз.
— А что ты думаешь? — воскликнул маэстро Стефурак. — Это он меня вывел на сцену!
— Видите, вам было легче. Вас дядя за руку тащил в театр, а мы с вами бедного Нестора за воротник выносили — из театра.
— Да не укоряй уж… «Бедного Нестора»! Ему государство дало науку, готовенькое под нос поднесло, а мы… Да что там говорить… Ну, а в нашем Городе театральная жизнь не угасала. При филиале «Бес1ди» существовал свой любительский кружок, было какое-то помещение, так сказать — база, и сюда изредка приезжал львовский театр. Тут Гриневецкий ставил кДовбуша» Федьковича, сюда однажды наведался Микола Садовский, ставил «Бурлаку» Кропивницкого, «Суету» Тобилевича, а в «Наймичке» играла сама Мария Заньковецкая! Это уже было на моей памяти, тогда и я был нарасхват. Правду говорю тебе. То, что я пробовал играть Гриця, — это, конечно, глупость учинил, но комиком я был хорошим, от дяди этот талант унаследовал. Среди актеров-любителей никто лучше меня не играл Стецка в «Сватанье на Гончаровке» и возного в «Наталке». Из-за меня, не вру, перессорились однажды режиссеры кружков из Станислава, Стрыя и Черновцов…
— В это-то я верю, — снова перебил Стефурака Августин. — Если человек что-то может, то от желающих, скажу по правде, нет спасу. У нас, в Залучье, была не какая-то там большая шишка, а так себе, обыкновенная Олена Езунина, но от парней и даже женатых отбиться не могла, а потом уже и не отбивалась. Как-то встретил ее староста, да и говорит: «Доколе ты, Оленка, будешь проститутничать?» А она всплакнула, вытерла фартуком глаза и отвечает: «Да разве я виновата, пан староста, что меня человеком считают?» Так и вас, а то как же…
— Ты уже кончил? — скривился Стефурак.
— Пока что кончил, — ответил Копач и зевнул в третий раз.
У Стефурака пропала охота рассказывать дальше, он понял, что жестоко просчитался, надеясь найти в лице Августина благодарного слушателя. Сказал:
— А остальное ты уже все знаешь обо мне. Ибо незадолго до того, как ты приплелся в Город с этой своей дурацкой козой, я стал директором нашего Городского театра.
— Вот видите, каждому свое. Но оба мы очутились в нашем Городе и не раскаиваемся… Я, Иван Бонифатьевич, очень внимательно вас слушал, а сам так думал: вы вот написали книжку, это, как говорится, не каждый умеет. Но, мне кажется, хотя я и не читал, ведь всего никто не способен прочитать, об этом кто-то должен был уже написать. А мне, простому театральному человеку, хотелось бы такое услышать, о чем знаете только вы, потому как прожили, слава богу, почти сто лет, так должны что-то знать — больше, чем ученый. И хотя это может быть только ваше, но ежели подумать по мужицкому разумению, то и не ваше. Потому как принадлежите вы театру, и каждое ваше… приключение это уже кусочек его истории…
— Э-э, Августин, я вижу, ты не такой уж этот… как я думал! — обрадовался Стефурак. — Так у меня тут описано не одно приключение. Но то, о котором я хочу тебе прочитать… Нестор о нем в фильме даже не намекнул и в разговоре почему-то не хотел вспоминать, но оно было… И кто знает, может, как раз из-за этого случая он такой теперь честный в искусстве. Ибо еще в детстве понял самое главное — цену человеческой совести. А все остальное — второстепенно… Жаль, если уехал, я так и не поговорил с ним… Я описал этот случай. Ты только слушай и не перебивай меня своими немудрящими репликами, а еще очень прошу: не зевай.
ОЙ, ПУЩУ Я КОНИЧЕНЬКА В САД…
Визит Отто Вехтера в Город был явно неудачным. Расстрел девятерых парней из баудинста произвел совсем не тот эффект, которого ожидал губернатор дистрикта Галициен: на призывной пункт, где набирали добровольцев в дивизию СС «Галичина», явилось только несколько фольксдойчей и сынков полицаев, попытка запугать население провалилась. Вехтер был отозван, а вскоре из Кракова направился в свой последний вояж по городам округа сам генерал-губернатор Ганс Франк.
Это были тревожные дни. Каждый уже знал, что речей, парадов, шествий больше не будет. Начнутся облавы, аресты, насильственная вербовка в дивизию.
Кое-кто из старших гимназистов, пока еще мало шныряло патрулей, успел выскользнуть, потом Город закрыли, и молодых — от семнадцати до тридцати лет — задерживали на улицах, отправляли на вербовочные пункты.
За день до приезда генерал-губернатора в Городе взяли заложников. Неподалеку в горах находились ковпаковские отряды, и фашисты боялись нападения.
В душную и темную камеру — в один из подвалов бывшей керамической школы — ввели Стефурака.
Тьма присосалась к зрачкам. Он стоял посреди камеры, все еще не в состоянии осознать, что, собственно говоря, случилось, почему именно его… Потом, как слепой, протянув вперед руки, ступил шаг, другой-. В потемках зашевелились тени, кто-то застонал, кашлянул, чья-то ладонь прикоснулась к его плечу.
— Идите за мной, — услышал Стефурак знакомый голос, — тут разостлано мое пальто, есть еще где лечь. Ибо к вечеру, кто знает, сколько еще наберется таких, как мы.
— Кто вы? — всматривался Стефурак в высокую фигуру узника. Глаза начали привыкать к темноте: над головой — низкий свод, камера узкая и продолговатая; маленькое зарешеченное оконце, затянутое войлоком, впускало клочок неба с ладонь, под стеной, слева, сидели молчаливые тени. — Кто вы, пане-товарищ?
— Неужели не узнаете? Вы для меня в театре всегда бронировали место в ложе. Теперь у меня есть возможность отблагодарить вас.
— Страус! — ахнул Стефурак. — Профессор Страус! Ой, простите, я забыл, что у вас другая фамилия…
— О-о, — потряс сжатыми кулаками профессор — таким жестом он сопровождал обычно наиэффектнейшие цитаты из немецких классиков. — О, если бы у меня в аусвайсе было написано Страус… А впрочем, не-ет! Они распинают теперь и самого Гейне… О боже, я всего в жизни боялся, кроме книг, а не избежал самого страшного — гестапо!
— Если вы заложник, то, может… — Стефурак попытался утешить Страуса и себя самого.
— Мы все, мы все заложники, коллега. Мы ими родимся. Нам даруют жизнь для того, чтобы мы боялись ее потерять. Чтобы от страха за нее не давали воли непокорному духу… Какой я был осторожный! Как заботливо загонял свой дух в ветхие фолианты, чтобы он не вырвался на свободу, ибо за его даже самый скромный взлет надо платить жизнью… Но убогим был этот мнимый простор кованой клетки. Я увидел, как убивают, и мне стало стыдно, что в такое страшное время я нахожу в поэзии Гёте одно лишь эстетическое наслажденье, а не гнев, не боль, не протест. И я сказал на уроке…
— Кто-то донес?
— Наверное. Почти в каждом классе учатся сынки фольксдойчей. И чтобы не производить лишнего шума арестом известного германиста, меня взяли теперь якобы как заложника. И скажу вам: я боюсь не самого акта насильственной смерти, а ее глупости, ненужности, противоестественности…
— Не служите панихиду, профессор. — Стефурак опустился на разостланное пальто. — Если вы сказали такое слово, что разозлило врага, то определенно оно тронуло и чье-то юное честное сердце… А это уже кое-что значит. Да я за каждую смелую мысль, провозглашенную со сцены, готов сто раз умереть!.. Правда, для меня все это тоже неожиданность. Забрали прямо с репетиции. Видно, и моя работа стала им поперек горла… Ну, а кто, кто теперь вложит в уста моих актеров пафос вольнолюбивых призывов Назара и Гната?
— Да, да, вы правы. Я одного ученика благословил в актеры. Вы знаете, он у меня на уроке прочитал на память монолог Карла Моора на немецком языке. И как прочитал! Это прирожденный талант. И я сказал ему: иди в театр. Может, он и придет к вам. Если… Если выберетесь отсюда, приглядитесь к мальчику. Его зовут Нестором. А другой, сорвиголова и двоечник, услышав мою крамолу, поклялся бороться с врагом. При всех поклялся. И исчез, нет его… Вы правы, наверное, не пропали даром мои слова, и мне не так уж безнадежно жаль жизни…
— Да не каркайте. Франка никто не убьет, и нас выпустят.
Стефурак присматривался к узникам, сидевшим под стеной. Их было трое. Двое, закутанные в один кожух, дремали. У третьего — со свежим красным шрамом на лице — были ясные, не омраченные страхом глаза. Он останавливал их то на Стефураке, то на Страусе, его безмятежный взгляд внушал и им спокойствие.
— Они сейчас начнут расспрашивать… — донеслось бурчание из-под кожуха. — Кум, слышь, снова лазят квартиранты… — Один высунул голову, откинул полу кожуха. — Давай за работу, слышь? — Он сбросил рубаху и начал шарить пальцами по швам. Вылез и другой и тоже разделся.

— Кто они? — прошептал Стефурак.
— Я слышал, как этот узник со шрамом, что сбоку сказал им: «А вы так стараетесь, что вас не только выпустят, а еще и барахло вернут». Я не совсем понял его слова, но, видно, попались на торгах в гетто.
— Гниды!.. А этот кто?
— Не знаю.
Стефурак помолчал, потом спросил:
— Интересно, много ли набрали заложников?
— Во всех камерах есть, — проговорил узник со шрамом. — Перестукивались… Да вы бейте, бейте своих вшей! — прикрикнул он на тех двоих. — Не разевайте рот на каждое слово. Знаю уже, зачем вас сюда подбросили.
— Хи-хи! — запел один. — Он все знает… Так, может, знаешь и где твои товарищи. Скажи немцу — бить перестанут… Девять у меня!
— Двенадцать! — воскликнул второй.
Вдруг лязгнул замок, открылась дверь, и в камеру втолкнули мальчика-подростка. Тот споткнулся и упал лицом на цементный пол. Страус и Стефурак вскочили:
— Дошло уже и до детей?!
Вошебои громко захохотали, но потом и они стихли: мальчик лежал навзничь и громко рыдал.
Узник со шрамом встал и, прихрамывая, подошел к нему, взял на руки, как ребенка, положил возле себя.
— Не плачь, — сказал он. — Слушай дядю Гарматия из Желобов, и тебе ничего не будет страшно. Я, парень, тут уже три месяца жду смерти, ко мне подсылают таких вот, — показал он на вошебоев, — и ничего… Страшна не смерть, сынок, а подлость. Тебя же выпустят: в чем и перед кем ты мог провиниться? Ну, успокойся… Лучше запоем, хорошо?
— Разве что реквием, — сказал Страус. — По себе…
Тихо, словно из подземелья, зазвучала тоскливая песня. Дрожала и с трудом вырывалась из больной груди узника, но крепла и, будто сама родившись из боли, убаюкивала боль, придавала сил певцу. Голос его креп и раздвигал стены тесной тюрьмы.
Ой, пущу я кониченька,
Ой, пущу я в сад,
А сам піду к вітцю на порадоньку
Отець мій по садочку ходить…
Это была песня свободы, и все потянулись к ней. Пел Стефурак, подтягивал и Страус, хотя услышали они эту песню впервые. И разлилась песня половодьем, и на миг не стало тюрьмы, а паренек смотрел в темноту зачарованными глазами, и растерянности уже не было на его лице.
— Schweigen![21] — гаркнул вахман в глазок.
В камере стцхдо. Гарматий. спросил:
— Как тебя звать, сынок?
— Нестор…
Паренек увидел, как у противоположной стены рывком вскочили двое и сквозь сумрак приблизились к нему: один круглый и низкий, другой высокий, худой. Оба склонились над ним, и Нестор узнал своего врага Стефурака и свое божество Страуса.
— Ты почему здесь? — спросили они в один голос.
…Нестор видел все из окна своего класса. Как раз началась большая перемена, ученики разбежались по коридорам, по двору. Нестор повторял Цицерона — готовился к сдаче экзамена. Й вдруг заметил: два гестаповских офицера подошли к парадному входу гимназии и остановились, широко расставив ноги. Через минуту в вестибюль вышел Миндик, щелкнул каблуками, выбросил вперед руку, о чем-то кратко доложил. У Нестора екнуло сердце. Восьмиклассник Миндик, тот, что принимал участие в карательных акциях в гетто, тот, что грабил цыгана во время колядования в бурсе, неспроста рапортует гестаповцам. Кого-то заберут пе-,ред приездом Франка. По городу уже пошли тревожные слухи: фашисты хватают заложников. Прямо на улицах, средь белого дня. Старых, молодых — не выбирают. Не пришли ли они за кем-нибудь и в гимназию?
Потом из ворот вышел с высоко поднятой головой, прижимая к груди сжатую в кулак правую руку, величественный Страус. Увидев гестаповцев и Миндика, он не остановился, а только замедлил шаг, будто споткнулся, и пошел дальше не оглядываясь. Миндик кивнул головой, гестаповцы быстро зашагали за профессором.
Нестор прилип к подоконнику, словно его привязали. Он видел, как Страус вынул из кармана документ, как упирался, когда его вели к машине. У Нестора точно отнялись руки и ноги, но он собрался с силами и оторвался от окна. Страх за любимого учителя, за самого лучшего и самого мудрого на свете человека, переборол собственный испуг, и Нестор стремглав бросился по лестницам-к выходу.
— Страуса взяли! Страуса взяли! — кричал он.
Растерянные учителя останавливались, ученики бежали за Нестором, но за ворота выскочил только он один.
— Zurück[22] —крикнул Миндик и потянулся к карману. Ученики остановились, Миндик схватил Нестора за воротник, смерил его ненавидящим взглядом.
— Ну, теперь ты уже у меня поколядуешь! — толкнул паренька вперед и, выхватив из кармана блестящий браунинг, прикрикнул: — Vorwärts[23], а не то сделаю тебе пиф-паф! Прекрасно, есть еще один заложник. — И повел Нестора в гестапо.
…Нестор вскочил, стал, опустив руки. Именно в такой позе он останавливался в гимназическом коридоре даже во время самой неистовой шалости, когда рядом проходил Страус, именно так он вскакивал с кресла в театре на галерке, когда появлялся директор, вылавливавший безбилетников.
Ему стало легче на душе — он не один тут, в тюрьме.
— Erzählen Sie mir… — горько произнес Страус свою обычную фразу, которой всегда начинал урок, и замолчал, опустив голову на грудь.
— Профессор! — выкрикнул сквозь слезы Нестор. — Профессор, я расскажу… я буду отвечать вам, перед вами… за вас… где бы вы ни…
— Каждый будет отвечать за себя, — покачал головой Страус. — Мы очень скоро предстанем перед самым тяжким экзаменом на аттестат зрелости…
— Ну, не падайте духом, профессор! — ударил в сердцах Стефурак ладонью по колену. — Надо думать о жизни, надо каждое пережитое мгновение, даже тюрьму, использовать для дела. Отовсюду извлекать опыт, детали. Потом ваше пребывание в заложниках выльется в знаменитую серию красочных эпизодов, которыми вы на уроке захватите утомленную вашей германистикой аудиторию и пробудите силу духа у ваших учеников!.. Гарматий, слышишь, Гарматий, я возьму тебя в театр, в хор, ты знаешь, какой у тебя голос!
— Хорошо, директор, — усмехнулся узник. — Я выступал солистом в сводном хоре на олимпиаде в сороковом году. Вы были председателем жюри. Почему тогда меня не заприметили? Ой, тяжкая у нас сейчас репетиция. И слишком неакустичный зал. Не знаю, сможете вы меня взять или нет, но песню мою не оставьте тут…
И он тихо запел:
Ой, пущу я кониченька
В сад…
— Чудесная песня. — Стефурак помрачнел. — За что тебя?
— Колонну запрутских активистов отбили… Десятерых шуцподицаев казнили.
— Освободили коммунистов?
— Да… Я недооценил врага. Заночевал в Желобах, с собаками там и нашли. Что так смотрите? Удивляетесь, что до сих пор жив? О других хотят выпытать. А у меня, как назло, память отшибло. Ни одного вспомнить не могу.
Загрохотала, открываясь, дверь.
— Гарматий, на допрос! — крикнул вахман.
Узник встал, кривясь от боли. Проходя мимо Стефурака, прошептал, кивая на вошебоев:
— Будьте осторожны, это — подсадные утки…
Мертво стало в камере. Нестерпимо медленно тянулось время — самый страшный враг узника. Вошебои продолжали свое соревнование:
— Восемнадцать!
— Двадцать шесть!
Страус сидел на разостланном пальто, молчал; Стефурак прохаживался по камере.
— Да уж было бы не жаль, если бы кто-нибудь, эх-эх… — разговаривал он сам с собой. — А то можно так и в самом деле ни за понюшку табаку пропасть.
— В природе ничто не пропадает, — сказал Страус. — Нас вывезут в Шипитский лес, — и знаете, какие потом летом уродятся лесные орехи… Но ты-то как сюда попал? — обратился он к Нестору.
— Я бежал за вами…
— Добрым человеком вырастешь, юноша… А в театре должны работать только добрые люди.
Нестор исподлобья взглянул на Стефурака. Тот остановился и долго всматривался в паренька.
— Тридцать два!
— Сорок! — донеслось из-под стены.
Стефурак пристально смотрел на Нестора и никак не мог совместить его, теперешнего, с тем безбилетником, который так осточертел ему в театре.
«А все-таки, — упрекнул себя режиссер, — почему я не подумал, что паренек, так рвущийся в театр, несет в душе нечто иное, нежели тот сорванец, что перелезает через забор, чтобы попасть на футбольный матч».
— Нестор, — произнес он тихо, — ты уж прости меня… Клянусь Мельпоменой, на каждый спектакль бронирую тебе ложу.
— Мою забронируйте, директор, — вздохнул Страус.
— Профессор, перестаньте!
— Нет, нет, я знаю… Самых осторожных всегда подстерегает самая жестокая судьба.
— Пятьдесят.
— Шестьдесят три!
— Да замолчите вы! — не стерпел Стефурак.
— Посмотрим, не будете ли и вы завтра так же лупить вшей на своих манжетах. Проф-фессора! — заворчали вошебои.
Взволнованный Нестор подошел к Стефураку. Он еще не мог побороть удивление, что находится теперь на равных правах с самим директором театра — недосягаемой персоной, самым лютым его врагом и большим мастером своего дела.
— Удивляешься? — прочел его мысли Стефурак. — Тюрьма, как и смерть, уравнивает всех…
— Директор, — замялся Нестор. — Я… я… давно не видел Завадовской. Почему она не играет?
— Завадовской? Ее уже нет в театре.
— Как — нет?! — вскрикнул Нестор.
— Нет, и все, — развел руками Стефурак. — Исчезла Оленка.
Нестор долго стоял неподвижно, он не мог сразу постичь смысл этих страшных, убийственных слов, а когда постиг, то розовое марево рампы, к которому он так упрямо тянулся, погасло, и театр, и весь мир сразу утратили свои чары, он тихо опустился посреди камеры на колени, обхватил голову руками и так сидел сгорбленный, без всхлипа, без плача, и тяжко было смотреть на это немое отчаяние.
— Разве вы не поняли, директор? — сказал через минуту Страус, показывая на Нестора.
— Понял… Но где же Оленка?
— Молодежь решительнее нас. Так и должно быть. Я же вам говорил: из моего класса исчез гимназист Генюк.
— Генюк? Василь? — переспросил Стефурак. — А-а, теперь для меня кое-что прояснилось…
— Девяносто!..
— Сто!
Ночью в камеру, словно мешок, бросили избитого, окровавленного Гарматия.
Вошебои спали, а может, прикидывались спящими-. Стефурак, Страус и Нестор кинулись к Гарматию. Он был жив. Они положили его на пальто и молча сидели возле него, прислушиваясь, дышит ли он, а когда их веки начал было сковывать сон, чисто и тихо прозвенела песня:
Ой, пущу я кониченька
Ой, пущу я в сад…
— Боже, дай мне такую силу в последнюю минуту, — проговорил Страус.
Нестор что-то шептал и гладил слипшиеся от крови волосы Гарматия.
…А сам піду к вітцю на порадоньку…
— Так есть ли в мире сила, чтобы убить его, нас, всех! — заскрипел зубами Стефурак.
Отець мій по садочку ходить,
За поводи кониченька водить…
крепла все сильнее песня.
— Schweiqen! — гаркнул вахман в глазок.
— А вот и не замолчу, нет! — крикнул Гарматий и потерял сознание.
Утром после завтрака — жесткого хлеба с половой и воды — Гарматия снова вызвали на допрос. Идти он сам не мог, и два вахмана потащили его под руки.
Бросили Гарматия в камеру перед обедом. На его теле не осталось живого места — все в свежих и запёкшихся ранах. Гарматий не дышал. Страус взял его руку — пульс еще бился.
— Убили! — простонал Нестор. — Убили!..
Гарматий шевельнулся, открыл глаза и чуть слышно прошептал запекшимися губами:
— «Ой, пущу я кониченька в сад… а сам піду к вітцю на порадоньку…» Возьмите мою песню.
И умолк.
— Возьму, — Нестор припал головой к груди Гарматия.
Августин вытирал слезы. Стефурак читал, шмыгая носом.
— Мне вы об этом не обмолвились ни единым словом, — упрекнул Копач Стефурака. — Я только знаю, что вас брали заложником.
— А что было рассказывать… Сколько людей погибло, но мы все-таки вышли. Франка не убили… Нестора отпустили раньше, а нас потом. Но перед освобождением всем заложникам привили противотифозную вакцину. Какой гуманизм у палачей, удивлялся я, все-таки помнят, что сидели мы во вшивых камерах. Но это не были противотифозные уколы — нам ввели здоровые бациллы. Страус, как тебе известно, умер. Я выжил. А Нестора с тех пор я не видел. До вчерашнего дня.
— Я видел его в последний раз на похоронах профессора, — вспомнил Августин. — Страшно было смотреть на него. Черный был, а я и не знал почему, Сколько вдруг свалилось на его голову! Он не плакал, только мрачным взглядом провожал гроб, а когда его опускали в яму, взял комок земли, но не бросил, а губы все время беззвучно шевелились.
— Наверное, пел своему профессору реквием — песню Гарматия…
НА ЗАВОДЕ
Кость Американец поправил фуражку, принял независимый вид, с подчеркнутой молодцеватостью вынул из внутреннего кармана паспорт и подал в окошко на проходной. Два раза он уже приходил на завод и каждый раз должен был ждать, пока куда-то там позвонят, пока разрешат пройти, а вот теперь он имеет готовый пропуск — пусть не совсем пропуск, но документ, уравнивающий тебя со всеми людьми, что спешат один за другим, крутя выкрашенную в белый цвет вертушку. Он прошел по двору мимо нового блока цехов и уже не как посторонний, а до-хозяйски, оценивающе окинул взглядом высокое из бетона и стекла здание, причмокнул:
— Сногсшибательно, сказала бы Перцова!
Вспомнив Анелю, он тепло улыбнулся. Привык уже к ней. Да, надо будет после работы зайти похвалиться и чарочку опрокинуть.
Костю было приятно идти по заводскому двору, хотя он тут и не впервые. Вот хорошо знакомый двухэтажный домик с флигелями и балкончиками, похожий на музейный экспонат, среди новых корпусов. Теперь на нем висит табличка «СКВ», а ведь это же бывшее помещение той знаменитой фабрики братьев Бискупских, что изготовляла плуги и соломорезки. Здесь Кость еще маленьким пареньком не раз подрабатывал как грузчик.
Сколько же времени прошло, даже страшно подумать! Какой промышленный гигант вырос из кузницы! Сколько поколений рабочих и инженеров выросло тут, а его, Костевы, годы, так бесплодно пролетели на чужбине. Кем он мог бы стать, если бы не пустился в заокеанские странствия?.. Да что уж теперь гадать… Хорошо, что хотя бы в старости сможет доказать себе и людям, что еще нужны его руки.
«Но погоди, Кость, ты еще не был у директора, и на работу тебя никто еще не зачислил…» И он повернул к административному зданию.
— Добрый день, заморский музыкант, — ответил на приветствие Костя Вадим Иванович, не поднимая головы от бумаг. — Так вот, пора браться за дело… Вы фрезерный станок видели когда-нибудь?
— Такое скажете, что хоть поворачивайся и уходи. Разве я вам не говорил?.. Да мне за ним стоять — что кассиру на вокзале выдавать билеты. Я же первоклассный слесарь.
— Ну, если так, то идите к Галине Васильевне, она вам расскажет, что и как…
— Спасибо, товарищ Скоробогатый! — поклонился Кость — Но… Я не знаю, кто такая Галина Васильевна.
— Начальник производственного отдела. А разве вы не знакомы — это же Галя, Стефуракова…
— А-а, — даже хлопнул себя по бедрам Кость. — Она — Васильевна?
— Ну, идите, идите… Да, одну минуточку… Вы были, вчера в театре, когда выступал режиссер?
— О, я с ним целую позапрошлую ночь просидел, товарищ Скоробогатый. Это мудрый инженер. Он вчера, уехал, должно быть, ночным.
— Инженер? — уставился Вадим Иванович на Костя. — Ну что ж… Может, и инженер. А я не мог прийти. Если бы знал! Помните, в этом фильме — я успел вчера только на последний сеанс — есть такая сцена: мальчик хочет выстрелить в аиста, а молодой офицер выбивает у него пистолет из рук… Это, как бы вам сказать… Этот офицер — я. A-а, черт побери, вечно эта работа! Был же он вчера у меня, вот здесь, но ни я его, ни он меня не узнали. Ах, какая это могла быть встреча!.. Мальчик с лукошком земляники… Я так хорошо помню… Как сегодня… Так он уехал, говорите?
— Не могу сказать точно. Когда мы прощались, он еще колебался: ехать или нет.
— Ладно. Я позвоню в гостиницу. А вы идите, Кость, идите, я спешу в сборочный.
«Вот какие неожиданные встречи бывают, — думал Американец, идя по длинному коридору в производственный отдел. — За одни сутки. И ко всему этому Галя оказалась Галиной Васильевной…»
Галя ждала Американца. Ее только что вызвал директор в сборочный цех, так заодно она проводит и Костя к начальнику инструментального.
— Я вас оформлю потом, а сейчас идемте, покажу вам станок. — Галя закрыла кабинет и пошла впереди Костя по лестнице вниз. — Видите, а вы огорчались. Так когда на магарыч пригласите?
— Сегодня, Галина Васильевна, сегодня, — впервые обратился Кость к Гале официально. — Дайте только прикоснуться к фрезерному.
— Не надо, Кость, пусть я для вас буду и дальше Галей… Где же вы банкет устроите?
— Банкет не банкет, а по рюмочке у Анели выпьем. Придешь?
— До конца смены еще далеко — целый день, и мы еще не раз встретимся, — ответила Галя уклончиво.
Американец помолчал, потом остановился.
— Вы что-то хотите сказать? — спросила Галя. — У вас такой таинственный вид…
— Да вот взбрело в голову… Слушай, Галя, что бы ты сказала, если бы я взял да и женился? Вот было бы смеху, правда?
— А что тут такого? Я тоже еще думаю… — Галя осеклась, пораженная тем, что может об этом говорить так просто.
— Ну и сравнила! Я по годам старик, хотя в общем-то не слишком растрачивал себя в долгой своей жизни, а ты…
— У вас — по-другому. Захотите — найдете, — помрачнела Галя. — А мы должны ждать, как на вечеринке, чтобы кто-нибудь пригласил на танец…
— Не надо слишком перебирать.
— Что вы знаете, Кость…
— Ничего не знаю, но мне кажется, что хватит тебе в печали ходить. На твоем месте я этого режиссера не упустила бы…
— Да перестаньте! — вспыхнула Галя. — Что вы все — сговорились? Вот ваш инструментальный, — произнесла она холодно. — Видите вон того мужчину? Это начальник цеха. Подойдите к нему. Я ему уже о вас говорила.
Обескураженный Кость пожал плечами, виновато развел руки, круто повернулся и заторопился в инструментальный цех.
— Так ведь и разговоры пойдут, — пробормотала раздраженно Галина, глядя вслед Американцу. Но в ту же минуту слова Костя снова прозвучали в ее сознании. «Он прав. Сколько я еще должна жить одна?».
Она уже слышала это не раз. Сама молодость звала ее, но никто не пробудил в ней отклика — даже в мыслях не могла она допустить близости с кем-то, кроме Андрия. Одиночество как будто не тяготило ее. А теперь? Почему так естественно просто возник вопрос: «До каких пор?» Почему едва встреченный человек не кажется ей сейчас чужим? И совсем иначе, с искренней теплотой вспомнился другой… Его звали Марко. Андрия уже давно не было на свете. Но как возмутило ее тогда признание Марка: «Я буду тебе настоящим другом, Галя…» А теперь она будто вновь увидела пышноволосого юношу с гитарой, и ей захотелось знать, что с ним.
Что же с ней сделал Нестор? Освободил ее от добровольных пут одиночества… Но для кого — для себя или для нее самой?
Встревоженная ощущением свободы, неожиданно нахлынувшей на нее и давшей ей право распоряжаться своей жизнью — бросать вызов прошлому, отдавая ему, как подачку, обещание доброй памяти, — Галя упрекнула себя в легкомыслии, черствости. Да, такой она себя еще не знала. Облегчение и горечь смешались. Галя быстрым шагом пошла куда глаза глядят, стремясь убежать от самой себя. Перешла двор, с кем-то здоровалась, проходила по цехам, забыв, в какой должна была зайти, не замечая людей. Стук, лязг были точно кстати, заводской шум плотно окутал ее, отдалив от всего окружающего, дав возможность углубиться в себя.
— Да, до каких пор? — произнесла она вслух. — До самой смерти?
Острая боль по утраченному еще раз пронзила сердце и утихла. А на месте этой тоски появилась пустота, в которую сначала робко просочилась, а потом тугой струей ударила жажда радости, утешения, счастья, ласки. Галя отчетливо увидела глаза Андрия, но не те, что все время взывали к ней из небытия, умоляя о верности и одиночестве. Нет, это были живые глаза, в которых раз за разом вспыхивал свет, будто они неустанно что-то искали и находили. Галя поняла, что смотрит на нее уже не Андрий, его давно нет, а Нестор. Смотрит и зовет к жизни ее — молодую, крепкую, здоровую. А за ним где-то очень далеко проступает силуэт буйночубого юноши с гитарой, говорящего с упреком: «Я мог бы тебе стать хорошим другом».
И она устремилась навстречу зовущим глазам Нестора, ища в них совета, но вдруг защищавший ее от окружающего гул машин разорвал скрип передвижного крана над самой ее головой.
Из кабины крана выглянула девушка, повязанная под подбородком малиновой косынкой, помахала рукой.
— Привет, Мартуся! — крикнула Галя.
Кран проплыл над головами людей в другой конец цеха, а Галя вдруг подумала настороженно:
«А разве не может случится так и у меня… Если бы я… Так, как у Марты? Нет! Но жизнь не сплошной праздник… Да и Мартуся — разве она могла тогда знать, что выбирает себе не Михайлу Аполлоновича, а всего-навсего Миська Два Пальчика!»
МАРТУСИНА ИСПОВЕДЬ
Как-то вечером, было это ранней весной, к Гале домой зашла неожиданная гостья. Неожиданная потому, что с Мартой Галя не дружила, жену Миська-конферансье она знала лишь в лицо. Мисько всегда, когда вел концертную программу, приходил в театр с ней. Марта сидела в ложе, отдельно от всех, чрезмерно пышно одетая, надменная.
Галя порой присматривалась к ней, пытаясь понять, откуда у нее — молодой да еще и не работающей — это высокомерие? Что она успела хорошего сделать, чем ей гордиться? А между прочим, не следовало бы над этим и задумываться — надменность порождает безделье или низкая культура человека. Однако в красивых глазах Марты — когда удавалось перехватить ее взгляд — Галя улавливала какую-то скрытую печаль, и тогда ей казалось, что эта женщина глубоко несчастлива.
После концерта Мисько входил к Марте в ложу, помогал ей одеться, и оба — она, стройная, с безупречной фигурой, он, круглый, одутловатый, на высоких «платформах» и все равно на полголовы ниже своей жены, — выходили из театра и долго стояли, ожидая машину на стоянке такси — в автобус они никогда не садились. Люди, проходя мимо, здоровались Марта отвечала чуть заметным кивком головы, Мисько же стоял возле нее набычившись, с выставленным вперед подбородком.
Такая манера — ждать такси, пока зрители выйдут из театра, — была Миськом давно и тщательно продумана. Ведь в зале его талант оценивала масса, а массе в театре аплодирует, как известно, всем. Тут же он принимал признание индивидуальное: лишь одного его из всей этой толпы узнают, кланяются, это видит Марта и небось преисполняется гордостью за своего мужа. Вот все прошли как тени — неизвестные, серые, — он же, городская знаменитость, стоит, заложив правую руку за борт пальто или пиджака, будто на своеобразном параде, а рядом — красивая, шикарно одетая, украшенная изысканными драгоценностями женщина, равной которой в Городе нет.
И вот она пришла. Зачем? Взволнованная, растерянная, с уже знакомой печалью в глазах, остановилась на пороге, расстегнула воротник замшевой шубки, сняла норковую шапочку и так, в нерешительности, стояла, не зная, видимо, как объяснить причину своего визита.
— Да вы раздевайтесь, садитесь, — пригласила Галя.
— Благодарю… У вас есть немного времени? Я прошу выслушать меня… Не удивляйтесь, что хочу исповедоваться именно вам: я знаю вас давно, правда, издали, но вы почему-то всегда вызывали во мне доверие. Кроме того, мне известно, какое горе постигло вас, вот я и подумала, что сможете меня понять…
— Пожалуйста, рассказывайте…
— Не знаю, с чего и начать… Словом мне казалось до нынешнего дня, что я ко всему этому со временем привыкну, что в конце концов мне понравится. А сегодня испугалась: что будет со мной, если такая жизнь когда-нибудь меня устроит?.. Мне нужен совет, помощь, а все уклоняются от меня. Собственно, уклоняюсь и я, да и как я могу сблизиться с людьми, когда меня сделали не такой, как все. Во всем… В поведении, в мышлении, даже в этом… — Марта смяла в руке шапочку. — А я совсем иная и для той жизни, в которой очутилась, совсем не гожусь. Вам странно, почему я вышла за… Случилось все это как в плохоньком водевиле. Наша Подгорская школа принимала участие в смотре художественной самодеятельности. Я училась тогда в десятом классе. Исполняла какой-то сольный номер на сцене Городского театра. В школе я занималась в драмкружке, пела — там это получалось. А тут — зал большой, голос у меня слабенький, хотя й чистый… А он вел концерт…
— Ad maiorem gloriam![24] — воскликнул Мисько Два Пальчика, когда со сцены за кулисы выбежала Марта, раскрасневшаяся от стыда — провалилась! На самой высокой ноте в финале не хватило дыхания, и только преждевременные аплодисменты спасли ее от срыва. Не поклонившись публике, она покинула сцену и вот теперь оторопела от непонятных слов конферансье.
— Что, что? Майор, какой майор?
— Sancta simplicitas[25]. К высшей славе, как говорили древние римляне. К славе, богиня вокала!
Мисько взял Мартусю за талию и, пока не стихли еще аплодисменты, вывел ее на сцену, заставив тактичную публику поаплодировать еще раз. Подняв руку Марты, он водил ее по сцене, отходил в сторону, галантно жестикулировал: Мисько умел заморочить головы зрителям. Смущенная, взволнованная, Марта была очаровательна, и молодежь, забыв, что и как она исполняла, бурно аплодировала ей, теперь уже за красоту.
Председатель жюри, преподаватель музыки из Первой школы, не мог понять причины такого ажиотажа и кивнул Августину, чтобы опустил занавес.
— Консерватория, опера, аншлаги! Травиата, Кармен, Маргарита! Вас ждет большое будущее, украшение сцены! — не умолкал Мисько за кулисами.
— Это была первая ложь, в которую я поверила. А потом принимала уже каждое его слово за чистейшую правду. Я не завоевала никакого места на смотре, он же убедил меня, что завистливые бездари всегда зажимают настоящие таланты. Вот хотя бы и он, Мисько, — артист, поэт, а должен прозябать в провинции. Разве это справедливо? Но как сказал поэт: «Настоящий талант к славе дойдет по шпалам босиком!» Есть такое неписаное правило. И я поняла, что люди злы и им не надо доверяться — только себе самой.
Мисько не отступал от меня ни на шаг. Чуть ли не ежедневно приезжал в Подгорки и на коленях молил меня о любви. Я долго не могла привыкнуть к его внешности, но меня прямо-таки одурманивала его эрудиция. Ведь сколько я потратила времени, чтобы выучить один только отрывок из «Фата моргана» или роль Наталки. А он цитировал на память монологи Гамлета, Отелло, Ивана из «Суеты», сыпал латинскими поговорками, как из лукошка. Рыльского называл не иначе как Максимом, Корнейчука — Сашком, говорил, что встречался почти со всеми поэтами и композиторами республики, с некоторыми даже пивал кофе с коньяком.
Я была ошеломлена, оглушена. Мисько открывал передо мной, наивной девушкой, увлекательный большой мир, и я видела себя рядом с этим талантливым человеком на широкой дороге к славе. И я пошла за ним…
После выпускного вечера Мисько Два Пальчика повел Мартусю в Городской дворец бракосочетаний.
Перед этим были смотрины: мать Миська, старая, сморщенная, с великосветскими манерами женщина, холодно посмотрела на Марту, склонила набок голову, проговорила:
— Хорошенькая, да… Но мне кажется, очень простая. Правда, это не страшно. Обтешется. Ведь входит в хороший дом.
После смотрин девушка спросила:
— А когда свадьба? Венок…
— И музыка, и пьяные парни? — резко оборвал Мисько робкое притязание нареченной. — Это же провинциальщина, тебя бы в Европе засмеяли!
Свидетелями были местный композитор Паламарский и его молчаливая жена.
Сентиментальная тетка произнесла заученное напутствие молодым, написанное когда-то для брачных церемоний самим Миськом, а потом свидетели проводили их в буфет, на что Мисько совсем не рассчитывал. Однако если Паламарский приглашает…
— Ты слышала, какие нежные и глубокие слова она говорила? — прошептал Мисько на ухо Мартусе, идя с нею вслед за Паламарским. — Это я их сочинил!
— Шампанского! — взмахнул рукой Паламарский, зацепив фату на голове новобрачной. — Пардон. Я так скажу: за молодых — пенные бокалы, чтоб через кра-а-ай ли-и-ло-оо-сь, — пропел он и искоса бросил взгляд на Миська, кивнул ему, чтобы шел за бутылкой.
Тот дернулся, отбежал от молодой, поднялся на носочках и, приложив ладонь лодочкой ко рту, прошептал Паламарскому:
— Не надо шампанского, наше шампанское — суррогат, прескверно действует на общий тонус… Сухого вина! — Мисько подбежал к буфету и, молниеносно окинув глазом витрину, попросил того, чего не было — «Бычьей крови»!
— А может, женьшеневой настойки? — хмыкнул Паламарский. — Для повышения общего тонуса молодого?
— О-о, это вещь! — причмокнул Мисько. — А еще я пробовал в Косове экстракт корня гавъяза. Этот тонизирующий напиток дает больший эффект, чем кока-кола и пепси-кола, смешанные вместе!
— Тогда так скажу: давайте нам пепси-колу в чистом виде, ибо от смеси наш молодой начнет очень брыкаться, — снова взмахнул рукой Паламарский и на этот раз сбил шиньон на голове своей супруги.
Буфетчица подала им кислый рислинг.
— «Хороший дом» — двухэтажная вилла — достраивался. Пороги высокие, окна большие, а света, на который я летела, не было. Нигде! Я его доискивалась в душах людей, к которым пришла, но дома Мисько был совсем иным. Об искусстве, сцене, учебе — хоть когда-нибудь — ни словечка. Все разговоры в доме сводились к расходам на строительство. Старуха считала деньги, а в свободное время учила меня хорошему тону, причем эта наука сводилась к уяснению преимуществ людей интеллигентных над неинтеллигентной массой. Я ждала радости в интимной жизни, но и там встречала лишь обязанности. Мечтала о материнстве, и уже была надежда на это, но мне велели пойти к врачу — дом еще не готов, не до детей. Я послушалась, потому что понимала — трудно… Но нет, нет! — вскрикнула Марта и прикрыла ладонью рот. — Нет… Студентки и те рожают, хотя не знают, куда их направят на работу, ибо что может быть дороже, лучше, светлее, чем ребенок… В конце концов я начала привыкать, находила даже какое-то удовольствие в этой жизни. Сначала радовалась одежде — каждая женщина любит красиво одеться. Тешилась новой меблировкой, Мисько раздобыл венгерский гарнитур, — ведь каждая хозяйка мечтает о домашнем комфорте. Потом спросила себя: а на что такая пышность, если к нам никто не приходит? Мисько провожал меня, разодетую, на концерты, но только тогда, когда вел программу сам, — чтобы я была свидетелем его успехов. И я наконец их оценила… Эта его эрудиция, которой он когда-то меня оглушил, умещалась буквально в нескольких десятках фраз, которые он где надо и не надо однообразно повторял, не меняя ни одного слова. Я все это выучила наизусть и от этого не стала ни на йоту умнее. Спрашивала себя: для чего мне эта одежда, если не приходится бывать среди людей. Даже в театре я сидела отдельно, в ложе, как манекен на витрине.
И эти свиньи, свиньи, свиньи, которых кормила приходящая домработница Каська, а продавал на рынке Каськин муж!..
А дома — ни одной книги, только буклеты с видами европейских столиц, магнитофон с записями шлягеров, проигрыватель и гора пластинок, персональный журнал старухи «Кобеуа и жице» и Миськовы «Шпильки» — единственные источники культурной информации в этом доме.
Вечер. У Миська — выходной.
— Мисько, приехали бандуристы из Киева. Пойдем… — просит Марта.
— Должен я отдохнуть, как ты думаешь? — учтиво отвечает Мисько. — Бандуристы, говоришь, приехали? Так у меня есть колоссальная запись.
Мисько включает магнитофон.
— Ну, так на речку… Я так давно не слышала щебета птиц.
— Щебета птиц? — Мисько удивлен: что за детские прихоти? — А кого ты там услышишь? Свистнет дрозд два раза, застрекочет сорока… Погоди-ка, я и забыл! Милая моя, мне когда-то подарили пластинку — на вес золота. Запись одного профессора-орнитолога. Всех птиц мира записал. Вот послушай.
Мисько достает пластинку, включает проигрыватель.
Входит старуха. Несет альбом семейных фотографий.
— Мартусенька, я нашла фотокарточку, которой ты не видела. Взгляни.
Марта видела уже все. Прежде всего портрет на стене гостиной: Мисько в позе Наполеона. В альбомах: Мисько на руках у мамы. Мисько на руках у папы. Мисько идет к первому причастию, Мисько — ученик первого класса гимназии. Второго… третьего… Мисько на коне в казацком строю с саблей на боку. Мисько в гриме Назара Стодоли. Играть не играл, но загримировался для снимка. Мисько произносит речь у рампы…
— Ты только обрати внимание, Мартуся, какой у него взгляд, какая незаурядность — это наш Мисько!
Мисько здоровается с выдающимся поэтом, проведавшим Город, Мисько выжимает штангу, Мисько в боксерских перчатках.
Все Марта видела. И не один раз. Но этой фотографии — еще нет.
— Мисько на ночном горшке. Какой милый!
Старуха вытирает слезы.
Мисько лежит на кушетке, читает «Шпильки». Изредка громко хохочет. Самые пикантные анекдоты зачитывает вслух. Иногда встрепенется — это когда натыкается на фотографию полуголой девицы.
Показывает маме и жене.
Старуха считает деньги. Вздыхает: мало. На машину еще надо тужиться и тужиться.
— А ты знаешь, мама, я протяну эскалатор — с первого этажа на второй, — изрекает Мисько из-за «Шпилек» новую идею.
— Ой, не говори: денег нет.
Мисько достает из тумбочки трехпроцентную сберкнижку, заглядывает в нее.
— Протяну. Такой, как в киевском ЦУМе. Только поменьше.
Старуха зачитывается новым номером «Кобеты». Читает долго, вздыхает, мизинцем потирает уголок глаза.
— О, прошу вас! — презрительно сжимает сморщенные губы. — Как пишут! А у нас, что — у нас? Какая новелла!.. Прекрасная, просто чудесная. Не понимаю, почему наши писатели не умеют так писать…
Протягивает журнал Марте.
Невестка читает заглавие, фамилию автора и непонимающе смотрит на свекровь.
— Это же перевод, мама. Автор — киевский новеллист. Его книжки продаются и у нас. Только у нас нет денег на подобные расходы.
Старуха в замешательстве.
— Все равно в переводе новелла звучит лучше…
— Вы же не читали оригинал.
Со стены смотрит орлиным взглядом «Наполеон Бонапарт».
Живой Мисько Два Пальчика уже сопит, накрыв «Шпильками» лицо.
… — Я просила разрешить мне учиться на филфаке — заочно. Нет. Мисько в силах обеспечить семью. Еще учительницы не хватало в доме… Сказала, что пойду на работу. Куда — на завод?! Жена сына адвоката — на черную работу? Позор…
А время шло, проходили месяцы, годы, и я начала чувствовать, как меня засасывает эта жизнь. Ведь что, собственно говоря, мне еще надо? Все есть! И машина будет, разве это плохо? Мы на ней будем ездить к морю… Мне в конце концов стало нравиться сидеть в ложе. И вдруг наступило просветление…
Этот свет, которого когда-то так ждала Марта, загорелся на сей раз в ней самой и пробудил ее от медленного угасания.
«Нет, нет, — обрадовалась она, — так будет не всегда. Дом, слава богу, достроен, а детский плач, лепет растревожит тишину в этих глухих стенах, улыбка ребенка согреет наши сердца, и мы станем человечнее, ближе к людям, более похожи на них».
Вчера перед сном призналась мужу. Он не ответил, наверное, уже спал. А сегодня утром за завтраком, не отрываясь от тарелки и что-то жуя, проговорил:
— Тебе снова надо пойти к врачу.
— Что, что?! — вскрикнула Марта, и весь мир для нее вдруг стал фиолетово-синим, как опухоль.
— Ты не поняла? К врачу пойдешь, — повторил Мисько, не поворачивая головы. — Сперва купим машину, а потом уже…
— Я пришла к вам, Галя. Я ничего не умею, но все равно — помогите устроиться на завод. Какую угодно работу дайте, а потом буду учиться. Квартиру найду сама…
— Хорошо, Мартуся, — проговорила Галя. — Вы мудро решили. А о своем неуменье не беспокойтесь — не боги горшки обжигают.
ГАЛЯ
Она стояла на том же самом месте, кран снова пронесся над ней. Марта, занятая работой, больше не выглядывала из кабины.
Ах, да… Ей нужен диспетчер сборочного цеха. Десять машин надо сегодня упаковать и отправить. Но ведь она же стоит у сборочного….Поискала глазами диспетчера. Его нигде не было видно. Ничего. Подождет. Да и Вадима Ивановича еще нет…
Вспомнила исповедь Марты, и ей стало неловко, что в ее мысли вплелся и этот Мисько.
Но что поделаешь — жизнь в будни не такая, как на празднике любви. В ежедневных хлопотах чувства притупляются, утрачивают щемящую остроту. Пылью забот и времени покрывается воспоминание о первой вспышке чувства, и если не избавиться от нее вовремя, то может случиться так, что она въестся в душу, и покроется та серой коркой равнодушия.
Было ведь такое и у них с Андрием. Через два года после знакомства. Андрий тогда уже работал во Львове в геологоразведочном институте. Галя заканчивала политехнический.
Когда Андрий еще жил в Долине, они встречались изредка и, оба истосковавшиеся, отдавались при встречах только любви. Тут же пришлось делить будни и в буднях узнавать друг друга. Галя жила в общежитии, но была хозяйкой и в его холостяцкой квартире. Без брака стала ему женой. И вот с какого-то времени она начала вдруг замечать непонятную для нее перемену в Андрие. Из ласкового, уравновешенного он превращался все больше и больше в нервного, замкнутого, раздражительного. Знала: все это началось еще в то время, когда она впервые с ним выехала на нефтеразработки. Как никогда Андрий тогда был уверен, что наконец-то найдет новый сорт нефти. По его окончательным расчетам, это должно произойти. Но опять пошла обыкновенная — черная. Неверно составил структурный план, мала ли глубина или вообще ее, черт возьми, нет?
Сначала по этому поводу даже шутил, называл себя Дон Кихотом, но упорно, на протяжении года, он вел теоретические моделирования в институте, иногда выезжал на разработки и каждый раз возвращался все более неудовлетворенным. Сетовал, что засиделся, что его место не в кабинете, а в поле…
Галя просила, чтобы брал ее с собой в экспедицию. Пусть она ничем не поможет, но у него хоть будет с кем поделиться. Андрий молча выслушивал Галины просьбы и уезжал один. После возвращения прибегал к ней в общежитие с таким видом, будто век не видел ее, но проходило немного времени — и он снова мрачнел, замыкался в себе.
Галя доискивалась причин. Разлюбил? Нет. В этом была уверена. Заскучал? Возможно. Может, ему действительно надо поехать куда-нибудь далеко, чтобы потом с тоской возвращаться к ней. Но оживлять любовь разлукой тоже вечно нельзя…
— На этот раз я поеду с тобой, — сказала Галя, когда он собрался на две недели за Карпатский перевал.
— У тебя же дипломный проект…
— Я закончила. До защиты еще много времени. Поеду с тобой.
— Тебе там нечего делать…
— Ты остываешь, Андрий. Я боюсь за нас. Как так — нечего делать? Мне до всего должно быть дело, до всего, чем ты живешь. Как и тебе — до меня. Я поеду лишь для того, чтобы проверить: нужны мы друг другу или нет. Андрий, тебе кажется, что ты отчуждаешься от меня только в работе, но ты забываешь, что в работе проходит почти вся наша жизнь.
— Ах, оставь меня в покое… Поезжай, если хочешь.

Служебный автобус мчался к Буркутскому перевалу, чтобы засветло проскочить его и добраться до места новых работ. Андрий сидел впереди, сзади Галя и молодой инженер Марко со своей неразлучной гитарой.
По правой обочине шоссе шла девушка. Услышав рокот мотора, она остановилась, подняла руку, видимо, ей очень надо было поскорее очутиться на перевале, Андрий кивнул шоферу, чтобы остановился.
Двери открылись, девушка встала на ступеньку и заглянула внутрь. Внимательно оглядела людей, сидевших сзади, за связанными палатками и рюкзаками. Буйночубый парень с гитарой развалился на сиденье, положив ногу на ногу; рядом с ним слева сидела загорелая женщина с длинными, спадавшими на плечи густыми волосами. Девушка заметила, как большие, зеленоватые глаза женщины вспыхнули добрым блеском…
— Какая славная! — воскликнула Галя.
Девушка благодарно улыбнулась, она хотела пройти в конец автобуса, но напротив, возле ступенек, стоял, нагнувшись, мужчина с рыжей шкиперской бородкой и пристально всматривался в ее лицо. Девушка подняла голову и увидела, как его серые глаза вдруг потемнели, словно вобрали в себя черноту ее взгляда.
— Вы куда едете? — тихо спросила она.
— На Байкал, — серьезно ответил Андрий и показал ей место у окна. — Слышите, на Байкал! — Голос его звучал раздраженно, будто он бросал вызов. — На трассу из тупика!
— И мне туда, — в тон ему ответила девушка.
Галю больно поразил этот его тон — словно приготовленный для нее свадебный подарок Андрий передаривает кому-то другому. Она обхватила голову ладонями и заслонилась русой завесой волос.
Девушка заметила это, смутилась и тихонько присела у окна.
Не співайте мені сеї пісні,
Не вражайте серденька мого, —
зазвучал баритон Марка под надрывные звуки гитары.
— Не надо, Марко, — прошептала Галя.
— Не буду… Хэ, Байкал — подумаешь! Я там месяцами скучал, попивая чешский портер и закусывая…
— А я не доеду. Мой билет передали другому пассажиру…
— Глупости, он даже не смотрит на нее.
— Да разве я про нее… Я — о нас обоих…
Андрий, должно быть, не слышал их разговора, потому что не реагировал никак на слова Гали.
Автобус вырвался из темной лесной полосы, сноп света упал через ветровое стекло на переднее сиденье, отделив Андрия и девушку от Гали и Марка.
Они не разговаривали. Андрий только время от времени поглядывал на свою соседку, будто удивлялся ее красоте.
— Ты сидел рядом с ней, как тюлень, хотя бы заговорил. — сказала потом Галя Андрию.
— Я разговаривал все время. Молча. Но не с ней — с тобой. Или с самим собой.
— О чем?
— Когда-нибудь расскажу…
Когда-нибудь он уже не успел рассказать. Только из предыдущих разговоров с Андрием, только анализируя тогдашнее его настроение, Галя может догадываться, о чем он думал. Вероятно, это было так…
Автобус несся, не притормаживая на крутых поворотах, девушка затаив дыхание смотрела в окно — за белым частоколом придорожных столбиков проваливались в бездну леса и горы, и в этих провалах, будто ракушки на дне отвесных берегов, появлялись белые домики среди зеленых рифов черешневых садов.
Взгляд Андрия прикован к профилю девушки, но это не смущало ее, наоборот — придавало ей уверенность и чувство независимости.
«Вы впервые тут?» — заговорил наконец Андрий.
«Почему же впервые? Я еду к тетке на омуля…» — с издевкой сказала она.
«В самом деле?..» — Андрий зажмурился. Ее черные глаза, как только она ступила на подножку автобуса, запечатлелись в его сознании, словно на фотопленке. Это было удивительное ощущение. Он все время перебирал мысленно детали ее внешности: коротко остриженные, до половины уха, волосы, черную челку на лбу и полные, пересохшие от жары или от волнения губы. Это был облик незнакомой девушки, а вот глаза ее… Когда он зажмуривался, то видел их, узнавал, но не мог вспомнить, где видел их, встречался раньше.
«Да, да… Мы сейчас проскочим через сорок туннелей, а когда позади нас останется Саянский хребет, мы увидим внизу огромный глаз земли, Синее синевы неба, холодный и тихий, и тогда остановимся, чтобы посмотреть на это чудо природы издалека и осознать его красоту еще до того, как сможем прикоснуться руками к непорочной глади озера».
«А когда уже съедем вниз и взбаламутим байкальскую воду, вы, успокоившийся и более прозаичный, расскажете, как пропадает в Байкале омуль, как мелеет в нем вода и что делают наши ученые, чтобы сберечь, продлить его неповторимую красоту, а потом запоете известную песню и будете объяснять тоном образованного знатока, Что баргузин — это не реликт какого-то таинственного племени, а обыкновенный восточный ветер. Правда?»
Девушка внимательно посмотрела на попутчика: он был длиннолицый, со щеточкой русых волос, серые глаза были решительные и упрямые, она подумала, что такие люди всегда и во всем добиваются победы, и это ей понравилось.
«А что ж, — спокойно ответил Андрий. — После первого потрясения красотой неминуемо приходит проза познания. Плохо только, когда в одном случае человека сопровождает фальшивая экзальтация, а в другом — скепсис пресыщения».
«У вас только что был фальшиво экзальтированный вид. Как и тогда, когда воскликнули: «На Байкал!» А у меня, должно быть, деланно опытный. Нам следовало бы поменяться местами в нашем диалоге, и тогда тон разговора был бы естественным. Мечтательница и практик… Так, очевидно, и есть… Вы были на Байкале? Расскажите, без экзальтации и скепсиса, а просто как вы его видели».
«Как я его видел?.. Как я его видел? Было ли это?»
Дорога вползла в ущелье, в автобусе стало темно, светлый круг, который освещал было переднее сиденье, погас.
— Марко, о чем ты говоришь? — послышался в автобусе приятный, бархатный альт Гали. — Какая-то ничего не значащая фраза могла бы испортить мне настроение? Я не потому…
— Поэтому, поэтому… Ты же сама сказала.
Галя натянуто засмеялась:
— Все это глупости, Марко.
— А любовь?
— Любовь тоже изнашивается — как подошва.
Мощные звуки гитары мгновенно заглушили реплику Гали, Марко запел:
У чорную хмару зібралася туга моя,
Огнем-блискавицею жаль мій по ній розточився…
Он вдруг умолк и сказал умышленно громко, чтобы услышал Андрий:
— Галя, не корчь из себя слишком многоопытную… Скажи только одно слово, и я увезу тебя. Мне там знакомы все стежки-дорожки. От Селенги до Ангары. И мы бы нашли то, что ищем так долго тут.
— Милый Марко, брось…
— Да, да, я нашел бы. Для тебя…
…Автобус вырвался из ущелья, и снова сноп предзакатного солнца упал на Андрия и незнакомку.
«Это очень талантливый парень. Работает у меня инженером, — сказал Андрий. — Этот Марко, знающий бесчисленное количество песен и сам импровизирующий под гитару свои мелодии на слова Леси Украинки, — только он один еще верит, что мы найдем тут белую нефть. Что это такое? Это конденсат, залегающий в глубинных пластах в парогазообразном состоянии. На поверхности превращается в жидкость. Достигает уровня бензина. Его нашли уже на Яве, потом в США, а мы ищем у себя… А эта сникшая девушка — моя нареченная. Должно быть, наскучил ей Марко своей настойчивой и достаточно несерьезной любовью».
«Откуда вы можете знать — серьезна она или нет?»
Андрий промолчал. Он удивлялся, что свет глаз соседки так четко запечатлелся в памяти — словно был все время, всегда. И подумал: будет жаль, если это когда-нибудь исчезнет.
«Я вас спросила, были ли вы на Байкале?» — напомнила девушка.
«Однажды в этих горах, — заговорил Андрий, будто не слышал вопроса, — мы бурили пятикилометровую скважину — искали эту самую нефть… Как-то я поздно возвращался на квартиру, которую снял у молодой вдовы. Женщина эта была удивительно скупа — таких редко встретишь на Гуцульщине, — какая-то нелюдимая, никто к ней не приходил, и меня кормила постно-вато. Я уже собирался сменить квартиру… Ну, так вот возвращался я и думал о том, что хозяйка сейчас станет ворчать, что поздно пришел, как вдруг возле ручья неподалеку от хаты вдовы я наткнулся на мужчину, который сидел на берегу; нагнулся — мужчина был в подпитии, я хотел было его обойти, но он заговорил: «Извините, я не очень пьян, иду от кума своего в За-тынку, и черт меня попутал. Вижу, что не найду дороги, а ведь ночь… Пустите меня переночевать». Трудно мне было это сделать, но ведь не оставишь же человека ночью под открытым небом, и я повел его… Спозаранку я снова ушел на объект — гость еще спал на лавочке. Когда же я вернулся, то так и оторопел от удивления: скупая хозяйка принесла целую миску вареников, поставила на стол бутылку водки, и не успел я еще и рта раскрыть, как на пороге появился одетый словно с иголочки мой приблудившийся незнакомец и сказал, смущенно потирая ладонью лоб: «Вот видите, никто не знает, где его ждет беда, а где счастье».
«И вы увидели радость на их лицах и праздничность…»
«Я бы не сказал. Наоборот… Мне показалось даже, что они уже успели поспорить — так победно вдовушка секла его глазами — и теперь пьют при мне мировую. Жизнь — удивительная штука: и в своей поэтичности, и в будничности».
«Байкал… — прошептала девушка. — Тайга водопадом ринется в темно-синюю глубину, в бездонность опрокинутого неба… А на берегу в ларьках продается омуль — свежий и с душком. У каждого — свой Байкал… Я недавно в Яблунице присутствовала на товарищеском суде. Рассматривался иск немолодой уже женщины к ее соседу — тоже немолодому человеку — за то, что он возвел поклеп, будто она ведьма: портит, мол, женщин, отбирает у парней силы, даже коров лишает молока. Представляете, в наше время! Тени забытых предков… Суд, конечно, помирил их, пристыдил, они вышли вместе из сельсовета, и я услышала, как сосед-враг сказал соседке-врагу: «Не скажу больше ни слова на людях, только теперь тебе: все ты высушила во мне, седая ведьма, все — и молодость, и стыд, и гордость, а мне хотя бы капельку, хотя бы капельку на старость отдала, только бы утолил жажду своей души».
«Еще неизвестно, что ценней, — сказал Андрий, — сама любовь или тоска по ней…»
«Вы часто говорите о Байкале?»
«Часто? Никогда… Это Марко. Я там не бывал…»
«А может, забыли?.. Вы для кого-то обдумывали это, неужели для меня? Гм… А я, наверное, именно в тот момент грезила о непостижимом чуде, о той тайне и мечте, что называется Байкалом. Поэтому так спокойно, будто давно была готова к этому, ответила вам в тон…»
«Вы сентиментальны: почему — непостижимое, почему — тайна, почему — мечта? Это же не озеро Титикака, не Ниагара, а наш Байкал. Нужно только взять билет на самолет или на поезд…»
«Итак, мы наконец определили место каждого в нашей беседе. Вы — практик, я — мечтательница. Ну и пусть… Ну, а если я скажу: «Давайте поедем».
«Сейчас?»
«Конечно».
«Но я же на работе. Я могу только после экспедиции».
«Такие дела не откладываются. А вы твердите, что это так просто, что Байкал — не мечта и не тайна».
«Я не говорил — со мной. Я имел в виду саму возможность…»
«Но Байкал — это только с вами. И туда сегодня позвали меня вы».
Андрий крепко стиснул веки, и снова перед ним были странно знакомые глаза девушки.
«А знаете, когда вы рассказывали об этом своем приключении, я закрыла глаза и увидела самое себя. Нам так не случалось — почувствовать другого человека так, будто себя самого? Слиться с ним в мыслях?»
«Случалось! — шевельнул Андрий пересохшими губами. — Когда увидел девушку, с которой должен… с которой хочу поехать на Байкал».
«Это вы обо мне или о ком-то другом? Если обо мне, то давайте договоримся: вы будете для меня таким, словно до сих пор самостоятельно еще не жили. Во время нашего путешествия, а оно может быть долгим, вы не вспомните ни разу о белой нефти, которую найдет без вас Марко, — я ведь всего этого не понимаю, не хочу понимать. Я никогда не увижу в вашем взгляде отблеска больших, как озера, глаз. Вы никогда не захотите погладить длинные русые волосы, которые спадают на плечи, потому что у меня таких нет. Вы будете заново открывать свой мир — со мной и во мне».
«Вы жестоки. Это невозможно — забыть все!»
«А разве не жестоко будет, когда в мой мир, а я ведь только начинаю жить, вы будете вносить свою тоску, свой опыт, своих людей, от которых никогда не сможете освободиться. А я буду вашим слушателем, исповедником…»
Мотор начал работать на первой скорости — автобус брал перевал. За зубчатым частоколом белых столбиков, далеко внизу, сбежались к реке домики небольшого села.
«Вот где мое начало мира, — кивнула головой девушка. — А ваше аж за хребтом, правда?»
«Да, но только не начало».
«Но ведь и не последняя остановка».
«О нет, еще рано… Но почему вы так категоричны? Если бы эти ваши требования стали вдруг правилом для всех, люди никогда не могли бы сблизиться».
«Это правда. Но когда слишком легко сближаются, то вряд ли всплывает у них хоть раз в жизни мечта о Байкале. Как знать, что ценнее — сама любовь или тоска по ней. Так вы сказали?.. Ну, я уже дома. Остановите машину».
«Подождите… Мы рассказали друг другу истории, свидетелями которых был каждый из нас. Случайное счастье и горе, порожденное цепью причин. Как же поступить, чтобы обойти горе?»
«А это еще надо знать — кому счастье. Тому заблудившемуся, которого запрягла скупая вдовушка и, может, к этому времени вытравила в нем способность любить людей и ее самое, или клеветнику, который до смерти любит?»
«Что толку от этой любви, если она обернулась мукой?»
«А разве велико то счастье, что досталось людям так просто, что его даже не заметили».
— Галина Васильевна, вы меня ищете? — вывел Галю из задумчивости мужской голос. Перед ней стоял диспетчер сборочного цеха.
— Вас, а то как же. Идемте к машинам. Вадим Иванович там?
— Только что пришел.
Кран, без остановки курсировавший вдоль цеха, снова остановился.
— Галя, — высунула голову из кабины Мартуся, — вы сегодня заняты после работы?
— В театр пойду, на репетицию… А ты тоже приходи. В семь.
— Я? Зачем?
— Да так, развеешься. А может, роль тебе дадим.
— Ну, такое скажете… — Кран медленно поплыл назад, Марта выглянула еще раз. — Хорошо, я приду — посмотреть.
МИЗАНСЦЕНЫ
Вчера вечером Нестор упаковал свои дорожные вещи в портфель и уже собрался было выйти из номера — он уладит в Киеве неотложные дела и сразу же вернется в Город, — но в эту минуту в его памяти всплыл трехэтажный дом на бывшей улице Розенберга, опоясанный полоской коврового узора из голубого кафеля, и Нестор подумал, что не может уехать, не увидев места, где стояла, а может, стоит и до сих пор керамическая школа, которую фашисты превратили когда-то в страшный гестаповский застенок. Что сейчас там — школа или жилой дом? Возможно, в скверике перед входом цветы? Хотя там от крови должна засохнуть любая зелень и даже семена одуванчика и спорыша не смогли бы прорасти. А может, там пустырь? Лучше — чтоб пустырь…
Утром Нестор шел безлюдными улочками, со щемящей болью всматриваясь в ту сторону, где должен был возвышаться над домиками белый дом, опоясанный узорчатой голубой каемкой. Он увидел его издали и ускорил шаг.
Ну что, что может быть там, где погибло в муках столько людей? Почему не разрушили его — это белое снаружи и черное внутри здание? Как может там кто-то жить или работать, если в каждом камне, в полу, в углах, в потолке застыли стоны пытаемых и впиталась живая кровь? Нестору показалось кощунством Само существование этого дома в зеленом, добром Городе…
Он со страхом подходил к нему. Еще издали увидел табличку с золотой надписью, приблизившись, прочитал: «Городская фармацевтическая фабрика». Нестору стало легче: нет, не живут тут люди, не спят, не шепчут слова любви, не зачинают и не рождают тут детей, не звучат в праздники здесь песни, не пьют вино…
Двери были закрыты — еще рано. Вот сюда его, Нестора, привели, толкая в спину прикладами. А вот зарешеченное оконце подвала… Тут… тут умирал Гарматий и плакали над ним Страус и Стефурак, тут замолкли последние слова песни про кониченька… Заглянул внутрь подвала — он был завален пакетами до потолка. Что в них — лекарства? Наверное… А скоро, через час, придут сюда лаборанты, наденут белые халаты и начнут, как и каждый день, бороться за жизнь. Парадокс или закономерность? В обители смерти — битва за жизнь. Тюрьмы становятся больницами, музеями.
С удивительным чувством очищения, обновления, облегчения Нестор ушел отсюда и весь день блуждал по пригородным полям, обошел весь Город вокруг — как садовник свой сад весной. Все чисто в саду, сохранился сад, и черви, забравшиеся было в корни, и тля, упавшая на листья, и прожорливая гусеница издохли — значит, будет плод, и будет радость, и отдых от труда под сочными густыми кронами.
Под вечер Нестор пришел в театр, чтобы увидеть там Галю.
После работы Кость Американец еще раз встретился с Галей — в проходной.
— Галя, без преувеличения скажу, — это был первый полноценный день в моей жизни. Плана, правда, еще не выполнил, но приучил станок к послушанию, подтянул, отрегулировал и все-таки выточил несколько штампов. Наконец-то я устроен, и отсюда, сударыня, меня разве что вынесут… Да… Ты же обещала прийти на магарыч.
— Спасибо, Кость… Но в другой раз, хорошо? Мне вечером на репетицию. Считайте, что я выпила за вас.
— Это как просил кум кума: «Приходите, кум, ко мне на обед». — «Большое спасибо, но я вроде бы уже пообедал». — «Тогда выпьем, кум, приходите». — «Спасибо, но я вроде бы уже и выпил». — «Ну, тогда я к вам приду». — «Но вы же вроде были уже у меня».
— Да нет, Кость, вы к нам заходите, — улыбнулась Галя. — А мне что там делать? Анеля ведь ждет не меня, а вас.
— Думаете? — прищурился Кость. — Ну, если так, то надо идти.
Американец, на этот раз впервые без банджо, переступил порог буфета на автобусной площадке, и не так шумно, как всегда, а тихо, скромно и солидно поздоровался с Перцовой.
— Вы такой праздничный сегодня, Кость, — проговорила Перцова. — Лицо у вас прямо светится, а вот костюм…
— Да я же с работы, Анеля…
— Сногсшибательно! Неужели и правда вы стали этим…
— Одним словом, Анеля, я человек с положением. И думаю я… — Кость замялся, умолк.
А Перцова и не слушала, что говорит Кость, по старой привычке она подала своему постоянному клиенту пиво и закуску. Но, к ее удивлению, Американец сидел, сложив руки на коленях, точно скованный и совсем был не похож на прежнего неугомонного болтуна. К пиву и еде даже не притронулся.
— Что с вами, Кость? Какая-нибудь новая беда?
— Налейте и себе, Анеля, пива. И давайте по рюмочке крепкой. Я хочу отметить этот день, когда я впервые почувствовал себя, так сказать, хозяином в Городе. Садитесь…
Перцова принесла графинчик с водкой, еще один бокал пива, присела.
— За ваш завод, Кость! — подняла она бокал.
— Анеля… — снова замялся Кость. — Хочу вам кое-что сказать. Я каждый день прихожу к вам сюда питаться. Так не лучше ли было бы… — Он проглотил слюну и быстро выпалил: — Так не лучше ли было бы, если бы вы мне готовили у себя… у нас дома?
— Сногсшибательно! — пропела Перцова, скептически смерив взглядом Американца.
Но вот ее взгляд остановился на вздувшейся пивной пене в бокале, что, брызгая попусту, быстро оседала. Перед глазами Перцовой вмиг пронеслась ее жизнь, как эта пена, бурная и в конце концов такая же пустая, потому что обошло стороной Анелю обыкновенное человеческое счастье, Она медленно поставила бокал на стол и раздумчиво, тихо проговорила:
— А почему бы, собственно, и нет?
Кость склонился над ее рукой, но она ее отдернула:
— Целование ручек, прошу меня извинить, сейчас не ко времени!
— Ах, Анеля, Анеля! — восторженно глянул на нее Американец. — Как вы на глазах меняетесь…
— А вы думали, что я уже такая отсталая, недалекая, да?.. Ну, ступайте, Кость, ступайте! Я дома буду в одиннадцать. Да не забудьте привести себя в порядок. — Она отвернула ворот сорочки Костя, провела пальцем по вылинявшему пиджаку и прижалась к его груди.
— Кость, Кость… Почему счастье пришло к нам так поздно?
Уже затемно к Перцовой зашла Копачева. Она в отличие от Августина обходила знакомых под вечер.
— Перцова, слышите, Перцова, — заговорила Каролина, едва вошла. — Я сейчас из театра. Перцова, чует мое сердце, будет свадьба!
— Типун вам на язык! Вы, Копачева, такая же, как этот… Ну, я ему задам! Не успел за порог выйти, как всем разболтал. Не будет свадьбы, я не так уж молода, чтобы фату надевать.
— Что вы плетете? — уставилась на нее Копачева.
— Так ведь уже знаете что. Ну, сделал мне предложение Кость, ну, я согласилась. Так нет же — трубит по всему Городу! Ишь, свадьбы захотелось старому грибу!
Копачева опустилась в кресло и долго взахлеб смеялась, а когда наконец успокоилась, пристально посмотрела на подругу и глубокомысленно произнесла!
— К Перцовой один раз в жизни пришел разум, да и то тогда, когда она его потеряла!

Помолчала, а потом медленно, как ребенку, который не сразу может уяснить все, что ему толкуют, объяснила:
— Я о вашей свадьбе ничегошеньки не слыхала. Костя и близко не видела. Заходила только что в театр и кого, вы думаете, там застала? Нашего Нестора. Не уехал-таки!
— Ну и что с того? При чем тут свадьба?
— А при том, что сегодня он не на ваши вареники посягает, а пришел в театр, чтобы встретиться с Галей. Из-за нее и остался, вот что!
— Сногсшибательно!.. Правда, может быть свадьба… Ой, даже две! — Перцова схватилась за голову. — Но где же я наберу столько денег? У себя гостей принять, все-таки не так уж и стара, подарок молодым купить… Разорение, Копачева, чистое разорение!
— А вы перстень продайте.
— О, чего нет — того нет, — отрезала Перцова. — Этот перстень счастья никому не принесет.
Они долго еще сидели — тихие, умиротворенные. Перцова — озабоченная своей судьбой, Копачева — мечтой о счастье Гали и Нестора.
— А знаете, — сказала наконец Перцова, томно закатив глаза. — Кость — моя первая и последняя любовь.
— Гм… — подавилась Каролина смехом. — Что последняя — это да. А первой, извините, сударыня, вы и сами не помните.
Марта сдала смену и заторопилась в гардероб. Переодеваясь, взглянула на себя в зеркало.
«Нет, еще не заметно, можно пойти и на люди, — решила она, вспомнив о приглашении Гали. — Надо пойти, Я же когда-то мечтала… Конечно, роль брать не буду, но хоть посмотрю…»
В памяти всплыли школьные годы, драмкружок, дебют на сцене актового зала в роли Наталки, скандирование ребят-старшеклассников, ободряющие улыбки учителей.
«У тебя, Мартуся, есть сценические данные, — сказал потом учитель литературы, — только надо их развивать. Не забывай, когда поступишь в вуз, что и там существуют драмкружки. Не думай, что все актеры и певцы учились в специальных учебных заведениях. Гмыря кончил сперва инженерно-строительный институт, Мордюкова пришла в кино из самодеятельности, Ларису Кадочникову режиссер перехватил прямо на улице, когда она шла с лекций домой, и пригласил на съемки в «Тенях забытых предков».
Марта скромно отмахнулась, мол, куда мне до них, но художественной самодеятельности тогда не оставила и втайне мечтала о сцене до тех пор, пока ее мечты не разбились о двухэтажную мещанскую цитадель в предместье — гнездышко Миська.
Содрогнулась, точно прикоснувшись к холодному слизняку, вспомнив длинные пять лет духовной тюрьмы. Но разве уже все пропало? Из зеркала смотрела на нее красивая женщина с испуганными, чуть подведенными глазами, Марта улыбнулась ей и, решительно махнув рукой — будь что будет, — вышла из гардероба.
Смелость покинула ее, когда она остановилась перед театром. Надо подождать Галю, одной заходить неудобно. А может, Галя уже там? Протянула руку к дверям, но они открылись сами.
— Добрый день, — поздоровался учитель музыки, режиссер народного театра, тот самый, что остановил овации, когда Мисько устраивал вокруг Марты ажиотаж. — Вы к нам? Но ведь Михаила Аполлоновича нет…
— Вы же знаете, что я не к нему, — резко ответила Марта. — Зачем? Я хотела… Позвольте мне присутствовать на репетиции.
Режиссер смутился, виновато опустил глаза: нехорошо получилось, зачем было так говорить, все же знают, что Марта оставила Миська. Он засуетился, пытаясь загладить свою бестактность:
— Да вы входите, входите. Почему же нельзя? Даже надо. Я давно ищу кандидатов для второго состава. Галя играет Маклену, но она такая занятая. Пошлют куда-нибудь в длительную командировку, и что тогда? Вот и сейчас ее нет, а Падур ждет. Заходите… Заходите, не пожалеете. Вы будете репетировать в присутствии настоящего кинорежиссера… Вы не были вчера на премьере фильма? Жаль. Непременно посмотрите фильм, Не пожалеете, уверяю вас. Автор этого фильма сейчас здесь. Тоже хотел встретиться с Галей…
— Но я, — покраснела Марта, — я не могу играть. Вскоре… пойду в декрет…
— Ну и что из этого? Не думаете ли вы, что мы так быстро снимем с репертуара «Маклену Грасу»? Идемте быстрее. Наш Падур, врач Остролуцкий, торопится на ночное дежурство. Я подам вам несколько реплик, чтобы он мог повторить сцену около собачьей будки. Августин Гаврилович, свет! — крикнул режиссер, когда они с Мартой в потемках вышли на сцену. — Вот так…
Нестор, увидев незнакомую женщину, удивленно привстал.
— Только что звонила Галя, — развел руками режиссер. — У нее какие-то гости, и в театр она не придет. А я вот дублера привел. Вы, наверное, знаете адрес Стефурака. Но, если желаете, побудьте минутку на репетиции. Искренне благодарю… Марта, вы знакомы с доктором Остролуцким? Чудесно. А-ну, Падур, залезайте в свою будку. Вы, Мартуся, — дочка бедного работника Грасы. Нежная, наивная, но начинаете осознавать классовую несправедливость. Потом Маклена станет борцом. А пока она еще берет урок у музыканта Падура… Вы подходите к будке и зовете своего любимого пса. Повторяйте за мной.
«М а к л с н а. Ну, почему это так, Кундя? Почему мне показалось, что я смогу достать денег?..
П а д у р. Осторожнее с душевными тайнами — тут, кроме собаки, есть еще и человек.
М а к л с н а. Ой! Кто там?
П а д у р. Я! Мировая субстанция, — неумирающее — Я!
М а к л с н а. Ах, это вы, тот, что играл на дудке перед паном Зарембским?»
— Ей-богу, хорошо! — хлопнул в ладоши режиссер и посмотрел на Нестора. — Правда?
— Естественно, во всяком случае. Работать стоит, — вежливо ответил Нестор, а лицо его было неспокойным.
— Августин Гаврилович! — крикнул режиссер. — Свет на Маклену! Слышите? Где же вы, Августин?
Но Копача в прожекторной будке не было. Куда же это он вдруг девался?
В это время за кулисами послышались голоса. И на сцену вышел Августин, за ним — композитор Паламарский.
— Вы захлопнули двери и не слышите, а он под дверьми лялякает до-ре-ми…
— Вот что я скажу, — взмахнул рукой Паламарский, — я вынашиваю для вас музыку. Музыкальное оформление спектакля, уважаемый, гм… портье, — это его душа, а сам спектакль…
— Тело без души, — закончил за Паламарского Августин.
— Именно так, очень удачно сказано, уважаемый, гм… реквизитор… A-а, кланяюсь, — кивнул Паламарский, увидев Нестора. — Для нас большая честь! Вот, товарищи, партитура, я уже начал… — Композитор вынул из кармана нотную тетрадь. — Прошу взглянуть, режиссер… Нет, не вы, хотя я считал бы тоже за честь писать музыку и для кино… Взгляните, титульный лист вам о чем-нибудь говорит: «Маклена Граса» М. Кулиш. Музыка Паламар-Паламарского». Вас удивляет, что моя фамилия стала длиннее? В творчестве я всегда увеличиваюсь, расширяюсь — становлюсь необъятным. Итак, вся моя музыка будет в тональности до-мажор. Утверждающая, возвышенная. Где ваше фортепьяно, режиссер? Ага, благодарю. Доми-ля… кгм… Кто там мешает? До-соль-ми… Ну, кто там трубит? Вы что, не слышите? Кто там, у входа, подает скрипучее си, которое не является доминантой в моей музыке? Вы правда не слышите? Какой-то нахальный таксист сигналит перед самым храмом Мельпомены. Ре-ми-до… Да пойдите же, Августин, прогоните его, это он умышленно, это диверсия против искусства, это саботаж!
— Я не слышу, — проворчал Августин. — Гершкова лошаденка в ухо меня лягнула, когда я был маленьким.
— И вы работаете в театре?
На сцену вбежал Мисько Два Пальчика. Копач направил на него сноп света.
— Viri ilustri[26], приветствую вас! — выкрикнул Мисько. — Августин, чуть меньше света. Достаточно… Да не отводите прожектор. Вот теперь хорошо. Любимые друзья! Хочу с вами поделиться большой радостью. Вы слышали, какой божественный звук? Лучшая нота в многоголосом оркестре нашего сегодня, труба прогресса, не дающего нам зачерстветь в серой прозе будней, гобой, зовущий в светлое будущее! Это сирена «Фиата». Милые коллеги, я наконец получил Машину, так прошу вас выйти посмотреть и надлежащим образом оценить. Фотоаппарат есть? Ь-о, кого я вижу! Нестор* какое счастье, что ты не уехал. Я же тебе говорил! Завтра, пардон, послезавтра, едем в столицу!
Августин почесал в затылке.
— Ай-я-яй, я же поклялся Каролине, что сегодня не выпью ни рюмочки, что вчера выпил и за сегодня, а тут, как говорится, имеешь воз и перевоз…
— Уважаемый, кгм… кассир, — Паламарский поднял голову к прожекторной будке, — наш конферансье пьет только настойки из горных трав и еще ерш из кока- и пепси-колы. Так что вы сегодня придете домой трезвый и в отличном тонусе.
Копачу действительно было не до рюмки. Весь день он видел перед собой замученного гестаповцами Гарматия, плачущих над узником Нестора, Стефурака, Страуса. Да, чего-то не договорил старик, что-то должен был еще сказать, история эта будто бы с середины начата… Мысли не дают Августину покоя, ему кажется, что где-то существует ее начало, будто он сам пережил ее, но вот вспомнить не может. Хорошо, что Нестор не уехал, надо с ним об этом поговорить. Но как вызвать его на такой разговор? Может, и правда за рюмкой?.. Только разве же от такого, как Мисько, дождешься? Августин отвел прожектор, оставив конферансье в тени, свет упал на Марту, застывшую рядом с Падуром — Остролуцким.
Увидев Марту, Мисько сразу лишился дара речи. Он хватал ртом воздух, как рыба на берегу, и лишь через минуту смог проговорить:
— Марта! Ты — здесь?
— Здесь я, Михайло Аполлонович, — ответила Марта ледяным тоном, — здесь. Вам странно, что я среди людей?
— Нет, нет. — Мисько снова обрел дар речи. — Я рад, я безгранично рад, ибо, как говорил поэт, «подлинный талант — к славе…». Мартуся, я сам хотел тебе сказать, чтобы ты… Только не знаю, где живешь. — Он подбежал, пытаясь схватить Марту за руку, но она, высокая и грациозная, отступила назад. — Ты репетируешь Маклену? О, я никогда не сомневался в твоем таланте! Да! Любимая, я хотел тебе сказать, что все домашние хлопоты уже позади, я получил наконец «Фиат», или, как его называют, «Жигули» и теперь — pereat mundus fiiat arsl[27]. Мы сможем отдать все свое время благородному служению искусству!
— Нет, уважаемый Михайло Аполлонович, поезжайте уж лучше без меня на своей машине сквозь тернии к звездам, как любите вы сами выражаться.
— Да, как говорится, скатертью дорога, — послышалось из прожекторной будки.
Мисько подошел вплотную к Марте и, приложив ладонь лодочкой ко рту, зашипел:
— Неблагодарная… Теперь ты на сцене, тебе дают роли. А кем ты была, пока не вошла в мой дом, колхозница? Кто бы знал о тебе, если бы я не забрал тебя из сельской глухомани в Город? Кто бы посмотрел на тебя, девку в юбке с фалдами, если бы я не вывел тебя в ту ложу — в платьях, шубах, золотых клипсах и кольцах! — Мисько говорил свистящим шепотом, его все слышали на сцене, и Марта от стыда закрыла лицо ладонями. — Кто это сделал — он? — бросил Мисько презрительный взгляд на Остролуцкого. — Вот до сих пор носишь мой браслет!..
— Да сгинь ты вместе со своим браслетом, погань! — послышался гневный возглас из прожекторной будки, и все оторопели, ибо никто еще никогда не видел4 Августина в гневе. А он уже спускался вниз. «Люди добрые, был же на свете Гарматий! Да что же он — за твои браслеты отдал жизнь?» Августин сошел на сцену, взял Марту за руку, отцепил браслет и направился к Миську. Тот попятился к кулисам, заслоняясь руками.
На помощь Миську подоспел Паламарский, он схватил его за плечо и толкнул впереди себя к выходу.
— Вот что я скажу: finite la commedia[28], как сказал великий Леонкавалло. Садись за руль и гони на всех парусах.
— Volens nolens, — проговорил Мисько, на ходу поворачиваясь к Нестору. — Забери меня в столицу, коллега, ибо, сам видишь, мне нечего тут делать. Жизнь дала трещину…
Вслед Миську застучал по подмосткам сцены золотой браслет. Конферансье вырвался из рук Паламарского, нагнулся, поднял вещицу и исчез.
Глухая тишина повисла в театре, только пучок света прожектора бесцельно блуждал по кулисам.
— Если бы я где-нибудь прочитал о таком негодяе, сказал бы: выдумано, — нарушил первым молчание Остролуцкий.
— К сожалению, таких в книгах обходят, как пьяного посреди улицы, — произнес Нестор.
— В книгах… — поморщилась Марта. — В жизни обходят.
У парадного заурчал мотор. А через мгновение тишину прорезал скрип тормозов, потом что-то задребезжало.
— Что случилось? — встревоженно спросил режиссер вошедшего Паламарского.
— Гром с музыкой в ре-миноре. Авария!
— Жив?
— А то как же! Конферансье вечен, — патетично провозгласил композитор. — Но даже и ему, как и всем нам, нелегко преодолевать тернии на пути к звездам. На первый раз он поплатился фарой и ветровым стеклом, не заметив такой мелочи, как газетный киоск на углу. Но впереди, скажу я вам, еще много умопомрачительных успехов и, конечно, досадных и неожиданных приключений у нашего незаменимого конферансье…
ГАЛЯ
Галя спешила домой, чтобы переодеться и успеть на репетицию. В душе теплилась надежда, что Нестор все-таки не уехал и придет в театр. Еще раз спрашивала себя все о том же… Нет, нет, не могла так внезапно прийти любовь! Но с нею произошло то, на что и не надеялась: пришла свобода от себя самой. Она освободилась от прошлого и от боли, угасшей и ставшей теперь лишь дорогим воспоминанием… Поэтому ей хочется встретиться с Нестором, чтобы он увидел ее — новую, не ту, какой была вчера.
И опять, в который уже раз сегодня, вспомнился ей пышночубый Марко, а в памяти так выразительно прозвучала песня, которую он любил петь в сопровождении гитары по вечерам у костра:
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг…
Андрий был тогда растерян, но решительно сказал: «Собирайся, мы едем в экспедицию». Сама теперь удивляюсь своей смелости, я же видела его только второй раз, но не колебалась ни мгновенья, словно всю жизнь была готова к его призыву, будто с давних пор знала, что ко мне идет именно этот человек — идет издалека, упрямо, уверенно переступая через свое детство, юность: идет, палимый жгучей тоской по мне, через леса, пустыни, болота, а я лишь должна расти, созревать, умнеть и ждать. Это было долгое и сладкое ожидание. И он пришел. Как могла я не пойти с ним?
Папа Стефурак во взглядах на женскую свободу придерживался целомудренных галицких правил. Услышав о моем решении, схватился за сердце. Как так, ехать с геологами в экспедицию — в горы, с ночевками? Откуда ты его знаешь? Познакомилась на вокзале? И это говоришь ты, Галя? Он замахал руками, нос его побагровел, посинел, а я, такая счастливая и от счастья добрая, прижималась к нему, что-то ему говорила, утешала, обещала, и старик, взяв меня за плечи, проговорил, превозмогая спазму в горле:
— Господи, это что — наследственное? Ведь твоя мама так… так же точнехонько…
Мы выехали затемно поездом, потом до места добирались на грузовике — по проселочной дороге через Черный лес. Андрий был молчалив, я слышала от него только одно: сейчас или никогда он возьмет пробу белой нефти и в бутылке из-под «Московской» поставит ее на стол перед министром.
— Скажи, Андрий, ты тщеславен? — спросила я.
— Да. Только я жажду не рекламной славы с фотографиями в газетах и специальных журналах — это болезнь некоторых артистов и писателей. Моя слава — это — подтверждение моих возможностей самим фактом находки. Слава не на публику, а для себя самого — как доказательство способностей моего мозга. Неуспех для меня — это не потеря ступеньки на лестнице моего роста, не материальная потеря, а большая досада на свою недееспособность.
— Я же еще так молода, Андрий, и мне страшновато идти в жизнь. Ты говоришь, а я думаю про себя: сумею ли я за свой век совершить что-нибудь большое…
— Все большое, все! — перебил меня Андрий. — Большое все то, что ты доказываешь своим умом. Белая нефть… Ее давно нашли за рубежом. Но я знаю, что где-то, среди тысяч месторождений, есть она и у нас, и я поклялся найти ее.
— Это твоя цель?
— Моя цель — искать и доказывать себе и людям, что мы можем безостановочно и бесконечно проникать в извилины собственного мозга. Кажется, если бы имел десять специальностей и три жизни, прощупал бы всю планету, каждый камень, и ставил на стол образцы: есть, есть, есть!
— В бутылках из-под «Московской»?
— И в консервных банках из-под бычков. Мы еще так мало знаем, так мало имеем! Мы с Марком, будто кони в упряжке, вот уже несколько лет где только не бурили! Его носило даже на Байкал…
— Ты горишь, Андрий…
— А ты желаешь тлеть?
В лесной чаще тут и там виднелись шпили вышек. Вдруг совсем недалеко над верхушками деревьев вырвался огромный язык пламени, и я вздрогнула от грома, потрясшего землю и лес.
— Что это? — спросила я испуганно.
— Не бойся — это факел. Пока скважина войдет в эксплуатацию, сжигают газ, чтобы не отравлял воздух.
Мы проезжали недалеко, и сквозь просеку видна была дуга вспыхнувшего пламени, вырывающегося из трубы рядом с вышкой. Мы чувствовали жар, пахло паленой смолой, на фоне огня виднелись силуэты бурильщиков. Меня охватила непонятная тревога: огненный язык, казалось, высунулся из пасти твари, сидевшей где-то там, в подземелье, и рвущейся к людям, обезумевшей и разъяренной за то, что те посмели посягнуть на ее царство.
— Андрий, а бывали случаи…
— Я однажды был свидетелем, как один пассажир допытывался у члена экипажа, не разобьется ли самолет, который находился уже в воздухе. И тот ответил: «Если и разобьется, то лишь для того, чтобы избавить человечество от такого труса, как вы».
— Прости, Андрий…
Перед обедом мы въехали на утоптанную тракторами, машинами и ногами поляну, посреди которой стояла нефтяная вышка. Навстречу нам вышли два парня в замасленных комбинезонах. Я узнала их. Это были те самые ребята, с которыми Андрий не успел меня познакомить на вокзале. Один, пышночубый шатен, оценивающе приглядывался ко мне, словно взвешивал, чего я стою, и меня смутил его цепкий взгляд, другой, смуглый, гладковолосый, с восточным лицом, распростер руки и воскликнул:
— Ай, джаным! Спасибо, что приехала. Наш Андрий совсем вышел из формы, а шеф не в форме — плохой шеф. Я — Анвар Саяр, сын узбекского народа!
— Быстрее, быстрее знакомьтесь, — торопил Андрий. Глаза его горели, я тогда впервые увидела в них тот блеск одержимости, что вспыхивал так же неожиданно, как и угасал, оставляя в них то детскую нежность, то неприступную тяжелую суровость. Он теперь не думал ни обо мне, ни о товарищах. — Анвар — наш инженер по обследованию скважин. А Марко — по аппаратуре… Ну, быстрее, быстрее говорите, черт вас возьми, что там?
— Продуктивный горизонт пробит, — доложил Марко.
— Пластоиспытатель опускали?
— Опускали. Черная…
— Что за чертовщина?.. Скажите, пусть бурят до проектной глубины. Или я сам… Дайте мне комбинезон. Не может этого быть, Должен пойти конденсат. По всем моим расчетам…
Андрий переоделся, кивнул мне:
— Ты располагай собой до вечера как тебе заблагорассудится. Хлеб и все прочее там, в кабине машины. — Он говорил это мне, как отец дочке, напросившейся с ним на работу, а теперь мешающей ему.
Но я не обиделась. Андрий всегда был таким же непосредственным; и когда забирал у меня недопитую бутылку и когда вбежал в мою комнату, испуганный тем, что я дала ему фальшивый адрес.
Я показала в сторону леса:
— Туда?
— Да, да. Там не соскучишься. Взгляни, какая вокруг красота. Ну, идемте, ребята, да побыстрее.
Я побрела по тропинке в извечный сумрак елей, продиралась сквозь засохшие цепкие ветви; где-то далеко ревел факел, но вскоре он стих за стеной леса. Под ногами прогибался упругий войлок иголочного настила, из него пробивались белый ряст и морошка, кое-где чаща становилась реже, и тогда из темного леса выходили к тропинке бледно-зеленые березы и ольхи, как девушки после купанья на берег. Я снова, как когда-то, остро воспринимала окружающую красоту, но в этот раз, отрешившись от себя, потому что сама слилась с природой, была частью ее, и эта красота была и моей красотой тоже.
Я забрела далеко, времени прошло уже много. Мне вдруг показалось, что этот Марко оставил работу и идет следом за мной — сопровождает меня своим беспокоящим взглядом. Нет, я не боялась беды, мне только не хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний даже тенью становился между мной и Андрием. Я пошла назад той же тропинкой. Проходя просеку, увидела Андрия: он оглядывался вокруг, нервно щелкал пальцами и выглядел очень смешным. Я улыбнулась.
«Неужели это тот же самый человек, что несколько часов назад прогонял меня от буровой?» — подумала я.
Потом я привыкла к его импульсивности, к внезапным переменам настроения, хотя и не очень-то легко было привыкать: их, Андриев, было в нем десятки, сотни, объединяло лишь одно — естественность в любом положении.
— Андрий! — тихо окликнула я.
— Вот ты где, — проговорил он так, будто и не искал меня. — Хорошо тут, правда? А у нас снова неудача… Я еще до отъезда в Небит-Даг составил структурный план, его утвердили… Оконтурил наиболее вероятное место для закладки глубокой скважины. По всем расчетам должен был пойти конденсат… Ну, ничего, черная нефть — тоже золото, — стал утешать он себя. — Однако где-то тут она есть, знаю, что есть…
— Что делают ребята? — спросила я, чтобы переменить тему разговора. Мне сейчас не хотелось говорить о белой нефти. Я ждала: он подбежит, порывистый, пылкий, ведь он так жадно озирался, ища меня, но Андрий только на мгновение прижал мою ладонь к своему лицу, взял меня за плечи и повел по просеке вверх.

Потом я поняла: в моем присутствии он был спокоен, уравновешен, даже слишком. Иногда казалось — холоден, и мне не раз было обидно. Но как только отдалялся от меня — за работой или в поездках, — то как бы утрачивал точку опоры, и я часто замечала, как он панически боится остаться без меня. Такова была его любовь…
— Ребята? Готовят ужин… Это чудо-парни. Анвар пристал к нам в Небит-Даге. А Марко… Этот пришелся по душе еще в институте. Я был на пятом, он — на втором, после первого же разговора с ним я решил: как только стану на ноги, возьму его к себе. И забрал — с третьего курса. В следующем году он будет защищать диплом — заочно. Этакий балагур, зато какая широта взгляда у парня! На все… Это растет мой конкурент, — улыбнулся Андрий.
— Вижу, очень любишь его.
— Мы необходимы друг другу… Но он пойдет дальше. Марко далеко пойдет.
Я слушала, а в мыслях выстроился вот какой ряд: Стефурак, Вадим Иванович, Андрий, Марко и я. Мы с Марком последние, после нас вскоре придут другие, но их еще не знают. Мы с Марком в самом младшем классе среди взрослых. За одной партой. Нет, не надо настораживать себя против него…
Мы шли под гору, обходя пни, натыкались на папоротники, и Андрий, вот так же между прочим, рассказал мне тогда эти две истории — о скупой вдове и о товарищеском суде; тогда я впервые услышала и его слова о любви и тоску по ней. Но осознала я их позже, когда он воскликнул в автобусе: «На Байкал!» Его всегда тянуло в неизвестное, потому что только в тоске он мог постичь цену тому, что нашел.
— Знаешь, — заговорил Андрий, — по этой просеке можно идти и не возвращаться. За ней дальше вьются неведомые дороги, звериные тропки, и всегда впереди будет что-то новое…
Я молчала и слушала, ибо уяснила уже тогда: он до сих пор никому еще не признавался в том, что его безостановочно гонит по жизни неудержимая тяга к познанию неизведанного.
— Вот станешь на вершине горы, — продолжал он, — а видишь другую. И тебе хочется утвердиться еще и на ней. Именно так — утвердиться. Я не понимаю туристов, которые всюду и все фотографируют, мучат своих спутников, заставляя их становиться в позы на эффектном фоне… До^га у них разбухают альбомы от фотографий, стеллажи наполняются туристскими буклетами, а другие просто удовлетворяются этими копиями живого мира, и им кажется, что и они видели это все знают…
— Но ведь надо кое-что и зафиксировать…
— Конечно — для науки, искусства… Но для себя самого — к чему эти эрзацы?
— Чтобы вспомнить потом, детям показать. Не надо впадать в крайности, Андрий.
— Дети пусть сами приучаются к путешествиям, а не сидят перед телевизорами и за альбомами. Потом вырастают из них этакие книжные мудрецы: все им известно, хотя ничего и не видели. Да, боже мой, можно и фотографировать, даже нужно… Но путешествие — не коллекционирование впечатлений с целью похвальбы: вот где я побывал! Для меня поездка прежде всего проверка: живет ли во мне человек — крепкий, цепкий, пытливый? Конечно, я не могу всего объять, но когда мне удается хотя бы малое, то это удается не только мне — всему человечеству. Я понимаю Магелланов, Маклаев, Санниковых… Вот Тур Хейердал дважды устремлялся в путь на папирусном судне. Во имя чего? Для утверждения человеческого в человеке, и ничего больше.
— С этой целью ты так упрямо ищешь и белую нефть?
— Возможно… Я не экономист. Не знаю, как с ней обойдутся, если все-таки найду ее. Может, она не так уж и нужна. Но я за то, чтобы каждый человек что-то искал и что-то находил. Хотя бы маленькое: новый минерал, живительный родник, свежее слово, мысль, образ, картину. Чтобы человек выявил в другом его способности, возможности, чтобы ребенка воспитал, механизм усовершенствовал, песню сложил. Я не терплю ученых, почерпнувших знания только из чужих книг, этих всезнающих снобов, которые к человеческой мудрости не сумели прибавить ни капли своей, этих знатоков с кислыми минами, этих мешков с информацией… Д-а, хватит. Белая нефть… Белая нефть — это символ.
В мою душу закрадывалось сомнение. А кем я буду для Андрия в жизни? Исповедальницей, слушательницей его категоричных сентенций, с которыми не буду согласна? Его тенью? Но ведь и у меня должно быть нечто свое, что не должен вытеснить мир Андрия. Иначе я стану неинтересной и ему, и себе самой. Во мне*тогда впервые зародился протест против его силы, властности, и если я сегодня чего-то достигла, то только благодаря этому. Я испугалась, не захотела стать лишь пристанью, к которой возвращается корабль из штормовых рейсов…
Андрий остановился.
— Возвратимся, Галя… Все равно не дойдем до края земли. Я тебе такого наговорил:.. Я сам, веришь ли… Сам себе я всегда кажусь тем маленьким мальчиком, которого папа ведет за руку на косовицу в поле. Мне интересно с ним идти, потому что там я увижу что-нибудь новое и удивительное, а вместе с тем хочется вырвать руку и бежать самому…
— Мне минуту назад именно так же хотелось вырвать свою руку…
— Мы взрослые дети. И хорошо, если будем ими долго. Не терплю юных дедушек и бабушек.
— Ты эгоцентрист. Все измеряешь радиусом круга, в центре которого — ты.
— Чувствуется третий курс политехники! — засмеялся Андрий и сразу посерьезнел: — А как же иначе? Ну, как иначе?
— Но ведь можно и ошибиться иногда в собственных размерах…
— Ошибаются эгоисты, а не эгоцентристы. Все мы эгоцентристы, однако живем не одни, не в скорлупе. Вокруг люди, друзья. Сотни, миллионы человеческих орбит, и все они удивительно гармонично переплетаются, пересекаются, все зависимы друг от друга, словно небесные тела.
— У тебя всегда есть друзья?
— Всегда хочу иметь их. Без них человек становится эгоистом и словно блуждающая звезда, что выбилась из космической гармонии, — непременно разобьется.
Мы возвращались к скважине. С поляны доносился протяжный тоскливый звук свирели. Хотя нет, голос свирели легкий, нежный, а это — будто кто-то кого-то зовет, просит отозваться, кричит.
— Что это? — спросила я.
— Узбекская флейта — най. Это Анвар разговаривает с кызылкумскими песками, с садами Ферганы. Так и я, только молча, тосковал по тебе…
— Ты же меня не знал…
— Знал, Галя, — Андрий остановился. — Я чуть не забыл тебе сказать: я люблю тебя.
— Разве обязательно говорить? Ты… поцелуй меня.
Тихо дрожал звук ная. Очень тихо. Но его так отчетливо было слышно, словно эта дрожащая мелодия звучала где-то тут, рядом, на краю просеки — среди стволов елей. Опускались сумерки, шумели вершины деревьев, где-то внизу журчал ручеек, перекликались сонные птицы, а небо еще яснело, простреленное последними лучами солнца, и во всем этом шуме, перекличке птиц, сверканье неба жил, как дыханье, этот звук, принадлежавший мне уже давно.
Андрий нагнулся ко мне, его губы шевельнулись, он что-то сказал, но я слушала лишь звук ная, которым он звал меня давно и теперь. Я спросила:
— За что ты меня любишь? За то, что красивая?
— Да…
— И все? А не будет ли этого потом мало?
— Мало? Красоты, если она настоящая, никогда не может оказаться мало в человеке.
— Ты поможешь мне находить ее?
— Да, если ты этого будешь хотеть.
— Буду хотеть. Ты мне нравишься, с тобой хорошо и интересно… Поцелуй меня, почему ты боишься? Сядь возле меня…
— Боюсь покоя, который наступит потом…
— Не будет у тебя покоя никогда. И я знаю — мне будет трудно. Но я все приму от тебя. Я ведь тебя ждала.
Звук ная стих. Все вдруг замолкло, будто природа онемела в ожидании радости, чтобы потом — через минуту или уже утром — облегченно вздохнуть и снова отозваться тугим шумом верхушек деревьев, громкими ручьями и птичьим щебетом. Все затаило дыханье надолго, и вдруг в этой тишине беззвучно, как стрелы, спущенные с тысяч тетив, мелькнули из лесных сумерек в розовое небо гладкоствольные ели… Андрий смотрел на меня виновато и счастливо, я же, не помня себя от радости, без стыда и раскаяния, праздновала свой и всей природы праздник…
— Почему твои глаза стали темными? — спросил он потом. — Теперь уже нет, теперь снова зеленые…
— Может, от чрезмерного счастья?..
— Может…
Мы шли напрямик через лес на качающееся пламя костра, слизывавшее сумерки в просветах между деревьями.
Стемнело. Я остановилась, нерешительная и скованная, на краю поляны,: далеко, от костра. Я была теперь иной и еще не свободной в этом моем новом качестве, а из-за пламени ловил меня взгляд Марка. Я стеснялась, будто провинилась перед ним, незаметно, медленно отступая назад к стене леса… Андрий стоял впереди, он не видел моей растерянности и тоже молчал, и если бы не Анвар…
— Вай-вай! А я уже подумал: нет конденсата — пропал Андрий, ибо что такое Андрий, если нет конденсата, — затараторил Анвар. Он был веселый, беззаботный, словно и не он только что грустил на нае, беседуя с кем-то далеким и самым родным. — Но это хорошо, Андрий, что ты так упорно ищешь, — сколько мы попутно этой обыкновенной черной нефти добудем! Каждая идея-фикс во все времена приносила пользу. Алхимики не нашли философского камня, зато заложили основы сегодняшней химии. А кто мы — без химии? Ай, джаным, чем будем ужинать? Лагман, чучвара, шурпа — все сделаю для тебя!
Я благодарно улыбнулась ему, подошла ближе к костру.
— Если бы я знала, что это такое…
— А шашлык знаешь?
— Знаю.
— Будет шашлык!
Анвар раздувал угли, а Марко неотрывно смотрел на меня. Я стала смелее и не отводила уже взгляда. Что там у него в глазах: осуждение, восхищение, жалость? Он, видно, понял, что я хочу понять, о чем он думает, прищурился, протянул руку за гитарой и нервно, как бы мстя мне за то, в чем я не была виновата, ударил по струнам:
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется «жизнь»… —
запел он, вкладывая в мелодию и слова нарочитую развязность и скепсис.
Мне стало легче, и я откликнулась пренебрежительно:
— Ловить момент? Утешаться сегодняшним днем? Это ваш девиз, Марко?
— Только так! — бросил он, не прерывая песни, и с видом беззаботного соблазнителя, подмигнул мне.
Почему я только сегодня поняла его? Почему только теперь осознала, что он очень любил меня?.. Все перевернул Нестор своим приездом…
После того как не стало Андрия, Марко сказал мне!
«Галя. я буду тебе хорошим другом».
«Как ты можешь так… А он еще называл тебя своим лучшим приятелем, Марко…»
«Он не ошибся, Галя».
«Но ты хочешь воспользоваться его отсутствием».
«Как ты смеешь?»
Марко долго смотрел мне в глаза, ждал, что я возьму свои слова обратно, но меня жгла нестерпимая боль, и я не могла его понять.
И он ушел из моей жизни навсегда.
Интересно, где он теперь, что с ним?
А тогда Марко бегал пальцами по струнам, напевая о быстротечности жизни, голос его театрально-трагически надрывался, всхлипывал, а в последнем куплете вдруг затих, и я встрепенулась от слов, которые он прошептал для меня, как предупреждение, как предосторожность:
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг…
Я тревожно взглянула на Андрия: он смотрел в огонь, был углублен в себя, возможно, и не слышал песни. Я коснулась ладонью его локтя, молча умоляя, чтобы он рассеял недоброе предчувствие, неожиданно! охватившее меня. А Марко глумился, снова и снова повторяя последнюю строчку куплета:
Есть только миг, ослепительный миг…
Только миг…
Только…
— Довольно! — крикнула я. — Хватит!..
— Что с тобой? — очнулся Андрий.
— Ах, ничего, — смутилась я. — Анвар, сыграйте на своем нае…
— Джаным, — ответил Анвар, — мой най не играет. Он разговаривает, но только тогда, когда его слушает один человек. И не каждый понимает, о чем говорит най…
— Я поняла.
— Ты себя поняла. А моя песня разговаривала не с тобой.
— Она хороша?
— Юлдуз? Как лепесток розы, как гиацинт, как…
Он зажмурил глаза и долго говорил про свою Юлдуз, а слова песни Марка не умолкали в моей памяти, хлестали, терзали… И тогда, и потом. Я несла в себе эту песню как предсказание беды, жила с ней, вживалась в нее до тех пор, пока…
— Остановите автобус, — попросила девушка, повернув голову от окна.
Андрий кивнул шоферу, а сам сидел неподвижно и даже не посмотрел ей вслед, когда она сошла.
— Галя, слышишь, Галя! — он резко повернулся, когда автобус тронулся, но Галя, склонив голову на плечо Марка, дремала. — Галина…
— Что, Андрий, приехали? Нет еще? А я так сладко заснула… Та девушка уже сошла? Очень милая девушка. Только ты сидел возле нее, как тюлень. Хотя бы заговорил…
— Я разговаривал все время. С самим собой…
— О чем?
— Когда-нибудь расскажу…
Андрий встал, прошел в конец автобуса, присел возле Гали и стал пристально всматриваться в ее лицо.
— Галя, у этой девушки глаза темные, с радужными прожилками…
— Ну и что же?
— Я не мог вспомнить, где я уже видел такие глаза. Глубокие, тревожные. И только теперь, только теперь… Я видел их однажды, одно мгновение. И забыл… Прости меня, Галя…
Андрий посмотрел вперед: на дне глубокого провала, слева от шоссе, виднелась буровая вышка, оттуда доносился рокот мотора. Автобус стремительно съезжал с перевала.
Андрий провел рукой по русому водопаду Галиных волос.
— Галя, — проговорил он тихо, — ты бы хотела поехать со мной куда-нибудь далеко…
— На Байкал? — оборвала она. — Нет, не хотела бы. Да он у нас уже и был, хотя ты его так не называл. А может, и не заметил. Ничего… Через денек-другой вы пробурите твердые глубинные пласты и найдете белую нефть. Я верю, что найдете. А это для тебя сейчас основное.
Марко пробежал пальцами по струнам гитары, напевая:
Мрiє, не зрадь, ти так довго лила свої чари
В сердце жадібне моє…
И, оборвав песню, раздраженно сказал:
— В поисках надо находить, а не терять!
Галя не шевельнулась. Андрий опустил голову и поднял ее только тогда, когда автобус остановился возле объекта.
— Послушай, — проговорил он, — мы поедем. Мы уже в дороге. Байкал — самое глубокое озеро в мире. И к нему можно возвращаться дважды.
В тот вечер он был мягкий, нежный. И Галя должна была привыкать к нему заново, ибо до сих пор знала его экспансивного или холодно-замкнутого, безудержно-пылкого или раздраженного, недовольного.
Ребята спали в палатке, а они вдвоем долго ходили по леваде. Он гладил ее волосы и говорил:
— Как водопад… И как я мог бы быть без них. Галя, я вижу тот твой взгляд только тогда, когда зажмурюсь…
— Я люблю тебя, Андрий. Нам нельзя терять друг друга. Нам будет очень тяжко.
— А разве тебе со мной легко?
— Велико ли то счастье, что достается людям так просто, что его даже не замечают?
— Я боялся слишком много своего вносить в твой мир, чтобы не вытеснить твоего собственного.
— То, что мое, ты не вытеснишь. Наоборот, приумножишь. Если бы не ты, я не работала бы так упорно над собой… Я уже тебе говорила: мне дали назначение в Город, на завод. Как ты думаешь — справлюсь?
— Ты там найдешь себя. Я верю в тебя. Ты очень добрая. А добрые люди умеют находить добро… Галя, как только вернемся отсюда, сразу же и поженимся. Я возьму отпуск, ты защитишь дипломный проект, и мы все-таки поедем на Байкал — в свадебное путешествие. Я еще там не был. И хочу туда — с тобой.
— Это мечта. Но пусть мечтается… Андрий, почему меня все время преследует песня Марка?
— А ты знаешь, что Марко тебя любит?
— Андрий, почему меня преследует песня о звездах, что сорвались и падают?..
— Все мы звезды, что сорвались и падают. Поэтому надо ярко гореть, чтобы оставить свет. Звезды гаснут, а свет идет и идет. Где-то рождаются новые звезды, и от них свет тоже когда-нибудь дойдет к нам. Если они звезды, а не холодные астральные тела.
— Ты сегодня экзальтирован.
— А ты слишком приземлена. Мы сейчас поменялись местами.
— Возможно… Я подумала сейчас обо всех, кого знаю: от самых старших до себя самой. Все мы обожжены, закалены. Стефурак — двумя войнами. Вадим Иванович — одной. Опалено огнем твое детство. А мы с Марком рождены войной. Мы — сильное поколение. Какое же придет после нас?
— Тоже сильное. Какими были предшественники. Такая хорошая почва.
— Я люблю тебя, Андрий.
— И я…
Утром Андрий с ребятами начал опробовать скважину. Галя еще спала, когда услышала радостный крик Марка:
— Есть конденсат!
Галя выбежала из палатки. Андрий стоял у вышки — удивительно спокойный и уставший, как бегун после финиша.
— Ну, все, — проговорил он. — Есть.
— Так что же ты… — развела руками Галя, возмущенная его спокойствием.
— Почему не прыгаю, не кричу? А что теперь кричать? Есть… Можно наконец и успокоиться. Ну-ну, — вздохнул он вытирая пот со лба. — А Байкал?.. Там, говорят… Я там поищу…
Он вдруг замолчал, затем резко оттолкнул Галю назад. Взгляд его был прикован к трубе, покрывшейся белым налетом инея. Шевельнулись задвижки, и Андрий закричал:
— Прочь от буровой!
Бурильщики, Марко, Анвар стояли на местах как вкопанные.
— Прочь, кому я говорю! Вон, за холм! — еще раз крикнул Андрий.
Он бросился к крайней задвижке, налег на нее, чтобы завернуть. Галя отступила назад, она видела, как от чудовищного давления трубы скручивались, словно змеи.
Когда все уже стояли на бугре, Галя, приложив ладонь к губам, крикнула:
— Андри- и-й!
Он метался от задвижки к задвижке, потом выпрямился и прокричал:
— Все в порядке!
И тут раздался взрыв.
— Есть только миг, ослепительный миг… — прошептала Галя, поднимаясь по ступенькам в свою квартиру….
«Почему она снова отозвалась, эта песня? Только не с отчаянием, а с надеждой, радостью… Надо ли себя за это осуждать?»
— У папы Стефурака есть для меня какие-то новости? — спросила Галя, закрыв за собой дверь. — Такой странный вид у нашего любимого маэстро… — Она поцеловала старика в щеку.
— К тебе гости. Галя, — Стефурак показал рукой на ее комнату.
— Нестор?
— Нет. не он. Я не знаю этого человека. Но он попросил разрешения подождать тебя…
— Интересно… — проговорила Галя и порывисто направилась к двери своей комнаты.
ПЕРВЫЕ ХОДЫ В НОВОЙ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ
Марко ждал Галю долго. Больше часа. Боялся уйти, чтобы не разминуться, потому что знал: другого раза уже не будет. Он смотрел на фотографию Андрия на стене и с угрызениями совести вспоминал разговор с Анваром, когда поезд преодолевал последние километры своего пути.
— Оригинальный тип и, конечно, из мира богемы, — кивнул Анвар головой в сторону Нестора, стоявшего на насыпи и продолжавшего игривый диалог с проводницей. Поезд тронулся, Анвар помахал незнакомцу рукой.
Марко улыбнулся. Ему вспомнилось, как не терпел Андрий этого, по его мнению, словесного мусора: тип, кайф, предок, старик… Да и верно, плохой это жаргон, однако же, как ни странно, он, утратив свой первичный плоский смысл, служит часто молодым людям броней против красноречия, патетичности. Примитивная это броня, но Марко считает, что тратить порох Для борьбы с ней не стоит хотя бы потому, что не всегда она свидетельствует о духовной пустоте человека. Ведь нередко эта пустота прячется и под блестящей словесной оболочкой… Андрий же воевал. Одержимый в поисках, он вообще не признавал ничего, что не укладывалось в систему его взглядов на вещи.
Марку стало неловко перед самим собой за то, что ни с того ни с сего привязалась к нему эта неприязненная мысль об Андрие, которого вот уже сколько лет товарищи вспоминают с глубоким уважением, однако эта мысль, раз уже появившись, множилась, как бацилла, будила в душе Марка раздраженное чувство протеста против огульного обожествления Андрия, ведь у того было множество недостатков! Как и у каждого человека…
«Не надо, это я из-за Гали… Неправда, я ему никогда не завидовал… Но больно было… Ну и что? Я всегда его уважал, любил, однако эгоцентричности его никогда не терпел… Не надо о мертвых…»
— Да, о мертвых — или хорошо, или ничего, — непроизвольно сказал вслух Марко.
Анвар перевел на него удивленный взгляд.
— О каких мертвых, и вообще, что это ты…
— Обо всех, — смутился Марко. — Это правило, придуманное римлянами, довольно-таки порочно. Я за девиз: о живых и о мертвых — только правду.
— Странный поворот разговора… А к тому же я давно чувствовал, что ты недолюбливаешь его.
— Что значит недолюбливаешь, любишь? Любить человека — это прежде всего знать его. А я знал Андрия. Знал его чистоту — до пуританства, трудолюбие — до одержимости, добропорядочность — до ортодоксальности. И любил его. Не за пуританство и ортодоксальность — за одержимость. А не любил — за холодность, эгоцентризм. Почему я не могу об этом сказать сегодня, если говорил ему в глаза… Андрию хотелось, чтобы все были такие же, как он: в отношениях с людьми — сдержанные, в любви — рассудочные, в оценке искусства — только интеллектуальные, в познании — исключительно объективные, даже в поисках нефти не признавал никого и ничего.
— Вижу, он тебя раздражает и сегодня, хотя его нет уже семь лет.
— Невзирая на то, что ты вполне современный человек, Анвар, все-таки твое домашнее воспитание дает изредка себя знать. Беспрекословное преклонение перед пророками и аксакалами. Словом, перед авторитетами. А я на всех и на все хочу смотреть открытыми глазами, иметь свой собственный взгляд. Ну, что в этом плохого, если я признаюсь, что, по-моему, «Крейцерова соната» отдает ханжеством, а в повести «Борислав смеется» вижу следование «Жерминалю» Золя? Разве из-за этого я меньше уважаю Толстого и Франко, чем те, кому нравятся эти произведения? Так почему же я не имею права вспомнить недостатки Андрия, хотя он для нас с тобой авторитет?
— Какой же ты неофит, какой левак! Сердитый молодой человек! А может, кому-то это твое левачество тоже не понравится, может, кому-то оно покажется примитивным оригинальничаньем? — уже сердился Анвар.
— Ну и пусть. Я никого не заставляю думать так, как думаю я. Так нет же: футбол — зрелище для язычников, бокс — мордобой, телевидение — эрзац-искусство, коллекционирование — прихоть бездельников, современные танцы — дикарство. И все молчали, поддакивали, чтобы не раздражать его, однако буги-вуги танцевали аж пыль столбом, билеты на футбол заказывали за месяц вперед, коллекционировали даже этикетки от бутылок, а от телевизоров не отрывались. Так почему же не сказать: «Мне это нравится, слышишь?»
— «Мне это нравится» — тоже эгоцентризм, дорогой мой. «Мне это нравится» служит часто оправданием для глупостей. Тебе как-то в Полтаве у одного собора понравилось звонить в колокол, и когда он тебе за это дал взбучку, ты назвал его трусом.
— Потому что он убежал. Нет, не ушел, возмущенный моей выходкой, а именно убежал. Да, да…
— Но ведь не убежал, когда скручивались трубы у вышки, не убежал же тогда!
— Поэтому и незаурядный, но не святой, не икона, которую ты хочешь из него сделать… Извини, Анвар, я немного раздражен… Скажи мне, увижу ли я Галю?
Анвар пожал плечами.
— Как это на тебя мало похоже… Столько лет ты…
— Не могу без нее. Я уже знаю.
— Не пойму, за что ты ее так сильно полюбил? И когда?
— За что… Знаешь, за что? За любовь к Андрию. За эту решительную, безоглядную, безоговорочную любовь. Такой любви ждать надо всю жизнь. И стоит жить до ста лет, если она придет на девяносто девятом… А он… Не люби так свою Юлдуз, Анвар, не люби так…
— Это уже слишком… Будь справедлив, Марко, ведь он любил ее.
— Ты не знаешь, Он любил только свои поиски, а она была для него обителью слез, когда его постигали неудачи. Да, он не мыслил себя без нее, ибо она была для него причалом. Он эту свою любовь раздувал иллюзией утраты, как кузнец раздувает в горне уголь. И мне было больно это видеть: ее любовь стоила того, чтобы отдаться ей полностью… Ты спрашиваешь — когда? Помнишь, они вышли тогда из лесу, и я понял, что Галя уже принадлежала ему. До этого она была очень хороша, а в этот момент прекрасна — такой женщина бывает раз в жизни. Меня охватила тогда какая-то отрешенная радость, будто она принадлежала только что мне, и я готов был праздновать их праздник, пусть чужой… А он, успокоенный разрядкой после неудачи, сидел у костра, создавая мысленно новое техническое моделирование, и не думал о ней. А был же праздник! И я тяжко полюбил ее тогда за то, что в ней, только в ней, а не в них, жила настоящая любовь, которую я искал, которую желал, на которую достойно ответил бы и которая в тот момент обошла меня…
— Город! — крикнула проводница.
Друзья наконец встали из-за столика. Пассажиры толпились в тамбуре.
— Я вспомнил слова твоего деда-аксакала, — сказал Марко, укладывая в чемодан шахматную доску. — «Если не веришь в аллаха, пойди на Тянь-Шань и уверуешь, увидев, что он сотворил». Хорошая пословица, только я немного изменил бы ее: «…встреть женщину, без которой ты не можешь обойтись».
— Я тоже так сформулировал бы эту пословицу. Я уже давно сделал это.
— Ты счастливый, Юлдуз — шербет, рахат-лукум, сахарин. Что тебе…
В тамбуре Анвар спросил:
— Ты не подумал, что Галя могла выйти замуж?
— Думал.
— Что дети есть…
— И об этом думал.
— Что изменилась, подурнела…
— Нет.
— А что ты дашь ей вместо спокойной жизни1, которую она, вероятно, ведет?
— Я дам ей Байкал.
…Марко сидел в Галиной комнате, ждал. Он еще ничего не знал о ней, и вместе с тем знал главное — она одинока. Комната обставлена по-девичьи: одна кровать с вышитой подушечкой, трюмо, на стене портрет красивой женщины, очень похожей на нее, вероятно матери. А ниже, под портретом, — маленькая фотография Андрия.
И это было для Марка ошеломляющей неожиданностью. Он долго готовился к решительному ходу и верил в свою удачу, потому что не верить было свыше его сил. И застал Галю свободной. Хотя нет — Андриевой. А с Андрием он воевать не мог.
Стало стыдно за ту борьбу, которую он начал против него в поезде, стараясь отделить в характере Андрия мелкое от значительного. Там он боролся с Андрием в самом себе, проверяя цену своей любви. Теперь Марко должен сдаться. Галина любовь проверялась тут годами, и принадлежала она не ему, а его сопернику, и Андрий, видно, был достоин ее.
Вчера квартира была закрыта. Марко блуждал допоздна по улицам, — подумалось, может, Галя давно уже уехала из Города? — и вокруг веяло пустотой. Он вспомнил Тянь-Шань, Кызылкумы, где целых пять лет пространствовали они с Анваром, ища эту же белую нефть по методу Андрия. Что теперь делать? Возвращаться в Среднюю Азию или остаться тут и искать ее, Галю?
А сегодня все так просто. Она в Городе. И в этой простоте — труднейшая сложность.
Чувство страха перед встречей, не с чьей-то, а с Андриевой Галей, с каждой минутой ожидания овладевало им все сильнее.
И вдруг — голоса в прихожей, и рывком открывается дверь.
Неужели для нее не существовало времени?.. Та самая, какую увидел тогда у костра, только глаза, большие зеленые глаза, как бы устали, стали меньше, а может, это от неожиданности? Рука Гали, загорелая, с длинными пальцами, единственный раз лежавшая у него на плече, когда она в автобусе заснула, остановившись в резком движении, рывком опустилась.
— Вот это да… — произнесла Галя. — Ты же мне сегодня весь день мерещился, Марко…
— Я думал о тебе.
— Но как… как это так, что ты здесь? И почему так долго не появлялся?
— Я же не знал, что ты свободна…
— Свободна, Марко. Сегодня уже свободна… Ну, что ты стоишь, гривастый баламут, поздороваемся же…
На улице уже стемнело, когда Нестор вышел из театра, оставив там Копача, Марту, доктора Остролуцкого и режиссера.
Августин вышел вслед за Нестором, догнал его в служебном проходе, остановил:
— Не принимай этого близко к сердцу, Нестор… Такого кина и я не ожидал. Это, скажу тебе, такой человек, что дай ему копейку, так до самого Пацикова будет тянуть старого козла за хвост…
— Очень колоритный образ, Августин. В жизни мешает, но для кино — какая находка!
— Я знаю, ты зря и шагу не ступишь. Вот так среди людей ходишь, тебя, как говорится, за дорогого гостя принимают, а потом только держись — когда-нибудь этот гость так тебя намалюет, что и содой не отмоешься…
— Сам не рад, Августин. Такой уж наш хлеб: собирать у людей по крупице чужое и создавать из него новое — уже свое.
— Эх, да и своего у тебя дай боже каждому. Я сегодня весь день мучаюсь… Стефурак мне рассказал… Сам кое-что про это знаю, а вспомнить не могу. Уже ходил сегодня к этой керамической школе, но вернулся тупой как пень… Может, не побрезгуешь, зайдешь ко мне — на оладьи из картошки…
— Зайду, Августин, но когда-нибудь позже. Я еще успею всем Вам надоесть… Сегодня я тоже ходил туда. Фармацевтическая фабрика там. Гм… Смерть и жизнь. Стены не виноваты. А в тех подвалах — склад с медикаментами. Чтобы жизнь от смерти спасать… Августин, вы в шахматы играете?
— А почему же нет. Играю. Но так, не по книжке. Да это глупости — играть по книжке. Я тебе скажу по правде: ежели кто что умеет, тому и книжки не нужны, а глупому и книжки не помогут…
— Интересно, откуда это у вас все берется?.. Ну, до свидания.
Августин потряс руку Нестору, сказал:
— Только ты не иди в Бляшный отсюда напрямик, там все разрыто, а иди мимо ратуши.
— Все-то вы знаете, Августин. Даже то, куда я собираюсь пойти.
— Потому что, как говорится, у одного книжный, а у другого природный ум…
Нестор шел и думал, что должен сейчас же ехать в Киев, чтобы, уладив там некоторые формальности, быстрее вернуться сюда, в Город: ведь новые хлопоты могут порвать еще не крепкую паутинку замысла.
Он почувствовал, что поймал для произведения основной стержень — перекличка поколений. И у него уже готовы были прототипы: Стефурак, Копач, Кость Американец, Перцова, Вадим Иванович, а с другой стороны — Галя, Марта, доктор Остролуцкий, Мисько Два Пальчика и еще два шахматиста из поезда, для которых жизненную линию надо придумать, потому что он больше их не встретит. А потом для всех надо создать новую художественную судьбу, гармонирующую с их жизнями.
Герои стояли перед глазами Нестора, как шахматные фигуры, готовые к походу, надо лишь умелой рукой удачно сделать первый ход…
«Постой, а почему бы не начать именно так? — чуть не вскрикнул Нестор, шагая по улице. — Идет поезд. В купе два человека за шахматами. Расставлены фигуры, идет упорная игра. Неверный ход… Проигрыш… Еще одну партию? Да, еще одну, но и она не может быть последней… Каждый выходит на свой турнир. Бывают неудачи. Но обязательно придет победа, если есть вера… Затяжная партия у Костя Американца. А у Гали? Что-то случилось у нее, раз живет одиноко… Да, начало есть. За разговором шахматистов — столько сцен!..»
Обрадованный находкой, Нестор шел к ратуше и, остановившись на перекрестке, почувствовал вдруг, что, найдя эту деталь, тут же потерял что-то свое, личное, что могло принадлежать только ему одному — на радость и счастье. Творчество, как молох, снова отбирало у него самое дорогое, чтобы никогда не вернуть обратно, а отдать людям. Вчера и сегодня он жил под впечатлением встречи с Галей, в сердце входило то самое чувство, которое коснулось было его еще в ранней юности, а теперь новая художественная жизнь, только еще рождавшаяся в воображении, поглотила это чувство, ибо без него не сможет жить новое произведение, и уже дочь дочери Сотника воспринималась не как девушка, возлюбленная, жена, а как героиня произведения, — и Нестор в который уже раз проклял свою профессию.
Город затихал…
Город затихал постепенно. Как дремучая дубрава весной после захода солнца.
Такое сравнение всегда приходит на ум Копачу, когда он вечером возвращается из театра домой. И опять Августин сам себе удивляется, почему это он, человек, проживший в Городе большую часть своего века, сравнивает совсем несовместимые вещи: Город и дубраву. Это, должно быть, из-за того, что и там, и здесь вечерний покой тоже наступает одинаково — постепенно.
Пробьют на ратуше старинные часы шесть вечера, простучат по Торговой набитые людьми до отказа автобусы, неохотно и устало опустятся жалюзи на витринах магазинов — и Город сразу становится ласковым, тихим. В сквер входят люди, они теперь другие, нежели днем, — медлительные, праздничные: стены каменных домов темнеют, только крыши самых высоких зданий еще греются на солнце, а потом остывают и они; то тут, то там раздастся вкрадчивый сигнал машины, и хорошо слышно металлическое гудение самолета в небе. Потом вспыхивают огни, пустеют тротуары, в окнах, на занавесках, качаются тени, а дальше — одно за другим — окна гаснут, и Город засыпает крепким, натруженным сном.
А разве не так же сорок лет назад засыпал дубовый лес летом в Залучье? Только спрячется за горизонт краюха солнечного диска, как падает свежая прохлада вместе с росистой порошей на листву, на мох и папоротники; верхушки деревьев еще пылают, но и они быстро тускнеют. С лесных тропок, как из туннелей, выходят насытившиеся вволю коровы, важные, как матроны, а за ними, изредка покрикивая, идут с сопелками пастухи-парнишки и с зажженными трубками — пастухи-деды. Кое-где отзовется, зашевелится в гнездышке сонная птица — и опять тишина, а потом опускается темнота, которую просвечивают скупые огоньки из сельских хат. Затем и они гаснут, и все впадает в сон.
Э-гей… Хотя, как говорится, город — не село, а село — не город, но засыпают они одинаково — постепенно.
Августин идет домой, вспоминает свое далекое, уже нереальное, село за рекой, и что-то щемит у него в груди, — ведь что в горшке кипит, тем и пахнет…
Копач шагает медленно — спокойный и удовлетворенный прожитым днем: с утра до вечера он что-то делал, о чем-то думал, говорил с добрыми людьми, утихомиривал, пристыживая разгневанного, чей-то теплый взгляд, чья-то умная мысль легли ему добрым приобретением в сердце. Да, богаче, чем был, возвращается Августин к своей Каролине, которой до поздней ночи будет рассказывать в подробностях обо всем — от «доброго дня» до «будьте здоровы».
Он идет и слагает, в уме свой рассказ, пересыпая его шутками: Августин знает, что Каролина выслушает каждое его слово, хотя и не каждому поверит — на другой день он о том же самом расскажет совсем иначе. Копач умеет из одной детали создавать целую историю, ведь «если нет большого, то откуда возьмутся мелочи, как ежели нет стебля, то не будет и снопа».
Но что бы он ни говорил и что бы ни выдумывал, в каждом слове будет звучать нотка гордости: и за режиссера народного театра — учителя музыки, и за доктора Остролуцкого, отдающего каждую свободную минуту искусству, и за Мартусю, нашедшую в себе силы вырваться из мещанского омута, и за Галю — сильную женщину, сумевшую, неся тяжесть своей судьбы, заслужить высокое доверие на заводе, — за всех. А все-таки больше всего — за Стефурака. Какой актер, режиссер и писатель! Гордость Города! Сегодня Копач узнал о нем много нового. Скромность старика просто поразила Августина. Сколько на его месте другой уже бы нахвалился, а он… И Нестор — хотя бы слово… Но, слава богу, не уехал. Он еще с ним поговорит, он ему такой сценарий подскажет!..
Копач останавливается на той самой тротуарной плите, с которой начинает путь каждое утро, чтобы пересечь улицу. Теперь он не торопится. Утром вынужден — чтобы меньше людей видело, как он на середине шоссе смешно «превращается» из горожанина в залучанского крестьянина. Сейчас Августин мог бы продемонстрировать свою городскую солидность, но вечером же никто не увидит. Так можно и постоять.
Окно его квартиры на втором этаже, по ту сторону улицы, светится. Склоненная тень Каролины качается на стене — она готовит ужин.
А Копачу вспоминается… Нет, не коза, чтоб ее черт побрал, коза взбредает на ум только утром. А по вечерам к Августину приходят тяжкие воспоминания.
Перед глазами Копача двигаются черные толпы людей, идущих на смерть. Одна за другой — каждый день. Плачут дети на руках у матерей, еле волочат ноги старики, идут исхудавшие девушки с большими от страха глазами, тяжело ступают понурые мужчины; задние тянут бочки с негашеной известью — на тачках; по бокам щуцполицаи со свастикой на рукавах и орнунгполицаи — с шестиугольными звездами.
А вот идет большая колонна — человек тридцать. Как сегодня видит их Августин. Он наблюдал тогда в окно, заклеенное крест-накрест бумажными полосами. Каждый вечер, когда возвращается с работы, видит их. По обеим сторонам около десяти фашистов с автоматами. Колонна проходит через пустырь, заросший густым ивняком, за которым спряталась Торговая площадь.
Идут мужчины в рваной одежде, кто с непокрытой головой, кто в шляпе. Вечереет…
Каролина сказала: «Отойди от окна!»
Но он не мог. Кто эти люди? Не из Залучья ли?
И вдруг какие-то тени — их было много — выскочили из-за Августиновой халупы, из ивняков. Как коршуны кинулись они на щуцполицаев. Послышались тупые удары, автоматные очереди. Колонна — врассыпную. На дороге — распростертые трупы. Сирена… облава… крики… В домах — обыск.
Так четко видит все это Августин каждый день… Только почему сегодня все время какая-то неясная догадка упрямо блуждает в мозгу, а в нужную ячейку попасть никак не может? Вот и сейчас. Была весна… Приезжал Вехтер… Заложники… Нет, заложников брали, когда приехал Франк. И их на расстрел не вели… Тридцать человек в сельской одежде…
— Гарматий! — воскликнул вслух Августин. — Это был он!
Копача потрясло его собственное открытие. Ведь он знает то, чего не знают ни Стефурак, ни Нестор. Они, видели Гарматия избитого, в кровоподтеках — жертву. Он же видел его в действии. Перед глазами Копача предстал отважный мститель, борец. И теперь рассказ Стефурака зазвучал для него по-иному — он стал звеном в единой цепи событий, на одном ее конце был Гарматий, освобождающий сельских активистов, на другом — Нестор, принимающий как дар песню Гарматия.
И Нестор об этом молчит! Но почему! Неужели безразличным стало ему это событие? Или он спрятал его глубоко в тайники своего сердца как реликвию! Стерлось в памяти или вызревает в душе, чтобы возродиться когда-нибудь в кино и потрясти старой болью человеческую память? Покрылось золой повседневных забот или хранится как запас, который нельзя расходовать до подходящего мгновения?
Почему не хочешь вспомнить об этом, Нестор? Неужели ты мог потерять по дороге звуки песни про кониченька? Или вырвался о г тебя твой конь, и ты уже не можешь его поймать? А комок земли, который ты взял со Страусовой могилы? Растерся в пыль и развеялся?
Да разве ты имеешь право забывать об этом, со своим талантом, наблюдая поколение Гали, Андрия, Мартуси? Почему не передал им песню Гарматия, а спрятал для себя, как скряга? Но нет… Ты ходил почему-то сегодня в бывшую керамическую школу… Я знаю: старая боль просто дозревает в твоем сердце…
Августин надвинул шляпу и быстро, как по утрам, перебежал улицу.
Что сказать Каролине? Ведь этих мыслей, что так нахлынули на него, он не сумеет высказать, потому что, как говорится: знаю, видел, а объяснить не способен…
Копач вошел в дом, постепенно успокаиваясь. Домашний уют всегда утихомиривал его взбудораженную раздумьями душу.
Каролина жарила на сковородке оладьи и вся так и потянулась к Августину, потому что знала, он должен был принести ей какие-то новости.
— Ну что, встретились молодые? — не утерпела она.
— Ежели кого-то ждет встреча, то от нее, как говорится, никто никуда не денется, — подошел Копач к жене. — Ты про Нестора и Галю? Не встретились сегодня — встретятся завтра. Он, вижу, и не собирается уезжать. Потому как зачем, ежели его тут ждет готовенький сценарий. Как с иголочки.
Каролина с глубоким уважением смотрела на своего мужц, который всегда был для нее первым авторитетом, а вот теперь он еще больше вырос в ее глазах, ведь видит же она по его лицу: Августин знает что-то такое, чего не знает никто, даже она — первая его поверенная. Да, еще больше вырос авторитет Копача, и Каролина даже слезу утерла, когда услышала его слова:
— Каролька, поищи в своих ящиках, где-то там валяются старые шахматные фигуры. Я сделаю из картона доску. Нестор обещал прийти ко мне на партию шахмат!
Нестор стоял на краю тротуара, собираясь перейти улицу. Он видел, как из Бляшного переулка, где жил Стефурак, вышли двое: разговаривая и смеясь, они подходили к углу Торговой и, когда вышли на свет фонаря, он узнал Галю. Очаровательная дочь Сотника с распущенными на плечах русыми волосами держала за руку пышночубого мужчину, и был он тем самым шахматистом из поезда, что допытывался у своего друга: «Скажи, я встречу ее?».
Нашел… Галю!
У Нестора в груди остро защемило, он отступил назад, Галя с шахматистом шли, разговаривая, перебивая друг друга, никого не замечая и, должно быть, не желая замечать. Перед Нестором все больше и больше распутывался клубок его замысла, он находил все новые и новые детали, теряя при этом, как всегда, то, что могло принадлежать ему лично.
Он смотрел им вслед, пока они не исчезли за сквером, и, горько улыбнувшись, произнес про себя:
— Вторично исчезаешь из моей жизни, дочь Сотника.
…В гостинице, когда Нестор укладывал вещи в портфель, зазвонил телефон.
— Режиссер Нестор? — раздался в трубке мужской голос. — О, как хорошо, что я вас еще застал. Вас беспокоит Скоробогатый.
— Скоробогатый? — переспросил Нестор. — Какой Скоробогатый?
— Подождите минуточку, Я живу рядом. Сейчас буду у вас.
«Нет, не может такого быть, — думал Нестор, держа руку на телефонном аппарате. — Откуда он мог бы тут взяться?.. Но кто же это мне тогда звонил?»
Через несколько минут открылась дверь, и на пороге возник директор «Сельмаша» — взволнованный, запыхавшийся, с протянутыми вперед руками.
— Вадим Иванович? — оторопел Нестор. — Почему вы… Мне только что звонил какой-то Скоробогатый…
— Я — Скоробогатый, Нестор, я… Ну, дай-ка я обниму тебя, мальчик с лукошком земляники!
Поезд мчался сквозь ночь к столице. Нестор, дымя трубкой, стоял у окна, взбудораженные чувства и мысли его постепенно успокаивались под равномерный стук колес.
«Побыстрее бы, побыстрее… Туда и обратно, туда и обратно, — произносил он мысленно в такт пере-. стуку колес. — И не жалей, что немного больно, не жалей. Без боли мы пустые, без боли немощные и. скучные…»
Нестор высунул голову в окно и всматривался сквозь темноту в ту сторону, где остался обыкновенный для постороннего глаза, для него же вечно интересный и до конца не познанный, маленький на планете, как пятачок, наивный в своей непоколебимой вере в великое призвание и великий в осуществлении этой веры, всегда родной и всегда чужой в своем безостановочном обновлении — его Город.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Они возвращались с киносъемок. Спор достиг высшего регистра. Но вдруг оборвался: в ветровое стекло ударилась густая прядь тумана, сползшего с перевала, и высветлила предвечерние сумерки. Автомобиль вошел в него, как в воду. Нестор включил фары.
— Только этого нам не хватало, — вздохнул Леонид. — И так опаздываем, а в нашем багажнике и закуска, и выпивка…
Дорога круто пошла в гору — до перевала оставалось не больше пяти километров. Нестор замедлил скорость, склонился к рулю — впереди ничего не было видно, только плотный туман клубился густой пеной, оседали капельки влаги.
— Глупости… — сказал он после недолгого молчания. — Что вы сразу скисли?.. Итак, мы спорили о памяти. А знаете, что отчетливее всего врезалось мне в память из всех военных лет? Лютая зима, далекий гул канонады, а я в хате… — Голос Нестора звучал теперь примирительно, и все в машине слушали не перебивая, словно этот туман моментально сблизил людей, разобщенных спором. — Теплая пахучая печь, растопленная буковыми поленьями, закопченная керосиновая лампа, за столом — мой отец в очках, перевязанных на затылке веревочкой, перед ним раскрытая пожелтевшая Библия… и откуда это свалилось, была же погода, как золото… а я стою, опершись спиной о печку, и так ощутимо воспринимаю теплую и уютную благодать, и так мне хорошо, что я еще маленький, что, хотя отец прихрамывает, но мать еще крепкая, и я не мерзну, не пропадаю, не истекаю кровью — живу, в это мгновение живу…
— Смирение паче гордыни. От Матфея, — бросила с заднего сиденья Адриана.
— Кто знает, может, и от Иезекеила, — раздраженно сказал Леонид и тут же пожалел, что изменил своему стоическому покою именно тогда, когда все остальные утратили охоту спорить. Защитная снисходительная улыбка легла на его полные губы, Леонид погладил по руке свою молодую жену Нилочку, сидевшую между ним и Адрианой и всю дорогу молчавшую. — Как ты думаешь, Нилочка?
— Нас в школе не учили закону божьему, — покраснела молодая женщина.
— И нас — нет. Это только уважаемый Нестор имел удовольствие посещать уроки закона божьего у отца-профессора Баранкевича. Ну, а наша кинозвезда Адриана все знает… Степан, не дремлите, — Леонид дотронулся до плеча коренастого мужчины, сидевшего возле Нестора. — Наберитесь терпения, выслушайте еще одну сентенцию режиссера, и тема разговора сама переменится: мы за эго время выедем на перевал, где в экзотической хижине «Беркут» ждут не дождутся актеры и операторы.
— Я не сплю, — ответил Степан, — я думаю.
Под колесами загрохотало, и машина пошла по ровной, мягкой дороге. Нестор сгорбился над рулем.
— Это последняя ступенька, братцы, — обрадовался Нестор. — Мы сейчас… Но погодите, тут же был асфальт…
— Ничего удивительного, начали ремонтировать, — сказал Степан.
— Значит, вам нужна еще одна сентенция… — Нестор ослабил руки, двигатель работал на малых оборотах. — Не знаю, какое впечатление у нашего нефтяника после сегодняшних съемок на буровой, буду говорить только от себя — я ведь тоже один из прототипов. Твой сценарий, Леонид, острый, динамичный — одним словом, вполне профессиональный. Но еще в коломыйском павильоне я понял, что мы взяли не ту тональность. Все это было, мой дорогой, только несколько иначе. Как тебе сказать… Во времени, в напряжении, в жертвах, в подвигах — так. А вот в психологии, во внешних ее проявлениях — намного проще, более приземленно и довольно-таки обыкновенно. Ты же везде поставил своих героев в исключительные обстоятельства…
— Обстоятельства все исключительные, Нестор. — Полные губы Леонида собрались в трубочку. — И то, например, что сейчас нас не четверо, а пятеро в твоей машине, — тоже, ведь моя Нилочка поехала с нами случайно.
— Ой, не трогайте меня, — снова покраснела женщина. — Я вне ситуации, я тут ничего не решаю…
— Кто знает, кто знает… — Адриана оперлась лицом на ладонь.
— Дело в том. что люди никогда не готовятся к исключительным ситуациям… — Нестор говорил, не поворачивая головы, был напряженно-сосредоточен. — Не заготовляют впрок для них ни своего поведения, ни фраз, как это кое-где получилось у тебя… Я могу тебе теперь откровенно признаться: когда в эту коломыйскую тюремную камеру с заложниками гестаповцы бросили полуживого Гарматия, я не выкрикивал над ним: «Возьму твою песню!», я не мог вести себя так в этих исключительных обстоятельствах.
— А как, скажи, пожалуйста? Что ты чувствовал?
— Ничего, кроме оцепенения… Было ощущение безнадежного горя, но эго сейчас я так называю то свое состояние. А тогда… тогда это горе муторно пахло загноившимися ранами узника, и меня тошнило… — Нестор опустил окно и всматривался в сизую изморось, через которую не проступали даже силуэты деревьев. — Так-то вот, дорогой… А когда умер мой отец, я бежал из города домой в село, и ноги у меня подгибались. Я падал, но вместо выдуманных тобою клятв в моем мозгу вертелась, как личинка майского жука в пласте вывернутой плугом земли, подленькая мыслишка о том, что отцовская куртка останется у меня…
— Ну, знаешь, это уже слишком! — вспыхнул Леонид. — Так давай выведем этакого маленького подлеца…
— Леонид, — Адриана оторвала подбородок от ладони, — а вы читали «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста?
— Не дочитал! Так же, как и вы… И довольно, довольно уже этого бахвальства своей интеллектуальностью. Вы еще, чего доброго, сейчас назовете «Исповедь» Руссо и «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. А вы и эти произведения тоже не дочитали!
— Может, и так, — спокойно ответила Адриана. — Страшно скучные вещи… Зато правдивые, потому что там в исключительных обстоятельствах люди ведут себя, как и полагается людям, слепленным господом богом из глины, а не как бесплотные и безгрешные ангелы, выдуманные первобытными сценаристами.
Спор снова обострялся, а туман становился все непрогляднее, машина уже слишком долго шла по ровной неасфальтированной дороге. Степан забеспокоился.
— Вы уверены, что мы правильно едем? — спросил он у Нестора.
— Ах, как вы, инженеры, рациональны. — Адриана не оставляла фривольно-иронический тон. — Уверены-не уверены… Это было бы даже интересно — заблудиться и спорить до утра.
— Вы бы первая… — Леонид не докончил фразы.
— Не каркайте… — Нестор уже явно нервничал, дорога пошла ухабистая, о днище бились камушки. — Ведь и машина у меня еще не обкатана…
Степан посмотрел на Нестора и в это мгновение впервые заметил, что его длинные поседевшие волосы довольно-таки редкие, желтовато-восковые залысины виднеются сквозь пряди, режиссер был теперь намного обыкновеннее, чем на съемочной площадке, где он играл себя самого и по сценарию должен был предстать величественным, чуть ли не иконописным олимпийцем; тогда, на съемках, он понравился Степану, но теперь, едва ли не под влиянием спора между Адрианой и Леонидом, эта будничная ипостась Нестора была для него привлекательнее. Он перевел взгляд на спутников, сидевших сзади: Адриана нервными пальцами приглаживала свой мальчишеский чуб, Нилочка спряталась в смущенно-вежливую улыбку, как в раковину, Леонид гладил ее руку — это, очевидно, придавало ему равновесия и уверенности в словесной Дуэли..
— Вы еще ничего не потеряли, — заговорил Степан, — зачем же так остро спорить? Работа только началась, и режиссер, если захочет… Я во всем этом мало разбираюсь, может, и напрасно вы пригласили меня консультировать артиста, играющего Андрия… Но вот думаю: зачем эта моя смерть на буровой? Ведь все было иначе. Я действительно первым увидел, как скручиваются трубы, покрываясь инеем, я действительно приказал всем бежать за бугор, но к задвижкам не подбегал, поздно браться за задвижки, когда скручиваются трубы… Я сам убежал, только и всего, что последним. Ну, меня немного обожгло… Однако нужна ли зрителю моя смерть?
— Нужна, крайне нужна, — подчеркнуто иронически произнесла Адриана. — Надо же было дать возможность Гале, которую я играю, пококетничать с Нестором и выйти замуж за бурильщика Марка.
— С вами невозможно работать, — махнул рукой Леонид. — Неореалисты…
Туман совсем окутал машину, прижал к ветровому стеклу свет фар — два желтых кружка медленно ползли впереди, ослепляя водителя, машину подбрасывало на выбоинах, и Нестор остановился.
— Что-то подозрителен мне этот ремонт асфальта… — Он высунул голову в окно и воскликнул:
— Люди! Мы и правда не туда заехали!
— Так почему же ты… — Леонид еле сдерживал злость. — Адриане не удивляюсь, но ведь Степан же предостерегал… А там нас ждут — голодные товарищи в холодной хижине.
— Почему, почему! — дернулся Нестор. — Степан, кстати, первый сказал, что это ремонтируют асфальт. А ты можешь перекусить, если так уж проголодался. Не умрут они и не замерзнут, — сказал он мягче, — мы сейчас… — Он вышел из машины, обошел вокруг, приглядываясь, и безнадежно присвистнул. — Выходите, братцы, — сказал он. — Мы в тупике.
— Это для вас, Леонид, — не упустила возможности съязвить Адриана. — Материал для еще одной героической сцены.
Все вышли из машины. Вечерние сумерки, смешанные с туманом, тяжело легли на горы; справа сквозь густую непроглядность едва угадывались контуры высокой скалы, впереди маячил еловый лес, в который уходила дорога, сузившись до тележной, слева проселок обрывался: глубину пропасти можно было только угадывать по далекому журчанию ручья.
— Подавай назад, Нестор, — сказал Леонид.
— Какое там — назад?.. — Нестор вынул из кармана трубку, молча набил ее, рассыпая табак. — Мы въехали в эту западню, еще когда я провозглашал последнюю сентенцию, будь она проклята. Километра три проехали, какое там — назад… — Тон, говоришь, не тот… — Нестор умышленно вернулся к прерванному разговору, чтобы переждать, пока не уляжется волнение, — надо же что-то решать. — У каждой ситуации — своя тональность: иной раз торжественная, а иной раз и нет… На одном уроке (я учился тогда в девятом классе) учитель объяснял нам гекзаметр. В качестве примера он взял строку из стихотворения Ивана Франко «Весна, ты мучишь меня, рассыпаешься солнца лучами». Он учил нас скандировать, и я, восхищенный эмоциональностью стиха, задекламировал, отвечая: «Весна!!! Ты мучишь меня!», и получил двойку, потому что говорить нужно было не об эмоциях, а о метрике стиха. Следует найти настоящий тон…
Леонид сосредоточенно слушал.
— Настоящее — это еще не найденное, — сказал он. — Найденное в первое же мгновение своего появления уже нуждается в совершенствовании.
— Ха… — Адриана размяла в пальцах сигарету нагнулась к трубке Нестора, чтобы прикурить. — Один мой знакомый поэт никак не может найти рифму к слову «морковь». Неужели для него вот это найденное — «настоящее»?
— Оса… — улыбнулся Нестор. Лицо его было уже совершенно спокойным. — Ну, хорошо. Гасите сигареты и садитесь. Степан, поменяйся местами с Адрианой, она легче. Нужен вес на задний мост. Попробую развернуться.
— А не лучше, чтобы вы одни, — неуверенно проговорил Степан. — Дорога узкая и…
Именно эти же слова чуть не сорвались с губ Леонида, но он вовремя увидел Нилину реакцию на предложение Степана и сказал, глотая неприятный привкус стыда за свою трусость:
— Видите, как иногда может понизиться тональность…
— Бывает… — Нефтяник опустил широкие плечи и первым шагнул к машине.
Он сел справа, отчужденный и смущенный, упрекая себя за профессиональную осторожность. В его распоряжении много людей, техники, он всю жизнь обязан придерживаться одного правила: как можно меньше человеческих и материальных потерь. Как им объяснить, что в этот момент он думал не о себе, а о женщинах — дорога ведь узкая, там пропасть. И вообще — что за глупости, ради чего рисковать, если можно переждать здесь до утра, те, в хижине, и правда не поумирают…
Адриана села возле Нестора, вопросительно посмотрела на него, она тоже хотела сказать, что, может быть, рисковать не стоит, но лицо режиссера было спокойно, как на съемках, когда все шло удачно.
Нилочка чувствовала себя уютно и в безопасности возле Леонида: он держал свою ладонь на ее запястье.
Леонида все настойчивее мучила мысль, что Степан был прав: ведь во время опасных переездов солдаты выходят из машин, оставляя за рулем одного водителя. Им начало овладевать глухое недовольство Нилочкой, которая своим укоризненным взглядом задала ненужный тон.
Нестор включил двигатель.
— Вот вам и исключительная ситуация, — сказал Леонид. — А вы…
— Это только ее начало, и никто еще ничего не знает, — сказала Адриана нарочито спокойно;
— Но мы могли бы ее избежать. — В голосе Леонида слышался нажим.
— Тогда бы мы разминулись с настоящим. Каждый с собою — настоящим.
— Это что — эксперимент?
— Не говорите глупостей, — отозвался Нестор. — Задний мост хорошо тянет, мы сейчас… Не торчать же нам тут до утра.
Машина ударилась задним буфером в отвесную скалу, передние колеса стали вровень с краем дороги, из-под них глухо покатились в пропасть камни. Все затаили дыхание, слышно было далекое журчание ручья внизу. Нестор оглянулся, изучая взглядом лица друзей, потом склонился над рулем.
— Это действительно неразумная затея, — сказал он сокрушенно.
— Так поставьте машину на прежнее место, — Степан выбрался из вязкой трясины отчуждения.
Его голос был властным, каждый теперь признал, что он был прав: ради чего?
— Поздно, Степан, — глухо ответил Нестор. — Теперь все равно, в какую сторону разворачиваться. Я виноват…
Смеркалось. Беловатая темнота была густая и глухая, ни один звук, даже журчание ручья, уже не пробивался сквозь мягкий войлок тумана.
— А чем не площадка? — через минуту сказал Нестор, пытаясь разорвать подавленное молчание. — Да еще какая! Только что некому снимать.
— А жаль! — бросила Адриана.
Леонид принял это как вызов. «Она надеется, что я испугаюсь. И за что только так не любит меня эта экстравагантная девица, я в тысячный раз продумываю все наши разговоры, столкновения, непонимание и недоразумения, и в своем поведении не нахожу ничего такого, что могло бы вызвать антипатию ко мне. Это просто не уживаются наши темпераменты, характеры, мы смотрим по-разному на одни и те же вещи: я — восторженно, она — скептически, это еще не грех — ни мой, ни ее, и все равно мне хочется теперь, чтобы она по-настоящему испугалась, чтобы она предстала перед нами такой, какой была до того, как выдумала самое себя.
— Конечно, жаль, — подчеркнуто иронично произнес Леонид, и Адриана тоже приняла это на свой счет.
Нестор сколько мог дал задний ход, машина прижалась к скале, даже скрежетнуло, дальше она не отойдет от пропасти ни на миллиметр. Белые пряди, медленно вытягивавшиеся и создававшие завихрения над провалом, несколько отдалились — Адриана ощутила, как стало легче на сердце, теперь она поняла, что боится.
— Скажите, Леонид, что в жизни настоящее, что подлинное? — спросила она с придыханием. — Мы сегодня уже начинали разговор на эту тему…
Леонид не откликнулся.
— Не знаете?
— Знаю. Настоящее — хлеб.
— Боже, как парадно. Он настоящий, пока его не съели. А непреходящее настоящее, постоянный контроль поступков, мышления, состояния…
— Так скажите, раз знаете.
— Страх — это настоящее.
— О! — обрадовался Леонид. — Я так и знал! Скептики всегда становятся первыми трусами.
— Подождите… Да, в это мгновение я почувствовала, что боюсь, но сразу же меня охватило еще более острое чувство — страх, что я могу испугаться — не только здесь, а вообще — и сделать что-нибудь недостойное. Я бы хотела, чтобы этот второй страх всегда был бы у меня настоящим.
— Не дай господи, чтобы такое чувство руководило поступками всех людей. Нравственность, порядочность, героизм — под кнутом унизительнейшего…
— Тогда объясните мне, что такое совесть. Разве это не кнут страха перед самим собой?
Нестор осторожно выруливал направо. Пять сантиметров вперед, пять назад, и уже — тупик, потом еще и еще… И дернул же меня черт… Нет, Адриана тут явно переборщила. Совесть — страж, а не страх. А может, «страж» и «страх» происходят от одного корня? Есть нечто общее между этими понятиями, но они далеко не одно и то же… Человеку же свойственно самое обыкновенное чувство страха, сомнения, нерешительности. И Леонид, конечно, не свободен от этого, он сейчас боится точно так же, как все мы, однако в творчестве такой пуританин. А сколько раз мы побеждали себя!
…Однажды весной в понедельник ранним утром я шел через лес в Коломыю, нес в сумке кукурузную лепешку и кусочек брынзы — еженедельный отцовский паек, долженствовавший придать мне сил учиться, потому что того постного супа, которым потчевала меня Перцовичева, не хватало даже на дорогу из Монаховки до гимназии — не то чтобы выдержать шесть уроков за филиппиками Катона и комментариями Цезаря о Галльской войне. Я шел и радовался, что вокруг весна, что мой отец хромой и его не заберут на работы в Германию, что мать еще сильная, а я учусь, хотя по свету ходит смерть. Эту смерть я видел, но издали, она еще не прикасалась ко мне… Я шел и насвистывал веселую коломыйку, потому что во мне крепкая юность, а в сумке перекатывалась из стороны в сторону кукурузная лепешка и упирался в спину тугой комок брынзы. И в этот момент юношеского ощущения радости бытия я споткнулся о мертвого. Его голова была заслонена кустом, а ноги вытянулись на лесную тропинку, я споткнулся об эти ноги, и панический страх, что здесь, на этом месте, убивают и меня тоже могут убить, толкнул меня в спину. Я бросился бежать, как сумасшедший, зеленые круги катились перед глазами, я бежал до крайнего изнеможения и лишь внизу, когда передо мной заголубела лента Прута, вспомнил: ночью трещали недалекие выстрелы, а отец шепотом говорил маме, что это немцы прочесывают лес в поисках ковпаковцев. Я остановился, и меня пронзил совсем другой страх: может, этот человек был еще жив, а я оставил его. Я подумал, что сказали бы о моем поступке отец, мать, сосед, учитель Страус, и тогда повернул обратно, добежал, припал к груди человека, лежавшего под кустом: теперь я уже не боялся ни мертвеца, ни самой смерти. Человек был еще теплым, я прижал ухо к его груди — сердце не билось, а кровь была совсем свежая… Может, Адриана права?.. А Леонид… Он сделал бы единственный вариант на эту гему: я несу полуживого партизана, тащу его, спасаю ему жизнь. Это тоже правдивый вариант. Но ведь художнику нельзя быть все время однозначным. Почему же не признаться, что был момент, когда совесть победила в тебе низменный страх?
Машина топталась на месте: рывок вперед — рывок назад, она уже стала наискосок дороги. На душе у Нестора полегчало: еще чуть-чуть — и развернется. И тут же мелькнула мысль и сразу обжег стыд, хоть это была мимолетная мысль: он на мгновение обрадовался, что машина уцелеет — такая новая, такая не-обкатанная…
Степан выглянул в окно, он решил, что опасность миновала, и, удобнее располагаясь на сиденье, проговорил:
— Настоящее — это состояние человека в момент опасности.
— А что вы чувствовали, когда увидели, что взрыв на скважине неизбежен? — спросила Адриана.
— То, что каждый почувствовал бы на моем месте, — страх. Симптомов катастрофы никто, кроме меня, не заметил, оставались считанные секунды, а все были на своих местах… Меня же бросило назад, я пятился и видел только одно: трубы скручиваются, как змеи, металл покрывается инеем, и я закричал. Вы знаете, я закричал с перепугу, хорошо, что не лишился голоса, — меня услышали все и успели отойти. Только Марко, этот олух, он не хуже меня знал все тонкости нашего дела, заметил мою растерянность и, видите ли, как солдат, берущий на себя командование в разгаре боя, взялся подменять меня, загорланил: «Все за гору!» Я примитивно матюкнулся, подбежал к нему, толкнул в грудь, давая ему понять, кто здесь начальник, — моментально сработала моя амбиция…
— Совесть, страх, — перебила Адриана.
— У меня такое впечатление, что вы уже дважды жили на свете, — недовольно поморщился Степан. — …И когда Марко все-таки исполнил мой приказ и я увидел всех своих на бугре, тогда я сам побежал, стараясь держать голову как можно ниже, спасся, как видите. Таково было мое состояние. Я вовсе не думал подбегать к задвижкам, как это у вас в сценарии…
— Мне начинает казаться, — пожал плечами Леонид, — что вы умышленно взялись избавить моих персонажей от способности к добрым поступкам. Я понимаю — есть человеческие слабости, но почему я должен копаться в низменном, пренебрегая тем большим, на которое способен, должен быть способен человек? Что это за тенденция — занижать человеческие возможности…
— Дорогой Леонид, — Нестор беспрестанно включал то переднюю, то заднюю скорость, терзая руль, — вам всем хочется возвеличить человека, но не с помощью котурнов, а проведя его через правду к правде. Жизнь так многозначна, ты же берешь только одно значение — положительный результат. А его надо доказать, вот сейчас, типун мне на язык, если что-нибудь… ты не станешь изрекать сентенций о жертвенности, ты схватишь жену за руку и…
— Оставьте, — охнула Нилочка.
Она боится, подумала Адриана. И я боюсь. Еще больше, я же вижу обрыв… И мне все время, как перед концом, вспоминается одно и то же, словно оно было самым важным в моей жизни. А это не так, далеко не так… Но почему — может, это и было самым ярким? Или самым болезненным?
…Два года он преследовал меня, выныривая передо мной то в городе, то в театре, иногда в троллейбусе, — один или со своим сыном; мне приятно было его видеть, разговаривать, но и только… Однако эти встречи стали потом привычными, и я заметила, что мне чего-то не хватает, когда долго не вижу его. Я стала раздражительной, все чаще и чаще у нас с мужем разгорались ссоры. И однажды случилось то, что должно было случиться… Нам казалось, что мы сбежали сами от себя, от своих будней, но этот день кончался, и надо было возвращаться домой. Я вспомнила, что в доме нет хлеба, он подумал о том же, мы вошли в магазин, и продавщица, не задумываясь, подала нам один хлеб на двоих. Мы не хотели ее разочаровывать, стояли молча и долго смотрели на этот хлеб, который нам никогда не доведется есть вместе. Магазин опустел, продавщица посмотрела на нас и поняла все. Она подошла, разрезала хлеб, и мы разошлись, не попрощавшись — грустные и подавленные. Что же было тогда истиной, что? Горячие поцелуи или этот хлеб, разрезанный пополам?
Машина внезапно качнулась. Из-под правого переднего колеса снова зашуршали камушки.
Нилочка не услышала этого тревожного сигнала. На ее запястье теплая и мягкая ладонь Леонида — это защищало ее от любой тревоги. Она пыталась думать о чем-нибудь, совсем не относящемся к путешествию.
Машина еще раз угрожающе качнулась. Нестор нагнулся вперед, под правым колесом, над самой пропастью сдвинулся, выворачиваясь из своего гнезда на дороге, большой камень. Нестор перестал рулить, замер.
Эту расщелину, еще неглубокую, увидела и Адриана. Странная ломящая боль охватила сначала ноги, потом спазмой сжала грудь, а мозг онемел от безнадежно-тоскливой мысли о таком бессмысленном и ничем не оправданном конце. Она нагнулась к Нестору, со всхлипом втянув в себя воздух. Степан, сидевший позади нее, мгновенно понял причину этого всхлипа. Он посмотрел в окно, тоже увидел расщелину и властно — так, наверное, он говорил с подчиненными в критических ситуациях — сказал:
— Все из машины, быстро! Ну ее к черту…
— Мы не можем оставить машину, — сдавленным голосом ответил Нестор. — Собственно, выйти можете вы и Адриана. Нам с Леонидом стоит только на килограмм уменьшить тяжесть…
— После нас выскакивайте вы — на ту сторону вместе.
— Нилочка не успеет.
Морось сгустилась, туман лениво кружил над пропастью. Адриана, между прочим, подумала, что святые в библейские времена ходили по таким местам пешком — это была дань ее скепсису, основная же мысль, очень трезвая и конкретная, была о том, что у нее есть возможность выйти из машины. А право? Раз есть возможность, то можно найти и право — Адриана уже однажды так поступила, это было, когда она решила, что настоящее для нее — не половинка хлеба, а поцелуи на траве… Она оставила мужа, чтобы не походить на ту половинку. Право быть цельной позволило ей тогда «выйти из машины»…
О н же этого не сделал…
Адриана нерешительно протянула руку к ручке дверцы. Она еще обдумывала свое право выйти, потом сразу нашла его: без нее станет легче правая сторона машины, наклонившаяся над пропастью, она должна выйти, чтобы другая сторона крепче осела на твердое: Адриана однажды уже так сделала, и той, второй половине, ее бывшему мужу, сейчас совсем неплохо, вероятно, даже и легче, она тогда поступила, как и надлежало, почему же этого не сделал он, не сделал и остался раздвоенным, как тот хлеб…
Нажала на ручку дверцы, и в то же мгновение мозг пронзила мысль, что она наверняка останется жива, а ге, что в машине, еще неизвестно, а может, именно это подумал и он, решив остаться вместе с теми, с кем был до сих пор, потому что не был уверен, что они осядут на твердь, побоялся, что спасется только он один? Чей поступок был мужественнее — его или ее?
Адриана бросила взгляд на товарищей: каждый теперь углубился в себя. Рука на ручке дверцы ослабла, потом опустилась.
Степан был спокоен, не шевелился. Его мозг упрямо работал, ища какое-то новое решение; на предложение Нестора выйти он не отреагировал и сам себе удивлялся: почему не реагировал? Почему тот страх, который овладел им тогда, на буровой, не мучает сейчас? Однажды лишь возник, чтобы дать возможность победить себя и подготовиться к подвигу? Да, это так. Пчела, пока получит возможность летать, должна пройти много стадий Много испытаний надо пройти прежде, чем получишь право и станешь способным летать а не ползать.
— Почему вы не выходите? Вам можно… — заговорила Нилочка.
— А может, я пересажу вас через мои колени и выброшу на дорогу? — улыбнулся Степан.
— Мой вес должен быть на стороне Леонида, мне нельзя..
— Но ведь тогда придвинусь к нему я.
— Нет, нет! Зачем мне быть там одной? Я останусь с Леонидом, с ним не страшно…
Нилочка почувствовала вдруг, что руке стало холодно: Леонид отнял свою ладонь. Нила поискала его руку, но тут ее обжег резкий голос мужа:
— Не будь такой нудно-сентиментальной, хотя бы на людях…
Она съежилась, замолчала. Но все же отыскала руку Леонида — теперь рука его дрожала, он весь дрожал. Чувство беззащитности охватило ее.
— А ты знаешь, Нестор, — Леонид пытался побороть волнение и говорить равнодушно, — это все-таки любопытная деталь: сын бежит домой, узнав о смерти отца, в душе отчаяние, а мысль вертится вокруг отцовской куртки.
— Интересно, почему тебе только теперь стало понятно это подленькое чувство… — раздраженно проговорил Нестор, у него самого только что мелькнула мысль о машине, но он вернулся тут же к людям, которых поставил лицом к лицу с опасностью, как тогда над Прутом возвращался к раненому партизану… «Все в свое время…» — уколола Адриана, и Нестору стало тоскливо, потому что он видел, что Леонид приближается к состоянию, которое он, Нестор, уже поборол. Он понял, что на него ложится ответственность не только за жизнь, но и за душевное состояние людей, сидевших в машине, нужно немедленно выходить из этой переделки. Теперь Нестор боялся только за них.
Он попробовал еще раз вывернуть руль влево, камень под правым колесом угрожающе покачнулся. Нестор заглушил мотор, вытер пот со лба.
— Я мог бы… — сказал он, — я мог бы сейчас сильно рвануть, если бы был уверен, что этот второй камень, который за этим, держится крепко. Если он стоит твердо, то мы проскочим… Адриана, а ну-ка выйди, взгляни.
Что ж, подумала Адриана, мне приказывают. Я не придумала для себя права выйти, мне велели… Ее рука снова потянулась к ручке дверцы, и если бы не это ощущение эгоистичного облегчения, может быть, и вышла; чувство это было слишком властным, оно вытеснило все остальное. Адриана увидела себя там, под скалой, одну — стоит одна, и больше никого нет, ведь это так страшно: были все — и нет никого! Ручка обожгла ей ладонь, она отдернула руку, закричала:
— Чего вы от меня хотите, чего, чего?!
Никто не понял этого крика. Нестор с яростью посмотрел на Адриану.
— У нее нервы сдали, у нее только язык крепкий… Выходите, Степан… Вы что, не слышите? — прикрикнул он.
— Мы с Адрианой сидим с правой стороны, вы забыли об этом, — ответил Степан. — И перейти на другую сторону не можем. Разве что по кузову.
— Так лезьте по кузову, черт вас возьми!
— Это еще опаснее.
Воцарилось долгое и тяжкое молчание. Нестор снял руки с руля и откинулся на спинку, Адриана подперла голову ладонью, Степан морщил лоб — он еще искал выход из положения, Нилочка гладила Леонида ладонью по запястью… Сеялась густая изморось. Каждый молча готовился ждать до утра и каждый думал о мороси, от которой до утра может размокнуть дорога, а машина уже висит одним колесом над пропастью…
От чьего-то глубокого вздоха машина чуть шевельнулась, подвинулась. Леонид выдернул свою руку из Нилиной ладони, ухватился за раму открытого окна, высунул голову, будто хотел выпрыгнуть в него. Нила замерла, ее рука так и повисла в воздухе: это заметила Адриана, но не успела она осознать все, как произошло нечто совсем неожиданное. Это было лучшей развязкой, единственным выходом, спасением — надо же было додуматься до этого!
Леонид рывком распахнул дверцу, нагнулся и, напрягшись и кряхтя, поднял на колени огромный камень — в другую, спокойную минуту вряд ли он смог бы сдвинуть его с места. Осторожно встал, сдвинул камень с колен на сиденье, подтащил к камню Нилочку. Она не поняла, что он задумал, только ощутила под ладонями вместо его дрожащей руки холодный, мокрый и грязный камень. Леонид снова выскочил из машины, подбежал к краю обрыва, опустился на колени, нагнулся и с надрывом закричал:
— Скала выпуклая! Камень не двигается!
Он повторил это несколько раз, голос его переполнял избыток радости, он размахивал руками, показывал куда ехать, командовал: «Левее, левее руль!», будто Нестор мог забыться и повернуть руль направо. Натужно заурчал мотор, машина рванулась с места и, выскакивая на твердую дорогу, задним колесом завалила надколотую кромку. Глухой рокот отозвался со дна глубокого провала.
— Ну, все… — хрипло проговорил Нестор. Сбросив пиджак, ощупал себя: сорочка была мокрая.
Леонид, довольный своей находчивостью, возился возле сиденья, с трудом сбросил с него камень, заботливо вытер носовым платком грязь и, садясь, обнял за плечи Нилочку.
— Испугалась немножко… Бедная ты моя!.. Едем, Нестор, нас ждут. Газуй!
— Как он только додумался до этого, — пробурчал Нестор, включая скорость.
— Хе, — взмахнул рукой Леонид. — Мне почему-то вспомнился анекдот с бородой… В поезде один выдумщик подошел к стоп-крану и долго возился, делая вид, что не может повернуть рычаг. Простачок смотрел, смотрел на него, потом отстранил выдумщика и показал ему, как это делают. Поезд остановился, простачку пришлось заплатить штраф. Тогда выдумщик сказал, сперва показав на бицепсы, а потом на лоб: «Коллега, надо иметь не только тут, но и тут!»
Леонид посмотрел на друзей и замолчал. Понял, что анекдот сейчас некстати, люди еще не расслабились, только потом они оценят и ситуацию, в которую попали, и его поступок. Он положил ладонь на Нилино запястье, но она высвободила руку.
— Ты такой холодный…
— А как же иначе… Камень мокрый, в грязи…
— Камень? — переспросила Нилочка.
Машина тем временем выехала на асфальт и помчалась сквозь поредевший туман к перевалу.
Нестор размышлял над уже отснятыми сценами и над теми, которые еще предстояло отснять. А если бы тут стояли операторы и снимали? Все равно ничего бы не схватили: мы были за стеной тумана. Им удалось бы заснять только однозначный результат. Только само происшествие… Нет, это фальшиво. В новом сценарии надо вывести героев из тумана. И пусть мальчик берет в камере для заложников песню Гарматия, пусть спасает партизана, но перед этим должен одержать победу над своим страхом. Кто напишет такой сценарий?.. Только тот, кто имеет на это право!
Степан дремал и в полусне думал о том, что исключительных ситуаций нет вообще. Есть жизнь, в которой человек постоянно проявляет свою силу и свои слабости. Что же такое настоящее, подлинное? Вероятно, мужество побеждать безволие?
Адриана думала о человеке, который когда-то не мог оставить близких в одиночестве над пропастью. Взвешивала все и не могла решить — трусость это или мужество?
Леониду представлялась сцена: пятеро над пропастью, и спасает всех он один.
— Даже подумать страшно, что мы все сегодня могли… — сказал он, складывая губы в трубочку. Все…
Никто не ответил ему. А когда въехали на перевал и силуэт хижины проступил из-за тумана, Адриана пробормотала нечто совершенно неуместное:
— Кроме одного. Кроме одного…
Никто не отреагировал на ее слова. Все они были друзьями, и все в конце концов привыкли к ее экстравагантности…
Над смыслом ее слов задумался, может, только один Нестор; он анализировал теперь поведение каждого и свое собственное, но не осуждал никого, не давал себе такого права… И вообще, можно ли написать абсолютно точный сценарий? В людях и ситуациях столько Сложного и неожиданного, что никак невозможно пройти по дорогам жизни и искусства заранее обдуманными ходами.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ