ЧАСТЬ V. Мировое равновесие (1500—1750 годы)
Глава 16. Колумбов мир
Вечером 11 октября 1492 года Кристофор Колумб, генуэзец из старинной купеческой семьи, находясь на борту своей каравеллы «Санта Мария», в западной Атлантике, увидел впереди на расстоянии свет — или ему так показалось. Несколькими часами позже Родриго де Триана, впередсмотрящий «Пинты», заметил вдали землю, а уже 12 октября часть экипажа сошла на берег. Они попали в район Больших Антильских островов в Карибском море, но полагали, что находятся в Азии. Колумб до конца своих дней верил, что достиг восточного побережья Евразии.
Эти люди не были первыми европейцами, достигшими Америки — на пятьсот лет раньше там побывали викинги и основали поселения, недолго просуществовавшие. Но именно плаванию Колумба, которое во многих отношениях было не более чем продвижением на запад с базы на Азорах, основанной в XV столетии, было суждено оказать огромное воздействие на мировую историю. Длительной изоляции Америк пришел конец, и они мало-помалу включились в тот круг отношений, который был создан в Евразии за предыдущее тысячелетие.
На Евразию, а особенно Европу, открытие новых народов, идей, цивилизаций и сельскохозяйственных культур подействовало весьма значительно, однако Америки испытали сильнейшее потрясение. Условия, на которых обе Америки вышли на мировую арену, были продиктованы европейцами.
16.1. Подъем Европы
«Открытие» Америк коренным образом изменило положение Европы, которая до того, по сути, была окраинным регионом Евразии. У европейцев появилась возможность создать коммерческую систему в Атлантике и извлечь из нее большие доходы, достигнув могущества. На протяжении последующих трех столетий они неуклонно изменяли ситуацию и к XIX столетию смогли добиться доминирующего положения в мире. Отношение европейцев к собственным открытиям (уже продемонстрированное на островах Атлантики ранее, в XV столетии), сильно отличалось от того, как относились китайцы к тому, что они видели, плавая по Индийскому океану примерно столетием ранее. Колумб заметил, описывая племя араваков, встреченное им: «Они приглашают нас, делятся всем, что имеют, и высказывают такую приязнь, как будто мы совсем покорили их сердца... Этих людей легко будет обратить [в истинную веру] — заставить их работать на нас».
В 1492—1506 годах Колумб совершил четыре плавания через Атлантику; пользуясь услугами местных уроженцев, он исследовал на своих кораблях Вест-Индию, центральноамериканское побережье и северную часть южно-американского. Первое поселение, Изабелла, было основано на острове Эспаньола (Гаити) в 1494 году. За Колумбом последовали другие мореплаватели. В июне 1497 года Джон Кабот отплыл из Бристоля на поиски Азии, но вместо того попал на Ньюфаундленд, а на следующий год проплыл вдоль берега до Делавэра. В 1497 году Америго Веспуччи (в честь которого был назван континент) обогнул южное побережье Северной Америки.
В начале 1498 года португалец Васко да Гама обошел мыс Доброй Надежды и проплыл до восточного побережья Африки. В порту Малинди он встретился со шкипером-мусульманином из Индии, Ахмедом ибн Маджидом, у которого на руках были карты Индийского океана, сложные навигационные приборы (те, что показал ему да Гама, вызвали у него смех), а также глубокие знания о плавании в этом регионе. Он согласился провести португальца по проторенному торговому пути до порта Каликут, куда они и прибыл» 18 мая 1498 года.
Так европеец впервые напрямую столкнулся с фактом существования давних морских путей, ведущих к далеким богатым странам Евразии; но утвердиться на них было намного труднее, чем на неразведанных просторах Атлантики. Европе понадобилось более двух веков, чтобы освоить весь остальной мир, но ведь до того установить связь между всеми океанами мира не удавалось никому. В 1519—1522 годах маленькая флотилия под командованием Фернандо Магеллана осуществила первое кругосветное путешествие, хотя сам мореплаватель его не завершил, — погиб от руки безызвестного жителя Филиппин. Первое успешное пересечение Тихого океана с запада на восток европейцы совершили в 1565 году. В XVII столетии голландцы научились использовать западные ветры «ревущих сороковых», дабы, избегая области муссонов Индийского океана, плыть напрямую из южной Африки к островам на юго-востоке Азии. Случайная ошибка привела мореплавателей на западное побережье Австралии. Однако лишь в середине XVIII столетия, после путешествий Джеймса Кука, европейцы узнали о восточном побережье Австралии, про Новую Зеландию и Полинезию.
В целом влияние Европы на весь остальной мир на протяжении двухсот пятидесяти лет от 1500 года сказывалось медленно и ограниченно. К 1750 году европейцы контролировали восточное побережье Северной Америки, большую часть Центральной и Южной Америки, несколько фортов и торговых факторий на африканском побережье, плюс незначительное поселение на мысе Доброй Надежды, горсточку фортов и торговых факторий в бассейне Индийского океана, и ряд островов на юго-востоке Азии. Параллельно с этим Россия в ходе сибирской экспансии вышла к побережью Тихого океана. Великие империи и державы Евразии, в частности Китай, Япония, Индия, Иран, и Оттоманская империя[56], созданные на основе издавна сложившихся традиций и веками накопленных богатств, в период между 1500 и 1750 годами остались вне сферы экспансивных интересов Европы.
Их историческое развитие продолжалось в соответствии с собственной динамикой и расстановкой внутренних сил. А вот в Америке влияние Европы было огромным и катастрофическим. Здесь европейцы столкнулись с народами, которые находились на уровне развития, приблизительно соответствующем Месопотамии и Египту около 2000 года до н.э. Такая ситуация обуславливалась поздним заселением континента по окончании последнего ледникового периода и запоздалым развитием сельского хозяйства. У коренных жителей не было даже металлического оружия, при помощи которого они могли бы отразить натиск примитивного огнестрельного оружия европейцев. У них не было лошадей и, соответственно, кавалерии. Еще существеннее то, что у них не было иммунитета к болезням, которые сопутствовали европейцам. При таких обстоятельствах беспощадность и жестокость европейцев служили только дополнительным фактором их успеха.
Спустя четыреста лет после первых путешествий в Америку Европа стала доминирующим регионом мира. Европейцы неоднократно пытались сами найти объяснение своим успехам. Идеи расового превосходства, особого беспокойного и пытливого европейского характера или божественного руководства в настоящее время вышли из моды, и их пытаются порой заменить понятием «европейского чуда», каким-то образом наделившим уникальными привилегиями именно эту часть мира. Все объяснения строятся на основе, которую считают особым европейским наследием: внутренние географические преимущества, наличие ряда небольших государств вместо одной большой империи, особый тип семейных отношений, частная собственность, свободный рынок контрактов, накопление богатств, зарождение капитализма и рациональный научный ум. На практике, как показали предыдущие главы, в 1492 году Европа мало чем отличалась от остальной Евразии, разве что своей относительной отсталостью. Европейская агротехника оставалась малопродуктивной, торговля, ремесло и уровень благосостояния были намного ниже, чем в остальной Евразии. Свободный рынок, законодательно обеспечиваемые контракты, частная собственность и накопление значительных богатств в руках купцов были к этому времени совершенно обычным делом в Китае уже более тысячи лет, да и в других регионах Евразии также не были редкостью. Европейские торговые города не представляли собою уникального явления — аналогичные независимые образования были рассеяны также по всей Евразии и зачастую были намного более космополитичны. Европа никак не могла претендовать на звание технологически креативной области Евразии, если не считать создания вертикальной ветряной мельницы и механических часов. Главное, что происходило в данной отрасли в период после 1000 года н.э., — это усвоение технических достижений, разработанных в других местах, особенно в Китае — чугун, бумага, книгопечатание и порох. Не имела Европа также преимуществ в технике мореплавания. И в этой отрасли она усваивала изобретения китайцев (кормовой руль и компас) и арабов (треугольный парус), однако и при этом корабли были все еще размером всего в одну четверть китайской джонки для океанских плаваний. Мореходы исламского мира, Индии и Китая проделывали столь же дальние переходы, как и европейцы, и часто с намного большей эффективностью. Хотя западной Европе посчастливилось избежать сокрушительных монгольских нашествий, она все еще была далеко не так зажиточна, как остальные регионы Евразии. Это не удивительно, потому что еще в 1000-м году она была периферийным, окраинным регионом континента, с малочисленным населением, неразвитым сельским хозяйством, редкими городами, слабой торговлей и отсталым политическим строем. За следующие пятьсот лет Европа заметно выросла, но ей еще предстояло пройти длинный путь. Единственным существенным преимуществом Европы было ее географическое положение. Находясь на дальнем западном краю Евразии, этот регион получил возможность достигнуть Америки, обнаружив там общество, стоящее на значительно более низком уровне развития. Именно богатства, награбленные в обеих Америках, — сперва золото и серебро, затем плоды рабского труда на плантациях — позволили Европе нагнать остальные регионы Евразии. Затем западная Европа при помощи этих богатств купила себе путь к азиатским рынкам и обеспечила себе прочие преимущества. Примерно к 1750 году Европа находилась уже почти на том же уровне финансов и развития, что и вся остальная Евразия, и была в состоянии начать утверждаться за счет более древних сообществ, в частности Индии, и развивать другие, малозаселенные регионы мира — северную и южную Америку, Австралию и Новую Зеландию. В тот же период произошел решительный отход от аграрных и торговых систем, прежде доминировавших в истории Евразии. Именно этот переворот не сумели совершить китайцы на шестьсот лет раньше во времена династии Сун. В масштабах Евразии подъем Европы можно расценивать как еще одно проявление общеисторического феномена — внезапного нападения периферийного сообщества на богатые и устойчивые сообщества, причинившего значительный, но кратковременный ущерб. Часть сообществ Евразии пала под этим напором, но другие сумели найти способы, как это бывало и в прошлом, приспособиться к новой ситуации, впитать новые элементы и создать новое, синтетическое целое.
16.2. Колумбов мир: болезни
[О заболеваниях в предыдущие периоды см. 10.1 и 15.1]
Как мы видели, экстенсивные контакты (первоначально — преимущественно торговые связи) в пределах Евразии способствовали распространению болезней на всем континенте. Поначалу заболевания отличались ужасающей вирулентностью, как, например, во время тяжелых эпидемий между 200 и 700 годами н.э. или «Черного мора». Однако постепенно люди приобрели некоторую степень иммунитета, и болезни стали эндемичными и несколько менее опасными. Народы обеих Америк находились в совершенно другом положении. Все данные свидетельствуют о том, что к 1500 году они были намного здоровее в целом, чем европейцы. В связи с отсутствием одомашненных животных (основного источника человеческих болезней) они избежали заболеваний, сопровождающих переход к земледелию. Несомненно одно — они никогда не страдали от болезней, свойственных Евразии, и не имели к ним иммунитета. Потому само по себе появление европейцев было событием катастрофическим. Решающим оказался не технический перевес, а мощное, хотя и не намеренно примененное, оружие заболеваний. Европейцы не пришли в пустующие земли, чтобы колонизовать Америку, но на протяжении столетия они превратили континент в пустыню.
Первой болезнью, поразившей Америку, стала оспа, вспыхнувшая на Антильских островах в 1519 году. То, что она не проявилась ранее, сразу после путешествий Колумба, это чистая случайность — путешествие ведь было длительным, и на кораблях не оказалось носителей болезни. Теперь эпидемия распространилась сперва на Юкатан, а затем сыграла решающую роль при захвате ацтекской столицы Теночтитлан Эрнандо Кортесом с его горсткой солдат. Они ворвались в столицу, но были отброшены и вынуждены отойти в Тлакскалу, чтобы перегруппироваться. В это время в Теночтитлане уже два месяца бушевала эпидемия. Погибло огромное количество жителей, в том числе и многие ацтекские вожди, включая Читлахуака, который принял власть после смерти Моктецумы[57] и пытался организовать сопротивление захватчикам. Однако ацтекское сообщество было полностью деморализовано и сопротивляться возобновившимся атакам испанцев уже не могло.
В Перу оспа тоже появилась раньше Писарро и его шайки авантюристов и принялась опустошать земли инков, уже основательно пострадавшие от гражданской войны между правителями страны. Хотя противник ацтеков и инков и обладал техническим превосходством, на стороне местных жителей была многочисленность, и они вполне могли устоять хотя бы перед первым напором горстки европейцев, если бы не болезнь. Эпидемия привела к серьезным нарушениям в функционировании общества: мертвых было так много, что уцелевшие не успевали их хоронить, и тела истлевали прямо на улицах. Почти каждая семья понесла потери, а выздоровевшие были либо обезображены оспой, либо ослепли. Более того, пришельцы, по всей видимости невосприимчивые к жуткой болезни, начинали казаться существами высшего порядка, полубогами. Потому и неудивительно, что местные жители не могли оказать эффективного сопротивления. Однако туземное население американских континентов поражала не только оспа. Ее воздействие было усилено корью в 1530—1531 годах, затем тифом в 1546 году (он и в Европе еще был относительной новинкой, впервые проявившись в 1490-е годы). Другие болезни прибыли в Америку из Африки, вероятно, с рабами, которых привезли европейцы. Малярия стала эндемичной в районе Амазонки к 1650-м годам, а желтая лихорадка появилась на Юкатане и Кубе в 1648 году, куда ее переносчик, особый вид комара Aedes aegypti, прибыл в корабельных бочках с водой.
Определение общего воздействия болезней, завезенных европейцами в Америку, зависит от того, как оценивать численность ее населения на 1500 год, а эти оценки весьма спорны. (Цифры, считающиеся бесспорными, имеются лишь для периода примерно спустя сто лет после завоевания.) В начале двадцатого столетия оценки обычно были довольно низкими, поскольку ни европейские, ни американские ученые не верили, что коренные американцы могли создать сложные общественные структуры, а кроме того, им хотелось приуменьшить масштаб разрушений. Однако и слишком высокие оценки, данные несколько десятилетий назад, в настоящее время признаны неверными. Тем не менее, согласно общему мнению специалистов, гибельный эффект был ужасен. Население центральной Мексики (собственно, территория ацтекской империи) насчитывало к 1500 году около 20 миллионов. Это примерно четверть всего населения Европы, вдвое больше чем в Италии и в четыре раза больше населения Британии. Спустя сто лет в том же регионе население составляло чуть больше миллиона. В области Анд (империя инков) население уменьшилось с 11 миллионов в 1500 году до менее миллиона к 1600 году. Туземное население Карибского бассейна, которое составляло, вероятно, около 6 миллионов в 1500 году, вымерло почти полностью. Практически все эти потери были причинены болезнями, хотя порабощение и тяжелый труд на рудниках и плантациях позднее, в XVI столетии, также сыграли свою роль. Общее население обеих Америк к 1500 году, вероятно, составляло около 70 миллионов из примерно 425 миллионного населения мира, но к 1600 году соотношение было около 8 миллионов к 545 (в середине XVI столетия население Америк, видимо, достигло минимума — около 4 миллионов). Хотя кажется невероятным подобное сокращение населения почти на 90 процентов, оно согласуется с имеющимися данными о влиянии инфекционных заболеваний на группы людей, не имеющих возможности им сопротивляться. Сколько же умерло в действительности? Оценки затруднительны, хотя наиболее вероятно, что общая численность туземных жителей была не намного менее 100 миллионов. Смертность в таких масштабах — беспрецедентная во всей истории человечества; а немногие выжившие испытали огромное культурное потрясение, поскольку их образ жизни погиб вместе с соплеменниками, а все, что уцелело, было разрушено европейскими захватчиками.
Впрочем, обмен болезнями между континентами был отнюдь не односторонним. Первая вспышка сифилиса в Европе может быть точно датирована, что редко случается, началом 1490 годов. Первые случаи были отмечены, видимо, в Барселоне в 1493 году, а затем армии, перемещавшиеся по континенту, распространили болезнь, как и многие другие ранее. В 1494 году Карл VIII Французский вторгся в Италию, претендуя на трон Неаполитанского королевства, и его солдаты принесли инфекцию с собой. Вторжение провалилось, Карл вернулся во Францию, а распущенная по окончании военных действий армия разнесла напасть еще шире. Она достигла Англии и Нидерландов в 1496 году, Венгрии и России в 1499 году. К этому времени болезнь уже отправилась в путешествие по торговым путям Евразии в направлении, обратном ходу бубонной чумы («Черной Смерти») в 1330—1340-е годы. Скорость распространения нового недуга показывает, насколько более интегрированной стала Евразия. К 1498 году сифилис пожаловал в Египет и Индию, а к 1505 году явился в Кантон и проник в Японию. В каждой стране его воспринимали как «иноземную заразу», и по названиям можно проследить пути распространения. Для англичан и итальянцев это была «французская хвороба». Французы называли ее «неаполитанской», поляки — «немецкой». Индийцы считали ее «болезнью франков», для китайцев она стала «язвой из Кантона», по имени порта, через который она прибыла в страну. Японцы использовали два названия: «болезнь Тян» и «португальский недуг».
В связи с этим важно установить, действительно ли болезнь была занесена моряками, сопровождавшими Колумба. Современники были абсолютно убеждены, что именно с ними болезнь прибыла в Европу. Это мнение подкрепляется тем фактом, что по всей Евразии не найдено ни одного бесспорного описания сифилиса до начала 1490-х годов. Имеются также признаки сифилитических поражений на костных останках жителей доколумбовой Америки. Кроме того, о новизне сифилиса в 1490-е годах свидетельствует, без сомнения, его чрезвычайная вирулентность — население Америки от него так не страдало, поскольку местные жители, подобно европейцам в отношении оспы и кори, успели со временем приобрести достаточно крепкий иммунитет. Выдвигается альтернативное предположение, что сифилис представляет собою модификацию родственного ему тропического заболевания фрамбезии (известного как беджель в Юго-Восточной Азии), также относящегося к виду трепонематозных инфекций. Но в таком случае приходится предположить, что характер фрамбезии внезапно резко изменился около 1490 года, приобретя не только возможность передаваться половым путем, но и сильнейшую вирулентность. Тогда эту модификацию следует считать лишь случайно совпавшей по времени с плаваниями Колумба. Однако представляется намного более вероятным, что сифилис стал той ценой, которую вся Евразия вынуждена была заплатить за открытие европейцами Америки. (Возможно даже, что фрамбезия и все прочие трепонематозные заболевания также прибыли из Америки и распространились в тропиках — жители Шри Ланки, например, твердо уверены, что подхватили фрамбезию[58] от европейцев.)
Первоначальный период распространения сифилиса в начале XVI столетия произвел ужасающий эффект среди населения, не имевшего средств защиты от новой вирулентной инфекции. К 1540-м годам тяжесть симптомов несколько уменьшилась, возбудитель сделался эндемичным; к XVII столетию он все еще оставался опасным, но не производил разрушительных поражений. Однако вплоть до двадцатого столетия надежных средств против болезни не существовало. Имелись два популярных способа лечения. Первый, с применением ртути, заметно замедлял развитие болезни, однако применение ртути в любых количествах отравляло организм. Второе средство изготовляли из гуаякового дерева, произрастающего в Вест-Индии. Оно не было ядовито, как ртуть, но уже к 1530-м годам было признано неэффективным. Тем не менее, при отсутствии лучших средств, гуаяка оставалась в списке британской фармакопеи одобренных лекарств вплоть до 1932 года.
16.3. Колумбов мир: животные и растения
[О культивируемых растениях в предыдущие периоды см. 12.1.1]
Экономическое, социальное и политическое развитие Евразии и обеих Америк проходило обособленно, население страдало от разного набора болезней. Кроме того, разделение континентов за миллионы лет до того привело к абсолютному различию в наборе животных и растений, имеющихся в распоряжении ранних человеческих сообществ для одомашнивания. В Америке, за исключением ламы и альпаки, обитающих в Андах, не было животных, пригодных для вспахивания земли, перевозки товаров и людей. Одомашненные растения также были уникальны.
Возникновение исламского мира в седьмом столетии привело к началу первого широкого обмена культурными растениями в пределах Евразии. Колумбовы открытия после 1500 года инициировали второй этап обмена растениями и животными, притом еще более широкого, — теперь уже в мировых масштабах. Этот процесс оказал глубокое воздействие на весь мир, расширив диапазон выращиваемых культур, спровоцировав освоение новых земель и увеличив продуктивность уже распаханных площадей. Процесс распространения и внедрения новых растений и животных занял несколько веков, но имел долгосрочный эффект — примерно с 1700 года начался беспрецедентный рост населения в масштабах земного шара. (Тот же процесс привел и к возникновению так называемых «традиционных кухонь». Например, два основных блюда итальянской кухни — макароны и томатный соус — были заимствованы в течение последних шестьсот лет, первое из мусульманского мира, второе — из Америки. Индийская кухня также получила перец-чили из Америки.)
Первые животные были привезены в Америку во время второго путешествия Колумба в 1493 году. Он доставил туда почти полный комплект европейских домашних животных: лошадей, собак, свиней, коров, кур, овец и коз. Максимальное впечатление произвела лошадь. Коренные американцы никогда не видели животного таких размеров, не говоря уж о вооруженных всадниках, и эффект, естественно, был устрашающим. Соответственно, лошади, а также мулы, стали основой хозяйства испанского колониального общества. В качестве главного средства передвижения они восполнили недостаток доколумбового общества — отсутствие вьючных животных для перевозки грузов в условиях полного бездорожья. Во многих областях эти животные стали неотъемлемой частью экономики, в частности, скотоводства на равнинах южной Америки, которое было бы невозможно без лошадей, позволяющих присматривать за стадами. Лошади очень быстро одичали — на севере сразу же после того, как их стали выращивать на тучных пастбищах мексиканского плоскогорья, а на юге — когда они проникли в пампасы из Перу через Анды. Обширные табуны лошадей паслись там еще до того, как сами испанцы добрались до Буэнос-Айреса в 1580-е годы. На севере животные распространились до Великих равнин северной Америки и изменили образ жизни многих туземных американских племен, поскольку ряд из них освоил верховую езду, что позволило держать обширные стада бизонов. Благодаря наличию лошадей у туземных племен появилась возможность более эффективного противостояния европейцам, и они по-новому начали воевать друг с другом.
Скотоводство быстро стало одной из основных отраслей экономики испанской Америки и опорой колониальной экспансии на просторах американских степей. К 1587 году из Мексики в Испанию вывозилось ежегодно более 100 000 бычьих кож. Наличие быков также позволило впервые в истории Америки применить плуг — американские аборигены, не имея тягловых животных, вынуждены были в вопросах обработки земли оставаться на уровне палки-копалки. Овцы и козы адаптировались дольше, и только в 1580-е годы, после того как их развели на мексиканском плоскогорье, численность поголовья стала резко возрастать. Европейские животные впервые в Америке принялись превращать траву в мясо, молоко и шерсть (последние два продукта были абсолютной новинкой для народов центральной Америки).
Области, завоеванные европейцами в первую очередь, оказались непригодны для европейских злаков, и привозные растения, за исключением нескольких сортов овощей, не прижились на субтропических островах Карибского моря. Первым удачным опытом стали бананы, завезенные в 1516 году с Канарских островов (а получили их европейцы от исламского мира). Сахарный тростник начали впервые выращивать в значительных масштабах с 1530-х годов на Эспаньоле. Европейские злаки, приспособленные к умеренному климату, пригодились лишь после того, как было завоевано мексиканское нагорье и затем Перу; до тех пор основным злаком оставался маис. Виноградная лоза неважно росла в Мексике, и достигнуть товарного уровня производства вина на американской земле не удавалось, пока лоза не была высажена в 1550-е годы в Перу и позднее в Чили. Оливы были акклиматизированы в Перу и Чили еще спустя десять лет. К концу XVI столетия все основные европейские пищевые растения и животные уже культивировались и размножались в обеих Америках.
Еще большее значение, нежели внедрение европейских видов и сортов в Америке, имело движение в обратном направлении. Новинки не задержались в Западной Европе, быстро распространившись по всей Евразии и Африке. (Животные Америки, за исключением индюка, не сыграли особой роли.) Растения можно условно разделить на две основных категории — одни стали столпами мировой агротехники, такие как маис, картофель, батат, бобы и маниок[59], другие представляли собой полезные добавки к питанию: томаты, стручковый перец, тыква, кабачки, папайя, авокадо и ананас.
Важнейшей из этих культур стал маис (кукуруза), ныне один из двух основных злаков мира. Поначалу он распространялся вне Европы — к 1550 году этот злак культивировали в западной Африке, к 1574 году — в Месопотамии, а к самому концу XVI столетия — в Китае. К этому времени его уже выращивали также в Египте и странах Леванта. В Европе маис прижился сравнительно поздно, поскольку в XVI и XVII веках климат отличался суровостью, и количество областей, где его можно было бы культивировать, резко сократилось. Первые попытки были сделаны на юге (в XVI столетии его, возможно, в ограниченных количествах выращивали в Португалии), но в промышленных масштабах выращивание кукурузы в Европе началось лишь в XIX столетии. Из всех американских культур наибольшее воздействие на европейскую жизнь оказал картофель, хотя до конца XVIII столетия он был распространен в основном в Ирландии и Германии. Картофель считали пищей для бедняков, но он и на самом деле позволял крестьянам выживать, принося урожаи в подходящих для него климатических условиях, даже на маленьких земельных наделах. В Ирландии примерно полутора акров картофеля, с добавлением в рацион некоторого количества молока, было достаточно, чтобы семья могла прожить год. Население острова возросло с 3,2 миллионов в 1754 году до 8,2 миллионов девяносто лет спустя, несмотря на то, что около 2 миллионов эмигрировали. Однако слишком сильная зависимость от этой единственной культуры привела к катастрофе в середине 1840-х годов, когда картофель был поражен болезнью и в Европе разразился голод.
Из регионов Евразии быстрее и активнее всего прижились американские растения в Китае. К середине XVI столетия там уже широко выращивали бобы, маис и батат. Последний был особенно важен, поскольку его можно было выращивать на землях, непригодных для других культур. Одновременно с этим маис быстро стал основой сельского хозяйства в горных районах на юго-западе Китая, а позже и в северном Китае. В Китае маис входил в рацион людей, в то время как Европе его выращивали на фураж. Именно благодаря внедрению американских культур Китай к XVIII столетию стал регионом с наибольшей во всем мире скоростью прироста населения, и структура зерновых культур там изменилась: в начале XVII столетия рис составлял около 70% производимых в Китае продуктов питания, а к двадцатому веку эта цифра сократилась более чем вдвое. Япония заимствовала батат из Китая в конце XVII столетия, но картофель начали выращивать там еще раньше, чем в Китае, в начале того же столетия. В Африке, помимо маиса, из американских культур наибольшее значение приобрела маниока (а также продукт переработки — тапиока), которую привезли в Конго и Анголу португальцы в середине XVI столетия.
Еще двум американским культурам предстояло оказать значительное влияние на мировую историю. Первая из них — какао, — высоко ценилась в доколумбово время, бобы какао даже использовали в качестве валюты. В Европе какао внедрялось медленно, и шоколадный напиток не входил в моду в течение нескольких веков. Вторая — табак. Европейцы переняли обычай курения от американских аборигенов, и это было одно из первых заимствований, так что к началу XVII столетия табак широко распространился по Европе. Табак стал важнейшей культурой в северной Америке, и к XIX столетию этот регион стал центром производства и продажи табака в мире. Только к середине двадцатого столетия была осознана степень вреда от регулярного потребления никотина, производство которого было так выгодно промышленности, однако к этому времени значительная часть населения мира уже привыкла употреблять это наркотическое вещество.
Глава 17. Ранний этап развития мировой экономики: Атлантический и Индийский океаны
Между 1500 и 1750 годами отношения Европы с остальным миром определялись обстановкой в двух весьма различных океанических бассейнах — Атлантическом и Индийском. В первом европейцы нашли технологически более отсталые сообщества, потерпевшие сокрушительный урон от занесенных из Евразии болезней, где европейцам удалось относительно быстро укрепить свою власть и создать такое общество и такую экономику, из которых извлекали выгоду фактически только они сами. Америка стала важным источником богатства, за счет которого начала преображаться западная Европа. В Индийском же океане европейцы столкнулись с государствами, столь же (если не более) развитыми, как они, и намного более богатыми. Экономика, общественное устройство и политические системы этой части мира основывались на древних и устойчивых основаниях, и существенно повлиять на них европейцы не могли. Сама по себе структура европейской торговли с этой частью мира показывает, что для континента Европа все еще оставалась достаточно отсталым регионом. Ключевым моментом для нее стало соединение путей обоих океанов. И вот именно богатство, извлеченное европейцами из Атлантического региона, позволило им проникнуть в регион Индийского океана и приступить к укреплению там своих позиций. Влияние Европы начало заметно сказываться на дела Евразии только после 1750 года.
17.1. Ранняя Испанская империя
Открытие «Нового света», о котором сообщил Колумб по возвращении из Карибского моря, немедленно поставило важнейший вопрос о том, какой политики следует придерживаться на новых землях. Как следует обращаться с тамошними народами? Какими правами наделить «открывателей»? Если эти области предстояло завоевывать, то какую цель при этом преследовать? Отвечая на эти вопросы, испанские власти и церковники, совместно выработавшие первые решения, опирались на традиции, сложившиеся в Испании и остальной Европе за предыдущие века. В королевствах, первыми приступивших к колонизации Америки (Испания и Португалия), давно уже укоренились традиции религиозной нетерпимости, преследований, территориальной экспансии и уничтожения «неверных» и «язычников». Церковь поддерживала такое настроение, находя в священных писаниях оправдание завоевателям — от аборигенов потребуют покориться (поймут ли они, чего от них хотят, было несущественно), если же они не подчинятся, тогда их можно на законных основаниях уничтожать или порабощать. Подобные оправдания были весьма схожи с принципом «священной войны», которую эти королевства, по их глубокому убеждению, вели против ислама на протяжении предыдущих веков реконкисты.
По территории Испании в XV столетии прокатилась волна антимусульманских и анти-еврейских настроений (затронувшая и обращенных в христианство), породившая соответствующее законодательство. В 1449 году чистота христианской крови была принята обязательным условием получения официальных должностей, а с 1480 года «conversos» (принявшие христианство) стали объектами пристального внимания инквизиции. Около 2000 человек были сожжены, а остальные (около 100 000) подверглись штрафам, тюремному заключению или изгнанию. (Окончательное изгнание всех морисков и конверсов[60] состоялось в 1608—1612 годы.) Принимались неоднократные попытки добиться полной конформности общества. Отказ конверса или мориска есть свинину считался достаточным свидетельством отпадения от христианства, так же как и отказ от кастильского наречия или ношение ярких цветных одежд, или даже привычка к частому мытью. В 1492 году, когда Колумб достиг Карибского моря, все евреи были изгнаны из Испании. Потому евреи, мавры, иноземцы и еретики не принимали участия в новых испанских завоеваниях в Америке; только чистокровным подданным Кастилии позволялось приезжать, селиться и разрабатывать новые земли (не допускались даже жители других испанских королевств)[61].
С самого начала было решено, что американских аборигенов можно на законных основаниях заставлять работать на завоевателей, а их обычаи и верования можно уничтожать во имя христианских истин. Таким образом, политика церкви и государства обеспечивала удобное оправдание действиям, направленным на извлечение максимальной выгоды из новых завоеваний, вне зависимости от последствий.
17.1.1. Экспансия
[Мексика и Перу в предыдущие периоды см. 5.4 и 5.6]
Первое испанское поселение было основано на Эспаньоле в 1494 году и стало частью заселенного и относительно развитого мира. Только на самом острове Эспаньола жило около 4 миллионов человек из племени араваков, проживающих также на Ямайке и Пуэрто-Рико, где на основе продуктивной субтропической агротехники возникли небольшие государства. После Мексики и Перу эта область была одной из самых развитых в Америке. Спустя пятнадцать лет в живых осталось менее 100 000 туземцев. Их погубили болезни и подневольный труд. На протяжении десятилетий испанцы пытались извлечь прибыль с островов, разбивая на них плантации и экспортируя сельхозпродукцию в Европу, но даже с государственными субсидиями это оказалось трудным делом. (Первую плантацию с использованием рабского труда местных жителей устроил Колумб и его родственники.) Европейцы искали золото, но ничего не находили. Исследовать и наживаться на Карибском море также было трудно — местные племена, особенно кулинаго, карибы и араваки, на юге и востоке от Эспаньолы, долго сопротивлялись испанцам и топили их суда в море еще в XVII столетии. В конечном счете, их одолели лишь за счет численного перевеса. По мере того, как население острова начало вымирать, испанцам пришлось устраивать новые рейды с целью захвата рабов, продвигаясь все дальше и дальше, пока новопоселенцы не достигли материка — между 1515 и 1542 годами более 200 000 человек было захвачено только на побережье Никарагуа, — но рабы умирали так быстро, что и этого было недостаточно.
Мексика была завоевана Эрнандо Кортесом в ходе самовольной экспедиции, организованной на Кубе. Он высадился в Веракрусе и завоевал эту страну, воспользовавшись распрей внутри ацтекской империи и бушевавшей эпидемией. После 1524 года этому примеру последовали другие инициативные сеньоры: Гусман, завоевавший западную Мексику (Новая Галисия), Альварадо в Гватемале и Писарро в Перу. К 1530-м годам большая часть Центральной Америки и Перу находилась под номинальным контролем испанцев, хотя сопротивление коренных американцев продолжалось веками у чичимеков в северной Мексике, арауканов в Чили и народов Бразилии. По сути, история Америки вплоть до XIX столетия (а в таких областях, как бассейн Амазонки, и поныне) заключалась в постепенном расширении европейских поселений, в покорении коренного населения (еще в 1780-е годы происходили восстания инков против испанского владычества) и оттеснении этих народов во все более отдаленные области. Как выразился один бразильский государственный деятель в 1980-е годы: «Когда мы убедимся, что во всех уголках по Амазонке проживают истинные бразильцы, а не индейцы, лишь тогда мы сможем сказать, что Амазонка наша».
17.1.2. Эксплуатация
В процессе обустройства новых территорий испанские колонисты столкнулось со значительными трудностями. Органы управления практически отсутствовали, и власти были способны только разделить «империю» на части, установив рамки прав и свобод. Туземцы, оказавшие сопротивление, были проданы в рабство, а остальных распределили по так называемым энкомьендас[62], — что-то на подобие судебных округов, управляющих местным населением (теоретически — не землей). Владельцы могли заставить индейцев работать в поместьях, на рудниках или на общественных работах. Уровень эксплуатации был таков, что большинство подневольных работников умирало за пару лет. К началу 1540-х годов в испанской Америке наступил кризис. Туземцы вымирали от болезней и эксплуатации, так что система энкомьенд теряла свой смысл. Некоторые христианские миссионеры возражали против ее сохранения, но три миссионерских ордена продолжали ее поддерживать. В 1542 году и рабство, и система энкомьенд были теоретически упразднены. Первое, однако, сохранилось — арауканов в южном Чили использовали в качестве рабов вплоть до 1680-х годов, а апачей, навахо и шошонов на севере Мексики — вплоть до XIX столетия. Вторую заменили на систему испанского владычества над населением и землей, с сохранением прежнего требования, чтобы местные крестьяне работали на своих новых испанских господ.

Карта 50. Атлантический регион
В ходе завоевания империй ацтеков и инков большая часть легко доставшихся благородных металлов из больших храмовых и частных сокровищниц обеих империй была собрана, переплавлена и отправлена в Испанию. Сакральные и общественные здания были разрушены, жители принудительно обращены в христианство. На развалинах главных храмов возводили соборы. После того как поток награбленного добра иссяк, новые источники обогащения удалось найти не скоро. Только после обнаружения в 1545 году месторождения серебра в Потоси, на высоте более 3600 метров в боливийских Андах, испанцы получили надежный источник прибыли в Америке. В самый разгар работ, в 1580-е годы, рудники поставляли более 300 тонн серебра в год. Для достижения такой производительности местное население подвергалось насильственной эксплуатации — работники проводили под землей неделю без перерыва и обрабатывали руду при помощи высокотоксичной ртути; не удивительно, что уровень смертности был очень высок. Население Потоси составляло 160 000 человек (почти все — подневольные работники), и это был один из самых больших городов мира, больше Парижа, Рима, Мадрида, Севильи и Лондона. Но эксплуатация заключалась не только в принудительном труде. Рабочим требовалась одежда и пища; все это изымалось в качестве дани у жителей окружающих селений и затем продавалось испанцами работникам. Изготовлением одежды занимались еще 10 000 работников-ткачей в Кито и других городах, также на принудительной основе. Кроме того, местные общины вынуждены были платить жалованье испанским чиновникам, которые занимались организацией принудительных работ, и священнику, обращавшему их в христианство. В этих условиях местное население практически полностью вымерло за несколько десятилетий. К концу XVI столетия испанцы вынуждены были пригонять в Потоси многочисленные караваны рабов из Буэнос-Айреса через Анды, а на севере их перевозили для работы на рудниках с островов Карибского моря в Новую Гренаду (Колумбию).
К концу XVI столетия экономика Атлантического региона все еще была плохо развита. Итог первоначальных завоеваний был подведен, награбленная в империях инков и ацтеков добыча, так же как серебро и золото, добытые принудительным трудом аборигенов, которым удалось выжить после занесенных из Евразии болезней, были перевезены в Европу. (К 1640 году в Европу было доставлено 17000 тонн серебра и 200 тонн золота.) В других областях Америки также наличествовали плацдармы завоевателей — португальцев в Бразилии и испанцев в устье реки Ла-Платы. Прочие западноевропейские нации в процессе практически не участвовали — французы только поднялись вверх по течению реки Св.Лаврентия на север и, наряду с англичанами и голландцами, занимались каперством (официально разрешенным пиратством), гоняясь за испанскими и португальскими судами в надежде отнять часть награбленного. Пути развития экономики в Атлантическом регионе попрежнему оставались туманными.
На протяжении почти всего XVI столетия испанцы ухитрялись управлять своей империей, не прибегая к широкомасштабному импорту рабов — им было проще расходовать туземцев. В 1550 году в испанской Америке насчитывалось около 15 000 рабов, а к концу столетия было ввезено всего около 50 000 рабов (по официальным данным; с учетом развитой контрабанды эту цифру можно, пожалуй, удвоить). Но даже и эти показатели все еще не превосходили уровня иммиграции самих испанцев. Рабов использовали в основном на общественных работах, особенно на верфях и в арсеналах Кубы: к 1610 году они составляли там почти половину населения. С начала XVII столетия их начали привозить в возрастающих количествах на материк, особенно в Мексику и Перу, чтобы заменить вымерших туземцев — к 1636 году половина населения Лимы состояла либо из рабов, либо из их потомков.
До 1500 года рабовладение в Европе было скорее редкостью, хотя торговля рабами велась на протяжении веков (само слово, означающее «раб» — slave, esclave и др. — во всех западноевропейских языках первоначально применялось по отношению к людям из славянских племен, которых продавали в Средиземноморье). Христианство с самого начала допускало рабство — в поздней Римской империи христианам не запрещалось держать у себя христиан-рабов, и сама церковь была крупным рабовладельцем, используя невольников на подвластных землях. Развитие протестантизма в XVI столетии, с характерным для него принципом уважения к частной собственности и подчинения мирским правителям, в этом отношении ничего не изменило. Более того, Лютер даже призывал рабов-христиан не покидать своих владельцев в Оттоманской империи. Эти взгляды сочетались с давним убеждением европейцев, что черный цвет кожи уроженцев Африки — ненормальность. На основе священного Писания их родоначальником считали Хама, сына Ноя, проклятого отцом. Кроме того, они все были либо неверными, либо язычниками, и потому рабство, если оно приводило к обращению, находило еще одно оправдание. Считалось также, что порабощение — единственный способ заставить африканцев трудиться на высших существ. Все эти соображения сочетались с уверенностью в превосходстве белой расы. В 1601 году Елизавета приказала изгнать всех темнокожих из Англии, а в 1753 году шотландский философ Дэвид Хьюм заявил: «Цивилизованными нациями во все времена были только люди с белой кожей». Хотя в конечном счете возникновение рабства базировалось на основе системы плантаций и стремлении извлечь из них максимальную прибыль, давние расовые и религиозные предрассудки пригодились для оправдания жестокой эксплуатации африканцев. Отобрать землю у аборигенов Америки было относительно легко, проблема заключалась в обеспечении рабочей силой по мере того, как население вымирало. Даже люди из самых низов европейского общества, готовые отправиться в Америку на условиях временного закабаления (их переезд оплачивался нанимателем в обмен на обязательную работу в течение нескольких лет), отказывались работать в тех условиях, которые были на плантациях. Они предпочитали работать небольшими группами и, что еще более неудобно, хотели по окончании работы по контракту получить участок земли в собственное пользование. Кроме того, они часто умирали от тропических болезней, особенно в Карибском бассейне. Их было трудно заменить, они часто не годились для тяжелых работ и, будучи белыми, не подлежали безудержной эксплуатации. Да, наконец, их еще нужно было кормить.
На протяжении XVII столетия европейцы постепенно пришли к выводу, что массовый вывоз африканских рабов — наилучшее решение вопроса. Сложившаяся в Атлантическом регионе система плантаций отличалась рядом своеобразных черт. Построенная практически полностью на рабском труде, она все же не позволяла населению, состоящему из рабов (и их хозяев), стать самодостаточной, — всюду, кроме Северной Америки. Поэтому для нормального функционирования она нуждалась в постоянном притоке рабов. При этом рабовладельческие плантации, особенно производящие сахар, являлись образцом крупных сельскохозяйственных предприятий капиталистического типа, нуждавшихся в больших капиталовложениях для их организации и содержания. Их продукция, кроме того, практически вся предназначалась на экспорт. Соответственно, экономика Атлантического региона, в том виде, в каком она утвердилась, с начала XVII столетия была прочно завязана на африканских рабах, на их эксплуатации и прибылях, которые европейцы извлекали при этом. Средняя длительность жизни раба на островах Карибского моря, даже молодого здорового мужчины, составляла около семи лет. В 1690-х годах такого раба можно было купить примерно за 20 фунтов, что равнялось стоимости сахара, производимого за год одним рабом. После выплаты других расходов, даже при высокой смертности, рабовладелец все равно оставался с неплохим барышом. То, что рабы не успевали обзавестись потомством, было несущественно.
Европейское общество отличалось грубостью и жестокостью. Условия жизни низов общества, особенно осужденных преступников, «бродяг» и «ленивых оборванцев» были ужасными, и ирландские крестьяне в 1840-х годах находились, пожалуй, в худшем экономическом положении, чем многие рабы в предыдущие века. Однако в отношении к этим людям и к рабам существовала значительная разница. Например, на корабли, курсирующие между Африкой и Америкой, набивали в четыре раза больше африканских рабов, чем грузили европейских каторжников на аналогичные суда в Европе. В этом сказывались представления европейцев о том, как следует обращаться с африканцами. Статус рабов отличался от положения даже самых угнетенных работников в европейских странах, потому что порабощенные не имели никаких человеческих прав — не только права на свободу, но также на семью и детей (то, что у рабов все-таки бывали семьи, дела не меняло, поскольку они полностью зависели от воли хозяина и могли быть — и часто бывали — разлучены ради прибыли). Африканцы стали собственностью, как видно из официального заявления англичанина, министра юстиции, сделанного в 1677 году: «негров следует рассматривать как товар и имущество». В конечном счете (а часто и более откровенно) рабство основывалось на насилии. Рабовладельцам приходилось балансировать между необходимостью заставить рабов трудиться и сохранением их жизней. Основой управления был бич и побои, с еще более жестокими наказаниями в резерве. Законодательство поддерживало рабовладельцев и давало им свободу действий — убийства раба не считалось преступлением в английских колониях, поскольку предполагалось, что ни один хозяин не станет без причины уничтожать свою же собственность. Непокорных наказывали, прибив их руки и ноги к земле, и затем сжигая сперва кисти и ступни, а затем конечности целиком, обеспечивая тем самым очень медленную и мучительную смерть. За меньшие «преступления» рабов кастрировали, отрубали топором половину ступни, бичевали с последующим втиранием перца и соли в раны. Эти зверские расправы считались у рабовладельцев необходимой мерой безопасности. Причина в том, что на некоторых из островов Карибского бассейна четыре из пяти жителей были рабами — неслыханная пропорция в мировой истории.
Рабы, прибывавшие в Америку, были деморализованы порабощением и пережитым ужасом переезда из Африки. На новом месте им давали новые имена, что еще больше их дезориентировало. Почти три четверти из них отправляли на плантации сахарного тростника, где рабы испытывали еще одно потрясение от навязанного им режима с полным подчинением начальникам и тяжелой работой. Европейцы создали миф о том, что африканцы якобы были прекрасно приспособлены к тяжелому труду в тропическом климате, хотя большинство из них происходило из областей с совершенно иными климатическими условиями и выросли в обществе, где полевыми работами занимались преимущественно женщины. На самом деле, во многих регионах Карибского бассейна женщины составляли до двух третей полевых работников. Им приходилось также свыкаться с угрозой сексуальных домогательств со стороны хозяев и пониманием, что они родят детей-рабов, увеличив тем самым доходы владельца. Однако на чистом насилии система рабства не могла бы просуществовать долго. Рабам следовало предоставить некую перспективу «карьеры», улучшения условий: они могли стать надсмотрщиками или домашней прислугой, могли завести семью (даже при условии вечного страха, что семью разлучат), небольшой клочок земли; им предоставляли отдых по воскресеньям и возможность кое-какого общения с другими рабами.
Несмотря на эти минимальные послабления, сопротивление на всех уровнях было обычным явлением — люди отказывались исполнять тяжелые работы, прибегали к мелкому воровству и саботажу. Открытый бунт был редким явлением, поскольку организовать его было трудно, а рабовладельцы строили свою систему именно на постоянном ожидании бунта. Только однажды восстание удалось в широких масштабах на Гаити в 1790-е годы. Восстания в Виргинии в 1800 году и под руководством Ната Тернера в 1831 году были скорее исключением, чем правилом. Другие серьезные волнения в бассейне Карибского моря имели место в начале XIX столетия — на Барбадосе в 1816 году, на Демераре[63] в 1823 году и на Ямайке в 1831—1822 годах. После подавления каждого из них были казнены сотни рабов. Европейские власти осознавали, что в их интересах держать рабов под контролем, и на протяжении колониальных войн XVII и XVIII веков всеми силами старались воспрепятствовать новым восстаниям.
Единственной альтернативой для рабов оставался побег. Но на островах Карибского моря он был почти невозможен, а в Северной Америке сложилась прочная законодательная база и эффективная система возвращения беглецов. Тем не менее, районы, контролируемые беглыми рабами, все же существовали, даже в отдаленных регионах Вест-Индских островов, таких как Ямайка. Самым обширным был район Пальмарес в Пернамбуко в 1672—1694 годах. Его столицей был Макако (в настоящее время — бразильский город Унайо), а территория простиралась на 130 миль вдоль побережья и на сто миль вглубь материка. Для покорения этого участка потребовалось несколько лет серьезных военных операций.
17.2. Бразилия: рабство и плантации
Наиболее характерные составляющие экономики Атлантического региона — плантации, рабство и торговля с Африкой — достигли высшего развития в Бразилии, под властью португальцев, в начале XVII столетия. За долгую историю рабства в Атлантическом регионе большинство африканских рабов перевезли именно в Бразилию, и она последним из государств региона отменила рабство в 1888 году. Португальская империя строилась на коммерческой основе с самого начала, хотя до 1580-х годов Бразилия играла в ней лишь незначительную роль. В этом регионе не было легко добываемых драгоценных металлов, и корабли приплывали в Бразилию в основном за деревом, из которого изготовлялась хорошая красная краска. В стране жило около трех миллионов коренных американцев, однако они проживали вразброс и потому избежали массового воздействия европейских болезней. Поначалу туземцы с легкостью привлекались к торговле европейскими товарами, но вскоре они получили все, что им было нужно. В 1549 году была основана небольшая колония в Байе, а превосходная естественная гавань Рио де Жанейро была впервые заселена французами (португальцы отобрали ее в 1550-х годах). Только на этом этапе правительство начало выдавать концессии с правом на эксплуатацию туземцев (по системе, аналогичной испанским энкомьендам) различным авантюристам. Началось устройство плантаций для выращивания сахарного тростника; они процветали, поскольку на северо-востоке Бразилии почва и климат были идеальны для этого, а также было достаточно рек и ручьев для привода в действие сахарных мельниц. На островах Атлантики такое производство приходило в упадок, поскольку плодородие почвы снизилось, и уже к 1580 году Бразилия производила в три раза больше сахара, чем Мадейра и Сан-Томе вместе. Производство основывалось на интенсивном использовании рабского труда туземцев — к 1570 году таких рабов было, вероятно, около 50 000. Одним из крупнейших рабовладельцев был орден иезуитов; они также нанимали рабов у других владельцев. Каждый из прибывающих поселенцев покупал рабов, чтобы не заниматься самому физическим трудом. Один из ранних комментаторов заметил: «Первое, что они стараются приобрести, это рабы для работы на фермах. Всякий, кому удастся получить две-три пары рабов, обретает средства к поддержанию своей семьи на достаточно респектабельном уровне, даже если у него нет никаких других видов имущества. Ибо один ловит для него рыбу, другой охотится, а прочие пашут его поля и ухаживают за ними».
К концу XVI столетия туземные рабы превосходили европейских поселенцев по численности в соотношении три к одному.
Только когда запас туземцев начал исчерпываться, португальцы обратились к Африке как к источнику их поступления. Путь из Африки был недалек, но кроме того, Португалия занимала доминирующую позицию на побережьях Анголы и Конго, как раз через океан от Бразилии. Одними из первых стали покупать африканских рабов иезуиты, но к 1600 году их было в колонии всего около 15 000 — намного меньше, чем местных. К 1630 году это число увеличилось вчетверо, превысив 60 000; за год продавалось до 10 000 человек. Еще примерно половину от этого количества отправляли в испанскую Америку, так что общая численность торговли рабами в Атлантике составляла около 15 000 человек в год. Прибыли были огромны — рабы продавались в Бразилии за сумму, превосходящую в десять раз стоимость товаров, затраченных на их приобретение на африканском побережье. (Частично это объяснялось тем, что работорговля была еще недостаточно развита, и потому цены в Африке оставались низкими.) Рабов для сахарных плантаций требовалось все больше по мере развития торговли сахаром. К началу XVII столетия Бразилия экспортировала около 20 000 тонн сахара в год (что составляло почти четыре пятых потребления Европы), и колония стала важнейшей частью португальской империи, обеспечивая около 40% государственного дохода. Португальские коммерсанты установили своего рода торговый треугольник: в Африку везли товары для закупки рабов, в Бразилии продавали рабов, а сахар возили в Европу. В первые десятилетия XVII столетия почти половина населения Бразилии состояла из рабов, они представляли собой ту производительную силу, от которой зависело процветание колонии (в испанской Америке рабы в тот момент по-прежнему составляли не более двух процентов населения).
17.3. Голландцы и французы
Обогащение испанской и португальской империй привлекло внимание других европейских держав, особенно голландцев, борющихся за независимость от Испании. Поначалу их основные усилия были направлены на то, чтобы нападать на флотилии, перевозящие серебро и другие ценности из Гаваны в Кадис, но ключевым событием стало основание в 1621 году Вест-Индской компании, которая, подобно Ост-Индской компании, основанной в 1602 году, и аналогичных английских предприятий, сочетала государственные и коммерческие цели. Голландцы хотели нанести урон испанской торговле (Португалия в то время находилась под властью Испании) и извлечь выгоду для себя. Поэтому Бразилия и ее сахар стали их главнейшей мишенью. (Вест-Индская компания обратилась за разъяснениями о моральной допустимости работорговли к богословам — и голландские кальвинисты высказались против нее.) В начале 1630-х годов голландцы захватили провинцию Пернамбуко. Однако их воздержания от работорговли надолго не хватило. Новоиспеченные колонисты принялись не столько освобождать, сколько перепродавать рабов, захваченных ими на португальских и испанских кораблях. Затем, в 1637 году, они захватили Эль-Мину, основной пункт португальской работорговли на африканском побережье, и начали ввозить около 2000 рабов ежегодно на принадлежавшие им бразильские территории. В 1640 году Португалия обрела независимость от Испании, а через пять лет после этого в Пернамбуко вспыхнуло восстание против голландцев. В Бразилию перебралось совсем немного переселенцев из Голландии, и особых попыток удержать колонию не было. Она перешла вновь под контроль португальцев в 1654 году. Португальцы восстановили работорговлю, независимо от Испании, и к концу XVII столетия в колонии насчитывалось около 100 000 рабов, по сравнению с 60 000 в середине столетия. Труд почти трех четвертей из них использовался на производстве сахара.
Французы были вовлечены в дела на Вест-Индских островах с начала XVII столетия, но колонизацией занимались мало. В 1640-е годы на Мартинике, Гваделупе и соседних островах было около 7000 поселенцев, и большинство из них работало по кабальным договорам. Рабы ввозились в основном голландцами и англичанами, которые также контролировали вывоз сахара во Францию, пока французы не основали собственную компанию в 1660-х годах. К этому моменту производство сахара возросло, и половину населения острова составляли рабы. Активная экспансия началась после 1690 года, когда у Испании отобрали Санто-Доминго: к началу XVIII столетия на островах насчитывалось около 50 000 рабов. В 1685 году Людовик XIV издал «Черный Кодекс», регулирующий дела колоний. Полагалось изгнать оттуда всех евреев — «очевидных врагов» христиан. Рабство признавалось с единственным условием — рабов следовало окрестить и наставлять в католической вере. В кодексе содержались статьи, предусматривавшие и некоторую защиту для рабов, но не был установлен механизм внедрения этих мер. К этому времени уровень рабства во французских колониях был примерно таким же, как в Бразилии к концу XVI столетия. За следующие сто лет этот показатель феноменально вырос.
17.4. Первый этап рабовладения на английских территориях
Поначалу контакты англичан с Америкой ограничивались в основном, как и у голландцев, пиратством и грабежом под предводительством таких людей, как Дрейк и Хокинс. Первая колония в Виргинии страдала от конкуренции аналогичных проектов в Ирландии и неспособности местного населения играть роль, предназначенную им англичанами, — роль подневольных, готовых выращивать продукты питания и обеспечивать дешевой рабочей силой поселенцев. Золота в этих краях не нашли, и переселенцы выжили лишь благодаря тому, что туземцы снабжали их провизией. В качестве благодарности англичане объявили им вечную войну, чтобы захватить их земли. Только в 1620-е годы Виргинская компания додумалась до формулы, позволившей колонии выжить. Земля бесплатно предоставлялась тем, кто сам оплачивал свой переезд; те, кого привозили в качестве «временно закабаленных», получали возможность купить землю после освобождения. Между 1640 годом и концом столетия в колонии северной Америки привезли более 100 000 человек по договорам временного закабаления. (Европейские эмигранты, прибывшие в американские колонии до 1783 года, в большинстве своем были именно временно закабаленными, а не свободными работниками.) Основной и самой доходной культурой для экспорта в Европу стал табак, но численность рабов оставалась небольшой — в 1670 году в Виргинии их было всего 2000.
Колонии на американском материке развивались медленно, в отличие от Барбадоса, основанного в 1624 году, — остров выбрали для поселения, поскольку он располагался с подветренной стороны относительно других островов Карибского бассейна, и потому кораблям Испании, главной силы в регионе, было затруднительно напасть на эту территорию. Изначально в колонии стали выращивать табак, но она продолжала оставаться бедной и неразвитой: в 1638 году население составляло всего 6000, в том числе 2000 подневольных работников, привезенных из Англии сроком на пять лет работы, по цене 12 фунтов, и 200 африканских рабов, которые стоили около 25 фунтов каждый. Только введение культуры сахарного тростника (перенятой у голландцев) преобразовало небольшой остров, с площадью менее 150 квадратных миль, и продемонстрировало потенциал системы плантаций. В 1638 году сахар еще не производили, а в 1645 году плантации покрывали половину острова и вскоре уже давали две трети сахара, потребляемого в Англии — основном рынка сбыта в Европе. Для устройства плантаций требовались большие вложения капитала, поскольку до первого сбора урожая должно было пройти полтора года. Потому владельцы мельниц предпочитали скупать земли мелких собственников и устраивать там свои поместья. Поначалу временно закабаленные европейцы работали наравне с рабами, но вскоре они стали исполнять исключительно функции надсмотрщиков — проще было справиться с рабами, чем с недовольными белыми слугами, с которыми следовало обращаться намного обходительнее.
С 1640-х на Барбадосе начался феноменальный подъем. За десять лет там насчитывалось уже 20 000 рабов (в основном привезенных голландцами, по более низким ценам, поскольку они уже не могли продавать их в Бразилии) и примерно вдвое меньше временно закабаленных работников. К середине 1650-х годов остров экспортировал столько же сахара, сколько вся Бразилия. К 1680-м годам число рабов в колонии возросло до 50 000 с небольшим (что составляло около трех четвертей всего населения), преобладающее большинство которых работало в крупных поместьях, занимавших более ста акров земли и насчитывающих более сотни рабов. Рабочий день их длился восемнадцать часов, поскольку в период сбора урожая, длившийся шесть-семь месяцев, мельницы работали круглосуточно. Не удивительно, что уровень смертности был очень высок.
Эта колония была самым крупным из английских владений в Америке — намного большей, чем Виргиния и Массачусетс на материке. Производство сахара началось также на Ямайке, и во второй половине XVII столетия на этот остров было завезено более 85 000 рабов.
Начиная с 1660-х годов, англичане занялись работорговлей в крупных масштабах. В 1663 году компании «Королевских авантюристов» в Африке (чьими основными вкладчиками были король Карл II и королевское семейство) было дано монопольное право на поставку рабов во все английские колонии в Америке. В 1672 году монополия была передана новой Королевской Африканской компании[64], с более широким кругом вкладчиков, помимо королевской семьи и лондонского купечества.
За первые сорок лет существования ею было приобретено 125 000 рабов в Африке. Позднее, с 1690-х годов, у компании начали возникать трудности с сохранением монополии, по мере того как торговцы пытались добиться своей доли от огромных доходов, приносимых работорговлей.
17.5. Плантаторская экономика XVIII столетия
17.5.1. Вест-Индия
XVIII столетие стало великой эпохой сахарных плантаций. К середине столетия сахар обошел зерно в качестве самого ценного товара в европейской торговле — он составлял пятую часть всего европейского импорта, и в последние десятилетия века четыре пятых всего сахара привозилось из британских и французских колоний в Вест-Индии. На протяжении столетия наиболее успешными были французские колонии, особенно Санто-Доминго, где прибыли возрастали за счет хорошей ирригации, использования гидравлических устройств и приспособлений, а также перехода на производство новых типов сахара. Французы также разнообразили статьи экспорта, занимаясь разведением кофе и добычей индиго. На островах сложилось блестящее, богатое общество рабовладельцев и купцов. На Санто-Доминго построили театр на 1500 мест, где поставили «Женитьбу Фигаро» Моцарта всего несколько недель спустя после премьеры в Париже. Наибольшим потенциалом, несомненно, обладала британская колония на Ямайке. Маленький остров Барбадос, второй по прибыльности, к этому времени почти достиг максимально возможной производительности, хотя здесь доходы возросли за счет перехода к изготовлению более дорогого белого сахара. Где-то до 1740 года Ямайка страдала от недостаточной защищенности, как внешней, так и внутренней, но затем стала быстро подниматься по мере того, как несколько помещиков организовали обширные хозяйства, на каждое из которых приходилось не менее 500 рабов. Экспансия сахарного производства в британской Вест-Индии, казалось, будет продолжаться вечно, поскольку спрос в Европе продолжал расти. Потребление сахара в Британии возросло в пять раз всего за шестьдесят лет (отсчитывая от 1710 года), а к середине XVIII столетия более половины заморской торговли Британии составляли сахар и табак.
Обогащение, обеспечиваемое Вест-Индией, зависело от рабов, которых привозили во все возрастающих количествах. В 1690-х годах во французских колониях было 27 000 рабов, а на британских островах — 95 000. Столетием позже эти цифры поднялись до 675 000 и 480 000 соответственно (десятикратный рост). Уровень смертности также был феноменально высок. Между 1712 и 1734 годами на Барбадос ввезли 75 000 рабов, однако их численность возросла лишь на 4000 человек. В среднем на каждых шестерых умерших рабов приходился один родившийся ребенок, и потому хозяева брали в расчет не столько воспроизводимость рабской силы, сколько ее ввоз. Они просто расчитали, что на выращивание ребенка до трудоспособного возраста (каким бы ранним он ни был) требовалось потратить около 40 фунтов (с учетом потери труда матери и возможной смерти ребенка), в то время как нового раба можно было приобрести примерно за 25 фунтов.
[О восстании рабов на Гаити см. 21.6]
17.5.2. Северная Америка
В XVIII столетии также наблюдалась обширная экспансия рабства в английских колониях северной Америки. Между 1700 и 1770 годами население рабов возросло примерно с 50 000 до 500 000 и более. К указанной дате три основных культуры, выращиваемых рабами на плантациях — табак, индиго и рис — составляли более трех четвертей всего экспорта из этих колоний в Британию. В самом начале XVIII столетия рабами все еще были туземцы — более 1400 в Южной Каролине (около 10 процентов населения), но вскоре их заменили африканцами. Мелкие фермеры, выращивающие те же культуры, что и фермеры Британии, составляли тогда большинство населения Северной Америки. Потому на их продукцию спрос был небольшой (всякий повышенный спрос в Британии можно было удовлетворить, привезя продукты из Ирландии). Потому излишки производства в северной Америке продавались в Вест-Индии (как в британских, так и во французских колониях) и служили для прокорма рабов — ведь почти вся земля на островах была занята сахарным тростником. Помимо мелких фермерских хозяйств существовали еще табачные плантации, в среднем занимающие такие же площади, что и сахарные, но на эту культуру требовалось меньше трудозатрат, а значит, и меньше рабов. Примерно каждые семь лет разбивались новые плантации, продвигаясь все глубже внутрь материка, поскольку табак быстро истощал почву. За полстолетия от 1710 года производство табака (преимущественно в Мэриленде и Виргинии) утроилось, поскольку этот регион, по сути, обладал монополией на европейский импорт. Еще более высокая скорость роста наблюдалась дальше к югу, в Джорджии и южной Каролине, где быстро разрастались плантации риса и индиго. Эти две колонии в 1698 году вывозили всего 12 000 фунтов риса, но к 1770 году эта цифра поднялась до 83 миллионов фунтов.
Система рабства на материке отличалась от принятой в Вест-Индии, уровень смертности здесь был намного ниже по ряду причин. Сама работа не была настолько тяжелой, в частности, здесь не требовалась переработка тростника по ночам и климат был лучше. Многие рабы попадали на север Америки из Вест-Индии, где они уже адаптировались к работе на плантациях и новому климату, а не ввозились прямо из Африки. Кроме того, женский труд здесь больше использовали в быту, в отличие от Вест-Индии. В результате рабы жили дольше, чаще заводили семьи, производили потомство, тем самым рождая новых рабов и сокращая необходимость в импорте. Почти две трети североамериканских рабов проживали в Мэриленде и Виргинии, но даже там они составляли лишь около трети населения, по сравнению с четырьмя пятыми, характерными для Вест-Индских островов. В материковых колониях дальше к северу эти показатели были еще ниже, не превышая пяти процентов населения. Зависело это в первую очередь от того, что в более умеренном климате невозможно было массовое выращивание культур на плантациях, и большинство рабов были либо домашними слугами, либо работали в городах. Тем не менее, во всех британских колониях в Америке государство признавало и поддерживало рабство, несмотря на то что в самой Британии аналогичная система отсутствовала.
17.5.3. Бразилия
В Бразилии рабство стало активно развиваться с момента восстановления власти португальцев над всей колонией в 1650-е годы и с открытием залежей золота в южной Бразилии в 1690-х годах. К 1720-м добыча золота составляла около десяти тонн в год и давала почти столько же прибыли, сколько и экспорт сахара, при учете жесткой конкуренции с Вест-Индией. Многие рабы были коренными американцами. Между поселенцами и иезуитами, которые создавали «миссии» (сахарные плантации и скотоводческие фермы), где туземцев принудительно обращали в христианство, долго шла борьба за то, кто должен контролировать оставшихся туземцев. Организовывались крупные экспедиции за рабами внутрь страны, некоторыми из них руководили иезуиты, которые затем клеймили туземцев и заставляли их работать на «миссии». Одной такой экспедиции хватило, чтобы окупить перестройку собора Сен-Луис в 1718 году. Во время золотой лихорадки, после 1690-х годов, многие туземцы на северо-востоке были порабощены золотоискателями. Однако, как и в прошлом, туземцы не могли обеспечить европейских поселенцев необходимым количеством рабочей силы, и ввоз рабов поднялся до рекордного уровня — к 1750 году в Бразилии насчитывалось более 500 000 рабов, что составляло около трети населения (примерно та же пропорция, что и в южных колониях на североамериканском материке). Заметное отличие Бразилии от британских колоний заключалось в том, что рабов часто освобождали, и им даже разрешалось вступать в армию.
17.5.4. Испанская империя
В испанских колониях добыча золота и серебра и в XVIII столетии оставалась доминирующей отраслью. Рудники в Андах по-прежнему разрабатывались практически исключительно трудом местного населения и несколькими тысячами привозных рабов. На материке большие плантации, где использовался рабский труд, были только в Венесуэле — оттуда экспортировали какао и индиго. Классическая плантаторская экономика сложилась в испанской империи только на Кубе, где выращивался сахар и табак. Здесь рабы составляли около четверти населения. Право поставлять невольников в испанскую империю досталось Британии по Утрехтскому договору 1713 года, и их свободный ввоз на территорию империи не допускался вплоть до 1787 года. Из-за этого рост плантаций, а следовательно, и производства, был замедлен. В XVIII столетии даже небольшие европейские страны обзавелись своими собственными рабовладельческими империями. На принадлежавших Дании островах Сент-Томас и Санта-Крус постоянно проживало примерно 20 000 рабов. Почти все они были заняты в производстве сахара, которое продолжало процветать и тогда, когда другие колонии в Карибском море уже были затронуты войной между ведущими европейскими державами.
[О независимости Латинской Америки см. 21.7]
17.6. Работорговля
Для процветания принадлежащих европейцам рабовладельческих империй в Америке требовался постоянный приток рабов из Африки. Спустя триста лет после 1500 года европейские негоцианты превратили эту отрасль торговли в сложное международное предприятие глобальных масштабов. В нее были вовлечены и производители текстиля в Индии, и европейские изготовители (особенно железных изделий и огнестрельного оружия), и африканские торговцы, европейские судовладельцы, плантаторы, не говоря уж о кредитных обществах и банках. Все страны Европы, имеющие выход к морю, принимали в ней активное участие. Хотя торговля живым товаром приводила к гибели множества людей и жестоким страданиям, с чисто коммерческой точки зрения она была невероятно выгодна. Работорговля была самым динамичным сектором экономики рада западноевропейских стран и обуславливала общий подъем и рост благосостояния в регионе.
За последние тридцать лет историки произвели очень точный подсчет объемов работорговли, и результаты показывают, что пик настал в XVIII столетии. За первое столетие завоевания европейцами Америки, и вплоть до 1600 года на континент было ввезено 370 000 рабов. За следующие сто лет этот показатель вырос до 1 870 000. В XVIII же столетии из Африки в Америку было доставлено 6 130 000 рабов. В результате общая численность рабов в Америке возросла примерно с 330 000 в 1700-х годах, до более 3 миллионов в 1800-х. В этот период торговля перешла из-под контроля государственных монополий в руки множества частных предпринимателей. На протяжении XVIII столетия британцы доминировали в этой отрасли и перевезли более сорока процентов рабов от общего количества порабощенных (2,5 миллиона), португальцы заняли второе место, они перевезли примерно треть (1,8 миллиона), а французы — примерно пятую часть (1,2 миллиона). Из общего числа рабов (около 6 миллионов) — треть отправили в Бразилию, примерно по четверти в британскую и французскую Вест-Индию, и лишь чуть более пяти процентов — на североамериканский материк. Примерно две трети всех перевезенных людей составляли мужчины (процент более высокий, чем в предыдущие века) и почти четверть — дети.
Единственную проблему для работорговцев представляли цены на рабов на африканском побережье. Контролировать эту цену они не могли, так как устанавливали ее местные — она постоянно поднималась и напрямую зависела от качества товаров, предлагаемых европейцами. За сто лет после 1670 года средняя стоимость мужчины-раба в Африке поднялась от 3 до 15 фунтов, соответственно, выросла и цена продажи в Америке: с 17 до 35, а потом и почти до 50 фунтов к концу XVIII столетия. При таких ценах барыш был велик — годовая норма прибыли британских работорговцев в XVIII столетии составляла около десяти процентов, ровно столько же, сколько давала плантация в Вест-Индии, и втрое больше от того, что можно было получить, вкладывая деньги в земельные угодья. Самый большой расход для работорговцев составляли товары, которые им следовало закупить для обмена на африканском побережье. Некоторые из этих товаров были весьма важны — из Европы везли железо, огнестрельное оружие (уже к концу XVIII столетия британцы отправляли в Африку до 300 000 ружей в год), ткани и бумагу, а с американских плантаций — ром и табак. Большое значение имели также товары, закупаемые европейцами в Азии, в частности специи и текстиль. Последний был особенно важен, так как до конца XVIII столетия индийский текстиль был намного качественней европейского и африканцы требовали лучшего. Индийский текстиль ввозили преимущественно в Ливерпуль и Нант, и они же являлись также самыми крупными портами работорговли. У французов индийский текстиль составлял почти шестьдесят процентов от стоимости товаров, используемых для закупки рабов (европейский текстиль составлял пять процентов), у англичан это был основной товар, вывозимый в Африку, — даже после того, как английская промышленность начала стремительно развиваться в 1750-е годы и позднее, индийские ткани составляли треть импорта.
Следующим пунктом были расходы на транспортировку живого товара из Африки в Америку. Именно стремление торговцев извлечь максимальную выгоду становилось причиной ужасающих условий этих плаваний. И даже при этом расходы были немалые, поскольку на корабли рабовладельцев нанимали удвоенную по численности команду из соображений безопасности — вероятность бунта всегда была наибольшей в начале, когда рабы наконец понимали, что их увозят из Африки. Смертность на кораблях работорговцев была непомерно высокой — погибало от пятнадцати до двадцати процентов вывезенных из Африки. На более коротких маршрутах, напрямую из Африки в Бразилию, эта цифра могла быть ниже, но во время долгого плавания из Анголы в северную Америку потери приближались к трети. Рабов набивали в трюмы битком и заковывали. Как правило, их не выводили на палубу и в итоге скудное питание, недостаток воды, морская болезнь и диарея создавали труднопредставимые условия. В XVII столетии население Нового Амстердама (ныне Нью-Йорк) знало о приближении этих кораблей по запаху, даже когда они еще были за горизонтом. Работорговцы шли на это, потому что если бы они предоставляли рабам хотя бы столько же места, сколько европейским каторжникам, то смогли бы за один рейс перевезти вдове меньше рабов и не получили бы никакой прибыли. В XVIII столетии смертность при перевозках слегка уменьшилась по сравнению с обычной нормой «один к пяти», когда работорговцы увеличили паек и расход воды, стали применять корабли особой конструкции, а иногда даже выдавать рабам лимонный сок, чтобы предупредить возникновение цинги, и прививать их от оспы. Однако даже самый низкий уровень смертности (один к двадцати) был все еще в пять раз выше, чем при перевозке каторжников-европейцев, потому что корабли по-прежнему набивали до отказа: европейцы считали эти условия приемлемыми для африканцев, но не для преступников.
Работорговцы смогли позволить себе излишества за счет огромных доходов от значительного объема торговли, доходившей до 80 000 рабов за год в последние два десятилетия XVIII столетия. Именно достигнув такого уровня, работорговля стала ключевым фактором заселения Америки. На протяжении примерно трехсот лет (вплоть до 1820 года) через Атлантику было доставлено втрое больше африканцев, чем европейских эмигрантов, — 8,4 млн по сравнению с 2,4 млн Однако уже после 1820 года население Америки состояло из белых и черных поровну. Таков был показатель смертности рабов на американских плантациях.
[Об экономике Атлантического региона в XIX веке. см. 21.8]
17.7. Африка в экономике Атлантического региона
Значительные площади западной Африки, особенно к югу от Камеруна, подобно Америке, были практически изолированы от истории Евразии до конца XV столетия. Появление португальцев изменило ситуацию, но воздействие от первых контактов с европейцами было весьма ограниченным. Африканские вожди и государства держали на побережье свои корабли, способные принять на борт до ста человек, и хотя атаковать высокие португальские суда им было сложно, они все же могли оказать серьезное сопротивление группке европейских моряков, пытавшихся пробиться в эти края. Попытки португальцев высадиться в Сенегамбии и вблизи острова Горе[65] были отбиты в 1446 и 1447 годах. Позднее, в 1535 году, португальцы попытались завоевать острова Бижагош у побережья Гвинеи, но потерпели сокрушительное поражение. Таким образом, африканцы сохранили контроль над торговлей на побережье, и португальцам (а позже и другим европейцам) оказалось проще посылать «подарки» и «дань» местным правителям и заключать с ними договоры, позволяющие свободно торговать.
Правители обычно настаивали на «особых» ценах лично для себя, и если добивались своего, то охотно позволяли европейцам торговлю с другими как им вздумается. Попытки устраивать набеги вдоль побережья лишь вредили торговле, как убедились и кастильцы, и англичане на собственной шкуре. Было основано несколько фортов и торговых факторий, но и их существование требовало усилий и затрат в условиях тропиков. (Подробные записи, которые велись британской Королевской компанией, показывают, что из каждых десяти солдат, отправленных в западную Африку между 1695 и 1722 годами, шесть умирали в первый же год, еще два выдерживали от двух до семи лет и только один доживал до возвращения в Британию.) За несколько веков была основана лишь одна совсем маленькая колония. В 1579 году португальская торговая фактория в Анголе превратилась в колонию на побережье в результате торгового конфликта. Но и это удалось лишь благодаря союзу с соперничающим правителем Конго, который направил европейцам свои войска.
Пути развития торговли на африканском побережье диктовались в основном африканской стороной. Им нужен был от европейцев лишь определенный набор товаров, поскольку все самое необходимое они производили сами. (Рассказы о том, что африканцы продавали рабов за дешевые бусы и побрякушки, — это миф, созданный европейцами.) К концу XVII столетия в Сенегамбию ежегодно ввозилось около 150 тонн железа, однако это составляло лишь около десяти процентов от общего количества, применяемого в этом регионе — все остальное производилось на месте и зачастую было более высокого качества, чем европейская продукция. В начале XVII столетия из восточного Конго в другие области Африки вывозили более 100 000 ярдов [91 400 метров] тканей в год — ровно столько же экспортировала Голландия, притом примерно с той же численностью населения. На Золотой Берег ввозилось около 20 000 ярдов [18 280 метров} тканей в год (как европейских, так и индийских), но это составляло всего два процента от общего потребления. Если качество европейских товаров оказывалось низким или они не соответствовали запросу, от них отказывались. Африка и сама вывозила в Европу некоторые товары — на протяжении XVIII столетия из Сенегамбии в Британию отправили миллион циновок.
Главнейшим пунктом и основной причиной торговли с Африкой была работорговля. Рабство существовало в Африке издавна и отчасти обуславливалось особым обстоятельством — отсутствием собственности на землю; социальная система здесь была такова, что собственностью и объектом налогообложения являлись люди, а не земля. Крестьяне имели право обрабатывать землю и пользоваться ее продуктами, но им не позволялось продавать участки. «Знатные» люди имели титулы, но не частные владения, из которых можно было извлекать ренту, как в Европе. Вместо этого они получали определенный доход от государства, назначавшийся правителем (которых европейцы иногда ошибочно называли «царями»). При этом сам правитель также не являлся собственником земли (еще одно ошибочное представление европейцев). Соответственно, люди, свободные или рабы, являлись основным средством обретения богатства, поскольку их можно было использовать для обработки земли (а ее мог занять всякий в любом количестве, которое был в силах обработать), и уже продукты их труда могли быть присвоены элитой. Основным источником рабов были войны, и торговля ими находилась полностью в руках африканцев вплоть до окончательной продажи на побережье. Однако, хотя африканская знать и богатела благодаря этой торговле, единственной причиной существования контактов была потребность европейцев в африканской рабочей силе для американских плантаций.
До середины XVII столетия потребность в рабах на африканских территориях возрастала и усиливалась под влиянием нужд Европы. Многие области сопротивлялись европейскому вмешательству — Бенин в 1550-е годы, Конго в конце XVI столетия, причем работорговля здесь не набирала оборотов в течение еще сотни лет. Некоторые племена, например кру (современная Либерия), сопротивлялись настолько упорно, что европейцы отказались от попыток поработить их, а другие, как бага (современная Гвинея) и йола на юге Сенегала, отказались участвовать в торговле. Центром работорговли веками оставались области на юге африканского побережья — к началу XIX столетия они концентрировались в бухте Биафры, в Анголе и Мозамбике на восточном побережье. Положение в Африке радикально изменилось под влиянием двух факторов. Во-первых, потребность европейцев в рабах резко возросла, начиная с первых лет XVIII века, во-вторых, европейцы с середины XVII века стали продавать мушкеты кремневые, а не с фитильным запалом. Европейское огнестрельное оружие слабо влияло на ситуацию в Африке на протяжении более сотни лет после 1500 года. (Примитивная ранняя артиллерия была почти бесполезна при штурме земляных фортификаций.) Однако кремневое оружие имело вдвое большую скорострельность и наполовину меньшую частоту осечек, чем его предшественник; рад военных империй на африканском континенте были созданы именно благодаря этому новому оружию. Часто создателями новых формаций были небольшие группы племен, способные укрепить свои позиции, став основными поставщиками рабов для европейцев.
В начале XVIII столетия произошла экспансия королевства Бамбара в верховьях Нигера; оно стало одним из главнейших поставщиков рабов, поставляемых через Сенегамбию на протяжении первых тридцати лет этого века. Когда поток истощился, работорговцы переместились в другие области. В тот же период Ойо, доминирующее государство племени йоруба на юго-западе Нигерии, завоевало Дагомею, чтобы обеспечить себе выход к морю, и также стало одним из основных поставщиков рабов. Это государство просуществовало почти сто лет, но затем рухнуло, не в состоянии контролировать столь обширные территории. В начале XIX столетия йоруба впервые сами стали товаром, а вскоре — одним из основных пунктов торговли века. Новые государства образовывались также благодаря богатствам, накопленным правящей прослойкой за счет работорговли. В качестве примера начала XVIII века можно привести племя акан распложенное на Золотом Берегу (современная Гана). К 1701 году государство Ашанти было одним из самых могущественных на континенте, его богатство основывалось на продуктивном земледелии в окрестностях столицы Кумаси (где проживало около 15 000 человек) и на контроле над маршрутами доставки рабов. К началу XIX столетия это было одно из самых богатых и больших государств в Африке. В Анголе рад государств, вовлеченных в работорговлю, разбогатели на контактах с португальцами — Матамба и Касандже[66], позднее, в XVIII столетии, Лунда, в глубине материка, но ближе к восточному побережью. Повсюду торговля и доходы от нее контролировались немногочисленной элитой. В нее входили в основном правители, богатые купцы, а также комиссионеры на побережье, такие как афро-португальцы в Сенегамбии и верхней Гвинее или торговцы из племени иджо[67] в дельте Нигера.
Каково было общее воздействие работорговли на Африку? В целом европейцы купили и перевезли в качестве рабов в Америку около 12 миллионов человек. Однако даже эта весьма высокая цифра не является точной. Согласно наиболее надежным оценкам, примерно четверо из каждого десятка попавших в рабство умирали еще до того, как их грузили на корабли, или оставались рабами в Африке (прежде всего это касалось женщин, которые весьма ценились в Африке, в то время как европейцы предпочитали рабов-мужчин). А это значит, что для перевозки европейцами 12 млн рабов потребовалось обратить в рабство около 20 млн человек. Кроме того, работорговля была сконцентрирована в определенных областях. В течение XVII и XVIII веков большинство рабов поставлялись из областей, отдаленных от побережья не более чем на сто миль, и только в XIX веке работорговля стала проникать намного глубже, на расстояния до пятисот миль. В основных областях работорговли, таких как Ангола и бухта Бенина, эта деятельность, без сомнения, привела к резкому сокращению населения. В других регионах работорговля была развита в достаточной степени для того, чтобы остановить прирост населения на два века, а то и более, притом в тот период, когда население остального мира стремительно росло.
[О дальнейшей истории Африки см. 21.19]
17.8. Золото и серебро
Когда Васко да Гама, пользуясь услугами лоцмана-мусульманина, прибыл в Каликут в мае 1498 года, ему устроили аудиенцию у тамошнего правителя. Он выложил привезенные им из Европы товары — полосатые ткани, алые суконные колпаки, шляпы, коралловые бусы (прикупленные по дороге), тазики для умывания, сахар, оливковое масло и мед. Правитель и его придворные только рассмеялись, взглянув на этот набор, — изделия были намного хуже тех, что производили в Индии или получали за счет торговли в регионе Индийского океана. Местные отказались взять что-либо и потребовали заплатить золотом и серебром за те товары, которые нужны были португальцу. Так европеец столкнулся с той же проблемой, что и римляне за 1500 лет до него, — Азия была самой богатой частью света и мало чего хотела от «запада», в то время как страны Европы нуждались в продукции «востока». Приобрести эту продукцию можно было лишь одним путем: платить звонкой монетой, то есть золотом и серебром. При римлянах, а затем и после возвышения богатой исламской империи, происходила постоянная утечка обоих драгоценных металлов с запада на восток, пока их запасы не исчерпывались. Только установление власти европейцев над Атлантическим регионом обеспечило им доступ к золоту и серебру в невиданных прежде количествах и позволило добиться «пропуска» в азиатские торговые системы. Золото и серебро Америки стали соединительным звеном между регионами Атлантического и Индийского океанов.
В самой Европе золото и серебро добывали в небольших количествах — около 100 тонн в год на пике в 1530-е годы, а уже к началу XVII столетия эта величина сократилась на две трети. Золото привозили из западной Африки в количестве около 20 тонн в год, хотя на вершине развития торговли в начале XVII столетия этот показатель удвоился. И этого было ничтожно мало по сравнению с колоссальной добычей, награбленной при захвате империй ацтеков и инков и, что еще важнее, с прибылью от принудительного труда туземцев на серебряных рудниках в Потоси. На протяжении трех веков после 1500 года около 85 процентов мировой добычи серебра и 70 процентов золота доставлялось из Америки и находилось под контролем европейцев. В среднем, по официальным данным, испанцы перевозили через Атлантику в Европу около 330 тонн серебра ежегодно. Кроме того, с середины XVI столетия серебро перевозилось из Акапулько по Тихому океану в Манилу, в количестве около 150 тонн в год — контрабандные перевозки, скорее всего, удваивали эту цифру.
Европе от этого огромного потока серебра доставалось немногое — даже в Испании основные денежные единицы чеканились из меди. Большая часть драгоценных металлов отправлялась в Индию и Китай, а также в Левант и Оттоманскую империю для закупки различных товаров. Значительное количество серебра привозили в Амстердам и Лондон, а оттуда, не открывая упаковочных ящиков, морем везли в Индию. Ключевая роль серебра в европейской торговле очевидна — доходы голландской Ост-Индской компании колебались в зависимости от доступа к американскому серебру, поскольку этим обуславливался объем их закупок в Азии. Сколько серебра и золота попадало в Азию? Точную цифру вычислить трудно, однако известно, что на протяжении XVII столетия она составила около 28 000 тонн. Почти все серебро, ввозимое в Индию, использовалось для чеканки монеты — объем циркулирующей валюты за XVII столетие утроился, а данных о сколько-нибудь значительной инфляции нет, потому что деньги были нужны для быстро развивающейся экономики. Однако максимальную выгоду из американского серебра извлек Китай, самая богатая страна мира. Сами китайцы добывали мало серебра (около 1000 кг в год). До конца XVI столетия важнейшим поставщиком была Япония, вывозившая около 125 тонн в год, в основном для закупки китайского шелка. (Япония первоначально называлась у европейцев «серебряными островами».) Но американское серебро оказало намного большее влияние, особенно после того, как его начали доставлять прямо по Тихому океану. С середины XVI столетия китайское правительство получило возможность заменить все поземельные налоги, трудовые повинности и поборы выплатами определенных сумм серебром, поскольку металл буквально наводнил страну. К 1640-м годам в китайскую казну поступало 750 тонн серебра в год. (Общее количество американского серебра, привезенного в Китай в XVII столетии, равнялось государственному доходу страны за двадцать три года.) Об уровне благосостояния китайцев свидетельствует то, что в XVII столетии даже «бедный» торговец тканями в Шанхае располагал капиталом (не оборотом) около пяти тонн серебра, а у богатейших семейств бывало и по несколько сотен тонн серебра.
17.9. Европа и Азия: португальцы
О торговле в Индийском океане в предыдущем периоде см 12.2.1, 12.2.3 и 15.5.3]
Характер европейского воздействия на регион Индийского океана стал ясен после первой же крупной экспедиции тринадцати кораблей под командованием Альвареса Кабрала, отплывших из Лиссабона в марте 1500 года. Прибыв в Каликут, они начали с двухдневного обстрела города, в попытке заставить правителя изгнать мусульманских торговцев. На протяжении тысячи с лишним лет торговый мир Индийского океана оставался практически мирным и космополитичным, различные сообщества сотрудничали к взаимной выгоде. Корабли обычно плавали по Индийскому океану без вооружения, собираясь группами, чтобы избежать нападения пиратов и оказать при надобности друг другу помощь в непогоду. И португальцы могли мирно присоединиться к этому обществу, хотя оказались бы в незавидном положении из-за низкого качества своих товаров. Вместо этого, подобно другим европейцам, они избрали насилие в качестве средства вхождения в сложившуюся систему торговли, чтобы обеспечить выгодные для себя условия. Они также приняли обычный для европейцев образ действий — коммерческие компании получали на родине лицензии от государства, обычно с монопольными полномочиями, и действовали за границей как представители государства.
Основная фаза португальской экспансии заняла первые пятнадцать лет XVI столетия; в этот период португальцы захватили с применением силы основные порты вдоль торговых маршрутов в Индийском океане. Поначалу им не везло — при первой встрече с объединенным флотом мамлюков и Гуджарата в 1508 году европейцы были разбиты[68], однако уже на следующий год они выиграли сражение у порта Диу. Первым значительным успехом был захват Гоа в 1510 году. Еще год спустя португальцы захватили ключевой торговый пункт Малакку. (Изгнанный ими правитель основал султанат Джохор на Малайском полуострове и вступил в союз с государством Шривиджайи в Палембанге — родовом гнезде правителей Малакки в начале XV столетия.)
В 1513 году португальцы попытались захватить Аден, но не сумели, и фаза завоеваний завершилась захватом Ормуза в 1515 году. Основная цель португальцев заключалась в том, чтобы лишить мамлюков и венецианцев контроля над прибыльной торговлей пряностями, перехватить ее в собственные руки и направить через мыс Доброй Надежды по Атлантике в Антверпен. Неудача с захватом Адена поэтому оказалась решающим фактором: португальцы, которые ежегодно пытались блокировать Баб-эль-Мандебский пролив для того чтоб перекрыть торговый путь через Красное море, остались лишь одними из множества торгующих в этом регионе и не могли насильственно добиться монополии. Вместо этого они занялись довольно примитивным рэкетом — выдавали «пропуска», которые якобы гарантировали мусульманским купцам безопасность от нападений немногочисленных португальских кораблей в этом регионе (безопасность, которой они пользовались с незапамятных времен бесплатно). Большинство купцов были достаточно богаты, чтобы заплатить и плыть дальше за прибылями. Когда азиатские мореходы отказывались платить, европейцам обычно приходилось отступать. Японцы после 1600 года отправляли корабли под знаком так называемой «Красной печати», с дозволения сёгуна, но на них не было никакого вооружения. (Команды и офицеры часто набирались из европейцев.) Если на такие корабли нападали европейцы, об этом попросту сообщали властям в Нагасаки, и те арестовывали голландские корабли и реквизировали товары до тех пор, пока европейцы не дозревали до выплаты компенсации. После захвата Малакки и Гоа, где обосновался вице-король и Estado da India, то есть колониальная администрация, португальцы получили возможность контролировать примерно половину всех перевозок перца и пряностей в Европу сроком почти на пятьдесят лет. В 1505 году торговля пряностями была объявлена королевской монополией, и на протяжении пятнадцати лет это обеспечивало почти весь доход правительства, хотя сама торговля была отдана по лицензиям различным коммерсантам. Эти торговцы с самого начала столкнулись с трудностями. Там, где португальцы получали отпор, например в Ачехе, их влияние равнялось нулю[69]. Малакка для португальцев была весьма важным пунктом благодаря своему ключевому стратегическому положению на торговых путях, но была уязвима, так как зависела от ввоза риса и находилась близко от могущественных султанатов Джохора и Ачеха. Не имея базы, было также трудно добиться контроля над соперничающими путями через Красное море. Португальцы пытались захватить ключевой порт Диу, но у них ничего не получалось до тех пор, пока местный правитель не поддался возрастающему давлению со стороны новых правителей Дели — Моголов, и не капитулировал в 1538 году. Но даже и после этого португальцы не обладали контролем над всеми таможенными сборами до 1555 года. Наконец, в 1559 году был захвачен Даман, расположенный напротив Диу, и португальцы наконец обрели полный контроль над Комбейским заливом.
Примерно около 1560 года португальцы смогли несколько расширить круг своей деятельности. Гоа стал центром торговой сети, распространившейся далее на восток, до поселения Макао (которое китайцы позволили основать в 1557 году) и еще дальше к востоку, до Нагасаки в Японии. Впрочем, торговля оставалась весьма ограниченной, поскольку португальское правительство позволяло отправить в Макао и Нагасаки только один корабль в год. Большую часть прибылей в этой области давало участие в торговле между Китаем и Японией — португальцы возили серебро из Японии и обратно — закупленный у китайцев шелк. Торговля с Бенгалией всегда была очень прибыльной, но португальцам не позволяли селиться там до тех пор, пока не был основан Хугли в 1580 году, но уже в 1632 году Моголы изгнали их оттуда. После первоначального периода насильственных действий в первых десятилетиях XVI века португальцев не воспринимали как серьезную угрозу, и ни одно государство не озаботилось созданием флота для защиты от них. В целом влияние португальцев было ограничено, и все большая часть их доходов определялась степенью включения во внутреннюю азиатскую торговлю, а не благодаря ввозу товаров в Европу. После 1560 года португальцы начали сдавать позиции. Султанат Ачех контролировал собственные пути доставки пряностей в Красное море, и во второй половине XVI столетия в этой торговле стало заметно оживление, поскольку ее стали поддерживать представители Оттоманской империи в Египте. Взамен османы снабжали Ачех высококачественным военным снаряжением для отпора португальцам. Португалия была не в силах остановить переход все возрастающих поставок товаров с их собственных путей на давние маршруты через Красное море и Египет, потому их доминирование в торговле между регионом Индийского океана и Европой было весьма кратковременным.

Карта 51. Португалия и Азия: XVI век
17.10. Европа и Азия: голландцы
Первая серьезная угроза португальским позициям со стороны Европы исходила от голландцев. Они находились в состоянии войны с Испанией (которая контролировала Португалию) с 1560-х годов, и это придало им столь же прочное убеждение в своей религиозной правоте, какое на Иберийском полуострове создавала реконкиста. В 1602 году голландское правительство создало Объединенную Голландскую Ост-Индскую компанию (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, или VOC), с целью прекратить конфликты среди голландских купцов из-за контроля над торговлей. По сути, это было государственное учреждение (поскольку в голландском государстве доминировали коммерсанты) — компания даже получила право решать вопросы войны и мира.
С 1605 года голландцы воевали в основном с португальцами, перенеся раздор из Европы на новую почву, и за семь лет, до 1612 года, военные издержки поглотили более трети начального капитала Ост-Индской компании. (Однако эти расходы были оправданны, поскольку на родине у компании имелась торговая монополия, и это приносило большие барыши.) В 1605 году голландцы захватили Амбоину на Молуккском архипелаге, но после этого удача от них отвернулась. В 1606 году они не сумели захватить Малакку, а в 1607—1608 дважды провалили попытки занять Мозамбик, ключевую точку на пути к западному побережью Индии. Применив прямой военный захват, голландцы добились только непосредственного контроля над островами, на которых выращивали пряности. В 1620—1621 годах, после тяжелой борьбы, они завоевали Банду (источник мускатного ореха). Корабли жителей Банды были быстрее и маневреннее голландских, и город удалось принудить к сдаче только под угрозой голода, отрезав пути доставки риса. После захвата города директорат Ост-Индской компании организовал истребление его населения. Около 2500 человек было убито, еще 3000 изгнано. Голландцы захватили угодья, на которых выращивались пряности, и завезли рабов для их обработки.
Настоящий нажим на португальцев начался лишь в середине XVII столетия. В 1641 году голландцы наконец захватили ключевой город Малакку, затем, в 1656 году, Коломбо на остров Шри-Ланка и в 1663 году Кочин на западном побережье Индии. Опорным пунктом голландцев в Юго-Восточной Азии стала Батавия на острове Ява: оттуда можно было контролировать важные источники пряностей, такие как Банда и Макассар на Целебесе. Это позволило голландцам практически полностью подчинить себе торговлю рядом важнейших специй (гвоздикой, ядром и шелухой мускатного ореха, а также корицей), вынуждая местных правителей продавать пряности только им. Однако захватчики очень быстро сообразили, что подобная политика не сработает относительно великих континентальных держав, таких как Китай, Индия и могущественных японцев. В 1622 году голландцы уничтожили более восьмидесяти джонок близ побережья Китая, чтобы добиться торговых соглашений. Китайцы отказались склониться перед их угрозами. Голландцев не допускали до торговли с Китаем вплоть до 1727 года, когда им наконец позволили войти в порт Кантон. Китайские купцы из Фуцзяня, впрочем, наведывались на Яву, но держали торговлю в своих руках и диктовали собственные условия.
Голландцы стремились во что бы то ни стало установить торговлю с Японией и были готовы снести любые унижения, лишь бы она не прервалась. Японцы же увидели в голландцах полезный противовес португальцам, которые вели свою торговлю через порт Нагасаки, начиная с 1540-х годов. После того как португальцев исключили, голландцев заставили удалиться на малый островок Дэдзима близ побережья. Размеры острова составляли 82 на 236 шагов, к нему с материка вела узкая дорога по дамбе, охраняемая укрепленной сторожевой башней. За голландцами постоянно следили слуги-японцы и держали под контролем официальные переводчики в количестве 150 человек. Им позволялось приводить только один корабль в год, а его команду, включая офицеров, обычно «били палками, как собак». Матросам позволялось сойти на материк раз в год, чтобы воздать почести сёгуну. И голландцы мирились с таким отношением более двух веков, поскольку торговля оставалась чрезвычайно выгодной — даже при том, что половина отправляемых судов по дороге гибла, а содержание десяти или двенадцати служащих на Дэдзима обходилось дороже, чем полутысячный гарнизон в Батавии.
Поначалу голландцы возили серебро из Японии в Китай, но после того, как в 1668 году на вывоз серебра был наложен запрет, сосредоточились на шелке, фарфоре и лаковых изделиях, которые они обменивали на индийский хлопок и бенгальский шелк-сырец. В 1650 году Ост-Индская компания указывала своим агентам на Дэдзима, что им следует терпеть навязанные условия и «исполнять желания этого дерзкого, высокомерного и требовательного народа, чтобы они всегда были вами довольны». Характер голландской торговли с японцами показывает, что они, как и португальцы, извлекали максимальную прибыль от участия в азиатских торговых операциях, а не от отправки незначительных партий товаров в Европу.
17.11. Европа и Азия: англичане
В XVI столетии Англия была все еще относительно бедна по сравнению с остальной Европой, и более четырех пятых ее экспорта составляло сукно. (Качество его было не слишком высокое, и когда английские купцы в начале XVII столетия попытались продать его в Японии, японцы, привыкшие к превосходным китайским материалам, отказались от сделки.) Первый прорыв удался им в 1581 году, когда османские власти позволили англичанам торговать с Греческим архипелагом и в Алеппо, который являлся конечным пунктом сухопутных торговых путей с востока. Британская Ост-Индская компания (EIC), организованная в 1600 году, обладала монополией, как и другие европейские предприятия в Азии. Она не платила налогов в течение четырех лет и, что весьма существенно, получила право вывозить золото и серебро, чтобы закупать товары на востоке. Поначалу им не слишком везло, потому что они не могли конкурировать ни с португальцами, ни с голландцами. В начале 1620-х годов компания оставила попытки торговать с японцами и, сосредоточившись на Персидском заливе, добилась некоторых успехов. В союзе с иранскими Сефевидами EIC отбила Ормуз у португальцев и постепенно стала основным представителем европейской торговли в регионе. Правда, EIC все еще приходилось выплачивать дивиденды правительству — Яков I получил 10 000 фунтов, его фаворит Бэкингем — столько же, а жена Бэкингема — 2000; в целом компании пришлось отдать более половины доходов от захвата Ормуза.
Положение EIC постепенно улучшалось на протяжении XVII столетия. В 1639 году компания получила концессию от местного индийского правителя на торговлю с небольшим рыбачьим поселением Мадрас. Намного больше — в 1661 году, когда португальцы отдали Бомбей в качестве свадебного приданого для инфанты Катарины, выходившей замуж за Карла II. В 1668 году этот большой город был отдан EIC, но лишь после того, как компания дала «займы» королю: 10 000 (1662 год), 50 000 (1666 год) и 70 000 (1667 год). То, что ей удалось поднять такие суммы, наглядно иллюстрирует, насколько выгодна была торговля с Азией. В 1698 году соперничающей компании разрешили действовать на том же рынке, после того, как она «ссудила» правительству два миллиона фунтов. В 1709 обе компании слились, их совместный капитал составил три миллиона фунтов, из которого, опять-таки, пришлось «ссужать» правительству, пока компания использовала одолженные средства. К тому моменту EIC проиграла неосмотрительно начатую войну с Моголами в 1690—1691 годах, но по мирному договору получила право торговать с никому не известной деревней Калькутта — голландцы же торговали с близлежащим Хугли. После основания Пондишери близ Мадраса в 1674 году и Чандранагора вверх по течению от Калькутты EIC стала ощущать растущее давление со стороны французов. Но британцы по-прежнему опережали французов (объем их торговли был выше в почти четыре раза) и все увереннее становились основной европейской державой в торговле с Индией.
До 1718 года Голландская Ост-Индская компания (VOC) доминировала в торговле чаем, закупая зеленый чай, который китайцы привозили на джонках в Батавию. Воспользовавшись китайско-голландским торговым спором, британцы сумели добыть себе право торговать в Кантоне, которое было дано им китайцами в 1710 году. Установленные китайцами условия были жесткими — британцам позволялось закупать только чай, шелк-сырец и фарфор, расплачиваясь серебром. Перед входом в гавань они были обязаны сдать все оружие и боеприпасы, и селиться в городе им не разрешалось. EIC воспользовалась этим положением, чтобы захватить поставки черного чая в Европу, который приобретал все большую популярность и вытеснял зеленый чай, поставки которого контролировали голландцы. Требование китайцев платить за товары только серебром было типично для преобладающего большинства торговых контрактов EIC — в 1680-е годы почти 90 процентов грузов, вывозимых ими из Англии, состояло из серебра (доставленного из Америки). Другим важным предметом торговли был индийский хлопок и ткани из него. В 1620-е годы EIC ввозила около 250 000 рулонов индийских хлопковых тканей ежегодно. К 1680-м годам эта цифра равнялась уже почти двум миллионам рулонов, а еще через несколько лет и она удвоилась. Из этого объема часть вывозилась в Африку, где обменивалась на рабов, но по большей части ткани раскупались в самой Британии благодаря их очень высокому качеству. В 1676 году английские производители переняли индийскую технологию хлопчатобумажной (ситцевой) набойки, но выдержать конкуренцию по-прежнему не могли. Английские тонкие сукна в Индии не пользовались спросом — они были такого низкого качества, что использовались лишь на попоны для слонов. Развитие английской промышленности началось только после 1722 года, когда внутренний рынок был закрыт для ввоза текстиля из Индии (он допускался только для транзитного экспорта). Мы видим в этом классический случай запрета импорта от более продвинутого конкурента; это стало основой для широкой экспансии английского производства тканей в XVIII веке, обычно называемой началом «промышленной революции».
17.12. Азия и европейцы
Мы должны четко представлять себе положение европейцев в общей панораме истории Азии. На протяжении XVI столетия португальцы были единственными европейцами, торговавшими с этим регионом, но и они до 1630-х годов посылали на восток в среднем семь кораблей в год. Из них четыре возвращались назад, а прочие оставались торговать в Азии. Голландцы до 1665 года посылали на восток не более девяти кораблей в год, со средним общим тоннажем около 3750 тонн. На пике своей деятельности в регионе, в 1735 году, голландцы отправляли тридцать кораблей с общим тоннажем около 20 000 тонн. Только после 1750-х годов средний тоннаж европейских судов, задействованных в азиатской торговле, превысил 1000 тонн (что все еще меньше китайских джонок XII столетия). Масштаб европейской торговли интересно сопоставить с активностью столицы Оттоманской империи, Константинополя, в порт которого в начале XVI столетия в среднем заходило в год до 4300 судов. В 1570-е годы таможенные сборы правителей Гуджарата втрое превышали всю стоимость португальской торговли в Азии. Численность европейцев в Азии была ничтожно мала. В XVI столетии на всем протяжении между Персидским заливом и Нагасаки насчитывалось около 10 000 португальцев. Что касается англичан, то их в 1700 году насчитывалось 114 человек в Мадрасе, около 700 в Бомбее и 1200 в Калькутте.
Торговая система в регионе Индийского океана, объединяющая Индию, Юго-Восточную Азию и Китай, основывалась на огромном внутреннем рынке (в 1700 году в Азии проживало более двух третей населения мира, а в Европе — одна пятая), высоко коммерциализированной экономике и методах, отработанных на протяжении более тысячи лет. Ритмы активности все еще диктовались сезонными ветрами; порты и торговые города поднимались и приходили в упадок из-за тех же факторов, которые действовали в прошлом. В Гуджарате значение Камбея перешло к Сурату, особенно после того как Моголы добились контроля над сухопутными путями к Дели; в 1573 году Бендер-Аббас (Фомбрун) унаследовал влияние Ормуза после того, как тот был захвачен португальцами; а в Иране, начиная с 1722 года, в связи с гражданской войной, начало возрастать значение Басры. Моха на Красном море добилась процветания по мере того, как возрастали поставки кофе в Европу. В начале XVII столетия Малакка пришла в упадок, и ее заменил Бантен (в произношении европейцев — Бентам) на северо-западе Явы, где образовались большие сообщества индийских и китайских торговцев. В 1682 году его завоевали голландцы, и торговля была принудительно перенесена в Батавию. Порты и фактории, контролируемые европейцами, также расцветали и увядали — что произошло с Гоа по мере возрастающего значения Батавии, Мадраса и Калькутты.
Торговый мир Индийского океана всегда был космополитичен, и остался таким после появления европейцев — они стали лишь еще одним торгующим звеном. С самого начала европейцы были вынуждены стать частью этого обширного мира (и частично пошли на это). В 1499 году двое португальцев покинули Васко да Гама и предпочли пойти на службу к правителям Индии, которые платили больше. В 1503 году два мастера по литью пушек переехали из Милана в Каликут, а двумя годами позже венецианские мастера начали работать в Малабаре. Португальцы представляли собою меньшинство. Даже в главном своем оплоте Гоа они были менее многочисленны, чем азиатские купцы (особенно индуисты, несториане, армяне и джайны), без чьей помощи они не смогли бы подключиться к устойчивым древним связям в регионе. К середине XVI столетия в контролируемых португальцами городах на западном побережье Индии численность населения Гуджарата по отношению к ним самим составляла три к одному. В Ормузе в 1600 году четверо из десяти жителей были мусульманами, примерно треть — индуистами (в основном из Гуджарата) и лишь менее одной пятой составляли португальцы. Европейцы внедрились в азиатский мир также далеко за пределы территорий, контролируемых ими — много португальцев проживало, например, в Бирме, а в конце XVII столетия король Таиланда взял к себе советником некоего грека по имени Константин Фолкон. Азиатские коммерсанты часто нанимали, а то и покупали европейские корабли и брали на службу европейских капитанов и матросов. Европейцам приходилось полагаться на местных жителей, чтобы разобраться в сложностях устройства азиатской экономики. В XVIII столетии европейские корабли обычно прибывали в большой торговый порт Сурат, а не в Бомбей, контролируемый британцами, поскольку в первом имелась намного лучшая банковская система и различные возможности для ссуд и других форм кредита. В Бенгалии группа дельцов, известная под названием «баньян», поставляла капитал и становилась партнером тех сотрудников Британской Ост-Индской компании, которые хотели открыть собственное частное дело. Обе стороны оказались в выигрыше, так как поставляемые товары не облагались налогом. Эта система еще более усложнилась с введением особых «агентств» в XVIII столетии. Они вели торговлю от имени европейцев (за немалую долю прибылей) и к концу столетия отвечали за больший объем английской торговли, чем EIC, хотя формально она все еще обладала монополией.
Преобладающая часть торговли в бассейне Индийского океана и Юго-Восточной Азии не контролировалась европейцами. И Китай, и Япония были достаточно сильны, чтобы диктовать условия торговли, и почти полностью исключали европейцев. Европейские историки часто утверждают, что Япония была «закрыта» для внешней торговли после 1640 года, за исключением одного корабля в год, который было позволено голландцам приводить в Нагасаки. На самом деле Япония вела интенсивную внешнюю торговлю — в 1680-е годы более ста судов в год плавали между Японией и Китаем. В XVII столетии в Индии имело место заметное оживление торговли в Персидском заливе и массовое переселение купцов-индусов, в основном из Гуджарата, во все концы региона. Купцы с Коромандельского побережья контролировали торговлю с Таиландом, где они имели возможности сбивать цены европейских купцов и получать плату за индийский текстиль драгоценными камнями и экзотическими товарами. Конкуренция была настолько жесткой, что еще до конца XVII столетия европейцы оставили все свои фактории в этой области. Наблюдался также резкий рост торговли между Таиландом и Китаем: китайцы продавали фарфор и шелк в обмен на тиковое дерево и рис. К началу XVIII столетия Бангкок стал крупнейшим судостроительным центром в Азии. Европейцы также начали доверять азиатским корабелам. Это объяснялось отчасти использованием высококачественной тиковой древесины, более долговечной, чем европейские породы (даже дуб), и растущим дефицитом корабельных пород дерева в Европе. Почти все корабли, доставлявшие китайские товары в Европу в XVIII столетии, были построены в Индии. Европейцы считали выгодным участие в сложной системе внутриазиатской торговли просто потому, что масштабы ее были огромны. В конце XVII столетия голландцы перевозили большие партии олова с острова Суматра в Китай, где спрос на него был наибольшим. Почти половину камфары, закупаемой ими в Японии, доставляли в Индию, там же продавали и четыре пятых привозимой из Японии меди. Мы можем судить о сложности этой системы из того факта, что сахар на северном побережье Явы производился под контролем Голландской Ост-Индской компании в поместьях, принадлежавших местной яванской знати, с использованием труда «временно закабаленных» китайцев. Основной рынок сбыта сахара находился не в Европе, а в Сефевидском Иране. Голландцы, предъявлявшие высокие требования к качеству железных изделий и оружия, предпочитали пользоваться продукцией Индии. В 1660-е годы они перевозили из Индии в Батавию более 115 000 фунтов гвоздей, 188 000 фунтов пушечных ядер, 189 000 фунтов железных чушек и около 5 тонн стали ежегодно.
Итак, мы видим, что в целом на протяжении двух с половиной веков после 1500 года европейское влияние в Азии сказывалось весьма слабо и отнюдь не было революционным. Европейские морские перевозки были ограничены и не слишком эффективны. Прокладка пути в обход мыса Доброй Надежды не настолько значительно понизила расходы на плавание, чтобы поколебать издревле установленные пути торговли через Красное море и Египет в Венецию, которая с 1530-х годов вновь активно участвовала в процессе. На самом деле, у нас даже нет уверенности в том, что расходы на плавания мимо этого мыса были меньше, чем при отправке сухопутных караванов по старым путям. Новый маршрут был лишь дополнением к прежним торговым отношениям, которое способствовало медленному повышению уровня торговли между Европой и остальной Евразией. То был один из компонентов длительного процесса возрастающей интеграции в пределах Евразии, который продолжался на протяжении нескольких тысячелетий. Он также позволил европейцам довести свои торговые и кредитные системы до уровня, уже достигнутого в Китае и Индии.
17.13. Древние торговые пути Евразии
[О предыдущем периоде см. 9.8]
Для того чтобы эффект от прокладывания новых маршрутов стал ощутим в полной мере, потребовалось несколько веков. Поэтому древние пути старались сохранять. Маршруты через Сахару все-таки пострадали от конкуренции с морскими дорогами в Европу. Но они никогда не были особо значительными, а в пределах северной Африки торговля, особенно таким ценным товаром как золото, процветала, и караваны верблюдов отправлялись в путь по-прежнему. В том, чтобы подвозить золото на побережье и затем отправлять морем, не было никаких особых преимуществ. Работорговля продолжала развиваться (хотя была ничтожной по сравнению с европейской торговлей в Атлантике). На рынки рабов в Средиземноморье европейцев практически не допускали. В сферу торговли вошли также новые товары, такие как камедь, шкуры и слоновая кость. Транс-сахарская торговля была почти полностью изолирована от европейских конкурентов лесами к югу от саванны и прочными культурными связями с северной Африкой, куда европейцам не удавалось проникнуть. Эта ситуация оставалась неизменной вплоть до XIX столетия.
Самой древней из всех торговых систем Евразии был Шелковый путь, соединяющий Юго-Западную Азию с Китаем. В XVI столетии этот путь из конца в конец занимал до восемнадцати месяцев, но этот срок был ненамного продолжительнее пути в Китай через океан, с учетом необходимости дожидаться попутных ветров-муссонов. Все данные свидетельствуют, что Путь процветал и в XVII столетии. Начиная с середины XV столетия Шелковый путь находился под властью сильных и стабильных империй — Высокой Порты и династии Мин, государств-наследников империи Тимура в центральной Азии и, с начала XVI столетия, Сефевидов в Иране. С 1450-х годов купцы из Мекки регулярно посещали Китай, да и египетские от них почти не отставали. Торговля между Оттоманской империей и Китаем велась в широком масштабе, особенно высоко ценился фарфор эпохи Мин. Некоторые мастерские в Китае специализировались на торговле с западом, и ныне две из крупнейших в мире коллекций фарфора эпохи Мин находятся в Стамбуле и Иране. Только в течение XVII столетия старый Шелковый путь стал терять свое значение. Отчасти сказалась политическая нестабильность, особенно в центральной Азии, и к тому моменту в XVIII столетии, когда Китай распространил свое политическое влияние на запад дальше, чем когда-либо со времен династии Тан (за тысячу лет до того), Путь уже страдал от жесткой конкуренции. Она возникла за счет развития торговых путей через Юго-Восточную Азию и Индийский океан, а также формирования российских маршрутов.
Новые сухопутные маршруты возникали также в Юго-Западной Азии. Здесь центральную роль играли армянские купцы. На протяжении XVI века они контролировали пути из Константинополя в Алеппо и через Месопотамию в Иран. К концу этого столетия они также обосновались в Гуджарате. Сухопутный караванный путь из Алеппо в Индию процветал и не испытал серьезных затруднений вплоть до открытия Суэцкого канала во второй половине XIX столетия. Армяне завязали тесные контакты с империей Сефевидов в Иране, установили торговые связи в обход Оттоманской Порты, например, по Каспийскому морю и Волге в Московию. Их общины возникли вдоль всех торговых путей Евразии от Антверпена и Лондона на западе до Индии и даже Манилы на востоке. Армяне также специализировались на перевозках из Китая в Индию через Лхасу, причем наличие связей между их разбросанными общинами позволяло обеспечивать банковские услуги на территории почти всей Евразии. О сложности евразийского мира, о тесных связях между различными сообществами и между разными регионами говорит, например, тот факт, что в 1730-е годы королевская Африканская компания в Лондоне наняла Мельхиора де Джаспаса, армянина, владеющего арабским языком, для ведения дел с мусульманскими торговцами в Гамбии, откуда поставлялись рабы в Атлантический регион, от чего зависело благосостояние компании. Он прожил в Гамбии несколько лет и, как многие другие европейцы, там же и умер.
17.14. Евразийская экономика: Оттоманская империя, Индия и Китай
17.14.1. Оттоманская империя
[О политической истории империи см. 18.2]
Оттоманская империя, или Порта, стала центром развития мировой экономики, начиная с первых лет XVI века. После 1517 года она превратилась в одну из тех немногих империй в истории Евразии, которые могли контролировать все три ключевые торговые пути Юго-Западной Азии — через Босфор в Черное море, из Леванта в Месопотамию и по суше в центральную Азию и Китай, а также маршрут из Египта по Красному морю в Аден и Индию. Другие, дополнительные пути были проложены из Дамаска через Бурсу во Львов и страны восточной Европы, в том числе на Дунае; они были намного важнее для торговли пряностями, чем путь между Египтом и Венецией. Оттоманская империя была также центром поставок шелка, как на собственный внутренний рынок, так и в Европу. Примерно до 1650 года эта торговля концентрировалась в Бурсе, затем переместилась в Смирну (современный Измир). Оттоманская империя была представлена многочисленными торговыми землячествами в ключевых городах, таких как Константинополь, Алеппо и Каир. Оттоманское правительство почти не облагало их налогами, позволяя им такую же, если не большую свободу, чем правительства европейские. Порта владела крупным военным флотом, способным защитить торговые пути, особенно те, по которым везли зерно из Египта в столицу. Использовался флот также для поддержки османских купцов, как видно из нападения на португальцев на Диу в 1538 году, в рамках успешной кампании по восстановлению торговли пряностями прежним путем через Египет. Контроль над этой частью Индийского океана, особенно Мохой и портом Аден, способствовал также получению прибылей от торговли зернами кофе. И ресурсы у Оттоманской империи были значительными — в начале XVII столетия правительство было в состоянии нанять 118 судов, принадлежащих консорциуму 56 судовладельцев, чтобы они совершали 658 рейсов в год, доставляя зерно с берегов Черного моря в столицу.
17.14.2. Индия
[О политической истории Индии см. 18.5]
Оттоманская империя была крупнейшей сухопутной и морской державой. Империя Моголов в Индии базировалась преимущественно на суше, извлекая свои богатства прежде всего из высокопродуктивного сельского хозяйства. Купцам позволялось свободно торговать; государство почти не поддерживало их, зато купцы почти не платили налогов. Многие из могольской знати и правящей семьи были тесно связаны с торговлей, особенно в больших портовых городах, содержали собственные флотилии, которые обеспечивали им торговое преобладание в Бенгалии. Эта область была также одним из основных производителей шелка в мире — к концу XVII столетия отсюда им снабжалась почти вся Индия, а голландские моряки доставляли ткани в Японию, поскольку шелк был высокого качества. В южных султанатах Биджапур и Голконда (завоеванных Моголами только в 1680-е годы) продолжали существовать давние и очень прочные связи между правителями и торговыми городами, а также с представителями торгового класса. Эти города, как и в прошлом, сохраняли тесные связи с азиатскими торговыми системами, и правители получали основные доходы также благодаря торговле.
Как и повсюду в Евразии, промышленным производством в Индии в основном занимались крестьяне в качестве дополнительного источника доходов в периоды, когда сельскохозяйственные работы прекращались. Отдельные районы специализировались, в частности, на производстве шелковой и хлопчатобумажной пряжи, добыче соли и селитры. Так, область Касимбазар поставляла 2,2 млн фунтов [около 880 тонн] шелка в год. Три европейских компании нанимали 1600 ткачей, но даже их труд обеспечивал лишь половину от всей продукции шелка — остальное продавалось на месте или через индийских купцов. К 1640-м годам в областях Масулипатам и Варанаси работало по семь с лишним тысяч ткачей, изготовлявших хлопковые ткани как для местного рынка, так и для экспорта в Европу и Африку. Индийские хлопчатобумажные ткани были, пожалуй, наивысшего качества во всей Евразии. Еще одним видом продукции, в котором Индия не знала себе равных, была сталь. Вплоть до начала XIX столетия, вероятно, только Швеция производила товары столь же высокого качества.
17.14.3. Китай
[О политической истории Китая см. 15.4]
К XVI столетию Китай давно уже залечил раны, нанесенные монгольским нашествием и «черной смертью». При правлении династии Мин экономика развилась и процветала. Как и в прошлом, она основывалась на высокопродуктивном сельском хозяйстве, которое постоянно совершенствовалось. Между концом XIV столетия и 1600 годом урожайность возросла на 60 процентов, была заведомо выше самых лучших достижений Европы в XVIII столетии, вдвое превосходила соответствующий показатель Франции и, видимо, приблизилась к уровню, максимально возможному в доиндустриальный период. И площади возделываемых земель продолжали расширяться: между 1400 и 1700 годами население Китая удвоилось. Во многих областях существовало высокоспециализированное коммерческое сельское хозяйство, ориентированное на экспортную торговлю. Это было особенно характерно для провинций Фузцянь, Цзянси и Аньвэй, где большие площади либо нанимались чаеторговыми фирмами, либо находились под их контролем. В других областях до трех четвертей земли было занято под хлопок, и крестьяне вынуждены были закупать продукты питания на рынке. Другие провинции специализировались на производстве табака и сахарного тростника.
Эти значительные достижения составляли часть товарно-денежной экономики, развитие которой стимулировалось массовым притоком серебра из Америки. К XVII столетию Китай вновь перешел на бумажные деньги, хотя они по большей части выпускались частными, а не государственными банками. Основной центр частного банковского дела находился в Шаньси, где в XVIII столетии были основаны крупные фирмы — восемь самых больших из них им.ели более тридцати отделений по всему Китаю, а к началу XIX столетия распространили свою деятельность также на Японию. По мере возрастания богатства вложения в промышленность и торговлю росли намного быстрее, чем вложения в земельные угодья, и большие семейства, торговавшие солью в XVIII столетии, или Ко-Хон в Кантоне, ведущие зарубежную торговлю, контролировали огромные концентрированные в их руках капиталы. Естественно, политическая власть торгового сословия возрастала тоже, многие города фактически находились под управлением гильдий и конфедераций купцов, как в Европе и Индии. Города продолжали расти, всё более интегрируясь на огромном внутреннем рынке, на котором проходила значительная часть китайской торговли — хлопковые ткани перевозились иногда на расстояния до восьмисот миль. В Европе, с ее раздробленной политической структурой, перевозки на такие расстояния сочли бы экспортом. Притом «настоящий» экспорт обеспечивал половину государственного дохода Китая к концу XVI столетия. Хлопковые ткани доставлялись также в большом количестве на север, в частности в Манчжурию, где из-за повышенной сухости воздуха устраивались большие подземные мастерские. В конце XVII столетия более 3500 кораблей ежегодно курсировало с юга на север, перевозя по двадцать-сорок тонн грузов. Масштабы производства хлопковых тканей были таковы, что приходилось в большом количестве импортировать хлопок-сырец. К концу XVIII столетия Китай ввозил из Индии более 27 млн фунтов хлопка ежегодно — вдвое больше, чем Британия ввозила из Соединенных Штатов в 1800 году, когда началась «промышленная революция».
Параллельно с этими процессами шло развитие технологий — появилась набойка в пять цветов, сложные станки для тканья шелка и хлопка, которые требовали для обслуживания не менее трех работников. По мере быстрого расширения производства наряду с высококвалифицированными мастерами и ремесленниками образовалось большое количество рабочих малой квалификации, служивших в больших мастерских. В разных местностях существовала своя специализация: в Цзиндэчжене производили фарфор, в Синцзяне ткали хлопок, а наиболее роскошные шелка — в Сучжоу. Провинция Цзянси специализировалась на производстве бумаги — к концу XVI столетия там процветало более тридцати мастерских, по сути, фабрик, на которых работало свыше 30 000 рабочих. Аналогично производство чугуна и стали было сконцентрировано в провинциях Хубэй, Шэньси и Сычуань: комплексы по шесть-семь печей обслуживал персонал в две-три тысячи человек. Производство конопли, шелка и хлопка также было сконцентрировано, в их выработку и продажу были вовлечены более 4000 ткачей и в несколько раз больше прядильщиков. Китай мог себе позволить такую специализацию, поскольку обладал хорошо развитой системой внутренних коммуникаций. Дороги были не хуже тех, которые имелись в Европе до внедрения железных дорог, а судоходные реки и каналы были намного лучше.
17.15. Евразия около 1750 года
Влияние, которое приобрели западноевропейские державы (в частности, Британия, Франция и Голландия) на экономику Атлантического региона благодаря своему превосходству над коренными жителями Америки, как техническому, так и биологическому (устойчивости к болезням), позволило им основательно обогатиться. Богатство измерялось в золоте и серебре, прибыли получали от работорговли и продуктов рабского труда (сахара, табака, индиго и риса). В результате положение Западной Европы в Евразии изменилось. Нет никаких сомнений в том, что до 1500 года, когда Колумб прибыл в Америку, а португальцы достигли Индийского океана, Европа все еще сильно отставала в своем развитии от древних государств остальной Евразии. Богатство, привезенное из обеих Америк, напрямую подействовало на благосостояние ряда стран Западной Европы и способствовало развитию коммерческих и банковских структур, а также обеспечило приток капитала, который можно было вложить в развитие собственной экономики. Что еще более важно, оно дало возможность проникнуть в сложный торговый мир Азии. Продукция, которую могла изготовить или поставить Европа, мало интересовала великие державы Индии и Китая, наладившие собственное производство продукции более высокого качества. У европейцев не было ни технического, ни военного превосходства над этими государствами, и того влияния, которое они сумели приобрести в регионе, явно было недостаточно для завоевания великих континентальных империй. Без золота и серебра Америки Европа не смогла бы закупать продукцию Азии, накопить деньги и, постепенно проникая в эту часть мира, добиться для себя определенных выгод.
Анализируя накопления капиталов во второй половине XVIII столетия, можно убедиться, что Европа использовала период между 1500 и 1750 годами, чтобы нагнать более зажиточные регионы Евразии, в частности, Китай и Индию. Хотя цифры неизбежно неточны, они вполне согласуются друг с другом и позволяют выявить отчетливую тенденцию. К середине XVIII столетия разные страны и империи Евразии достигли примерно одинакового уровня благосостояния в терминах валового национального продукта на душу населения. (Китай и Индия по-прежнему оставались впереди Европы по соотношению размеров, площадей возделываемой земли, природных ресурсов и населения.) В 1750 году средний гражданин Китая был, по-видимому, зажиточнее жителя Западной Европы примерно на десять процентов, а жители Индии в среднем были либо на том же уровне, что Западная Европа, либо не намного ниже. Среднестатистический житель Японии был чуть беднее граждан других основных государств Евразии, и примерно на пятую часть менее зажиточен, чем житель Западной Европы. В 1500 году менее один из двадцати европейцев проживали в городах, да и больших городов на континенте было очень мало. К XVIII столетию примерно девять из десяти европейцев все еще проживал в сельской местности и зависели от агротехники, как и их предки. В 1800 году городское населения Европы все еще было малочисленным относительно общего населения, если сравнивать этот показатель с Китаем, и самые большие города мира располагались за пределами Европы — Пекин и Кантон были больше Лондона, а Ханчжоу, Эдо и Константинополь[70] больше Парижа.
Европейская землевладельческая аристократия оставалась доминирующим социальным и политическим классом и контролировала почти весь прибавочный продукт, производимый крестьянами. Промышленное производство все еще осуществлялось, как и во всей Евразии, квалифицированными работниками в маленьких мастерских либо на дому. Инфраструктура для перевозок оставалась неразвитой. Однако уже проявлялись, хотя пока еще смутно, первые признаки того экономического взлета и технологического обновления, которые произошли в XIX столетии и полностью преобразили положение Европы в мире.
Глава 18. Империи, государства и огнестрельное оружие
18.1. Влияние пороха на Евразию
Изобретение огнестрельного оружия целиком принадлежит китайцам. На протяжении трех с небольшим веков, до 1280 года, они создали не только взрывчатую смесь, но также оружие с металлическими стволами, снаряды типа ракет и достаточно эффективные пушки. Новая технология быстро распространилась на запад, и первые примитивные образцы использовались в Европе уже к середине XIV века. Однако широкомасштабное применение огнестрельных видов оружия задержалось еще на сто лет, поскольку эти первые образцы, изготовленные методом сварки, слишком часто разрывались. Только когда догадались использовать методы колокольного литья с добавлением бронзы и латуни, надежность орудий возросла. Первыми всерьез применили огнестрельное оружие страны исламского мира. В 1453 году турки успешно применили 62 крупных осадных орудия для разрушения стен Константинополя. Тремя годами позднее, при осаде Белграда, у них было уже почти 200 орудий. В Индии пушки были впервые применены на севере в 1440-х годах и в Декане тридцать лет спустя. Эти первые образцы орудий бывали настолько тяжеловесны, что перевозить их можно было только по воде, а иногда их даже отливали прямо на месте применения. Только в конце XV столетия научились делать передвижные орудия. Первые пушки, изготовленные методом чугунного литья, которое позволило снизить расходы при их изготовлении до девяноста процентов, появились в Европе в 1543 году. Оставалась проблема отсутствия достаточных мощностей для производства таких орудий, и потому медные и бронзовые пушки использовались вплоть до XVII столетия. (Французы перешли к полностью чугунным орудиям лишь в 1660-е годы). Наряду с внедрением артиллерийских орудий в начале XVI столетия в Европе разработали первый вид оружия для пехотинцев, аркебузу, а в 1550-е годы появились первые, примитивные образцы мушкетов.
В Китае изобретение огнестрельного оружия не произвело переворота, поскольку его начали производить в больших количествах только при правлении династии Мин, когда в государстве царила внутренняя стабильность, а внешние конфликты были незначительны. В результате при отсутствии военной необходимости Китай в вопросах вооружения отстал от исламского мира, и лишь в начале XVI столетия, после прибытия дипломатической миссии Высокой Порты в 1520 году, в Китае взяли на вооружение большие осадные орудия. Далее началось стремительное развитие. Уже в 1564 году китайцы применяли чугунные ядра на северной границе, а в 1570-е годы на Великой Китайской стене была установлена система укрытий для мушкетеров, также ее снабдили передвижной артиллерией. А вот в вопросе фортификации китайцы далеко обогнали остальную Евразию, поскольку у них было намного больше времени, чтобы продумать принципы защиты от огнестрельного оружия. Большие и малые города были обведены стенами до пятнадцати ярдов толщиной, способными выдержать практически любой обстрел. В 1840 году британский военный корабль, оснащенный семьюдесятью четырьмя 32-фунтовыми пушками, произвел двухчасовой обстрел Кантона, но командиру пришлось доложить, что это «не дало вообще никакого эффекта». В 1860 году британский генерал Ноллис, прибыв в Пекин, был потрясен, когда увидел окружающие город стены — пятьдесят футов в высоту, пятьдесят футов в ширину и с мощеной дорогой по верху. На западе Евразии появление огнестрельного оружия привело к значительно большей дестабилизации. Возобновление активности Оттоманской империи, начиная с 1420-х годов, захват Константинополя и практически полное покорение Балканского полуострова к 1480-м годам были в значительной мере обусловлено успешным применением нового вооружения. В Индии возвышение империи Моголов в начале XVI столетия также базировалось на вооружении армии мушкетами с фитильным запалом (примерно на тридцать лет раньше, чем в Европе) и внедрении полевой артиллерии. В Японии огнестрельное оружие сыграло решающую роль в новом объединении страны в конце XVI столетия. И все же наибольший эффект был ощутим в Европе, разделенной на множество мелких государств, раздираемой династическими конфликтами, которые ближе к концу XVI столетия усугубились религиозной рознью. Новые виды оружия не только произвели революцию в военном деле, но изменили саму природу государственной власти в европейских странах и определили ее дальнейшую эволюцию.
В XVI столетии Европа все еще оставалась окраинной областью Евразии. Китай, величайшее государство мира, с населением 160 миллионов в 1600 году, при династии Мин процветал, был стабилен и почти не сталкивался с внешнеполитическими проблемами; его историю, отчасти изложенную в других разделах [15.4 и 17.15.3], мы здесь рассматривать не будем. Важнейшими событиями XVI столетия в Евразии стали успехи двух больших империй — Сефевидов в Иране и Моголов в Индии. Оттоманская империя также продолжала свою экспансию и достигла пика могущества. Эти три государственных образования и менее значительное государство узбеков составили великий четырехугольник «тюркских» держав, правящие дома которых говорили на родственных языках тюркской группы. Все четыре были тесно связаны (не всегда гармонично), располагаясь в центре мусульманского мира, по-прежнему доминируя в центральных регионах Евразии и держа под контролем развитую торговую сеть. К середине XVI столетия эти четыре империи насчитывали около 135 миллионов населения — в два с половиной раза больше, чем в Европе.
18.2. Оттоманская империя
[Ранее об Оттоманской империи см. 15.8]
Османская держава была последней из великих империй, подчинившей и объединившей под своим началом цивилизации Юго-Западной Азии. Она же служила связующим звеном этого региона со Средиземноморьем и Балканами. В Средиземноморье власть ислама распространилась до пределов, утерянных пятью веками ранее. Держава контролировала три великих торговых пути Юго-Западной Азии (через Босфор в Черное море, из Леванта в Месопотамию, а оттуда сушей в центральную Азию, и по Красному морю в Индийский океан), а также три основных района производства злаков (Месопотамию, Египет и берега Черного моря). На протяжении трехсот лет после 1470-х Черное и Азовское моря были «турецкими озерами».
Хотя с конца XVIII столетия Оттоманская Порта потеряла свои позиции в Европе, она сохраняла контроль над Юго-Западной Азией (кроме Египта) до 1918 года и формально не была ликвидирована вплоть до 1923 года. Ее историю, как и историю Византийской империи, часто описывают как процесс последовательного распада — однако и в XVI веке, и в последующие столетия империя процветала, продолжая расширять сферы своего влияния еще в XVIII веке. Первые серьезные потери территорий начались только в конце XVIII столетия (спустя более пятисот лет после создания империи).
18.2.1. Экспансия
После быстрой экспансии турок на Балканах, последовавшей за падением Константинополя в 1453 году, наступил период консолидации (1480— 1490-е годы). Первым признаком возобновления экспансия стала война с Венецией в 1499—1502 годах, в ходе которой две крепости в южной Греции, Модон и Корон, были захвачены (турецкая артиллерия разбила их стены). Поворотной точкой стало низложение Баязета II его сыном Селимом в 1512 году. Два года спустя иранские Сефевиды были разбиты в Чалдыранском сражении близ озера Ван, пределы Оттоманской империи расширились далеко на восток от Анатолии, и любые попытки Сефевидов продвинуться дальше на запад были блокированы. Затем Селим двинулся на юг и напал на мамлюков, захватив ключевой торговый город Алеппо в 1516 году. На следующий год в битве при Рейдании мамлюки были окончательно разбиты, и Оттоманская империя подчинила Египет. Правитель Мекки также признал ее власть, которая теперь распространилась на всю Аравию и священный город. Победа над мамлюками и контроль над Аравией способствовали укреплению среди османов мусульманства суннитского толка (важнейшей опоры тюркской политики еще со времен сельджуков) в противовес соперникам-шиитам Сефевидам. Экспансия в Левант и Египет изменила также баланс сил внутри самой Оттоманской империи — она стала по преимуществу мусульманской, а христиане на Балканах оказались в меньшинстве.
Селим умер в 1520, ему наследовал Сулейман I, который правил до 1566 года. (В Европе его часто называют «Великолепным», хотя на самом деле его прозывали «Законодателем».) Он возобновил натиск на Балканы, и в 1521 году Белград был окончательно захвачен (за ним последовал через год остров Родос в Средиземном море). Победа при Мохаче в 1526 году означала конец Венгрии в качестве независимого королевства — спустя три года Порта поставила в Будапеште марионеточного правителя, позволившего разместить турецкий гарнизон и платившего ежегодную дань.
Оттоманская империя находилась практически в апогее своего могущества. Империя простиралась от Алжира на западе до Азербайджана на востоке, от Будапешта до Басры и от Крыма до Мохи и Адена на Красном море. На западном Средиземноморье, в Черном море и в восточной части Индийского океана империя содержала флот, сражения происходили в таких удаленных друг от друга точках, как побережье Гуджарата в западной Индии и Алжир. В 1580-е годы османский флот совершал нападения на Мозамбик. Оттоманская империя стала доминирующей державой Средиземноморья, так как контролировала три четверти береговой линии. Она главенствовала в дипломатических маневрах западноевропейских стран на протяжении всего XVI столетия, будучи самым могущественным соседом. Многие из них затратили много времени и стараний, чтобы заполучить османов в союзники. История западной Европы в этот период становится понятнее, если взглянуть на нее с точки зрения Оттоманской империи, а не мелких государств у ее западных границ. Общая тенденция заключалась в том, что турки противостояли главной европейской силе — Габсбургам — и поддерживали менее значительные государства, такие, как Франция, Англия и мелкие княжества Германии.
Всех участников итальянских войн в начале XVI столетия тревожила опасность нового вторжения Оттоманской империи на полуостров и повтора ситуации с захватом Отранто в 1480 году. Империя начала играть главную роль в Европе, начиная с 1530-х годов. В 1533 году королю Франции Франциску I была выплачена субсидия в размере 100 000 золотых монет, чтобы поддержать его усилия в установлении союза с германскими князьями и англичанами против Габсбургов. В 1535 году последовала вторая субсидия, к тому же французам позволили торговать с империей; в обмен на это османские купцы получили право беспрепятственной торговли в южной Франции. В 1538 Венеция согласилась вступить в союз с Габсбургами и папой римским против турок. Она проиграла войну на Адриатике, и когда в 1540 году ее вынудили подписать мирный договор, Венеции пришлось выплатить большую контрибуцию и отдать крепости Навплион и Монемвасия в южной Греции. В 1555 году османские власти обеспечили официальную поддержку займа у частного лица, Иосифа Наси, еврейского банкира и сборщика налогов, отчего французская монархия стала еще более покладистой. Оттоманская империя преследовала не только сиюминутные политические цели, поддерживая германских протестантских князей против Габсбургов; османы были остро заинтересованы в развитии протестантизма, в котором усматривали сходство с исламом, в частности, в вопросах иконоборчества. К кальвинизму в Венгрии и Трансильвании относились терпимо, и он получил широкое распространение. Единственной серьезной потерей турок в середине XVI столетия стала неудача 1565 года, когда они не смогли захватить остров Мальту, куда перебрались рыцари-иоанниты с Родоса за сорок лет до того. Хотя разгром турок в морском сражении при Лепанто в 1571 году был воспринят христианской Европой как великая победа, он не изменил стратегической ситуации в Средиземном море. Оттоманский флот был быстро восстановлен, и испанцы не смогли помешать захвату Туниса.
18.2.2. Характеристика империи
Оттоманскую империю официально именовали «владениями дома Османа»; это была династическая империя (подобно своему великому противнику в Европе — Габсбургам) управляющая рядом очень различных территорий. Империя эта отличалась некоторой терпимостью, поскольку в ее пределах уживались, без особых проблем, все три основные монотеистические религии и множество самых разнообразных многоязыковых сообществ, каждое — со сложной историей и взаимосвязями. Десятки тысяч евреев, изгнанных из христианских государств — Испании, Португалии и Италии, — осели в пределах империи. Мориски, изгнанные в середине XVI столетия из Андалузии, поселились в Константинополе. Несколько позже староверам из России, спасающимся от преследований на родине, позволили селиться в Анатолии. Основная проблема после завоевания Балкан и включения в состав империи многочисленного христианского населения заключалась в том, что у этих людей, в отличие от населения Юго-Западной Азии, не было опыта существования под властью мусульман. Однако политика терпимости — а в сельских районах, где проживало большинство населения, и полного невмешательства в местные обычаи, в сочетании с правильным поведением поставленных чиновников, устранивших самые худшие черты правления прежних, христианских, землевладельцев и мелких правителей, — обеспечила стабильность. Оттоманские власти даже разрешили забой свиней, вопреки запретам ислама. В Венгрии наиболее крупные землевладельцы бежали на запад, во владения Габсбургов, но продолжали требовать оброк со своих крепостных, оставшихся в Оттоманской империи, и новые власти позволяли им получать оный. Одновременно с этим из Анатолии начали прибывать переселенцы, и к началу XVI столетия примерно пятую часть населения Балкан составляли мусульмане. Из них более трети представляли собой новообращенных христиан, и в таких областях, как Босния (где издавна были сильны богомилы) обращение в ислам стало массовым явлением.
Центральной фигурой османской системы являлся на протяжении XVI столетия султан; но проблема наследования оставалась нерешенной, поскольку еще действовал старый кочевнический обычай избирать наследником не старшего сына, а лучшего из возможных. Обычай позволял избежать прихода к власти слабых правителей, но приводил к возникновению распрь, которые обычно заканчивались физическим уничтожением проигравших. Однако к началу XVII столетия выработалась бюрократическая система управления, при которой личным качествам султана не придавалось былого значения. Империей управлял коллегиальный совет, а не родственники правителя, как во многих европейских государствах. Важные военные и административные функции осуществляли визири, а также губернаторы провинций и областей, и государственные судьи, в распоряжении которых были имперские законы (относившиеся ко всем подданным империи; у мусульман имелся еще свой свод законов — шариат), и большое количество чиновников более низких рангов. Действовала система так называемых «дирликов» (dirlik), согласно которой местные губернаторы и чиновники не владели землей, но могли пользоваться доходами с определенных территорий, пока исполняли свои должности. В городах местные управители получали часть таможенных сборов и налогов от торговли. Губернаторы были также обязаны снабжать войска, выделяя на это средства из местных доходов. Основными источниками доходов султана и имперского правительства были рудники, леса и торговые сборы с крупных городов, таких как Константинополь и Алеппо. Султан также содержал на свои средства войсковую элиту и военный флот. К концу XVI столетия контроль центра над провинциями усилился, особенно в Леванте, Египте и областях, отвоеванных у Сефевидов. Османское правительство, по-видимому, было не менее эффективно, чем любое другое в доиндустриальную эпоху, с учетом тех жестких условий, в которых все они существовали.

Карта 52. Оттоманская империя в середине XVI столетия
Османская политическая система не исключала христианское меньшинство из круга возможных должностей и профессий. В большинстве стран Европы ожидали, что христианское население восстанет против «оттоманского ига» — но внутри империи существовал иной взгляд на «угнетателей». Вплоть до XIX столетия сопротивления в какой-либо форме практически не возникало. Более того, многие из европейских христиан активно искали себе службу в Оттоманской империи. Одним из наиболее могущественных чиновников в конце XVI столетия был евнух Хасан Ага, родом из Большого Ярмута — на самом деле Самсон Роули, британец по рождению. Среди его многочисленных обязанностей были контакты с английскими купцами, получившими позволение торговать в определенной части империи. В Алжире государственный палач Абд-эс-Салам был бывшим мясником из Эксетера по имени Авессалом. Один из наиболее выдающихся османских генералов, Кэмпбелл из Шотландии, принял ислам и вступил в ряды янычаров. В 1606 году принял ислам английский консул в Египте Бенджамин Бишоп. Несколько позже в том же столетии Карл II отправил некоего капитана Гамильтона выкупить англичан, попавших в рабство в Северной Африке. Его миссия потерпела полный провал — рабы успели подняться достаточно высоко в правительственной иерархии, нажили намного больше богатства, чем им удалось бы в Англии, и женились на местных женщинах. Все они отказались возвращаться.
[О дальнейшей истории Оттоманской империи см. 19.3]
18.3. Сефевидский Иран
[О более ранней истории Ирана см. 15.6]
В тринадцатом столетии в Иране начали формироваться новые мистические и народные религиозные братства: кубравия, гуруфи и сарбадары[71].
Самым значительным из них было суфийское движение, основанное шейхом Сефи-ад-Дином, или Сефивийе (1252—1334), вероучителем курдского происхождения из провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Все эти движения составляли народную исламскую оппозицию иноземным военным правителям Ирана (монголам и их наследникам).
Удивительным образом из суфийского движения выдвинулась династия, которая правила Ираном более двухсот лет (1501—1722). Резкое преображение Сефевидов произошло при Садр ад-Дине, сыне основателя движения, который возглавлял его вплоть до своей смерти в 1391 году. Он заявил, что происходит по прямой линии от пророка Мухаммеда, и превратил суфийское движение в иерархический, владеющий собственностью орден — должность главы, или мюрида стала не выборной, а наследственной. Он требовал от последователей абсолютного повиновения и опирался на поддержку своих агентов, халифов.
В начале XV столетия Сефевиды становились серьезной политической силой на северо-западе Ирана и в восточной Анатолии по мере того, как империя, созданная Тимуром, разваливалась от жестоких внутренних междоусобиц. Они также набросились на малые христианские государства в Грузии и Трапезунде, а затем и на другие исламские государства — их религиозная идеология оправдывала действия, которые фактически являлись политической борьбой. Основной их опорой стали группы, исключенные из круга элиты, особенно кизилбаши («красные головы» — по названию их головных уборов) — независимые военные вожди из союза тюркских племён. В течение XV столетия Сефевиды выработали свой вариант религиозных верований — будучи первоначально почти ортодоксальными суннитами, они создали некую смесь шиитских и суфийских верований. В ней нашлось место также целому ряду идей, заимствованных и из буддизма, и из зороастризма, но в целом эту систему следует назвать агрессивно-шиитской и анти-суннитской. Кульминация этого процесса была достигнута при Исмаиле, который возглавил движение в 1487 году — он объявил себя тайным имамом и воплощением Аллаха.
В 1501 году Исмаил занял Тебриз в северо-восточном Иране и принял титул шаха. До конца десятилетия он подчинил весь Иран. Именно в этот период были определены границы современного Ирана: Оттоманская империя контролировала Анатолию, а империя Сефевидов — Трансоксанию (области за Аму-дарьей) на востоке. Важнейшей задачей для Сефевидов стало создание централизованной политической структуры в Иране (каковой не существовало уже более ста лет), с целью восстановления экономики и социальной инфраструктуры (во многих отношениях все еще страдавших от последствий монгольского вторжения двухсотпятидесятилетней давности). Также следовало удерживать в повиновении кизилбашей, фактически завоевавших Иран для Сефевидов. Кизилбаши являлись, по сути, племенными вождями, у них имелись свои кланы, им подчинялись деревни и города, и потому они выбили себе право контролировать войска и получать долю от налоговых сборов. Городские купцы обычно собирались в обособленные, замкнутые группы. Кроме того, Сефевидам приходилось справляться с многочисленными тайными сектами и постоянными восстаниями. Потому почти весь XVI век первые из шахов вынуждены были пользоваться лишь ограниченной властью. Очень медленно смогли они создать институты центрального управления и установить хоть какой-то контроль. Важнейшей фигурой стал «вицекороль», или вакиль[72] — главнокомандующий всеми войсками и глава религиозного ордена определенной области. Ему подчинялись вазир (визирь), глава гражданской администрации, и амир (эмир) — военачальник. Шахи начали также, следуя давней исламской традиции, набирать в войско рабов с целью создания противовеса власти кизилбашей.
Централизованность власти достигла максимума при шахе Аббасе (1588—1629). Войска, набранные из рабов (состоявшие в основном из обращенных в мусульманство грузин и армян) стали опорой режима и были заново снабжены мушкетами и артиллерией, для противостояния эффективной турецкой армии. Новая армия давала также возможность ослабить власть наиболее высокопоставленных военачальников и местных администраторов в пользу низших социальных групп, возвышение которых зависело от шаха. Кроме того, шах Аббас пригласил китайских ремесленников, чтобы восстановить производство шелка, ковров и фарфора. После изгнания португальцев из Ормуза был основан в сотрудничестве с английскими купцами, новый порт — Бендер-Аббас. Хотя участие голландских и французских купцов было достаточно важно для экономики Ирана, к концу XVII столетия доминирующее положение заняли здесь англичане. Самым главным достижением шаха Аббаса было основание новой столицы, Исфахана, символа нового режима. К 1666 году в городе уже было возведено 162 мечети, 48 училищ-медресе, 182 караван-сарая и 273 общественных бани. В долгосрочной перспективе правления Сефевидов царствование шаха Аббаса можно рассматривать как относительно короткую интермедию, демонстрацию усиления центральной власти в стране, где заправляли местные группировки, а позиции центра оставались в целом слабыми.
С первых лет XVII столетия Сефевидов начала все сильнее тревожить неуправляемость шиитских улемов, все чаще подменяющих религиозный авторитет династии. Сефевиды исповедовали абсолютистскую идеологию, основанную на том полном подчинении, которого требовали суфии-наставники от своих учеников. При Сефевидах из этой идеи родилось понятие муршид-и катниля, то есть «совершенного учителя», а также требование соблюдать строгий кодекс поведения (суфигаре), согласно которому непокорные изгонялись из Сефевидской общины и даже подвергались казни. Сефевидская идеология понесла серьезный урон после того, как ортодоксальные сунниты-османы разбили их в битве при Халдиране в 1514 году, и была потеряна большая часть территории, которой располагало движение с момента своего возникновения. Соответственно, Сефевиды отказались от наиболее одиозных мессианских претензий и обратились за поддержкой к шиитам, несмотря на то, что большинство населения империи составляли сунниты. Улемов превратили в подчиненных государству чиновников, новым шиитским предприятиям и семьям дарили землю, денежные субсидии, их освобождали от налогов. Таким образом, новая религиозная элита вошла в состав землевладельческой аристократии. Шииты развернули преследования против вождей суфизма, а также против суннитских институтов, беспрецедентные в истории ислама. Доходило до разрушения гробниц и осквернения останков первых трех халифов; паломники стали посещать не Мекку, а Кербелу. При шахе Аббасе великие святыни шиитов в Мешхеде и Куме были перестроены и получили крупные суммы на содержание. Эти меры действовали до конца XVII столетия, когда глава шиитских улемов Мухаммад Бакир аль-Маджлиси завершил подавление суннитов и изгнал последних суфиев из Исфахана. Именно эти религиозные разногласия внутри ислама лежали в основе глубокого и длительного конфликта между Оттоманской империей и Сефевидами. Последние, со своей пуританской верой в то, что лишь одна-единственная истина может спасти людей, создали столько же проблем в исламе, сколько Лютер и протестанты в христианстве.

Карта 53. Империя Сефевидов
[О более позднем Иране см. 19.9]
18.4. Империя Шайбанидов
[О более ранней истории Центральной Азии см. 15.6]
Расположенная восточнее империя была основана ханом узбеков Шайбани, который правил с 1500 по 1510 год; он был прямым потомком Чингисхана, хотя большинство его последователей были тюрками по происхождению. Он и его преемники уничтожили последние остатки государств, созданных преемниками Тимура, и правили этими землями в качестве вождей кланового союза. Главным городом, религиозным центром и столицей была Бухара, хотя после 1512 года в Хиве образовалась независимая династия. Династия Шайбанидов оставалась изолированной от других крупных государств региона, хотя они периодически воевали с Сефевидами за Хорасан и с индийскими княжествами за Гиндукуш. И Бухарское, и Хивинское ханство просуществовали в качестве независимых государств до 1860-х годов. Далее к востоку, в бассейне реки Тарим[73], последний из ханов рода Чагатаев (также прямых потомков Чингиза) правил в Кашгаре до 1678 года, до времен, когда различные города обрели независимость и сохранили ее еще почти на сто лет.
[О дальнейшей истории Центральной Азии см. 21.11]
18.5. Империя Моголов
[Ранее об Индии см. 13.9]
Становление империи Моголов стало классическим примером влияния нового огнестрельного оружия. В начале XVI столетия Бабур, тюркский правитель из рода Чагатаев, потомок Тимуридов, провел ряд вторжений в северную Индию из Кабула. Наконец в 1526 году он добился успеха в битве под Панипатом близ Дели, где был разбит последний правитель Делийского султаната Ибрагим Лоди. Решающим фактором оказалось применение войсками Бабура мушкетов с фитильным запалом и пушек против кавалерии противника. Годом позже Бабур победил раджпутскую конфедерацию индусских правителей в Раджастане — и здесь опять новое оружие сыграло решающую роль. Бабур основал новую столицу в Агре; в момент его смерти в 1530 году власть Бабура простиралась от Кабула, через Пенджаб до Дели и дальше на восток до Бихара. Как обычно бывало с империями, созданными путем завоевания, центральные институты власти были развиты слабо, а контроль за территориями — неэффективным. Преемник Бабура Хумаюн не сумел сохранить империю. К 1540-м годам он уже был изгнанником в Кабуле, а большая часть северной Индии находилась под властью его соперника, афганского вождя Шер-Шаха. Последний умер в 1545 году, и его империя также распалась. К 1555 году Хумаюн отвоевал Дели, но через год умер, и власть перешла к его двенадцатилетнему сыну Акбару. В этот момент ввиду слабости позиций Моголов казалось весьма маловероятным, чтобы недавно возвращенные владения удалось удержать, а не то чтобы расширить.
Создание настоящей империи Моголов стало делом жизни для Акбара на протяжении его долгого правления (до 1605 года). К 1560 году он уже владел важнейшей областью, протянувшейся от Лахора на западе до Дели, Агрой и богатой долиной Ганга, с развитой торговлей и сельским хозяйством. Правители Раджастана были включены в орбиту империи, а экспансия на юго-запад, в Гуджарат, последовавшая за взятием Ахмадабада в 1572 году, обеспечила ему доступ к Индийскому океану и богатствам больших торговых городов. Экспансия на восток потребовала больше времени, но к 1580-м годам были подчинены Бихар и Бенгалия. В 1585 году столица была перенесена в Лахор, чтобы удобнее было руководить кампаниями в Кашмире и Синде (ныне — провинция Пакистана), завершившимися весьма успешно. В последние десять лет своего правления Акбар сосредоточился на завоевании Декана, сложной территории, на которой располагались пять мусульманских султанатов, враждебных к потомкам Тимура, и индуистская Маратха, долго сопротивлявшаяся своим мусульманским соседям. Здесь был достигнут лишь частичный успех. К началу XVII столетия империя Моголов господствовала над Индией, управляя огромными пространствами от Белуджистана на западе до Ассама на востоке, от Кашмира на севере до Деканского плоскогорья на юге.
Акбар не только расширил империю, но и сумел создать стабильную систему управления ею, что позволило установить прочный мир внутри державы, сохранившийся в Индии почти на протяжении 150 лет, начиная с середины XVI столетия. Империя Моголов представляла собою сложное сочетание исламо-иранских традиций, привнесенных правителями тюркского и монгольского происхождения, и древних культур Индии. Главной целью Акбара поначалу было укрощение тридцати с лишним знатных тюрков и узбеков — военачальников, которые вернулись в Индию в конце 1540-х годов с Хумаюном. Он привлек к управлению новые группы, особенно прибывшие из Ирана, но также тех индуистов и мусульман-индийцев, которых отстраняли от власти правители Делийского султаната. Центральную власть представляли сам император и четыре его министра, с подчиненными им губернаторами провинций и их служащими. Учитывая размеры империи, ограничение центральной власти было неизбежно, приходилось разделять ее с местными землевладельцами и военачальниками; именно поэтому Акбар (а затем и его наследники) уделял такое большое внимание расширению состава этой элиты, привлекая как можно больше людей, которые были бы целиком зависимы от императора. В конечном счете Моголы полагались на силу, на эффективное огнестрельное оружие и особенно на пушки. Они завоевали крепости правителей Раджастана, а новые города, такие, как Аллахабад (бывший Прайяг) на слиянии рек Ганга и Ямуны, Лахор и Агра, были снабжены мощными укреплениями с артиллерией.
Моголы опирались также на благосостояние Индии. Оно частично обуславливалось щедрым притоком золота и серебра из Америки, которыми европейцы расплачивались за продукцию, изготовлявшуюся и продающуюся в Индии. Население Агры в 1600 году составляло около 500 000, что делало ее третьим по величине городом в мире, а такие города, как Лахор, с населением около 350 000, были вдвое больше Лондона. Не меньшую роль играло и высокопродуктивное сельское хозяйство. К 1600 году Индия Моголов была одной из богатейших империй в мире — доходы Акбара были в двадцать пять раз больше, чем у Иакова I Английского. Прочность ее основывалась на возрастающем умении контролировать местных землевладельцев и пользоваться их потенциалом для извлечения новых доходов. Сельские местности находились под контролем местных вождей, которым Моголы давали титул «заминдара»; они часто содержали собственные войска (пехоту) и сами облагали крестьянство налогами (в виде продуктов питания и различных работ). Собранные средства шли на содержание их собственных поместий и войска. Постепенно у Моголов появилась возможность включить их в структуру империи, превратив их в своего рода чиновников, передающих часть своих доходов государству, хотя степень их подчинения всегда оставалась ограниченной. С начала 1580-х годов Моголы приступили к землеописанию всей своей империи, применяя новые стандартные меры веса и длины, чтобы определить производительность и соответствующие размеры налогов, хотя при этом по-прежнему основывались на старых данных и ценах. Налоги государству выплачивались деньгами (это говорит о степени развитости денежного оборота в экономике) — требования эти оформлялись письменно, а заминдары обязаны были отчитываться также в письменном виде. С другой стороны, были определены права заминдаров, они получали официальный патент от провинциального сборщика налогов, давали клятву исполнять обязанности и могли передавать должность одному наследнику. После пяти лет удовлетворительной службы контроль над системой вновь был отдан местной знати с условием бесперебойного снабжения указанными суммами дохода — что указывает (как и в других империях доиндустриального периода) на ограниченную эффективность государственной системы Моголов и сложность соотношения величины налогов с реальным богатством.
Моголы, подобно их предшественникам в Делийском султанате, были мусульманами. Новым символом стала постройка (между 1571 и 1585 годами) нового города Фатехпур Сикри близ Агры — последняя осталась административным центром, но новый комплекс, резиденция двора, был подчеркнуто исламским городом, над которым господствовала мечеть. Однако позднее исламский энтузиазм Акбара поутих, он стал даже поощрять религиозные дебаты, что в результате привело к нарастающему конфликту с улемами. В 1578 году он ввел новую политику выдачи земельных пожалований (освобожденных от налогов) некоторым исламским учреждениям, оставив за собой право выбора оных. Подобные же привилегии даровались и представителям других религий, если в этом усматривалась необходимость. Он поощрял также неортодоксальные движения в исламе, например, махдави, мессианскую секту, которая верила, что Махди, то есть Мухаммед, вернется по прошествии тысячи лет (в 1592 году по христианскому календарю). В 1579 году Акбар сделал важный шаг, отменив одно из основных установлений исламского правления — налог на не-мусульман. Неудивительно, что в 1579—1580 годах вспыхнуло восстание приверженцев ислама, которое было подавлено силой. Акбар пытался устранить перевес ислама в ситуации, когда большинство подданных империи Моголов не были мусульманами. Ему это так и не удалось до самой смерти в 1605 году; если бы ему это удалось, вся последующая история Индии могла бы сложиться совсем иначе.
[О дальнейшей истории Индии см. 19.13]
18.6. Япония: гражданская война и объединение
[О более ранней истории Японии см. 15.5.2]
К середине XV столетия сёгунат Асикага, установленный за сто лет до того, находился в глубоком упадке. В 1467 году вспыхнула смута Онин[74] между враждующими группировками; поводом к ней послужил спор о наследовании сёгуната. Спустя шесть лет вожди обеих партий погибли, но война продолжалась вплоть до 1477 года, когда обе стороны полностью истощили свои ресурсы. К этому времени авторитет сёгуната окончательно упал, и Япония осталась без всякого центрального правительства.
Почти все следующее столетие прошло в постоянных военных столкновениях, но они практически не касались сёгуната. Это были междоусобицы местных владетелей (даймё) за власть и влияние. Даймё, или князья, вышли на первый план в конце четырнадцатого столетия по мере того, как ослабевала центральная власть, к началу XVI столетия, после войны Онин, их позиция вполне сформировалась. Князья могли налагать поборы и трудовые повинности на крестьян, которые поставляли основную часть военной силы, поскольку копейщики стали важнее кавалерии знати. Даймё умножали свои поместья и удерживали собранные суммы налогов вместо того, чтобы отправлять их, как полагалось, к императорскому двору в Киото, который соответственно все более нищал. Столицами этих княжеств были «укрепленные города», строившиеся вокруг крепостей. Они были также центрами торговли, где даймё могли устанавливать налоги. Все чаще князья издавали собственные законы и именовали свои земли кокка — «государствами» или «странами». Когда в XVI столетии в Японии появились первые европейцы, им показалось, что здесь все устроено, как в Европе, и они понятия не имели о роли сёгуна или императора.
Беспрерывные распри между князьями привели к угасанию многих старых правящих семейств, таких, как Сиба, Хатакэяма, Хосокава, Ямана и Уэсуги. Их место стали занимать новые семейства, такие, как Хойо и Мори. Распад Японии достиг апогея в середине XVI столетия. Затем последовал период, когда три военных предводителя начали постепенно восстанавливать единство страны, подчиняя князей. Первым из этих лидеров был Ода Нобунага, не слишком влиятельный князь, чьи владения располагались близ современного города Нагоя. Он укрепил свою власть, а затем в 1568 году захватил Киото. Он поставил марионеточного сёгуна Асикага, но в 1573 году устранил его, тем самым официально положив конец сёгунату Асикага. Нобунага сумел укрепить свою позицию в Киото, для чего ему пришлось вести долгие изматывающие войны, строить замки и сокращать военный потенциал больших монастырей. Однако он не сумел добиться влияния ни в западной, ни в восточной Японии, а в 1582 году был убит.
Объединение Японии было достигнуто в первую очередь благодаря внедрению огнестрельного оружия. Хотя оно издавна ввозилось в небольшом количестве из Китая, первое европейское оружие появилось только после прибытия португальцев на остров Танегасима к югу от Кюсю в 1543 году. К 1550-м годам в японских войсках уже применялись мушкеты (изготовленные в Японии), а в 1575 году в сражении при Нагасино участвовало более 3000 мушкетеров, применявших метод залповой стрельбы в рядах, чтобы увеличить скорострельность (метод был принят в Европе примерно два десятилетия спустя). Для того, чтобы противостоять артиллерии, начали строить огромные крепости с бастионами сложной конструкции и поясами защитных фортов (Одавара, твердыня рода Хойо, насчитывала более двадцати фортов), хотя сами замки, в отличие от европейских, представляли собою изящные семиэтажные постройки. К 1580-м годам в боях за объединение Японии участвовали армии численностью более 300 000 человек.
С европейцами прибыло не только огнестрельное оружие, но также миссионеры — первым был Франциск Ксаверий (Франсиско Хавьер) в 1549 году. Многие князья поддерживали торговлю и контакты с португальцами, усматривая в этом способ укрепления своих позиций и благосостояния. В 1562 году Омура[75] принял христианство и в 1571 году сделал Нагасаки главным портом, куда могли прибывать португальцы. К концу XVI столетия в Японии насчитывалось около 300 000 христиан на 12 миллионов населения. Поэтому распад центральной власти в Японии был выгоден португальцам и миссионерам. Как только центральная власть восстановилась, европейцам стало намного труднее проводить свою политику в Японии.
Воссоединение было достигнуто благодаря Хидэёси, солдату-пехотинцу из бедной семьи, который за счет своих способностей стал главным военачальником у Нобунага. Когда тот был убит в 1582 году, Хидэёси быстро одержал победу в борьбе за власть и за три года подчинил своей власти почти всю центральную Японию. Имея более 250 000 войска, он завоевал Кюсю, разбив Хойо во время долгой осады крепости Одавара, которую голод принудил сдаться в 1590 году. К началу 1590-х годов Япония была фактически объединена под рукой Хидэёси, который, подобно своему наставнику Нобунага, не претендовал на титул сёгуна и оставался, во всяком случае теоретически, всего лишь главным министром императора в Киото[76]. Тем не менее его власти хватило для проведения землеописания всей Японии, установления валюты и участия в международных отношениях.
В 1587 году христианских миссионеров официально изгнали; хотя многие остались, их деятельность находилась под жестким надзором, и наконец, в 1597 году, декрет об изгнании был применен со всей строгостью. Хидэёси также смог организовать вторжение в Корею в 1592 году с армией численностью более 160 000 человек. Оно окончилось провалом, как и вторая попытка в 1597 году, с ненамного меньшей армией. Других попыток расширить свою власть за пределы родного острова Япония не предпринимала вплоть до конца XIX столетия. Эти кампании также вызвали серьезные проблемы у правителей Китая (династии Мин); первые признаки внутреннего разлада в Китае относятся именно к этому периоду. Хидэёси умер в 1598 году, оставив регента при пятилетнем сыне Хидэёри. Спустя два года регентство кончилось гражданской войной. Победителем в этой войне стал Токугава Иэясу, который начал свою карьеру в качестве местного правителя в провинции Микава в восточной Японии. Он был союзником Нобунага и занимал видное положение при Хидэёси. Добившись контроля над всей Японией в 1603 году, он, в отличие от своих непосредственных предшественников, принял титул сёгуна. С тех пор Япония остается объединенным государством с сильным центральным правительством.
В конце XVI столетия, после воссоединения Японии, произошли важные общественные и экономические перемены. Изначально даймё были местными военными магнатами, с личными отрядами воинов (самураев), которых они использовали для расширения своих доменов. Однако на протяжении XVI столетия им пришлось рационализировать землевладения, поскольку прежняя система поместий разрушилась — увеличилось число крестьян, владеющих землей, и князьям пришлось заняться административной деятельностью — проводить в своих землях переписи, чтобы установить разумное налогообложение. Сельские общины все чаще превращались в самоуправляющиеся поселения (мура) с передачей земли по наследству, и князьям оставалось полагаться лишь на выплачиваемую им за землю аренду. Кроме того, самураи постепенно отошли от земледелия, переселились в укрепленные города и стали получать плату (рисом) за свою службу. Даймё не были уничтожены при восстановлении сёгуната и жесткого центрального правительства, их включили в новую систему. Когда внутренние военные столкновения закончились, военная основа власти в Японии сменилась на политическую. Самураи оставались воинами с высоким социальным статусом, но их функции все больше сводились к церемониалу — войн не было, ни внутренних, ни внешних. Так даймё превратились в политических деятелей, администраторов, исполняющих волю центрального правительства и использующих законные и бюрократические методы для управления собственными доменами. Их сила основывалась теперь на местных органах управления, созданных имперским правительством, которые они возглавляли и обычно могли передавать свои должности по наследству. На протяжении XVI столетия даймё имели возможность эффективно собирать налоги с торговли посредством контроля над укрепленными городами и их рынками. Однако японская система торговли всегда имела общенациональный характер, и потому система была подконтрольной, а купеческое сословие поддерживало отношения с имперскими властями. У Хидэёси было достаточно сил, чтобы ограничить вмешательство князей в торговые дела и сделать общенациональный рынок одной из опор восстановления объединенного государства.

Карта 54. Япония в XV и XVI веках
[Дальнейшая история см. «Япония», 19.8]
18.7. Европа: реальность и «Ренессанс»
18.7.1. Реальность
В 1500 году население Европы достигло того же уровня, что в 1300 году (около 80 миллионов), и последствия катастроф четырнадцатого столетия (особенно голода и эпидемии чумы) были в целом устранены. За XVI век оно выросло почти на четверть и к 1600 году достигло 100 миллионов (что все еще составляло лишь около 60 процентов населения Китая). Главная проблема заключалась в том, что производительность сельского хозяйства почти не увеличивалась, не внедрялись новые методы и культуры. Подъем численности населения на протяжении XV столетия был в основном обусловлен распашкой земель, заброшенных в середине XIV века.
Уже в начале XVI столетия свободной земли для обеспечения дальнейшего прокорма все возрастающего населения почти не осталось. Поэтому с 1550-х годов начало возрастать число обнищавших крестьян и безземельных работников, наличие которых приводило к понижению заработной платы. К 1600 году покупательная способность мужчин-рабочих была примерно вдвое ниже, чем в 1550 году, и это понижение почти не зависело от инфляции, вызванной притоком американского золота и серебра (как мы видели выше, булыиая часть его отправлялась в Индию и Китай). Положение подавляющего большинства населения еще усугублялось за счет все возрастающей требовательности землевладельцев. Кроме того, на протяжении XVI столетия государственные налоги в большинстве стран Европы существенно возросли. Лишь в нескольких выходящих из ряда вон районов, таких как Нидерланды, окрестности Лондона и ряд городов в северной Италии, растущая коммерциализация, поставки сельскохозяйственных продуктов городскому населению и рост капиталовложений обеспечили крестьянам более прочные позиции.
Примерно до 1550-х годов промышленность развивалась благодаря тому, что рост населения привел к увеличению спроса, государство увеличило затраты на военное снаряжение и стоимость перевозок упала. После 1550-х годов в производстве начался спад, за немногими исключениями, такими, как Нидерланды и Англия (торговля шерстью). Промышленное производство все еще сильно зависело от сельского хозяйства и его продукции и осуществлялось, как и во всей Евразии, в основном силами мелких ремесленных мастерских. Объем продукции колебался в связи с открытием или закрытием таких мастерских, а не за счет каких-либо фундаментальных изменений в технологии. Важно было также то, что промышленность, которой занимались крестьяне в сельской местности, зависела от купцов, продававших или ссужавших им сырье для получения готовой продукции. Такая система была очень удобна для плохо организованных рынков при низком спросе и позволяла торговцам легко изменять объем продукции, хотя вся тяжесть выполнения их заказов ложилась на частично занятых в производстве крестьян.
Сельскохозяйственные и промышленные системы Европы одновременно и отражали, и поддерживали общественную структуру, основанную на крайнем неравенстве, при которой массы жили в большой бедности. Максимальным приоритетом для большинства людей было добыть достаточно пропитания, чтобы не умереть. У крестьян выживание зависело от урожая (а он, в свою очередь — от погоды), а также от того, какую часть его заберет себе владелец земли. Остальные вынуждены были тратить не менее четырех пятых своего дохода на питание, а в неурожайный год цены возрастали так, что и этого не хватало. Расходы на питание оставляли мало излишков для других нужд. Поэтому одежда была предметом редким и ценным — в уставе одного госпиталя в Перудже, в 1582 году, отмечалось, что одежду умерших «не следует присваивать, но возвращать законным наследникам»; во многих городах люди дрались из-за одежды умерших от чумы. Еще труднее было оплачивать жилье — в Турине в 1630 году люди жили по 65 человек в одном доме, а во Флоренции того же времени бывало и по 70—100 человек на дом. Средний крестьянин проживал в глинобитной хижине с соломенной крышей, без окон, с дырой в крыше для вывода дыма от очага, и разделял жилое помещение со своими домашними животными ради тепла. Низкая производительность означала, что работать приходилось всем, и старым, и малым. Даже богатые могли потратить свои средства только на некоторый набор предметов роскоши, деликатесные продукты питания и нарядную одежду (в большинстве государств издавались законы, ограничивающие ношение некоторых престижных видов одежды среди знати), большие дома и огромное количество слуг.
Богатым считался каждый десятый европеец, примерно половину составляли бедняки, остальные были почти или совсем нищими. Даже в Англии (одной из богатейших стран Европы) в конце XVII столетия, когда условия стали лучше, чем за сто лет до того, по оценкам четверть населения составляли бедняки, страдающие от постоянного отсутствия средств и работы, не имеющие каких-либо резервов для решения даже простейших проблем. Во Франции в тот же период бедняки составляли около сорока процентов населения. Подробное исследование деревни Навальмораль к югу от Толедо в 1580-х годах дает нам ясное представление о Европе XVI века.
В деревне проживало 243 семейства, всего около 1000 человек. Из них 22 семьям принадлежала половина от общей земли, которую они сами не обрабатывали; 60 крестьянских семей владели меньшими наделами; 28 семей не владели землей, но занимались скотоводством; 95 семей были безземельными батраками. Кроме того в деревне проживали 17 семей, не имеющих даже жилья и 21 одинокая вдова без видимых средств к существованию.
Богатые нуждались в бедняках как источнике рабочей силы (в большинстве городов примерно четверть населения составляли слуги), но в трудные времена количество рабочих мест и благотворительных пожертвований сокращалось (даже церковная благотворительность замирала, если никто не платил десятину). Когда такое случалось, у людей не оставалось другого выбора, кроме как бродить по стране в поисках пропитания или милостыни. Когда и эти возможности исчезали, оставалось воровство. Богатые люди и государственные чиновники всегда боялись бедняков, особенно вооруженных шаек, бродяг и нищих, которых зачастую набиралось до четверти населения в больших городах. Их или прогоняли, или заставляли работать в условиях, близких к рабству, в так называемых «работных домах».
18.7.2 Ренессанс
Вышеизложенная картина дает нам тот фон, на котором следует рассматривать понятие Ренессанса, или Возрождения, как определяющей характеристики конца XV и всего XVI столетия в Европе. Понятие Возрождения в основном было придумано представителями обеспеченной и «культурной» прослойки в Европе XIX столетия, такими, как Буркхардт и Вальтер Патер[77]. Они горячо верили в цивилизующую роль «искусств» и восторгались творческим, личностным характером культуры Италии, как они полагали, воплощенным в таких фигурах, как Микеланджело, Леонардо и Боттичелли, которые были «людьми современности», ведущими Европу из «темных веков» к достойному положению на вершине мировой культуры. Возрождение в их представлении означало воскрешение классической архитектуры, латыни и ее литературных жанров, а также создание основного комплекса так называемого «гуманистического» образования: классическая литература, грамматика, риторика, поэтика, этика и история. Все это сочеталось с имитацией культуры древней Греции и, еще больше, Рима и его истории — точнее, римского взгляда на собственную историю, отразившегося в сочинениях таких авторов, как Тит Ливий и Тацит.
Только спустя еще сто лет историки начали по-другому рассматривать период Возрождения. Прежде всего, этот феномен проявился отнюдь не по всей Евразии, и практически все его характерные черты показывают, что он всего лишь представлял собой начало движения Европы к уровню других, более древних и развитых культур. Например, классические тексты, которыми так дорожили в Италии XV столетия, были известны в исламском мире с седьмого века. Кроме того, периоды «возрождения» имели место и ранее, например, в двенадцатом столетии, когда Европа получила доступ к произведениям Аристотеля, переведенным с арабского. Возрождение было, кроме того, намного ближе к культуре и идеям предыдущих веков и намного менее современно, чем полагали в XIX столетии. Почти каждая из характеристик, которые приписывали периоду Возрождения, может быть найдена в более ранние периоды в Европе, а также и в культуре других стран. Больше всего это понятие пригодилось для того, чтобы определить специфически европейское мировоззрение, в частности, чтобы подчеркнуть, что Западная Европа стала наследницей традиций Греции и Рима. С другой стороны, именно в XVI столетии Европа начала отказываться от ряда представлений о мире, унаследованных от древней Греции. Особенно это было заметно в астрономии, где труды Коперника, Кеплера, Тихо Браге и Галилея заставили отказаться от системы Птолемея (вопреки жесткому сопротивлению такой могущественной силы европейского общества, как церковь) и перейти к более «современной» системе. (Китай никогда не страдал от птолемеевых идей, поэтому подобные перевороты там не потребовались.) При всем этом большинство астрономов были мистиками, астрологами и увлекались магией (как и сэр Исаак Ньютон спустя сто лет после них). Часто утверждают, что эти и другие научные открытия в XVI и XVII веках заложили основы дальнейшего промышленного развития Европы, но дело обстояло совсем не так. Большинство открытий почти не имело практического применения, и технологическое развитие зависело, как и в прошлом, от ряда улучшений и мелких изменений, производимых ремесленниками и промышленниками, не имевшими обычно никакого научного образования. Только в XIX столетии (в частности, после открытия электричества и магнетизма) научный прогресс стал способствовать ускоренному прогрессу промышленности.
18.8. Европа: Религиозные разногласия
В XVI столетии и отчасти в следующем Европе предстояло пережить религиозные распри неслыханного ранее масштаба. Пятьсот лет прошло с тех пор как разделились западная и восточная церкви, но теперь раскол настиг западную церковь, и религиозная нетерпимость и преследования достигли нового уровня. Хотя XVI столетие было отмечено подъемом протестантизма (понятие, объединяющее ряд различных верований), в большинстве стран западной и центральной Европы это был период укрепления власти церкви, сопровождавшийся усиленным и достаточно успешным принуждением верить в то, во что велено.
Требования реформировать церковь не были изобретением начала XVI столетия. Английский клирик Джон Уиклиф, умерший в 1384 году, отвергал идею пресуществления, требовал позволения клирикам жениться и перевести Библию на народный язык, а также высказывался в пользу идеи предопределения. Чешский священник Ян Гус уличал церковь в продажности и в обычае причащать вином только священников. Ему дали имперскую охранную грамоту, чтобы он явился на Собор в Констанце и изложил свои взгляды, но как только он попал в руки церковных властей, его схватили, осудили и сожгли как еретика в 1415 году. Поэтому очень важен вопрос: почему же «реформация» произошла только в начале XVI столетия? Состояние церкви было, пожалуй, не хуже в то время, чем в предыдущие века. Кроме того, маловероятно, чтобы Возрождение заметно повлияло на ход событий (хотя такое мнение высказывалось неоднократно). Приведем в пример двух виднейших защитников прежних обычаев: и Эразм Роттердамский, и сэр Томас Мор были знаменитыми «гуманистами», глубоко воспринявшими идеи Возрождения. Книгопечатание, несомненно, способствовало более быстрому распространению идей, но само по себе это техническое новшество не порождало ни религиозных переворотов, ни новых идей.
Первоначально протест Мартина Лютера был вызван возобновлением продаж индульгенций (отпущения совершённых грехов) с разрешения папы в 1517 году для того, чтобы окупить расходы на перестройку собора св. Петра. Затем Лютер разработал свои идеи и изложил в 95 тезисах (хотя, вероятнее всего, к дверям церкви их не прибивал) созданную им доктрину оправдания верой. Ему наверняка не удалось бы выжить, если бы не поддержка некоторых мелких германских князей, в частности, Фридриха Саксонского, обладавших значительной свободой действий в пределах империи. В 1520 году Лютер отказался отречься и опубликовал воззвания «К христианскому дворянству немецкой нации» и «О свободе христианина», на следующий год он получил имперскую охранную грамоту от Карла V, чтобы приехать на собор в Вормс. Лютеру повезло больше, чем Яну Гусу — эта грамота действительно защитила его, хотя он и был осужден как еретик.
Лютер не был единственным критиком церкви. В трех других городах имелись свои лидеры, сыгравшие ключевую роль в установлении протестантизма как институционной и политической альтернативы католицизму. Трудность заключалась в том, что они не могли договориться между собою о принципах своего вероучения, что привело к рыхлости идей и несогласованности противодействия существующей церкви. В Цюрихе Ульрих Цвингли пришел к своим выводам независимо от Лютера и оказал намного большее воздействие на будущее развитие протестантизма. Он выработал собственный вариант идеи оправдания верой, отверг принцип пресуществления (чего Лютер не сделал) и ужесточил понятие предопределения. Для Цвингли это было высшим проявлением господства Бога. Однако утверждение, что неким «избранным» заранее назначено быть спасенными, в то время как все прочие осуждены, многим, в том числе и Лютеру, казалось противоречащим самой сути идей христианства. Хотя в теоретических вопросах Цвингли и Лютер не сошлись, они оба сохранили уважение к светским властям и нежелание радикальных перемен. В Страсбурге возникло хорошо организованное и успешное протестантское движение под руководством Мартина Буцера, который, однако, мало повлиял на дальнейшее развитие новой религии. Ради сохранения единства он обычно следовал за идеями Лютера, хотя его личные верования были ближе к идеям Цвингли. Поэтому «буцеризм» не сформировался. Вместо этого в Женеве объявился Жан Кальвин. Он достиг в этом городе меньшего, чем Буцер в Страсбурге, но дал свое имя движению, сотворил миф о роли реформированной религии в Женеве, утвердил новый тип христианства и сделал раскол западной церкви необратимым. Окончательный вариант своих идей он изложил в сочинении «Наставление в христианской вере» в 1559 году; позднее эти идеи были адаптированы и развиты его последователями, особенно во Франции, Шотландии и Нидерландах. Кальвин разработал идею Цвингли о предопределении, доказывая, что избранные были назначены Богом еще до сотворения человека. О своей избранности они должны узнать, ощутив призвание, испытав на себе преследования и почувствовав отвращение к миру. Учение Кальвина покоилось на ужасающей уверенности его в своей правоте, что неизбежно привело к намного большей нетерпимости, чем было свойственно католической церкви и лютеранству, к предельному пуританству и жесткой регуляции всех аспектов жизни. Кальвин выражался так: «То, что я говорю, настолько очевидная истина, что никто не может отвергать моих слов, не отвергая Слова Божьего».
В течение нескольких десятилетий влияние протестантизма было ограниченным. Он почти не повлиял на сельские местности, где сохранялись традиционные верования (зачастую не имевшие ничего общего с христианством). Наибольшего успеха движение достигло в городах, хотя Кальвина изгнали из Женевы в 1538 году, а Буцера из Страсбурга в 1549 году. Новые верования существовали в узком кругу восторженных последователей, убежденных в своей праведности и справедливости. На протяжении XVI столетия в Вюртемберге из общего числа 511 «реформированных» пасторов более двух третей были сыновьями пасторов. Даже в Нидерландах, где кальвинизм оказал сильное влияние, в 1580-х годах менее одного из десяти жителей принадлежали к реформированной церкви. Главная сила протестантизма заключалась не в вероучении, а в той политической поддержке, которую он мог обеспечить. Лютеранство выжило, потому что его поддержали правители Саксонии, Гессена и Вюртемберга, чей союз был официально провозглашен на соборе в Шпейере в 1529 году. Этим правителям приходилось уравновешивать риск, вызванный противодействием императору (чья власть была ограничена) и папству, с весьма очевидной выгодой присвоения церковного имущества (особенно монастырей) для существенного увеличения собственного богатства и влияния. Англия нашла свое, уникальное решение. В 1521 году Генрих VIII получил от папы звание «Защитника веры» за то, что отстаивал семь таинств от нападок Лютера. Когда же папа отказался дать ему развод с первой женой, Катериной Арагонской, Генрих ввел государственный надзор за церковью, отменил обращения к Риму и создал «Английскую церковь». Она вовсе не была «реформированной», и Генрих остался католиком, только стал раскольником. Однако позднее, в 1530-х годах контроль над церковными делами и роспуск монастырей принесли монархии и ее сторонникам огромное богатство (которое вскоре было разбазарено). Протестантские идеи просочились и в английскую церковь, однако экстремистские взгляды кальвинистов не стали господствующими.
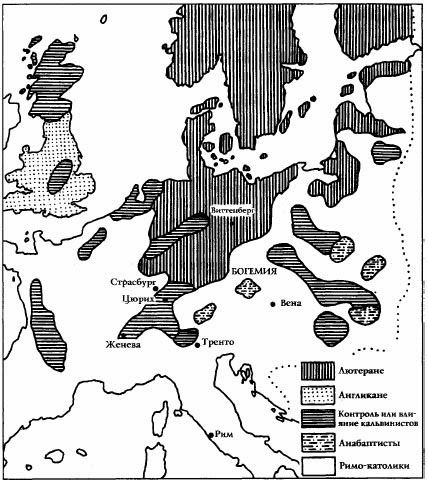
Карта 55. Европейский религиозный раскол в середине XVI столетия:
1) Лютеране
2) Англикане
3) Контроль или влияние кальвинистов
4) Анабаптисты
5) Католики
Как в Англии, так и повсюду в Европе верования подданных определялись желаниями правителей. Протестантизм был введен монаршим декретом в Дании, и примерно те же происходили в Швеции и Норвегии. Кальвинизм также зависел от государственной поддержки, как было в германских княжествах и Венгрии. Только во Франции и Нидерландах кальвинизм стал орудием сопротивления властям, где вскоре обрел поддержку нового режима, сразу с началом восстания против Испании. Превратности верований и роль правителей в Европе XVI столетия хорошо иллюстрируются событиями в пфальцграфстве Рейнском. Эта область перешла от католицизма к лютеранству в 1544 году, к кальвинизму в 1559 году, вновь к лютеранству в 1576 году и еще раз к кальвинизму в 1583 году. Для Европы был типичен именно такой «конфессиональный абсолютизм» — определение религиозных верований светскими правителями, а не путем индивидуального обращения. В итоге протестантизм достиг пика влияния в 1590-х годах, когда около половины населения Европы стало теоретически сторонниками новой веры. К середине XVII столетия эта доля упала до одной пятой, по мере того как католицизм восстанавливал свои позиции во владениях Габсбургов, в Баварии и Франции. А сам протестантизм в это время испытывал жестокий раскол.
Католическое возрождение часто называют «контрреформацией», хотя на практике это была преимущественно внутренняя реформа, основанная на ряде более ранних постановлений. Правда, она породила уровень нетерпимости, сравнимый с уровнем самых крайних протестантов. Процесс восстановления проходил под сильным испанским влиянием, хотя между Габсбургами и испанскими монархами с одной стороны и папством с другой не было гармонии интересов. Одним из важнейших постановлений стало создание ордена иезуитов, чьей основной целью было обращение неверных, обучение и искоренение ереси. Они сильно отличались от прежних монашеских орденов, чьи интересы были обращены внутрь, к духовной жизни индивидуума и монашеской общины. Новый орден был признан папой в 1540 году отчасти потому, что полностью поддерживал папство. Иезуиты стали также носителями растущего католического пуританизма, который обрел полное господство в Испании. Именно в Испании «Священная служба» (инквизиция), которая прежде была направлена против мусульман и евреев, обратилась к более широкому преследованию всех некатолических элементов. Поначалу она занималась странными сектами вроде иллюминатов или эразмианцев, но с 1550-х годов сосредоточилась на протестантах. В 1542 году была восстановлена римская инквизиция, первоначально введенная в тринадцатом столетии. Массовые сожжения и ауто-да-фе («акты веры») прошли в Португалии в 1547 году, в Америке — первый раз в Лиме в 1570 году, через год в Мехико. Между 1550 и 1800 годами инквизиция провела около 150 000 процессов и приговорила к смерти около 3000 человек. Еще важнее был страх, порождаемый этими актами и другими наказаниями — пытками, тюремным заключением (за счет осужденного), конфискацией имущества, публичным унижением и вечным позором. В последнем случае после смерти кающегося особая одежда, которую «виновный» обязан был всегда носить на людях, выставлялась в местной церкви, а когда она истлевала, родственники покойного должны были приобрести и выставить новую.
В одном из пособий для инквизиторов за 1578 год мы читаем: «Конечной целью суда и осуждения на смерть является не спасение души обвиняемого, но поддержание общественного порядка и устрашение людей». Соответственно, здесь вера навязывалась столь же жестко, как и в любом кальвинистском государстве, что действительно обеспечило сохранение особой принадлежности Испании, Португалии и Италии к католичеству и преобладание этой конфессии во Франции. В ходе процесса было заново утверждено католическое вероучение. Тридентский собор[78] (собиравшийся с перерывами между 1543 и 1563 годами) не представлял собой угрозы папской власти, как бывало в начале XV столетия, однако он был одним из звеньев более общего процесса реформирования папства, попыток справиться с чрезвычайно высоким уровнем коррупции, характерным для конца XV и начала XVI веков.
Собор выработал четкий символ веры; по сути, он был всего лишь новым выражением прежнего учения, но этого-то протестантизм добиться и не смог.
Религиозные распри и нетерпимость в Европе не ограничивались католическо-протестантским расколом. Евреи были изгнаны из многих областей, как католических, так и протестантских — из Испании (1492), Португалии (1497), Саксонии (1537), Брауншвейга (1543), Ганновера и Люнебурга (1553), из папской области (1569), Бранденбурга (1573), из пфальцграфства Рейнского (1575) и Силезии (1582). В Венеции было официально устроено гетто. В 1530-х годах по приказу Цвингли было произведено первое убийство за свои убеждения одного протестанта другими. И католики, и протестанты были равно враждебны так называемым «анабаптистам». Те не являлись организованным объединением с устойчивым набором верований, и это название применялось их оппонентами почти ко всякой группе, противостоящей религиозным организациям; часто это слово служило синонимом «еретика». Как правило, эти группы отстаивали право на личное восприятие религиозных истин, против навязывания веры государством, и часто высказывались также против существующего общественного порядка. Возникновение подобных групп служит отличным примером того, что происходит, когда подрывается устоявшаяся религиозная система — многие не видели причин останавливаться там, где остановился Лютер, или принимать жесткие требования кальвинизма. Протестанты стали преследовать анабаптистов после событий в Мюнстере в 1534—1535 годах. Анабаптисты захватили власть над городским советом в 1534 году и под руководством Яна Лейденского начали внедрять свои религиозные и социальные идеи нового общественного устройства, включая полигамию. Поддержки у них не было, и Филипп Гессенский, протестантский князь и сифилитик, захватил город. Этому Филиппу Лютер незадолго перед тем из политических соображений дал разрешение на двоеженство. Яна и других предводителей заключили в железные клетки на площади перед собором. Им вырвали языки раскаленными щипцами, а потом замучили до смерти.
Устоявшиеся религии и государства испытали также трудности борьбы с народными суевериями. Даже образованная прослойка общества не видела разницы между «наукой» и «магией» вплоть до XVIII столетия, как можно видеть из биографий таких людей, как Кеплер (предсказатель) и Ньютон. Герметические идеи оказали сильное влияние даже на папство. Народные верования представляли собой сложную смесь христианства (как правило, понятого лишь частично) и других идей, исходящих из того, что «магия» пронизывает все сферы жизни. Однако только в сочетании с чисто христианским понятием дьявола они позволили сконструировать новый вид преступления — «колдовство». Впервые его взяли на вооружение доминиканцы-инквизиторы в 1480-х годах, но впоследствии им пользовались и католики, и протестанты. Кальвин выразился так: «Бог настоятельно велит нам предавать смерти всех ведьм и колдуний, и сей закон Бога есть всеобщий закон». Жан Боден, один из крупнейших законоведов XVI столетия, призывал сжигать не только всех ведьм, но также тех, кто не верил, что ведьмы представляют большую угрозу миру. Образованные люди были вполне уверены, что ведьм существует огромное количество. Анри Богэ, старательно изучавший «демонологию», пришел к выводу, что по всей Европе насчитывается 1 800 000 ведьм, которые объединены хорошо организованным заговором против христианской религии и общества. Магические обряды, несомненно, практиковались на всех уровнях европейского общества, но вот вопрос о «поклонении дьяволу» намного более проблематичен — о его существовании нет никаких свидетельства, кроме признаний, полученных под пыткой.
Таким образом, идея «колдовства» засела в сознании тех, кто верил в этот обширный заговор, произносил обвинения и преследовал несчастных. Обвинения выбирались из стандартного набора — договор с дьяволом (иногда включающий блуд) и ответственность за все плохое, что случалось в обществе. В результате чудовищная волна нетерпимости и гонений прокатилась по Европе. За триста лет после 1450 более 100000 человек (в основном женщины) подверглись преследованиям за колдовство, магию и поклонение дьяволу. Около 60000 из них были казнены, обычно на костре. Почти половина всех случаев приходилась на Германию, пик преследований наступил в конце XVI — начале XVII веков. Охота за ведьмами обычно сосредотачивалась в кратких периодах лихорадочной активности и массовой истерии, когда народ, церковь и светские власти выискивали тех, кто по их убеждению был причастен к этому обширному заговору против них и общества. Ведьм обычно сжигали группами, по двадцать и более, но иногда преследования приобретали еще большую интенсивность. В Айхштатте за один год сожгли живьем 274 человек, а в Кведлинбурге в 1589 году сожгли 133 человек за один день. Во второй половине XVII столетия охота на ведьм и преследования прекратились, хотя по каким причинам, неясно.
18.9. Европа: династический конфликт
Растущие религиозные разногласия в Европе XVI столетия служили еще большему раздуванию давних династических конфликтов. В результате Европа стала в XVI столетии самым нестабильным регионом Евразии, где постоянные войны и высокий уровень религиозной нетерпимости и преследований резко контрастировал с относительной стабильностью и миром в великих империях — Оттоманской и Мин. Политика Европы характеризовалась не национальными, а династическими интересами правящих и аристократических семейств, стремившихся достичь порой весьма туманных целей многовековой давности. В этом отношении Европа XVI столетия не отличалась от четырнадцатого и XV, со всеми этими конфликтами между Габсбургами, Люксембургами и Виттельсбахами за титул императора или притязаниями англичан на французский трон в 1330-х годах, которые привели к Столетней войне. Как и в других доиндустриальных державах, надежное наследование было чрезвычайно важно для успеха династии. Османский султан мог убить всех своих братьев, чтобы оставить за собой титул, а Филипп II Испанский намеревался убить своего умалишенного сына дона Карлоса. В Англии нужда в мужчине-наследнике определяла все матримониальные демарши Генриха VIII, а его дочери Елизавете пришлось казнить свою соперницу Марию Шотландскую ради сохранения трона.
В 1494 году французский король Карл VIII решил напомнить о претензиях двухсотлетней давности Анжуйской династии на трон Неаполя в противовес Арагонскому королевскому дому. Для этого требовалось пройти более 400 миль по враждебной территории — это не имело никакого стратегического смысла и не удивительно, что закончилось провалом. В 1499 году герцог Орлеанский стал королем Людовиком XII и добавил другую династическую претензию — на герцогство Миланское. Все эти заявки французской монархии наталкивались на встречные заявки (а иногда и на реальные владения) Габсбургов. Расширение территории, подвластной этому семейству, достигло своего пика при императоре Карле V и было результатом ряда династических совпадений и браков. Бургундия и Нидерланды достались Габсбургам в 1477 году. Важнейшим событием стал брак Филиппа, сына Максимилиана I (который также был императором с 1508 по 1519) с Хуаной, дочерью Фердинанда и Изабеллы, повелителей Кастилии, Арагона, Неаполя и Сицилии. При Хуане все эти разнообразные королевства впервые объединились, но она была безумна, и от ее имени правил сын Карл. После смерти Филиппа он также получил Бургундию и Нидерланды, а в 1519 году, посредством щедрого подкупа, финансированного германскими банкирами Фуггерами, добился императорского титула. В 1526 году ему достались старые владения Габсбургов в Богемии и усеченное королевство Венгрия. Таким образом, владения Карла V представляли собой беспорядочный и разбросанный набор территорий, которые объединяло лишь то, что ими правил один человек. Тем не менее, развивающаяся французская монархия вынуждена была наблюдать за тем, как Габсбурги постепенно зажимают ее со всех сторон; они также противились ее династическим посягательствам в Италии. Германские князья, как и в прошлом, обычно сопротивлялись любым попыткам императора и папы контролировать их. (Папство владело собственными обширными территориями в центре Италии.) Потому растущее влияние Габсбургов вызывало у них подозрения. Проблема заключалась в том, что Габсбурги были самыми главными сторонниками католического дела, и это религиозное измерение лежало в основе почти всей их политики — в Германии 1540-х годов, во время восстания голландцев после 1566 года, и даже при отправке Великой Армады против Англии в 1588 году. На протяжении полутораста лет после 1500 года европейская история вращалась вокруг попыток Габсбургов добиться господства над большей частью континента и того сопротивления, которое они вызвали. Только после заключения Пиренейского договора в 1659 году Габсбурги и испанская монархия окончательно признали, что эта задача невыполнима.
Первый этап конфликта в начале XVI столетия касался соперничества французской короны и Габсбургов из-за земель в Италии. Это был период бесконечных войн, вторжений с обеих сторон, огромных потерь, усиливающегося разорения; малые государства полуострова то и дело заключали различные союзы между собой, а решительной победы не одерживал никто. Карл V, казалось бы, достиг успеха в битве при Павии в 1525 году, когда Франциск I, король Франции, попал в плен. Ценой его освобождения стал через год Мадридский договор, когда Франциска вынудили отказаться от претензий французского королевского дома на Неаполь, Милан и Геную. Впоследствии папа снисходительно освободил Франциска от этих обязательств, так что тот смог создать союз против Габсбургов. Это привело в 1527 году к разграблению Рима имперскими войсками под командованием Карла. Потом последовало длительное затишье — ситуация была патовая. Развязка наступила лишь после того, как и Франциск, и Карл сошли со сцены. Договор в Като-Камбрези в 1559 году стал завершением первого этапа борьбы. После шестидесяти пяти лет конфликта французский королевский дом не владел в Италии ничем, кроме незначительного маркизата Салюццо, хотя на его восточной границе и находились Мец, Туль и Верден.

Карта 56. Габсбургское наследство Карла V
Помимо конфликта с французской монархией, у Габсбургов было еще много проблем. Они считали одной из главнейших своих задач, будучи императорами, действовать в качестве защитников христианства от превосходящих сил Оттоманской империи на Средиземном море. Точно так же они считали себя обязанными защищать католицизм от лютеранства в Германии. В конце 1540-х годов, Карл V, одержав победу в битве под Мюльбергом против протестантской лиги Шмалькальдена, казалось, вот-вот положит конец расколу церкви. Однако затем он потерял поддержку ряда князей (отчасти поддавшихся французскому влиянию) и к 1552 году отказался от мысли силой добиться религиозного единения. Аугсбургский мирный договор 1555 года оговаривал условие, что религию будет выбирать светский правитель, и отражал тот факт, что императоры веками страдали от недостатка реальной власти по сравнению с германскими князьями. И Германия действительно обрела религиозный мир на полстолетия, хотя дело облегчалось тем, что не потребовалось заключать соглашение с экстремистски настроенными кальвинистами. К середине 1550-х годов Габсбурги стояли на краю банкротства (что и случилось в 1557 году). Несмотря на то, что они контролировали почти четверть населения Европы, включая богатейшие ее области (особенно Нидерланды), и имели доступ к богатствам Америки, им не удалось выработать и внедрить эффективные методы управления такими большими и неоднородными территориями. Для династической империи доиндустриального периода с неразвитой инфраструктурой эта задача была неподъемной. В 1555 году Карл V отрекся от престола. Подобно многим другим наследственным монархам, он разделил территорию, которой правил. Императорский титул он отдал брату Фердинанду I (1555—1564), а в Испании власть перешла к его сыну Филиппу II (1556—1598). С тех пор Габсбурги продолжали существовать в виде двух ветвей, с отдельными правителями в Вене и Мадриде.
В то же время французская монархия была близка к краху после смерти Генриха II в 1559 году, которому наследовал пятнадцатилетний Франциск II. Монархия распадалась на враждующие группировки аристократических и королевских домов, несмотря на сильное влияние Екатерины Медичи; сказывалась также религиозная рознь. Наварра была протестантской, партия Гизов — католической, Монморанси, не изменяя католичеству, перешли на другую сторону конфликта. За вторую половину XVI столетия прошло восемь гражданских войн, и французское государство почти распалось. Многие проблемы были порождены возрастающим влиянием кальвинизма. Католики опасались, что те захватят власть так же, как это случилось в Шотландии в 1559 году, когда Мари де Гиз, которая являлась регентшей при своей дочери Марии, была отстранена от власти. В 1560 году был разоблачен «Амбуазский заговор», целью которого было убийство герцога де Гиза, похищение юного короля и захват власти. В 1572 году католики сами нанесли удар, уничтожив во время «Варфоломеевской ночи» около 2000 протестантов в Париже[79]. Конфликт продолжался до 1591 года, когда Генрих Наваррский, первоначально протестант, стал королем и утвердил католицизм в качестве государственной религии. В 1598 году Нантский эдикт гарантировал терпимое отношение к христианам других толков. Привело это к тому, что Генрих был убит иезуитом в 1610 году именно за то, что был терпимым — а значит, не был настоящим католиком.
Внутренние французские распри дали Габсбургам большую свободу действий, однако они так и не сумели справиться с восстанием в Нидерландах в конце 1580-х — начале 1590-х годов. Казалось, что они сумеют достичь своих целей, когда Великая армада была отправлена против Англии и Нидерландов, а затем испанская армия пошла на Париж. Однако положение резко ухудшилось, и в 1598 году Габсбурги были вынуждены заключить мир с Францией, в 1604 году с Англией, а также длительное перемирие с голландцами в 1609 году.
Следующая серьезная военная эпопея в Европе началась в 1618 году с того, что протестантские области Богемии восстали против своего католического повелителя, Габсбурга, Фердинанда II (в 1619—1637 годах — императора). Поначалу Габсбург успешно справлялся с ними, но возникло внешнее вмешательство — голландцы вступили в войну в 1621 году, после истечения срока перемирия с Испанией, датское королевство — в 1626 году. Тем не менее к концу 1620-х годов казалось, что имперская армия под командованием Валленштейна одержит окончательную победу. Это побудило другие государства попытаться остановить Габсбурга, и в 1630 году за дело взялся шведский король Густав-Адольф. Прямое вмешательство испанцев в 1634 году, как нетрудно было предсказать, привело к вторжению французов годом позже. Нападение испанцев на Францию провалилось, а восстания в Португалии и Каталонии в 1640-х годах еще более ослабили позиции Габсбургов. Обе стороны уже близки были к полному истощению сил, и начались поиски соглашений, которые были бы приемлемы для всех. Война закончилась как-то странно сперва был заключен испанско-голландский мир в 1648 году (что лишило французов важного союзника), потом общее соглашение в Германии (Вестфальский мир). Теперь борьба свелась к чисто французско-испанскому соперничеству, пока не был заключен мир в 1659 году, по которому французы получили Артуа и Руссильон. Габсбургам не удалось навязать свое господство западной Европе. На самом деле эта задача была невыполнима, если учесть, как разнообразны были территории, которыми они правили, привилегии и права, на которых настаивала каждая территория, и насколько сложны стратегические задачи, стоявшие перед Габсбургами. Максимальная тяжесть выпала на долю Кастилии, которая не имела прочной коммерческой и сельскохозяйственной базы для поддержки серьезных начинаний. К концу XVII столетия Испания начала клониться к упадку в экономической, социальной и политической сферах.
18.10. Восточная Европа
18.10.1. Польско-Литовское королевство (Речь Посполитая)
[О предыдущем периоде истории региона см. 15.10.1]
В начале XVI столетия семейство Ягеллонов, королей Польши и Литвы, поставляло также королей в Венгрию и Богемию. Все вместе они правили примерно третью европейского континента. Хотя это был чисто династический союз на разнородных территориях, семейство, пожалуй, превосходило могуществом своих соперников Габсбургов. После гибели бездетного короля Ласло II в битве при Мохаче против турок в 1526 году Венгрия и Богемия отошли к Габсбургам, хотя Венгрией те почти не управляли до 1680-х годов. Тем не менее, оставаясь королями Польши и Литвы, Ягеллоны все еще правили наибольшим государством Европы. Они были тесно связаны с западной Европой, в основном за счет богатства, извлекаемого из экспорта зерна в Нидерланды через порт Гданьск. Монархия была здесь не менее прочна, чем на западе Европы — она владела примерно шестой частью земель в стране, управляла чиновниками и армией.
То внутреннее ослабление, которое возникло в государстве позднее, в XVIII столетии, и привело к его разделу, вовсе не было неизбежным. Однако внутренние проблемы (как и в большинстве европейских государств того времени), конечно, наличествовали. Союз Польши и Литвы держался только на связи между двумя коронами, и знать в каждой из стран опасалась попасть в подчинение к другой. В 1560-х годах ситуация ухудшилась, поскольку Зигмунд II умирал бездетным, и требовалось избрать ему преемника в условиях внешней угрозы, исходящей от Московии и, в меньшей степени, от Швеции. И все же государство было способно принять решительные меры. В 1569 году сейм (парламент) и сенат Польши совместно с представителями Литвы приняли Люблинскую унию. Она предполагала, что оба эти учреждения вновь встретятся в новой столице (которой стал небольшой городок Варшава[80]) и создадут «общее дело» (Речь Посполиту), с единой валютой и без таможенных застав на внутренних дорогах. Относившиеся к Литве земли Украины, включая Полесье, Волынь и Киев, отошли к Польше.
В 1572 году Зигмунд умер, и на следующий год сейм собрался, чтобы избрать преемника династии. Габсбургов отвергли (как и в прошлом), также как и Иоганна III Шведского и Ивана IV, которых подозревали (справедливо) в намерении расчленить королевство. Вместо них был избран Валуа — Генрих, брат французского короля Карла IX. Тем не менее ему, как и всем последующим королям, пришлось принять так называемые «Acta Henriciana», согласно которым монарх обязывался сохранить избирательный принцип, созывать сейм каждые два года, соблюдать религиозную терпимость и получать одобрение сейма при назначении новых налогов, объявлении войны и призыве дворянства на военную службу. Если король нарушал соглашение, дворянство имело право на сопротивление. Эти условия действительно ограничивали власть монарха, но не до такой степени, чтобы государство, не менее могущественное многих других в Европе, не могло развиваться.
Соглашение 1573 года, в том числе и относительно религиозной терпимости, имело немалое значение, поскольку соединенное государство Польши и Литвы включало ряд различных конфессий еще до Реформации и избежало худших эксцессов нетерпимости, поразившей остальную Европу. Четверо из каждых десяти жителей были православными христианами, были лютеране (особенно среди немецкоязычного населения), а также кальвинисты, менониты, анабаптисты и унитарии[81], не говоря уже о значительном еврейском населении.
К последней четверти XVI столетия католики составляли менее сорока процентов населения, и установить единую религиозную систему было бы затруднительно. Сложность религиозной жизни страны еще усугубилась в 1590-х годах, когда была создана униатская церковь. В ней православные обряды и обычаи (в частности, право духовенства жениться) сочетались с подчинением папе римскому. Цель ее создания была преимущественно политической — ослабить связь православного населения в восточных областях страны с Московией, основным соперником Польско-Литовского государства. Однако значительная часть как католических, так и православных церковников отказалась признать новую конфессию, что лишь углубило религиозные трения.
Эти трения все же не слишком ослабили королевство. В 1575 году Генрих оставил Польшу, которую успел возненавидеть, чтобы стать королем Франции. Его место занял Стефан Баторий, князь Трансильванский, который был единственным не-Габсбургом, не-шведом и немосковитом среди кандидатов при выборах 1573 года. При Батории Польско-Литовское королевство значительно окрепло — доходы короны удвоились, была создана большая, хорошо экипированная армия, Москве был нанесен ряд поражений. Когда Баторий умер в 1586 году, Габсбургов снова отвергли, но не осталось иной альтернативы, кроме Сигизмунда Вазы (наследника шведского трона), который и стал королем Зигмундом III в 1587 году.
Зигмунда более всего интересовало обретение трона Швеции, и он безуспешно попытался сдать польскую корону Габсбургам в 1589 году. Когда по смерти его отца в 1592 году Зигмунду не удалось стать шведским королем, шанс объединения обоих государств был уже упущен, и у Зигмунда не осталось иного выбора, как сосредоточиться на собственном королевстве. Он был ярым католиком (одна из причин, по которой его не приняли в Швеции), но старался избегать вовлечения в Тридцатилетнюю войну (были только конфликты со Швецией из-за сфер влияния на Балтике). Когда он умер в 1632 году, ему наследовал сын, Владислав IV, а за ним правил его брат, начиная с 1648 года. Несмотря на сохранение формально выборной системы, Польша после 1587 года стала таким же династическим государством, как и вся остальная Европа.
[Дальнейшую историю Польско-Литовского государства см. 19.5.2]
18.10.2 Московия
[Более раннюю историю Московии см. 15.10.3]
В восточной части континента к концу XV столетия важнейшим событием стала энергичная экспансия Московского государства. При Иване III (1462-1505) и Василии III (1505-1533) территория, подчиненная Москве, утроилась. Поначалу в нее были включены области, соседствующие непосредственно с Москвой — Ярославль и Ростов, затем Новгород в 1478 году, Тверь в 1485 году и Псков в 1510 году; последнее независимое русское княжество, Рязань, было взято в 1520 году. Экспансия была также направлена отчасти на запад, против Литвы — в 1494 году была захвачена Вязьма, — однако продвинуться дальше при противодействии более сильного соседа не удавалось, и в 1522 году мирный договор очертил западную границу Московии вплоть до конца столетия. С 1489 года правители Московии назывались царями, и тогда же, в 1490-х годах, они приняли герб с двуглавым орлом в подражание Габсбургам[82].
Несмотря на эти претензии высокого статуса, правители Московии были лишь незначительными монархами, правящими отсталой страной на краю европейского мира. Правительство все еще опиралось на систему семейных отношений, чиновников было мало, письменной документации не существовало. Контроль над обширными землями при очень плохих коммуникациях был неизбежно слабым. Внутреннее единство было непрочным — например, Новгород сохранил собственную монету. Местные администраторы, присылаемые из Москвы, создавали собственные сферы влияния, и уровень коррупции был высок.
Основой укрепления государства стало создание армии, контролируемой монархом и снабженной огнестрельным оружием. Впервые это оружие применили в конце XV столетия; для надзора за его изготовлением были приглашены итальянские оружейники. Однако темпы развития были низкими, никаких фундаментальных изменений не произошло до середины XVI столетия.
Самым выдающимся правителем Московии в XVI столетии был Иван IV (1533—1584), известный также как «Грозный». Он сыграл важнейшую роль в создании центра более развитого государства и в дальнейшей экспансии Москвы, но он же в значительной степени стал виновником внутреннего распада страны в конце столетия.
Иван IV страдал от тяжелого заболевания позвоночника, и для того, чтобы избавиться от боли, много пил и принимал другие средства, лишь усилившие его врожденные параноидальные склонности. Он унаследовал трон еще ребенком, но венчался на царство (став первым в своем роду, кто прошел обряд коронации) только в 1547 году, после периода жестоких распрей между различными группами бояр. Растущая мощь государства была продемонстрирована в 1550 году, когда были организованы первые регулярные подразделения мушкетеров («стрельцов»), состоящие на жалованье у центрального правительства. Пока территориальную экспансию на запад блокировала Литва, Москва обратила внимание на юг, в сторону своего ближайшего соседа, Казанского ханства. Даже после того, как завоеванные когда-то монголами территории были заново переделены, отношения Московии с ханством оставались тесными — оно контролировало основной торговый путь на юг (важный источник поставки рабов Оттоманской империи)[83], и в периоды упадка Москва продолжала платить дань, хотя и предпочитала называть ее «дарами».
Военные действия длились с перерывами на протяжении 1540-х годов, затем Иван Грозный провел решающую кампанию, и в 1552 году Казань была захвачена. Это привело к резкому изменению баланса сил и стало первым успехом бывшей Руси против ее завоевателей XIII столетия. Московия теперь взяла под контроль торговый путь по Волге в Черное море; завоевание Казани открыло возможность дальнейшей экспансии на восток. Тем не менее военная мощь Московии была все еще достаточно ограничена, и от планов нападения на намного более сильное Крымское ханство пришлось отказаться. Вместо этого в 1558 году Иван Грозный обратился на запад, чтобы напасть на Ливонию, последнюю территорию Тевтонского ордена; однако в этом направлении ему препятствовали соперничающие с Московией державы — Речь Посполитая, Дания и Швеция. Война продолжалась, но никаких особых выгод не принесла и завершилась перемирием с прибалтийскими государствами в начале 1580-х годов.
Расходы на эту войну стали одной из основных причин нарастания внутренних проблем в Московском государстве. Еще важнее был избранный Иваном политический курс. Он сталкивался с растущей оппозицией внутри собственной семьи, а также со стороны знатнейших семейств, бояр, которые входили в государственный совет, и все возрастающего числа изгнанников, укрывшихся в Литве. В ответ на это в 1564—1565 годах была организована опричнина — независимая административная система, находившаяся под непосредственным надзором царя и управлявшая большими областями страны, в то время как боярский совет (номинально ответственный перед царем Иваном) управлял всем остальным.
Точная цель создания опричнины остается неясной — возможно, это был своеобразный способ уменьшить влияние основных представителей знати, отражавший личную паранойю Ивана. Опричники, новая элита, обязаны были хранить верность царю и помогали исполнять его волю, хотя она становилась все более невразумительной: действительных и мнимых врагов ссылали и казнили целыми семьями, повинуясь лишь капризам Ивана. С 1567 года пытки и казни участились по мере того, как росло число реальных и воображаемых заговоров. В 1570 году массовая кампания устрашения была проведена в Новгороде. По официальным данным было убито около 2000 человек; на практике общее число жертв было намного выше, город был почти опустошен и разграблен. В 1572 году опричнина была упразднена, но созданная ею атмосфера осталась. Задолго до смерти царя Ивана в 1584 году Московия начала распадаться изнутри.

Карта 57. Расширение Московского государства
1 — Московские владения на 1147 год;
2 — территории, присоединенные к Москве при Иване III (на 1462 год);
3 — территориальные приобретения после Ивана III
[О дальнейшей истории Москвы см. 19.5.1]
18.11. Революция в военном деле
Бесконечные династические конфликты по всей Европе, усугубленные нарастающими религиозными разногласиями и подкрепленные воздействием огнестрельного оружия, привели к перевороту в военном деле в пределах Европы. Все еще достаточно примитивные европейские монархии начала XVI столетия вынуждены были учитывать новшества, и это приводило к изменениям в системе государственной власти. Армии конца XV столетия все еще состояли в основном из лучников (способных выпустить до десяти стрел за минуту с вероятностью точного попадания на расстоянии до 200 ярдов — 182,4 метра), кавалерии и копейщиков. Иногда этот набор дополнялся несколькими единицами артиллерии. Развитие последней привело к серьезным изменениям в средствах обороны — стены крепостей стали ниже и толще, при них начали устраивать бастионы и устанавливать артиллерию. По периметру оборонительные сооружения стали протяженнее. Стоимость возведения существенно выросла, однако новые системы защиты были действенными, и захват городов стал очень затруднительным даже при длительных осадах, рытье подземных ходов и наличии многочисленных армий. Поэтому крайне редко какая-нибудь из многих битв становилась решающей. Первым видом пехотного огнестрельного оружия в Европе стала аркебуза, разработанная в начале XVI столетия — для ее перезарядки требовалось несколько минут, а дистанция точного попадания была вдвое меньше, чем у лучников, но она была эффективна, потому что при этом не требовалось длительного обучения солдат стрельбе. Переворот начался только после разработки мушкета в 1550-х годах (впервые его применили испанские солдаты в Италии). Из него можно было пробивать стальной доспех на расстоянии сто ярдов (91,4 м), и древние виды оружия, такие как палаш, алебарда и арбалет, приносившие мало пользы на протяжении предыдущих десятилетий, окончательно исчезли (даже англичане отказались от своих традиционных боевых луков в 1560-х годах). Копейщики были намного менее эффективны, но их оставили, чтобы защищать мушкетеров, поскольку скорострельность у них была низкая. Решение проблемы было найдено в 1590-х годах, когда придумали способ залповой стрельбы, выстраивая мушкетеров длинными рядами. Однако для этого требовалось уже обучение, тренировки и дисциплина, и связность действий разных подразделений. К 1620-м годам шведская армия уже могла выставить шесть рядов мушкетеров, настолько хорошо обученных, что они могли поддерживать непрерывный огонь. Нарезные ружья уже существовали, но их скорострельность была еще ниже, и их использовали только для снайперской стрельбы. К началу XVII столетия появились первые образцы полевой артиллерии — шведы в 1630-х годах применяли до восьмидесяти орудий.
В результате этих технических нововведений численность европейских армий быстро возросла. К концу XV столетия армии Карла VIII в Италии и его испанских противников насчитывали не более 20 000 человек и были ничтожно малы по сравнению с великими армиями династии Сун в Китае за шестьсот лет до того. За столетие испанская армия возросла примерно в десять раз, до 200 000 человек, а к 1630-м годам армия в 150 000 человек считалась нормальной для любого крупного государства. К концу XVII столетия численность французской армии составляла около 400 000 человек, а упадок испанской державы проявился в том, что правительство могло содержать армию не более 50 000 человек. Даже страны среднего звена, такие, как Голландия и Швеция, к концу XVII столетия содержали армии по 100 000 человек и более. Поначалу технические новинки сказались на ситуации в главных конфликтных точках — Италии, Франции, Испании и Нидерландах. Англия, которой вторжение не угрожало, не строила современных фортификаций и содержала намного меньшую армию; в некоторых сражениях во время гражданской войны 1640-х годов, таких, как при Несби, полевая артиллерия не применялась вовсе.
В военно-морском деле также произошли существенные перемены, поскольку за два века после 1450 года научились оснащать пушками парусные суда. К началу XVI столетия огнестрельное оружие на флоте было представлено дульнозарядными бронзовыми пушками, стрелявшими железными ядрами весом в шестьдесят фунтов (27,24 кг). К концу столетия научились строить галеоны, и голландцы в начале XVII столетия первыми построили флот, пригодный для долгосрочных плаваний в океанах; он предназначался для нападения на испанцев. В состав его входили первые фрегаты водоизмещением 300 тонн, снабженные 40 пушками каждый — к середине XVII столетия у голландцев было 157 боевых кораблей. К концу XVII столетия военно-морские флоты основных европейских держав были способны проводить операции в Карибском море, Индийском и Тихом океане, нападать друг на друга на расстоянии тысяч миль от баз. (Более усовершенствованные корабли строили в Азии. В 1590-х годах корейцы создали «судно-черепаху», ранний вариант бронированного корабля, около 100 футов (30,5 м) в длину, с покрытием шестиугольными металлическими пластинами, препятствующими абордажу или пробиванию бортов. На «черепахе» было устроено по двенадцать пушечных портов на каждом борту и 22 люка для мелкого огнестрельного оружия и огнеметов. Именно с помощью таких судов был дан отпор японцам во время вторжения 1590-х годов).
Эти огромные армии и флоты нуждались в серьезном обеспечении. В 1440-х годах французская артиллерия расходовала 20 000 фунтов (около 8 тонн) пороха в год; двести лет спустя ей требовалось 500 000 фунтов (около 200 тонн). Оружие для пехоты нужно было изготавливать в больших мастерских, пришлось увеличить производство железа и металлических изделий. Строились арсеналы и верфи. Людей следовало нанимать путем рекрутского набора, им следовало платить в той или иной форме. Военные расходы стали «съедать» чуть ли не весь доход государств — например, в богатой Оттоманской империи на армию и флот уходило почти две трети доходов правительства. Даже такие страны, как Англия, избежавшие вовлечения в основные европейские войны, могли оказаться на грани банкротства. Война с Шотландией и Францией (длившаяся с перерывами с 1542 по 1550 год) обходилась около 450 000 ф.ст. в год, притом, что доход государства составлял всего 200 000 ф.ст. в год. Финансирование войны обеспечивалось путем продажи монастырских земель, конфискованных Генрихом VIII (две трети их были проданы к 1547 году), увеличения налогов, изъятия денег под видом добровольных займов, конфискации имущества частных лиц; и все равно государственный долг доходил до 500 000 ф. ст. В Испании, которая вынуждена была расплачиваться за политические демарши Габсбургов, ситуация была еще плачевнее. Когда Филипп II вступил на трон в 1556 году, он обнаружил, что весь доход государства на ближайшие пять лет уже разобран на выплату основных ссуд и процентов. Испанская монархия обанкротилась; то же самое повторилось в 1575, 1596, 1607, 1627, 1647 и 1653 годах. Деньги, одалживаемые монархам, по сути, просто конфисковывались — у королей всегда оставалась возможность добыть еще денег, отказавшись выплачивать проценты по уже выданным ссудам, пока не будут даны новые.
В большинстве стран отсутствовали бюрократические структуры для управления и содержания больших армий. Много трудностей создавало и рекрутирование солдат. Как правило, в армию шли те, у кого не оставалось иной альтернативы прямой смерти от голода. Во многих местах администраторам выдавали разнарядку на отправку в армию определенного числа преступников. Поэтому армии представляли собой разнородное сборище недисциплинированного сброда, к тому же состав подразделений постоянно менялся. Образования не распадались в основном из-за боязни упустить свою долю добычи. Уровень дезертирства был высок; в среднем армии теряли ежегодно почти четверть состава за счет болезней, дезертирства и военных потерь. Бывало и хуже: численность испанской армии во Фландрии сократилась с 60 000 человек в июне 1576 года до 11 000 в ноябре. Между 1572 и 1609 годами испанская армия в Нидерландах бунтовала не менее сорока пяти раз. Не способные организовать собственные армии, к началу XVII столетия правительства стали перепоручать это нанятым по контракту специалистам — в период максимально активного ведения войн на европейских территориях в 1630-е годы было задействовано более 400 таких помощников. Некоторые из них, такие, как Валленштейн, содержали целые армии от имени императора и могли основательно обогатиться в случае успеха кампании. Только в Швеции при Густаве-Адольфе существовала система призыва, но это привело к ужасным последствиям в стране. Бюгде, один из приходов в Швеции, был обязан в течение двух десятилетий после 1620 года поставить для армии 230 мужчин. Из них выжили всего пятнадцать человек, и пять из этих вернувшихся домой были калеками — мужское население прихода сократилось наполовину. Жалованье солдатам платили очень скудное, снабжение многочисленных войск было затруднено за счет отвратительного состояния европейских коммуникаций. Расположенный в каком-нибудь городке гарнизон в 3000 человек мог быть многочисленнее жителей самого города, а войско в 30 000 человек превышало население большинства городов в Европе. Проблемы углублялись еще и необходимостью обеспечивать фураж для лошадей, а к тому же за армией следовало огромное число «обозных». В 1646 году в двух баварских полках было 960 солдат, но их сопровождали 416 женщин с детьми и 310 слуг. Провиант поставлялся армиям в виде «платы за защиту» теми селениями, через которые они проходили (быстро сообразив, что это намного эффективнее простого грабежа). В районах самых активных боевых действий поселянам приходилось откупаться от обеих соперничающих армий и мириться с угрозой заболеваний, распространяемых войсками. Жители местностей, прилегающих к основным дорогам, страдали при переходе армий туда и обратно. Оттоманская армия имела четко установленные системы снабжения и пользовалась определенными основными путями при проходе через Анатолию. Но во время кампании 1579 года против Сефевидов ей пришлось избрать новые пути передвижения, поскольку на прежнем маршруте все деревни были оставлены жителями и заброшены.
18.12. Подъем европейской государственности
Напряжения, вызванные переворотом в военном деле, необходимость финансировать и содержать большие армии и флот оказали решающее значение на развития европейской государственности. (Аналогичный процесс можно отметить в период «сражающихся царств» в Китае, длившийся около трехсот лет вплоть до возникновения империи Хань, около 200 года до н.э. В Европе существенная разница между 1500 и 1945 годами заключалась в том, что ни одной державе, несмотря на многочисленные попытки, не удалось победить прочие и объединить весь регион.) Среди историков существует тенденция «мистического» толкования подъема европейских государств. Считается, что он стал воплощением «духа наций», сформировавшихся в ходе неизбежного процесса развития и также в результате того, что около 1300 года, начали клониться к упадку «универсальные империи» и «универсальная церковь». Этим государствам, как нас уверяют, было свойственно представительное или по меньшей мере полудемократическое правление, ограниченная или контролируемая государственная власть, законопослушность, сохранение личных и местных свобод и привилегий с постепенным созданием и распространением политических прав на всех граждан. Утверждают, будто именно эти черты и стали предпосылками для подъема Европы, определив развитие промышленности, накопление капиталов и проложив путь, по которому другие сообщества и государства должны идти, чтобы стать «современными». Однако эти идеи никоим образом не соответствуют тем процессам, которые привели к развитию европейской государственности. В них были задействованы четыре решающих фактора. Первый: консолидация политических структур на четко определенных и цельных территориях. Второй: нарастающая централизация власти за счет устранения местных «привилегий» и увеличения числа налогов. Третий: ведение войн за пределами страны в сочетании с усилением монополии на применение насильственных методов во внутренних делах. Четвертый, наконец, — создание государственных структур, бюрократического аппарата и кодекса законов, обязательных к исполнению всеми прочими общественными институтами.
В Европе не сложилось «универсальной империи» — империя Карла Великого (охватывавшая лишь незначительную часть Европы) просуществовала так недолго, что ее можно не учитывать, а наследники, претендовавшие на титул императора, практически не имели реальной власти. Большие претензии выдвигало папство, однако ему успешно противились светские правители, и довольно быстро папство стало лишь одной из действующих сил на итальянской территории. Не было в Европе и «национальных государств» — практически все европейские политические образования были составными, объединенными лишь вокруг конкретной правящей семьи или династии. Многие такие структуры разделялись широкими полосами враждебных земель, как было, например, у Габсбургов. Другие разделяло море, как Англию и Ирландию или Англию и территории на континенте, сохранявшиеся за нею вплоть до середины XVI столетия. Если территория и была цельной, в ней часто соединялись четко разграниченные области, например, Пьемонт и Савойя, Польша и Литва. Зачастую их не объединяло ничего, кроме власти одного монарха. В начале XVI столетия в Европе было лишь несколько политических образований, таких, как Кастилия, Франция и Англия, где существовала относительно крепкая администрация и слабое чувство сословной общности среди элиты.
Династические амбиции, основанные на древних принципах семейственности и наследования имущества, прочно усвоенные европейской аристократией, постоянно сотрясали эти немногие крепкие структуры и стремились уменьшить их и без того ограниченную эффективность. Религиозные разногласия XVI столетия еще более усложнили картину разнородности государств. Установить единообразие стало трудно, и попытки, направленные на это, обычно лишь приводили к новым проблемам, как убедились Габсбурги и Испания в Нидерландах, а англичане в Ирландии. В Кастилии, Англии и Нидерландах религия послужила возникновению сильного и очень агрессивного сознания своей миссии, своей причастности к божественным установлениям. Эта идеология дополнительно укрепилась за счет создания на землях еще весьма смутно очерченной «Испании» имперской структуры, ядром которой была Кастилия, и «Объединенного Королевства» англичан, которое начало соответствовать своему названию не ранее 1800 года.
В начале XVI столетия большинство европейских государств были весьма слабы внутренне; они состояли из множества разнообразных общин, сообществ, автономных областей, со сложной системой подчинения и самыми различными кодексами законов. В 1579 году образовались Соединенные провинции — федерация между Утрехтом и семью другими северными провинциями Нидерландов; влияние ее центральных структур всегда оставалось незначительными. Во Франции независимые владения Бурбонов — Беарн, Наварра, Арманьяк, Вандом и Родез — были присоединены лишь при восшествии Генриха IV на трон в 1589 году. Шотландия и Англия «объединились», когда престол достался Иакову VI Шотландскому, и он стал Иаковом I Английским в 1603 году. Однако обе страны остались раздельными вплоть до акта об объединении в 1707 году. Был упразднен шотландский парламент, однако сохранились собственные структуры правосудия, религиозных институтов и образования. В Испании парламент Арагона был сильнее, чем в Кастилии, и попытка изменить эту ситуацию стала одной из основных причин восстания в Арагоне в 1591 году. Англия со своим «неписаным сводом законов» и достаточно единообразной системой судопроизводства выделялась как уникум на общем фоне — в 1600 году во Франции все еще действовали более 700 отдельных кодексов, в Нидерландах их было не меньше. Даже на территории, принадлежащей одной семье, как Габсбурги, до 1618 году имелся ряд самостоятельных правителей, державших собственные дворы, в Нижней, Верхней и внутренней Австрии, Тироле и Богемии. Административное и законодательное единство, как при поглощении Уэльса Англией в 1530-х годах и создании Савойи из разнородных частей после 1559 года, было крайне необычно для европейских стран. Сложность состава государств подчеркивалась разнообразием языков. В Испании сохранение баскского и каталонского наречий стало залогом сохранения этнических меньшинств, аналогично — бретонский и окситанский языки во Франции. Уэльс, хотя и был законодательно и административно включен в состав Англии, сохранил собственный язык, и эта лингвистическая разница стала определяющим этническим фактором. Другие, наиболее отдаленные места, например, Корнуолл в Англии, очень слабо контактировали с центральным правительством, а в Польше и Литве многие глухие углы оставались еще языческими. Это частично объяснялось неразвитостью коммуникаций — для Габсбургов серьезной проблемой было то, что для доставки письма из Мадрида в Брюссель или Милан требовалось как минимум две недели, а часто и намного больше.
Важнейшей частью государственного формирования в Европе было слияние этих мелких областей, устранение местных обычаев и прав. В XVI и XVII веках повсюду (кроме швейцарских кантонов) местные органы управления теряли силу в пользу расширяющейся центральной власти. Другие сообщества, претендовавшие на некоторую самостоятельность и обособленность, такие, как свободные города, княжества, епископства с их местной юрисдикцией, постепенно поглощались развивающейся унифицированной структурой. Процесс этот отнюдь не был мирным и часто наталкивался на сопротивление. В Испании восставал не только Арагон, но также и Каталония, а Португалия отделилась и вернула себе независимость. К началу XVIII столетия Арагон потерял почти все свои привилегии, но Каталония сохранила значительную автономию. Даже в таком небольшом и относительно интегрированном государстве, как Англия, в конце XV — начале XVI веков постоянно вспыхивали местные восстания по мере того, как усиливалась центральная власть. Так было в Йоркшире в 1489 году, в Корнуолле в 1497 году, в северных графствах в 1536 году — «Паломничество милости» (Pilgrimage of Grace)[84], последовавшее за роспуском монастырей, в западных графствах в 1547 году, затем мятеж Кета в 1549 году и Вайетта в 1553 году.
Кроме того, правители навязывали подданным новую систему, предоставлявшую им монополию на применение насилия в государстве. Европу XV столетия характеризовало, как и в предыдущие века, наличие могущественных группировок знати и землевладельцев, обладающих собственной военной силой и хорошо укрепленными замками (практически то же самое наблюдалось в Японии). Обычно они признавали авторитет монарха и сражались за него. Однако они также сохранили основы собственной власти и столь же успешно могли восстать. Имея незначительные доходы, монарх часто имел меньше ресурсов, чем знатнейшие из сеньоров. Потому правителям бывало сложно набрать профессиональную армию или нанять наемников, хотя в Европе их становилось все больше, начиная с тринадцатого столетия, особенно в более богатых странах, таких как Италия. Начиная с XVI столетия правители постепенно устраняли альтернативные очаги власти в обществе и устанавливали свое исключительное право на применение силы. Солдаты в армию теперь набирались государством на жалованье, а не на основе неких «феодальных» обязательств, замки же либо становились беспомощными перед огнестрельным оружием, либо сносились[85].
Эти перемены в основном были завершены в Англии к концу XVI столетия и ощутимо усилились во Франции с 1620-х годов, хотя процесс завершился только в 1660-х годах. Но и в этих условиях уровень контроля правительства внутри государств все еще оставался минимальным. Несмотря на пытки, публичные казни и драконовские законы, многие местности, особенно отдельные районы больших городов и удаленные участки, не ощущали никакого контроля; грабежи на дорогах и улицах были обычным делом.
По мере возрастания военных расходов монархам приходилось искать более эффективные способы давления и сбора налогов, если они хотели добиться успеха и выжить. Напряжения возникали между правителями и дворянским сословием, либо на почве различных внутригосударственных интересов. «Штаты» или «парламенты», созданные в ряде стран Европы в период, предшествовавший 1500 году, теперь замещались влиянием государственных структур и сильными правителями. Эти ассамблеи собирали представителей аристократии и другие сообществ (церкви и городов). Они отстаивали привилегии — свои и местные. В начале своего развития государственные структуры Европы имели очень ограниченную силу принуждения, и монархам приходилось полагаться на согласие общества при взимании необходимых им сумм. Дав свое согласие на сбор налогов, эти группы могли потребовать взамен новых привилегий и исключительных прав. Начиная с XV столетия правители начали обходить эти препятствия, устанавливая особые налоги на определенные цели (обычно военные), затем делая их постоянными и увеличивая суммы тех налогов, которые не требовали одобрения. В этих обстоятельствах созыв штатов и парламентов оказывался ненужным, а независимость и сила монархии тем самым возрастали. Главная сложность для правителя заключалась в том, чтобы уравновесить желание финансировать свои амбициозные планы и возможность ответного восстания подданных против налогового гнета. Единственным исключением из общей тенденции стала Англия, где перераспределение власти произошло внутри привилегированного сословия, и к концу XVII столетия монарх правил при содействии землевладельцев и (все больше) крупных коммерсантов. Они не препятствовали проведению установленной государством политики.
Утверждение о том, что все эти начала европейской государственности были каким-то образом «представительными», является иллюзией. Штаты и парламенты, которым удалось выжить, представляли интересы лишь очень малой доли населения, а именно отдельных групп с их личными интересами, способных обеспечить себе преимущества и привилегии. Даже сохранившиеся «свободные» города управлялись кучкой избранных (обычно из ведущих купеческих семейств). В Генуе контроль над городом находился в руках 700 человек (и их семейств). В Нюрнберге закон ограничивал причастность к власти числом в 43 семейства (в общей сложности не более 200 человек) при населении 20 000 человек в самом городе и еще 20 000 в его окрестностях. Из этих семейств избирались семь старшин, которые и принимали все решения. В 1525 году, когда они решили оказать поддержку Лютеру, весь город был вынужден следовать за ними. В Севилье ограничения были еще жестче — власть принадлежала «консулату» в составе не более пяти зажиточных купцов, которые могли принимать решения в соответствии со своими частными интересами, когда пожелают. В Лондоне в начале XVII столетия около 200 зажиточных торговцев фактически управляли городом. В Нидерландах прослойка, причастная к власти, составляла не более 10 000 человек при населении свыше двух миллионов.
По мере того, как военные расходы государства росли, способы управления пришлось менять. Почти по всей Европе монархические правительства составлялись в основном из лично знакомых королям придворных и родственников. Контроль над деятельностью администрации и работой судебной системы на местах практически отсутствовал. Здесь снова следует указать на Англию как на исключение (в основном из-за ее размеров): уже начиная с середины двенадцатого столетия монарх мог установить контроль центральной администрации благодаря назначению выездных судей и включению местных землевладельцев в систему правосудия в качестве мировых судей. С начала XVI столетия становилось все яснее, что переворот в военном деле требует создания более сложных административных структур и хотя бы примитивной бюрократической системы, чтобы обеспечивать армию всем необходимым и развивать систему налогообложения. В большинстве стран западной Европы в 1530—1540-х годах прошла значительная реорганизация. (Типичным примером является деятельность Томаса Кромвеля в Англии при Генрихе VIII.) Медленно, но неуклонно администрация превращалась в государственный институт — например, во Франции число государственных служащих (штатских) возросло с 12 000 в 1505 году до более чем 80 000 к 1660-м годам. Растраты, подкуп, раздача синекур, коррупция и воровство по-прежнему наличествовали в огромных размерах и еще усугубились за счет продажи откупов и создания монополий, но общая тенденция развития была очевидной.
Европейским правителям тоже приходилось изменяться. Они были вынуждены оставить роль военных предводителей, в мирное время занятых придворными развлечениями (фехтованием и танцами), и стать администраторами, определяющими политику государства. Многим этот переход дался с большим трудом, а многие оказались на него не способны — например, Фридрих Вильгельм I Бранденбургский (1640—1688), так называемый «Великий электор», оказался не способен к обучению и в возрасте девяти лет не умел ни считать до десяти, ни назвать буквы алфавита. Потому приходилось полагаться на какого-нибудь «фаворита» из числа придворных, который мог бы диктовать политику за счет своего личного влияния на короля. В начале XVII столетия во Франции правили сперва кардинал Ришелье (1624—1642), затем его преемник Мазарини (1643—1661). В Испании Оливарес (1622—1642), а в Англии Бэкингем (1618—1628) исполняли аналогичные роли. Даже высокообразованные правители передоверяли полноту власти первым министрам, как Густав-Адольф Шведский Оксенштерну. Все эти деятели могли, пользуясь своим положением, создавать обширные сети собственной власти, пользуясь коррупцией. Только к концу XVII столетия в ряде стран начали складываться первые варианты министерских систем с передачей определенных правительственных функций группам лиц, пользовавшихся доверием монарха.
Правители Европы предпринимали все эти далеко идущие перемены, фундаментальную смену институтов, рискованные изменения в налогообложении, централизацию власти и борьбу с соседними правителями вовсе не для создания «национальных государств». Они руководствовались стремлением увеличить собственное могущество и славу. Все прочее воспринималось как побочный эффект. Завершением процесса стало образование устойчивых государств и, как следствие — консолидация населения в них в виде наций. Границы в Европе все еще оставались нечеткими и долго оставались предметом споров. Они не отграничивали какие-то «исконные» национальные образования. Восточная граница Франции то и дело менялась вплоть до 1918 года, Бельгия стала искусственным образованием XIX столетия, Ирландия то входила в состав Британии, то становилась независимой, а Бавария предпочла присоединиться не к Австрии, а к Германии (образованной в середине XIX столетия) — лишь в 1871 году. Даже у большинства крестьян почти отсутствовало самосознание связи с государством, в котором они жили. Перепись, проведенная в конце 1870-х годов, показала, что большинство крестьян во Франции не считали себя «французами», и правительству пришлось начать обширную кампанию по созданию «французского самоопределения» и преданности государству.
В целом очень немногие из западноевропейских государств сумели успешно приспособиться к новому устройству мира. В 1500 году в Европе начитывалось более 500 независимых политических единиц, а к 1900 году их осталось около двадцати пяти. Даже крупные независимые государства, такие, как Богемия, Шотландия, Неаполь и Бургундия, исчезли, наряду с множеством мелких княжеств, независимых городов и епископств. Простого рецепта для успеха не существовало. Доступ к богатствам, накопленным за пределами Европы, был важным фактором, но не решающим. Испания и Португалия не стали крепкими государствами и с середины XVII столетия находились в относительном упадке по сравнению с другими европейскими соперниками. Нидерланды могли пользоваться огромным богатством, приносимым торговлей, и хотя эта страна сохранила прочную и отчетливую обособленность, устойчивые государственные институты в ней не развились. В некоторых местах доход с торговли был очень важен. Таможенные сборы с кораблей, проходящих через Зунд, оказались важным подспорьем для развития государства в Дании, а для английской монархии налог на экспорт шерсти в Нидерланды был важнейшим источником доходов. В течение некоторого времени высокоразвитые торговые города-государства, например, на севере Италии, могли расходовать свои богатства на содержание наемников в качестве военной силы. Однако по мере того, как богатство, нажитое торговлей, а также награбленное в Америке, распространилось по Европе, другие государства получили возможность делать то же самое. Ряд государств возник и без этой базы. В Бранденбурге-Пруссии и Московии-России отсутствие прочной коммерческой базы означало лишь то, что в образовании государства большую роль сыграла грубая сила. Сказывалось и географическое положение — оно обеспечило относительную безопасность Англии и Швеции, но Германию сделало ареной беспрерывных войн, особенно в начале XVII столетия, и помешало развитию государственности (самым успешным стал Бранденбург-Пруссия на восточной периферии территории). Для государств до-индустриальной эпохи существенным фактором было наличие стабильной династии более-менее способных правителей. И в этом вопросе Англия стала исключением, поскольку царствующие дома сменялись в ней четыре раза в период между 1600 и 1714 годами не считая гражданской войны и установления республики. Страна пережила эти внутренние трудности благодаря своему изолированному положению, затруднявшему вторжение извне.
По вышеизложенным причинам создание государств в Европе было делом чрезвычайно дорогостоящим. Оно не обходилось без беспрерывных войн по всему континенту, приносивших народам смерть и жестокие страдания. Многие люди и сообщества утратили свою независимость, а с нею — права и привилегии. Дорого обходился этот процесс еще и из-за излишних налогов и конфискаций, необходимых для содержания армий и чиновничьего аппарата, что приводило к усилению внутренних трений. Однако имелись также и преимущества: большая упорядоченность во внутренних делах и установление вразумительной системы законов и правосудия. Так закладывались основания для позднейшего развития европейских государств в XIX столетии — усиления могущества, усмирения внутренних волнений посредством полицейских сил, воинской повинности, которым сопутствовало медленное развитие экономики и социальной справедливости, хотя последней обычно сопротивлялись привилегированные слои.
В более широкой перспективе мировой истории процесс государственного строительства в Европе имел фундаментальное долгосрочное значение. Когда Европа добилась господства над другими частями света, они вынужденно последовали за нею и попали в ту же плавильную печь. Такие государства, как Китай, Япония и Оттоманская империя, должны были перенять характеристики европейских государств (в частности, создать министерства иностранных дел), чтобы продолжать функционировать в мире, созданном Европой.
Когда европейские заморские империи рухнули в середине двадцатого века а за ними последовал распад Советского Союза, на карте мира к концу столетия появилось более сотни государств, организованных по европейской модели, хотя в большинстве из них отсутствовали необходимые инфраструктуры, и это неизбежно делало их изначально слабыми.
Глава 19. Кризис XVII века и его последствия
После того, как в последние два века до н.э. установились связи, объединяющие Евразию, имели место три кризиса, затронувшие весь огромный континент. Первый из них был весьма длительным, — с конца второго столетия до н.э. и до шестого н.э.; в этот период произошло падение империи Хань в Китае, упадок Римской империи на западе и исчезновение парфянской империи в Иране. Второй был намного короче и ограничивался временными рамками между 750 годом и серединой X столетия; этот период характеризовали распад исламской империи после захвата власти Аббасидами, упадок династии Тан в Китае и завершение очень краткого периода восстановления в западной Европе. Третий, в середине четырнадцатого столетия, был связан с распространением «черной смерти» по всей Евразии. Он последовал за перенаселением и голодом в Европе, при нем прекратилось правление монголов в Китае и начались смуты, которые привели к установлению династии Мин. Четвертый кризис, охвативший всю Евразию, называют «кризисом XVII столетия», хотя он длился примерно с 1560 до 1660 года. Империи османов и моголов сумели избежать самых худших его проявлений, Япония, все еще относительно изолированная, осталась почти невредимой. А вот Китай пострадал сильно — 300-летняя империя Мин рухнула в середине XVII столетия, ее сменила империя Манчжуров, или Цинь, которая сохранилась вплоть до конца существования имперского Китая в 1911 году. Из всех регионов Евразии наибольшие потери от «кризиса XVII столетия» понесла Европа, где период между 1560 и 1660 годами характеризовался войнами, гражданскими смутами, голодом и многочисленными крестьянскими восстаниями.
19.1. Природа кризиса
Главной проблемой для всех государств Евразии к середине XVI столетия стал быстрый демографический рост. Последствия великих эпидемий XIV века были полностью устранены в Европе около 1500 года, а несколько раньше — на других землях. Население продолжало расти, и давняя проблема равновесия между численностью жителей и способностью сельского хозяйства прокормить их вновь стала актуальной, как когда-то около 1300 года. Уровень сельскохозяйственного производства вырос, но недостаточно, и лишних ртов оставалось много.
Скорость роста населения за период между 1400 (когда худшие годы эпидемий уже прошли) и 1600 годами была беспрецедентной, по сравнению с предыдущими периодами истории. Оно увеличилось почти вдвое, с 350 млн примерно до 550 млн В некоторых местах этот показатель был еще больше. Население Европы выросло с 60 до 100 млн, на две трети, а население Китая удвоилось, достигнув 160 млн Это с неизбежностью привело к тому, что все запасы пригодной для возделывания земли были уже пущены в ход, средняя урожайность начала стабилизироваться, а затем падать, размер среднего крестьянского надела сократился, и объем продуктов питания на голову населения уменьшился. Все большему количеству людей приходилось жить впроголодь и даже голодать. Например, в Анатолии, сельскохозяйственной житнице Оттоманской империи, население между 1500 и 1570 годами выросло на 70 процентов, а площади возделываемой земли — только на 20 процентов. В Китае средняя величина земельного надела на голову населения уменьшилась на треть между 1480 и 1600 — и только внедрение новых культур из Америки, маиса и батата, позволило вообще как-то прокормить растущее число людей.
Эти трудности усугублялись ужесточением климата по всей Евразии, хотя и в этом отношении хуже всего пришлось опять-таки Европе. Период теплого климата между 900 и 1200 годами сменился постепенным понижением средних температур, которые к середине XVI столетия привели к «Малому ледниковому периоду», продолжавшемуся в Европе до середины XIX столетия. Средние температуры были примерно на 1°С ниже тех же показателей для XX столетия. Разница кажется незначительной — однако ее хватило, чтобы сократить вегетационный период почти на месяц и сместить границу высот, где можно выращивать злаки, на 600 футов ниже. После 1580 года ледники во многих местах Европы продвинулись более чем на милю и не отступали до 1850-х годов. Между 1564 и 1814 годами Темза замерзала зимой не менее двадцати раз, а Рона — трижды между 1590 и 1603 годами. Зимой 1602—1603 годов замерз даже Гвадалквивир возле Севильи. В Марселе в 1595 году замерзло море, а в 1684 году у побережья Англии образовались паковые льды. В 1580-х годах Датский пролив между Исландией и Гренландией постоянно был забит паковым льдом даже летом.
Даже короткие периоды очень плохой погоды имели катастрофические последствия. Между 1599 и 1603 годами крайне холодные ветры, необычные для региона, обычно подверженного «мистралю», погубили множество оливковых рощ в Провансе, а в окрестностях Валенсии жестокие морозы убили все плодовые деревья. Аналогичные явления происходили повсюду. Суровые морозы на протяжении тридцати лет после 1646 года навсегда подорвали возможность выращивания апельсинов в китайской провинции Гуанси; наводнение в конце XVI столетия привело к тому, что новая столица Моголов, Фатехпур Сикри близ Агры, была заброшена. В Японии издавна велись точные записи дат, когда начиналось цветение вишен; они показывают, что в этот период даты сдвигались на все более поздние дни.
Агротехника Японии начала XVII столетия была более чувствительной к климатическим условиям, потому что выращивание риса сместилось с юго-запада на окраинный северо-восток. 1630-е годы характеризовались очень прохладными летними месяцами, что сократило вегетационный период растений на севере страны и сопровождалось наводнениями и засухами в других областях. В результате разразился ужасный голод, приведший к многочисленным жертвам среди крестьянского населения и к тому, что в городах цены на зерно взлетели до неслыханного уровня.
Между температурой, осадками и урожайностью культур не было прямой зависимости, поскольку важно было еще, как эти явления распределялись по временам года: например, очень холодные зимы способствовали вымораживанию сорняков и насекомых-вредителей. Тем не менее ухудшение климата сказалось во многих регионах. Неблагоприятные климатические условия были, несомненно, основной причиной великого европейского голода 1594—1597 годов, когда неурожаи повторялись четыре года подряд, и на больших пространствах люди были вынуждены есть кошек и собак; также неоднократно известны случаи каннибализма. Влияние неурожая на судьбы людей Европы наглядно показывают жуткие подробности из приходской книги селения Орслоса в западной Швеции. В начале лета 1596 года казалось, что урожай будет наконец-то обильным, но в июне прошли проливные дожди с паводком:
«...вода залила поля и пастбища, погубив и сено, и зерно ...Зимой из-за гнилого сена и соломы, которые доставали из воды, начал болеть скот ...погибали и коровы, и телята, а также собаки, которые ели их туши. Почва была поражена и в течение трех лет не родила... Даже те, у кого были хорошие хозяйства, прогоняли своих молодых работников, а многие даже собственных детей, не в силах смотреть, как они умирают с голоду... После того и родители стали покидать дома... шли, куда глаза глядели, пока не падали от истощения и голода... Люди мололи и крошили несъедобное сырьё, чтобы добавить его в хлеб — отруби, мякину, кору, почки, крапиву, листья, сено, солому, мох, скорлупу орехов, гороховые стручки и прочее. От этого люди слабели, тела их опухали, и умирали они без счета. Многих вдов находили мертвыми, они лежали на земле, и во рту у них были стебли травы, семена сорных трав с их полей или просто листья... Дети умирали от голода у груди своих матерей, ибо у них не было больше молока. Многих людей, мужчин и женщин, старых и молодых, голод толкнул на воровство... постигли нас также другие беды и кровавый понос [дизентерия], который измучил и погубил людей без счета».
Несомненно, что сильнее всего ухудшение климата отразилось на Скандинавии, где во многих областях выращивание злаков стало невозможным. Одним из проявлений этого процесса стал ужасный голод в Финляндии в 1696—1697 годах, когда вымерло около трети населения. Дальше на юг населению пришлось приспосабливаться: например, в Англии перестали сеять озимые, ограничиваясь весенним севом, чтобы избежать ущерба, причиняемого суровой зимой. В Нидерландах перешли на выращивание гречихи, которая растет быстро и отличается стойкостью, хотя до 1550 года ее почти не культивировали в Европе. Большие трудности создавали также сырые зимы, во время которых почва пропитывалась водой и становилась непригодной для вспашки. Порочный круг замыкали холодные поздние вёсны, из-за которых снижалась заготовка сена, понижались удои молока и приходилось забивать скот, если заготовленных кормов не хватало, чтобы животные могли пережить зиму и дождаться появления травы.
Рост населения, распашка малопригодных земель, понижение средней урожайности и ухудшение климата привели к сельскохозяйственному кризису. Между 1500 и 1650 годами цены на зерно в Европе, Оттоманской империи и Китае возросли в среднем в пять раз. (Это не обусловливалось инфляцией, вызванной притоком серебра из Америки, поскольку те же процессы наблюдались в Англии, где количество серебра, находящегося в обращении, выросло в этот период всего на треть.) Эти тенденции обострялись тяжелым положением большинства крестьян. В области Бовези во Франции в XVII столетии крестьянин в среднем должен был отдавать пятую часть произведенных им продуктов в уплату за аренду, и примерно столько же составляли церковная десятина и налоги. Еще одна пятая уходила на необходимые расходы и приобретение посевного зерна. Если фермер был арендатором, ему оставалась для прокормления примерно треть того, что он вырастил, если земля принадлежала ему самому, оставалось около половины. В этих условиях около трех четвертей наделов в регионе были слишком малы, чтобы прокормить семью, и любое повреждение посевов, неурожай и т.п. могло привести к катастрофическим последствиям.
У крестьян практически не было способов выхода из такой ситуации; голодающие поселяне устраивали восстания или мигрировали (преимущественно — в города). Эмиграция в колонии в то время не представлялась хорошим выходом, поскольку большинство из них, особенно в Америке, сами были в плачевном положении. Тем не менее многие люди продавались во временную кабалу. Бунты были явлением обычным, как и большие шайки «бандитов» (зачастую состоявшие всего лишь из крестьян, пытающихся выжить), но большинство деревенских жителей уходили в города, где было больше возможностей для получения милостыни. Между 1520 и 1600 годами число нищих в Лондоне возросло в двенадцать раз, при том, что население города в целом — только в четыре раза. Правительство столкнулось с проблемой контроля над этими людьми, которых считало «опасными»; ограниченный объем благотворительной помощи распределялся только среди «достойных» или «честных» бедняков. Со всеми прочими обращались сурово: либо изгоняли (временная мера), либо отправляли в «работные дома» (первый из них был построен в Лондоне в 1552 году). Таким образом, нищих убирали с улиц и одновременно снабжали нанимателей дешевой рабочей силой: условия содержания в этих домах были отвратительными и бесчеловечными.
19.2. Кризис в Китае: падение династии Мин
В Китае долгие годы сохранялась внутренняя стабильность: это был период между 1400 и 1550 годами, когда династия Мин достигла высот власти. Начиная с середины XVI столетия начали появляться проблемы. Вдоль северной границы снова набирали силу монголы. В начале XVI столетия разрозненные племена Монголии объединились под рукой Дайян-хана, но полного развития этот процесс достиг при его сыне Алтан-хане, который правил пятьдесят лет, начиная с 1532 года. В 1540-х годах монголы предприняли набеги на провинцию Шаньси и окрестности Пекина — они захватили более 200 000 пленников и миллион голов скота и лошадей за один только месяц в 1542 году. К 1550 году они уже осаждали Пекин и заставили китайцев вновь начать выплату контрибуции лошадьми. В 1552 году они завоевали земли северного Шаньси, а затем захватили старую столицу Каракорум. После победы над киргизами и казахами к 1570-м годам они добились контроля над большей частью Тибета. К тому времени, когда династия Мин заключила с ними мирный договор, монголы подчинили себе почти всю центральную Азию. На юге нарастала проблема пиратства, в котором китайцы обвиняли японцев, хотя самые крупные группировки подчинялись Ван Чи, китайскому купцу из провинции Аньхой, который также торговал с Юго-Восточной Азией.
И все же наиболее сложными оказались внутренние проблемы. Многие из них коренились в характере земельного налога, который обеспечивал две трети доходов правительства. Квоты для каждой области были установлены в 1385 году, в начале правления Мин. По мере того, как население росло, и его распределение изменялось с введением в оборот новых земель, перед правительством встала задача, знакомая другим империям до-индустриальной эпохи: как соотнести размеры налогов с реальным распределением богатства. Даже относительно могущественное китайское правительство не сумело укротить местных землевладельцев, которые были в состоянии избежать какого-либо серьезного перераспределения налогового бремени. Это привело к важным последствиям. Хотя размещенные в разных областях подразделения армии владели землей, чтобы прокормить общины солдат-крестьян, они зависели также от сбора местных налогов. Население росло, и общая нехватка продовольствия наряду с неправильным распределением налогов лишала армию пропитания и поддержки. Солдаты начали дезертировать, и к концу четырнадцатого столетия во многих подразделениях оставалась лишь десятая часть от положенной численности. До некоторой степени центральное правительство обошло эти проблемы, набрав наемников — как и в Европе, обычно это были люди, которых военная служба оставалась единственной альтернативой голодной смерти. Однако правительству пришлось столкнуться с возрастанием расходов на содержание наемников — в XVI столетии суммы выросли в восемь раз, поскольку численность армии на северной границе возрастала, и для нее требовалось все больше дорогостоящего огнестрельного оружия.
До начала 1590-х годов доходов едва хватало на покрытие этих затрат. Затем в течение нескольких лет правительству удалось накопить большие резервы благодаря развитию торговли и притоку серебра из Америки. Однако запасов все же было недостаточно для финансирования длительной и весьма дорогостоящей войны в Корее в 1593—1598 годах, когда туда вторглись японцы во главе с Хидэёси. Хотя китайцы одержали победу, государство осталось почти без денег. Попытка поправить дело путем установления новых налогов и увеличения прежних привела лишь к растущему недовольству и ряду мятежей, как в деревнях, так и в городах. В 1620-х годах правительство Мин, видя невозможность содержания армии наемников, провело призыв во многих приграничных районах, но и это привело лишь к восстаниям в Юньнани, Сычуане и Гуйчжоу. Внутри правительственных органов нарастал конфликт между администраторами, придворными фаворитами и евнухами, усиливалась коррупция и все чаще организовывались заговоры против императора. В северо-западных провинциях прокатилось восстание мусульман, в основном вызванное смещением торговых путей, ведущих к центральноазиатским областям. Плохая погода тоже сыграла важную роль. В 1627—1628 годах засухи и неурожай в северной Шаньси вызвали образование больших банд, состоявших из крестьян, дезертиров и солдат, уволенных потому, что им нечем было платить; они рыскали по сельской местности и даже грабили города. В начале 1630-х годов эти банды разрослись еще больше, поскольку обстановка в деревнях ухудшилась, и беда затронула уже другие провинции — Хэбэй, Хэнань и Аньхой. Правительство и армия не могли мобилизовать достаточно сил, чтобы подавить эти восстания. К началу 1640-х годов династия Мин была на грани краха. В северном Китае вожди повстанцев, особенно Ли Цзычен (бывший пастух и работник на правительственной почтовой станции), намеревались сместить правителей Мин, поскольку сами захватывали все большую территорию и создавали на ней свою администрацию. В феврале 1644 году Ли Цзычен в своей столице Сиань (переименованной из Чан-аня) провозгласил новую династию Шунь. Два месяца спустя его войска вошли в Пекин, и последний император Мин, Чунчжэнь, покончил с собой. В сентябре 1644 года бывший солдат Чжан Сяньчжун, управлявший Сычуанью, создал «Великое царство Запада».
Китай, по всей видимости, стоял у начала очередного периода распада или установления нового режима, как было при захвате власти династией Мин около трехсот лет назад. Но вместо этого государство оказалось захваченным еще одной группировкой кочевников из Великой степи — манчжурами. Они принадлежали к народу чжурчжэней и вели свой род от тех правителей, которые отвоевали северный Китай у империи Сун и владели им в 1115-1234 годах, прежде чем пали под ударами монгольских завоевателей. В 1589 году они были союзниками китайцев и вместе с ними сражались против японцев в Корее в 1590-х годах. Медленное разложение власти Мин дало им возможность установить свой контроль над северо-восточным Китаем, где проживали вперемежку китайцы и различные народности, бывшие прежде кочевниками, а потом перешедшие на оседлый образ жизни. Чжурчжэньская знать организовывала свои войска по китайским образцам и широко пользовалась разнообразным огнестрельным оружием, изобретенным китайцами. Эти отряды назывались «знаменами» и различались по цветам своих штандартов. Они были созданы в 1601 году и подразделялись на «внутренние знамена» (состоявшие из чжурчжэней и их прямых потомков) и «внешние знамена» (состоявшие из представителей других народностей). На протяжении почти ста лет они оставались самой грозной военной силой в восточной Евразии. Чжурчжэни расширили свою империю при Нурхаци — они захватили Ляоян в 1621 году и сделали Мукден своей столицей в 1625 году. К этому времени они уже зависели от двуязычных китайских чиновников, которые действовали как посредники между ними и китайской знатью в областях, подчиненных чжурчжэням; они занимали большинство ключевых постов в администрации, часто бывших наследственными. Многие получали привилегию — возможность вступить во «внутренние знамена» в качестве паои, «приближенных к дому».
Наиболее активный период чжурчженьской экспансии наступил при Абагае (1627—1643). В 1635 году они приняли название манчжур, а год спустя сменили свое родовое имя с исторического Цзинь на Та-Цзинь (т.е. «великие Цзинь»). Осуществлять экспансию в южном направлении оказалось относительно нетрудно по мере того, как распадалась власть династии Мин. К 1638 году маньчжуры подчинили всю Корею, за ней последовала Манчжурия, а к 1644 году они уже распоряжались в бассейне Амура. В 1644 году был побежден мятежный вождь Ли Чжу-чен, после чего чжурчжэни-манчжуры заняли Пекин. За следующие несколько лет они без особого труда подчинили северный Китай. К 1647 году маньчжуры достигли Кантона на юге, но там они столкнулись с более сплоченными силами китайцев. Их возглавляли различные предводители из династии Мин, которые пытались сохранить власть над этим богатым краем и восстановить династию, как это сделала династия Южная Сун в 1120-х годах. В 1647 году новым императором Мин был провозглашен Юнь-ли — он отбил Кантон и установил контроль над большей частью южного Китая. Однако в 1648 году он был вынужден отступить в Юннань, где внутренние распри, особенно среди военачальников Мин, препятствовали эффективной организации сопротивления манчжурам. Тем не менее Юнь-ли продолжал действовать, и лишь в 1661 году его схватили в северо-восточной Бирме и казнили. Успешный захват юга поставил перед предводителями манчжуров новые проблемы, особенно в отношении генералов (среди которых были перешедшие на их сторону военачальники армий Мин), которые, собственно, осуществляли завоевания для манчжуров. У Саньгуй, который победил Юнь-ли, контролировал Юннань, Гуйчжоу, Хунань, Шеньси и Ганьсу. В 1673 году он поднял мятеж и, с помощью других военачальников и губернаторов южного Китая, основал империю Чжоу, просуществовавшую до 1681 года. К середине 1670-х годов казалось, что эта империя вот-вот отвоюет северный Китай и покончит с правлением манчжуров. Кое-кто из его сторонников был замечен в измене, но только после смерти У в 1678 году мятежу настал конец, и манчжуры обрели полную власть над югом к началу 1680-х годов.
Манчжурам также пришлось столкнуться с широким распространением пиратства у южного побережья. Пиратами командовал один из видных сторонников династии Мин, Чжэн Чэнгун (известный европейцам как Коксинга). К середине 1650-х годов он мог при желании мобилизовать более 2000 военных судов и войско до 100 000 человек. Только после неудачной попытки захватить Нанкин в 1659 году его могущество стало клониться к упадку. К 1661 году его оттеснили на Тайвань, где он разбил и изгнал голландцев. Он направил послов в Манилу и на Филиппины, где находился лишь ничтожный испанский гарнизон — 600 человек. Испанский губернатор решил удалиться на Минданао, но перед этим приказал вырезать всех жителей-китайцев — в Маниле было убито не менее 6000 человек, а по всем Филиппинам — около 30 000 человек. Испанцев спасла только смерть Чжэн Чэнгуна в 1662 году. Голландцам не удалось захватить Тайвань, манчжуры сделали это в 1683 году. К этому моменту власть манчжуров в Китае укрепилась, и долгий период внутренних смут подошел к концу. С 1680-х годов в Китае наступил период прочной внутренней стабильности и процветания, который продлился до середины XIX столетия.
19.3. Кризис в Оттоманской империи
Как и в Китае, правители Оттоманской империи испытали серьезные затруднения в связи с ростом населения и распашкой новых земель. Обычно эти земли не облагались налогом, поскольку они не входили в земельный реестр, и потому расчет налогов все больше отрывался от реального состояния экономики. Кроме того, рост населения приводил к уменьшению земельных наделов, и число безземельных работников увеличивалось. Соответственно нарастало и недовольство сельских жителей. Усложнялось положение еще и тем, что система земельных владений была связана с военными потребностями. Как почти во всех государствах доиндустриальной эпохи, земли в провинциях были разделены на имения (тимар) различных размеров и предназначены для прокормления кавалерии. Необычным здесь было то, что доход, получаемый военными со своих тимаров, исчислялся в фиксированных денежных суммах. Так как цены на зерно на протяжении XVI столетия резко возросли, реальный объем продуктов питания, приобретаемых за эту фиксированную денежную ренту, быстро сокращался. Это неизбежно привело к тому, что кавалерия не могла больше прокормиться со своих поместий и попросту бросала их. Количество конных воинов — держателей тимаров сократилось с 87 000 в 1560 году до 8000 спустя семьдесят лет. Когда поместья оставлялись, они возвращались государству, но затем раздавались придворным фаворитам или другим влиятельным группировкам и не входили в налоговый реестр. Поэтому саму основу оттоманской армии пришлось менять. Для этого стали набирать в имперские войска больше янычар и sipahis (спаги)[86], а безземельных крестьян во все больших количествах рекрутировали в пехоту как мушкетеров. За сто лет после 1530 года численность армии центрального правительства возросла в пять раз. Однако этой армии следовало платить, и жалованье должно было соответствовать (хотя бы в какой-то степени) растущим ценам. Даже после того, как торговля стала приносить большие доходы (только за счет торговли пряностями, привозимыми из Юго-Восточной Азии, они выросли вчетверо за сто лет после 1480 года), эрозия основы — земельного налога — привела к растрате больших бюджетных запасов 1520-х годов. Уже к 1580-м годам от них ничего не осталось, а в XVII столетии образовался дефицит.
В 1590-х годах основные налоги были повышены, что практически сразу вызвало крестьянские бунты. Быстро стали собираться отряды так называемых celali[87], состоявшие (как это было в те же времена в Китае) из дезертиров, наемников, не получивших жалованья, недовольных крестьян, безземельных батраков и даже местных землевладельцев. Между 1599 и 1607 годами они распространились по всей Анатолии и Сирии. В землях последней вождь друзов[88] Фахреддин Маан возглавилвосстание, продлившееся до 1635 года. Раздоры внутри армии между имперскими подразделениями и местными командирами привели к новым столкновениям; особенно серьезным был бунт янычар в 1589 году в Константинополе. Он стал проявлением новой, намного более активной роли профессиональной армии в политике — военные были вовлечены в заговор, который привел к убийству султана Османа II в 1622 году. К этому времени они также участвовали в затяжной войне с Сефевидами, которая длилась, с небольшим интервалом, с 1603 по 1639 год. В начале войны Сефевиды отвоевали Азербайджан, а в 1624 году взяли Багдад и Мосул, вырезав в этих городах значительную часть суннитов. Попытки турок отбить Багдад не удались ни в 1626, ни в 1630 году, но в конце концов им это удалось (в 1638 году), и на следующий год договор в Каср-и-Ширине установил длительный мир между двумя соперничающими исламскими империями.
Вечной угрозой для Оттоманского государства была необходимость вести войну на двух фронтах — с Сефевидами на востоке и Габсбургами на западе. В этот период Габсбургов в первую очередь занимали войны против их европейских соперников, и после войны 1593—1606 годов они заключили с Турцией мирный договор, выплатив «дань» в 200 000 флоринов. Этот договор возобновлялся несколько раз до 1663 года. Таким образом, Оттоманская империя пережила кризис XVII столетия относительно благополучно. Хотя перед ней стояли многие из тех же проблем, с которыми столкнулась династия Мин, она сумела победить своих основных противников Сефевидов, а западноевропейские державы особой угрозы не представляли. В этих обстоятельствах с внутренними проблемами можно было справиться, даже когда в 1648 году был убит другой султан, Ибрагим I. Подавление мятежа Абаза-Хасан-паши в 1658 году положило конец периоду нестабильности. Богатство и внутренняя прочность империи позволили ей сохранить все свои территории, кроме провинции Азербайджан. К середине XVII столетия Оттоманская империя оставалась одной из трех сильнейших держав Евразии.
19.4. Кризис в Западной Европе
Кризис XVII столетия особенно остро сказался в западной Европе по ряду причин. Хотя население здесь росло не так быстро, как в Китае, климатические перемены оказались намного ощутимее, масштабы сельскохозяйственного кризиса были больше. Нестабильность политической ситуации в Европе, вызванная династическими распрями и религиозными раздорами, была усилена переворотом в военном деле (на протяжении XVII столетия Европа почти непрерывно воевала — было всего четыре мирных года). Постоянно растущие требования и организационные нововведения правительств вызывали напряжения в обществе и еще более нарушали равновесие. Для того, чтобы финансировать новые, многочисленные армии, снабженные огнестрельным оружием, приходилось повышать налоги, и это бремя становилось невыносимым для экономики, держащейся в основном на сельском хозяйстве (при том, что массы крестьян уже находились на грани вымирания). Различные слои общества от крестьян до местных помещиков и региональных сообществ (обычно защищавших свои привилегии и самостоятельность) то и дело пытались оказать сопротивление таким завышенным требованиям. Это сопротивление не было «революционным» — этот термин, соответствующий реалиям XIX и XX столетий, здесь неприменим. На самом деле эти восстания были «реакционными» — они добивались защиты существующих установлений и привилегий от натиска государства. Кризис усугублялся тем, что правители и их дворы часто усваивали культурные достижения, чуждые остальному обществу (иногда даже землевладельческой знати), а к этому добавлялись религиозные различия.
Недовольство крестьян приводило к бунтам по всему континенту, зачастую весьма масштабным. Например, в Аквитании, с населением около полутора миллионов, за двадцать пять лет после 1635 года произошло более 250 восстаний. В Провансе ситуация была не лучше. При населении 600 000 человек там отмечено с 1596 по 1715 год 374 восстания. В основном эти мятежи были не против землевладельцев и церкви (хотя присутствовали и такие настроения), а против государственной политики и налогового гнета. Крестьяне, которым оставляли в пользование только треть выращенного ими урожая, просто не выдерживали увеличения налогов. В области Бордо талья (основной налог) оставалась неизменной между 1610 и 1632 годами, но к 1648 году выросла вчетверо — чтобы окупить расходы на войну с Испанией и императором-Габсбургом в Германии. Именно налоговый гнет стал причиной вспышки восстаний в 1640-х годах и почти полного распада французского государства во время Фронды в 1648—1653 годах. Во многих случаях крестьянские восстания перерастали в освободительные, когда целые области вставали на защиту своих привилегий. Особенно это относится к Испании, где потребности почти непрерывных войн — с голландцами, Францией (с середины 1630-х годов) и в Италии (с Савойей и Мантуей) — стали чрезмерными для государства, не имеющего высокопродуктивной сельскохозяйственной базы и страдающего от упадка экспорта ключевых продуктов (экспорт шерсти упал на 40 процентов в 1612—1670 годах). Полномасштабный кризис разразился в 1640-х годах: восстания в Каталонии (продлившиеся до 1652 года) и в Португалии, где успешно была восстановлена независимость (которую Испания не признавала до 1668 года). Кроме того, испанской монархии приходилось справляться с революциями в Неаполе и Палермо в конце 1640-х годов.
Отчетливо выражалось комбинированное воздействие финансовых трудностей, местного сопротивления и религиозной розни и в Англии начала XVII столетия — стране, которая фактически не была вовлечена в сокрушительные европейские войны первой половины столетия и испытала воздействие переворота в военном деле лишь в незначительной степени. Тем не менее и здесь монархия не сумела справиться с финансовым кризисом, взять под контроль разнородные элементы своей классической «составной» монархии или сдержать нарастающую религиозную рознь как в самой Англии, так и между разными частями британской монархии, в частности, между Англией, католической по преимуществу Ирландией и сплошь кальвинистской Шотландией. В первые десятилетия XVII века в монархии начался фискальный кризис, вызванный распродажей в предыдущий период основных активов (земель, конфискованных Генрихом VIII после роспуска монастырей в конце 1530-х годов) и, как и во многих других странах Евразии, сетка обложения земельным налогом все более отрывалась от реального уровня благосостояния страны. Продажа земель и почетных должностей, наряду с раздачей монополий и других официальных привилегий, исчерпала себя в качестве источника доходов к 1620-м годам. Монархия столкнулась с тем, что знать, владеющая землей (и другие заинтересованные круги), господствовала в Парламенте и имела возможность контролировать доходы правительства в большей степени, чем в большинстве европейских государств, а значит, и сопротивляться введению новых налогов.
В 1630-х годах Карл I попытался применить способ, опробованный в других европейских монархиях — поднять налоги в обход Парламента, тем самым увеличив независимость самого правителя. Попытка заключалась в том, чтобы превратить старый налог на содержание военно-морского флота («ship money») в регулярный поземельный налог, который был вне контроля парламента. К концу 1630-х годов казалось, что этот фокус пройдет успешно, хотя финансовые дела монархии по-прежнему были плохи (выплата долгов съедала половину доходов). Однако монархию подкосило восстание в 1637 году в Шотландии, вызванное в основном религиозной политикой, а за ним — и в Ирландии. Подавить их не удалось, и обанкротившаяся монархия вынуждена была воззвать к английскому парламенту. Но вторжение шотландской армии в северные области Англии и оказанная ею поддержка парламенту (частично по религиозным мотивам) довели политику Карла I до полного краха. Попытки достичь соглашения между королем и парламентом в 1640—1642 годах провалились из-за религиозных разногласий, несовместимых требований с обеих сторон и взаимного недоверия. Разразилась гражданская война, приведшая к казни Карла в 1649 году — по всей видимости, это был наиболее радикальный итог западноевропейского кризиса XVII столетия. В действительности же немногие проявления по-настоящему радикального недовольства существующими общественными и экономическими порядками были подавлены парламентской армией под руководством Кромвеля. Быстро создать новую и стабильную систему управления оказалось трудно, и вскоре после смерти Кромвеля в 1660 году монархия была восстановлена. Таким образом, в Британии создалась весьма необычная для Европы ситуация: монарх отныне правил совместно с землевладельческой знатью, и это положение закрепилось в 1688—1689 годах, когда контроль за налогообложением был передан Парламенту.
Повсюду в Европе результатом кризиса XVII столетия в сочетании с переворотом в военном деле стало укрепление власти монарха. Обычно он получал возможность обеспечивать себе дополнительный доход и поднимать налоги, не добиваясь чьего-либо согласия, и править, не привлекая к этому никакие группировки или ассамблеи. Во Франции Генеральные штаты не имели особого влияния уже в XV столетии, а после начала XVII не собирались вплоть до 1789 года. В Баварии власть штатов была устранена к 1648 году. В течение следующего десятилетия с небольшим правители Бранденбурга обрели достаточно власти, чтобы содержать регулярную армию независимо от штатов, и то же самое произошло в Гессен-Касселе. В Дании финансовый кризис, последовавший за Северной войной со Швецией, привел к созданию абсолютной монархии. В самой Швеции позиции монарха существенно укрепились к концу XVII столетия. В Испании штаты Арагона потеряли большинство своих привилегий. С конца XVII столетия в западной Европе, за исключением Британии, Нидерландов и швейцарских кантонов, правили монархи, обладавшие почти абсолютной властью.
19.5. Кризис в Восточной Европе
19.5.1. Московия
[Ранее о Московии см. 18.10.2]
В восточной Европе кризис XVII столетия первой ощутила Московия. Те же проблемы, что испытывала вся Европа, здесь предстали в особенно острой форме. Население росло, а климат в этом географическом регионе ухудшился основательно; последствия были сокрушительными. Полный неурожай и голод 1601—1602 годах привели к обширному крестьянскому восстанию. Введение новых видов оружия организация стрелецких полков усиливали напряжение. Длительные войны против Казани и Речи Посполитой требовали от правительства больших расходов. Налоги возросли — в Новгороде их подняли в восемь раз на протяжении XVI столетия; это лишь усилило недовольство крестьян. Правительство пыталось установить систему коллективной ответственности крестьянских общин, но многие из них попросту снялись с мест и обосновались на новых землях вне досягаемости правительства.
Положение еще ухудшалось внутренними разногласиями правящих кругов, параноидальной политикой Ивана IV и отсутствием определенности касательно наследника престола. Ивану IV наследовал Федор, слабый правитель, фактически передоверивший правление своему зятю Борису Годунову. Когда Федор умер в 1598 году, на нем закончился род правящих московских князей. К власти пришел Борис, но многие не считали его законным правителем.
Между 1598 и 1613 годами в Московском государстве воцарилась анархия: после смерти Бориса в 1605 году царя не стало — был только ряд претендентов, пытавшихся доказать свои права на трон, но ни один из них не сумел взять страну под свой контроль. Крестьянские восстания продолжались, к ним добавилась иностранная интервенция — и Речь Посполитая, и Швеция воспользовались падением одного из своих главных соперников. К 1610 году ситуация стала настолько отчаянной, что кое-кто из боярской знати решился даже предложить трон князю Владиславу из Польши. Но, будучи убежденным католиком, Владислав не был принят православной церковью и частью правящей элиты. Польские войска удерживали Москву до 1612 года. В 1611 году поляки захватили Смоленск, а шведы — Новгород. Казалось вполне вероятным, что Московское государство прекратит свое существование и будет разделено между своими врагами, а в тех областях, которыми не интересовались другие государства, возникнет безвластие. Основное сопротивление полякам по религиозным мотивам оказал патриарх Московский, и по его инициативе был созван Земский Собор из представителей знати, церкви и ряда городов. В феврале 1613 года собор избрал на царство Михаила Романова. Новой династии, чья законность оспаривалась еще много лет, предстояло править до 1917 года.
Хотя Романовы и установили контроль над территорией Московии, в течение нескольких десятилетий после 1613 года они были слабы, а вместе с ними и государство. Крестьянские волнения не прекращались, особенно на юге, и о каких-либо завоеваниях на юго-востоке, где обосновались исламские правители, не могло быть и речи — даже Смоленск удалось вернуть только в 1634 году.
19.5.2. Речь Посполитая
[Ранее о Польско-Литовском королевстве см. 18.10.1]
Польша и Литва избежали вовлечения в худшие из военных конфликтов начала XVII столетия, не считая вторжения на русские земли и оккупации Москвы. Военные новшества их задели мало, кавалерия осталась важнейшей частью армии, и необходимости в развитии сильной государственной власти не было. Содержание кавалерии обходилось недорого, и на военные нужды тратилось лишь около одной пятой государственного бюджета (в большинстве европейских государств эта доля составляла обычно более четырех пятых). Впрочем, у Польши имелся достаточно сильный военный флот, который сумел победить флот Швеции в 1627 году. Кроме того, власть Сейма была велика (больше даже, чем власть английского парламента) — он осуществлял контроль над распределением налогов. Серьезный кризис в Речи Посполитой наступил в середине столетия. В начале 1640-х годах по стране прокатились опустошительные набеги крымских татар, в 1648 году на юге взбунтовались казаки, потом снова имели место набеги из Крыма и наконец, мощное крестьянское восстание на Украине, поддержанное Москвой. В том же году умер Владислав IV, ему наследовал его младший брат Ян-Казимир. В 1655 году шведы вторглись в Поморье и разграбили Варшаву, Краков и ряд других городов.
Дела шли все хуже, и население вымещало негодование за свои трудности на евреях — в первой половине 1650-х годов около 100 000 человек были либо убиты, либо вынуждены бежать. Оставшиеся замкнулись в гетто. В целом между 1648 и 1660 годами погибло до четверти населения Польши. Польша также потеряла контроль над Бранденбургом (Пруссией), правитель которого, воспользовавшись этими внутренними проблемами, объявил себя независимым (в 1701 году его наследник наконец решил, что он заслуживает титула короля). В 1668 году Казимир прекратил борьбу и отрекся, став последним королем из семейства Ваза, которое правило Польшей с 1587 года.
Ситуация в Польше, тем не менее, не была хуже, чем в других европейских государствах того времени, и выход из кризиса XVII столетия, казалось, уже близко. Но на самом деле Речь Посполитая вступала в период беспрецедентного упадка, который привел к ее разделу и исчезновению как государства через сто с небольшим лет.
[Далее см. 19.11.2].
19.5.3. Крепостное право
Именно в XVI—XVII веках социальная история Восточной Европы начала сильно отклоняться от линии развития Западной. В обоих регионах в результате «черной смерти» и других эпидемий положение крестьянства улучшилось, поскольку возник дефицит рабочих рук у землевладельцев. Удовлетворить потребности феодалов в рабочей силе для их поместий насильственным путем было невозможно; потому все больше стали развиваться арендные отношения и денежный оброк (методы, применявшиеся в Китае уже почти две тысячи лет). Постепенно растущая коммерциализация экономики делала эти перемены выгодными. После 1500 года эти тенденции в западной Европе закрепились, и землевладельцы стали полагаться больше на денежную ренту, чем на крестьянский труд в качестве основного источника своих доходов. Другие формы повинностей постепенно теряли свое значение, хотя во Франции новые тенденции встречали некоторое противодействие.
Однако в части государств центральной Европы и полностью в восточной с конца XV столетия развитие пошло в прямо противоположном направлении. Крепостное право было вновь введено, крестьянские наделы экспроприированы в пользу землевладельцев, крестьяне были законодательно прикреплены к земле, которую обрабатывали, трудовые повинности, которые они были обязаны исполнять для землевладельцев, увеличены, а права землевладельцев расширены.
Причины таких различий были сложны. В Восточной Европе располагалось очень много земель, пригодных для обработки, и мало рабочих рук (плотность населения была намного ниже, чем в Западной Европе). Поэтому землевладельцам было трудно заставлять крестьян платить ренту: они могли уйти на свободные земли (которых практически не оставалось в Западной Европе), кроме того, уровень монетаризации экономики был намного ниже, чем на западе Европы. Законодательное закрепощение дало землевладельцам ту власть, которой им не хватало, принудило крестьян работать на них и позволило продавать производимый крестьянами излишек продуктов в свою пользу. Этот последний фактор отсутствовал в предыдущие века. Сельское хозяйство в помещичьих имениях коммерциализировалось, поскольку возрос вывоз зерна в западную Европу. За сто лет после 1460 года экспорт ржи из Речи Посполитой вырос в шестнадцать раз и составил треть всей продукции страны. Из Венгрии на запад перегоняли ежегодно 55 000 голов скота, и они составляли более 90 процентов всего венгерского экспорта. Восстановление крепостного права стало также возможным потому, что земельная аристократия либо контролировала, либо вообще монополизировала парламенты или штаты ряда государств и могла использовать политическую власть для укрепления своего экономического и социального господства. Крепостное право было закреплено законами в Богемии (1487 год), Польше (1495 год), Венгрии (1514 год), Пруссии (1526 год), Силезии и Бранденбурге (1528 год), Верхней Австрии (1539 год) и Ливонии (1561 год).
В Московии денежная экономика была еще менее развита, чем в других областях восточной Европы. В начале XVI столетия около 10 процентов населения составляли холопы — по сути, рабы, хотя в сельском хозяйстве они были задействованы мало. Основную часть населения представляли свободные (по закону) крестьяне, которые возделывали земли помещиков и за это расплачивались либо барщиной (трудовыми повинностями), либо оброком (в деньгах или натурой) — чаще всего, оброк был натуральным, поскольку денег в обороте было недостаточно. В 1497 году правительство постановило, что крестьяне могут уходить, куда захотят, лишь в течение двух недель в ноябре (после уборки урожая), при условии выплаты некоторой суммы. Однако рабочей силы по-прежнему не хватало, и некоторые землевладельцы готовы были даже выплачивать эту сумму за крестьян, чтобы переманить их к себе.
Политический, экономический и социальный крах Московии в конце XVI столетия окончательно узаконил крепостное право. В образовавшемся хаосе крестьяне бежали, бросая свои поля и деревни (в 1580-х годах более четырех пятых земель вокруг Москвы были заброшены), и оседали в новых, еще не освоенных местах. Землевладельцы, стремясь запастись рабочей силой, в 1581 году добились от правительства указа, запрещающего крестьянам в ряде областей страны куда-либо переселяться на протяжении «запретного года». Затем «запретными» стали объявлять почти каждый год, а в 1592 году действие указа было распространено на всю страну.
В период анархии, в начале XVII столетия, подчинить крестьянство было трудно, хотя с 1603 года все тот же указ издавался заново каждый год, который тем самым становился «запретным». После 1613 года, когда вновь было создано действующее правительство, соблюдение указа навязывалось крестьянам насильственно, и закрепощение завершилось. Наконец в 1649 году эти постановления официально включили в свод законов, и все крепостные были «привязаны» к месту своего жительства и владельцу земли; даже те из них, кто сбежал, формально оставались крепостными, как бы долго ни продолжалось их отсутствие.
С начала XVII столетия население Московии (а затем и России) все больше разделялось на знать и землевладельцев-помещиков с одной стороны, и массу крепостных — с другой, по мере того, как различия между разными категориями крестьянства постепенно стирались. К XVIII столетию около половины населения составляли крепостные, находящиеся в частной собственности, и еще одна четверть принадлежала церкви. Прочнее всего крепостное право держалось в наиболее развитых сельскохозяйственных областях, где трудом крепостных добывались излишки сельскохозяйственной продукции, которые потом могли быть проданы землевладельцами; в северных лесных районах и Сибири крепостных, принадлежащих частным лицам, почти не было.
Статус крепостных все время понижался, и вскоре они уже ничем не отличались от рабов. Феодалы могли переселить своих крепостных, куда им было угодно, в любое из своих поместий, а с начала 1660-х годов они покупали и продавали крепостных уже без земли (а впоследствии их выигрывали или проигрывали в карты). Крепостные сделались личной собственностью — землевладелец мог наказывать их по своему усмотрению, а для того, чтобы выехать из его поместья по его же делам, крепостному должны были выдать особый пропуск[89]. Единственное право, которое отличало крепостных от обычных рабов, было право службы в армии. Однако это делалось не по их личному желанию, а по государственной разнарядке и произволу помещиков. До 1793 года служба в армии была пожизненной, а затем ее сократили до двадцати пяти лет — если солдату везло, и он доживал до этого срока.
19.6. Восстановление
Примерно около 1660 года большинство государств и империй по всей Евразии начинали выходить из почти столетнего периода разрухи. В Китае династия Цинь восстановила централизованное управление после распада государства Мин, и начался длительный период почти беспрецедентной стабильности и растущего благосостояния. В Оттоманской империи подавление мятежа Абаза-Хасан-паши в 1658 году ознаменовало наступление периода стабильности под властью семейства Коприилу, к которой принадлежали все великие визири до конца XVII столетия. Империя Моголов в Индии все еще была сильна, а в Японии сёгунат Токугава управлял обществом в условиях внутреннего и внешнего мира, с устойчиво укрепляющейся экономикой. В Европе первоначальное воздействие переворота в военном деле прошло, и большинство государств сумело найти способы получения доходов, которые требовались для содержания их армий и военного флота. Рост населения замедлился (в целом за XVII столетие оно возросло только на 12 процентов, вполовину меньше, чем в XVI), и благодаря этому неуклонно возрастающая производительность сельского хозяйства позволила установить несколько лучшее соотношение между численностью людей и количеством продуктов питания. Торговый капитал накапливался, особенно по мере того, как развитие плантационного сельского хозяйства в обеих Америках обогатило европейские государства, в частности, Англию и Францию. Все эти процессы отразились в установлении большей внутренней стабильности в государствах Европы. Религиозные распри, бич предыдущих полутора столетий, затихли, разделение государств на протестантские и католические было признано и стабилизировалось. Европа по-прежнему воевала, но эти военные кампании были намного менее разрушительны, чем те, которые поражали ее с 1500 года. Монархия в Англии была восстановлена, а во Франции Людовик XIV, взяв бразды правления в свои руки, обеспечил длительный период крепкой власти. По всей Европе монархи и князья правили, не встречая почти никакой внутренней оппозиции.
19.7 Китай: стабильность и процветание
Когда Цин захватили власть в северном Китае, они еще некоторое время воспринимали себя как иноземную знать, правящую китайцами. Смешанные браки были запрещены, в городах, таких как Пекин, установлена сегрегация (манчжуры проживали в северной части города); как и императоры Цзинь за шестьсот лет до них, они принуждали жителей носить бянь-цзу, то есть длинную косу (кочевнический обычай, восходящий к IV веку н.э.), несмотря на то, что китайцы многократно восставали против этого. Сразу после завоевания на конфискованных землях был образован ряд чжиань — особых поместий для манчжуров. Рабочую силу для этих поместий составляли военнопленные и безземельные крестьяне. Их содержали в условиях, мало отличавшихся от рабства. Однако Цин вскоре обнаружили, что эта система очень неэффективна и трудно управляема, поэтому поместья были расформированы, крестьяне получили обратно свои наделы, и в 1685 году манчжурским «знаменам» было запрещено производить дальнейшую конфискацию земель. На самом деле маньчжуры очень быстро восприняли давние китайские институты — уже в 1646 году была восстановлена система экзаменов с целью подготовить новых чиновников, лояльных государям Цин. К концу XVII столетия между манчжурами и китайцами практически не осталось антагонизма благодаря тому, что стабильность и процветание восстановились.
Начиная с 1680-х годов до конца XVIII столетия Китай оставался весьма стабильным под управлением всего лишь трех императоров-долгожителей из династии Цин: Канси (1661—1722), Юнчжэна (1723—1736) и Цяньлуна (1736—1796). В этот период имела место широкая экспансия власти и влияния китайцев в центральной Азии, причем в масштабах, невиданных со времен эпохи Тан за тысячу лет до того. Когда Цинн захватили власть в Китае, большая часть Тибета и области Урумчи-Кукунор принадлежала ойратскому роду Хошоут. В 1670-х годах хошоутов сменили джунгары, которые также подчинили значительную частьтерритории, ныне известной как западный Синцзян.
Китайская экспансия началась в конце XVII столетия, когда они потеснили джунгар на запад, а также оккупировали территории к югу от озера Байкал, включая всю Монголию. На юге они проникли также в Тибет. Уже в 1652 году далай-лама нанес визит в Пекин, а ближе к концу столетия Пекин сделался важным центром книгопечатания для буддистов Тибета и Монголии. В 1732 году император Юнчжэн превратил свой дворец в городе (Юн-хо-кун) в буддистский храм по тибетскому образцу. В 1751 году Тибет был сделан китайским протекторатом, хотя и сохранил значительную автономию. Китайское влияние распространилось также за Гималаями, в Непале и Бутане. Последний удар по джунгарам был нанесен во время военной кампании 1756—1757 годов, когда они были практически полностью истреблены. К концу десятилетия китайцы завоевали бассейн Тарима и подчинили себе западные земли вплоть до Коканда и границ Кашмира. Эти территории были включены в состав Китая в качестве «новых земель (Синьцян)», хотя остались под управлением армии. В начале 1760-х годов китайская империя достигла наибольшей своей протяженности в истории. Она контролировала территорию, на треть большую, чем современный Китай — простиралась от Кашмира и Коканда на западе до Тайваня на востоке и от Монголии на севере до Тонкинской области Вьетнама на юге. За следующие сорок лет из этой территории было потеряно очень немногое: восстания в Ганьсу, в центральной Азии и на Тайвани были подавлены в 1780-х годах, Юньнань и почти вся северная Бирма признали суверенитет Китая в начале 1770-х годов, а в 1791 году китайская армия провела карательные экспедиции в Непале. Лишь к концу 1780-х годов, когда усилилась активность вьетнамских пиратов, китайские армии все-таки оставили северный Вьетнам (эту область китайцам всегда было нелегко контролировать), где пришла к власти новая династия Нгуенов, и название страны было изменено с Дай-Вьет («Великая земля Вьет») на Вьетнам («Южная Вьет»).
19.7.2. Экономика и общество
[О европейской экономике того времени см. 20.3—20.5]
Внутренняя стабильность Китая почти не нарушалась — крестьянские волнения случались только в приграничных районах, а в наиболее плотно заселенных областях, в низовьях Янцзы, все было спокойно. Благодаря этому начался такой быстрый рост населения, какого мировая история до того не знала. В 1650 году, когда династия Цин пришла к власти, население Китая равнялось примерно 140 миллионам, к концу столетия, когда были устранены последствия крушения империи Мин, эта цифра поднялась только до 160 миллионов (т.е. до уровня 1600 года). А в XVIII столетии население возросло более чем вдвое и достигло 330 миллионов.
Китай с большим отрывом был самым крупным государством в мире: во всей Европе на 1800 год насчитывалось всего лишь около 180 миллионов жителей, из них в Англии и Уэльсе, вместе взятых — менее 10 миллионов. Население не могло бы так увеличиться, если бы не существовало высокопродуктивного сельского хозяйства. Площади возделываемых земель в Китае, видимо, удвоились за период между 1650 и 1800 годами, по мере того, как колонизировались новые территории, в частности, Синцзянь, Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси. Продуктивность также продолжала улучшаться, в этом сыграло важную роль введение в оборот новых культур, привезенных из Америки — таких, как маис и сладкий картофель (батат).
На сельское хозяйство также благотворно влияли два других фактора. Во-первых, уровень установленных правительством налогов был очень низким — в начале XVIII столетия они были самыми низкими за всю китайскую историю. В 1711 он был жестко зафиксирован, поэтому весь огромный прирост продукции в XVIII столетии оставался необлагаемым налогами. Во-вторых, большие земельные владения составляли очень незначительную часть сельскохозяйственных угодий (даже императорские поместья давали менее одного процента возделываемых земель), и производство находилось в руках крестьянских семейств, которые были уверены, что их наделы никто не отберет. Сельское хозяйство было весьма высокотоварным, множество сельских работников трудилось по найму, за жалованье. В низовьях Янцзы почти все площади были заняты под чайные плантации. Около четырех пятых населения зависело от покупки на рынках зерна, которого они сами не выращивали. Некоторые крестьяне становились настолько зажиточными, что могли оплачивать наемных учителей для своих детей. Хотя торговля зерном приобрела широкие масштабы, правительство предпринимало шаги по выравниванию рыночных флюктуаций за счет зернохранилищ, принадлежащих государству или находящихся под его контролем. Содержание основных зернохранилищ финансировалось непосредственно государством, а за пределами больших городов существовали общинные и благотворительные зернохранилища, финансируемые за счет налогов, собранных с землевладельцев и купцов. Всего на попечении государства сохранялось до 10 процентов всего объема произведенного зерна. Запасы либо продавались для снижения цен, либо одалживались крестьянам для кратковременной помощи или в экстренных случаях, например, при голоде. Благодаря наличию хорошо развитой сети внутренних коммуникаций, особенно судоходных каналов, у правительства имелась возможность доставлять запасы в любую точку страны, где в них возникала необходимость. Ни одна европейская страна такой отлаженной системой не обладала.

Карта 58. Империя Цин в 1760 году
Правительства собирало налоги — которые составляли, по-видимому, не более 5 % годового дохода Китая. Однако у правительства имелся существенный излишек, поскольку китайская экономика накопила огромные богатства. Прямое государственное вмешательство в экономику было незначительным — китайским купцам не создавали никаких ограничений на торговлю с иностранцами, и даже немногие оставшиеся у правительства монополии, например, на продажу соли, находились под управлением купцов. Эти купцы являлись богатейшими людьми Китая и извлекали существенный доход из распределения около 400 000 тонн соли по всей стране ежегодно. Китайские купцы контролировали и производство чая, и его растущий экспорт в Европу, в основном через посредников — англичан из Британской Ост-Индской компании в Кантоне (экспорт чая возрос в XVIII столетии в 28 раз, но и тогда он составлял немногим более одной десятой всего произведенного китайцами объема — все остальное шло на внутренний рынок). Усиление товарного характера экономики также опиралось на импорт больших количеств риса из Юго-Восточной Азии. В этой торговле участвовали тысячи судов-джонок, каждая водоизмещением более 1000 тонн, с командой около 200 человек, и китайские купцы разъезжали по всему региону, налаживая торговые связи. К концу XVIII столетия на одном только Борнео проживало более 200 000 китайцев, образовавших своеобразное мини-государство («компания Ланфан»), которое просуществовало до 1884 года.
И в 1700, и в 1800 годах Пекин был самым большим городом в мире с населением около миллиона, а Кантон с его 800 000 жителей на 1800 год превосходил любой город Европы за исключением Лондона. Показатель промышленного производство на душу населения был не меньше, чем в Европе, производство основывалось на высокой степени специализации для обширного и все еще растущего внутреннего рынка, особенно для городов. К 1700 году в производстве хлопковых тканей и изделий из них в области Чжэцзян (к юго-западу от Шанхая) было занято более 200 000 постоянных работников и значительное количество сезонных. Семейства, владевшие промышленными и торговыми предприятиями в Китае, представляли собой сплоченные группы, которые держались на семейных и партнерских связях — точно так же, как и в Европе. Они также создавали «ложи» — неформальные ассоциации с целью взаимопомощи для поселения, хранения товаров и финансовой поддержки. В эпоху Мин эти ложи не выходили за пределы конкретных видов торговли и местностей, но в XVIII столетии быстро распространились по всему Китаю. Во многих городах, как и в Европе, делами заправляли группировки зажиточных торговцев и промышленников. Этим группировкам оказывали поддержку хорошо развитые банковские учреждения, предоставлявшие возможность хранить вклады, делать займы, передавать деньги из одного места в другое по всему Китаю и выпускать векселя и банкноты. Не менее важным было то, что существовала разработанная система законов, определявших отношения между партнерами, земельную ипотеку и правила заключения контрактов, порой очень сложные; все это было необходимо при наличии такой разнообразной системы деловых отношений. Как и в Европе, рост благосостояния и повышение мобильности населения в условиях растущей экономики приводил к возникновению напряженности в обществе. Те слои землевладельцев, чиновников и придворных, которые издавна имели в Китае высокий статус и получали свои богатства по наследству, видели угрозу в растущей власти новых общественных групп, которые стремились, и зачастую успешно, пробиться на самый верх общества, пользуясь своим богатством.
Лишь к концу XVIII столетия в Китае проявились первые признаки тех проблем, которые стали бичом страны в следующем столетии. К 1780-м годам скорость роста населения, видимо, достигла того предела, который был доступен даже продуктивному сельскому хозяйству китайцев. В начале XIX столетия рост населения продолжался (несколько медленнее, но все же китайцев стало на четверть больше между 1800 и 1850 годами), и ситуация сделалась критической. Уже к 1790-м годам в деревнях некоторых районов страны начались. Крестьянские бунты участились, снова стали возникать тайные общества, наподобие общества Бай-лянь-чжао («Белый лотос»), сыгравшего важную роль в середине четырнадцатого столетия, во время изгнания монголов, и триста лет спустя, при крушении династии Мин. У правительства все еще было достаточно власти и денег, чтобы подавить эти вспышки, но они были предвестниками будущих осложнений.
19.8. Япония при династии Токугава
[О предыдущем периоде истории Японии см. 18.6]
Сёгунат Токугава, установившийся в 1603 году, обладал достаточным запасом сил, чтобы справиться с кризисом XVII столетия, который задел и Японию. Впрочем, его воздействие было незначительным и в основном проявилось в виде сельскохозяйственных проблем 1630-х годов с последующим поднятием цен на рис и, как следствие, мятежом Симабара в 1637—1638 годах. Угрозы внешнего нападения не было, и справиться с возникшими трудностями представлялось возможным. Придя к власти, Токугава Иэясу применил выжидательную политику, обеспечивая себе консолидацию власти. Он держал центральную часть Японии и столицу Киото под контролем своих ближайших родственников. Императоры жили в Киото, но Иэясу остался верен своей прежней базе в Эдо (современный Токио) — маленьком рыбацком поселении, которое отдал ему Хидэёси в 1590 году. Большинство влиятельных даймё выжили, даже его главные враги, Мори и Шимацу, но своих последователей он наградил большими земельными угодьями. Наследник Хидэёси (основная угроза для Токугавы) был разбит в 1615 году, а его замок в Осаке захвачен. Иэясу же официально отрекся от поста сёгуна в 1605 году и передал власть сыну, тем самым избегнув споров о наследовании, хотя на практике он правил до своей смерти в 1616 году.
Благодаря осмотрительности Иэясу основные институты сёгуната Токугава были созданы его сыном Хидетада (который умер в 1623 году) и его преемником Иэмицу, который правил до 1651 года. Администрация Токугава (бакуфу) управляла семейными владениями напрямую. Они включали около трети населения Японии и большинство основных городов, в том числе Эдо, Киото, Осаку и Нагасаки. Какую власть это давало дому Токугава, можно видеть из того факта, что они контролировали площади, на которых выращивали рис, в семь раз большие, чем у крупнейшего даймё, Маэда из Кадзанавы. Именно на этом основании они могли навязать свое господство другим даймё, которые подразделялись на три категории. Члены рода Токугава, которые не могли занимать пост сёгуна, назывались симпан («родичи»). Эти побочные линии рода Токугава, особенно так называемые «Три дома» (саше), были потомками седьмого, восьмого и девятого сыновей Иэясу, которым доверялось управление ключевыми областями Японии; в трех случаях из их рядов избирался и сёгун. Те из даймё, которые признали Иэясу еще до того, как он начал борьбу за власть в 1600 году, назывались фудай и занимали особое положение. К третьей категории относились тодзама (или «внешние даймё»), к которым причислили большинство знатных родов (за исключением Маэда). Это были люди, которые тем или иным образом когда-то оказывали сопротивление Иэясу и потому находились под подозрением. В их число входили Мори с западного Хонсю и Шимацу из Сацума на южном Кюсю которые впоследствии сыграли важнейшую роль в окончательном свержении дома Токугава в середине XIX столетия. При правлении Токугава число тодзама и их могущество неуклонно сокращались: одного за другим их наказывали за различные преступления или нарушения закона (действительные или выдуманные), а их земли и права переходили к более надежным фудай.
У даймё сохранились их служащие (самураи), но и те, и другие быстро утратили свои военные функции, в частности, последние сделались чиновниками в административных органах даймё. Это происходило потому, что сами даймё, первоначально являвшиеся военными предводителями, превратились в местных администраторов, чья деятельность подчинялась законодательству сёгунов. Они не платили налогов сёгуну (у него было достаточно доходов со своих собственных земель). Однако они все-таки подносили ежегодно «подарки», по сути, дань, согласно тщательно разработанной системе, от них также требовалось оплачивать расходы на содержание местных правительственных органов в своих областях и участвовать в финансировании некоторых военных операций. В целом у даймё было больше экономических и военных сил, чем у сёгуна, но они были разобщены распрями и находились под очень жестким контролем. Все они были связаны с домом Токугава сложной сетью брачных союзов, и им не дозволялось общаться друг с другом напрямую — только через правительство в Эдо. Они не могли увеличить размеры своих военных отрядов или построить замок без разрешения сёгуна, и у Токугава было достаточно сил, чтобы принудить их к выполнению этих правил. Основным рычагом подчинения даймё была четко установленная система санкин-котай. Начиная с 1634 года каждый даймё был обязан направлять в Эдо заложников, которые должны были постоянно жить там. Кроме того, они должны были приезжать туда сами на полгода, чтобы служить сёгуну, и для этого содержать вторую, весьма дорогостоящую резиденцию в столице. Чем дольше сохранялся внутренний мир в Японии, тем меньше становилось значение прежних военных занятий даймё.
Центральное место в укреплении государства Токугава занимало управление внешними делами; был положен конец прежней системе, при которой всякий местный даймё мог принимать собственные решения. Контакт с чужеземцами теперь был невозможен без одобрения правительства в Эдо. Токугава считали себя равными китайскому правительству (отчасти потому, что в Японию никогда не вторгались «варвары») и отказывались смириться с тем, какое место им отводится в китайской системе дипломатии и политической иерархии региона. Японцы были достаточно сильны, чтобы самим диктовать условия своего участия в иностранных делах, поэтому они избежали неблагоприятного воздействия беспорядка, последовавшего за крахом династии Мин, а затем извлекли выгоду из длительного периода стабильности на протяжении XVIII столетия.
Этика дома Токугава имела антихристианскую направленность: к 1630-м годам христианство как религия было уничтожено в Японии, а голландских коммерсантов содержали на острове Дэджима близ Нагасаки в унизительных условиях. Однако уровень зарубежной торговли был высок; даймё Цусимы, Сацуми и Мацумэ с позволения правительства вели торговлю, пользуясь японскими судами, и основательно обогатились. Основным торговым партнером был Китай, основные торговые пути вели через Корею и острова Рюкю (в частности, через Окинаву). Китайцы закупали крупными партиями серебро и, позднее в XVII столетии, медь — из Японии вывозилось свыше 5000 тонн в год. Объем торговли с Кореей также был довольно значителен: туда уходило около 10 процентов серебра, которое чеканилось за год в Японии. Соответственно, Япония не была отрезана от внешнего мира — она просто была достаточно сильна, чтобы самостоятельно решать, в какие вступать контакты, чтобы избежать вовлечения в войну.
[О дальнейшей истории Японии см. 21.15]
19.9. Оттоманская империя и Сефевиды
[О более раннем периоде истории Ирана см. 18.3]
С конца 1650-х годов в Оттоманской империи господствовало семейство Коприилу, в котором по наследству передавалась должность великого везиря, не считая других, не менее важных должностей. Турция теперь контролировала все восточное Средиземноморье. В ней происходили те же процессы, что и в западной Европе, ведущие к возникновению развитой военно-политической бюрократии, предназначенной, чтобы управлять государственными делами и обеспечивать длительное существование империи. Для ее интересов была важна обстановка на северном побережье Черного моря. В условиях экспансии Польши на юг, на земли Украины, конфликты с казаками в степях потребовали вмешательства, и в результате к Оттоманской империи добавилась новая провинция — Подолье — между реками Днепром и Днестром.
В государстве была налажена документация и отчетность, ничуть не хуже, чем в европейских монархиях. Управление на местах становилось все более децентрализованным, что обеспечивало большую гибкость по мере того как центральное правительство, как и правительства европейских стран, передоверяло политические, административные и судебные функции местным землевладельцам. Эти могущественные местные группировки создавали собственные системы покровительства и широко пользовались коррупцией, как и их коллеги в Европе. Именно в процессе развития этой системы Оттоманская империя достигла максимального расширения своих территорий. Большая часть острова Крит, который располагался на пути перевозки зерна из Египта в Константинополь, была отбита у венецианцев в 1645—1646 годах, хотя ключевой порт Кандия (Ираклион) выдерживал осаду до 1669 года.
В начале XVII столетия Турция в основном сохраняла мир с Габсбургами. Однако это обуславливалось тем, что государство испытывало внутренние трудности (в добавление к войне с Сефевидами в Иране), и у него не было возможности полностью контролировать приграничные районы Венгрии и Трансильвании. Как только власть османского правительства укрепилась, в 1663 году была предпринята попытка нападения на Габсбургов, закончившаяся неудачей, а затем последовала интервенция, во время которой Вена была осаждена (в 1683 году). Эти действия продемонстрировали силу Оттоманской империи: всем стало ясно, что никакого особенного упадка со времен великих завоеваний на Балканах (двумя веками ранее) не произошло. Тем не менее, как и в прошлом, Вена была слишком далеко от основной базы турок, и осада не могла закончиться успешно. Направление европейской дипломатии мало изменилось с XVI столетия — Габсбурги пытались возобновить анти-османский союз, опираясь на Венецию, хотя теперь они могли привлечь к этому поляков и русских. Однако Порта, как и в прошлом, пользовалась молчаливой, и иногда и открытой поддержкой французов, которые по-прежнему были настроены против Габсбургов. Венеции удалось на некоторое время отбить Морею и Афины — но вскоре они были снова потеряны, а Габсбурги хотя и взяли Белград в 1688 году, не сумели удержать его. В 1687 году султан Мехмед IV был низложен за то, что проиграл кампанию против Вены, но эффективность управления Оттоманской империей от этого не понизилась. Наконец, в 1699 году был заключен Карловицкий мир. После заключения Каср-и-Ширинского мирного договора в 1639 году, впервые за двести с лишним лет, Османская империя потеряла часть территории: к Ирану отходили земли Азербайджана, а также Ереван; Габсбурги же получили Венгрию, Трансильванию и Белград. Еще один султан, Мустафа И, был низложен в 1703 году преимущественно из-за того, что допустил эту потерю.
Несмотря на утрату этих приграничных областей на северных Балканах, Оттоманская империя оставалась сильной еще почти сто лет. Экономика продолжала развиваться и позволяла мобилизовать значительные ресурсы, в том числе и для проведения успешных военных кампаний.
Что касается европейских держав, они не сделали никаких значительных и долговечных «приобретений» вплоть до 1770-х годов. В 1709 году Россия была вынуждена отдать Азов, свой первый оплот на Черном море. В 1718 году был заключен Пожаривацкий мир, который положил конец войне Венеции и Габсбургов против Оттоманской империи. Результаты его были в целом нейтральными для турок: с одной стороны, Венецию вынудили отдать те земли в Средиземноморье, которые она приобрела по Карловицкому миру почти двадцать лет назад, но Габсбурги получили часть Сербии и небольшую часть территории Валахии.
Однако затем, когда завершилась война между Габсбургами и Россией, при подписании в 1739 году мира в Белграде, французы, которых историческая ситуация сделала «друзьями» турок, вмешались в ход переговоров. В результате Габсбургам пришлось отдать все, чего они добились по договору 1718 года, и вернуться на те позиции, которые занимали в конце XVII столетия. От этого момента на тридцать лет на Балканах установился мир, а Оттоманская империя в целом сохранила свой престиж, завоеванный триста лет назад.
С начала XVI столетия перед Турцией стояла сложная стратегическая проблема: ей угрожала война на два фронта: с европейцами на западе и Сефевидами в Иране. Эта проблема разрешилась только в начале XVIII столетия, с падением власти Сефевидов в Иране. После заключения мира с Турцией в 1639 году и армия Сефевидов, и их центральная администрация пришли в упадок; контроль за местными феодалами всегда был непрочен, и теперь эффективность центрального правительства в Исфахане еще понизилась. Местные вожди стали почти независимыми, среди племенных объединений Афганистана и центральной Азии повсеместно возникло брожение (с этим феноменом столкнулись также Моголы в Индии). Дошло до того, что в 1722 году афганцы из Кандагара под предводительством Мир-Ваиса захватили Исфахан. Оттоманская империя, не теряя времени, нанесла удар (по согласованию с Россией). В 1724 году они взяли Армению и часть Азербайджана, а России достались прилегающие к Каспийскому морю провинции Гилян, Мазандеран и Астарабад. С востока Турции более ничто не угрожало.
Почти полная анархия воцарилась в Иране, и в 1736 году последний, лишившийся влияния правитель-Сефевид был свергнут Надир-шахом Афшаром, вождем, ведущим свой род от монгола Чагатая[90], в союзе с разнородными афганскими и тюркскими племенами.
Он также вторгся в Индию в 1739 году, но в 1747 году был убит, и созданная им коалиция быстро распалась. В Иране ему на смену пришел Карим-хан, предводитель коалиции оседлых групп племени зендов в западном Иране. Он правил, номинально оставаясь вакилем, то есть наместником пустующего трона Сефевидов, до 1779 года, и стал основателем новой династии, при которой страна жила спокойно.

Карта 59. Оттоманская империя в 1660—1800 годах
Затем зенды потерпели поражение от азербайджанского племени каджаров, потомков тюркских вождей, которые при Сефевидах были беглербегами (правителями) Мазендарана и Астарабада. Они установили контроль над всем Ираном к 1810 году и основали династию, которой предстояло править страной вплоть до 1924 года. Другие исламские правители в этом регионе также наращивали свое могущество. В 1650 году султан Ибн-Саиф из Омана занял португальский форт Маскат — захваченные португальские корабли стали основой его флота, который к концу XVII столетия состоял из 24 больших судов; из них один корабль был снабжен 74 пушками, а два фрегата имели по 60 орудий каждый. В 1698 году войска оманской династии захватили португальский торговый центр Форт-Хесус в Момбасе на побережье Кении.
Крах Сефевидов привел к важнейшим религиозным переменам. Надир-шах Афшар был суннитом, и он принялся подавлять шиитские элементы. Лидеры последних не слишком возражали, так как они избавились от претензий Сефевидов на религиозную догму, приобрели большую самостоятельность после удаления из государства улемов, которые примерно за сто лет стали основными противниками иранского режима. Зенды и Каджары были более терпимыми, чем Сефевиды, и при их правлении снова заметно оживилось суфийское движение, особенно секта Нурбакши, которая переселилась из Индии при шахе Масум-Али в 1785 году.
Однако параллельно с переменами в религиозной жизни Ирана происходили другие, еще более важные изменения в провинции Аравия. Там под покровительством местного вождя бедуинов Ибн-Саудаба в начале XVIII столетия возникло новое исламское движение пуристского и аскетического толка, получившее по имени своего основателя, Ибн Абд-аль-Ваххаба наименование ваххабизма. Аналогичное движение существовало и в Йемене, оно было направлено против поселившихся в регионе торговцев, исповедующих индуизм или другие немусульманские верования. Ваххабиты начали теснить турок по всей этой области, в 1770-х годах достигли Египта, но не добились существенных успехов, пока не захватили Медину и Мекку в 1806 году. События в Аравии были симптоматичны, свидетельствуя о постепенной потере Оттоманской империей контроля над рядом провинций в конце XVIII столетия, по мере того, как утверждались различные региональные сообщества.
В Египте мамлюки, воины-рабы из христианских провинций на юго-востоке Европы, а также из Судана, всегда были господствующей элитой. К концу XVIII столетия, при Али-Бее, скорее они, чем турецкий губернатор, обеспечивали управление провинцией; их влияние основывалось на больших доходах от торговли. Провинциальная знать Сирии все чаще предпочитала именоваться арабами (сомнительная претензия) или, на религиозной почве, суннитами, шиитами либо алавитами — но не подданными Оттоманской империи. В порту Акра и его окрестностях местный правитель Дахир-аль-Умар заправлял всеми делами и контролировал экспорт хлопчатобумажных тканей во Францию. Влияние турецких губернаторов в Сидоне и Дамаске было ничтожно по сравнению с ним.
Оттоманским властям из Константинополя удалось в 1775 году низложить Дахира — но направленный на его замену Ахмед-Джезар-паша, босниец по происхождению, проявил точно такую же независимость и по сути стал единоличным правителем провинции. Все эти неудачи стали предвестием тех испытаний, которые ожидали Оттоманскую империю начиная с последних лет XVIII столетия.
[О дальнейшей истории Оттоманской империи см. 21.10]
19.10. Европейские конфликты
[О более ранних европейских династических конфликтах см. 18.9]
С середины XVII века в Европе устанавливается относительная стабильность, несмотря на ряд войн, продолжавшихся с небольшими перерывами с 1660-х годов до 1815 года. Бурные религиозные распри, порожденные Реформацией, отошли в прошлое, ни одно из столкновений данного периода не было вызвано разногласиями между протестантами и католиками, все они представляли собой продолжение старых династических конфликтов — складывающиеся европейские государства вынуждены были бороться за относительные преимущества в довольно тесном пространстве.
Ни одна из войн не дала решительного перевеса кому-либо из соперников, но в целом этот период отмечен относительным упадком Испании, Нидерландов и Швеции, крушением Польши и уходом ее с политической сцены, а также провалом всех попыток Франции (как при монархии, так и после революции 1789—1790-х годов, и при Наполеоне) достичь устойчивого господства. Наибольшие выгоды достались периферийным государствам на западе и востоке — Британии и России. Новое королевство Пруссия вступило в фазу активного роста. Австрия и Оттоманская империя удерживались на прежних позициях. Хотя характер альянсов между этими государствами постоянно изменялся, особенно с середины 1750-х годов, все они в конечном счете определялись, начиная с 1690-х годов, противостоянием Британии и Франции.
К 1660-м годам первоначальное воздействие переворота в военном деле, вызванного введением огнестрельного оружия, улеглось, и новые серьезные перемены начались лишь после 1815 года. Мушкеты стали скорострельнее (трех рядов теперь было достаточно, чтобы поддерживать непрерывную стрельбу при хорошей выучке солдат), но команды «целься!» еще не знали: пехота попросту палила во врага, поскольку оружие не имело прицелов. Хотя военные действия в Европе подолгу не прекращались — серьезные войны имели место в 1689—1697, 1702—1714, 1739-1748, 1756-1763, 1778-1783 и 1793-1815 годах — их разрушительность была много меньшей, чем в XVI столетии.
Изменения коснулись и структуры самих армий: появилась дифференциация и специализация родов войск — пехоты, кавалерии и артиллерии. Солдат нанимали на все более длительные сроки путем вербовки или принудительного рекрутирования. Массовая мобилизация в армию не производилась до 1792 года, когда к ней прибегло революционное правительство Франции. Однако и здесь устанавливались ограничения — с 1799 года стали разрешать замены, многие новобранцы поступали с завоеванных территорий, и к 1812 году, когда Наполеон вторгся в Россию, большая часть его армии даже не говорила по-французски.
Основной проблемой для командования стала координация действий всех этих подразделений. При размере армии более 50 000 человек это было чрезвычайно трудно, так как коммуникации были плохо развиты, многие участки сельской местности не нанесены на карты, и как только подразделения оказывались на марше, управлять ими становилось невозможно. Первым шагом к решению этой проблемы стало создание дивизий — самодостаточных подразделений численностью около 12 000 человек, включающих в себя все элементы отдельной армии и потому способных действовать независимо. Первыми начали экспериментировать с этой идеей французы в 1740-х годах, но полностью ее приняли лишь к концу 1780-х, непосредственно перед революцией.
Численность армий продолжала расти. К началу XVIII столетия французская армия насчитывала более 400 000 человек, уже на тот момент это была крупнейшая армия в Европе. А к 1812 году только та часть французской армии, которая вторглась в Россию, составляла 600 000 человек, и при них почти 1150 единиц полевой артиллерии. (Это была легкая артиллерия, которая могла следовать за пехотой, для чего требовалось только три лошади и команда из восьми человек; эта форма была разработана в 1760-х годах)
Армии таких размеров действовали на фронте длиной более 300 миль, их численности было достаточно для захвата крепостей и городов. Фортификация все еще занимала важное место в военной науке конца XVII и начала XVIII столетий, но постепенно теряла свое значение, и лишь изредка укрепленные линии обороны, вроде Торрес-Ведрас[91] во время войны на Пиренейском полуострове, действительно оказывались эффективными. Снабжение европейских армий оружием обычно сложности не представляло благодаря укреплению европейской промышленности; главная задача по-прежнему заключалось в том, чтобы обеспечить пропитание для такой массы людей и корм для лошадей.
Военно-морские силы также росли — в 1789 году все флоты европейских держав, вместе взятые, насчитывали около 450 боевых кораблей, а к 1815 году только британский королевский флот насчитывал более 1000 судов с общей численностью экипажей более 140 000 человек. Военные расходы оставались высокими, особенно в небольших государствах, правители которых пытались добиться власти и престижа, не считаясь со своими объективными возможностями. Новое государство Пруссия к концу 1750-х годов содержало армию в 150 000 человек, а тридцать лет спустя их было уже более 200 000. Прусская армия стала четвертой по величине в Европе, хотя по населению Пруссия была всего лишь на тринадцатом месте среди прочих европейских государств.
Пруссии удалось создать действенную военную инфраструктуру: здесь ежегодно изготавливалось 15 000 мушкетов и 560 000 фунтов пороха, шились унифицированные мундиры и сохранялись запасы провианта, достаточные для 60 000 человек на два года. Однако человеческие потери, которыми оплачивалась политика прусского государства, были огромны. В армию забирали четверть всех молодых мужчин (около трети армии составляли иностранные наемники), и в ходе войны 1756—1763 годов потери составили 180 000 человек. Это означало, что погибли четырнадцать из каждых пятнадцати зачисленных в армию, и к ним еще следует добавить 300 000 погибших среди мирного населения. 90 % государственного дохода тратилось на войну, и валюта обесценивалась. Пруссия могла продолжать боевые действия лишь за счет двух факторов — щедрых британских субсидий и военной добычи. Стоимость войны была так велика, что армейским офицерам не позволялось жениться, поскольку у государства не было средств для выплаты пенсий вдовам.
Основные изменения в военном деле в тот период касались организационных вопросов. К концу XVII столетия государство взяло под свой контроль и военные дела, и вопросы снабжения, более не доверяя их подрядчикам. Это был следующий этап в развитии государственных структур и их способности контролировать и распределять ресурсы. Снабжение армии поручалось штатским лицам, а жалованье армии и флоту выплачивалось государством. Разумеется, возможностей для коррупции и присвоения общественных средств все еще оставалось предостаточно, что хорошо продемонстрировал британский военачальник начала XVIII века Мальборо.
Все большее значение приобретали финансовые вопросы, так как практически все войны происходили между коалициями. Ни одно государство не могло добыть необходимые для войны суммы путем сбора налогов — административные инфраструктуры, которые позволили бы расширить базу налогообложения, по-прежнему отсутствовали, и приходилось учитывать возможные последствия общественного недовольства при увеличении налогового бремени. Европа не располагала большими запасами драгоценных металлов — золото и серебро, добытые в Америке, все еще переправлялись в Индию и Китай. Однако развивающаяся торговля приносила все больше богатства, и европейские государства имели возможность подключиться к этим ресурсам. В частности, были разработаны методы банковского и кредитного финансирования для выплаты долгов, неизбежно образующихся при ведении войн, и процентов по займам. Из всех государств успешнее всего мобилизовала эти ресурсы Британия, и именно эти успехи лежали в основе ее растущей мощи и влияния на протяжении XVIII столетия. Однако сложных механизмов кредитования самих по себе было недостаточно. Например, Голландия, которая к концу XVII столетия стала самым коммерческим из государств Европы и ведущим в развитии всех этих механизмов (что не удивительно, поскольку голландское государство жестко контролировалось купцами и банкирами), обнаружила, что они не могут в конечном счете компенсировать слабые места их стратегической позиции.
Государства Европы справлялись с возникающими военными, административными и финансовыми затруднениями по-разному. Испания клонилась к упадку; в конце XVII столетия ее экономическая база была слаба, армия по сравнению с 1650-ми годами уменьшилась наполовину. Несмотря на то, что Испания являлась величайшей из европейских колониальных империй, эффективность управления колониями была низкой. Голландия к концу XVII столетия стала одной из сильнейших держав; голландцы дважды победили англичан в морской войне. Главная трудность заключалась в том, что их страна была уязвима для вторжений с суши, особую опасность представляли французы. Для защиты требовалось содержать большую армию — она составляла 100 000 человек к концу XVII столетия, по сравнению с 20 000 человек во время войны за независимость с Испанией веком ранее. Кроме того, нужно было обеспечить сложную систему фортификаций в приграничных районах, а это было дорогостоящее дело. Помощь, оказанная Англией после 1689 года в правление Вильгельма III, уроженца Голландии, позволила голландцам выжить, но им пришлось нести бремя военных расходов, так как война с Францией продолжалась до 1697 года. Постепенно становилось ясно, что Британия извлекает выгоду из морских и колониальных войн за пределами Европы, и коммерческие успехи голландцев на протяжении XVIII столетия затмились Британией и Францией. Нейтралитет, который страна соблюдала в 1750-х и 1780-х годах, не исправил положения, поскольку к этому времени Британия стала господствующей морской державой и имела возможность блокировать голландскую торговлю. В начале 1790-х годов голландцы поддались-таки французскому вторжению.
Франция при Людовике XIV стала главенствующей державой к концу XVII столетия. Численность ее армии за полвека, с 1660 года, возросла в десять раз, но достичь поставленных целей было по-прежнему нелегко. Географические барьеры на юге (Пиренеи и Альпы) затрудняли экспансию в Испанию и Италию, поэтому главный упор делался на северо-восточное направление, где велись военные действия против Габсбургов во Фландрии и дальше на север, на голландских территориях. Эти области были хорошо укреплены, и добиться решающей военной победы не удавалось, но обычно уже одной угрозы было достаточно, чтобы британцы начали противодействовать французам. Экспансия на восток также была проблематичной, а союз с Австрией или Пруссией неизбежно приводил к конфликту со второй из этих стран. Главная проблема французской монархии заключалась в том, что, будучи сильнейшей державой в Европе, она являлась также и развивающейся колониальной империей: Франции принадлежала часть Вест-Индии (острова Сан-Доминго, Мартиника, Гваделупа, Тортуга), большая часть Канады, а также Пондишери и другие небольшие форпосты в Индии. На то, чтобы одновременно вести сухопутные войны в Европе и колониальную войну против британцев, ресурсов не хватало. В результате на втором фронте французы постоянно несли поражения. Лишь один раз, когда Франции не пришлось вести военные действия одновременно в двух направлениях — в ходе американской войны за независимость — ей удалось выиграть морское сражение против британского флота.
В Австрии Габсбурги продолжали править весьма разнородным набором территорий. Им приходилось сталкиваться с целым рядом проблем — здесь и присутствие Оттоманской империи на Балканах, и постоянная угроза успешной экспансии России при поддержке Турции, и общая враждебность Пруссии, в особенности после успешного захвата ею Силезии в 1740 году. Несмотря на все это, правившие Австрией Габсбурги, как правило, успешно выходили из всех затруднений: к XIX столетию империя расширилась до огромных размеров, и монархия сохранялась до 1918 года. Пруссия же смогла достичь высокого положения в начале XVIII столетия, прежде всего за счет упадка Швеции и Польши и ослабления Австрии после раздоров по поводу австрийского наследства. Однако вплоть до 1815 года Пруссия оставалась страной относительно слабой и зависимой от британских субсидий.
19.11. Периферийные государства Европы: Британия и Россия
Страны, которые максимально выиграли от европейских конфликтов XVIII столетия, располагались на дальнем западе (Британия) и востоке региона (Россия). Обе они были не слишком вовлечены в сухопутные войны Европы и могли сосредоточить свои усилия на других делах. Соответственно, первая добилась максимального расширения своей колониальной империи (несмотря на потери земель на севере Америки), а вторая присоединила к своим владениям обширные земли Сибири до самого Тихого океана[92] и затем продвинулась на запад, вглубь Европы.
19.11.1. Британия
Королевство Англия превратилось в Британию за два последних десятилетия XVII века, когда оно добилось безопасности на собственных островах, окончательно покорив Ирландию и заключив союз с Шотландией в 1707 году — и то, и другое лишило его европейских противников рычагов давления.
Хотя Британия изначально была морской державой, над нею всегда висела угроза вторжения с континента, а потому важно было не допустить господства в Европе какого-либо одного сильного государства. Тем не менее она никогда не вела на континенте широкомасштабных военных операций, даже при Мальборо в начале XVIII столетия и Веллингтоне еще сотню лет спустя. Британцы, обладавшие в то время большим флотом и относительно небольшой армией, верили, что они отличаются от остальной Европы, поскольку не страдают милитаризмом. Кроме того, Британия на тот момент отличалась слабой центральной государственной властью. Сложилась целая историческая традиция, подтверждающая эту точку зрения, однако на практике после 1660 года Британия оказалась столь же воинственной, как и прочие европейские государства, разве что выражалось это в несколько иной форме.
За столетие после 1680 года размер военно-морского флота удвоился, а армия выросла на 50 процентов. Хотя здесь по-прежнему не хотели содержать регулярную армию в мирное время, во время войн британская армия была большой — в начале XVIII столетия она вдвое превосходила армию Испании. А военный флот постоянно был либо самым большим, либо одним из наибольших в Европе.
Преимущество сильного флота заключалось в том, что победы, которые он добывал британцам за морями, укрепляли коммерческие позиции страны. За период между 1692 и 1815 годами Британия участвовала в войнах восемьдесят семь лет, ничем не отличаясь в этом отношении от остальных европейских государств. На протяжении этого периода государство выработало действенные механизмы поддержки всех военных начинаний; одним из них было Адмиралтейство, которое включало в себя не только судостроительные верфи, но и оружейные мастерские. И те, и другие оказали серьезное влияние на экономику.
Военные расходы составляли около трех четвертей всех затрат правительства в XVIII столетии, при том, что затраты государства выросли вчетверо за этот период. В целом на военные расходы уходило около десяти процентов национального богатства ежегодно (намного больше, чем в двадцатом столетии). Однако главные усилия британских властей направлялись на финансирование: нужно было закупать наемников (особенно гессенцев из Германии) или снабжать средствами союзников, чтобы они взяли на себя всю тяжесть войн на континенте, пока Британия будет запасаться награбленной за морями добычей. К 1813 году Британия субсидировала на континенте армии общей численностью более 450 000 человек, воевавшие против Наполеона, в то время как ее собственная армия насчитывала всего 140 000 человек.
Часть военных расходов покрывалась за счет налогов, которые были здесь не ниже, чем в других европейских странах — между 1660 и 1815 годами налоги, собираемые с британцев, выросли, в денежном выражении, в восемнадцать раз. Но даже такого уровня налогообложения было недостаточно для оплаты военных предприятий. В 1680-х годах правительство тратило ежегодно на 2 млн фунтов стерлингов больше, чем получало налогов, а спустя сто лет этот дефицит превысил 8 млн фунтов стерлингов и еще возрос к началу XIX столетия.
Военные расходы правительства компенсировались путем огромных займов, благо в его распоряжении имелась уже хорошо развитая в Лондоне банковская система и запасы капиталов; для этих целей в 1694 году правительство создало Английский банк. В 1689 году у Британии не было национального долга, к концу 1690-х годов он составлял 16 млн фунтов, а к 1780-м годам достиг почти 250 миллионов. Выплаты по этим растущим долгам «съедали» более половины доходов правительства. Способы, которыми они осуществлялись, укрепляли позиции господствующей торговой и землевладельческой элиты, которая могла через парламент оказывать на политику государства намного большее воздействие, чем в других европейских странах — из каждых семерых членов парламента один был военным или моряком, а представительная система обеспечивала преобладание тех городов, где располагались верфи или военные суда.
Налоги на землю и коммерческий капитал были невелики или вовсе отсутствовали. Главная налоговая тяжесть приходилась на акцизные сборы с таких продуктов, как чай и алкогольные напитки, за которые платили в основном бедняки. Таким образом, доход с налогов уходил на выплату правительственного долга, получателями которого становились представители элиты; им доставались проценты, и военная политика государства на суше и на море, которая элитой же и диктовалась, оказывалась для нее весьма выгодной. Пока правительство оставалось кредитоспособным, система могла функционировать.
19.11.2. Россия
[О более раннем периоде см. 19.5.1]
На самом восточном краю Европы завоевание Московским государством Казанского и Астраханского ханств к середине XVI столетия открыло пути для заселения обширных пространств на юге, в направлении Черного моря — к началу XVIII столетия четвертая часть населения России проживала в этих областях. Еще важнее было то, что открылась возможность экспансии на восток, в Сибирь и степи, занятые кочевыми народами. Так произошло фундаментальное изменение в балансе сил евразийской истории. Еще с начала XIII столетия территории, попавшие ныне под контроль Москвы, находились под властью кыпчакской Орды и ее преемников. С 1550-х годов Московия начала расширять свои пределы, тесня кочевников. Процесс этот оказался затяжным, он продолжался до конца XIX столетия, когда Россия наконец утвердила свою власть в Центральной Азии — но уже в самом начале он стал знаком окончательной победы оседлых сообществ над кочевыми народами Евразии.
Главным побудительным мотивом проникновения на восток была добыча пушнины. На протяжении веков основой процветания княжеств Древней Руси была продажа мехов в западную Европу — в начале XV столетия только Новгород экспортировал около 500 000 шкур в год. Однако такое массовое истребление животных и постепенное сведение лесов для расчистки сельскохозяйственных угодий привели к тому, что в XVI столетии пушные звери почти полностью перевелись к западу от Уральских гор. С начала 1580-х годов торговцы пушниной все чаще стали перебираться через Урал в Сибирь, где обнаружили неисчерпаемый запас соответствующих животных. Они двигались вдоль неглубоких сибирских рек, оставляя укрепленные остроги в ключевых точках своих маршрутов. Они шли все дальше, основывая по пути города: до нынешнего Томска добрались в 1604 году, до Красноярска — в 1628 году, до Якутска — в 1652 году и до Охотска на побережье Тихого океана — в 1647 году. Таким образом, россияне вышли к побережью Тихого океана намного раньше, чем на территории по берегам Балтийского и Черного морей.
Продвижение по Сибири на восток весьма напоминало продвижение пионеров на запад по Америке в XIX столетии — и там, и там общество «фронтира» состояло из торговцев, грабителей, беглецов, и было одинаково беззаконным. Лишь намного позднее за ними последовали крестьяне-переселенцы. В обоих случаях коренное население в полной мере испытало последствия экспансионистской политики. Народы Сибири были вынуждены предоставлять ясак (дань мехами с каждого мужчины) и ясыр (женщин, продаваемых поселенцам и войскам). Рабство в Сибири было отменено только в 1825 году[93].
По мере того, как россияне продвигались на восток, они все чаще сталкивались с китайцами, особенно когда вышли к Амуру, и очень быстро поняли, что с ними нельзя обращаться так же, как с туземцами Сибири. К 1660-м годам правители Цинь уже начали возводить в этой области форты и прокладывать дороги, чтобы удержать русских, в 1685 году захватив русское поселение Албазин[94]. В 1689 году в Нерчинске был заключен договор, согласно которому россияне не допускались в пойму Амура, но могли участвовать в ежегодной ярмарке, чтобы продавать китайцам пушнину в обмен на шелковые и хлопчатобумажные ткани, а позднее, в XVIII столетии, также на чай.
Поскольку китайцы были сильны, русским пришлось обратиться на север, к намного менее гостеприимным краям. К концу XVII столетия была покорена Чукотка на дальнем севере близ Берингова пролива, в 1707 году к ней добавился Камчатский полуостров.
По мере истощения огромных пушных ресурсов Сибири, начавшегося в результате хищнической эксплуатации, русский торговцы продвигались дальше на восток, к Курильским островам. С 1740-х годов они активно действовали на Аляске, где очень скоро довели поголовье тюленей почти до полного уничтожения. Во второй половине XVIII столетия русские купцы почти сотню раз совершали экспедиции на Алеутские острова и Аляску. В 1799 году была учреждена Российско-Американская компания, целью которой стала организация торговли в этом регионе; правительство России создало также свою базу на северном побережье Тихого океана, порт Петропавловск, где разместило небольшую военную эскадру.

Карта 60. Экспансия России на восток
Хотя к концу XVIII столетия Россия уже владела на суше большими территориями, чем любая другая страна мира, ей не удавалось, как и при столкновении с китайцами, достичь успехов в борьбе против мусульманских государств Центральной Азии. В начале XVII столетия произошли первые военные стычки с Хивой, но они закончились вничью, а в 1717 году направленный в эти края российский экспедиционный корпус был почти полностью уничтожен. Российские поселения уже создавались вокруг Омска на реке Иртыш, но все еще отстояли на тысячу миль от исламских государств — Хивы, Бухары и Коканда.
На протяжении XVIII столетия центрально-азиатские государства имели возможность изгнать практически всех русских купцов и заставить их торговать только на границах. Главным предметом экспорта из русских земель оставались, как и в предыдущую тысячу лет, рабы. Несмотря на установленную царями монополию на торговлю рабами, хивинским торговцам позволялось приобретать рабов в России — с единственным условием не продавать христиан — хотя на практике оно часто нарушалось относительно христиан других конфессий, не православных. Например, пленных шведов, захваченных в начале XVIII столетия при Петре Великом, продали в центрально-азиатские государства. На протяжении XVIII столетия единственной целью большинства российских дипломатических миссий, направленных в Бухару и столицы других ханств, был выкуп рабов-россиян.
Как только Московия оправилась от катастроф начала XVII столетия, она начала, параллельно с великой экспансией на восток, активно продвигаться на запад. В правление царя Петра Великого (1689—1725) Московское княжество, уже давно переросшее свои давние границы, было преобразовано в Российскую империю. Символом возникновения нового государства стало основание новой столицы — Санкт-Петербурга, построенного в основном подневольными работниками.
Развитие экспансии было отнюдь не прямолинейным. В 1690-х годах Дания, Польша и Россия договорились объединить усилия против державы, господствовавшей на Балтике — Швеции. Последняя (при молчаливой поддержке англичан и с помощью голландского военного флота) быстро одержала победу, после чего Дания вышла из коалиции (в 1700 году), Россия потерпела поражение в битве под Нарвой, а шведы проникли на территорию Польши и Саксонии. Однако торжество их оказалось недолговечным, и в 1709 году русские нанесли сокрушительное поражение шведам в битве под Полтавой. Когда в 1721 году был наконец заключен мир, Швеция потеряла все, что составляло ее балтийскую империю, а Россия приобрела Восточную Карелию, Эстляндию (Эстонию) и Лифлянию (Латвию), тем самым сделавшись господствующей державой на Балтике.

Карта 61. Экспансия России на запад
И все же основной натиск западной экспансии России был направлен против Польши. В 1697 году при поддержке России королем Польши был избран Август II Саксонский. После того, как он потерпел поражение от шведов, Россия содействовала его возвращению на трон, и с тех пор Польша оставалась тем, что требовалось России — слабым государством на западной границе. Численность польской армии была ограничена 20 000 человек, а сейм превратился в арену борьбы между влиятельными вельможами за личные интересы; в результате обсуждение любой проблемы государственного значения затягивалось, и действенные решения принимались редко. Именно в этот период часто использовалось пресловутое право «личного вето» («Не позволяю!») — однако это было не столько причиной, сколько симптомом упадка.
В 1734 году на польский престол взошел Август III Саксонский, и это также было произведено под сильным влиянием России. За тридцать лет своего правления он провел в собственной стране всего два года. Несмотря на это, при всей своей слабости Польше удалось выжить и избежать вовлечения в европейские военные конфликты. В 1770 году она все еще была территориально больше таких государств, как Испания или Франция, хотя в могуществе сильно уступала последней.
Стратегическая позиция Польши была очень невыгодной: ей приходилось противостоять быстро набирающей силу Пруссии, России и австрийским Габсбургам. В 1772 году эти три сильных державы договорились о первом разделе Польши — она потеряла часть своей территории, включая Минск и Восточную Белоруссию, которые отошли к России. Польская общественность заговорила о необходимости внутренних реформ; поскольку это могло привести к укреплению ее государственности, в 1792 году Россия предприняла вторжение на польские земли и при участии Пруссии произвела второй раздел страны. России досталась теперь еще и большая часть Литвы. Восстание, возглавленное Тадеушем Костюшко, было подавлено. В 1795 году произошел третий и окончательный раздел Польши. Россия получила почти две трети бывшей Польши (включая Волынь), Пруссия — примерно пятую часть, благодаря чему ее население почти удвоилось.
Просуществовавшее много веков польское государство, добившееся в прошлом больших успехов и ставшее одним из наиболее могущественных в Европе, прекратило свое существование. Экспансия России на запад достигла нового пика и приостановилась; но ей предстояло еще продолжаться до 1815 года.
[О дальнейшей российской экспансии см. 21.11]
19.12. Европейская война 1792-1815 годов
Несмотря на то, что на европейском континенте между 1660 и 1815 годами войны шли упорно и почти непрерывно, ситуация менялась на удивление незначительно. Государства могли достичь временного превосходства (как Франция при Наполеоне) или испытать серьезные неудачи (как Пруссия в самый напряженный момент Семилетней войны), однако в 1815 году Франция оставалась примерно в той же позиции, что и в конце XVII столетия, Австрия оставалась сильной, а Пруссия хотя и приобрела некоторые преимущества, но все же меньшие, чем периферийные державы, Британия и Россия.
Ближе всего к решительным переменам в европейской борьбе обстоятельства подошли во время самой длительной из войн этого периода, которая тянулась (с одним непродолжительным перерывом) с 1792 по 1815 год. К концу 1780-х годов французское государство дошло до грани банкротства, преимущественно из-за чрезмерных затрат, вызванных американской войной за независимость. Ситуация привела к созыву Генеральных штатов (впервые за 150 с лишним лет). Вскоре после этого во Франции разразилась революция, которая на первый взгляд существенно ослабила державу. Война началась в 1792 году — отчасти из-за нарастающего радикализма революции. Коалиция, выступившая против Франции (Пруссия, Австрия, Россия и Британия) развязала самую одностороннюю из всех войн XVIII столетия.
Однако Франция не была повержена. Вместо этого она стала победительницей — благодаря как собственной внутренней силе, так и разногласиям внутри коалиции. Французы провели сплошную мобилизацию и собрали армию численностью более 650 000 человек; благодаря реформам, проведенным в 1780-х годах, она оказалась весьма эффективной. После того, как был отбит первый натиск коалиции, республика взяла курс на экспансию — с целями революции это не имело ничего общего, зато соответствовало давним устремлениям французской стратегии.
Все три ведущих государства Восточной Европы были слишком поглощены окончательным разделом Польши, чтобы оказать сколько-нибудь активное противодействие Франции. К 1795 году Фландрия и голландская республика были захвачены, Пруссия и другие, меньшие германские государства, предпочли соблюдать нейтралитет, а Испания сделала крутой поворот и начала поддерживать французов. В 1796 году хорошо зарекомендовавший себя полководец Наполеон Бонапарт сокрушил Пьемонт, являвшийся частью Сардинского королевства, а в 1797 году, после заключении мира в Кампо Формио, австрийцев в основном выгнали из Италии. В результате Британия осталась изолированной, и перед нею встала проблема больших расходов на войну, а также матросские бунты в Спитхеде и Ноуре. В 1797 году британцы все еще были способны разбить испанский и голландский флот, добиться новых колониальных захватов — но никак не могли одолеть французов в наземных сражениях. Так создалась тупиковая ситуация, характерная для периода, предшествовавшего 1815 году.
Ряд неудач, понесенных французами в 1798 году (провал высадки в Ирландии и поражение египетской экспедиции в морском сражении возле мыса Абукир), породило у России, Австрии, Турции, Португалии и Неаполя идею создания новой коалиции против Франции. Но за два года она ничего не достигла. Британия сражалась, но без особых успехов. Амьенский мир, заключенный в 1802 году, представлял собою лишь временную передышку, на следующий год, когда британцы отказались сдать Мальту, война возобновилась. Францией теперь правил Наполеон в качестве энергичного диктатора. В 1805 году он сам себя короновал императором, тем самым положив конец формальному существованию «Священной Римской империи», созданной в X веке в Германии.
Карьера Наполеона во многих отношениях удивительно напоминает истории других завоевателей доиндустриальной эпохи в Евразии за предыдущие четыре тысячи лет. Политика военной экспансии всегда оправдывалась получаемой в походах добычей. Пока экспансия продолжалась, система работала успешно. Наполеону не удалось установить прочную основу управления огромными территориями (главным образом из-за отсутствия удобных коммуникаций), потому, как и другие правители этого типа, он должен был полагаться на членов своей семьи и приближенных военачальников, чтобы они управляли империей от его имени. Однако он ввел ряд «современных» методов управления, поскольку мог опираться на возросшую к концу XVIII столетия силу европейской государственности — которая, в свою очередь, была порождена переворотом в военной технике и накоплением торгово-промышленного капитала.
Европейская война не прекращалась. Начиная с 1803 года Британия сохраняла господство на морях, что было подтверждено Трафальгарским сражением в 1805 году, но не могла справиться с Наполеоном на суше, где он в течение двух лет добился господства в Европе. В 1805 году австрийцы и русские потерпели жестокое поражение в битвах при Ульме и Аустерлице, а Пруссия была наголову разбита в битве под Йеной в 1806 году. На следующий год, после сражения под Фридландом, позиции России настолько ухудшились, что она пошла на соглашение, согласно которому за Наполеоном и Францией признавалось подавляющее господство в европейских делах. Рейнская конфедерация на юго-западе Германии подчинялась Франции, вся Западная Польша вошла в контролируемое французами великое герцогство Варшавское. После 1806 года Пруссии пришлось выплатить контрибуцию, равную половине обычного налогового дохода французского правительства. Австрии тоже пришлось платить, не считая того, что половина доходов с королевства Италии поступала во Францию. Таким образом, все континентальные державы Европы стали частями успешно функционирующей системы, которая исключала присутствие британских торговцев на континенте, согласно декретам, изданным в Берлине и Милане в 1806—1807 годах.
Неудачи французов начались после 1809 года, когда в Испании поднялось народное восстание — французские войска численностью свыше 350 000 человек не смогли подавить его, а Британия воспользовалась этим как поводом ввести небольшой контингент своих войск в этой части континента. В 1810 году Россия отделилась от французской экономической системы, и вторжение французов на российские территории в 1812 году, несмотря на потрясающие успехи в начале, привело в итоге к катастрофе — французская армия вынуждена была отступить после сожжения Москвы, потери ее составили более 400 000 человек.

Карта 62. Европа в период максимальных успехов Наполеона в 1810 году
В этих обстоятельствах другие европейские державы соблазнились возможностью принять британские субсидии и вступить в войну. И все же до сокрушительного поражения в битве под Лейпцигом в октябре 1813 года еще казалось возможным, что Наполеон сумеет победить одного из противников (Россию, Австрию либо Пруссию) по отдельности и тем самым разбить их коалицию. Этого не произошло император был вынужден отступить во Францию и отречься от престола в апреле 1814 года. Правда, не прошло и года, как он бежал с острова Эльба, куда его заставили удалиться, и вновь захватил власть во Франции. Однако обстановка коренным образом изменилась, и Наполеон потерпел окончательное поражение от британских и прусских войск под Ватерлоо в июне 1815 года.
Решения Венского конгресса, которым закончилась война, привели к созданию в Европе относительно стабильной системы, в которой ни одна держава не могла занять доминирующего положения. Франция была теперь зажата между объединенным королевством Нидерландов (современные Бельгия и Нидерланды) на северо-востоке и существенно расширившимся королевством Сардинии и Пьемонта на юго-востоке. Пруссия добилась значительных выгод, и хотя основные ее территории были сосредоточены на востоке, у нее теперь появились небольшие разбросанные владения на западе вплоть до Рейна. Однако Саксония ей не досталась, так как против этого возражала Австрия. Россия удержала почти всю Польшу — взамен Австрия получила почти всю Северную Италию.
За пределами Европы равновесия власти не было — повсюду Британия имела подавляющее превосходство. Если не считать отделения в 1830 году Бельгии, пожелавшей обрести независимость, решения, принятые в Вене, оставались неизменными почти пятьдесят лет, до образования итальянского королевства и объединения Германии под главенством Пруссии.
19.13. Империя Моголов
[О предыдущих событиях в Индии см. 18.5]
19.13.1. Империя на пике развития
Империя Моголов в значительной степени являлась детищем Акбара, правившего в конце XVI столетия. В 1600 году она была одним из наиболее могущественных государств мира. При Джахангире (1606—1627) в империи сохранялась стабильность (мятеж, поднятый его наследником Хуррамом, был подавлен в 1622 году), и на границах все было спокойно. Экспансия в южном направлении вглубь Декана продолжалась. При его преемнике Шах-Джахане (1628—1658) империя достигла пика развития, и кризис XVII столетия, который причинил такой ущерб остальным регионам Евразии, здесь почти не чувствовался. Попытка расширить пределы дальше на север, за Афганистан, в центральную Азию, окончилась неудачей — просто потому что на таких больших расстояниях, не имея хороших коммуникаций, невозможно было провести удачную кампанию. Экспансии на северо-запад препятствовали Сефевиды. Единственным важным достижением в этом регионе стало покорение в 1656 году Гарваля, государства раджпутов со столицей в Шринагаре. Поэтому основным направлением экспансии по-прежнему оставался юг.

Карта 63. Поздний период империи Моголов
К 1650-м годам империя Моголов охватывала почти всю Индию за исключением дальнего юга и все еще контролировала давнюю родину Моголов, Афганистан. Она была невероятно богата благодаря высокопродуктивному сельскому хозяйству и неуклонному расширению возделываемых площадей по мере того, как население росло со 100 миллионов в 1500 году до 160 миллионов в 1700 году. Помимо сельскохозяйственных излишков, здесь выращивали целый ряд товарных культур, таких, как краситель индиго, хлопок и сахарный тростник, а с начала XVII столетия еще и табак. В Бенгалии было хорошо развито производство хлопка-сырца. Налоговая система была действенной, она основывалась на сведениях, соответствующих реальному положению дел, а тот факт, что налоги требовалось выплачивать в денежной форме, лишь способствовал усилению товарного характера экономики. Накопление огромных богатств, особенно в приморских городах и на побережье, обуславливалось центральным положением Индии относительно охватывающей Евразию сети морских торговых перевозок. В больших городах проживала примерно одна десятая населения империи (та же пропорция, что и в Европе).
При Шах-Джахане Моголы вновь вернулись к более ортодоксальным исламским взглядам после эклектических верований Акбара и в меньшей степени Джахангира. Их политика была направлена как против шиитов, так и против индуистов, и шариат стал основой для принятия решений. В 1633 году был издан запрет на постройку и ремонт индуистских храмов; с другой стороны, правительство ежегодно спонсировало отправку каравана паломников в Мекку. После 1631 года, когда любимая жена Шах-Джахана, Мумтаз-Махал, умерла, рожая своего четырнадцатого ребенка, он начал строить в память о ней знаменитый и поныне Тадж-Махал. Хотя по назначению это мемориал, здание полностью пронизано религиозными настроениями. На южном фасаде его главного входа написана 89-я сура Корана («Рассвет», посвященная Судному дню), а сад площадью 42 акра, окруженный стенами, служит также аллегорией врат и садов небесного рая. Хотя на возведение всего комплекса ушло семнадцать лет, ежегодные расходы на строительные работы составляли примерно полпроцента дохода империи — намного меньше, чем пришлось затратить Людовику XIV на осуществление грандиозного проекта Версаля. Агра оставалась столицей империи до 1648 года, когда столица была перенесена во вновь построенный город Шахджаханабад в области Дели.
В последние годы правления Шах-Джахана его двор все сильнее разделялся на две враждующие группировки. Первая, более либеральная, продолжала принятый когда-то Акбаром курс на создание более широкой базы поддержки империи; сторонники этой идеи группировались вокруг старшего сына шаха, Дара Шуко. Другая, более консервативная, строго исламская партия поддерживала третьего сына Аурангзеба, но в 1644 году его отправили в Декан (официально — для наведения там порядка в имперской администрации). Когда в 1657 году Шах-Джахан заболел, вспыхнула недолгая гражданская война между Дара Шуко с одной стороны и тремя младшими сыновьями с другой. Аурангзеб победил Дара Шуко под Агрой, захватил столицу, а затем разбил всех других братьев. К 1661 году, после того, как Дара Шуко был убит, Аурангзеб приобрел безраздельную власть над империей. В его правление политика империи стала жестко происламской. Ряд индуистских храмов, особенно в Варанаси, был разрушен, а для паломников, посещающих эти храмы и святыни, был установлен налог. В 1665 году торговцам-индуистам приходилось платить вдвое большие внутренние пошлины, чем купцам-мусульманам (хотя налоги по-прежнему оставались весьма низкими). Прогрессивный налог с недвижимого имущества (джизия), который был отменен Акбаром ровно за сто лет до того, был вновь введен в 1679 году. Более того, теоретически всем индуистам запрещалось занимать правительственные должности, однако на практике это постановление не было реализовано. Новое религиозное движение сикхов подверглось нападкам, а его предводителя казнили за святотатство.
Первые признаки нарастающих в империи проблем проявились к концу XVII столетия, хотя в то время с ними справились без труда, и империя Моголов достигла наибольшей территориальной протяженности. В горных районах западного Декана, к югу от Бомбея, постепенно набирало силу индуистское государство Маратха; его основатель Шиваджи был коронован в 1674 году как суверенный монарх. Именно Маратхе предстояло стать центральной фигурой индийской истории на последующие 150 лет. После смерти Шиваджи в 1680 году его подданные присоединились к общему восстанию против Моголов, которое подняла раджпутская знать в Раджастане, при участии Акбара, сына Аурангзеба. Это заставило Аурангзеба сместить фокус внимания имперского руководства на юг, от богатой долины Ганга, к Деканскому плоскогорью, где сложилась неблагоприятная обстановка, выходящая из-под контроля. Два автономных государства этой области, Биджапур и Голконда, были завоеваны в 1686—1687 годах и полностью поглощены империей. Акбар бежал и нашел убежище у старинных недругов Моголов — Сефевидов, но в 1688 году правитель Маратхи был схвачен. В итоге к империи добавилось четыре новых провинции, и она достигла небывалых размеров — только самый дальний юг Индии оставался ей неподвластен. Однако эти завоевания не восстановили стабильности, и Аурангзеб был вынужден оставаться в Декане на протяжении всех 1690-х годов, пытаясь подавить сопротивление Маратхи на юго-западном побережье. Эта длительная кампания, война на истощение, истрепала армию Моголов, а также неизбежно привела к ослаблению контроля над остальными частями империи; в результате произошло серьезное восстание в Бенгалии в 1696 году.
Когда Аурангзеб умер в 1707 году, империя Моголов все еще оставалась сильным государством, но спустя всего пятьдесят лет она рухнула. Непосредственной причиной этого стало решение Аурангзеба разделить империю между своими тремя сыновьями. Нетрудно было предсказать, чем это закончится: очень скоро разразилась гражданская война, а за нею последовало восстание сикхов и оживление активности Маратхи. Победителем из гражданской войны вышел Бахадур-Шах. Однако в 1712 году он умер, и разгорелся новый внутренний конфликт, который в 1713 году привел к дворцовому перевороту, когда были вырезаны большинство членов правящего семейства и их сторонники из знати. В 1719 году дворцовые служащие низложили, ослепили, а затем и убили императора Фарукшияра, посадив на престол другого принца в качестве марионеточного правителя. В 1739 году область и город Дели были разграблены Надир-Шахом Афшаром, тем самым вождем из рода Чагатая, который уже сумел расправиться с последними Сефевидами в Иране. В 1747 году и 1759—1761 годах последовали новые вторжения в северную Индию из Афганистана.
Падение Моголов не подорвало экономику и социальную базу Индии. Здесь возникла новая политическая система, состоящая из ряда относительно сильных региональных государств. Они сложились по мере того, как местные землевладельцы и правители, разбогатевшие благодаря установленной Моголами стабильности, отделялись от центрального правительства и создавали собственные государства на основе тех доходов, которые прежде должны были передавать на нужды империи. Никто не пытался сместить императора, и ни один другой правитель не пытался претендовать на этот титул — даже британские завоеватели номинально сохраняли имперскую систему до 1858 года.
По всей Индии создавались новые центры влияния. Одним из первых стала индуистская Маратха, чью независимость Моголы признали в 1718 году. Ее правители постепенно расширяли сферу своего влияния и, казалось, вплотную подошли к воссоединению Индии в конце 1750-х годов, однако были разбиты афганцами под предводительством Ахмед-Шаха Абдали в битве при Панипате в 1761 году. Тем не менее в 1784 году император-могол отдался под «защиту» наиболее влиятельного лидера Маратхи Махаджи Скиндиа который сделался «полномочным регентом» империи. В Авадхе[95] пришли к власти новые правители — шииты, противники суннитов-Моголов. В южном Майсуре при Хайдаре-Али (1761—1782) и Типу-Султане (1782—1799) деятельные местные правители сформировали собственные королевства, как и местные правители в Хайдарабаде и Бенгалии. К 1790-м годам сикхи в Пенджабе и эмиры Тальпура в Синде также установили свою власть над рядом областей.
Распад правления Моголов создал ситуацию, которая имела долгосрочные последствия и основополагающее значение для мировой истории. К 1750-м годам британцы, одержав верх над французами, стали наиболее влиятельными представителями Европы в Индии и теперь могли, воспользовавшись обстоятельствами, образовать свои сферы влияния, нацелившись на перспективу создания собственной Индийской империи. Этот процесс был бы намного более труден, а скорее вовсе невозможен, если бы централизованная власть Моголов не пришла в упадок. Вплоть до 1750-х годов ни одной европейской державе не удалось продвинуться дальше создания немногих торговых поселений и фортов на побережье Индии, а их военные гарнизоны были малочисленны и малоэффективны. В новой обстановке, воспользовавшись внутренними распрями державы, как им не раз уже удавалось в прошлые века в Европе, британцы сумели за следующие сто лет установить свое господство над Индией и использовать ее как базу для дальнейшего проникновения в Азию.
[О дальнейшей истории Индии см. 21.3]
19.14. Мировое равновесие около 1750 года
На протяжении двух с половиной веков с тех пор, как Колумб сделал свое открытие, распределение сил в мире изменилось незначительно. Европейские державы без труда завоевали империи ацтеков и инков, после чего установили свой контроль над центральной и южной Америкой. В северной Америке маленькие европейские колонии все еще жались к районам восточного побережья и даже не пытались хотя бы пересечь Аппалачи. Попытки европейских государств одолеть Оттоманскую империю были почти безрезультатны (если не считать некоторых успехов, достигнутых Габсбургами к концу XVII столетия) — все южное и восточное побережье Средиземного моря по-прежнему оставалось под контролем исламских держав. Крах власти Сефевидов в Иране никак не повлиял на Европу, а в Индии поселения европейцев не продвинулись за пределы нескольких городов на побережье. На Китай, величайшее и самое могущественное государство мира, как и на островную Японию, европейцы произвели еще меньшее впечатление. На юго-востоке Азии голландские коммерсанты заправляли только на нескольких островах. Европейские армии не сталкивались с военной силой великих государств Евразии (Оттоманской империи, Моголов и Китая) вне пределов Европы — они сумели одержать победы лишь над коренными народами Америки. В Африке, помимо небольшой колонии на мысе Доброй Надежды, европейцы не владели ничем, кроме горсточки торговых поселков и фортов. Австралия, Новая Зеландия и весь остальной регион Тихого океана оставались неразведанными, и нога европейца еще не ступала там. Изменилось только одно: между 1500 и 1750 годами Европа сумела накопить значительные капиталы. Это удалось сделать в основном благодаря прибылям, полученным от эксплуатации обеих Америк, прежде всего с обширных рабовладельческих плантаций в регионе Атлантического океана, которые дали европейцам возможность вступить в контакт с великими азиатскими системами торговли. К середине XVIII столетия Европа покончила с длительной экономической отсталостью и впервые достигла такого же уровня благосостояния, как древние евразийские сообщества Китая и Индии. Были заложены основания для самых фундаментальных экономических, социальных и политических перемен в истории Евразии.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ