ЧАСТЬ 3 Бог из машины
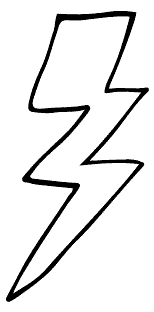
Все началось с телефонного звонка. Костя даже зубы не успел почистить — так и поперся, держа во рту щетку, искать телефон, новенький «Сони-Эрикссон», который куда-то запропастился. Ах вот ты где, маленький засранец, — на кухне. Телефон лежал на столешнице и надрывался, как плачущий младенец.
— Чтоб тебя, — ругнулся Костя, роняя щетку с повисшей белой сопелькой зубной пасты на чистую столешницу.
А звонил отец, записанный в телефоне как «Батя № 1». Не то чтобы у Кости было два бати — просто под именем «Батя № 2» значился рабочий «мегафоновский» номер, он практически не использовался. В ответ на удивленное «ты чего?» отец попросил срочно зайти.
— Вопрос жизни и смерти, — веско добавил он.
Отчего-то Костя сразу догадался, что речь пойдет о машине. Какое-то шестое, а то и седьмое чувство подсказало. Что-то плохое должно было случиться, что-то плохое уже случилось. Говоря литературным языком, Аннушка уже разлила масло, но никто еще не знал, куда именно. Костя наспех оделся и поперся в родительскую квартиру на Столетова. Минут за десять Костя дошел до кирпичной девятиэтажки. Отец был настолько встревожен вопросом жизни и смерти, что встречал Костю у подъезда. Заспанный, хмурый, сразу видно — нацепил джинсы и белую футболку, надел очки, да так и вышел, еще и пакет с мусором прихватил, наверное. Они, эти пакеты, живописной горкой были разбросаны возле подъездной двери, из некоторых торчали коричневые и зеленые горлышки пивных бутылок.
«Точно, что-то случилось с машиной!»
Машина, ох уж эта чертова машина, батина последняя любовь, осенний поцелуй после жаркого лета, ярко-желтая «Тойота-Целика», маленькая, юркая, грациозная, как дельфин с другой планеты, глазастая, как олененок Бэмби, шустрая, как ветер. Отец купил ее просто так, без повода, просто потому что захотелось, однако же повод был, и повод веский, настолько веский, что герру Фрейду бы понравилось и, возможно, он посвятил бы одну из глав своей несуществующей книги пожилому, но весьма моложавому человеку из загадочной России, который, понимая, что никогда не сможет вернуть ушедшую молодость, однако же всеми силами за нее цепляясь, как цепляется утопающий за последнюю соломинку, покупает себе спортивную машинку, достойную юного пижона, но никак не убеленного сединами предпринимателя средней руки, мужа и отца, владельца прибыльного бизнеса… А вот на этом моменте Зигмунд Фрейд бы заскучал, начал зевать, снял пенсне и передумал бы посвящать этой истории отдельную главу своей несуществующей книги.
Костя с грустью осознавал, что, если бы в его судьбе появилась женщина, которая полюбила бы его так же сильно, как батя любит желтую «Тойоту-Целику» седьмого поколения, его жизнь бы определенно удалась. Это была страсть, достойная пера Шекспира.
— Кость, тут такое дело, — сказал отец и закурил.
Он вообще редко курил. Редко — в смысле, почти никогда. Раз в полгода. Значит, и вправду случилась трагедия. В этот момент открылась подъездная дверь и наружу выскочила ватага ребят лет двенадцати, все шумные, расхристанные и смешливые, в грязных кроссовках и одинаковых серых майках. «Здрасьте, дядь Вить!» — крикнул кто-то из них, а все остальные одобрительно прогудели. Не переставая ржать, они дружной ватагой направились в сторону продуктового магазина.
— «Анаконду» угнали, — упавшим голосом сообщил отец, жадно затягиваясь сигаретой.
«Анакондой» он ласково называл свою любимую «Тойоту».
— Ой, черт! — Костя почувствовал, как сердце упало. — Как это случилось? Когда?
— Когда — сегодня утром. Она была припаркована у подъезда, на своем обычном месте. Вот оттуда ее и увезли.
Костя огляделся. Знакомая до боли обстановка — крошечный двор, где раньше не было детской площадки, а были только убийственные качели, на которых все качались солнышком и с которых все время кто-то падал и разбивал голову. Возле подъездов припаркованы машины, в основном иномарки. Возле первого подъезда — палатка «Овощи-фрукты», она стояла тут с сотворения мира. И… ах да, Костя, не зевай — отец встревожен не на шутку, не отвлекайся, слушай его.
— А как же сигнализация? Сигнализация не сработала? Не верю! Я не верю, что машину могли вот так просто увезти у тебя из-под носа! И что ты планируешь делать? Заявление написал?
Отец — с чего бы это? — немного засмущался. Он дошел до ближайшей урны, безжалостно расплющил окурок, прежде чем выбросить, и только потом вернулся к Косте, который с нескрываемым удивлением наблюдал за его нехитрыми манипуляциями. Мусорные мешки немного пованивали, видимо из-за жары.
— Я пока никуда не обращался, — сообщил отец.
Видно было, что эта фраза далась ему с большим трудом. Костя попытался представить, какую внутреннюю драму сейчас переживает человек, лишившийся предмета своего обожания.
— Мне нужно, чтобы ты мне помог.
— Разумеется, — Костя растерянно развел руками, — но что я могу сделать?
— Забери у Женьки «Анаконду», — сказал отец и полез в карман за новой сигаретой.
Он долго возился с неподатливой «крикетовской» зажигалкой (Костя хотел было предложить свою, но вовремя вспомнил, что он, по легенде, не курит), потом затянулся, и казалось, все эти действия происходили без его участия, настолько отстраненным он выглядел.
— У Женьки? А он-то здесь при чем?
— А он у меня ключи спер, — признался отец.
Он стоял на порожках, одна нога выше, другая ниже, носком ботинка пинал отвалившийся кусок бетона и при этом сосредоточенно раскачивался.
О Господи, вздохнул Костя. Вот только Женькиного присутствия в этой истории и не хватало.
— Он в армии окончательно башку потерял, — вынес свой вердикт батя. — Иначе я не могу это объяснить.
— Как он украл у тебя ключи? — Костя активировал режим «следователь».
— Да я с утра в магазин пошел и его там встретил. А он так мне обрадовался, ну как родному, веришь? Да и я отчего-то расчувствовался, сам не знаю, что на меня нашло. Женька меня аж приобнял в избытке чувств. Потом я вернулся домой и обнаружил, что из кармана ключи пропали. И я побежал во двор спасать машину, потому что до меня доперло, что сейчас произошло. Но не успел — машины уже не было. И главное, возле подъезда бабки сидели и видели, как незнакомый утырок садится в «Тойоту», и хоть бы хны. Могли бы и кипеж поднять.
— Это был утырок с ключами, заметь, — напомнил Костя. — Они же не знали, что он их украл.
— Не важно уже, — вздохнул отец. — Кость, позвони этому мелкому говнюку, скажи, чтобы он вернул «Анаконду», иначе я за себя не отвечаю. Я ж его из-под земли достану и все ноги его переломаю. Пусть возвращает по-хорошему.
— Так давай я тебе Женькин номер дам, сам с ним поговоришь?
— На хрен! — возмутился отец. — Я же и говорю, что за себя не отвечаю. Лучше ты этим займись, а то я его же прибью к ядрене фене. Кость, пожалуйста!
Последняя фраза была чем-то средним между приказом и мольбой, и в ней слышалось неподдельное отчаяние.
— Хорошо, я прямо сейчас позвоню Женьке.
Тогда он еще не знал, что реальность несется на него на полной скорости, как поезд, и совсем немного времени осталось, и очень скоро этот громкий пахнущий мазутом состав появится в поле зрения, и если продолжать метафору, то он, Костя, одновременно будет и машинистом поезда, из своей кабины наблюдающим за катастрофой, и тем самым несчастным, умирающим под колесами, — так в Костином сознании отложились последующие события.
И запахло мазутом, в самом деле запахло мазутом. Не мазутом, конечно, а бензином — так пахло в Женькином гараже. Посреди гаража имперским крейсером стояла ярко-желтая «Анаконда», кругом валялись засаленные тряпки и пустые пластиковые бутылки, полторашки, их еще называют «сиськами», а к дальней стене был стыдливо прислонен мотоцикл-инвалид без одного колеса — в общем, гараж как гараж, ничего особенного. Да, Костя таки позвонил Женьке, дозвонился, правда, не с первого раза, но потом все же дозвонился, и они договорились встретиться в восемь вечера, и вот ровно в восемь Костя уже был в гараже, вдыхал запах бензина, затхлости и отчего-то картошки. Ах вот она, виновница запаха, картошка-то — в дальнем углу прямо рядом с мотоциклом были навалены грязные мешки, точно на овощебазе.
— Верни машину, пожалуйста, — Костя решил сразу перейти к делу.
Женька с грязной тряпкой в руке — причем эта тряпка нужна была скорее для гаражного антуража, поскольку он ничего не делал, — уселся прямо на капот и устремил на Костю недоуменный взгляд своих круглых совиных глаз.
Женька был в гараже не один — ему составлял компанию какой-то тощий блондин, стриженный ежиком; на нем была засаленная майка армейской расцветки и линялые джинсы. Словом, обычный оборванец.
— Здрасьте, — развязно кивнул он вошедшему Косте, но поспешил смыться, когда Женька на него многозначительно зыркнул.
Видимо, у них был какой-то разговор перед этим и ежистый блондин знал, что сейчас придут забирать машину. Кажется, он учился на год младше, в классе «Б». Лицо какое-то смутно знакомое. Впрочем, не важно.
— Батек тебя прислал? — поинтересовался Женька, когда его друг ушел.
— Он попросил забрать машину.
— А сам? Он же догадался, что я стащил эти гребаные ключи.
— Он побоялся, что прибьет тебя раньше, чем эвакуирует «Анаконду». Да, у нее есть имя, — пояснил Костя, видя ехидную Женькину ухмылку.
— И душа?
— И душа. Ну, по крайней мере, для бати.
— Да верну я, — нехотя сказал Женька и зашвырнул тряпку в дальний угол.
Тряпка приземлилась аккурат на мешки с картошкой.
— Ты зачем ее увез-то вообще? Я не стал отцу говорить, чтобы его инфаркт не хватил, но водитель из тебя как из меня балерина. Жень, ну серьезно? Она же механика, она же спорткар вообще-то!
Костя осекся, когда понял, что говорит об «Анаконде» как о живом человеке. Это было по меньшей мере странно. Батино влияние.
— Ну какая тебе механика, а? — Костя продолжал отчитывать Женьку, который никак не желал приобретать виноватый вид, и более того, смотрел он дерзко, будто ни капельки не раскаивался в том, что увез чужую машину.
Смотрел он так, будто это была его ласточка, его «Анаконда», и это у него насильно увезли недешевую машину, которую он полюбил всем сердцем, и вот теперь он требовал возмездия на правах жертвы, — вот такой у него был вид.
— Нормально я вожу, — буркнул Женька, насупившись, и сделался похожим на рассерженного бурундучка.
— Все, я тебя понял. Слезай с капота, чудило. Я поехал возвращать машину.
— Один кружочек, — тихо произнес Женька.
Он так смешно скрестил руки на груди, даже надул губы — ни дать ни взять обиженный ребенок, у которого отняли любимую игрушку.
— Какой, на хрен, кружочек! Слезай давай!
— Давай так — я сяду за руль, мы доедем до конца Карла Маркса, съедем на шоссе и прокатимся пару километров по трассе. Давай?
Эта машина определенно что-то делала с людьми. Вот и в Женькином голосе слышалась неподдельная мольба.
— Я тебя за руль не пущу.
— Ну пожалуйста!
— Шутишь? Ты же толком не умеешь водить! Жень, ну перестань, серьезно!
— Я еще раз говорю: я вожу нормально. Пусти меня за руль.
— Нет. Тем более на шоссе.
Женька слез с капота и отошел к стене. Прислонился к стене, все так же скрестив руки.
— Я могу тебя покатать на «Анаконде», если сам буду за рулем. Хоть по Карла Маркса, хоть по шоссе. Идет?
— Нет. Знаешь, как это звучит? «Ты можешь посмотреть, как я трахаю свою девушку».
— Ты не охренел ли?
— Давай так, — произнес Женька, и в голосе его зазвучала решительность, умноженная на невероятную, почти демоническую одержимость. — «Камень, ножницы, бумага». Кто выиграет, тот и сядет за руль.
— Ты дурак?
— «Камень, ножницы, бумага»!
— Жень, остынь! Я не разрешу тебе вести «Анаконду»!
— «Анаконду», блин. «Камень, ножницы, бумага». Заебал.
— Нет! — Костина решимость начала потихоньку таять.
Боже, как же здесь отвратительно пахло! И сейчас этот странный гаражный коктейль из запаха бензина, подвального запаха прелой картошки и запаха железа только усилился, будто кто-то распылил баллончик с этой смесью, чтобы Костя ни на секунду не забывал, что он в гараже. А как тут забыть-то? Костя понял, что готов на все, лишь бы увезти ласточку из этого протухшего места.
— Жень, поехали.
— «Камень, ножницы, бумага», — упрямо повторил Женька.
— Хорошо. Как скажешь.
Сыграли. Женька выбрал камень, Костя — бумагу. Бумага завернула камень. Костя выиграл.
— Поехали!
— Нет, — Женьку, кажется, было не сломить.
Он был словно крохотный отряд партизан — гордый, умирающий, но не потерявший боевого духа. Сыграли еще раз, и опять выиграл Костя.
— Это нечестно! — воскликнул Женька, чуть не плача. — Давай последний раз, ну? Три-четыре! Ножницы!
— Камень, — флегматично ответил Костя, которому вся эта нелепая игра начала надоедать. — Поехали, все. Хватит паясничать. Ключи давай.
Женька неохотно полез в карман за ключами и так же неохотно (он чуть ли не глаза закатывал, вот как ему не хотелось с ними расставаться) вручил Косте ключи от «Анаконды».
— Поехали за город, раз уж у тебя так зудит, — великодушно предложил Костя.
И он с легкостью впрыгнул на переднее сиденье, несмотря на непривычную низкую посадку — все-таки он чаще ездил на внедорожниках, а не спорткарах, — пристегнулся, повернул ключ зажигания. Женька в это время, шумно фырча, устраивался на пассажирском сиденье.
— Блин, механика, — ругнулся Костя, привыкший исключительно к «автоматам».
Нет, он учился ездить на новенькой жигулевской «семерке» с механической коробкой передач, но это было так давно и с тех пор так много воды утекло. А еще эту «семерку» (задний привод же!) заносило на поворотах, и жутко неудобно было ездить по гололедице, и у нее был такой неподатливый руль — чтобы его поворачивать, приходилось применять недюжинную для подростка силу. Но все это было очень-очень давно.
Костя выехал из гаража, остановился, высадил Женьку, чтобы тот закрыл гараж, и поймал себя на нехорошей мысли, что вот сейчас, вот сию же секунду, он бы с удовольствием уехал, оставив Женьку возле гаража, и вернул бы «Анаконду» отцу, и вся эта дурацкая история с угнанной машиной забылась бы, как страшный сон. И да, он и вправду хотел уехать. Он уже потянулся, чтобы закрыть пассажирскую дверь, но тут подбежал Женька, очевидно, почуявший неладное. Он грузно уселся на пассажирское сиденье.
— Жень, — спросил Костя, выруливая из-за гаражей, — ты мне скажи, зачем ты это сделал? Ну вот на хрена, правда? — Костя говорил спокойно, хотя внутри у него все клокотало от злости. — На хрена ты спер ключи, увез машину? Чего ты этим добивался? И да, ты же почти не умеешь водить!
— Ну до гаража я как-то доехал, — понуро ответил Женька. — Хотя, блин, завелся не с первого раза.
— Ой, не ври. Тебе этот тощий хрен помогал, да?
— Нет, — упрямо повторил Женька. — До гаража я доехал сам. Славян обещал меня покатать по городу. Он хорошо на механике ездит. Славян в автосервисе работает, знаешь, который на Фадеева.
Костя, проехав ухабистыми (бедная подвеска!) дворами, выехал на центральную улицу — ту самую Карла Маркса.
— У тебя ведь даже прав нет, — напомнил Костя.
— Конечно, — неожиданно быстро согласился Женька. — Я же нищий, у меня не может быть прав! Только обязанности.
— Жень, не передергивай.
— Я не передергиваю. Кость, ты ведь ни хера не понимаешь про мою жизнь. И никто не понимает. Ты родился с золотой ложкой в жопе. Серьезно. А я… Блин, у меня же такого никогда не будет. Вообще никогда! — Женька повысил голос.
Женька на некоторое время замолчал и отвернулся к окну. За окном в это время проплывало лоскутное одеяло из убогих пятиэтажек, к которым цветастой аппликацией были пришиты магазинные вывески.
— Конечно, не будет, если пиздить чужие машины, — после некоторой паузы оживился Костя. — Тебя отец не учил, что брать чужие вещи нехорошо?
— У меня отец отсидел за воровство, — сказал Женька.
Женька нажал кнопку на двери, и стекло упруго поехало вниз. Он запрокинул голову и зажмурился, подставив лицо воздушному потоку.
— У меня никогда не будет красивой машины, — сообщил Женька, не открывая глаз. — У меня никогда не будет красивой машины, красивой девушки, красивой жизни, в конце-то концов. Потому что я нищий, я неблагополучный. Понимаешь? Ты ведь никогда не знал, как я живу. Ты бы побрезговал приходить ко мне домой, да?
— Ты меня и не приглашал.
— Потому что мне было стремно. Мне вообще было стремно общаться с богатеньким. Блин, если бы мои ребята узнали, вот они бы мне всекли, е-мое. Е-мое! Вот эти пятнадцать минут, что я ехал от твоего дома до гаража, реально были лучшими в моей жизни. Прикинь?
Тем временем машина под чутким Костиным управлением выехала на съезд из города и спускалась по эстакаде на Соловьевское шоссе. Это был опасный участок пути, поэтому Костя внимательно следил за дорогой, не обращая внимания на разговорчивого пассажира. Наконец, «Тойота» заскользила по ровному и гладкому асфальту Соловьевского шоссе, полосы которого были разделены металлическим отбойником. Тут же полетели навстречу рекламные билборды с кричащими лозунгами, один громче другого. Эти билборды призывали людей покупать гравий и щебень, керамогранит и черепицу, а самый веселый сообщал, что в ближайший месяц действует беспрецедентная скидка на памятники из гранита. Это деловое предложение выглядело настолько убедительным, что наверняка сподвигло одного-другого воскресенца быстренько умереть в этом месяце, чтобы получить заветную скидку на памятник.
— Поехали до пит-стопа, — предложил Костя. — Он будет километров через десять. Пожрем хотя бы. И, Жень, пристегнись. Там по дороге пост ДПС.
— Да пошел ты, — неожиданно резко ответил Женька. — Не буду я пристегиваться.
— Или ты сейчас пристегнешься, или я высажу тебя из машины.
— Ой!
Прежде Костя никогда не видел его таким. Ну, он привык, что Балакирев, этот добродушный совенок с огромными глазами, безропотно сносящий побои, безобиден, как юродивый. Может, он просто давно его не видел? Или армия так изменила его бывшего одноклассника, что на самом деле, как и обещано, сделала из него мужчину? Только вот этот мужчина, саркастичный и язвительный, Костю очень раздражал.
— Григорьев, ты такой Григорьев! В этом весь ты, честное слово. Правильный до тошноты. Чистенький, блин, мальчик. Или ты боишься, а? Скажи честно, ты боишься? Ты боишься, что все пойдет не по правилам?
— Блядь, Жень, заткнись, — Костя старался на него не смотреть, но Женькино отражение, злое и недовольное, занимало все зеркало заднего вида. — Ты мне мешаешь. Не хочу из-за тебя куда-нибудь въебаться.
— Да срать ты хотел на меня. А знаешь, что я тебе скажу? Ты же сох по Белогорской, да?
— Балакирев! — Костя аж зубы стиснул и руль сжал так, что костяшки пальцев побелели. — Я тебя сейчас вышвырну из машины. Не смей говорить про Белогорскую. Не смей своим вонючим ртом говорить про Белогорскую!
Впрочем, взбеленившегося Женьку уже было не остановить.
— Да вся школа знала, что ты на нее дрочишь! — Женькин голос стал писклявым, как фальцет. — Вся школа. Но вот что я тебе скажу. Такая, как Белогорская, никогда бы тебя не полюбила. Слышишь? Никогда! Она никогда тебя не полюбит!
На краткий миг Костя почувствовал, как от злости потемнело в глазах — точно телевизор выключили. Мгновение спустя изображение вернулось, снова серая лента ненавистного Соловьевского шоссе, крохотная трещина на лобовом стекле (батя убьет, когда увидит) и прилипшая мертвая муха. Злость одарила Костю еще одним странным симптомом — очень трудно стало дышать, и пришла какая-то дурацкая мысль, даже не мысль, а так, осколок мысли, что теперь так будет всегда, а для того, чтобы нормально выдохнуть и нормально вдохнуть, надо непременно разорвать себе грудную клетку и вырвать оттуда бесполезные легкие. Да, и только в таком случае — возможно — получится сделать вдох. Ах, это треклятый ремень безопасности так сдавил грудную клетку.
«Белогорская никогда тебя не полюбит». Как сделать так, чтобы эти слова никогда не были произнесены, а? Как сделать так, чтобы этот полудурок заткнулся, и желательно навсегда, и чтобы никогда в его устах не звучала Дианина фамилия, и чтобы он никогда…
В последний раз Костя переключил передачу — мотор «Анаконды» надрывался, точно в агонии. Одно мгновение, один поворот руля, истошный визг колодок — и ярко-желтая круглобокая «Тойота» влетела в отбойник.
Все мироздание было наполнено равномерным утробным шумом, подобно тому как бассейн наполняется до краев противной хлорированной водой. В первые мгновения Костя, чье сознание будто бы погрузили в глубокие воды, находился в кромешной темноте. И в этой темноте не было отдельных звуков — только ужасающий низкочастотный гул, от которого можно было сойти с ума, и не было отдельных цветов — все сплошная чернота, а что до запахов, то они отсутствовали напрочь. Сознание начало возвращаться по капельке. Темнота рассеялась не сразу. Прошло немало времени, прежде чем Костя осознал, где он находится: плюшевые мягкие стены, угловой диванчик, кокетливые светильники на стенах, — и прошло еще больше времени, прежде чем Костя сообразил, кто эти женщины (Дейзи и Сара) и отчего они так внимательно на него смотрят.
— Вспомнил? — спросила Сара, и в ее голосе прорезался металл.
Прорезался металл. Костя на секунду закрыл глаза, и тут же перед его мысленным взором возникла ярко-желтая «Анаконда» со сплющенным правым боком. При ударе об отбойник непристегнутый пассажир вылетел через ветровое стекло.
— А я ведь предупреждал его, — сообщил кто-то, кто взял контроль над Костиной речью. Сам он, разумеется, не мог этого произнести. — Ребята из вспомогательной школы избивали его до такой степени, что… Блядь. Но никому из этих обсосов не удалось сделать то, что удалось мне.
— Ты помнишь, что произошло дальше? — Сара смотрела на Костю сверху вниз.
На миг ему показалось, что в стеклах ее очков заплясали огоньки адского пламени. Но, присмотревшись, он понял, что это всего лишь отражается свет от светильников.
— Я даже как-то ухитрился скорую вызвать, — ответил Костя.
Он-то помнил. Он теперь все вспомнил. Все, что до этого забыл. Но почему, почему забыл-то? И почему вспомнил только сейчас, когда в его жизнь ледяным ураганом ворвалась некрасивая, пугающе некрасивая канцлер Сара?
— А потом? Ты дождался скорой?
Было еще чертовски светло — вот что помнил Костя. Теплый летний вечер, когда солнце еще только клонилось к закату — солнце, ласковое и теплое солнце, которому пришлось увидеть, как цыплячье-желтая «Анаконда», в цвет солнца, точно, — как эта маленькая «Анаконда» врезается в отбойник. Костя вызвал скорую, но скорой не дождался, внезапно на дороге появилась длинная черная иномарка бизнес-класса, потом эта иномарка остановилась (шоссе было подозрительно пустым), из нее вышел человек в длинном черном плаще… И только сейчас Костя понял, что это был Векслер. А за рулем иномарки сидел все тот же слепой водитель в солнечных очках, похожий на Нео из «Матрицы». Аристарх Левандовский.
И Костю увезли. Доставили в соседний травмпункт — у него оказались сломанными два ребра из-за ремня безопасности. Там ему оказали первую медицинскую помощь. Костя даже не запомнил, что это был за город. Вполне возможно, что они и до окраины Екатеринбурга доехали, а зная Векслера и его любовь к пятому измерению, это мог быть и Питер. Или даже Петроград. И все, что происходило в последующие месяцы, Костя помнил очень смутно. Ребра он сломал на даче — так сказал ему отец. На даче? Да, на даче. Как это возможно? Ой, отстань.
Сейчас Костя понимал, что это объяснение было чертовски нелепым и неправдоподобным — ну чем таким надо было заниматься на даче, чтобы сломать именно ребра, не ногу, не руку, а именно ребра. Но все те месяцы он провел точно в тумане. По крайней мере, таким это время казалось сейчас — туманным и неопределенным.
Косте, который находился сейчас словно меж двух миров — миром прошлого, откуда настойчиво раздавался жуткий звук, с которым машина влетела в отбойник, и миром настоящего, где отчего-то не было никаких звуков, только обволакивающая, как вата, тишина, — внезапно захотелось пить. Это было первым звоночком от органов чувств — звоночком, который сообщал, что он, Костя, все-таки скорее жив, чем мертв. Костя схватил со стола высокий бокал с коктейлем и в один глоток судорожно его выпил.
— Я хочу увидеть Женьку, — твердо сказал он.
Дейзи в этот момент снова подошла к нему поближе и случайно коснулась ногой — Костю аж передернуло от того, что холод он почувствовал сквозь одежду. Дейзи была мертва, мертва насквозь, как и все, кто был на вечеринке у Векслера. Дейзи, маргаритка. Как символично, вполне в духе мероприятия. Пляска смерти — вот что это была за вечеринка. Данс макабр. Костю второй раз передернуло, когда он вспомнил, что чуть было не переспал с мертвой порнозвездой.
Пировали вовсю. Огромный, размером с Красную площадь, стол был заставлен всевозможной снедью — тут была и красная икра в хрустальных вазочках, и черная икра, и семга, и форель, и салаты в аккуратных фарфоровых мисочках, и красное вино было налито в высокие фужеры, в которых свет голографически преломлялся, и белое, цвета жидкого солнца, вино было арестовано хрустальными бокалами, а посреди этой роскошной гастрономической композиции высилось гигантское блюдо с копченым поросенком, который при жизни был размером со взрослую свинью. И разумеется, посреди всего этого великолепия нашелся Женька, который сидел на высоком стуле, похожем на трон, и полотенце покрывало его грудь на манер слюнявчика, чтобы, не дай бог, брызги жира не уляпали дизайнерскую рубашку, и по обе стороны от Женьки сидели две красавицы, и декольте их платьев были глубоки, и бриллианты их ожерелий блестели в свете газовых рожков, как льдинки, и Костя понял, что не пройдет и получаса, как Женька займется с этими красавицами радостным сексом, и, возможно, к ним присоединятся еще красотки, и получится в итоге целая оргия, и Косте менее всего хотелось отвлекать Женьку от грядущего удовольствия, но он должен был сейчас с ним поговорить. Сейчас или никогда.
— Жень, подойди, пожалуйста, — заплетающимся языком произнес Костя.
Женька так и застыл с вилкой в руке и не донес заветный кусочек красной рыбки до рта.
— Мне с тобой поговорить нужно. Извини, что отвлекаю.
Женька опустил вилку с кусочком рыбы в тарелку и вылез из-за стола.
— Да что случилось-то? — встревожился он. — На тебе лица нету!
Блестящие красавицы — их было пять очаровательных девушек — как одна уставились на возмутителя спокойствия. Две из них были рыженькими, две — брюнетками, и лишь одна — ослепительной, загорелой, как Пэрис Хилтон, пепельной блондинкой. В другое время Костя бы засмущался при виде таких роскошных красоток, но сейчас ему было не до них. Рыженькая и одна из брюнеток о чем-то увлеченно перешептывались. Другая рыженькая, фигуристая девица в платье с обольстительным декольте — ее грудь украшало ожерелье то ли из бриллиантов, то ли из стразов Сваровски, — ела персик, временами слизывая с пальцев липкий сок, ноготки у нее были острыми и опасными. Блондинка сосредоточенно пила шампанское, держа бокал за тонкую ножку. Ее запястья были увешаны браслетами — не меньше трех золотых браслетов точно. Что это — Картье? Или ювелирный магазин на Карла Маркса, 33, самый дорогой в городе? Золото красиво смотрелось на загорелой коже.
Костя, поняв, что еще чуть-чуть, и он свалится замертво — ноги стали будто ватными, — пододвинул к себе высокий стул и залез на него, совершенно обессиленный. Сердце колотилось, точно зверек, пойманный в капкан, а лоб — Костя провел ладонью, чтобы убедиться в этом, — покрывала холодная испарина.
— Я вспомнил все о той аварии на Соловьевском шоссе, — произнес Костя. Ему стоило большого труда выдавить из себя эту фразу. Ничто и никогда в жизни не давалось ему с таким же трудом.
— Ба! — всплеснул руками Женька. — Это все Сара, да? Вот, блин, старая кошелка. Не надо было тебе ничего рассказывать!
— Жень, она все правильно сделала, — ответил Костя и поежился — его начало основательно лихорадить, по рукам прошлась мелкая гальваническая дрожь. Он придвинулся ближе и грузно рухнул локтями на стол, обхватив лицо ладонями. — Налей мне воды, пожалуйста.
Одна из красавиц, брюнетка — Костя видел это остаточным зрением, — налила из графина воды в граненый стакан и протянула Косте. Он выпил залпом стакан безвкусной теплой воды.
— Я хочу попросить у тебя прощения, — сказал Костя, вытянув руку со стаканом, как будто собирался произнести тост.
Сам немного обалдел от нелепости этого жеста и попытался избавиться от граненого стакана. Ему на помощь пришла загорелая блондинка — она ловко выхватила стакан из его рук, чуть не поцарапав ноготком. Инцидент был исчерпан. Женька сделал большие глаза, но ничего не ответил.
Красавицы уставились на Костю — им определенно было очень интересно все, что здесь происходило. Пожалуй, самой соблазнительной из них была рыженькая в декольтированном платье. Ее груди так и колыхались, стесненные блестящим атласом.
— Я хочу попросить прощения за то, что произошло четвертого июня две тысячи седьмого года, — решительно произнес Костя. От его прежнего полупьяного косноязычия не осталось и следа. А Женька все молчал. — Я понимаю, что ничего и никогда не смогу изменить, — продолжал никем не перебиваемый Костя. — Но, Жень, теперь тебе и мне с этим жить. Точнее, мне одному. И всю оставшуюся жизнь я буду вечно слышать этот звук — звук, с которым разрушилась моя жизнь. Звук, с которым я так легко лишил жизни своего друга. Жень, я хочу попросить у тебя прощения, хотя знаю, как это нелепо звучит. Прости, что я тебя убил. Прости, что я убил тебя тем вечером.
И только сейчас причина Женькиного молчания стала понятной. Он сидел напротив Кости — слюнявчик дурацкий он снял, — а по щекам его катились слезы. Слезы капали, а Женька даже не пытался их вытереть. Он все сидел, тараща на Костю свои огромные глаза, а слезы все катились, точно капли дождя. Костя никогда не видел, как Женька плачет. Он видел его побитым, избитым, с окровавленным лицом, с подбитым глазом и расквашенной губой, но он ни разу не видел, как Женька плачет. И это было так чертовски странно.
— Ты чего? — дрогнувшим голосом спросил Костя, который решительно не знал, что делать.
Тут Женька одним рывком подскочил со своего места — красавицы в один голос ахнули — и оказался рядом с Костей.
«Он меня сейчас ударит?»
Но вместо этого Женька порывисто обнял Костю за плечи, и навалился на него всем телом, так что Косте стало трудно дышать, и сильно стиснул его в своих крепких, как арманьяк, объятиях. Наконец Женька отклеился от Кости и встал, опершись кулаком о стол.
— Со мной чего только не делали, ты же знаешь, — признался Женька. — Как меня только не калечили. Ты единственный из всех, кто попросил у меня прощения.
— Но я не просто тебя искалечил, я тебя убил!
— Я знаю, — дрогнувшим голосом произнес Женька — глаза его до сих пор были красными от слез. — Я знаю.
Одна из брюнеток достала откуда-то платочек и пару раз в него всхлипнула.
И эта мучительная сцена продолжалась бы бесконечно долго, но тут в поле зрения появился встревоженный фон Хоффман — стекла его очков сердито блестели, отражая неяркий свет газовых ламп.
— Господин Григорьев, — жеманно произнес фон Хоффман, — вас желает видеть его величество, и немедля.
— Я… — пролепетал Костя. — Боги, нет. Только не это.
Но фон Хоффман уже сделал командирский жест, приглашая следовать за ним, и ослушаться Костя не мог. Выпитое спиртное и усталость вкупе с перенесенным потрясением давали о себе знать. Костю бросало то в жар, то в холод — по всему телу гуляла мирозданческая слабость, из-за которой трудно было передвигать ноги, будто бы налитые свинцом. Наконец они оказались в огромной зале, где на круглых столиках стояли свечи в канделябрах, а стены были увешаны зеркалами, обрамленными вычурными рамами с завитушками, и эти зеркала множили яркий свет, отчего в огромной зале было катастрофически, до рези в глазах светло. Векслер стоял возле окна, задернутого пунцовой портьерой, невидящим взглядом смотрел куда-то вдаль и курил папиросу — Костя, хотя доподлинно не знал, готов был поклясться, что это «Герцеговина Флор». На заднем плане маячил Блаватский, он был повернут спиной к присутствующим и ругался с кем-то по мобильному телефону.
Наконец Векслер нехотя повернулся к Косте. Фон Хоффман так и остался стоять у него за спиной услужливой тенью.
— Утро доброе, господин Григорьев, — Векслер цедил слова, будто кофейную гущу, отчего они становились вязкими и топкими. — Рад вас видеть.
Костя, который к тому моменту еле стоял на ногах, до того он ослаб, произвел вымученный кивок — на то, чтобы произнести хотя бы слово, его не хватило. А еще всегда, всегда в компании Векслера он чувствовал себя жалкой букашкой, которую раздавить легче, чем помиловать. Впрочем, его величество и не собирался никого миловать. Костя готов был провалиться сквозь землю из-за своего крайне неопрятного вида (он смотрелся в зеркало за спиной Векслера): мятая рубашка, галстук, съехавший набок, уже несвежий пиджак. Он не видел себя вблизи, но готов был поспорить, что лицо его было столь же мятым и несвежим, сколь и одежда.
— Позвольте задать вам вопрос, — Векслер прищурился, его глаза в ослепительном свете свечей горели холодным адским пламенем, — и, пожалуйста, ответьте на него честно. Да, я люблю честность.
— Я отвечу на любой ваш вопрос, — ответил Костя, не надеясь на то, что когда-нибудь эта пытка закончится.
— Понравилось ли вам данное мероприятие? — спросил Векслер, выделив интонацией это «понравилось». — По шкале от нуля баллов до десяти.
Повисла напряженная пауза.
— Десять баллов, — поразмыслив, выдавил из себя Костя.
— Все ли вам понравилось? Еда, напитки, обслуживание?
— Все, ваше величество.
Векслер расслабленно полуприкрыл глаза.
— Остались у вас какие-либо вопросы ко мне? Время терпит, вы можете задать мне один вопрос. Да, пожалуй, одним ограничимся.
— Арлекино, — Костя кое-как отлепил язык от нёба.
— Что Арлекино? — Векслер вскинул брови.
— Что в этой компании делает Арлекино? Понимаю, здесь убийцы, самоубийцы, прелюбодеи — но Арлекино? Он же не убийца и не извращенец. В чем он провинился?
— А вы его видели? — Векслер мечтательно прищурился. — Арлекино прекрасен. Просто убийственно прекрасен. Его внешний вид — это преступление! Мой ответ удовлетворил вас?
— Вполне, ваше величество, — Костя смиренно склонил голову.
— Правильно ли я понимаю, на вечеринке не было ни одного момента, который вас смутил или как-то вывел из душевного равновесия?
Костя вздрогнул — несмотря на свое полуобморочное состояние, он понимал: все, что происходит сейчас в этом кабинете, является проверкой. Почему и зачем Векслер это делает — неясно, возможно, из вредности, возможно, у них, у темных сил, так принято. Костя держался изо всех сил, чтобы не показать, насколько он расклеился. Отчего-то он решил, что Роберт Эдмундович не должен догадаться, что история с разбитой «Тойотой» полностью разрушила мир. Все это было на уровне интуиции, но отчего-то очень хотелось сохранить лицо перед самим дьяволом, или как там его.
— Правильно.
— Вы свободны. Фон Хоффман, проводите юношу.
И снова Костю ждала мучительная экспедиция по извилистым темным коридорам. Фон Хоффман привел его в ту же комнату, где пировал Женька в окружении хмельных красавиц.
— Вернули? — встрепенулся Женька, который в этот момент вытирал подбородок салфеткой. — Векслер вроде тобой очень доволен.
— Мне нужно на воздух, — ответил ему Костя, который и впрямь начал задыхаться.
— Ну пойдем на балкон, покурим. Сигареты есть?
— Сиг… — Костя привычным жестом полез в карман пиджака. — А… Вроде есть.
Вышли на балкон продышаться — Костя готов был поклясться, что прежде, разумеется, никакого балкона тут не было, но в этом дьявольском помещении двери, комнаты и коридоры возникали из ниоткуда, так почему же из ниоткуда не возникнуть было балкону? Костя облокотился о перила и поежился — зря он выбежал прямо в пиджаке, а не дошел до гардероба за пальто: зябко было и сыро. Женька, впрочем, будто бы не чувствовал никакого холода.
— Раз уж мы здесь, — произнес Женька, щелкая зажигалкой. — Расскажи мне, что произошло дальше. После того, как ты разбил машину. Мне интересно.
— Ты… — Косте внезапно отключили связную речь. — Я очень смутно помню. Будто все это и не со мной было.
Вкратце он рассказал обо всем, что случилось позже: про эвакуацию, сломанные ребра и последующее забвение. Костя закашлялся, поняв, что докурил сигарету почти до фильтра, отчего она стала невыносимо горькой.
— Ах, Векслер, Векслер, бог из машины!.. Ай да сукин сын — интересно, у меня язык не отсохнет из-за того, что я его так называю. Причем ведь это даже не шутка — он и в самом деле бог из машины. Он и в самом деле актер погорелого театра. Рингтеатр, мать его. Читал я про этот Рингтеатр.
— Кость! — одернул его Женька, схватив за лацкан. — Ты мне другое лучше скажи. Я столько лет не могу найти ответа на этот вопрос. Ты ведь просто не справился с управлением, да? Ты разбил машину, потому что не справился с управлением? Ты въехал в отбойник и…
— Нет, — тихо, одними губами ответил Костя.
Холодно было так, что зубы стучали, выбивая неслыханный ритм. Женька отпустил терзаемый лацкан и округлил глаза.
— Жень, я водитель от бога. Водить машину — едва ли не единственное, что я умею делать хорошо. Я не мог не справиться с управлением на ровной дороге. Нет, Жень, я это сделал специально.
Господин Векслер стоял на террасе, опираясь на перила балюстрады, и задумчиво смотрел на город, раскинувшийся внизу. Фон Хоффман знал, что в такие минуты его не следует трогать, лучше оставить в покое, наедине с вечностью, но сегодняшняя ночь была особой. Чуть поодаль подпирал стену, уткнувшись в телефон, Блаватский, но фон Хоффмана он не интересовал; еще дальше, почти на границе меж явью и сном, порхал неуловимый, как и все по-настоящему прекрасное, Арлекино. Еще не утих праздничный звон бокалов, еще болели глаза от бесконечно ярких свечей, умноженных магическим пространством зеркал, еще были видны на небе звезды, острые, как иголки, но в воздухе, простывшем и пустом, уже сообщалось, что рассвет близок, и пускай этот рассвет не принесет миру ничего хорошего, новый день настанет. Глубокая ночь, совсем уже холодно, но фон Хоффман, в прошлом заправский вор и мошенник, большую часть своей жизни провел в тюрьме, и его не пугал холод, — впрочем, прежнюю свою жизнь он помнил смутно.
Обер-церемониймейстер фон Хоффман, любивший порядок, роскошь и блеск, ценивший устои, но не избегавший новых веяний, — это он придумал отказаться от оркестра («Накладно, мой господин, чересчур накладно…») и нанять диджея, несмотря на увещевания Блаватского, который обещал застрелиться, если — цитата — «не прекратится эта ужасная электрическая музыка», впрочем, Блаватский, известный фигляр, свое обещание не сдержал, да и музыка не прекратилась.
— О чем задумались, Der Teufel?
Господин Векслер, которого выдернули из глубокой пучины размышлений, еле заметно вздрогнул. Он накинул черное пальто, и его полы колыхались, волнуемые настырным ветром.
— Я задумался о том, что я им больше не нужен. В этом крохотном городе и без меня достаточно зла. Достаточно открыть криминальную хронику, дабы погрузиться в упоительный и отвратительный мир междоусобиц, инцеста и распрей, мир, где отцы насилуют своих дочерей, жены убивают своих мужей, а иные, одурманенные зельем, совершают преступления куда более изощренные. Ты скажешь, Иоганн, что человеческая история, как на китах, зиждется на деньгах, любви, коварстве, неудачах и лишь изредка — на удивительных событиях, и будешь прав. Но скажи мне, куда делись красота и изящество, с которыми совершались великие убийства и великие злодеяния? Куда исчезла аква-тофана, почему ни один ушлый ювелир не умерщвляет своего незадачливого конкурента, подсыпав ему в пищу толченый алмаз, почему сильные мира сего не начинают утро с приема противоядия или минимальной доли яда, как это делалось в прошлом, дабы предотвратить смерть от отравления, а все больше склоняются к чаю или кофе, и да, признаюсь честно, мой дорогой Иоганн, даже я давно уже предпочитаю скучную и сытую жизнь и не ношу на поясе кинжал, чтобы где-нибудь в переулке подкараулить несчастного, зарезать да и смотреть, как плавится в предсмертных корчах бедолага, ибо современные маньяки справляются с этим лучше, не в пример лучше, а что касается кофе, ох, что касается кофе, то и я, признаюсь честно, стал так до него охоч, что, не поверишь, если буду выбирать между ночью с хорошенькой ведьмочкой или чашкой крепкого свежесваренного эспрессо, то… Ах, Иоганн, уже почти светает.
— Der Teufel, — молвил фон Хоффман, завороженный непривычно долгой тирадой своего господина, — меня убили, зарезав ножом, не романтичным кинжалом из, например, дамасской стали, а обычным кухонным ножом, который моя, как я считал, возлюбленная стащила из кухни своих хозяев, и это, верите или нет, было совсем не красиво. Я просто лежал на земле, истекая кровью, изо всех ран на моем теле сочилась кровь, из моего рта сочилась кровь, и вся моя накрахмаленная, прежде белоснежная сорочка была в крови. Когда я это увидел, то чуть было не умер второй раз!
— А меня в пьяной драке убили, — напомнил о себе Блаватский, обладавший великолепным чувством момента. — В Петрограде. И главное, все так кричали, боялись, большевики идут, большевики идут… а убили меня свои. Пойдемте уже внутрь, здесь холодно, аж зубы стучат.
— Что ж, господа, — Векслер готов был последовать за пустомелей Блаватским, но он привык, что последнее слово всегда остается за ним, — красоты мы здесь не увидим. А тот бледный юноша, что, изнывая от внутреннего холода, трясся в моем кабинете, пытаясь тем не менее сохранить хорошую мину при плохой игре, боюсь, тот юноша многому сможет меня научить. И что-то мне подсказывает, что мы не раз его увидим здесь. О, он достойный продолжатель своего рода, достойный. Думал я поначалу, будто бы нет в нем силы ума и силы характера, будто бы не хватает стойкости и отваги, будто бы нет в нем столь любимого мною безрассудства, безрассудства, которого так много в нашем Блаватском… Иоганн, да не смотри на меня так… хоть отбавляй. Однако же я ошибался. Этот юноша — наш, очень скоро он это осознает.
Над кладбищем висела круглобокая, ладная и очень яркая луна.
Весь день Костя провел в городской библиотеке. Да, в Воскресенске-33, оказывается, была библиотека, и туда можно было записаться взрослому человеку, просто предъявив паспорт. Если бы еще месяц назад Косте сказали, что он будет проводить время в таком сомнительном заведении, как библиотека, он бы рассмеялся и покрутил пальцем у виска, и тем не менее он просидел почти полный рабочий день в пыльном помещении с лакированными столами, драценами в горшках, облупленными подоконниками и ветхими стеллажами, словно бы перенесенными в это помещение из какой-нибудь образцовой советской квартиры.
Костю интересовала подборка газеты «Воскресенский рабочий» за период с 1995 по 2012 годы — даты были выбраны приблизительно. Он нашел все имена и фамилии, которые искал, — на пыльных, пахнущих старой типографской краской и памятью страницах, пожелтевших от времени, как сухие осенние листья.
«Тусовочка!» — с грустью подумал Костя.
И действительно, в этих некрологах была вся честная векслеровская компания.
Ника Тауберг, 26 августа 1973 г. — 11 октября 1996 г.
Минувшая пятница была ознаменована несколькими криминальными происшествиями. Вечером 26 августа в квартире по адресу ул. Кирова, 44 была зверски убита жительница Воскресенска-33 Ника Тауберг. Девушка получила около двадцати ножевых ранений, в результате которых…
Дальнейшее Косте было известно. Да и образ самой Ники, в этой ее жеваной курточке лилового цвета, застрял в памяти с фотографической точностью. Впрочем, на вечеринке она выглядела роскошно.
А вот и продолжение, последовавшее спустя десять лет, — сиквел вышел не менее трагичным:
10 октября 2006 года в своей квартире был убит известный в Воскресенске-33 предприниматель, владелец сети продуктовых магазинов…
Это история тоже была известна Косте, более того, он даже понаблюдал убийство этого самого предпринимателя — болтающуюся вялую сосиску он с удовольствием развидел бы обратно. Это убийство было омерзительным (а с каким наслаждением эта Ника потом облизала нож!), но Костя вспоминал об этом не без удовольствия, да и сам предприниматель получил по заслугам.
Ясмина Керн, 1988–2008 годы
Самоубийца, которая свела счеты из-за несчастной любви, спрыгнув с крыши недостроенного здания роддома. Роскошная, ухоженная Ясмина с идеальными локонами и безупречным маникюром. Безупречным маникюром и шрамами на внутренней стороне запястья — это была первая, неудачная попытка уйти из жизни. Ясмина Керн, которая только после смерти смогла обрести любовь — ведь это смерть свела ее с несчастной Никой, смерть и немного Векслер.
Что за веселое место этот ваш ад, черт побери! Костя, который был уже не в силах переваривать информацию, вышел на крыльцо покурить, по дороге взяв стаканчик кофе в вендинговом аппарате. Кофе был невкусным — кислым и горьким одновременно. Костя уселся на холодную бетонную ступеньку, а крохотный стаканчик поставил рядом с собой.
«Что ты такое, Воскресенск-33?» Костя меланхолично наблюдал за тем, как дым от сигареты поднимается наверх, к небу и свободе.
Что это за город такой, в котором умереть спокойно нельзя?
Но больше всего Костю расстроили даже не Ника с Ясминой. Балакирева. Елена Витальевна, она же теть Лена. Она умерла в 2010 году от цирроза печени. Умирала она тяжело, в палате городской больницы, забытая всеми, кроме единственного сына, который — что за дьявольская усмешка судьбы?! — уже сам был три года как мертв.
Кстати, заметок о той катастрофе на Соловьевском шоссе было очень много. Разумеется, во всех этих заметках было написано, что Балакирев и был за рулем разбитой «Тойоты». Разумеется. Потому что настоящего убийцу эвакуировал сам Роберт Векслер. Deus ex machina.
На какое-то время Костя отвлекся от мрачных мыслей. В одном из выпусков «Воскресенского рабочего» была огромная статья про Виктора Григорьева, озаглавленная: «Бизнесмен, семьянин, горожанин — история успеха длиною в жизнь». Разумеется, в статье не было ни слова про криминальное прошлое Григорьева, что немного противоречило заголовку, и тон ее был приторно-елейный, видимо, журналисту неплохо заплатили; большую часть статьи занимал рассказ про ООО «Белый альбатрос» — в общем, это была обыкновенная реклама под видом статьи, ничего удивительного. Виктор Григорьев был важным человеком в городе, но, боги, оказывается, Костя даже не представлял насколько.
Настенные часы показывали семь вечера, когда Костя сдал библиотекарше стопку газет, попрощался («Вы уж к нам заходите, молодой человек!»), сел в машину, чтобы поехать на кладбище номер три. День скорби должен закончиться вечером скорби, определенно должен. Когда Костя приехал на кладбище (он совершил крюк, заехав на АЗС, где и перекусил невкусным гамбургером, из которого постоянно вываливались соленые огурцы, нарезанные кружочками), уже стемнело. Облака в небе спрятались. Звезды пьяные смотрят вниз.
Костя постоял минут десять перед Женькиной могилой — очень уж удобно она была расположена, и кто-то (скорее всего, сам Женька) недавно возложил к надгробию парочку гвоздик, причем совсем недавно, потому что гвоздики были еще совсем свежие. Могила Ники Тауберг была в глубине кладбища, на перекрестке двух тропинок, в тени высоких деревьев, тянувших к небу свои ветви, точно плакальщицы, и была эта могила почти заброшена, никаких цветов, фотография на памятнике потускнела, а цифры выцвели. Некому было ухаживать за могилой девушки, умершей в далеких девяностых. А вот могилу Ясмины Керн, сколько ни пытался, Костя не нашел. Зато надгробие на могиле Елены Балакиревой нашло его само, нашло и напугало до смерти, потому что госпожа Балакирева была удостоена огромной статуи из нежнейшего мрамора, и Косте стало так страшно, что даже сердце заныло.
Он стоял, засунув руки в карманы синей куртки, стоял под этим рваным серым небом — по небу, надсадно крича, кружились вороны, — взглядом, полным скорби, смотрел на безобразно-красивую статую с пустыми глазами, не в силах сойти с места, словно окаменев. Это было самое жуткое, что он когда-либо видел за всю свою жизнь. А еще этот запах — запах горелой листвы и печали. Так пахнет тлен, подумал Костя. Так, возможно, пахнет бессмертие — вот только от этого бессмертия еще больше хочется умереть. Он поспешил покинуть территорию кладбища и вернулся к машине, припаркованной неподалеку.
Радио зашипело на Костю, когда он попытался переключиться с «Европы+» на что-то менее жизнерадостное. Пришлось оставить так. Дурацкий день тянулся как кисель — Косте все казалось, что на кладбище он был десять лет назад, а по фактам выходило, что сегодня вечером.
После кладбища Костя заехал домой, поужинал с Дианой, а в конце ужина она пожаловалась на головную боль и ушла спать. День мертвых не заканчивался, он всего лишь превращался в день наполовину живых. У Кости не повернулся бы язык назвать Диану с ее вечно замутненным взглядом стопроцентно живым человеком — все десять лет она стояла на тонком мостике, отделявшем берег живых от берега мертвых, и, черт побери, уходила она по этому мостику в сторону темного берега, уходила исподволь — настанет момент, когда она вся окажется в царстве спрутов и склизких чудовищ.
«Я вижу мертвых людей» — Костя в своих мыслях часто повторял эту фразу, но никак не мог вспомнить, откуда он ее взял — так, прицепилась, как пиявка.
А в машине он сидел оттого, что Дианина болезнь превратила некогда уютную квартиру в склеп. Эдакий мавзолей имени Дианы Белогорской. Находиться в этом склепе долгое время Костя не мог, да и не выходила из головы внезапная ассоциация с кладбищем. Косте уж начало казаться, будто в квартире запахло жженой листвой. Поэтому он и ушел.
Минут пять Костя боролся сам с собой — то ли выключить дурацкую назойливую музыку, но тогда тоскливые мысли завладеют всем его сознанием, а не только отдельной его частью, и с этими мыслями надо будет что-то делать; то ли оставить, но она, эта музыка, так чертовски раздражает, что хочется убить себя об стену, только бы не слышать ее. Наконец, он выключил магнитолу, и случилось то, чего он боялся. Мысли.
Он попытался понять, с какого момента его жизнь так переменилась, что мертвых людей — самоубийц, убийц, людей, погибших насильственной смертью, — стало больше, чем живых? Отдельным номером в этом списке выступал Женька — человек, лично убитый самим Костей. Женькина башка, разбитая об асфальт, периодически возникала в Костиных кошмарах наяву. И были все эти люди: Ясмина Керн, Ника Тауберг из девяностых, Балакирева-старшая, Балакирев-младший, Дейзи, застенчивая порнозвезда с векслеровской вечеринки, — такими блестящими снаружи, но такими мертвыми внутри. Они ведь и в самом деле были мертвыми. Кстати, с Дейзи обидно получилось. Он ведь забыл про нее напрочь.
И тот факт, что Костя не нашел сегодня свою могилу на третьем кладбище, вовсе не означал, что ее там не было. Вполне возможно, что он просто плохо искал. Костя не знал, как называется это ощущение. Ощущение того, что по твоим венам течет не кровь, но яд, и этот яд наполняет твои внутренние органы, твой мозг, твое сознание и заливается в твою душу, как грунтовая вода заливается в подвал, отравляя все сущее.
Чтобы отвлечься, Костя залез в телефон и поискал в «Яндексе» информацию про ООО «Белый альбатрос», благо это было совсем несложно. Сначала он вбил в поисковик батины ФИО, появилась информация, что Григорьев Виктор Алексеевич является учредителем данной организации, ИНН, ОГРН такие-то, Костя не поленился и зашел на сайт Росреестра. Потом его закинуло на сайт городской администрации Воскресенска-33, потом через какую-то ссылку он зашел на тендерную площадку, с ностальгией вспомнил, что Воскресенский НПЗ тоже когда-то участвовал в госзакупках, и чем дольше Костя рыскал по специализированным сайтам, тем больше он удивлялся. В городе было несколько строительных компаний, занимавшихся отделочными работами, батина не была единственной, тем не менее только «Альбатрос» получал все крупные заказы от городской администрации, а если учесть, что все важные вопросы в городке решал мэр, выходило, что отец был очень хорошо знаком с Робертом Эдмундовичем, по-другому никак. Поиск сведений очень утомил Костю, он даже убавил яркость экрана, но глаза не перестали болеть. Он понял, что, если сейчас не поговорит с кем-нибудь, он просто сойдет с ума. Если уже не сошел.
«Время делать глупости!» — подумал Костя.
Он первым делом подумал о Вареньке. Варенька живая, Варенька настоящая. Она, конечно, ржет как лошадь, и голос у нее чересчур громкий, и еще она делает много-много мелких движений, и сама этого не замечает, и очень суетится всегда, и спешит непонятно куда, но, черт, Варенька — Варенька живая. Костя хотел было отправить голосовое сообщение, но вовремя спохватился — вдруг заметит Варин муж. Поэтому он ограничился коротеньким, но емким сообщением:
«Варя, не думай, что я чокнулся. Ты сильно занята?»
«Нет, а что?» — Варя, которая, судя по всему, не так сильно опасалась собственного мужа, отправила голосовое.
«Посиди со мной в машине. Минут двадцать, не больше».
Варенька ответила минут через пять:
«Ну подъезжай к моему подъезду. Знаешь, где я живу?»
«Знаю».
Дело было за малым — выехать со двора на разбитую Фестивальную улицу, добраться до перекрестка с Корнеева, где вечно ломался светофор, повернуть, прокатиться по более широкой улице Летчика Бабушкина, подсвеченной фонарями и магазинчиками разливного пива, снова углубиться во дворы, и — вуаля! — нужный подъезд, как заказывали.
Вход в Варин подъезд охраняли, точно стражники, два огромных дерева. В темноте силуэты этих деревьев показались Косте зловещими. Вареньку почти не пришлось ждать — на работу она опаздывала, понимаете ли, а тут прилетела на всех парах, будто ждала встречи. Она дернула дверь и неуклюже взгромоздилась на пассажирское сиденье. В руках она держала шуршащий пакет.
— Варя, спасибо, — совершенно искренне произнес Костя.
— Ой, да ладно! — Варенька была сама застенчивая непосредственность. Она взмахнула короткими кудряшками, будто отгоняя невидимых пчел. — Ты как Мишутка, — сообщила Варя.
Костя не сразу вспомнил, что Мишуткой звали ее сына.
— Он тоже не любит сидеть в одиночестве, — сказала Варя и еще громче зашуршала пакетом. — Надеюсь, ты не будешь ко мне приставать?
— Боже, нет. У меня просто тяжело на душе, и… Очень долго объяснять. И вообще, я твой шеф.
— Строго говоря, Марк — мой шеф.
— Не забудь ему завтра об этом напомнить. Почему ты так охотно согласилась?
— А я кое-что задумала. Видишь ли, когда у тебя дома большой муж и маленький ребенок, уединиться особо негде — ты вечно на виду.
Все-таки она была милой. С этими ее огромными глазами и паучьими ресничками, с этими ее щечками, с этими смешными кудряшками, которые упрямо не желали складываться в настоящую прическу. Эх, Варенька.
— Я здесь поплачу немножко, ладно?
— Поплачешь?
— Я бы даже сказала, пореву, — уточнила Варенька и протянула пакет. — В обычной своей жизни у меня нет ни малейшей возможности поплакать. А хочется.
— А в пакете-то что?
— Пирожки.
— Сама пекла? Ах ты, хозяюшка. Завтра же звоню в Томск и прошу выплатить тебе премию.
— Нет, пирожки напекла моя мама. Ешь давай, не капризничай.
— Ты путаешь меня с Мишуткой.
— Все вы одинаковые, — усмехнулась Варя.
А через миг ее настроение переменилось, как погода. Будто солнце зашло за тучу, и сделалось темно и тоскливо. Варя отвернулась, согнулась, будто ее тошнило, и закрыла лицо ладонями.
— Я очень устала, — голос ее прозвучал глухо. И тут она выпрямилась и отпустила ладони. Она и в самом деле начала плакать. — Иногда мне кажется, — Варя говорила, а по ее румяным щекам текли слезы, — что я ненавижу свою семью. Так же нельзя говорить, верно? Я ненавижу своего мужа и своего ребенка. Я ненавижу себя. Себя, свою жизнь, эту ебучую работу в магазине, тебя тоже ненавижу.
И тут плотину прорвало, и Варенька натурально начала рыдать — не плакать, а именно рыдать, горько и безутешно. Плакала она некрасиво, громко всхлипывая и подвывая. Лицо скривило гримасой, губы распухли, по щекам размазалась тушь. Костя схватил ее за плечи и притянул к себе. Ему редко приходилось утешать плачущих женщин — Диана была скупа на эмоции, — поэтому он растерялся и не знал, что делать. Он неловко обнял сотрясаемую рыданиями Вареньку. Она уткнулась ему в плечо, и ее легкие, как тополиный пух, кудряшки защекотали подбородок.
— Ты в меня пирожком тычешь, — сдавленно произнесла Варенька.
— Эй! — воскликнул Костя и отстранился. — Эй!
— Господи, — Варя даже перестала плакать, — вечно тебе пошлятина всякая мерещится. Ты в меня пирожком тычешь, который у тебя в руках. Ты либо ешь, либо обнимайся!
Костя напрочь забыл, что держит в руках пирожок, заботливо испеченный Вариной мамой.
— Я ненавижу свою жизнь, — продолжила Варя уже спокойным тоном. — Я могла бы стать звездой телевидения. Могла бы ездить с концертами по всей стране и зашибать нехилое баблишко. Ты же сам говорил, что я клевая. И кто ж виноват, что я такая психованная дурында, которая сцены боится до усрачки!
Погода снова переменилась — Варя не успела договорить свой маленький спич, как по щекам ее снова потекли слезы.
— У меня раньше в записной книжке все звезды ТНТ были, — Варю трясло, она буквально захлебывалась воздухом. — Я лично с Дусмухаметовым знакома была! А теперь что? Я живу в этом дурацком городишке и подбираю людям чехольчики на телефон.
Произнеся это, она уткнулась Косте в плечо, и тот обнял ее, заметно смелее, чем в прошлый раз.
— Ты славная, — сказал Костя, уткнувшись носом в мягкие, почти как у ребенка, кудряшки.
Варенька вздохнула — Костя почувствовал, как потеплело в районе шеи.
— Хочется передать привет себе из десятого класса, — она подняла голову, посмотрев на Костю снизу вверх своими огромными заплаканными глазами.
Ее лицо все было в черных потеках от туши. Это выглядело весьма готично, но Варе с ее жизнерадостными щечками такой образ совсем не шел.
— Мы не в десятом классе, — ответил Костя. — И не в одиннадцатом. Мы взрослые тридцатилетние люди. Сиди ровно.
Костя отстранился и просунулся в щель между водительским и пассажирским сиденьями — на заднем сиденье с незапамятных времен лежала неначатая пачка влажных салфеток. Костя достал одну салфетку и принялся тщательно вытирать Варину мордашку — она пару раз всхлипнула для приличия и закрыла глаза. И только Костя привел ее лицо в божеский вид, как запиликал телефон.
— Да, зай. Да, я за сигаретами ходила, — торопливо заговорила в трубку Варя. — Да, сейчас буду, — она сунула телефон обратно в карман. — Спасибо, что позволил мне выпустить пар. Только знаешь… Все бы ничего, но общение с тобой… Я его переношу довольно болезненно. Врать не буду. Моя самооценка рушится напрочь, когда я вспоминаю, как выглядит твоя жена.
— При чем здесь моя жена?
— При всем. Кость, я всегда завидовала таким, как она. Красивым, уверенным в себе, идущим с гордо поднятой головой. А я никогда не была такой. Я смешная, Кость. Смешная девчонка, которая слила в трубу свою карьеру. Я тебя немножко боюсь. И себя тоже. Прости.
С неба сыпался мелкий, почти не осязаемый снег, который таял, едва касаясь мокрого асфальта, и ощущался лишь в виде крохотных крупинок холода — ветер бросал эти крупинки в лицо, точно рисовую муку. Костя, все эти дни находившийся будто в эпицентре водоворота, удивительным образом чуть было не проворонил Диану, и проворонил бы, если б не успел вовремя спохватиться. Диане стало заметно хуже. Таким этот день и запомнился — сырым, неуютным, с мелкой снежной крупой, которую дворники разгоняли по ветровому стеклу, и молчаливой Дианой, обреченно вжавшейся в пассажирское сиденье. За всю дорогу она не произнесла ни слова.
Ехали, разумеется, к Муравьеву, принимавшему пациентов в новеньком белоснежном здании с пластиковыми окнами и дверями — здание было пристройкой к жилому дому и выглядело рядом с ним как единственный запломбированный зуб в ряду пораженных кариесом собратьев. Внутри этой пристройки все было пластиковым и белоснежным: стулья, столы, двери, — только пол был выложен черно-белой квадратной плиткой. Похоже было на игрушечную психиатрическую больницу, что, по сути, недалеко было от истины.
Костя ждал Диану, сидя на одном из пластиковых стульев, и ему отчего-то казалось, что в помещении идет снег. Возможно, в этой иллюзии были виноваты дурацкие галогеновые лампы, дававшие холодное, точно в морге, свечение. На соседний пластиковый стул подсел невзрачный и какой-то очень сухонький, точно экспонат из кунсткамеры, мужичок и попытался поговорить с Костей. Псих, наверно.
— А вы какие препаратики принимаете?
Костя хотел было сердито ответить, что, мол, он здоров и никаких препаратов не принимает, но тут по коридору прошел еще какой-то субъект и остановился, очевидно, чтобы тоже принять участие в разговоре.
— Препаратики? — ему было лет тридцать, волосы острижены чуть ли не под каре, пуловер и огромный кадык на шее. Когда он говорил, этот кадык дергался туда-сюда. Этот точно псих. — А они п-помогают? У меня суицидальные мысли просто…
— И у меня были, — откликнулся сосед. — Вроде прошли. Муравьев — бог психиатрии.
— Ох, надеюсь… — произнес в пустоту кадыкастый и зашагал дальше по коридору.
Диана очень долго не выходила, Костя счет потерял минутам и секундам, зато посчитал, что коридорчик был выложен тридцатью двумя белыми и тридцатью черными плитками, если не считать четвертинок, уложенных вдоль плинтусов. Сосед периодически донимал его разговорами, но Костя отвечал сердито и односложно, поэтому спустя какое-то время сосед замолк и уткнулся в телефон. Наконец на пороге показалась встревоженная Диана, и были ее глаза туманнее прежнего. Она села рядом с Костей, каким-то обреченным жестом сложив руки на коленях — руки подрагивали.
— Тебя Муравьев зовет. Он говорит, что меня надо в ближайшее время госпитализировать, потому что я сама уже не справляюсь. Мой организм начинает уничтожать меня сам.
Костя вспомнил, как утром Диана ушла одеваться в ванную, только чтобы Костя не видел ужасных язв на ногах (язвы были от расчесанного до крови дерматита и со временем покрылись красной корочкой), впрочем, Костя, разумеется, все и так видел и знал. На руках тоже были расчесанные язвы, но не столь заметные.
— Тогда я пойду, — ответил Костя, вставая со своего места.
Он толкнул тяжелую пластиковую дверь и оказался в небольшом и довольно уютном кабинете Муравьева, где на письменном столе из светлого ДСП рядом с пыльным ноутбуком по-прежнему стояла золотистая кошка и приветственно махала блестящей лапкой. В момент первого Костиного визита была такая же кошка. Интересно, это та же самая или Муравьев просто каждый раз покупает новую? Муравьев тоже не менялся. Грузный, солидный, серьезный, точно морж. Вечно он сидел, положив локти на стол.
Костю обдало неприятной волной какого-то фосфоресцирующего, на грани сна и яви, словно галлюцинация, дежавю. Он только сейчас заметил, что на столе у психиатра по-прежнему лежит истрепанный, в мягкой обложке, томик Маркеса. «Сто лет одиночества». Примерно из середины книги торчит кокетливая розовая закладка. Положение этой закладки — мысленно Костя хлопнул себя по лбу — не менялось за десять лет. Костя читал мало книг — то времени не хватало, то глазам было лень наблюдать за хитросплетенными буковками, но вот Маркеса он буквально-таки проглотил, еще в студенческие годы.
Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед. Воскресенск-33 был тогда небольшим поселком из двадцати деревянных бараков с жестяными крышами, построенных вокруг нефтеперерабатывающего завода. Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия, и будущие воскресенцы просто тыкали в них пальцем.
Костя помотал головой, чтобы отвязаться от назойливых образов, и тут только заметил, что Муравьев уже довольно давно ему что-то объясняет. Тяжелое состояние — Костя все никак не мог настроиться на правильную волну — госпитализация… психиатрическая клиника… хорошая психиатрическая клиника… очень хорошая психиатрическая клиника… главврач… доктор Ползунов… мой хороший друг… чем скорее, тем лучше…
— Подождите, — Костя попытался сосредоточиться, — я правильно понял, эта клиника находится в Екатеринбурге?
— Да, вы правильно поняли. Мы с Яковом Витальевичем уже давно обсуждаем вашу супругу, и он уже давно предлагает ее госпитализировать. И сейчас, учитывая критическое состояние Дианы, самое время. Предлагаю нам устроить созвон в «Скайпе», и вы заодно познакомитесь с Яковом Витальевичем. Погодите минутку.
Муравьев подвинул к себе старенький ноутбук (провод потянулся за ним, как сломанная ветка), пощелкал клавиатурой и — вуаля! — победоносно развернул ноутбук экраном к Косте. А через пять минут в театре психиатрических военных действий появилось новое действующее лицо — доктор Ползунов, главврач больницы в Екатеринбурге. Ползунов оказался седовласым импозантным мужчиной, похожим на голливудского актера золотой эпохи кинематографа. Худое лицо, чело в благородных морщинах, полученных, очевидно, из-за большой заботы о пациентах, седые волосы, внимательный и умный взгляд спокойных серых глаз. На вид ему было лет пятьдесят, но могло быть и больше — мужчины подобного типажа очень красиво стареют. А может быть, это он только на экране так выглядел.
— Я не буду утверждать, что у нас вылечат вашу супругу, — Ползунов говорил приятным и спокойным голосом, немного искаженным микрофоном, — но ей станет определенно лучше. Собственно, лечиться она будет в десятом корпусе. Сложно называть один из корпусов психиатрической клиники элитным, есть в этом обозначении некий цинизм, но десятый корпус и в самом деле элитный. И если вы боитесь, что Диана будет лежать в одной палате с шизофрениками, буйными психопатами и лицами, возомнившими себя Наполеонами, то вы, Костя, слава богу, ошибаетесь, — Ползунов степенно замолчал, и тут в образовавшуюся паузу снова вклинился Муравьев, слегка развернув экран, чтобы его лучше было видно.
— В десятом корпусе в основном отдыхают… лечатся… реабилитируются, — он нерешительно пожевал жирными губами, — люди с э-э-э… зависимостями. Ну…
— Наркоманы и алкоголики? — резко перебил его Костя, которого атаковали с двух сторон.
— Не будем обобщать, — деликатный доктор Ползунов только всплеснул руками, изображение на экране замерло на секунду. — Там, между прочим, некоторые звезды кино и шоу-бизнеса периодически… реабилитируются. Думаю, вашу Диану нисколько не смутит тамошний контингент, скорее, он ее порадует. Насколько я знаю, она же бывшая манекенщица, не так ли? Ну вот, возможно, она и встретит кого-нибудь из своих… э-э… коллег. Более успешных. Или менее, это уж как посмотреть. Собственно. И там ей будут давать лучшие препараты, самые современные.
— Лучшие? — эхом отозвался Костя. — Самые современные?
— Именно-именно.
— И сколько же продлится это лечение?
— Две недели, — Муравьев воодушевленно потер пухлые ладони. — А потом — и тут начинается самое… м-м… интересное — потом мы отправим Диану в санаторий. Я уже и путевочку выбил-с. И за это тоже скажем спасибо доктору Ползунову.
Седовласый Кларк Гейбл довольно усмехнулся, но никак не прокомментировал эту реплику.
— Санаторий? А это зачем?
— Для поправки здоровья. Ну и для всяческого отдыха и скорейшего выздоровления. Санаторий, между прочим, в Башкирии.
— Места красивейшие, — поддакнул Ползунов. — Горы, озеро, воздух чистый, как дыхание младенца. Сам туда хочу, но времени нету. Работы много, сами понимаете.
— Я вас понимаю, Яков Витальевич, — общительно отозвался Муравьев и легонечко вздохнул.
Эти двое уже успели составить неплохой такой дуэт, судя по всему. Психиатры, что с них взять. Врачеватели израненных душ человеческих.
— Боже мой, — холодно ответил Костя, — я теперь сам хочу в Башкирию.
— И поезжайте! — Муравьев расплылся в довольной улыбке.
В тот дождливый вечер много-много лет назад природа словно сошла с ума или впала в депрессию. Именно в тот вечер — вот он, нулевой километр — Диана появилась на пороге квартиры Григорьевых, пьяная и напуганная. Все смешалось — Монтекки, Капулетти, — сюжеты переплелись корнями, создав чудовищную энтропию, и параллельные прямые (прости, Евклид) наконец-то пересеклись.
Сам Костя в тот вечер был с жуткого похмелья — отмечали окончание сессии, причем началось все еще в Екатеринбурге пару дней назад в одной компании, продолжилось в автобусе из Екатеринбурга в Воскресенск-33 уже в какой-то промежуточной компании попутчиков (из этой поездки Костя помнил только бутылку дагестанского коньяка и парня, который всю дорогу воодушевленно пел что-то вроде «На моей луне я всегда один, разведу костер, посижу в тени», а под конец чуть не расплакался, и Костя, мучимый дикими провалами в памяти, потому что коньяк, скорее всего, оказался паленый, так вот, Костя искренне надеялся, что этим парнем был не он сам) и закончилась в пивной на Маресьева (десять лет спустя там откроют первое в городе вегетарианское кафе, которое схлопнется через пару месяцев), поэтому, приползя домой рано утром, Костя закрылся в комнате, включил телевизор, чтобы под него поспать, и проснулся уже ближе к семи вечера — на СТС как раз показывали «Хорошие шутки», но Косте было не до смеха. Вот в этот момент и появилась Диана.
Костя так и не понял, почему он из спальни услышал, как кто-то звонит в дверь, а родители, которые сидели на кухне и ужинали, ничего не расслышали. Тем не менее именно Костя поплелся, убитый, со страшнейшей головной болью (в башке точно чугунный шарик перекатывался, от одного виска до другого и обратно), открывать дверь, и каково же было его удивление, когда на пороге он увидел Диану, мокрую, как мышь, с растрепанными волосами и в грязной джинсовой куртке — Диана уже успела где-то извозюкаться. Но примечательным в ней было даже не это — примечательным было то, что госпожа Диана Белогорская была вдрызг, в сосиску, просто по-гусарски, отчаянно пьяна. А в руке она держала ополовиненную бутылку дорогой текилы.
— Ой, — только и произнес Костя, приняв столь странное появление своей бывшей одноклассницы за похмельный бред.
Так, но если это похмелье, то почему сердце так екнуло? Екнуло и затрепетало в груди — разве ж от похмелья такое случается? За спиной послышалось суетливое шлепанье тапочек — это мама поспешила узнать, что происходит.
— Костя? — Диана словно удивилась, будто и не Костю она ждала увидеть, а кого-то другого, ее взгляд был стеклянным и пустым. — М-можно я зайду?
Костя, который боялся обернуться, услышал за спиной чей-то вздох, и скорее всего, это был батя, которого вовсе не привлекала перспектива увидеть пьяную Белогорскую в своей квартире. Он ее терпеть не мог.
— Тебе переодеться надо, — сказал Костя, пока Диана, шлепая мокрыми ногами — туфельки впору было выбрасывать, она оставила их в коридоре, — маршировала на кухню, упрямая и решительная.
Это была какая-то лихорадочная, очень напряженная решительность — решительность стрелы, которая сорвалась с тетивы и летит в цель.
— И горячий душ.
Но Диана, оставляя за собой мокрые следы, уже уселась за стол и водрузила бутылку напротив себя.
— Я у тебя переночую, хорошо?
В ее голосе почти не было эмоций, зато была сдержанность и отстраненность, и столь разительный контраст между ее спокойной интонацией и расхристанным внешним видом сбивал с толку. И еще эта бутылка текилы в сочетании с потекшей тушью, как будто она сбежала с празднования Дня мертвых.
— Да, конечно, — ответил Костя. — А что случилось-то?
— Меня из института отчислили, — сообщила Диана. — Отец сказал домой не возвращаться. Иначе он меня убьет. И я не сомневаюсь, что именно так он и сделает.
Она была пьяна как сто тысяч чертей, и при этом ее лицо хранило серьезное и даже скорбное выражение. Белогорская даже в анабиозе оставалась Белогорской.
— Срочно иди в душ и спать, — скомандовал Костя. — Завтра утром поговорим.
— Моя жизнь закончена, Кость, — ответила Диана. — Все. Кость, я умерла. Ты знаешь об этом? У-мер-ла.
— Диана! — Костя пододвинул стул и сел напротив.
— Мой самолет разбился, Кость. Ну… то есть. Я все.
В этот момент голос Дианы треснул, точно медная тарелка.
— Так, — Костя, которого начал чертовски пугать этот разговор, дотронулся до Дианиной руки. — Ты очень пьяна сейчас. Успокойся. Я отведу тебя в спальню, и…
В этот момент, очевидно, она заметила, что они на кухне не одни — где-то на заднем плане маячил Григорьев-старший, который, очевидно, сгорал от любопытства, тем самым нарушая все мыслимые и немыслимые нормы противопожарной безопасности.
— Ой, — сказала Диана чересчур громко. — Виктор… Виктор…
— Сергеевич, — донесся раздраженный батин голос.
Костя обернулся — отец и в самом деле был зол.
— Кость, — Дианино внимание, видимо, разрывалось, как будто она пыталась включить одновременно два канала на телевизоре и у нее не получалось, а еще голос ее звучал хрипло, точно она сорвала его на рок-концерте, — Кость, а ты знаешь, что это мой отец чуть не убил тогда твоего? Ну, знаешь, наверное… Виктор Сергеевич, ничего, что я это говорю?
— Ничего, — сквозь зубы процедил отец.
Белогорские против Григорьевых. Счет один — ноль в пользу Белогорских. Тут уж Костя замучился вертеть головой туда-сюда.
— Отведи ее спать, — приказал отец и вышел из кухни, прикрыв за собой дверь.
Костя понял, что Диану, скорее всего, придется тащить, а она будет упираться и лепетать что-то несвязное. Тем не менее он как-то донес ее до спальни, где она, как только приняла горизонтальное положение, тут же и уснула, прямо в одежде, прямо поверх одеяла. Ее волосы пахли сладким шампунем, но одежда провоняла чуть ли не болотной тиной и почему-то гарью, явно свежий маникюр был сколот, как будто она и в самом деле отбивалась от злоумышленников, — в общем, образ Белогорской в ту ночь был соткан из противоречий, но это была она: давно желанная, а теперь такая доступная, в грязных колготках, но все ж таки Диана. Это тоже сводило с ума.
Костя вернулся на кухню, там вовсю горел свет, и там сидел отец и сердито курил свой вонючий красный «Честер». В руках отец вертел крохотный беленький листочек, вблизи оказавшийся авиабилетом.
— Она из Челябинска прилетела, оказывается, — произнес отец. — Как она только добралась-то, это же далеко.
— Ну, судя по ее виду, она шла пешком, попутно отбиваясь от печенегов. Кстати, мне она только что сказала, что из Кольцово прилетела.
— Из преисподней она прилетела. Чтобы завтра утром ее не было, — отец поднялся со звуком скрипнувшего стула, подошел к окну и, открыв форточку, запустил холодного воздуха в душное помещение.
— Хорошо, — ответил Костя, и это короткое слово далось ему с большим трудом.
— Здесь ее быть не должно, — отец стоял вполоборота, освещаемый лучами фонарного света, точно актер на сцене.
— Завтра она проспится и уйдет, — пообещал Костя. — Но, если честно, не завтра. Завтра вряд ли — она, кажется, не только пьяная, она еще и дряни какой-то нажралась. Но…
Отец наконец-то повернулся к Косте лицом. Был он серьезен и сосредоточен, и Костя примерно знал, что ему сейчас скажут, — от этого легче не становилось.
— Не вздумай.
— Ты о чем?
— Не притворяйся. Я знаю, что ты в нее, — отец даже поморщился, когда произнес это «в нее», — со школы влюблен.
— И что?
— Послушай… — отец указательным пальцем потер лоб, будто это помогло ему сформулировать мысль, а Костя, мечтавший только о том, чтобы провалиться сквозь землю, надеялся, что это молчание продлится как можно дольше. — Эта семейка проклята, — произнес наконец-то отец.
— Стой! То, что сказала Диана сейчас, — это правда? Ты за это так ненавидишь ее отца? Девяностые уже закончилась, да и не виновата она, что у нее такие родители.
— От осинки не родятся апельсинки. И твоя Диана ничуть не лучше. Вот увидишь. Завтра утром она уйдет, хорошо? И больше ее ноги в нашей квартире не будет. Или ты хочешь, чтобы эта девушка испортила тебе жизнь?
— Не все так просто, — Костя напрягся. — Осинки, блин, и апельсинки. Ты в девяностые тоже убивал людей.
— И?
— Но я-то вроде апельсинка. Я пока еще никого не убил.
— Иди спать, — тоном футбольного комментатора, подводящего итог провального матча, произнес отец. — И завтра выпроваживай свою леди Диану.
— Слушаюсь, сэр, — ответил Костя.
Но он, разумеется, не послушался.
Фонтан посреди площади так и не починили, и стоял он, несчастный, ну просто груда бесполезных камней, местный Стоунхендж, а над этими камнями творилось настоящее броуновское движение из голубей, летавших хаотично, без какой-либо цели, но было в этой хаотичности какое-то свое очарование. Эти голуби словно бы передавали привет крикливым воронам с третьего кладбища. Этот фонтан никогда не починят. Не забьют из него упругие струи воды, которая, разбиваясь на мелкие осколки, будет взмывать в небо. Ничего уже не будет. Фонтан так же мертв, как и весь город. Мертвый, мертвый Воскресенск-33.
Шел дождь, и увесистые капли падали на асфальт, пузырясь и бултыхаясь в лужах. И это было вдвойне странно, потому что еще пару недель назад выпал первый снег. И в ту ночь, когда они с батей пили водку, тоже падал снег. Падал прошлогодний снег, очевидно. Глобальное потепление, говорите? Ну-ну! А может, просто городок затерялся в пространстве и времени и теперь плавает в потоке, будто окурок, который выбросили в канаву?
Костя поправил съехавший на затылок капюшон. А где же Векслер? Векслер все не появлялся, Костя основательно замерз, пока его ждал. Площадь перед зданием АДминистрации была запружена народом, точно ярмарка в праздничный день. Костя тоже был частью этой толчеи, но он чувствовал себя отщепенцем, отшельником, будто его вырезали из бумаги, точно аппликацию, да и пришпилили английской булавкой. Да, я отшельник, маг и волшебник, и если вы не мыслите цитатами из старых песен, то вы мало что понимаете в этой жизни.
Толпа состояла из отдельных единиц. Девушка с собакой — рыженьким шпицем, пушистым, точно облако с другой планеты, — приходится признать, что на нашей планете рыжих облаков не бывает. Девушка ведет собаку за поводок, а сама разговаривает по телефону. Собака то и дело озирается на окружающих, и в этом ее можно понять — мало ли что у них на уме, у этих окружающих, и кто вообще сможет объяснить, зачем они окружают. Мама с ребенком, девочкой лет пяти, наряженной в розовый непромокаемый комбинезончик, точно уральская кукла Барби. Парочка — девчонка в драных, не по сезону, джинсах и высокий нескладный парень в косухе. «Боже, как тут много живых людей!» — неожиданно подумал Костя, который привык уже к сумрачному пейзажу и сумрачным обитателям города.
Векслер появился так внезапно — он даже не появился, а нарисовался возле фонтана, защищенный от дождя черным куполом зонта. Ох, как странно и страшно. «Довольно странно слышать подобное от меня, — вспомнил он слова Дианы, произнесенные на лестнице. — Но я опасаюсь за твое психическое здоровье». Поздно уже. Впрочем — и эта мысль пронеслась со скоростью телесуфлера — еще не поздно уйти. Беспалевно свалить, пока не наломал дров. Пусть все останется по-прежнему: реальность в приглушенных тонах, тоскливая жизнь, бесконечные походы к Муравьеву, дурацкая работа в «Азии», разбитые надежды и утраченные иллюзии — пусть все это останется. В конце концов, живут же люди. Вот только никакого «по-прежнему» никогда и не было. По-прежнему — это до того вечера, когда на выезде из Воскресенска-33 разбилась ярко-желтая «Тойота-Целика», за рулем которой был Костя.
Векслер наконец-то заметил Костю и помахал ему, мол, заходи под зонт, тут сухо. Костя в пару прыжков очутился возле Векслера, опустил капюшон и только сейчас понял, насколько он промок. Впрочем, в микрокосме, созданном огромным зонтом, было относительно комфортно.
— Балакирев сказал, что ты хочешь со мной поговорить.
Только сейчас — раньше он не обращал внимания — Костя заметил, что Роберт Эдмундович говорит с акцентом. Он не мог понять происхождение этого акцента — Векслер выговаривал слова четко, размеренно, точно бросал зерна в податливую влажную почву, почти как диктор советского телевидения шестидесятых годов, отчего его речь звучала несовременно, но очень впечатляюще.
— Да, я хотел бы предложить вам сделку.
— Хочешь продать мне новый айфон? Я знаком со Стивом Джобсом, мой юный друг. Причем, разумеется, познакомился уже после его смерти.
— Нет, Роберт Эдмундович, — тихо сказал Костя. — Я хочу продать вам душу.
— О! — Векслер сделал вид, будто удивлен.
Да ни черта он не был удивлен, этот старый проныра и плут. Разве есть в мироздании что-то, что может удивить мэра крохотного уральского городка — городка, которого нет ни на одной карте?
— То есть, — Векслер заговорил еще медленнее, отчего акцент только усилился, — ты по какой-то прихоти считаешь, что мне нужна твоя душа?
— Я убийца. Могу быть вам интересен.
Векслер был так близко, что Костя ощущал слабый аромат парфюма, исходивший от его кожи, и видел, как гладко выбрит его подбородок. Это была феноменальная, почти микроскопическая гладкость. Векслер был на голову выше, и Костя смотрел на него снизу вверх.
— Пфф, — сказал Векслер, и воздух легонечко заколебался. — А тебе это зачем вообще?
— Диана, — Костя сглотнул слюну, показавшуюся ему ядовитой.
— Диана?
— Я хочу, чтобы она выздоровела.
Зонтик в руках Векслера неслабо так дернулся. Он что, потерял самообладание? Или он все понял? О боги. Скорее всего, он все понял.
— И в обмен на это ты предлагаешь свою бессмертную душу? — уточнил Векслер.
— Все верно, — ответил Костя так, как он отвечал покупателям в магазине.
— О, — сказал Роберт Эдмундович уже с другой интонацией. — А ты знаешь, что изъятие души… м-м… это довольно неприятный процесс? И под словом «неприятный» я подразумеваю «очень неприятный». Примерно как прыжок с десятого этажа. Точнее, сам прыжок — это еще ничего. А вот момент, когда будущий труп шлепается об асфальт и в теле ломается бесконечное число костей, вот только это длится не секунду, а, скажем, тысячу лет… Или как если бы роды у женщины длились бы вечность. Не фигурально выражаясь, мой драгоценный друг, а именно что вечность… Ты меня понял?
— Я готов ко всему, — решительно ответил Костя. — Мне в детстве аденоиды удаляли без наркоза. Медсестра привязала меня ремнями к высокому креслу, чтобы я не сбежал, а врачиха взяла щипцы, разинула мне рот и дернула.
— Аденоиды? — Векслер словно попробовал на вкус новое слово. — Что такое аденоиды и зачем их удаляют?
— Ах, пустяки, — ответил Костя. — Операция для богатеньких деток.
И вот он, Костя, снова стоял на сцене фантастического театра, красивый, облаченный в старомодную одежду, и пронзительный свет рампы выжигал сетчатку. Три ряда газовых рожков — это не шутка.
А на сцене собралась вся честная компания: Роберт Векслер, блондинистый фон Хоффман, герр Орднунг с волосами, разделенными на прямой пробор, черноволосый, как испанский гранд, пан Блаватский, опасный и яростный, точно выстрел в небо, а поодаль, как всегда поодаль, парил, не касаясь подошвами сцены, сам Арлекино, и был он прекраснее, чем обычно, хотя, казалось бы, быть еще прекраснее невозможно, его оранжевые волосы слепили сильнее, чем свет рампы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Костя знал, зачем он здесь. Ему было неловко. Векслер смотрел на него оценивающе, фон Хоффман — презрительно, Блаватский — как обычно, обжигающе, и только Арлекино делал видно, будто он ни при чем.
— Так ты готов к Сделке? — очень чисто, безо всякого акцента произнес Роберт Эдмундович.
Похолодало. Отчетливо похолодало. Уже и свет газовых рожков казался не таким обжигающим.
— Готов, — Костя еле разлепил спекшиеся губы. — Я должен что-то подписать?
Он зажмурился. Все происходящее было невыносимым. Поскорее бы, черт побери, закончилось!
— Жалкие бумажки? — взгляд Векслера был полон презрения, Косте показалось, будто он видит его насквозь. — Зачем они мне? Твоя душа и так в моих руках, и я всего лишь забираю то, что мое по праву, а ты так до сих пор и не понял. При всей своей суетности и хлопотливости ты достойный сын своего отца.
«А Диана?» — не успел спросить Костя, он успел только разинуть рот, а картинка снова начала распадаться на отдельные пиксели.
«Это что, сон? — промелькнули субтитры в Костиной голове. — Ну конечно же, это сон! И Векслер меня надул!»
Костя проснулся не сразу, он выдирался из сна с упорством самолета, взмывающего ввысь из облаков, густых и плотных, точно сладкая вата, и, просыпаясь, он увидел еще мини-сон, но в этом мини-сне была только черная пустота, а Векслера, и фон Хоффмана, и Блаватского не было, в этом-то и заключалась самая гнусная, самая тягостная жуть — не было никакой продажи души, не было никакой сделки, как не было никогда этой сцены, освещенной тремя рядами газовых рожков. Конечно же, понял Костя, это было сон. И Векслер его надул.
Костя — футболка, в которой он спал, промокла, будто он в ней душ принимал, — нехотя поднялся и присел на кровати. Рядом лежала Диана, повернутая вполоборота, в умилительной позе, подложив под щеку ладонь. Костя поднялся и получше укрыл ее одеялом. А потом взял в руки телефон, лежавший на тумбочке, и, как по команде, в тот же миг пришло сообщение:
Машина ждет тебя у подъезда. Поспеши!
Разумеется, это был Векслер. Костя второпях умылся, побрился, оделся — он еле удержал себя от того, чтобы нацепить пафосный костюм от Александра Маккуина, но потом передумал и выбрал брюки, рубашку и пиджак, в которых он ходил на работу — ну, когда у него еще была престижная работа, а не лакейство в «Азии-Мобайл». А возле подъезда Костю ждал неизменный «Кадиллак-Эскалейд», за рулем которого был слепой, как крот, Аристарх Левандовский. Приехали к белому особняку Векслера. При дневном свете он еще больше был похож на санаторий где-нибудь в центре Сочи.
И только когда в распоряжении Всеволода Блаватского, знаменитого на весь Петербург-Петроград картежника и пропойцы, славного малого, оказалась вечность, настоящая, не разбавленная ничем вечность, вечность в услужении темным силам, — только тогда он понял, как скоротечно, несправедливо скоротечно время. Вот ты проводишь вечера в компании пьяных соблазнительниц, пахнущих духами «Шалимар», и восхитительный шлейф не успевает рассеяться, а ты уже возлагаешь траурные цветы к их уродливым надгробиям, и все это происходит за секунду, не успеваешь привыкнуть, и снова — китайский гонг, набат, воздушная тревога — тебя кидает в водоворот, и ты, захлебываясь шампанским, пытаешься удержать, насильно удержать эти своенравные секунды, и не получается — вечность берет свое. Но полноте, господину Блаватскому грешно было жаловаться. Не об этом ли он, бледный ребенок декаданса, мечтал еще при жизни, устраивая спиритические сеансы, вверяя свою судьбу бестолковым картам Таро, увлекаясь некромантией, теургией и астрологией, пытаясь найти логичное в безумном? И вот он, Всеволод Блаватский, погибший так рано и так нелепо, на службе у самого Роберта Векслера; играет в покер с занудой фон Хоффманом, который вечно проигрывает, потому что не умеет блефовать, тем самым фон Хоффманом, с которым он однажды поссорился из-за диджея (ну мыслимо ли это, диджей на вечеринке — боже, какое отвратительное слово, — диджей вместо настоящего оркестра), но потом помирился, так уж и быть; веселится до упаду в компании красавиц, которые больше не пахнут старомодными духами; имеет возможность лицезреть Арлекино, хотя, по правде говоря, никто не знает, как этот самый Арлекино, в прошлом бродяга без гроша за душой, попал к Векслеру.
Господину Блаватскому грех было жаловаться. И все ж таки его нет-нет да и колола ревность. Например, к этому смазливому провинциальному юноше, который сумел так завладеть вниманием господина. И чем он заслужил такой интерес?
Роберт Векслер из Костиного сна утверждал, что ему не нужны никакие бумажки. В реальности же Костю заставили прочитать и подписать целую кучу документов, среди которых был «Договор о безвозмездной передаче 1 (одного) экземпляра души от Смертного Григорьева Константина Викторовича (далее — Смертного) господину Векслеру Роберту Эдмундовичу, исполняющему обязанности Владыки Темного Мира, Сатаны сроком неопределенным (далее — господину Векслеру Р. Э.) с целью, исключающей, согласно пункту 1.4. «Устава о передачи метафизических субстанций от Смертных», любое коммерческое использование оной, во веки и присно».
Священнодействие (а можно так сказать о договоре с Дьяволом?) происходило в кабинете Векслера, том самом кабинете, где Костя, убитый и ошарашенный новостью о том, что он вообще-то жестокий убийца, стоял, дрожа от холода и страха, смотрел в холодные Векслеровы глаза, давя из себя вымученную улыбку, пытаясь изо всех сил показать, как ему понравилось на вечеринке, а Векслер, этот неумолимый палач, все издевался. Да, это все происходило в небольшом кабинете с пыльными портьерами. Помимо Векслера тут ошивался и неизменный помощник и компаньон, обаятельный мерзавец Блаватский, и хищно скалился, обнажая белоснежные очень острые зубы. Костя боялся этого проходимца едва ли не больше, чем самого Векслера. Блаватский-то и подавал Косте документы на подпись, подавал весело, пританцовывая, точно официант в каком-нибудь сомнительном белогвардейском ресторане, напевая что-то типа «бессаме, бессаме мучо».
А Векслер сидел за столом, горделивый и важный, и ел дорогие испанские маслины прямо из огромной банки. Он засовывал пальцы в эту банку, вытаскивал оттуда маслину размером с добрую сливу и спокойно, с явным удовольствием ее пережевывал. Костя до той поры еще сомневался в дьявольском происхождении Векслера, считая его шарлатаном и обманщиком, но теперь, видя, с каким наслаждением тот уничтожает маслины (маслины! Маслины, черт побери! Ну какому человеку в здравом уме и твердой памяти могут понравиться маслины и горький шоколад!), ни секундочки не сомневался в том, кто такой Роберт Векслер.
— А подписывать надо кровью? — поинтересовался Костя, читая витиеватые и не очень-то понятные строки договора и подспудно жалея о том, что не стал поступать на юридический, а выбрал бесполезную в спорах с Дьяволом мировую экономику.
— Нет.
И Костя поставил свою крохотную, отчего-то очень робкую подпись.
— И дату не забудь.
— Сегодняшнюю?
Векслер недовольно закатил глаза и на миг стал похож на тетеньку из типичного постсоветского госучреждения: «Молодой человек, вас много, а я одна».
Потом Костя подписал договор о неразглашении Великой Тайны в двух экземплярах. Потом «Приложение к договору № 1.1. Отказ от ответственности». Потом «Договор о неразглашении данных».
— Тут слово «данных» с одной «н» написано, — заметил Костя, сосредоточенно грызя колпачок обычной шариковой ручки.
— О боги, — Векслер снова закатил глаза и протянул лист договора с неправильно написанным словом Блаватскому, который в данный момент дежурил у него за спиной, периодически посверливая умотанного юридическими тонкостями Костю своим фирменным испанистым взглядом.
Блаватский взял в одну руку договор, другой лихо покрутил ус, затем легонечко, будто задувая свечу на именинном пироге, подул на бумагу. И все это он проделал, продолжая вполголоса напевать. Векслер, не оборачиваясь на Блаватского, забрал у него исправленный договор. Костя проверил. Слово «данных» теперь было написано как следует.
— Что ж, желаю тебе удачи, — произнес Векслер.
Разумеется, в его светлых ядовитых глазах не было ни капли сочувствия. Да и странно было бы искать милосердия в глазах самого Дьявола — Дьявола, которому ты вот только что, вот только в эту секунду продал свою бессмертную душу.
— Надеюсь, ты переживешь эту ночь, — напутствовал Роберт Векслер. С этими словами он поворотился на каблуках и через несколько шагов очутился возле двери. — И учти, мой юный друг, — сказал он так тихо, что Костя едва расслышал, — я тебя предупреждал, — сказав эти слова, Векслер исчез, деликатно притворив за собой тяжелую дубовую дверь.
«Да что может случиться-то?» — растерянно подумал Костя.
Он оглядел кабинет — кабинет, в котором ему предстояло провести целую ночь. Какое-то время ничего не происходило — Костя даже удивился. А потом слегка закружилась голова и предметы утратили привычные очертания, став эфемерными и зыбкими. Похоже было на состояние легкого опьянения. А потом эти же самые предметы съехали с катушек и начали вращаться перед глазами, словно картинки в калейдоскопе. Косте пришлось схватиться за стол, чтобы не грохнуться. Но и это не помогло — к головокружению добавилась внезапная слабость, будто бы сахар упал до критической отметки. А пульс… пульс превратился в ритмичное беснующееся нечто.
Костя все цеплялся за стол, как утопающий за соломинку, но тут хлипкая опора не выдержала и потолок начал заваливаться. Потолок, а вместе с ним и увесистая люстра, и стены начали сжиматься, и в результате всей этой пространственной аномалии Костя обнаружил себя лежащим навзничь на холодном полу. Тело его будто одеревенело, он не мог пошевелиться, руки и ноги сделались каменными. Вскоре потолок, украшенный лепниной, начал отодвигаться и отодвигаться, и улетел куда-то вниз, и растворился в дружественных слоях атмосферы. Костя очутился будто в зрительном зале — при этом тело его положения не меняло, он как лежал навзничь на холодном паркете, так и остался лежать, а сцена словно бы нависла над ним.
«Ох, как же они любят все эти эффекты театральные!» — бегущей строкой пронеслось в Костиной голове.
Через какое-то время — Костя не мог определить, секунда прошла или десять тысяч лет, — на сцену вышли дети лет семи. Девочки в длинных серебристых платьях, будто подсвеченные изнутри, и мальчики в белоснежных шелковых одеяниях. Дети были настолько прекрасны внешне, настолько совершенными были их полупрозрачные лица, настолько одухотворенными были их глаза небесно-голубого цвета, настолько нежными и тонкими, будто стебли диковинных растений, были их руки, что Костя почувствовал внезапную боль в сердце от нахлынувшей на него серебристой красоты. И дети запели. Легонечко — запел сначала солист-мальчик, потом за ним потянулись другие. Пели они «Аве Мария». Пели негромко, нежно, слаженно, будто единый организм. «Это они с моей душой прощаются», — грустно подумал кто-то, кто транслировал мысли в Костину голову.
То были мгновения настоящего, почти запредельного, щемящего, как ком в горле, как начинающиеся рыдания, счастья. Костя никогда в жизни не испытывал подобного счастья. Ему не хотелось, чтобы дети уходили со сцены, не хотелось, чтобы они переставали петь, не хотелось, чтобы эта кристальная эйфория заканчивалась. Он растворился в этом мгновении, точно лед в бокале мартини, распался на атомы, стал частью этого момента, чтобы возрождаться в этих ангельских звуках, и возрождаться, и возрождаться, и возрождаться, не помня себя, не зная своего имени, не понимая, где кончается жизнь и начинается смерть.
Но настал момент, когда музыка смолкла и дети замолчали. Их серебристые силуэты начали таять. Вскоре сцена опустела. Костя закрыл глаза — в ушах по-прежнему продолжала звучать ангельская музыка, но все тише, и тише, и тише… Он снова открыл глаза и увидел только потолок. Костя попытался встать — очень он испугался, что потолок рухнет на него и похоронит под своими обломками. Слабость была неимоверная — кое-как он приподнялся на локте, присел, превозмогая головокружение, осмотрелся. В комнате было темно — горела только керосиновая лампа в дальнем углу. Окна были наглухо зашторены. Костя кое-как поднялся, привычно цепляясь за ножку стола. Тихо было так, что Костя отчетливо слышал биение собственного сердца.
«Что же я наделал? — это снова бегущая строка. — Что же я наделал?»
Позже, вспоминая об этой ночи, Костя так и не смог понять, в какой именно момент в его сознание протек страх, холодный, липкий, будто кисель, тягучий страх. Наверно, сразу после того, как ушел хор детей, певших «Аве Мария».
— Я один против чертового Мироздания, — вслух, не боясь, что его услышат, произнес Костя. — Я внутри черной дыры, которая засасывает меня, точно болото.
Векслер предупреждал, что будет плохо. Векслер предупреждал, что будет страшно, и мерзко, и гнилостно. Но он не предупреждал, что это будет как полет с сорокового этажа, полет длиной в бесконечность. Темнота. Первозданная бесконечная темнота. Космическая агония вселенского ничто. Во Вселенной так много предметов, тогда почему ты так одинок?
Первобытный хаос. Липкий страх. Полустершиеся цитаты на латыни, все одинаково бессмысленные: «Vive ut vivas», «Cupido atque ira consultores pessimi», «Gaudeamus igitur».
Рефлексия затягивает, как болото. Кто мы, зачем мы здесь, куда мы идем — полноте, век вчерашний, для начала надо выяснить, кто Я, ведь Я же являюсь мерой всех вещей. Закончусь Я — закончится Вселенная, которая до меня и не существовала.
Тяжесть. Звуки марша. Чьи-то голоса, приглушенные и строгие, много слов, все слова налиты смыслом, точно спелые яблоки соком. Ihr beiden die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden sagt was ihr wohl in deutschen Landen von unsrer Unternehmung hofft… черные капюшоны и факелы… уважаемые пассажиры, остановка Гете, следующая остановка — Уильям Шекспир… Весь мир — театр, театр называется «Глобус»… Опять Шекспир… Везде Шекспир, повезло человеку с антрепренером… Офелия… о нимфа, помяни мои грехи… — пр-роклятие! — в твоих святых молитвах! Как сложно забыть то, чего никогда не было.
О, сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Какая-то мировая скорбь, право слово. В начале было слово, и слово было убого. Красота предсказуема, смерть неизбежна, и только боль остается навсегда. Боль и немного музыки. И эта музыка будет вечной, потому что скрипка и немного нервно, а если нервы на пределе, прими феназепам.
А как же счастье? Счастье есть? Не все же время страдать, не правда ли? Южная ночь, теплый летний ветерок, находим удовольствие в простых вещах, а то свихнемся. Felicita — e tenersi per mano andare lontano la felicita la felicita e il tuo squardo innocente in mezzo alla gente la felicita… Радуемся-радуемся, молодость закончится, придет зрелость, потом старость — на старости некогда будет радоваться, Альцгеймер не позволит.
Какое нам дело до падающих стен и попранных империй, до поверженных башен и горящих самолетов, до идолов, сброшенных с пьедестала, — нет никакого дела, господа присяжные заседатели. Лед тронулся, ледники растаяли, пора, товарищ Ной, браться за постройку ковчега, главное, нанять правильных подрядчиков, а то ковчег постигнет судьба Титаника, а воздушный змей станет дирижаблем «Гинденбург».
Отдельные вспышки, точно блуждающие огни. Память фрагментарна и любит искажать события. И ложки, сами понимаете, нет. И все мы снимся Черному Королю, а он, засранец эдакий, храпит который год. Отдельные цитаты пробиваются, как сигналы радиосвязи в рубку тонущего корабля. Старые фолианты с пожелтевшими страницами и волны пиратской радиостанции.
Die Nacht ist feucht und stürmisch
Der Himmel sternenleer
Im Wald unter rauschenden Baumen
Wandle ich schweigend einher.
Eins. Hier kommt die Sonne…
Костя так и лежал на полу, омываемый незримыми волнами вселенской скорби, умирая от слабости. В голове нон-стоп крутились непонятно откуда взявшиеся цитаты на языках, которых он не знал, какие-то обрывки мыслей, и этот бесконечный процесс он никак не мог контролировать — сознание (и подсознание, вероятно, спасибо дядюшке Фрейду) будто выворачивало наизнанку, и бог знает как много дряни там скопилось. Ни одна из мыслей не принадлежала непосредственно Косте, ни одну из цитат он бы не смог воспроизвести, да что там воспроизвести — прочитать; так и лежал он, безгрешное дитя постмодерна, как наркоман во время бэд-трипа.
«Я должен отсюда выбраться! Я должен, черт побери, отсюда выбраться!»
И тут начался кошмар. Ночь. Фонари. Дальние отсветы проезжающих машин. Пустая дорога. Костя так и не понял, как сюда попал. Разумом он понимал, что по-прежнему находится в кабинете Векслера, но физически… физически он находился где-то на задворках Воскресенска-33 — вдали виднелись зыбкие пятиэтажки, и в некоторых окнах горел бесполезный электрический свет. А потом Костя увидел их. Убийц. Он сразу понял, что это убийцы: воспаленное сознание, находящееся по ту сторону реальности, мгновенно считывало сигналы опасности. Черные силуэты. Костя стоял под одним фонарем, а четверо убийц — под следующим, поэтому их было видно. Он не знал, из какого мира они прибыли, возможно, они не принадлежали ни одному из миров. И надо бы дать деру, убежать от них, но вот беда: пятки словно приклеились к асфальту, а ноги одеревенели. А это им и на руку, опасным убийцам черт знает из какого угла мироздания.
«Я в кабинете Векслера, — сказал себе Костя. — Я вижу что-то типа сна. Это все не по-настоящему». Однако же страх, иррациональный, не поддающийся объяснению, был настоящим. А еще — и это было уж совсем запредельно — убийцы в черном что-то говорили Косте. Точнее, он не слышал их слов, да это и не было нужно — их мысли передавались прямо в его голову. А помнишь, что произошло на этом перекрестке? Кровь… боль… крики о помощи… Человек, которого избивала толпа, молил о помощи, но никто не пришел. Но почему этот человек оказался на перекрестке? Внезапно Костя понял, что это не убийцы в черном транслировали в его башку свои мысли — это он сам их думал. И стало еще страшнее. И тут наконец-то его ноги отлепились от асфальта, и он бросился бежать. А убийцы пустились вдогонку. Костя бежал что есть мочи, подгоняемый ветром, задыхался, и вот уже в боку закололо, как на уроке физкультуры, а убийцы все не отставали, но он понимал, что бежать надо, надо бежать, иначе люди в черном настигнут и произойдет непоправимое… Внезапно Костя, у которого почти не осталось сил, понял, что так и остался на перекрестке.
И в этот момент морок рассеялся, и он снова обнаружил себя лежащим на холодном паркете. Он кое-как поднялся. Память подсказала: на том перекрестке жестоко избили Егора Крапивина, бывшего возлюбленного Дианы. Он был гордостью школы, подающим надежды хоккеистом, но потом стал инвалидом. Диана Григорьева, кстати, тоже получала за инвалидность. Каждый месяц на ее счет в Сбербанке приходила сумма в размере десяти тысяч рублей. Как и в случае с Егором Крапивиным, тут не обошлось без физического увечья. Вот только о Крапивине судачил весь город. О том, что на самом деле произошло с Дианой, не знал никто.
Костя Григорьев, как он думал, женился на самой красивой девушке Воскресенска-33 — Диане Белогорской. Эта красота была даже официально задокументирована — в одиннадцатом классе Диана победила в конкурсе «Мисс Воскресенск». Газета «Воскресенский рабочий» посвятила этому событию первую полосу. На фото была увековечена улыбающаяся Диана, державшая в руках букет пунцовых роз. Впрочем, модельную карьеру Диана так и не сделала — после школы ее отправили в Москву учиться на экономиста. Но уже год спустя посрамленная Диана, так и не справившаяся с учебной нагрузкой, навсегда вернулась в родной Воскресенск-33, чтобы выйти замуж за человека, который сох по ней еще со школьных времен, взять его фамилию и переехать вместе с ним в новенькую квартиру на Фестивальной, 2 — квартиру, которая впоследствии пропитается скорбью и унынием. Впрочем, молодожены еще об этом не знали.
Костя Григорьев женился на самой красивой девушке Воскресенска-33, ни сном ни духом не ведая о том, что красота эта соткана из боли, а сама Диана поражена тяжелейшим недугом. Да, он понял, что у Белогорской проблемы с алкоголем — ее бесславное возвращение в город пахло дорогой текилой, той самой текилой, что она пила, сидя на кухне, напуганная и промокшая до нитки. Но такое состояние можно было оправдать: погодите-ка, с кем не бывает, отчислили из института, отец убьет, страх и отчаяние — с ними надо как-то бороться. Но чуть позже, уже после свадьбы, Костя понял, что дело тут вовсе не в алкоголе. Это произошло спустя пару месяцев со дня свадьбы — они только-только переехали в новенькую квартиру, где отремонтированы были только кухня и коридор, а в гостиной и спальне еще вовсю шли ремонтные работы, и сосредоточенные узбеки (все они работали у бати) орудовали скребками и шпателями, штукатурили, шпаклевали и красили стены, воевали с подложкой, застилали ламинат, ворочали плинтусы, переругиваясь на узбекском, и каково же было их удивление, когда Костя, который чуть-чуть знал татарский, главным образом из-за Давлетшиной, оказалось, немного понимал их узбекский, и как потом, после обнаружения этого факта, дела с ремонтом сразу пошли заметно веселей.
Косте с Дианой приходилось иногда ночевать прямо на кухне. И вот в одну из таких ночевок, когда из свежепокрашенной гостиной несло «Тиккурилой», Диана рассказала о том, почему ее не было в школе один год. Оказалось, что Диана не учиться ездила — она год пролежала в платной клинике, где ей вытягивали ноги с помощью аппарата Илизарова, поскольку оказалось, что для модельной карьеры она была недостаточно высокой.
— Как это — вытягивали? — спросил тогда Костя, даже не представляя, насколько кошмарным окажется ответ. Видимо, какие-то специальные упражнения, какая-нибудь физкультура для тех, кто хочет вырасти?
— Сначала тебе производят остеотомию большой и малой берцовых костей, — ровным тоном сообщила Диана, будто читая доклад по биологии.
— Что производят?
— Ломают большую и малую берцовую кости, — пояснила Диана, не меняя тона, как будто и не о ней шла речь. — Тебе ломают ноги, потом вставляют спицы и на ноги надевают специальное приспособление, — добавила Диана. — Эта конструкция называется аппаратом Илизарова.
— Ломают ноги? — переспросил, не веря своим ушам, Костя. — Без наркоза?
— Шутишь? Конечно, был морфин. Не в этом суть. Мне по ночам казалось, что я слышу, как спицы трутся о костную ткань. А еще эти скомканные клочки окровавленной ваты, как при пулевом ранении, и запах спирта, и запах больницы, но это еще не самое страшное. В них нужно ходить, понимаешь? Берешь костыли и хуяришь. А когда у тебя сломаны две ноги… Ну такое. Я чувствовала себя циркачкой — знаешь, которые ходят на ходулях. А самый ужас был, когда спицы соскакивали, и вся простыня окрашивалась кровью, потому что кожа рвалась.
— Стой! Стой, Диана! Стой, — сказал тогда Костя.
Он почувствовал, как тошнота болезненным комком подкатывает к горлу. И сначала даже не понял, что его так обескуражило: ужасы, о которых рассказывала Диана, или ее спокойный, даже отстраненный тон.
— Но ради чего все это?
— Ради того, чтобы я стала выше, — спокойным тоном ответила Диана. — Ради карьеры, солнце мое. Для полноценной карьеры мне не хватало пары-тройки сантиметров, так говорили в агентстве. Надеялись до последнего, но потом поняли, что я больше не вырасту. Это было фатально.
— Почему твои родители не отговаривали тебя?
— Это была папина идея, — опустив ресницы, ответила Диана и, словно пытаясь нащупать новую тему, закинула пробный камень. — У него был приятель, чья любовница захотела стать повыше, от него-то он про клинику и узнал. Вот меня туда и запихнули. Не поверишь, но я там даже в девушку влюбилась. Ее звали Злата, и она была постарше меня. Она в детстве подхватила какую-то костную инфекцию, и правая нога стала короче левой. Мы с ней тайком курили в туалете и даже, представляешь, целовались по-взрослому. Ну то есть я до этого вообще ни разу не целовалась, я восьмиклассница же была. Она раньше уехала, чем я, я еще три месяца после нее торчала на реабилитации. Я очень по ней скучала. И… помню, как мы летели из Москвы, когда все закончилось, и я всю дорогу мечтала о том, чтобы наш самолет разбился.
— Диана, погоди, — остановил ее Костя, все еще пытавшийся вникнуть в смысл сказанных ею слов, — ты же в итоге бросила модельный бизнес?
— Отец запретил.
— Но он же и…
— Наслушался историй о том, как девушек заставляют заниматься проституцией.
Он всегда знал, что папаша Белогорский — садист. И никогда не сомневался, что несчастного Крапивина избили по его указке. Но все, что рассказала Диана, было за гранью добра и зла.
Костя знал не понаслышке, на какие жертвы идут девушки в погоне за красотой. В его группе училась Ласточкина, которая на четвертом курсе увеличила себе грудь до четвертого размера, причем там история была мутная, кажется, она стащила деньги у отца, он эти деньги собирал на машину, потом Ласточкина взяла академ и, по слухам, стала встречаться с каким-то челябинским криминальным авторитетом; пару месяцев Костя встречался с Аленой, ее фамилию он забыл, которая делала ринопластику и охотно делилась жутковатыми фотографиями, сделанными на кнопочную «Нокию»: на этих фотографиях Алена была с перебинтованным лицом и кровоподтеками под глазами; многие Костины знакомые что-то себе увеличивали, уменьшали, отрезали, пришивали — какой-то кровавый парад красоты и уродства, по-другому не скажешь. Но Диана с этой ее жуткой историей переплюнула, кажется, всех.
Внезапно Косте стало намного лучше. Он кое-как поднялся, держась за стол, как утопающий за соломинку, и некоторое время постоял, переводя дух. В голове крутились обрывочные мысли, какие-то образы, точно призраки, которые хлопочут и все никак не могут обрести покой. Белогорский, жестокий садист и психопат. Егор Крапивин, несчастная окровавленная жертва. Диана, еще одна жертва садиста. Ее ненадежная и хрупкая красота. Красота, которую всенепременно надо было спасти и сберечь. Сберечь, сберечь, держать и никогда-никогда не отпускать.
Мир жесток. Он бьет под дых, калечит тяжелыми «гриндерсами», отбивает печень, делает из тебя инвалида. Ломает кости, которые надо потом восстанавливать аппаратом Илизарова. Мир жесток и полон опасностей. Нельзя, чтобы Диана осталась наедине с этим миром, нельзя. Ее надо спрятать, как прячут самое дорогое и хрупкое сокровище. И лучшим местом для того, чтобы спрятать невозможное, оказалась квартира на Фестивальной, 2.
«Ну что, господин Векслер, — задорно подумал Костя, — попались? Я пережил эту ночь».
Сердце еще стучало в груди, как ненормальное, а дыхание было сбивчивым, будто Костя только что вынырнул на берег. Но в общем и целом жить хотелось. Костя вышел из комнаты в коридор, где и встречен был хмурым фон Хоффманом, который, судя по всему, ждал его под дверью.
— Вы все? — как всегда лаконично поинтересовался фон Хоффман.
— Да, как ни странно, — Костя, лишившийся души, внезапно ощутил невиданный прилив бодрости, какой бывает после чашки крепчайшего эспрессо.
— Машину подать? — фон Хофман не расставался с привычкой выражаться короткими предложениями.
— Спасибо, я доберусь пешком, — ответил Костя, которому совершенно не хотелось маяться в душном, насквозь пропахшем дорогим парфюмом салоне машины, тем более со слепым водителем за рулем.
Костя покинул особняк на рассвете. «Надо же, ночь целая прошла!» — не без удивления заметил он. Отчего-то ему показалось, что он пробыл в комнате Векслера менее получаса.
Городок оживал, просыпался. Костя шел знакомыми улицами, и все они ему казались странными и неведомыми, будто изменился Воскресенск-33 за ту ночь, что он провел в особняке мэра. Впрочем, дом на Фестивальной, 2 не изменился — все та же панельная девятиэтажка, на первом этаже которой приютились «Магнит» и крохотный магазинчик, где по ночам продавали алкоголь в непрозрачных черных пакетах в золотую полоску и где работала улыбчивая продавщица Алена. «Боги, я душу дьяволу продал! — изнывая от унылости городского пейзажа и полного несоответствия ситуации, подумал Костя. — Ну какой, к черту, магазин!»
Войдя в подъезд, Костя не стал дожидаться лифта, а быстренько поднялся на четвертый этаж по лестнице, с грустью миновав то самое «место силы» между вторым и третьим этажами, где они с Дианой сидели и курили тонкие сигареты. Открыл входную дверь, стараясь шкрябать ключом как можно тише, и разулся, пытаясь не издать ни одного громкого звука. В приподнятом настроении Костя зашел в квартиру, но едва он поставил ботинки на полочку в прихожей, как это приподнятое настроение улетучилось, сменившись необъяснимой тревогой. На улице уже давным-давно рассвело, а в спальне был зажжен свет — сквозь тоненькую щелочку вытекало ненужное электричество.
Костя тут же одернул себя за бессмысленный приступ тревоги — мало ли, Диана заснула, забыв выключить свет, с кем не бывает, тем более что Диана редко спала без снотворного, а сон после снотворного, как известно, болезненно крепкий и глубокий. Но эта струйка света из спальни пугала. Не должно было здесь быть этого света. И Костя, ругая себя за малодушие и нерешительность, тихонечко отворил дверь в спальню. И когда увидел Диану, то на краткий миг потерял способность дышать. Он нерешительно подошел ближе, еще ближе, а потом присел на край кровати.
— Векслер, — вслух произнес он, не боясь, что кто-либо услышит. — Векслер, мать твою, что это значит?
На кровати лежала Диана, прекрасная и тонкая, как восковая кукла, глаза ее были закрыты, будто она спала, а руки, тонкие, неестественно тонкие, были смиренно сложены поверх одеяла, и чем больше Костя смотрел на мертвую Диану, тем сильнее темнело в глазах, и на краткий миг его зрением завладела кромешная тьма, и в этой тьме он слышал неравномерный стук своего сердца, точно испорченный метроном, и молил Вселенную, чтобы только это сердце остановилось и перестало стучать, а оно все не переставало и не переставало. Когда темнота рассеялась, Костя снова увидел то, что видел прежде, — мертвую Диану, похожую на диковинную восковую куклу. Костя дотронулся до безжизненной руки — та была холодна, точно и не рука это была вовсе.
— Векслер! — воззвал Костя к единственной высшей силе, которую знал по имени. — Векслер, какого хрена ты наделал!
Какое-то время Костя сидел, смотря в потолок, и не мог даже вдохнуть — ему казалось, будто грудную клетку закатали в цемент, и с каждой секундой этот цемент давил все больше и больше. Наконец Костя рухнул на безжизненное тело, прижался лбом к мертвой груди, ненавидя себя за то, что в этот скорбный момент, когда хотелось плакать и кричать, проклиная мироздание, его убогое тело не в состоянии было воспроизвести ни звука. А тело покойницы становилось все тверже, и тверже, и тверже, и наконец Костя, к которому начало возвращаться сознание, обнаружил, что лежит лицом вниз на холодном паркете, и никуда из комнаты Векслера не выходил, и продолжает там находиться, и ночь не закончилась, и не было никакого рассвета, и вряд ли вообще этот рассвет когда-нибудь настанет.
Векслер опять надул. Вот чертяка. То убийц в черном подсылает, то мертвую Белогорскую. Одно слово — мэр. Им нельзя верить, этим мэрам. Костя кое-как, опираясь на затекшие руки, ставшие ватными, приподнялся на локтях, представляя, как же мерзко и жалко он, наверное, выглядит со стороны — точно пропащий забулдыга, которому дали денег на водку. Внезапно скрипнула дверь, и этот звук показался Косте до того неестественным и чужеродным, будто и не было никакой двери в комнату, и не могло быть никогда. Костя попытался привстать, превозмогая мучительную слабость, и кое-как ему это удалось, несмотря на стойкое ощущение, будто по его телу проехались катком, а голову еще и размозжили отбойным молотком. На пороге появился Векслер.
— О, ты жив, — будто бы удивленно спросил он, заходя в комнату.
Костя попытался было ответить, но язык прилип к нёбу, будто его приклеили клеем «Момент». Векслер бодрым шагом пересек комнату и, дернув за веревку, приподнял плотные шторы, железным занавесом не пускавшие в комнату дневной свет.
— Ой! — это было первое Костино слово.
Он зажмурился от мучительно яркого дневного света, но это не сильно помогло.
— Да ты присядь, чего ты маешься, — сердито произнес Векслер и указал на маленький кожаный диванчик, спинкой прислоненный к стене.
Мгновение назад, разумеется, этого диванчика здесь не было. Костя еле-еле, опасаясь потерять сознание и рухнуть на паркет, дополз до этого диванчика и в полном изнеможении плюхнулся на мягкое кожаное сиденье.
— Не ожидал, что ты выживешь, — сообщил Векслер, наливая в стакан воды из графина. — Я, кстати, фон Хоффману тыщу баксов проиграл. Он ставил на то, что ты выживешь, вот ведь каналья! На, выпей воды.
Векслер подошел к Косте и протянул ему стакан воды. Костя взял этот стакан трясущимися, как после перепоя, руками и, ежесекундно боясь его уронить, начал пить холодную вкусную воду судорожными глотками, и чуть было не подавился.
Постепенно комната стала наполняться гостями. Первым вошел — нет, скорее влетел — неземной, прекрасный до умопомрачения Арлекино; он был при параде: новенький фрак, пошитый строго по фигуре, отутюжен, волосы хоть и торчат во все стороны, но видно, что расчесаны. Вот она, необъяснимая и невозможная красота! Потом заявился разбитной и развязный Блаватский. Постоял, покрутил черный ус, бесцеремонно пожирая Костю глазами. Чуть позже зашел обер-церемониймейстер фон Хоффман с неизменной прилизанной причесочкой и в дурацких очках. Он, по своему обыкновению, смотрел на Костю как на дерьмо. Взгляд его холодных светлых глаз был полон снисходительного презрения. А потом явились Ника Тауберг и Ясмина Керн. А потом пришел убийца-душегуб, звезда канала НТВ — но это уже совсем другая история. Потом пришел невзрачный худосочный малый, и Костя сразу понял, что это диджей с векслеровской вечеринки. Костя все ждал Дейзи, застенчивую порнозвезду, но та не явилась, очевидно, ее обида была слишком сильна. И все эти люди, очевидно пришедшие поздравить его с успешной сделкой, смотрели на Костю во все глаза.
Первой спохватилась Ника Тауберг. Она подлетела к виновнику торжества и порывисто обняла, плотно прижавшись к нему всем телом. От нее пахло бабл-гамом. И только Ясмина — она подошла и легонечко похлопала подругу по спине — сумела разрушить идиллию. Сама же госпожа Керн обниматься не полезла, ограничилась тем, что протянула руку для поцелуя. От нее, как всегда, пахло формалином.
— Так, — Векслер на время обнимашек отошел в дальний угол комнаты и теперь стоял в полутьме, возле окна, зашторенного бархатом, похожий на мрачную статую. — Ну все. Господин Григорьев, моя свита приняла вас. Надеюсь, вы рады?
Костя доподлинно не знал, сколько времени он провел в особняке Роберта Векслера. По ощущениям — двести тысяч лет. За это время он явно успел основательно постареть. На самом-то деле прошла всего одна ночь, и особняк он покидал на рассвете, после небольшого фуршета, устроенного сеньором Блаватским в его честь. О, тот был искусным мастером сервировки — на фуршете были и устрицы, которые Костя не умел есть, и какие-то деликатесные улитки, и фондю, и восхитительное белое вино в высоких бокалах, так что все ушли с фуршета сытые и немного пьяные. На крыльце его ждал неизменный водитель в солнечных очках — Аристарх Левандовский.
— Фестивальная, два? — Его ровный голос не выражал никаких эмоций.
— Да, — почти беззвучно ответил Костя. — Подождите… чуть-чуть. Здесь красиво так.
Костя сам не ожидал от себя подобной сентиментальности. Не хотелось никуда идти или ехать. Даже один маленький шаг мог разрушить хрустальную, почти на грани сна и яви статичность этого утра. Утра после бесконечной и страшной ночи, прозрачного и чистого, как стакан холодной родниковой воды, как слеза, как слепой дождь, как радуга после слепого дождя, прозрачного и хрупкого, как стеклянная балерина, как прожитая шиворот-навыворот жизнь, как душа, которой у Кости больше не было. Теперь эта душа — один из экспонатов огромной коллекции Роберта Векслера.
Солнце — оранжевое, жирное — на востоке. У солнца нимб, ему положено. Оранжевый нимб, теплый. Синева с другой стороны неба. Лазурь. Такая ослепительно-яркая, что хочется зажмурить глаза, подставив лицо этой ошеломительной (все предыдущие дни были пасмурными, как черно-белая фотография) синеве холодного неба. Особняк был построен на возвышенности и смотрел на город свысока. А внизу невидимый архитектор россыпью накидал пятиэтажек и девятиэтажек, воткнул между ними несколько автосервисов и ушел восвояси.
Костя прикрыл входную дверь, стараясь не шуметь. Разулся, пальто повесил на крючок в прихожей, ругая себя за то, что так и не смог избавиться от холодного и очень липкого ощущения тревоги — это все уже было с ним: и прихожая эта, и утро, и все, что он увидел потом, — и, не дай бог, повторится. «Нет, не повторится», — говорил себе Костя. Он зашел в спальню. Сознание упорно рисовало самые чудовищные картинки. Но нет… Диана спала, завернувшись в одеяло, точно в кокон, по-детски подложив под голову руку. В спальне было так тихо, что Костя отчетливо слышал, как бьется его сердце, и дышал он слишком громко, громко и сбивчиво. Он сел на край кровати, боясь, что каким-нибудь неловким движением разбудит Диану. Аккуратно — очень аккуратно, почти незаметно — дотронулся до ее руки. Рука была живая, теплая. Все было в порядке. Все самое страшное уже приключилось, но приключилось в кошмарном бреду — там, где и место трагедиям.
«Да, я не заслуживаю тебя, — очень тихо, одними губами прошептал Костя. — Я плохой, очень плохой человек и убийца. Что бы там мне ни говорили, как бы меня ни утешали, но я убийца и навсегда им останусь. Как останется навсегда со мной тот звук — звук, с которым проклятая «Тойота» снесла разделительный барьер. Этот звук теперь — часть меня, и буду я его слышать, пока мое сердце не перестанет биться. Но если во мне еще осталось что-то хорошее, то это хорошее связано исключительно с тобой. Я обещал тебя спасти, и, поверь мне, я сдержал свое обещание. Я верю, нет, я надеюсь, что утром ты проснешься, как ни в чем не бывало, ничего не зная о той страшной ночи, что я провел в комнате Векслера — в огромной жуткой комнате с бархатными портьерами, исполинским письменным столом и блестящим паркетом, накрытым пыльным ковром такого же цвета, что и портьеры. В этой комнате я продал самое дорогое, что у меня когда-либо было… В этой комнате я чуть было не умер, а может, и умер, кто знает… Слишком много мертвых теперь вокруг меня, и возможно, я тоже стал одним из них. Но ты проснешься, как ни в чем не бывало, и будет у тебя хорошее, доброе настроение. И больше не будет болота со спрутами, и черной воды больше не будет, и жизнь твоя с этого утра будет залита ярким светом, ярким электрическим светом, потому что Векслер хоть и дьявол с копытами, то есть без копыт, разумеется, но ему можно верить. Нужно верить».
Костя наклонился, чтобы поцеловать руку спящей Дианы. Слегка прикоснулся губами — ближе нельзя, проснется. Костя даже сам не понимал, почему так боялся ее разбудить. Боялся, что Векслер обманом вытянул его душу и теперь глумится над ним, сидя в своем кабинете, выпуская ароматный папиросный дым «Герцеговины Флор». Боялся, что никуда не ушла эта черная вода и болото со склизкими чудовищами на месте, холодное-холодное болото!
Тут на Костю навалилась такая жуткая усталость — он еле мог пошевелить руками, до того тяжелыми, будто налитыми свинцом, они стали. Сил на то, чтобы раздеться, уже не осталось — все поглотила вселенская, почти немыслимая оцепенелость. Поэтому Костя, не раздеваясь, как был, в брюках, рубашке и пиджаке, прилег на кровать рядом с мирно спящей Дианой.
«Ты должна остаться здесь, Диана Белогорская. Ты должна остаться здесь, Диана Григорьева. Ты должна остаться со мной навсегда».
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ