ПЕТР ИЛЬИЧ
ЧАЙКОВСКИЙ
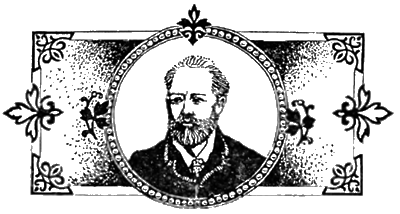
Русские современники, и прежде всего представители так называемой «Могучей кучки», считали, что Чайковский как композитор ориентируется в первую очередь на западную музыку, и его русская душа проявляется лишь в тех редких случаях, когда он обращается к родным народным мотивам. На самом же деле музыка Чайковского, в отличие от творчества членов этой почвеннической группы во главе с Римским-Корсаковым, просто не может быть измерена национальным аршином. Чайковский с самого начала своей творческой деятельности искал единения с великой европейской музыкальной традицией, и поэтому корни его как художника уходят в основном во французскую и итальянскую музыку XIX века и в музыку немецких романтиков, русские же его учителя не оказали на его творчество существенного влияния. Поэтому в наше время Чайковский считается первым значительным русским композитором, который заговорил на международном музыкальном языке, не отрицая при этом своих национальных истоков. Русский элемент в его музыке сохраняется даже там, где у него отсутствует прямое сходство с русскими народными мотивами, и потому произведения Чайковского всегда излучают атмосферу, которую слушатель воспринимает как нечто «типично русское». 17 марта 1878 года Чайковский сам так сказал об этом в одном из писем: «То русское, что повсеместно присутствует в моей музыке… обусловлено, прежде всего, тем, что меня… с самого раннего детства пронизывало очарование истинно русской народной музыки, тем, что страстно люблю все русское во всех его проявлениях, одним словом, тем, что я русский в самом истинном смысле этого слова». Того же мнения был и Игорь Стравинский, который считал Чайковского «самым русским из всех нас» и полагал, что музыка Чайковского более русская, чем та, на которую «давно уже приклеили лубочный московитский ярлык».
То, что некоторые принимают за неопределенность творческого характера Чайковского и космополитизм его музыки, на самом деле является выражением неизмеримого богатства музыкальной натуры, способной с полной эмоциональной откровенностью передавать глубоко личные переживания. Некоторые авторы придерживается даже мнения о том, что вся музыка Чайковского носит «автобиографический» характер, целиком и полностью является отображением его личности, и в музыке «он перед всем миром обнажает свое Я, которое в остальном раскрывал только перед самыми близкими друзьями». Ввиду этого должно быть понятно, почему эмоциональный элемент в музыке Чайковского, который наряду с лирическими моментами выражался порой и в мощных взрывах, подвергался столь же нелицеприятной критике, как и его якобы преувеличенная сентиментальность. Столь явно выраженные субъективные моменты в творчестве были обусловлены, как мы покажем выше, переменами в состоянии души композитора, который, обладая очень чувствительной и легковозбудимой натурой, легко терял душевное равновесие. Тем не менее представление о музыке Чайковского, как о лишенном какой-либо дисциплины излиянии чувств не только совершенно несправедливо, но и, если речь идет о критике масштаба Эдуарда Ханслика, вовсе непрофессионально и недостойно. Рецензируя скрипичный концерт Чайковского, Ханслик, в приступе «эстетического снобизма», написал: «Как-то Фридрих Вишер, говоря о непристойных картинках, заметил, что «некоторые картины воняют, когда на них смотришь». Скрипичный концерт Чайковского наводит на мысль о том, что, возможно, существуют и музыкальные произведения, воняющие при прослушивании».
Для объективной оценки музыки Чайковского принципиальное значение имеют не такие откровенно вульгарные словесные упражнения, а то воздействие, которое она оказывает на слушателя спустя много десятилетий после смерти ее создателя. Здесь прежде всего следует упомянуть Шестую симфонию, оказавшую непреходящее влияние на композиторов последующих поколений. О последней, медленной части этого произведения Дональд Тови написал так: «Совершенная простота отчаяния в медленном финале является истинным воплощением гениальности, решившей творческие проблемы, стоявшие перед всеми симфонистами со времен Бетховена». Того же мнения придерживался и Густав Малер, также завершивший свои Третью и Девятую симфонии медленными финалами. Согласно Альбану Бергу, Малер, как и Чайковский, предчувствовал близкую смерть, и это нашло свое выражение в грустной, полной отчаяния главной теме медленного финала, пронизанной безнадежной покорностью судьбе. Однако и в творчестве самого Альбана Берга мы находим такой медленный финал — Largo desolato Лирической сюиты для струнного квартета — кульминационный пункт этого произведения на грани между безнадежностью и безумием. Влияние музыки Чайковского ощутили на себе также Пуччини, Сибелиус и Стравинский, хотя между творчеством этих композиторов не так уж много общего и каждый из них весьма своеобразен. Симпатии Стравинского в значительно большей степени принадлежали Чайковскому, а не Римскому-Корсакову, чьим учеником он был в начале XX столетия. Свое восхищение великим маэстро Стравинский выразил в письме Дягилеву от 18 октября 1921 года в связи с постановкой «Спящей красавицы»: «Я был очень счастлив, узнав, что Вы возобновляете этот шедевр… Музыка Чайковского, которая, возможно, не всем кажется типично русской, в глубине своей часто куда более русская, чем та, которая уже длительное время воспринимается как лубочное представление о Москве. Эта музыка столь же русская, сколь стихи Пушкина или песня Глинки… Стоит вспомнить, кого он больше всего ценил из композиторов прошлого и своих современников! Более других он почитал Моцарта, Куперена, Глинку, Бизе. Это не оставляет сомнений в его вкусе».
В конечном итоге, мнения, подобные процитированному выше высказыванию Стравинского, нашли большее понимание у широких масс любителей музыки, нежели суждения так называемых «ученых мужей». В наше время Чайковский любим и популярен куда более, чем во второй половине XIX века, которая была временем субъектов типа Ханслика. И, к нашему счастью, теперь наряду с общеизвестными симфониями, операми, балетами, инструментальными концертами и увертюрами Чайковского исполняются и те его произведения, которые заслужили быть давным-давно представленными вниманию публики. Не подлежит сомнению, что сочинение музыки было для Чайковского единственной возможностью в какой-то мере справиться со своей неимоверно сложной внутренней жизнью или, по меньшей мере, ослабить груз психических проблем до такой степени, чтобы существование перестало быть для него невыносимым. Музыка стала для Чайковского формой, в которой он мог наилучшим образом выразить свой внутренний мир. Музыка предоставила в его распоряжение язык, выразительные возможности которого во многом превышали выразительные возможности слов, и который, в то же время заставлял его подчинять безудержные взрывы чувств строгой духовной дисциплине, присущей этому искусству. Слишком часто случалось так, что преодоление повседневных жизненных проблем мешало Чайковскому соблюдать требования этой дисциплины. Чайковский не был особым новатором в том, что касается музыкальных форм, в своем творчестве он с самого начала опирался на «классические» формы, и гармоническое соединение формы и содержания стоило ему немалого труда. «Лишь ценой железной настойчивости мне постепенно удалось достичь того, чтобы форма моих произведений соответствовала содержанию», — признавался он в письме г-же фон Мекк. Опора на классические образцы принесла пользу его музыке, ибо позволяла удерживать эмоциональные взрывы автора в рациональных пределах.
Пытаясь проникнуть в тайну этого русского художника, необходимо иметь в виду, что жизнь его была до самых краев исполнена постоянных внутренних противоречий. При анализе музыкального творчества Чайковского нельзя забывать о том, что оно всегда находилось под влиянием психических напряжений и душевных кризисов автора. Поэтому особенно интересно попытаться выявить глубинные причины этих кризисов и разобраться в своеобразных особенностях личности, характера этого человека и художника, хотя доступ к внутренней жизни этой крайне интровертной личности полностью не открывают даже письма и дневниковые записи Чайковского. Сергей Рахманинов писал, что Чайковский, по-видимому, в юности надел маску, которую уже не снял до конца жизни. Тем не менее в последнее время стали известны некоторые ранее неопубликованные документы, позволяющие получить более глубокое представление о многих психических проблемах Чайковского. Кроме того, данные, опубликованные в книге Нины Берберовой, позволяют более точно оценить медицинские аспекты смерти композитора.
Важнейшие события детства и юности
Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в небольшом городе Воткинске Вятской губернии на Урале. Его отец Илья Петрович, родившийся в 1800 году, был двадцатым ребенком в семье наместника этой губернии, которому в начале века был пожалован дворянский титул. К этому времени Илья Петрович был главным инспектором горных заводов Воткинска, крупного промышленного центра губернии. Он закончил Военную горную академию и был почтенным жителем своего города. Илья Петрович слыл честным и добрым человеком, но не обладал высоким интеллектом и не сделал большой карьеры. В юности он немного играл на флейте, но какое-либо пристрастие к музыке у него отсутствовало. Первая жена, подарившая ему дочь Зинаиду, умерла еще в 1833 году.
Вторая его жена Александра, мать Петра, была на 20 лет моложе мужа и происходила из семьи французских гугенотов, осевшей навсегда в России. Ее отец, Андре Ассье, был образованным человеком, занимал важный пост в таможенной службе, но умер еще в 1830 году. Согласно имеющимся данным, он страдал эпилепсией, которую унаследовал от своего деда. Кроме этого, известно только, что он был весьма нервным и импульсивным человеком, и не вызывает сомнений, что Петр обязан своей невротической наследственностью матери и ее предкам. Александра получила вполне приличное образование в интернате для девиц-полусирот, в программу которого наряду с арифметикой, риторикой и географией входили иностранные языки и история литературы. Она также не обладала музыкальными наклонностями, хотя, как рассказывают, у нее был неплохой голос.
В 1837 на Илью Петровича было возложено руководство воткинскими сталеплавильными заводами. Начальнику такого огромного предприятия был положен собственный комфортабельный дом, большой штат слуг и даже «личная армия» — сотня казаков. Теперь можно было подумать об увеличении семьи. За два года до рождения Петра на свет появился Николай, еще через два года — сестра Александра, Саша. Позже семья Чайковских пополнилась братом Ипполитом, который родился в 1844 году, и близнецами Анатолием и Модестом (1850).
В ноябре 1844 года для Николая была приглашена гувернантка, в воспитании участвовала также жившая в семье Чайковских кузина Лидия. С появлением гувернантки Фанни Дюрбах, протестантки из французской Швейцарии, в жизни Петра произошла первая важная перемена. Его сердце уже в то время готово было разорваться от романтических привязанностей, и, лишь увидев Фанни, он стал настойчиво добиваться права принимать участие в уроках. Будучи прекрасным, тонко чувствующим педагогом, Фанни сразу же поняла, сколь жаден до знаний и сколь чувствителен и восприимчив этот необыкновенный тихий мальчик. Фанни умела справляться с его бурными эмоциональными проявлениями и повышенной чувствительностью лучше, чем обожаемая матушка, не проявлявшая такого понимания и нередко критиковавшая гувернантку. Под покровительством Фанни «фарфоровый мальчик», как она называла Петра, на удивление быстро развивался и в шесть лет умел читать и писать не только на родном языке, но и по-французски и даже немного по-немецки. Мир эмоций грозил захлестнуть его и искал выхода, Петр пытался найти отдушину в сочинении сентиментальных русских и французских стихов. Как ни странно, Фанни Дюрбах не обратила внимания на необычайную склонность своего воспитанника к музыке, возможно потому, что сама была равнодушна к этому искусству. Он же приходил в видимое возбуждение, когда в доме пели или музицировали гости семьи Чайковских. Однажды он сказал Фанни: «Музыка сидит у меня в голове и не дает мне покоя». И родители, и семейный врач считали, что начинать занятия музыкой еще слишком рано. Поэтому единственной возможностью для Петра оставалось прослушивание фрагментов опер на имевшемся в доме оркестрионе, который, в частности, играл мелодию из «Дон Жуана» Моцарта, и воспроизведение их двумя пальцами на фортепиано. Мальчика лишь с трудом можно было оторвать от инструмента, и, если это удавалось, он продолжал отбивать такт на крышке стола или на оконном стекле. Однажды, пытаясь сыграть «форте», он даже разбил окно и порезался стеклом. Лишь в 1845 годы для него начались первые уроки музыки. Его учительницей была недавняя крепостная Мария Марковна и очень скоро он уже не хуже ее играл с листа.
8 октября 1848 года Петр испытал первое в жизни душевное потрясение. Илья Петрович вышел на пенсию в чине генерал-майора и надеялся получить достойную должность в Москве. В связи с этим семья должна была покинуть Воткинск и перебраться в Петербург. Настало время прощания с Фанни Дюрбах. Петру так и не удалось написать ей прощальное письмо, потому что слезы размыли чернила. Разлука с любимой Фанни совпала с концом привычной жизни, а душевная травма усугубилась еще и тем, что место Фанни теперь заняла неприветливая и тираничная сводная сестра Зинаида, которая должна была заниматься детьми. Поступление в подготовительный класс гимназии было связано с очень напряженным трудом, в результате чего состояние его здоровья ухудшилось настолько, что даже пришлось прекратить занятия музыкой под руководством г-на Филиппова. Если Петра брали на концерт или оперный спектакль, музыка вызывала у него настоящие галлюцинации. Он страдал бессонницей и все пережитое изменило его настолько, что этого недавно еще столь нежного мальчика невозможно было узнать.
Ко всем несчастьям в декабре 1848 года Петр одновременно с братом Николаем заболел корью. Брат быстро поправился, но у Петра болезнь приняла затяжной характер и сопровождалась осложнениями, которые, в основном, поразили нервную систему, так как врачи говорили о «сухотке спинного мозга». В биографии П. И. Чайковского, написанной его братом Модестом, сказано: «У Николая болезнь протекала нормально, у Петра же сказалась его повышенная возбудимость, которая привела к сильным нервным припадкам.
Врачи констатировали поражение спинного мозга». Семейный врач предписал полный покой на протяжении шести месяцев, из чего Модест делает вывод о том, «насколько ужасными были эти нервные припадки. Своевременно принятые меры оказали благотворное влияние на физическое состояние мальчика, но его характер уже навсегда перестал быть столь же ясным и уравновешенным, как до того».
Действительно, в июне 1849 года, когда состояние его здоровья начало быстро улучшаться, у него резко возросла нервная возбудимость, недостаточная концентрация внимания привела к трудностям в учебе, начала проявляться какая-то безучастность к окружающему миру. Это побудило мать Петра написать Фанни Дюрбах: «Он как будто переменился, бесцельно бродит, и я просто не знаю, что с ним делать. Часто мне выть хочется». К сожалению, неправильное психическое развитие чересчур чувствительного ребенка подстегнула не только длительная, тяжелая и сопровождавшаяся осложнениями инфекционная болезнь, но и позиция матери, которой, с одной стороны, была свойственна повышенная озабоченность, а с другой — неспособность по-настоящему сопереживать сыну. Лишь в конце года, с приглашением в дом новой гувернантки, г-жи Петровой, показалось, что Петр «наконец образумился», как писала его мать Фанни Дюрбах.
К этому времени Илья Петрович нашел место управляющего частной шахтой на Урале в районе Екатеринбурга и вскоре семья перебралась туда. В Петербурге остался лишь Николай, который должен был продолжать здесь учебу. В маленьком городке Алапаевске для Петра началась скучная и однообразная жизнь, которая не шла ни в какое сравнение с боткинским «золотым временем». Теперь вместо доброй и понимающей его Фанни Дюрбах с ним занималась сводная сестра Зинаида, которой он мало симпатизировал. Его душевное состояние, и без того нарушенное разлукой с Фанни и перенесенной тяжелой болезнью, становилось еще более неустойчивым. Он очень переменился — стал злобным, непослушным, ревновал к успехам брата Николая. Занятий музыкой больше не было и в наиболее грустные часы он начал играть сам для себя. В начале 1850 года он написал Фанни Дюрбах: «Я все время провожу за роялем. Здесь я нахожу утешение, когда мне грустно». Десятилетний мальчик все более замыкался в себе, теперь его погруженность в себя начинала перерастать в настоящий эгоцентризм. В отместку за равнодушие окружающих он скрывал свою страсть к музыке и первые его композиторские опыты остались для других тайной. Он все более идеализировал полтора года, проведенные в Воткинске с Фанни Дюрбах и это впечатление раннего детства оказало весьма существенное влияние на всю его последующую жизнь. Идеализации прошлого также сопутствовала идеализация окружавших его женщин — Фанни и, конечно же, матери, которую он обожествлял. Психоаналитики попытались так интерпретировать любовь Чайковского к матери: «страстность возлюбленного, которая привела к проявлению подсознательного стремления бежать из мира, возвратившись в тело матери, из которого он вышел». Даже если мы не согласимся с такой интерпретацией, то не сможем отрицать того факта, что в последующей жизни Чайковский даже и не помышлял об интимных отношениях с теми женщинами, к которым испытывал если не любовь, то, по крайней мере, глубокую симпатию. Не исключено, что здесь уже сыграла свою роль ранняя склонность к гомосексуализму, которая была замечена еще до достижения им половой зрелости, и передалась также его брату Модесту и племяннику Бобу. Возможно, что развитию этой склонности способствовал старомодный традиционный ритуал семейного воспитания.
С учетом этих особенностей становится понятнее душевное потрясение, перенесенное юным Чайковским в октябре 1850 года. В августе этого года было принято решение предпринять какие-то шаги против его повышенной нервозности и поместить его в подготовительный класс Училища правоведения в Петербурге, куда он был принят, как один их лучших. Мать сопровождала его и несколько месяцев провела в столице с тем, чтобы облегчить ему адаптацию к новой среде. Однако, когда в середине октября она собралась домой в Алапаевск, произошла душераздирающая сцена прощания. В те времена было принято, что пассажиров, уезжавших из Петербурга в Москву, родные провожали до городских ворот. И Петр поехал с матерью, крепко держась за ее юбку. Когда наступило время прощания, он полностью потерял контроль над собой. Он так уцепился за мать, что его пришлось отрывать силой, а потом крепко держать, когда ее экипаж уехал. Однако с ним происходило уже что-то типа истерического припадка, ему все же удалось вырваться, он в отчаянии хватался за спицы колес, пытаясь остановить экипаж. Воспоминание об этом страшном моменте преследовало его до конца жизни. Этот эпизод является бесспорным доказательством того, что он пламенно и страстно отождествлял себя с матерью. От этого отождествления он также не смог избавиться до конца своих дней.
За этим последовало еще одно неприятное событие, усилившее у Петра зарождающийся комплекс вины. В ноябре 1850 года в училище началась эпидемия скарлатины, и Петр временно поселился в семье своего опекуна Модеста Вакара. Петра болезнь пощадила, но старший сын Вакара 6 декабря умер от скарлатины. Петр считал себя виновным в его смерти, и все попытки убедить его в том, что это не так, были безуспешны. Лишь после возвращения в школу депрессивное состояние постепенно развеялось. Игрой на фортепиано и «колоратурной импровизацией» Петр быстро завоевал симпатии школьных товарищей. Он не хотел разочаровывать родителей, которые выбрали для сына карьеру юриста, но его склонность к музыке усиливалась и однажды Петр написал одному из одноклассников: «Я чувствую, что стану композитором!».
В 1852 году отец вышел на пенсию и семья переехала в Петербург. Петр не упоминал о музыке ни единым словом, и мать решила, что с этой проблемой покончено, и успокоилась. Этот гармоничный период жизни был прерван первым тяжелым ударом судьбы в жизни Чайковского: 25 июня 1854 года его обожаемая мать умерла от холеры, эпидемия которой в очередной раз посетила Петербург. До конца XIX века невская вода, куда попадали все городские стоки, в необработанном виде использовалась для хозяйственных нужд и питья, и двери для холеры были широко распахнуты. Врачи полагали, что худшее для больной уже позади, но на четвертый день, приняв по назначению врача ванну, она впала в кому, вывести из которой ее уже не удалось. В довершение несчастья, в день ее похорон заболел отец, но для него все закончилось благополучно. Это событие было для Петра страшным ударом. Мы не располагаем свидетельствами о непосредственных его последствиях для психики 14-летнего мальчика, но из писем Чайковского, написанных через много лет, нам известно, что он не смог справиться с этим шоком до конца своих дней. Вот фрагмент одного письма: «В этот день, ровно 25 лет назад, умерла моя мать. Это было первое большое горе, которое я пережил в жизни. Ее смерть оказала большое влияние на мою судьбу и судьбу моих близких. Она умерла внезапно, во цвете лет, от холеры, к которой прибавилась другая болезнь. Я помню каждую минуту этого ужасного дня так, как будто это случилось вчера». За два года до этого Чайковский написал письмо, в котором философствовал о бессмысленности бессмертия, а затем тут же написал нечто совсем противоположное: «Я никогда не смогу смириться с мыслью о том, что моей дорогой матушки, которую я так любил, больше нет, и я не могу ей сказать, что и теперь, через 23 года разлуки, я также искренне и горячо ее люблю».
С медицинской точки зрения весьма примечательно, что первая попытка Чайковского сочинить музыкальное произведение датирована месяцем смерти его матери. Много лет спустя он признался, что «без музыки в то время сошел бы с ума». Это высказывание, во-первых, следует понимать буквально, и, во-вторых, оно является очень убедительным примером того, как может найти выход внутренний конфликт, переведенный в творческую плоскость. Любовь к обожествляемой матери, по-видимому, была у юного Чайковского столь сильна, что ее смерть могла бы создать серьезную угрозу для его психики, если бы страстные эмоции не нашли выхода в музыке. Это предположение невозможно доказать произведением 14-летнего Чайковского, потому что оно, к сожалению, утеряно. Однако мы располагаем убедительными доказательствами того, что в более поздние периоды жизни ему удавалось преодолевать тяжелые душевные кризисы, угрожавшие устойчивости психики вплоть до реальной опасности самоубийства, путем перевода эмоций в музыку. Примерами произведений, созданных в периоды подобных кризисов, являются Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин». Грань гениальности пролегала в духовном мире Чайковского в опасной близости от границы безумия.
Музыка была для него главным утешением не только в тяжелое время после смерти матери — на протяжении всей жизни Чайковского она была предохранительным клапаном его эмоциональной жизни и действенной заменой несбывшихся мечтаний и неутоленных сексуальных страстей. Еще осенью 1854 года он начал брать уроки пения у Гавриила Ломаткина, так как уже в то время у него появился замысел создать оперу. В начале 1855 года Чайковский, наконец, начинает серьезно заниматься игрой на фортепиано. Его учителем был пианист Рудольф Кюндингер, который не усмотрел у своего ученика особого музыкального дарования и писал его отцу, что «во-первых, у Чайковского не усматриваются черты музыкального гения, и, во-вторых, доля музыканта в России, как правило, незавидна». Тем не менее Петр, не оставляя занятий в Училище правоведения, продолжил интенсивно заниматься музыкой. В 16 лет он познакомился с итальянским учителем пения Луиджи Пиччиоли, который мало чем интересовался, кроме итальянской оперы. Пиччиоли был довольно странной личностью. Он отчаянно пытался выглядеть моложе своих лет: красил седеющие волосы, наносил грим на лицо, и теперь трудно сказать, какое влияние он оказал на личность Чайковского, только вступавшего в пору юности. Известно лишь, что юноша в это время сочинил песнь «Мой гений, мой ангел, мой друг», но позднее он заверял брата Модеста в том, что «лишь музыка была теми узами, которые нас связывали».
В 1859 году Чайковский окончил Училище правоведения, получил должность в министерстве юстиции и чин титулярного советника. Он стал молодым человеком приятной наружности. Теперь над ним более не довлели школьные ограничения и запреты и он воспользовался свободой для частых посещений оперных и драматических театров. Он также охотно принимал участие в частных вечеринках и праздниках, на которых нередко аккомпанировал танцам. Здесь представлялась масса возможностей для флирта. Согласно рассказам современников, в то время он был «франтоват на грани дендизма», но в отношениях с девицами строго держал дистанцию. Еще в Училище правоведения он научился курить и всю оставшуюся жизнь табак был для него средством успокоения.
В 1860 году сестра Саша вышла замуж за Льва Давыдова и уехала в Каменку на Украину. С этого момента начинается бурная корреспонденция Чайковского. Вначале это были письма только к сестре. 22 марта 1861 года он пишет, что уже вконец обедневший отец больше не возражает против его музыкальной карьеры и он теперь может приступить к изучению генерал-баса у близкого к немецкой теории музыки Николая Зарембы, у которого Чайковский рассчитывал научиться строгому композиционному строю. В сентябре 1862 года открылась первая в стране Петербургская консерватория, руководство которой было возложено на Антона Рубинштейна, в его класс композиции поступил в конце года Чайковский. Вскоре Рубинштейн указал своему ученику на то, что при его таланте он обязан уделять больше времени и труда учебе. К этому времени неинтересная служба в министерстве уже порядком стала ему надоедать и превратилась в тяжкую обузу. Чайковский все чаще подумывал о том, чтобы оставить карьеру чиновника. Отсутствие интереса к служебным обязанностям и рассеянность при их выполнении принимали у него порой прямо юмористические формы: однажды он, задумавшись над чем-то своим, разорвал на мелкие кусочки важный документ, скатал из обрывков шарики, а затем, по детской привычке, проглотил их. Неудивительно, что его регулярно обходили повышениями по службе. Разочарованный всем этим, Чайковский в 1863 году принимает решение окончательно оставить службу. Это его решение привело семью в отчаяние, дядя Чайковского даже заявил, что его племянник променял министерство на тромбон. Сам же Чайковский был убежден, что совершил правильный шаг и, для того чтобы успокоить сестру, написал ей: «Я, по крайней мере, уверен в том, что, закончив образование, стану хорошим музыкантом». Внешне теперь его трудно было узнать. Если еще недавно, поддаваясь влиянию и сомнительной привязанности Пиччиоли, которые, без сомнения, усиливали то, что пробудила в нем возникшая в ранней юности дружба со школьным товарищем Алексеем Апухтиным, он рьяно предавался соблазнам петербургского общества, то теперь все радикально изменилось. Зарабатывая уроками музыки всего 50 рублей в месяц, он вынужден был устраивать свою жизнь значительно скромнее. Он отпустил бороду, носил широкополую шляпу. Теперь он выглядел серьезнее и его явное равнодушие к женщинам побудило сестру Александру сделать вывод о том, что, по-видимому, в любви его постигла неудача. Теперь все интересы были посвящены музыке и страстному стремлению достичь признания в качестве композитора.
Первые годы в музыке
Решение Чайковского стать профессиональным музыкантом возмутило брата Николая. Высказывание Николая о том, что Петр Ильич никогда не станет вторым Глинкой, естественно, не прибавило тому веры в себя. Тем важнее было для него знакомство с Германом Ларошем, с которым они подружились в Консерватории. Герман умел поддержать в нем уверенность. В этой дружбе, которой суждено было сыграть важную роль в будущем, не было уже той романтичности, которая превалировала в отношениях с другом юности Алексеем Апухтиным или с учителем пения Пиччиоли, здесь на первое место вышло искреннее уважение к другу. Петр углубился в изучение теории и каждую неделю для упражнения сочинял два произведения. Сочиненный Чайковским в это время оркестровый «Танец девушек» был даже с успехом исполнен Иоганном Штраусом в Киеве. То, что Чайковский, наконец, принял окончательное решение посвятить себя музыке и обрел личную свободу, оказало положительное влияние на формирование его личности, но уже в это время стали ясно проступать первые характерные симптомы его сложной невротической предрасположенности. Ему была свойственна гипертрофированная чувствительность, причем особые страдания доставляло ему то, что он был вынужден скрывать ее от окружающих, чтобы не прослыть изнеженным, слабонервным мечтателем. Тем не менее при звуках музыки своего идола Моцарта, даже при одном упоминании его имени он был не в состоянии сдержать слезы. И вообще занятия музыкой в Консерватории, в особенности собственная композиторская работа, приводили его в странное возбуждение, которое он сам называл «шоком». При этом он перед тем, как заснуть, испытывал потерю чувствительности в руках и ногах или приступы дрожи во всем теле, страдал от переутомления и бессонницы. Порой у него случались самые настоящие галлюцинации, о которых он сообщил в письмам братьям, чем привел их в немалое волнение. Особенно тяжело ему пришлось во время сочинения Первой симфонии. В этот период у него случился полномасштабный нервный припадок, который он предчувствовал заранее. За три месяца до этого случая он писал брату Анатолию: «Мои нервы расстроены самым ужасным образом. Причины: во-первых, симфония, которая звучит неудовлетворительно, во-вторых, Рубинштейн и Тарновский поняли, что меня легко испугать, и теперь забавляются, целый день напролет вгоняя меня в шок. И, наконец, я никак не могу избавиться от мысли о том, что жить мне суждено недолго, и моя симфония останется неоконченной. Я тоскую по лету и Каменке (где жила сестра Саша — прим. автора), как по земле обетованной, и надеюсь обрести там мир и покой и забыть о моих бедах… Я ненавижу человека в массе и хочу забраться в какую-нибудь глушь, где совсем мало жителей».
Не покидавшие его страхи, делавшие общественную жизнь для него невыносимой, так же, как нерешительность и жалость к самому себе, мешали Чайковскому в полной мере воплотить свою энергию в музыку. Он продолжал мужественно бороться, но, несмотря на все старания, часть его духовных сил оставалась связанной, что не позволяло ему полностью преодолеть самые худшие из мучивших его страхов. Исходный мир его чувств, над которым столь сильно довлели ранняя гипертрофированная связь с матерью и сестрой, развился в картину, искаженную гомосексуальными конфликтами, от которой он уже так и не смог избавиться. Жизнь его была бы достаточно нелегка, даже если бы ему довелось бороться всего лишь со своей гипертрофированной страстностью художника и присущей ей постоянной опасностью безумия, но это явилось бы всего лишь неизбежной ценой творчества. Истинная же трагедия Чайковского состояла в том, что для него не была доступна нормальная любовь. Невротическая предрасположенность характера, которая уже в юности стала ясна ему самому, не только препятствовала интимным отношениям с лицами противоположного пола, но и увлекала его в гомосексуализм со всеми вытекающими из этого трудностями: необходимостью таиться и притворяться, страхом перед уголовным преследованием и комплексом вины. Творческая продуктивность Чайковского во многом объясняется, по-видимому, тем, что таким образом он сознательно ставил себя как бы под давление постоянной необходимости что-то создавать и тем самым уравновешивал трудом ненасытные и неудовлетворенные страсти. У некоторых художников невротические элементы практически не проявляются в произведениях — достаточно вспомнить нежную, изысканную и сдержанную поэзию Верлена, которая не дает никаких оснований предположить столь отвратительный невротический характер у автора, и гомосексуализм во всех его формах и при любой интенсивности совершенно не обязательно проявляется как психологическое расстройство. Однако в характере Чайковского невротические элементы неотделимо связаны с его развитием как творца музыки. Не удивительно, что невротические симптомы проявились у него при дирижировании, и преодолеть их ему удалось только спустя много лет. «По его словам, когда он находится на возвышении перед оркестром, его охватывает такой нервный страх, что появляется ощущение, будто его голова вот-вот слетит с плеч. Для того, чтобы предотвратить эту катастрофу, он левой рукой подпирал подбородок и дирижировал только правой».
Когда Чайковский после летнего отдыха у сестры в Каменке вернулся в Петербург, отец и братья собрались ехать на Урал к сводной сестре Зинаиде. Оставшись один в пустой квартире своего товарища по училищу Апухтина, он впал в глубокую депрессию. Ему казалось, что он никому не нужен, он считал себя неудачником, так как к двадцати пяти годам еще не создал ничего значительного. Под влиянием депрессии ему ночами снился пистолет, из которого он хотел застрелиться. Но случилось так, что в 1865 году в Петербург приехал Николай Рубинштейн, великолепный пианист и дирижер, брат директора Петербургской консерватории Антона Рубинштейна. Целью его приезда был набор профессоров для музыкального института, основанного им в 1860 году, который позднее стал второй русской консерваторией. Антон Рубинштейн порекомендовал брату своего ученика Чайковского, который недавно успешно закончил Консерваторию, представив в качестве выпускной работы кантату, хотя молодой приверженец национальной петербургской школы Цезарь Кюи в критическом отзыве на эту кантату пренебрежительно написал: «Чайковский — совершеннейшая посредственность. Его дарованию ни на один момент не удается разорвать консерваторские путы». Это разочарование и удручающее финансовое положение заставили Чайковского принять предложение, несмотря на неприязнь к педагогической деятельности. Вообще же его в Петербурге ничто не удерживало, если не считать младших братьев-близнецов Модеста и Анатолия, которым его любовь и симпатия в какой-то степени заменяли материнскую ласку. В последнее время этот город вызывал у него лишь чувство одиночества, мысли о непризнании его как художника и меланхолическую тоску о прошедших счастливых днях, что не только способствовало депрессивному расстройству, но и порождало разного рода психосоматические жалобы, о чем мы узнаем из письма, написанного незадолго до отъезда: «С тех пор, как я здесь живу, я все время чувствую себя плохо: то у меня болят руки, то ноги, я все время кашляю».
В Москве Николай Рубинштейн выделил Чайковскому комнату в своем доме, позаботился о питании и об одежде, достойной его положения, и уже в первые дни ввел его в круг своих сотрудников. Жалованье в пятьдесят рублей в месяц, конечно же, не позволило бы Чайковскому поддерживать тот стиль жизни, который соответствовал кругу Николая Рубинштейна, и потому маэстро, посещая оперный театр или концерты, приглашал его с собой и при необходимости занимал ему свой фрак. «Рубинштейн печется обо мне, как нянька», — писал он своим родственникам. В десяти письмах, адресованных родным в первые четыре недели жизни в Москве, отчетливо слышится тоска по дому и боль разлуки, прежде всего с братьями-близнецами. Жизнь в непосредственной близости от все-подавляющего Николая Рубинштейна, который часто поздно ночью с шумом возвращался домой из Английского клуба или ночь напролет репетировал перед фортепианным концертом, очень сильно нарушала покой, необходимый Чайковскому для сочинения музыки. К этому добавлялась слабость Рубинштейна к женскому полу, азартным играм и прежде всего к алкоголю, который он мог употреблять в невероятных количествах. Азартные игры мало привлекали Чайковского, если не считать случайных партий в Английском клубе или в кружках творческой интеллигенции, равно как и женщины, к которым он, как и прежде, был совершенно равнодушен. Однако личность Чайковского не была столь сильна, чтобы успешно противостоять соблазну алкоголя, и из его поздних дневниковых записей мы знаем, что в последнее десятилетие жизни он иногда бывал изрядно пьян, причем гораздо чаще, чем казалось окружающим.
Неудивительно, что у него начали появляться жалобы в основном психического характера, о чем он в апреле 1866 года писал брату Анатолию: «В последнее время я очень плохо сплю, мои апоплектические явления снова вернулись, еще сильнее, чем прежде, так что я теперь знаю заранее, появятся они этой ночью или нет, и в первом случае даже не пытаюсь заснуть. Так, например, позавчера я не спал всю ночь. Мои нервы снова совершенно расстроены… Со вчерашнего дня я решил больше не пить ни водки, ни вина, ни крепкого чая».
И, тем не менее, следует согласиться с Модестом в том, что «никто не сыграл большей роли в судьбе композитора, никто не способствовал в большей степени и как друг, и как художник, расцвету его славы, никто так не заботился о Петре и никто так активно не поддержал его первые робкие шаги, как директор Московской консерватории». Действительно, пожалуй, только один Николай Рубинштейн догадывался, что под приятной внешностью этого человека, нежного и красивого, развивается нечто уникальное, что безошибочно и неуклонно прокладывает свой путь. Наряду с Рубинштейном важную роль в жизни Чайковского сыграли некоторые из его коллег по консерватории, поддерживавшие в нем мужество и помогавшие ему упрочить свою репутацию композитора. Эти люди позднее стали для него неоценимой опорой в вынужденной изоляции и мучительном одиночестве, к которому в то время бывал приговорен человек с гомосексуальными наклонностями, не способный поддерживать длительную любовную связь с женщиной и создать семью и потому вынужденный из страха перед уголовным наказанием жить в атмосфере лжи и притворства. К этому узкому кругу друзей принадлежали инспектор консерватории Константин Альбрехт, будущий издатель Чайковского Петр Юргенсон, семья музыканта Николая Кашкина и приехавшие из Петербурга друзья — Герман Ларош и Николай Губерт, ставший позднее директором Московской консерватории. Близкий контакт Чайковский поддерживал также со своим любимым учеником Владимиром Шкловским, с которым он в 1868 году провел лето в Париже.
В день завершения Первой симфонии, которая носит название «Зимняя греза», Чайковский писал брату Анатолию: «Я много работаю, в основном по ночам. Сегодня я закончил Первую симфонию. Я нервничаю, меня часто мучают ужасы и страх смерти. Врач посоветовал мне поменьше работать, иначе я в конце концов могу попасть в лечебницу для нервнобольных». Модест пишет, что «ни одно из его произведений не стоило ему такого труда и таких мук, как эта симфония», и принято считать, что в дальнейшем он не написал ни одной ноты своих произведений в ночное время. О кризисах, которые он впервые испытал во время работы над Первой симфонией, но которые также повторялись и в дальнейшем — сам он их называл «апоплектическими припадками» и «сердечными приступами» — Герберт Вайншток писал: «Нам ничего не известно о том, что он страдал какой-либо серьезной болезнью… По-видимому, он был неврастеником… Факты и намеки позволяют предположить, что основной причиной переживаемых им душевных потрясений и нервных расстройств было насильственное подавление полового влечения, безуспешные попытки влюбиться, как все другие люди, и постоянный страх того, что злонамеренное и бессердечное общество докопается до его тайной натуры и его истинных эротических склонностей… В сплетнях его имя связывали с именами студентов консерватории… Однако все эти имена не в состоянии отменить важнейший факт, состоящий в следующем: эротическая природа Чайковского и его конфликт с этой природой оказали влияние на всю его последующую жизнь и придали его личности и отчасти его музыке характер, исполненный мрачности, чувственности, интроспективности и мировой скорби». Чайковский стыдился своих «противоестественных» склонностей и испытывал из-за своей «тайны» чувство вины, считая себя человеком, достойным презрения, в результате чего все чаще впадал в депрессивное состояние. Его письмо сестре Саше, написанное летом 1867 года, содержит характерные намеки на это: «Ты, наверное, и сама заметила, что я страстно тоскую по тихой, спокойной жизни на земле, в деревне. Это идет от того, что, хотя мне еще далеко до старости, я уже очень устал от жизни… Окружающие меня люди часто удивляются моей неразговорчивости и моему частому дурному настроению, хотя в принципе моя жизнь совсем не плоха… Но, тем не менее, я избегаю общества, не в состоянии поддерживать знакомства, люблю одиночество, молчалив. Все это объясняется пресыщением жизнью. Ты, наверное, подумаешь, что подобное состояние души обычно навевает мысли о женитьбе. Нет, дорогая! Усталость от жизни сделала меня слишком ленивым для того, чтобы заводить новые связи, слишком тяжел на подъем, чтобы завести семью».
Такие высказывания, записанные в состоянии депрессии, характеризуют симптомы, патогномоничные для данного заболевания. Усталость от жизни, молчаливость, беспричинная подавленность являются столь же типичными симптомами, как и безынициативность, которую Чайковский называет ленью. Тем более важно подчеркнуть, что он был в состоянии преодолевать эту латентную летаргию мощным творческим порывом. Под влиянием подсознательной тяги к самоунижению он приписывал себе неспособность к завязыванию новых общественных связей и, тем более, к созданию семьи, чему, однако, противоречит эпизод, произошедший в 1868 году. В этом году в Москве гастролировала выдающаяся певица Дезире Арто, и, хотя она не принадлежала к числу писаных красавиц, Чайковский проникся к ней столь сильной симпатией, что решил жениться, о чем 7 января 1869 года написал отцу: «Очень скоро мы воспламенились нежной взаимной симпатией, вслед за чем последовали признания. Естественно, вслед за этим сразу встал вопрос о законном браке и мы решили, что поженимся будущим летом, если этому ничего не помешает». Похоже, впервые мысли о присутствии рядом с ним женщины и даже о браке не показались ему абсурдными. Вероятно Чайковского очаровал не шарм певицы, а сила и независимость женщины, старшей его на пять лет, в профессиональных успехах и свободных нравах которой было даже что-то мужское. Он сочинил для нее романс ор. 5 и в декабре 1868 года написал Модесту, что «очень в нее влюблен». И если мадам Арто через несколько месяцев после отъезда из Москвы вышла замуж за испанского баритона Падилью, то виной тому беседа, по-видимому, состоявшаяся между нею и Николаем Рубинштейном, в которой тот поставил ее в известность о некоторых склонностях Чайковского. Петр не получал от нее писем, и похоже, что после известия о ее замужестве, его чувства к ней быстро охладели, о чем он писал брату Анатолию: «Что касается моего любовного интермеццо… то я должен тебе сказать, что не знаю, хочу ли еще вступить в царство брака; дело идет совсем не по намеченному плану». Тем не менее он обдумывал возможность интимной связи с Дезире Арно, и нам известно, что гомосексуалисты вполне способны к гетеросексуальным контактам. Сердце его, судя по всему, не было разбито известием о свадьбе «невесты», но гордость его была уязвлена, отчего он длительное время страдал.
Вскоре после истории с Дезире Арто Чайковский приступил к увертюре «Ромео и Джульетта», идею которой подал ему Балакирев. Балакирев вместе с Римским-Корсаковым, Кюи, Мусоргским и Бородиным входил в так называемую «Могучую кучку» петербургских композиторов, поставивших своей целью продолжать усилия Глинки по созданию на основе русской народной песни национального языка русского музыкального искусства. Чайковский познакомился с Балакиревым, когда тот в 1868 году, будучи председателем Русского музыкального общества пригласил на гастроли в Москву Гектора Берлиоза. Балакирев был не слишком доволен этой посвященной ему увертюрой, зато она принесла Чайковскому известность, перешагнувшую границы России. Почти в то же время он опубликовал первый сборник песен ор. 6, находящийся, как и большинство русских произведений песенного жанра того времени, под сильным влиянием Шумана. И наконец, он возглавил отдел музыкальной критики в газете «Русские ведомости», который до этого вел Ларош. Эта деятельность способствовала углубленному изучению различных музыкальных жанров. В результате ее Чайковский, в частности, основательно пересмотрел свое отношение к итальянской опере, унаследованное от Пнччиоли, и, в конце концов, даже стал воспринимать итальянскую музыку как «антимузыку».
Чайковский сочинял, не покладая рук, ему нравилась работа в таком поистине изнуряющем режиме, к этому времени он уже начал обживаться в Москве. И все же им по-прежнему владела какая-то необъяснимая меланхолия. По словам брата Модеста, «он все больше терял силы вплоть до полного истощения», а Петр Ильич сам писал: «Под влиянием серьезных нервных расстройств я стал невыносимым ипохондриком.
Не знаю, почему, но меня постоянно терзает неизъяснимая меланхолическая тоска. Я хочу сбежать в какие-нибудь недоступное, забытое Богом место». Желание освободиться становилось все настойчивее, одиночество и ощущение заброшенности в огромном мире все больше омрачало его душу. Братья-близнецы уже давно шли своими собственными дорогами, семья сестры становилась все более многочисленной и отнимала все ее время. На его долю оставались лишь встречи с друзьями в различных московских трактирах и четыре стены собственной комнаты, единственное место, где он мог не опасаться, что кто-то узнает о его склонностях и тем самым разрушит его жизнь. В мае 1870 года он так обрисовал сложившуюся ситуацию: «1. Болезнь — я становлюсь бесчувственным, мои нервы совсем ни к черту. 2. Мои финансовые дела в плохом состоянии. 3. Консерватория надоела до рвоты». Насколько он был одинок, можно судить из письма сестре, написанного в феврале, в котором он жаловался на то, что «в Москве нет никого, с кем бы меня связывала настоящая, близкая дружба. Я часто думаю о том, каким бы я был счастливым, если бы здесь была ты или, хотя бы, кто-нибудь, похожий на тебя». Учитывая издерганное состояние его нервной системы, врачи назначили Чайковскому полный покой и лечение на морском курорте или хотя бы на минеральных водах.
Во время работы над оперой «Опричник» Чайковского застала весть о тяжелой болезни его молодого друга Владимира Шиловского, находившегося в Париже. Эта дружба началась, когда его ученику Володе только исполнилось 14 лет. Чайковский очень привязался к этому «маленькому человеку, созданному для того, чтобы изумить мир», и мальчик отвечал учителю преданной взаимной любовью. Мальчик отличался весьма хрупким сложением и был очень болезненным, поэтому Чайковский сопровождал его в поездках в сельское имение Володиных родителей и даже за границу, куда врачи направляли его для лечения. В обществе Володи Чайковский всегда выглядел счастливым и во время его каникул отказывался ради него даже от общества любимых братьев. Естественно, такие случаи, когда учитель и ученик вместе без видимой причины неожиданно покидали Москву, чтобы провести вместе несколько счастливых дней, не могли не остаться незамеченными. В свете этого неудивительно, что Чайковский, узнав, что Володя заболел туберкулезом, немедленно помчался в Париж. Однако вскоре юноша поправился настолько, что в июне 1870 года смог вместе с учителем отправиться на минеральные воды в Бад-Зоден. Этот известный с XVIII века курорт, расположенный в горах Таунус в Германии, с углекислыми и солевыми горячими источниками, был популярным местом лечения пациентов, страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей и астмой. Жизнь на курорте была «жутко скучна», на что жаловался Чайковский в одном из писем: «Жизнь в Зодене очень проста. Мы встаем в шесть, Володя пьет воду из своего источника, а я (по совету врача) принимаю содовую ванну…. Я, однако, энергично борюсь против мрачных настроений и утешаю себя тем, что мое присутствие спасет Володю и самому мне пребывание в Зодене принесет пользу». Однако в это время началась франко-прусская война и им пришлось бежать в Интерлакен, в Швейцарию, откуда они через несколько недель вернулись в Москву.
К этому времени опера «Опричник» и Вторая симфония, наконец, принесли Чайковскому признание «Могучей кучки», которая объявила его первым композитором России. Состоялся концерт, программу которого составили только его произведения. Кульминацией этого концерта стал струнный квартет op. 11 с его упоительным Andante cantabile. И публика, и критика были едины в том, что Чайковский достиг творческой зрелости. Однако, несмотря на полный успех концерта, состоявшегося 28 марта 1871 года, в письмах его становятся заметными меланхолические настроения. Вновь появившиеся слухи о его наклонностях и образе жизни внушали ему чувство отторгнутости от общества. Он нс только очень страдал от одиночества и изоляции, но также стал боязливым и подозрительным. Несомненно, именно по этой причине он столь болезненно и нетерпимо относился к критике.
По возвращении в Москву Чайковский решил создать себе независимые условия для творческой и личной жизни. Жалование профессора консерватории составляло 2000 рублей в год, еще примерно тысячу давали поступления от концертов и гонорары за рецензии. Эти доходы позволили ему снять трехкомнатную квартиру. Он выехал от Рубинштейна и нанял слугу, Михаила Софронова, который в скором времени уступил эту должность брату Алексею. Согласно воспоминаниям Модеста Чайковского, «этот человек сыграл немаловажную роль в жизни Петра Ильича». Брату Николаю он писал о радости, вызванной возможностью выбраться из дома Рубинштейна: «О себе могу сообщить, что я несказанно рад своему решению наконец убраться от Н. Рубинштейна. Несмотря на всю нашу дружбу, жизнь рядом с ним была для меня очень утомительна». Тем временем его профессорский оклад был повышен и Чайковский мог бы вести вполне беззаботную жизнь, если бы менее бездумно обращался с деньгами. Стоило ему что-то скопить, как он тут же с легким сердцем начинал щедро раздавать деньги или мгновенно растрачивал их в путешествиях. Так случилось, например, во время рождественских каникул 1871/1872 года, когда он поехал с Володей через Германию в Ниццу, где они провели три недели. И летом 1873 года Чайковский предпринял продолжительное путешествие, которое привело его в различные города Германии. Во время этого путешествия произошло важное событие — он начал вести дневник. Брат композитора Модест после его смерти уничтожил много записей и документов, которые могли бы представить немалый интерес. Поэтому скупые дневниковые записи Чайковского дают неоценимый и, порой, единственный ключ, позволяющий в новом свете интерпретировать некоторые события его жизни и являются теми немногими отправными точками, на основе которых представляется возможным построить его психограмму. Прежде всего, эти записи свидетельствуют о том, сколь сильно осложняли ему жизнь проблемы, порожденные гомосексуализмом, и связанный с этим комплекс вины. Обширная переписка Чайковского позволяет заглянуть в его идейный и интеллектуальный мир, и, тем самым, представляет огромную ценность для исследователя, но она не дает представления о многих противоречиях его сокровенной внутренней жизни, об обуревавших его чувствах, принимавших порой поистине взрывной характер. Теперь он поверял свои сокровенные чувства дневнику. Это был глубоко личный документ, ни в коем случае не предназначенный для посторонних глаз и, тем более, для публикации, призванный выполнить роль предохранительного клапана. В дневнике он совершенно свободно и откровенно, без каких-либо ограничений, высказывался о себе и о «кумирах своего эстетического Олимпа» — Глинке, Толстом и Моцарте, в том числен самых интимных сферах своей жизни. Дневник содержит немало незначительных банальностей и, несмотря на это, является источником ценнейших данных.
Здесь он делал торопливые записи непосредственно под влиянием обуревавших его настроений и эмоций. В дневнике содержатся сведения и о его гомосексуальных проявлениях, при описании которых он пользовался особым шифром, и записи, позволяющие судить о роли алкоголя в его жизни — эта роль была намного более значительной, чем полагали знавшие его люди. Здесь имеется также немало указаний на физические и психические недомогания, представляющие значительный интерес с медицинской точки зрения. Первые записи, сделанные Чайковским летом 1873 года во время поездки по Германии и Швейцарии, повествуют об «ужасном состоянии нервов» и о «чрезмерных желаниях», возникших после посещения цирка в Веве, удовлетворить которые не представлялось возможным. Всеми фибрами души он рвался домой, к русским лесам и равнинам. Проезжая на обратном пути через Милан, он пишет о сильной боли в эпигастральной области, которая была особо сильна по утрам, и о том, что с трудом смог получить в аптеке болеутоляющее масло. Вернувшись в Россию в августе 1873 года, он провел несколько недель в имении Шиловских в деревне Усово, где работал над симфонической поэмой «Буря» по мотивам одноименной драмы Шекспира. Постепенно его начинают тяготить отношения с очень капризным Володей Шиловским, которые прежде всего мешали творческой работе. В декабре 1873 года он пишет Модесту о том, что нет никого, с кем бы его связывала истинная глубокая дружба, а также о том, что он прервал отношения с Володей.
Однако он недолго пребывал в подавленном настроении. В декабре с триумфальным успехом проходит премьера «Бури», в марте с таким же успехом исполняется Второй струнный квартет, премьера оперы «Опричник» приносит Чайковскому Кондратьевскую премию размером в 300 рублей, и летом 1874 года он отправляется в новое путешествие, на сей раз в Италию, где посещает Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Позднее он искренне полюбил эту страну, но первое путешествие оставило у него грустные впечатления, как видно из писем к Модесту: «… Венеция такой город, что если бы я был вынужден оставаться здесь дольше, то от отчаяния уже бы на пятый день повесился… В Неаполе дошло до того, что я, не переставая, плачу от тоски по родине… В такие моменты черной меланхолии я готов отдать все за то, чтобы увидеть рядом дорогое лицо… Рим мне ненавистен… черт бы его побрал! Во всем мире есть только один город и это — Москва!». Наверное, он думал об Алеше, 14-летнем крестьянском пареньке с круглыми глазами и торчащими во все стороны светлыми волосами, которого он взял к себе слугой. Этот мальчик с первого взгляда запал ему в сердце. Чайковский сделал ему немало ценных подарков, среди них дорогую шубу, но Алеша стал для него причиной постоянной душевной муки, ибо он был вынужден тщательно скрывать свою любовь от всего мира. Его тревожил также младший брат Модест, который и в хорошем, и в плохом был его двойником: «Меня по-настоящему тревожит то, что ты не смог избежать ни одного из моих пороков… Ты стал моим зеркальным отражением, в котором я вижу все свои недостатки».
Осенью он благополучно перенес тяжелую форму дифтерии, но в то же время симптомы психического неблагополучия проявлялись у него во все более выраженной и длительной форме. У него вновь и вновь случались приступы меланхолии, с которыми он пытался бороться напряженной работой. Он с исступлением работал над сочинением оперы «Кузнец Вакула», которую намеревался представить на объявленный в Петербурге конкурс. Первые наброски этой оперы были созданы на курорте Нисы, где он с июня 1874 года находился на шестинедельном лечении водой из Карлсбадских источников в надежде поправить свое здоровье. Эта опера появилась на сцене только в 1876 году, а девять лет спустя вышла ее новая редакция под названием «Черевички». Однако ни работа над оперой, ни лечение в Нисах не ослабили тревоживших его психогенных симптомов, на что он жаловался в письме в январе 1875 года: «Я чувствую себя одиноким и покинутым, даже испытываю страх перед людьми, мне грустно, и я все время думаю о смерти. Целый день я торчу в комнате, ломаю голову над одной темой и курю сигареты… Наверное, лучше всего для меня было бы уйти в монастырь». Депрессивному настроению, вероятно, способствовало также разочарование, которое ему пришлось испытать в связи именно с тем произведением, которому суждено было стать началом его великой карьеры — Первым фортепианным концертом си-минор. Вначале он собирался посвятить этот концерт Николаю Рубинштейну, но тот подверг произведение столь уничтожающей критике, что в конце концов Чайковский посвятил партитуру Гансу фон Бюлову, который с триумфальным успехом сыграл концерт 25 октября 1875 года в Бостоне. В это время Чайковского постиг еще один удар — смерть его друга, скрипача Фердинанда Лауба, памяти которого он посвятил Третий струнный квартет ми-бемоль-минор, превзошедший по своим достоинствам два его предыдущих камерных произведения. И, наконец, немало неприятных ощущений принесла ему критика сочиненного в 1876 году всемирно известного балета «Лебединое озеро», которая утверждала, что эта музыка, за исключением некоторых удачных пассажей, поистине «монотонна и скучна».
Психическое состояние Чайковского ухудшалось, усиливались также психосоматические симптомы, ему уже не помогал даже интенсивный творческий труд, всегда бывший для него «душевным спасением», и врачи вновь порекомендовали ему отправиться на курорт. Теперь местом лечения должен был стать «проклятый, отвратительный Виши», куда он прибыл 13 июля 1876 года. Однако уже через несколько дней минеральная вода вызвала у него понос, сопровождавшийся кишечными коликами, в связи с чем ему уже через десять дней пришлось покинуть знаменитый курорт и в качестве рецензента «Русских ведомостей» отправиться в Байрейт на Вагнеровский фестиваль. Но и впечатления от «Кольца Нибелунгов» мало способствовали положительным результатам отдыха, о чем он писал Модесту: «Возможно, «Нибелунги» — действительно великолепное произведение, но правда и то, что мир не видел еще такого бесконечного и скучного вздора… Все это утомило мои нервы до предела». В рецензиях он выражался осторожнее, но они также позволяют утверждать, что произведения Вагнера, по-видимому, имели мало общего с тем, к чему он сам стремился в музыке. Ясно, что ему непросто было объективно написать о Байрейтском фестивале. Физически и духовно разбитым он через Вену возвратился в Москву.
Две женщины в его жизни
Начиная с ноября 1875 года, Чайковский почти непрерывно находился в депрессивном состоянии, и им все более овладевала навязчивая идея о том, что для его выздоровления необходимо присутствие любящего существа, одна лишь близость которого выведет его из мучительного одиночества. Желание освободиться от «морального недуга», как назвал это состояние Модест, превратилось в отчаянную потребность, под влиянием которой Чайковский в 1877 году совершил шаг, едва не ставший для него роковым. Осенью 1876 года он сообщает Модесту о следующем окончательном и бесповоротном решении: «Начиная с сегодняшнего дня, я буду делать все возможное, чтобы на ком-нибудь жениться. Я знаю, что мои наклонности являются самым большим и непреодолимым препятствием на пути к счастью, и я обязан приложить все силы для того, чтобы их побороть. Я готов совершить невозможное для того, чтобы еще в этом году вступить в брак, и даже если у меня не хватит на это мужества, я в любом случае откажусь от моих привычек. Мысль о том, что те, кто меня любит, вынуждены порой меня стыдиться, наносит мне смертельную рану. Это случалось уже сотни раз и случится еще многие сотни раз… Женитьба или официальная связь с женщиной заткнет рот всей этой шайке. Да, я их презираю, но они приносят горе близким мне людям. Однако я слишком глубоко увяз в своих привычках и пристрастиях и не смогу отбросить их просто так и сразу, как выбрасывают старые перчатки. Мой характер не столь тверд и после последней борьбы с собой я уже трижды вновь уступал своим наклонностям».
Не исключено, что в основе этого шага лежало определенное отвращение к усилившейся в последней период сексуальности, которая, по всей вероятности, выразилась не столько в активной гомосексуальной жизни, сколько в интенсивном сексуальном самоудовлетворении. Как бы там ни было, Чайковский пришел к твердому убеждению, что невозможно дальше продолжать вести такую жизнь, ибо свойственные ей страхи, приступы меланхолии и комплекс вины все глубже загоняли его в изоляцию. О накале страстей и желаний, терзавших его в этот период, дает представление его произведение «Франческа да Римини», где он сумел потрясающе выразить в музыке самые таинственные и дикие фантазии любви, которую ему так и не дано было испытать.
Сообщив в сентябре 1876 года брату Модесту о решении «вступить в брак с кем угодно», Чайковский, по-видимому, не вполне отдавал себе отчет в том, к каким катастрофическим последствиям может привести такой шаг. Сегодня даже трудно себе представить, что бы с ним стало, если бы в этот критический период его жизни рядом с ним не оказалась очень необычная женщина — Надежда Филаретовна фон Мекк. Эта культурная дама была высока и стройна, хотя и не отличалась большой красотой, но главное состояло в том, что ее не вполне стандартная личность во многом была подобна личности Чайковского. Покойный муж Надежды Филаретовны был инженером и нажил огромное богатство на строительстве железных дорог. Своей вдове Карл фон Мекк оставил состояние, считавшееся одним из самых крупных в России. Сюда кроме двух железнодорожных линий входил роскошный дом в Москве, имение Браилов и расположенные в его окрестностях мельницы, сахарные заводы и текстильные фабрики. Гигантское состояние позволяло г-же фон Мекк вместе с членами ее семьи совершать продолжительные дальние путешествия в собственных вагонах и специальных поездах, устраивать в своем доме многочисленные приемы и другие светские мероприятия. Она происходила из музыкальной семьи, неплохо играла на фортепиано. Вообще же музыка приводила эту в остальном весьма расчетливую и деловую даму в настоящий экстаз. В 1876 году ее супруг в возрасте 45 лет при известии об измене жены скончался от «сердечного приступа». К этому моменту она была матерью одиннадцати оставшихся в живых детей, из которых семеро еще жили в ее доме. Под влиянием угрызений совести и чувства вины в смерти мужа она удалилась от света и занималась лишь воспитанием детей и управлением своим имуществом. Контакты она поддерживала только с Николаем Рубинштейном, который являлся для нее своего рода связующим звеном с музыкальным миром. Николай Рубинштейн порекомендовал ей принять в домашний штат молодого скрипача, ученика Чайковского, Иосифа Котека. Никто не мог тогда предположить, что этим началась решающая перемена в жизни Чайковского.
И г-жа фон Мекк, и Котек искренне почитали Чайковского как композитора. При прослушивании его увертюры «Буря» с Надеждой Филаретовной даже случился конвульсивный припадок, и она решила обратиться к Чайковскому с просьбой переложить некоторые небольшие его произведения для скрипки и фортепиано, с тем, чтобы она могла их исполнять с Потеком в домашнем кругу. При этом Чайковскому был обещан небывало высокий гонорар. Чайковский с радостью принял этот заказ к исполнению. Так началась продолжавшаяся 14 лет переписка Чайковского и Надежды фон Мекк, переписка, не имеющая аналогов в истории музыки, а также уникальная и с медицинской точки зрения. Из тысячи двухсот сохранившихся писем перед нами предстает картина единственной в своем роде столь же интимной, сколь и нереалистичной связи, ставшей возможной лишь потому, что оба партнера сразу приняли решение никогда не встречаться и не обмениваться друг с другом ни словом, ни даже взглядом. Можно предположить, что у Чайковского были и другие причины для столь необычной связи, неведомой со времен миннезингеров в раннем европейском средневековье. Выглядящий на первый взгляд странным эпистолярный контакт с женщиной, которая была на девять лет старше, давал ему возможность установить материнскую связь, ведь именно от материнского комплекса он страдал всю свою жизнь. В лице Надежды фон Мекк он нашел женщину, которая была внутренне близка ему, как мать, которую он мог чтить и которая чтила его, и, поскольку она всегда находилась от него на расстоянии, он мог не опасаться неприятных моментов, связанных для него с физической близостью женщины. Однако их многолетняя переписка все же не вполне свободна от неоткровенности и лицемерия, в чем можно убедиться, ознакомившись с письмами Чайковского к брату Модесту, написанными в тот же период. Сам Петр Ильич также вполне отдавал себе отчет в этом, что следует из его письма к брату, в котором говорится: «Я с сожалением должен признать, что наши отношения ненормальны, и я, порой, вполне понимаю эту ненормальность». В периоды депрессии Чайковский жаловался в письмах братьям на преувеличенную заботу Надежды о его благе, которую он воспринимал как вмешательство в личную жизнь, и даже отзывался о нежных чувствах г-жи фон Мекк в весьма нелестных выражениях. Однажды он выразил опасения в том, что она намеревается вторгнуться в границы его сугубо личной сферы и даже больше. Все это находится в вопиющем контрасте с тем, что он писал своей щедрой поклоннице — его письма к ней переполнены заверениями в любви, восхищении и признательности. Он полностью отдавал себе отчет в собственном двуличии и не делал из него секрета, что нашло свое выражении в высказывании Чайковского: «Мои мысли направлены в одну сторону, а дела совсем в другую».
В оправдание Чайковского следует сказать, что у г-жи фон Мекк, по собственной воле избравшей судьбу затворницы, развилось болезненное воображение, и она была настолько обращена в себя, что музыка Чайковского приводила ее в экстатическое состояние. Так, вскоре после начала переписки, 30 марта 1877 года, получив заказанное ею переложение арии из оперы «Опричник», она писала: «Ваша музыка столь чудесна, что приводит меня в состояние счастливого экстаза… мне кажется, что я парю над всем земным, у меня стучит в висках, сердце дико бьется, перед глазами плывет туман, мои уши утопают в волшебстве этой музыки… О Боже, как велик человек, способный дарить другим подобные мгновения счастья». Похожие признания вызвало у нее и известное Andante cantabile из его Первого струнного квартета, на премьере которого разрыдался даже Лев Толстой: «… я чувствую, как эта музыка приводит меня в состояние упоения, которое, подобно землетрясению, охватывает мое тело». Инициатива в этой уникальной эзотерической связи принадлежала Надежде, которая еще за несколько недель до этих эпистолярных «признаний в любви» 27 февраля 1877 года сделала следующее, можно сказать, вызывающее заявление: «Я хотела бы рассказать Вам о необычайной симпатии, которую испытываю к Вам, но боюсь отнимать Ваше драгоценное время. И я лишь скажу Вам, что эти чувства, пусть даже они покажутся Вам столь абстрактными, значат для меня очень много, ибо это — самое лучшее и чистое из известного человеку. Поэтому, Петр Ильич, Вы можете, если хотите, называть меня фантазеркой или даже безумной, но Вы не имеете права смеяться надо мной, поскольку все это могло бы казаться смешным, если бы не было столь откровенно и глубоко прочувствовано».
Через несколько недель после этих патетических строк она заверила его в том, что пользуется любой возможностью для ознакомления со всеми критическими отзывами и замечаниями о его сочинениях, и ему было приятно, что даже не самые удачные его сочинения всегда находили признание у этой женщины. Однако с самого начала она ясно дала понять, что о личном знакомстве любого рода не может быть и речи, даже если бы такое знакомство представлялось по каким-либо соображениям желательным. Она также недвусмысленно дала ему понять, что не считает необходимым видеть его и никогда не потребует личной встречи с ним, поскольку, как она объяснила, «Вы производите на меня настолько сильное впечатление, что я боюсь с Вами знакомиться». К счастью, они оба по причине робости и «мизантропии» очень боялись утратить иллюзии, что «часто следует по пятам за любой близостью», и поэтому их личная встреча так никогда и не состоялась, к счастью, ибо она, несомненно, привела бы к жестокому разочарованию. Надежда выразила этот страх такими словами: «Мне кажется, что я боюсь личной встречи тем больше, чем сильнее Вы меня увлекаете». Чайковский был необычайно счастлив взаимной симпатией такого рода, о чем он писал г-же фон Мекк 28 марта 1877 года: «… Я всегда ценил в Вас человека, моральные принципы и черты характера которого имеют много общего с моими. Нас привязывает друг к другу тот факт, что мы оба страдаем от одного и того же душевного состояния. Это состояние можно было бы назвать мизантропией, но это мизантропия совсем особого рода, она не направлена против людей в форме презрения или ненависти. Люди, страдающие ею, тоскуют по идеалу… и опасаются разочарования, наступающего после любого сближения. Было время, когда этот страх перед людьми охватил меня в такой степени, что я был близок к потере рассудка. Обстоятельства моей жизни сложились так, что я не мог нн скрыться, ни найти выхода. Я должен был побороть самого себя, и одному Богу известно, чего это мне стоило. Я вышел из этой борьбы победителем в такой степени, что жизнь уже давно не кажется мне невыносимой… Мне удалось добиться некоторых успехов, благодаря им я вновь обрел мужество, и состояние подавленности, доводившее меня до галлюцинаций и бредовых идей, теперь лишь редко посещает меня… Из всего этого Вы должны понять, что я вовсе не удивлен тем, что при всей любви к моей музыке Вы не испытываете потребности познакомиться с ее сочинителем. Вы опасаетесь не найти во мне тех качеств, которыми наделила меня Ваша фантазия в стремлении к идеальному. И здесь Вы совершенно правы. Я совершенно убежден в том, что при более близком знакомстве со мной Вы не найдете полного согласия и гармонии между музыкантом и человеком, о которой мечтаете… Если бы Вы только знали, сколь благодатно для художника знать, что есть на свете еще одна душа, способная столь же сильно и глубоко переживать, сколь и он сам при создании своих произведений».
Из приведенных фрагментов этих писем можно без особого труда понять, что в лице г-жи фон Мекк Чайковский нашел женщину, в определенном смысле заменившую ему мать, у которой он всегда мог найти убежище и утешение. Под ее крылом он чувствовал себя не только защищенным от страха, испытываемого перед жизнью. Щедрость этой женщины выручала его также из материальных невзгод. Уже 1 мая он получил от нее значительную сумму в 3000 рублей на покрытие своих долгов. Это побудило Чайковского посвятить ей Четвертую симфонию, о которой он писал Надежде, как о «нашей симфонии». Первая тема этого произведения, как он объяснял в письме, символизирует «силу, подобно дамоклову мечу висящую над нашими головами и омрачающую наше сердце». Небезынтересно отметить, что, развивая тему «дамоклова меча» в письме к Модесту, он намекает на страх разоблачения гомосексуальных наклонностей. Несчастный Чайковский постоянно ощущал комплекс вины за «это» (он так никогда и не решился назвать свою склонность по имени) и это жгло его душу, подобно множеству отравленных стрел.
Нетрудно ответить и на вопрос, почему именно в это время он решил, что ему необходимо заключить брак — причина кроется, вне всякого сомнения, в том же комплексе вины. Модест совершенно справедливо писал, что, намереваясь вступить в официальный брак, Петр Ильич, по-видимому «надеялся избавить душу от моральных страданий, терзавших ее на протяжении всех предшествовавших лет». 2 октября он написал брату Анатолию: «Я еще не подошел к этому поворотному пункту, я лишь думаю о нем и выжидаю чего-то, что побудило бы меня к действию».
Такого события пришлось ждать совсем недолго, и оно действительно случилось без какого-либо его участия. В конце апреля, когда Чайковский как раз работал над сценой письма в опере «Евгений Онегин», он получил письмо от некоей Антонины Ивановны Милюковой, сообщавшей, что она уже давно восхищается им в консерватории и «никогда не перестанет его любить». Поначалу он хотел просто проигнорировать это романтическое письмо, но затем все же заставил себя ответить, поскольку, как он писал г-же фон Мекк 15 июля 1877 года, это письмо было составлено в очень «открытых и искренних выражениях». Позднее не раз высказывалось мнение о том, что здесь сыграла свою роль схожесть между ситуацией, в которой оказалась девушка, написавшая письмо Чайковскому, и той, в которой оказалась пушкинская Татьяна, однако такой подход представляется чересчур упрощенным. Поначалу Антонина, подобно г-же фон Мекк, была готова довольствоваться чисто духовной, платонической связью, однако вечно жить в мире фантазий она не собиралась. Когда Чайковский принял ее приглашение и 1 июня 1877 года нанес ей визит, эта привлекательная, хорошо сложенная почти тридцатилетняя дама ясно дала понять, чего она от него ожидает. В ответ он откровенно поведал ей о своих пороках, тяжелом и капризном характере и весьма слабом здоровье. Увидев, что осуществление ее мечты находится под серьезной угрозой, Антонина ответила, что ее не пугают его недостатки, что за это она любит его еще больше, и под конец пригрозила покончить с собой, если он ее отвергнет: «Нанеся визит одинокой молодой девушке, Вы тем самым соединили наши судьбы. Если Вы не сделаете меня своей женой, я убью себя». В ответ на эту угрозу Чайковский нанес ей повторный визит и, может быть, действительно не желая уподобляться холодному и бессердечному Онегину, предложил ей выйти за него замуж.
Брак для Чайковского мог означать только платоническую связь, и он ясно дал понять, что, вступая в него, хочет раз и навсегда снять с общественного обсуждения вопросы, связанные с его гомосексуализмом. Кроме того, он был достаточно наивен для того, чтобы надеяться, что и ему самому подобным образом удастся справиться со своей ненормальной склонностью. 15 июля 1877 года он написал г-же фон Мекк, что перед ним стояла жестокая альтернатива: либо сохранить личную свободу ценой падения Антонины, либо вступить в этот брак. Кроме того, он оказался в гротескном положении жениха, который был не в состоянии испытать даже малейшее чувство любви к собственной невесте. В музыке очень ясно отразились бури, бушевавшие в те дни и недели в его душе. В финале Четвертой симфонии, которую он закончил в это время, ясно слышны вырвавшиеся на волю страсти, достигающие порой истерического накала. С другой стороны, в это же время он сумел с непревзойденным лиризмом воплотить в музыку судьбу Татьяны в опере «Евгений Онегин», с главным героем которой он себя в значительной степени отождествлял.
В июле 1877 года Чайковский после некоторых колебаний решил известить семью о своих матримониальных намерениях. Символично, что он написал об этом не брату Модесту, который также был гомосексуалистом, и не любимой сестре Саше, а только Анатолию и отцу, которому в то время исполнилось 82 года. В письме отцу от 5 июля он пишет: «Мою невесту зовут Антонина Ивановна Милюкова. Это бедная, но добрая девушка с безупречной репутацией, которая меня очень любит. Дорогой папочка, ты понимаешь, что в моем возрасте не женятся необдуманно, поэтому не беспокойся». Модесту и Саше он написал только после того, как бракосочетание, намеченное на 18 июля, уже состоялось. Родные искренне желали ему счастья, но для Надежды фон Мекк эта новость была «горькой и невыносимой», о чем она написала Чайковскому два года спустя. Ведь она любила его «больше всего на свете» и, естественно, должна была ненавидеть ставшую ему столь близкой Антонину «за то что она не сделала Вас счастливым; но я бы ненавидела ее в сто раз больше, если бы Вы были с ней счастливы».
Еще 18 октября 1876 года Чайковский впервые написал сестре Саше о своем намерении подготовиться к вступлению в брак и заверил ее в том, что «не совершит неосторожного прыжка в пропасть несчастной связи». Однако произошло прямо противоположное, ибо после «идиотской затеи» 18 июля 1877 года Петр Ильич, по словам Модеста, «с первых дней, даже с первых часов своей семейной жизни невероятно тяжело раскаивался в своем легкомысленном и неразумном поступке и был глубоко несчастен». И сам Чайковский через несколько дней после свадьбы писал брату Анатолию об «отвратительной церковной пытке» и о «гнусном плотском поведении жены» по отношению к нему. Здесь есть противоречие с принадлежащим ему же описанием первой «медовой недели»: «Мы подробно обо всем поговорили и окончательно определили наши будущие отношения. Она будет только ласкать и баловать меня… Она очень ограниченна, но это даже хорошо». Но в том же письме он пишет о том, что испытывает все более сильную неприязнь к этой женщине, о которой ему уже в первые дни все стало ясно: «Было бы непростительно и невыносимо, если бы я совершил что-либо бесчестное по отношению к моей жене, но я же совершенно откровенно поставил ее в известность о том, что с моей стороны она может рассчитывать только на братскую любовь. В физическом отношении она стала для меня совершенно отвратительна». Все более очевидными становились результаты «идиотской затеи», с помощью которой он рассчитывал предстать перед обществом в облике нормального женатого мужчины. Он ожидал, что это принесет ему желанное освобождение от страхов и упреков совести и поможет обрести душевный покой, но вместо этого оказался на грани безумия. Не будучи способным дольше выносить все это, он нашел выход в спешном отъезде в Каменку, к сестре Саше, где надеялся обрести покой. В письме своей наперснице фон Мекк от 9 августа он выразил все охватившее его отчаяние и она прислала ему денег на то, чтобы отправить молодую жену на Кавказ якобы для лечения. Он писал в этом письме: «Через несколько часов я уезжаю — еще несколько дней — и я сойду с ума».
Покинув Москву, Чайковский будто «проснулся после страшного кошмара». Он писал г-же фон Мекк, что одна мысль о том, чтобы проживать с женой под Одной крышей, приводит его в ужас. Присутствие Антонины не только было ему отвратительно само по себе, оно мешало сочинять музыку. Собственное будущее представлялось «растительным существованием», в котором не будет места для самого важного дела, составлявшего смысл бытия, — творчества. Но уже в августе, находясь в гостях у сестры, он приступил к оркестровке Четвертой симфонии и завершил партитуру оперы «Евгений Онегин». В это время Антонина в Москве обставляла их общую квартиру. Чайковский чувствовал неизбежность катастрофы. Уже на другой день после прибытия в Москву его охватила паника: «Я мечтаю о том, чтобы куда-нибудь убежать. Но как и куда?» — написал он в дневнике. Письмо г-же фон Мекк было исполнено беспредельного отчаяния: «Смерть казалась мне единственным выходом, но о самоубийстве не могло быть и речи».
Через четырнадцать дней этот кошмарный эпизод достиг кульминационного пункта — началось душевное расстройство, своеобразие которого состояло в том, что ему сопутствовал страх перед добровольным уходом из жизни, решение о котором Чайковский уже принял. В результате он предпринял гротескную попытку сознательно заболеть смертельным воспалением легких, о чем так писал своему другу Кашкину: «Каждый вечер я выходил на прогулку и часами бесцельно бродил по пустынным московским улицам. В одну из таких ночей я оказался на берегу Москвы-реки, и меня вдруг осенило, что я же могу смертельно простудиться. Под покровом ночи я, никем не замеченный, по пояс вошел в воду и оставался там до тех пор, пока мог вытерпеть холод. После этого я вылез из воды в полной уверенности, что подхватил смертельную простуду. Дома я рассказал жене, что был на рыбалке и свалился в воду. Однако мое здоровье оказалось столь крепким, что от пребывания в холодной воде мне ничего не сделалось». Не исключено, что, совершая эту не слишком искреннюю попытку самоубийства, он действительно пытался освободиться от брака с женщиной, которая была для него «просто обузой», а предпринимаемые ею попытки сближения делали ее все более ненавистной для Чайковского. Насколько серьезным было его желание уйти из жизни, можно судить по письму к г-же фон Мекк: «Право же, смерть есть высшая благодать: я молю о ней всеми силами души».
После неудачной попытки самоубийства у Чайковского уже не было сомнений в том, что он находится на грани безумия и что дальнейшая жизнь с этой женщиной быстро приведет его к катастрофе. Модест сообщает, что Петр Ильич «под предлогом якобы полученной им телеграммы, в которой его срочно вызывали в Петербург, 24 сентября спешно покинул Москву, находясь в состоянии, граничившем с безумием». Утром следующего дня на петербургском вокзале Модест увидел старика с худым бледно-желтым лицом, покрасневшими глазами и трясущимися руками. Его сразу же привезли в гостиницу, где случился нервный припадок, после которого он 48 часов пробыл без сознания. Врачи и в их числе психиатр доктор Балинский были едины в том, что полное выздоровление Чайковского возможно лишь в том случае, если его связь с Антониной будет прервана на все времена. Анатолий Ильич, специально выехавший в Москву для того, чтобы сообщить ей об этом, был поражен безучастностью и фривольностью, с которой она восприняла это известие. В 1897 году Антонина была помещена в психиатрическую больницу, где и умерла 20 лет спустя. Известно, что уже к моменту свадьбы с Чайковским она страдала психическим расстройством и имела склонность к нимфомании. В этом смысле, по-видимому, следует понимать следующие строки из письма г-же фон Мекк, посвященные Чайковским своей жене: «Она часами могла рассказывать бесчисленные истории о бесчисленных мужчинах, которые были в нее влюблены. Обычно это были генералы, племянники денежных тузов, известные художники и даже члены императорской фамилии. Столь же часто она с невероятно страстным увлечением подробно рассказывала мне о пороках, жестоких и низменных действиях…». Однако к чести Чайковского следует сказать, что ни тогда, ни позже он не пытался свалить всю вину за происшедшее на жену, что следует из замечания, сделанного им в одном из писем г-же фон Мекк: «Оглядываясь на недолгое время нашей совместной жизни, я вижу, что и моя роль в этом отнюдь не была красивой… В любом случае моя жена заслуживает сострадания». С другой стороны, это позволяет лучше понять парадоксальную ситуацию, возникшую в результате брака мужчины-гомосексуалиста и женщины с гипертрофированной сексуальностью, граничащей с нимфоманией, ибо таким образом два человека, сексуально совершенно несовместимые друг с другом, попытались вступить в брачный союз.
Чайковский ни теперь, ни в будущем не оформлял развода с женой. Он расстался с ней и еще глубже погрузился в мир иллюзий, которыми была наполнена его связь с г-жой фон Мекк. Он пишет Модесту: «Постепенно я вновь нахожу себя и возвращаюсь к жизни». Немалая заслуга в этом принадлежала женщине, которая стала его близким другом и в этом качестве внесла немалый вклад в то, что он вновь обрел душевное равновесие. Существенную роль играла и финансовая поддержка, которая теперь еще крепче привязывала его к его верной поклоннице, и Надежда прекрасно умела пользоваться этим инструментом. Когда в октябре 1877 года он в сопровождении брата Анатолия после короткого пребывания в Берлине прибыл в Кларан на Женевском озере, ему пришло известие о том, что г-жа фон Мекк назначила ему годовую ренту в размере шести тысяч рублей, которая позволяла немедленно сбросить с себя груз преподавательской работы в консерватории и в будущем заниматься исключительно композицией. В письме от 6 ноября он заверил ее в своей глубокой благодарности и пообещал, что «с этого дня каждая нота, слетевшая с его пера, будет посвящена ей». Еще незадолго до этого он писал ей: «Вам известно, дорогой друг, что слухи о моем сумасшествии не вполне безосновательны. Вспоминая обо всем том, что я сотворил, и обо всех нелепостях, которые я совершил, я невольно прихожу к выводу о том, что мой рассудок временами действительно не в порядке». Получив, наконец, финансовую независимость, он мог вновь беспрепятственно отдаться творчеству, о чем недвусмысленно выразился в уже упомянутом благодарственном письме от 6 ноября: «Вам я обязан тем, что ко мне с удвоенной силой вернулось трудолюбие. Никогда, ни на одно мгновение я не смогу забыть, что Вы помогли мне продолжать жить во имя моего творческого призвания». Отношения между Чайковским и г-жой фон Мекк изменились, о чем свидетельствует изменение характера их переписки. Раньше его письма шаблонно походили друг на друга, теперь же он был готов откровенно отвечать на ее вопросы о музыке или о любви. На вопрос о том, любил ли он когда-нибудь, он ответил так: «Вы спрашиваете меня, дорогой друг, знаю ли я иную любовь, кроме платонической. И да, и нет… если же Вы хотите знать, испытал ли я полное счастье в любви, то я отвечу: нет. Я даже думаю, что моя музыка является ответом на этот вопрос. Но если Вы спросите меня, известна ли мне власть и бурная сила этого чувства, то я отвечу Вам: да. И я скажу Вам также, что в своей музыке я много раз пытался выразить муки и сладость любви». Наилучшим примером этого является Четвертая симфония, где он воплотил в музыке мир своих чувств, что наложило на это произведение заметный субъективный отпечаток, как позднее и на Пятую и Шестую симфонии. В Четвертой симфонии отразились все разочарования и осложненные комплексом вины страхи личности, отягощенной сильной склонностью к гомосексуализму, и возбуждение, достигшее дикого накала под воздействием алкоголя, хотя противоречия между действительностью и вытесненными образами видятся несколько размыто, как бы из-под вуали. Сам он был глубоко убежден в высоких качествах этого произведения, о чем так писал г-же фон Мекк: «Я до глубины души убежден в том, что эта симфония — лучшее, что я создал до сих пор».
Из Кларана Чайковский с братом Анатолием и по его настоянию предпринял короткое путешествие в Париж с тем, чтобы ввиду еще не вполне удовлетворительного здоровья показаться известному терапевту доктору д’Аршамбо. Свое разочарование результатами этого обследования Чайковский так выразил в одном из писем: «Едва я начал рассказывать ему историю своей болезни, как он тут же бесстрастно и не без пренебрежения оборвал меня словами: да-да, я все это слышал уже не одну сотню раз, можете дальше не утруждать себя. После этого он сам, ни о чем меня не спрашивая, назвал множество симптомов моей болезни.
Наконец он написал свои назначения, встал и сказал: Милостивый государь, Ваша болезнь неизлечима, но Вы можете с ней прожить до ста лет! Затем он прочитал вслух назначения, состоящие из четырех пунктов: 1. Я должен принимать перед завтраком и обедом мел особого сорта. 2. За четверть часа до обеда выпивать стакан минеральной воды «Отрив». 3. Полечиться на водах в Бареже. 4. Избегать великого множества продуктов. Я положил гонорар на стол и ушел, нисколько не успокоенный, без всякого доверия к его рекомендациям и в сознании того, что побывал не у врача, а у продавца медицинских советов. Можно сказать, что моя поездка в Париж оказалась бесполезной… Самое странное то, что д’Аршамбо даже не спросил меня, кто я по профессии и почему я стал таким нервным. Должен же врач это знать!». Этот пример уже в который раз показывает, сколь важна подробная беседа врача с пациентом для того, чтобы завоевать доверие больного, в особенности если речь идет о психических расстройствах или психосоматических симптомах. Что же касается этого парижского врача, то в данном случае он просто не имел права исключить возможность органического заболевания, тем более, что значение невротических симптомов он был склонен преуменьшать.
Длительное пребывание в Кларане вызывало у Чайковского чувство дискомфорта, и он решил предпринять многомесячное странствие без определенной цели, в ходе которого он посещал в основном различные города Италии. Но и Италия не смогла положительно повлиять на его подавленную психику, о чем можно судить по тому, как он писал о своей болезни в письмах к г-же фон Мекк. Так, в письме, отправленном 18 ноября из Флоренции, говорится: «В Кларане, где я вел совершенно спокойную жизнь, я часто впадал в меланхолию. Будучи не в состоянии иначе объяснить эти периоды депрессии, я приписывал их действию гор. Как наивно! Я уговаривал себя, что достаточно мне пересечь итальянскую границу, и начнется жизнь, полная счастья! Чушь! Здесь я чувствую себя в сто раз более несчастным». Неделю спустя он писал из Рима: «Я все еще совершенно больной человек. Я не переношу ни малейшего шума; вчера во Флоренции, сегодня в Риме каждый проезжающий экипаж приводит меня в безумную ярость, любой звук, любой крик рвет мои нервы. Толпа людей, заполняющая узкие улицы, бесит меня до такой степени, что я вижу в каждом встречном незнакомце злейшего врага». Мизантропический страх перед окружающими, свойственный его настроению в то время, послужил основной причиной того, что он оказался не в состоянии принять почетное предложение представлять Россию на Всемирной выставке в Париже в январе 1878 года. Николай Рубинштейн не мог понять этого решения Чайковского, который так оправдывал его в письме к Рубинштейну от 4 января 1878 года: «Я не могу поехать в Париж. Это не малодушие и не леность, я действительно не могу. Последние три дня с тех пор, как я получил известие о моем назначении, я совершенно болен. Я на грани безумия. Лучше смерть, чем это! Я хотел преодолеть себя, но из этого ничего не вышло. Я теперь по собственному опыту знаю, что значит совершать над собой насилие, идти против собственной природы. Сейчас я не в состоянии видеть людей. Мне совершенно необходима полная изоляция от всякого шума и всякого волнения. Короче, если ты хочешь, чтобы я вернулся к тебе совсем здоровым, не требуй, чтобы я ехал в Париж».
Во время этого периода странствий он лучше всего чувствовал себя в Сан-Ремо, где задержался на более длительное время. После того как Анатолий в декабре 1877 года возвратился в Москву, Чайковский вызвал к себе молодого слугу Алешу, который обычно сопровождал его в последующих путешествиях. Несмотря на плохое психическое состояние, зима 1877–1878 годов оказалась в творческом отношении весьма плодотворной. По его собственным словам, ему казалось, что он «лучше всего отдыхает за работой». Едва закончив оркестровку Четвертой симфонии, он столь же быстро завершил самую известную свою оперу «Евгений Онегин». Наиболее характерно для этого произведения то, что композитор необычайно лично воспринимал сюжет оперы, и хотя ему казалось, что она адресована лишь относительно небольшому кругу зрителей, он, тем не менее, всю жизнь испытывал к ней особую любовь. Столь же быстро, за несколько недель, был создан скрипичный концерт ор. 35, увидевший свет весной 1878 года. И это произведение несет на себе следы пережитого композитором в последние месяцы, но уже ясно видно, что отчаяние и депрессивное расстройство, наконец, сменяются снова истинной радостью жизни. Чайковский находился в «приподнятом настроении» с момента приезда в Кларан молодого скрипача Котека. Туда же к тому времени Чайковский вернулся вместе с братом Модестом. Об этом он 22 марта 1878 года написал г-же фон Мекк. В этом письме он с радостью сообщает о том, что в таком «фантастическом настроении сочинение музыки приносит одно лишь удовольствие», Он очень хотел посвятить Котеку скрипичный концерт, при сочинении которого молодой скрипач, ставший к тому времени учеником Йозефа Иоахима, дал ему немало технических советов, но боялся дать этим повод для «сплетен», о чем писал своему другу и издателю Юргенсону. Премьера этого скрипичного концерта состоялась лишь в декабре 1881 года в Вене, где партию скрипки исполнил молодой виртуоз Адольф Бродский. И хотя венский критик Эдуард Ханслик назвал это произведение «вонючей музыкой», оно и в наше время продолжает принадлежать к «классике».
23 апреля 1878 года Чайковский наконец возвращается в Россию и сначала направляется в Каменку к сестре Саше. Чтобы создать ему «удобные» условия для работы, она выделила для брата и его слуги Алеши отдельный дом. Чайковский также на некоторое время воспользовался приглашением г-жи фон Мекк, предложившей ему некоторое время погостить в ее огромном имении в Браилове, где ему были предоставлены отдельные помещения и весь штат прислуги находился в полном его распоряжении. И вновь его порой одолевала грусть, самым эффективным лекарством от которой была работа. 18 июля 1878 года он писал г-же фон Мекк: «… Работа нужна мне, как воздух для дыхания. Праздность мгновенно вгоняет меня в тоску…. я недоволен собой, я даже ненавижу себя… Я весьма подвержен меланхолии и знаю, что ни в коем случае не должен по желанию бездельничать. В работе мое спасение». Все большую роль для него начинает играть алкоголь, о чем он еще прошедшей зимой написал брату Модесту: «… вечером я все время выпивал по нескольку рюмок бренди. И днем тоже выпиваю порядочно, без этого у меня ничего не получается… Даже для того, чтобы написать письмо, мне требуется глоток. Все это говорит мне о том, что я еще не вполне выкарабкался».
«Кочевое время»
Вернувшись в Москву, Чайковский в октябре 1878 года сложил с себя должность профессора консерватории (до этого он в течение года пребывал в отпуске). С этого момента началось его так называемое «кочевое время». В Москве у него уже не было собственной квартиры, и теперь он, подобно маятнику, метался между Россией и Западной Европой, посещая по пути родственников и друзей в Москве, Петербурге или Киеве. Он все еще страдал от навязчивых страхов и робости перед личными контактами. Тем приятнее было ему узнать, что г-жа фон Мекк предоставила в его распоряжение один из принадлежавших ей домов в ново-приобретенном имении Плещеево, которым он мог пользоваться как и когда ему было угодно, при единственном, но строгом условии, что ее самой в это время не должно было быть в имении. Лишь однажды их экипажи случайно встретились в лесу под Браиловом, что привело обоих в немалое смущение, и Чайковский, не произнеся никакого приветствия, лишь слегка приподнял шляпу. Даже мысль о том, что он может столкнуться с ней лицом к лицу и она, не дай Бог, догадается о его извращенных сексуальных наклонностях, приводила его в панический ужас. При этом письма г-жи фон Мекк заставляют предположить, что она уже надеялась на нечто большее со стороны своего «платонического друга». Первоначальная строгая сдержанность постепенно начинала уступать место настоящим объяснениям в любви. Она писала ему примерно так: «Вы снились мне всю прошлую ночь… Какое счастье чувствовать, что Вы со мной, что я Вами обладаю… Если бы Вы только знали, как я Вас люблю. Это уже нелюбовь, это обожание, поклонение, обожествление». Насколько она стремилась сделать их личные отношения более близкими, следует также из того, что зимой 1878–1879 годов она пригласила его во Флоренцию и сняла для него великолепную квартиру рядом со своей роскошной виллой. Но и теперь они лишь ежедневно обменивались письмами, которые передавали слуги, а личная встреча так и не состоялась. Чайковский слишком хорошо запомнил шок от неожиданной встречи их экипажей в Браилове, после которой он потерял сон и аппетит и вновь впал в глубокую депрессию, о чем так писал Модесту: «Вчера у меня снова был истерический припадок, я прорыдал весь вечер». Во Флоренции он, похоже, и сам стремился к большему, ибо спустя несколько лет после свадьбы брата Анатолия исповедался ему в том, что также испытывал потребность в любви женщины. Возможно, что он не вполне отдавал себе отчет в том, что нуждался не столько в женской, сколько в материнской любви, и его переписка с г-жой фон Мекк представляет собой в действительности почти классический пример связи между матерью и сыном. С этой точки зрения они оба должны были получить немалое удовлетворение, когда в 1884 году состоялась свадьба Сашиной дочери Анны и сына Надежды Николая и, по крайней мере хоть таким образом, между ними возникли семейные узы.
Постоянные поступления от г-жи фон Мекк и растущие доходы от продажи произведений позволяли ему вести аристократический образ жизни, останавливаться только в первоклассных отелях, устраивать приемы и раздавать чаевые. К этому времени он уже стал знаменитостью и в России, и за рубежом, что ему, с одной стороны, льстило, но, с другой стороны, создавало дополнительную психическую нагрузку. Об этих двойственных чувствах он так написал г-же фон Мекк 25 августа 1880 года: «Слава! Какие противоречивые чувства вызывает во мне это слово. С одной стороны, я желаю ее и стремлюсь к ней, с другой стороны, она мне ненавистна, ибо… вместе с моей славой растет также и интерес к моей личности, и я постоянно нахожусь под взглядами публики… Иногда меня охватывает безумное желание раз и навсегда где-нибудь спрятаться, считаться умершим». Для того, чтобы выжить вопреки этому явному внутреннему противоречию и обрести внутренний покой, он попытался создать для себя нечто вроде маски. Его контакты с окружающими отличались корректностью, серьезностью и вежливостью, его поведение в обществе стало более уверенным, и в нем появились даже элементы веселости. Этот оборонительный вал, которым он окружил свою внутреннюю жизнь, даже наложил отпечаток на его письма к г-же фон Мекк. Они не только стали реже и короче, но и содержание их свелось почти исключительно к его творческой деятельности. Лишь в письмах к Модесту он иногда давал понять, что по-прежнему страдает от депрессий и иных физических и психических недомоганий. Амбивалентная природа личности Чайковского, столь явно выразившаяся в Четвертой симфонии и опере «Евгений Онегин», по-прежнему создавала конфликтные ситуации, которые до конца его жизни проявлялись в различных формах как в творческой, так и в медицинской сфере. Расщепленная сексуальность была проклятием, обрекавшим его на уловки, двуличие и фальшь, ибо он одно время старался выглядеть безупречным джентльменом, который интересуется только своей композиторской деятельностью, много путешествует по делам и приватно, иногда выступает в роли добродушного дядюшки, а в остальном нередко бывает занят своими душевными и телесными недомоганиями. Многие страницы обширной переписки Чайковского с Надеждой фон Мекк полны незначительных деталей и жалоб, которые, по меткому выражению Ольги Бенннгсен, следовало адресовать скорее медицинскому консультанту, нежели другу. Действительно, при чтении этих писем порой трудно себе представить, что «их писал молодой человек, а не древний, впавший в детство старик, интересы которого в основном сводятся к пищеварению и прочим незначительным неполадкам в организме, источенном старостью». Чайковский, похоже, и не пытался в этих письмах скрыть детскую сентиментальность, свойственную разве что маленьким девочкам. Из них мы снова и снова узнаем о бессоннице, лихорадочной головной боли и болях в эпигастральной области, которые он называет то желчной коликой, то болью в желудке. С осени 1878 года он, не стесняясь, писал подруге своей души о том, что нередко «пытается подкрепиться вином», по поводу чего немедленно получал серьезные предостережения. Сведения об употреблении алкоголя содержатся также в письмах к братьям и в дневнике Чайковского, причем с течением времени сведения эти становятся все более подробными.
Годы с 1878 по 1885 были для Чайковского не слишком продуктивными в творческом отношении. Исключение составляет «Итальянское каприччио», по формальному построению очень близкое к «Испанскому каприччио» Глинки. Это произведение впервые было исполнено в конце 1880 года в Москве и имело колоссальный успех. По радостному характеру этого произведения, к работе над которым Чайковский приступил, судя по его собственной датировке, в начале года, невозможно догадаться, что 21 января 1880 года умер его отец. Он уже много лет почти не поддерживал контактов с отцом, и, похоже, не принял его смерть близко к сердцу. Это подтверждается хотя бы тем, что он даже не счел нужным приехать на похороны из Рима, где тогда находился.
Второй шедевр, созданный в этот период «по внутреннему побуждению» — «Серенада для струнного оркестра», которую обычно весьма сдержанный в оценках Антон Рубинштейн назвал лучшим произведением Чайковского. Значительно уступает этим произведениям завершенный в мае Второй фортепианный концерт ор. 44, темы которого не выдерживают сравнения со знаменитым Первым концертом си-минор. Те же слабости присущи небольшим фортепианным произведениям Чайковского, сочиненным в это время, а также созданной несколько позже Концертной фантазии ор. 56. Очевидно, Чайковского, как и Берлиоза, фортепиано по-настоящему не вдохновляло.
Насколько смерть отца не слишком взволновала Чайковского, настолько же глубоко потрясла его трагическая кончина Николая Рубинштейна в Париже в 1881 году. Узнав, что Рубинштейн при смерти, он немедленно помчался в Париж, но уже не застал друга в живых. Причиной смерти Рубинштейна стало прободение кишечника, при этом точно неизвестно, была ли вызвана перфорация туберкулезной язвой кишечника, как предполагал парижский врач, доктор Потен, или непроходимостью кишечника, вызванной злокачественной опухолью. Предшествовавшие сильное истощение и упадок сил заставляют скорее предположить последнее. Чайковский, боявшийся мертвецов, привидений и взломщиков, опасался увидеть своего друга изуродованным смертью. О похоронной церемонии он так писал Модесту: «К моему стыду, должен признаться, что я страдал не столько от печальной, невосполнимой потери, сколько от необходимости видеть мертвое тело несчастного Рубинштейна». В память о Рубинштейне Чайковский сочинил Фортепианное трио в двух частях, в первой части которого печальная элегия откровенно и убедительно передает настроение композитора. Во второй части, вариациях, каждая из вариаций соответствует какому-либо событию в жизни Рубинштейна, но в них ощущается недостаток внутреннего участия композитора, да и вообще, в этом камерном произведении много слабых мест. С самого начала Чайковский опасался, что соприкосновение со смертью может вызвать у него кризис, подобный тому, что вызвала незадолго до этого разлука с любимым Алешей, который был для него больше, чем слугой. Несмотря на все попытки освободить его от отбывания воинской повинности, Алеша был призван на военную службу, и теперь Чайковский не только вынужден был вновь в одиночку обустраиваться в своей бурной и хаотичной жизни, но и опасался, что Алеша после грубой солдатской жизни вернется к нему уже другим человеком. В день прощания Чайковский пережил тяжелый нервный кризис, он бился в судорогах, издавал отчаянные вопли и в конце концов впал в обморочное состояние. В письмах Чайковского к Алеше находит свое выражение вся боль разлуки: «… Ах, мой любимый маленький Леня, знай, что даже если ты сто лет пробудешь вдали от меня, я никогда тебя не забуду и буду ждать того счастливого дня, в который ты ко мне вернешься. Ежечасно я думаю об этом… Мне все ненавистно, потому что тебя, мой маленький милый друг, больше нет со мной».
Во время работы над Третьей оркестровой сюитой ор. 55, работу над которой он начал весной 1884 года в Каменке, когда Алеша снова был рядом с ним, в дневнике Чайковского появляются многочисленные упоминания о «Бобе» — его тринадцатилетнем племяннике Владимире. Чайковский испытывал теплую симпатию к этому мальчику с самого раннего его детства и, похоже, с годами эта привязанность приобрела не только платонический характер. Мы знаем, что Боб также имел гомосексуальные наклонности и в 1906 году в возрасте 35 лет покончил жизнь самоубийством. Поначалу любовь Чайковского к Бобу не порождала каких-либо проблем, и в его дневнике появлялись лишь такие записи, как, например, от 26 апреля 1884 года: «Что за сокровище Боб… Мой милый, несравненный и чарующий идол Боб!» В следующий раз он записывает: «Его невероятное очарование когда-нибудь лишит меня разума». Присутствие мальчика внесло смятение в его жизнь и лишило его покоя, чему способствовала также карточная игра: «Винт меня погубит». В напряженные моменты в нем поднималось недовольство собой: «Мне скоро сорок один. Как много я уже прожил и сколь малого достиг». Он боялся таких депрессивных состояний, так как связанная с этим бездеятельность становилась источником болезненных, неудовлетворенных сексуальных вожделений и желаний. Тайные символы «Z» и «X»-, которыми он кодировал в дневнике события гомосексуального характера, или иные события, связанные с его сильными сексуальными эмоциями, позволяют нам представить себе, под каким прессом ему порой приходилось жить. Из дневников мы узнаем также, как он страдал потом от угрызений совести и комплекса вины. Так, на протяжении трех дней подряд в мае 1884 года он пишет: «Z» не столь мучительно, зато присутствует с большим постоянством, нежели «X»… «Z» мучает меня сегодня необычайно жестоко. Боже, избавь меня от такого состояния… Я был чрезвычайно раздражителен и зол, не из-за карточной игры, а потому, что меня мучило «Z»». Подобные записи повторяются через нерегулярные промежутки времени, и порой его охватывает страх перед самом собой. Тогда он делает признания, исполненные чувства вины: «Какое я все-таки чудовище! Боже, прости мне мои греховные чувства».
Неудивительно, что Чайковского постоянно мучили различные писхосоматические проявления болезненного характера: боль в желудке сменялась чувством сдавленности в области шеи, приступами тошноты. Он упоминает в дневнике геморрой, а в записи от 9 мая 1884 года пишет о случае во время прогулки, когда он почувствовал «удушье и сильную боль в области сердца», что его сильно испугало. В июне у него случилось воспаление верхних дыхательных путей, сопровождавшееся высокой температурой, которое доставляло «адские муки» при глотании. Душевное состояние его также было далеко от равновесия: он даже не смог присутствовать на премьере оперы «Мазепа» в Петербурге. Чайковский писал г-же фон Мекк: «Я нахожусь на грани безумия от страха и возбуждения», а спустя чуть больше месяца он, человек не очень религиозный, поразил ее таким признанием: «Я ежечасно благодарю Бога, за то что он дал мне веру. Кем бы я был, если бы не верил в Него и не подчинялся Его воле, я, малодушный человек, которого малейший удар судьбы потрясает до глубины души и толкает к желанию лишить себя жизни». Судя по этим строкам, в депрессивном состоянии его постоянно посещали суицидальные идеи, и это несмотря на все творческие успехи в России и за ее пределами. Насколько значительными были эти успехи, можно судить хотя бы потому, что в июне 1883 года ему, первому из русских композиторов, была присвоена степень почетного доктора Кембриджского университета, а император Александр III лично заказал ему несколько произведений, в основном духовного содержания.
Чайковский все больше уставал от бурной активности и постоянных путешествий, он начал тосковать о внутреннем покое. 4 апреля 1884 года он написал г-же фон Мекк: «Я устал от странствий. Я не знаю, как это вышло, но теперь я думаю только о собственном доме». Сентябрь он провел в имении Плещеево, но в 1885 году это наконец свершилось: в деревне Майданово в окрестностях Клина, на родине Алеши, он снял дом, и на этом кочевой период жизни Чайковского закончился.
Он еще трижды менял квартиры, но до конца своих дней так и не покинул эти столь любимые его сердцу места. Брату Модесту он писал, что его привлекают не только красоты местности, но и то, что «она находится на пути между двумя столицами». 1885 год стал для Чайковского поворотным также и в творческом отношении. К нему постепенно возвращались силы, душевный и творческий спад, в котором он, несмотря на упорную работу, пребывал почти семь лет, закончился. Модест так описывал возрождение брата: «Ему больше не нужна опора, теперь главная его потребность состоит в независимости. Его не пугают общественные обязанности, лежащие вне сферы композиции, они даже привлекают его… Он больше не сторонится людей, он идет всем навстречу… начиная с 1885 года, постоянно расширяется его деловая переписка с издателями, антрепренерами и представителями различных русских и европейских музыкальных институтов. Количественно биографический материал значительно увеличился, но качественно он малоинтересен».
Активно участвуя в этот период в международной музыкальной жизни, Чайковский очень старался скрыть под «маской» свою робость перед межличностными контактами, но депрессии по-прежнему не оставляли его. В письмах Модесту он и в период «возрождения» продолжал рассказывать о своих физических и душевных страданиях. В биографии Петра Ильича, написанной Модестом, об этом говорится так: «После семилетнего отдыха Петр Ильич с мужеством и желанием вновь берется за все. Но затем его мужество постепенно иссякает, и для продолжения такого образа жизни ему приходится напрягать всю имеющуюся в его распоряжении силу воли. Воодушевление уходит и остается лишь, по его собственным словам, усталость от жизни, временами страшная печаль, что-то безрадостное, предсмертное». Новое повышение нервозности заставило Чайковского обратиться к известному петербургскому терапевту доктору Василию Бертензону, который сразу завоевал и на долгие годы сохранил доверие своего пациента. Чайковский сообщил доктору Бертензону, что наряду со ставшими для него уже обычными болями в желудке и кишечными расстройствами в последнее время испытывает «одышку», и это вызывает у него особую тревогу. Доктор Бертензон также не смог обнаружить какого-либо органического заболевания и признал, что это расстройство носит общеневротический характер, то есть подтвердил диагноз, поставленный ранее в Париже доктором д’Аршамбо. В связи с наличием «желудочного и нервного заболевания» доктор Бертензон посоветовал Чайковскому пройти курс курортного лечения в Виши.
В 1885 году Чайковского единогласно избирают членом правления Московского отделения Русского музыкального общества. В этом качестве ему удается провести на должность директора Московской консерватории своего бывшего ученика Сергея Танеева, который позднее много сделал для популяризации произведений своего учителя. При этом Чайковскому пришлось бороться с интригами, что явилось для него невероятно тяжелой нагрузкой. Об этом он писал г-же фон Мекк: «Результат — неописуемая усталость и тоска по отдыху и покою». Покой он обрел в своем доме в Майданове, где в апреле начал сочинять «Манфреда», крупномасштабную программную симфонию. Симфония была закончена уже в сентябре, и некоторые специалисты считают это произведение шедевром Чайковского. Однако эта работа потребовала от него невероятного напряжения, что вновь привело к нервному перевозбуждению, перемежавшемуся фазами глубочайшей депрессии.
До сих пор застенчивость мешала ему заниматься дирижированием, но в конце 1886 года, впервые после десятилетнего перерыва, у него появилось достаточно мужества и уверенности для того, чтобы вновь встать за пульт. Он писал г-же фон Мекк: «Обстоятельства сложились таким образом, что я должен попытаться преодолеть себя и в последний раз подвергнуть себя испытанию за дирижерским пультом… этому способствовало непреодолимое желание доказать самому себе, сколь необоснованны сомнения в моих дирижерских способностях. Премьера оперы «Черевички», переработанного варианта оперы «Кузнец Вакула», показала, что это ему удалось, и он решил продирижировать в Петербурге концертом, составленным исключительно из его произведений. Это событие состоялось 5 марта, и успех был столь убедительным, что Чайковский запланировал на ноябрь еще один концерт такого рода в Москве, в котором должна была состояться премьера его новой, четвертой оркестровой сюиты «Моцартиана».
Но до этого его настиг тяжелый удар судьбы. Не успел он прибыть в Боржоми для принятия курса общеукрепляющего лечения, как тут же получил известие о том, что его старый друг Николай Кондратьев тяжело заболел в Аахене. Последующие шесть недель, которые Чайковский провел у постели умирающего друга, снова привели его на грань депрессии. 12 сентября 1887 года он написал г-же фон Мекк: «Это был один из самых трудных периодов в моей жизни. За это время я очень постарел и похудел. Разочарование, подавленность и апатия охватили меня настолько, что казалось, будто и мой конец близок». На фоне этого душевного расстройства в начале ноября провалилась премьера его новой оперы «Чародейка» в Петербурге, и теперь депрессия окончательно стала клинически выраженной. В этом состоянии он нашел в. себе силы репетировать запланированный большой симфонический Концерт в Москве, что стоило ему огромных усилий. Он писал г-же фон Мекк: «Я очень устал н боюсь, что эти заботы и волнения разрушат мое здоровье», Концерт состоялся 26 ноября 1887 года, и успех был настолько триумфальным, что концерт пришлось повторить на следующий день. Это событие настолько вернуло ему силы, что в 1888 году он смог выступить с большим концертным турне по всей Европе. Во время этого турне Чайковский посетил Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Прагу, Берлин, Женеву, Париж и Лондон, где смог лично познакомиться со многими выдающимися музыкантами. Свое признание выразили ему Иоганнес Брамс, Антонин Дворжак, Эдвард Григ, и прежде всего ведущие композиторы Франции: Форе, Гуно, Массне и другие, что существенно укрепило его веру в себя. Впечатления Чайковского от этих триумфальных гастролей описаны им в «Дневнике моего путешествия 1888 года», который стал доступным общественности спустя короткое время после смерти композитора. Параллельно он вел и свой личный дневник, из которого явствует, что имидж уверенного в себе и избалованного успехом любимца публики стоил ему величайших затрат сил, а за этой маской скрывался человек, измученный постоянными сомнениями и упреками совести, о чем неоднократно писал его брат Модест. Все чаще рядом с таинственным шифром «Z» появляются записи, которые свидетельствуют об увеличивающемся потреблении алкоголя: «Пьянство; пил столько, что не помню, что было; бесконечная пьянка и речи». Из этого можно сделать вывод о том, что алкоголь превратился для Чайковского в привычное средство, помогавшее ему преодолевать неудовлетворенные желания, сомнения и угрызения совести. В большинстве случаев после изрядной порции коньяка, абсента или грога он просыпался на следующее утро с тошнотой и головной болью. Порой читатель дневника наталкивается на записи, свидетельствующие о том, что его автор употреблял и наркотики. Вот, например, запись примерно от 10 мая: «Пережил что-то вроде самовлюбленности в героин Доде», или от 2 июня, в Париже: «Был с Брандуковым у Голицына. Там был еще один плоскогрудый господин приятной наружности, элегантный джентльмен и врач. Впрыскивание морфия». Из дневника мы узнаем также о фазах «тоски по родине и рыданий от грусти». Постоянно попадаются записи о различных жалобах: на изжогу, как правило, после ночных застолий, на зубную боль, порой терзавшую его. В марте 1888 года у него образовался зубной абсцесс. Запись, сделанная между 4 и 9 марта: «Щека болит невыносимо, не давала мне уснуть всю ночь, болит и весь день, сегодня с утра всю щеку сильно раздуло; я даже не могу говорить. Боль немного утихла, но сильная лихорадка остается — меня это совершенно вымотало, но к четырем часам все прошло, как по волшебству». При внимательном чтении дневника Чайковского можно заметить, что его желудочные недомогания далеко не всегда имели чисто функциональное происхождение. Имеется немало данных для того, чтобы заподозрить, что в ряде случаев они были вызваны органическим заболеванием. 13 июля 1886 года, испытав накануне неприятное давление в области желудка, Чайковский писал: «Я поел и почувствовал себя лучше. Я уже подумал, что боль в желудке совсем прошла, но к вечеру мне снова стало хуже». И чуть позже: «Желудок болит, как никогда раньше. Выпил немного коньяку с водой — и никакой боли. Как странно!». Это классическое описание симптомов язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. В эту картину вполне вписывается и такой симптом (запись от 17 июля): «Ночью проснулся от неописуемо мучительной боли в груди — не мог ни спать, ни лежать, сидел то в одном, то в другом кресле. По совету Голицына попробовал горчичник — помогло. Я смог проспать в кресле до утра». Боль, возникающая обычно в первые часы после полуночи и сопутствующая употреблению алкоголя или жирной пищи на ужин, которая локализуется под грудиной и ослабевает, если придать туловищу вертикальное положение, является симптомом так называемого рефлюкса, при котором кислый желудочный сок поступает обратным током в нижний слюнной канал, вызывая при этом сильное жжение или сверлящую боль. Чайковский в дневниках описывал также симптомы, характерные для диагноза истинной депрессии. 31 июля он с удивлением пишет: «Странно. Уже давно я замечаю, что по утрам чувствую себя особенно плохо. Как можно это объяснить? Почему вместо прилива энергии и работоспособности я испытываю по утрам лишь разбитость, грусть и антипатию к любому виду деятельности?… Чувство бесконечного одиночества и подавленности». Естественно, подобные состояния психического расстройства бывали вызваны сложностями, связанными с гомосексуализмом. Какие муки ревности и обиды испытывал Чайковский, можно представить себе, читая между строк некоторых записей в его дневнике. Вот запись от 2 ноября 1886 года: «Я скрываю от других то, что ревную Боба к Ване», и спустя шесть дней: «Очень странно, но я испытываю чувство, что он не только не любит меня, но и ощущает ко мне антипатию. Ошибаюсь я или нет?». Снова и снова он искал спасения в алкоголе: «Я напился, как матрос. Едва мог держать перо в руке». Его мучили не только сомнения в любви Боба, но и трения с молодым капризным другом Ваней, о котором он как-то написал: «Любовь с Ваней. Сдержанность. Добродетель побеждает», в другой раз Чайковский на него разозлился. К этому добавились еще и школьники Шиллинг и Радин, доставившие ему в Майданове некоторое беспокойство. 9 апреля 1887 года он записывает в дневнике: «Мальчишки продолжали меня преследовать. Я спрятался у берега». Его неудержимо влекло к мальчишкам, что снова и снова находит отражение в дневнике, как, например, в мае 1887 года во время путешествия на пароходе по Волге: «Моя дружба с невероятно привлекательным и милым школьником Сашей приближается к своему crescendo».
Нагрузки во время концертного турне по Западной Европе, сопровождавшегося многочисленными ночными алкогольными эксцессами, не могли не оказать воздействия на физическое и психическое состояние Чайковского. Находясь в Праге, он записал в дневник такое наблюдение: «Я старею. Меня охватывает ужас, когда я гляжу в зеркало». Тоска по России, по покою в Майданове становилась тем сильнее, чем дольше он находился вдали от дома, и его подавленность незадолго до возвращения на родину достигла пика, о чем можно судить по дневниковой записи от 15 марта 1888 года: «Ужинал неподалеку от оперы (Венской — прим. автора)… Готовлюсь к долгому пути назад в Россию. Возможно, на этом я навсегда закончу вести дневник. Старость стучит в окно, возможно, что и смерть недалека». На обратном пути к желанному покою он написал г-же фон Мекк: «Разве не странно, что после утомительного трехмесячного странствия по чужбине я уже снова думаю о новых путешествиях?», а по прибытии домой он записал в дневнике: «Странная вещь, я жажду одиночества, а когда оно наступает, я страдаю». Первым делом он переехал из Майданова в новый дом в деревне Фроловское, также недалеко от Клина, где тут же занялся планами новой симфонии и увертюры-фантазии «Гамлет». В Четвертой симфонии Чайковскому не удалось «тему судьбы» сделать «ядром всей симфонии», зато в Пятой симфонии «тема провидения» пронизывает все ее части в соответствии с программой, избранной им для этого произведения: «Полная покорность судьбе, или, что то же самое, предопределенность провидением». Действительно, эта симфония создает у слушателя впечатление, что любая попытка оказать сопротивление неумолимым силам провидения обречена на неудачу. Наиболее ясно это ощущение неумолимости «судьбы» выражено в финале, для которого Тови нашел удачное сравнение с ночным кошмаром: «Хочется бежать еще быстрее, но не можешь сдвинуться с места». В наше время во всем мире существует единое мнение о том, что это произведение принадлежит к числу наиболее популярных и обладающих наибольшей силой воздействия симфоний XIX века. Но и здесь, на вершине расцвета творческих сил, его одолевали сомнения, которыми он делился с г-жой фон Мекк: «Часто меня одолевают сомнения, и я задаю себе вопрос: не пора ли кончать? Не перенапряг ли я свою фантазию? Не пересох ли уже источник?». Вероятно, за этими строками стояло впечатление от резкой критики Кюи, который назвал восторженно принятую петербургской публикой Пятую симфонию «бесхарактерной и заурядной».
В конце 1888 года Чайковский вернулся в свой дом во Фроловеком и приступил к работе над балетом «Спящая красавица», но вскоре новое концертное турне увлекло его в Кельн, Франкфурт, Дрезден, Берлин, Женеву, Ганновер и, наконец, привело в Париж. Из Марселя он отправился через Константинополь в Батум и в конце концов в мае 1889 года в полном изнеможении вернулся домой. Через несколько месяцев во Фроловском он завершил «Спящую красавицу», безусловно, одно из лучших своих произведений. Зиму 1889–1890 года он намеревался провести в Москве и продирижировать несколькими концертами в Музыкальном обществе. Каких усилий это ему стоило, видно из письма г-же фон Мекк от 4 декабря 1889 года: «Случались моменты, когда мои силы иссякали настолько, что я опасался за свою жизнь… Признаюсь Вам лишь в том, что с 1 по 19 ноября я принял крестные муки и до сих пор удивляюсь, как я все это мог выдержать». С одной стороны, он жаждал отдыха, а с другой стороны, письма неприятного и оскорбительного содержания, приходившие от его жены Антонины, буквально принуждали его к бегству в дальние края. В начале 1890 года он писал г-же фон Мекк: «У меня больше нет сил, и я решил отказаться от всех российских и зарубежных концертов и на четыре месяца съездить в Италию, чтобы отдохнуть и поработать над будущей оперой. В качестве сюжета я взял «Пиковую даму» Пушкина… Последнюю неделю я провел в чрезвычайно плохом настроении… Уехать, как можно скорее уехать! Никого не видеть, ни о чем не знать, только работать, работать, работать… Вот чего жаждет моя душа». Модест пишет о «сильном нервном переутомлении и некоторой рассеянности» Чайковского в эти месяцы. В этом смысле многое проясняет примечательное письмо, написанное Петром Ильичом крупному русскому композитору Александру Глазунову 11 февраля 1890 года: «Сейчас я нахожусь на очень загадочной стадии моего пути к могиле. Во мне происходит что-то странное и непонятное. Меня охватила какая-то пресыщенность жизнью: порой я испытываю безумную грусть, но это не та грусть, сквозь которую пробивается новый всплеск любви к жизни, но нечто безнадежное… возможно, вся моя болезнь заключается в том, что через два месяца мне исполнится пятьдесят». Эти строки типичны для человека, переживающего «кризис середины жизни» (midlife crisis) и испытывающего в связи с этим депрессивные колебания настроения. Чайковскому удалось преодолеть этот душевный спад интенсивным трудом. Во Флоренции, в лихорадочном порыве энтузиазма, ему удалось завершить оперу «Пиковая дама» в невообразимо короткий срок — всего за шесть недель. Основная причина колоссального успеха этого произведения, несомненно, заключается именно в невероятном внутреннем соучастии автора, который во время сочинения полностью погрузился в мир этой оперы. Модест утверждает, что Петр Ильич считал «Пиковую даму» вообще своим лучшим произведением. В начале мая он вернулся во Фроловское, где осуществил задуманную еще в Италии идею струнного секстета. Удовлетворенный двумя последними сочинениями, он в сентябре 1890 года поехал к брату Анатолию в Тифлис, где его потрясло совершенно неожиданное событие. Г-жа фон Мекк сообщила ему в письме, что чрезвычайные обстоятельства привели ее на грань финансового краха, и она уже не сможет высылать в будущем его годовую ренту. Письмо заканчивалось словами: «Прощайте, мой милый, несравненный друг, и не забывайте ту, чья любовь к Вам всегда будет бесконечной». За последние годы его доходы существенно возросли, и эта финансовая потеря не так уж подорвала его положение. Однако его самооценка была до основания поколеблена казавшимся ему непонятным отношением Надежды к дружбе, длившейся четырнадцать лет, которая теперь должна была закончиться одновременно с окончанием ее финансовой помощи. Теперь ему казалось, что она покупала эту дружбу, поставив его в финансовую зависимость от себя. Когда же он узнал о том, что г-жа фон Мекк потеряла далеко не все свое состояние, он окончательно вышел из себя на почве уязвленной гордости. Мысль о том, что все эти годы он был лишь игрушкой в руках состоятельной бессердечной дамы, которая теперь, наигравшись, уволила его, как ненужного лакея, была, по словам Модеста, «одной из тех обид, которые Петр Ильич унес с собой в могилу». Но прежде всего он немедленно, 4 октября 1890 года, написал ответ на ее уничтожающее письмо; он попытался объяснить ей, что весьма соболезнует постигшему ее несчастью, что его материальное положение значительно упрочилось и отсутствие годовой ренты никоим образом не представляет для него опасности. Надежда не ответила ни на это, ни на все последующие письма, что, по словам Модеста, явилось для него «самой смертельной обидой», и «ни блестящий успех «Пиковой дамы», ни глубокая скорбь по любимой сестре, умершей в апреле 1891 года, ни триумфальное турне по Америке не смогли заглушить эту боль». Сам Чайковский писал об этом так: «Никогда я не чувствовал себя столь униженным, никогда моя гордость не была так оскорблена».
Какие причины в действительности заставили г-жу фон Мекк столь внезапно и навсегда прервать отношения с Чайковским, выяснить до конца сегодня уже невозможно. Некоторые авторы считают, что причиной этого был комплекс вины по отношению к ее семье, вины за то, что она все эти годы заботилась исключительно о Чайковском, пренебрегая родными. В это время ее старший сын опустился настолько, что превратился в духовного и физического калеку, а внебрачная дочь Людмила, плод ее связи с секретарем мужа, ставшая косвенной причиной смерти г-на фон Мекка, ввязалась вместе со своим мужем, князем Ширинским, в аферу со взятками. По другой версии, Александра, вторая дочь Надежды, злой дух семьи фон Мекк, просветила мамашу относительно гомосексуальных наклонностей Чайковского, что и побудило ее принять это тяжелое решение. Однако Надежда незадолго до того, как отправила последнее письмо Чайковскому, переслала ему его ренту нарочным во Фроловское, и не чеком, как обычно, а наличными, за год вперед. Это говорит о том, что вряд ли здесь имело место внутреннее отчуждение. О том же говорит и ответное письмо Чайковскому зятя Надежды Пахульского, бывшего ученика Петра Ильича. Чайковский безуспешно пытался через Пахульского установить контакт с г-жой фон Мекк. Пахульский сообщал, что «ее внешнее безразличие (то, что она оставила письма без ответа — прим. автора) является последствием тяжелого нервного недуга, но в глубине души она продолжает так же любить Петра Ильича». Под выражением «нервный недуг» следует понимать тяжелое заболевание, которым она страдала уже в то время. Модест Чайковский писал, что «начиная с 1890 года, жизнь Надежды фон Мекк на деле была не более чем медленным умиранием вследствие ужасного нервного заболевания, которое изменило ее отношения не только с Петром Ильичом». Из имеющихся документов мы можем узнать, что г-жа фон Мекк страдала от болезни почек, которая к этому времени зашла уже очень далеко, и, кроме того, она «утратила способность пользоваться рукой», возможно, вследствие инсульта на почве почечной гипертонии. Поскольку ее сын Владимир перенес несколько инсультов, приведших в конечном итоге к его смерти, вполне возможно, что и мать, и сын страдали от одной болезни — гипертонии, для которой зачастую свойственна семейная предрасположенность. У Надежды это привело к образованию сморщенной почки со всеми вытекающими из этого клиническими последствиями, и, в конечном итоге, к смерти от почечной недостаточности или инсульта. Она пережила Чайковского лишь на несколько месяцев, успев до этого помириться с ним, о чем сообщает ее племянница Галина фон Мекк в «Воспоминаниях», опубликованных в 1973 году.
«Старик в 50 лет»
Душевное потрясение, вызванное внезапным концом легендарного почтового романа с г-жой фон Мекк, нашло свое выражение в симфонической балладе «Воевода», которую Чайковский начал сочинять 10 октября 1890 года, через неделю после получения судьбоносного письма. 19 декабря 1890 года в Петербурге с большим успехом прошла премьера «Пиковой дамы». Эти недели он провел в кружке творческой интеллигенции, финансируемом одним из крупных русских промышленников, к которому принадлежал также Римский-Корсаков. Застолья продолжались до самого утра, и, по воспоминаниям Римского-Корсакова, Чайковский был в состоянии «пить вино в больших количествах» и, в отличие от менее стойких к выпивке собутыльников, «мог полностью контролировать все свои физические и психические проявления». В это же время Чайковский начинает работать над балетом «Щелкунчик», который был заказан ему дирекцией петербургского театра.
В его письмах того времени, адресованных даже самым близким родственникам, ничего не говорится о том, что происходило в его внутреннем мире Модест также оказался не в состоянии понять необычное поведение брата, в чем откровенно признался: «Я вообще не берусь разгадывать последнюю психологическую эволюцию в душе Петра Ильича, ибо моих скромных сил недостаточно для решения этой задачи». Скорее всего, Модест прав, полагая, что решающим импульсом, вызвавшим к жизни такую перемену, послужил окончательный разрыв Петра Ильича с г-жой фон Мекк: «Эта рана так никогда и не зажила, она болела непрерывно и омрачила последние годы его жизни». Чайковский теперь был занят неустанной деятельностью, всегда подчеркнуто чем-то занят, и, по словам брата, «казалось, что он перестал принадлежать себе, что им овладело Нечто, лишившее его воли и по своему произволу бросавшее его то в одну, то в другую сторону… этим таинственным Нечто было то непостижимо мрачное, беспокойное, безнадежное настроение, для подавления которого требовалось отвлечение — все равно какого рода».
Такая возможность отвлечься представилась в виде турне по США, начавшееся в апреле 1891 года, во время которого Чайковский вел весьма подробный дневник. После исполнения Первого концерта для фортепиано с оркестром в Нью-Йорке он записал: «Поднялась такая буря оваций, которую мне не приходилось переживать никогда, даже в России». Единственным событием, омрачившим это турне, было известие о смерти любимой сестры Саши, которое он получил перед самым отплытием. Основным объектом беспокойства был любимый племянник Володя, «Боб», так как Чайковский опасался, что смерть матери может оказаться для нЬго слишком тяжелым ударом. Однако никто из посторонних не заметил этого беспокойства, внешне Чайковский выглядел очень спокойным и уравновешенным, о чем можно судить по заметке, опубликованной «Нью-Йорк Геральд» 24 апреля 1891 года: «Чайковский — высокий, уравновешенный, хорошо сложенный, интересный мужчина, которому на вид можно дать около 60 лет». Он выглядел старше своего настоящего возраста, по всей видимости, из-за совершенно седых волос. В действительности ему только-только должен был исполниться 51. Эта ошибка репортера немало потешила Чайковского.
1 июня он вернулся в Петербург, усталый, но в лучшем расположении духа, чем до поездки. Однако ошибка американской газеты в определении его возраста сразу почти на 10 лет, вначале рассмешившая Чайковского, позднее заставила его задуматься. Дневниковая запись от 8 мая посвящена эпизоду, в котором он перепутал фамилии двух пианистов: «Моя рассеянность становится порой просто невыносимой, й я усматриваю в ней признак надвигающейся старости… Все думали, что я намного старше. Неужели я так постарел за последние годы? Вполне возможно… Под влиянием разговоров о моей стариковской внешности мне всю ночь снились ужасные сны». И после возвращения домой незначительная рассеянность вновь и вновь возвращает его к этой теме. Запись от 7 июля 1891 года: «Вот еще одно доказательство того, что я старею. Я уже выгляжу не так хорошо, волосы выпадают, зубы начинают шататься, походка тяжелеет». Еще в 1872 году у Чайковского было впервые обнаружено падение остроты зрения и с тех пор, занимаясь композицией, он охотно пользовался пенсне. Об ухудшении состояния зубов он неоднократно сообщал в дневнике, жалуясь на зубную боль.
Летом Чайковский продолжал работать над балетом «Щелкунчик», но уже в декабре без видимой мотивации отправился в очередное концертное турне, сначала в Варшаву, а затем в Гамбург, где состоялось памятное событие — премьера оперы «Евгений Онегин» на немецком языке. 19 января 1892 года Чайковский писал племяннику Бобу: «Здешний капельмейстер — не какая-то посредственность, а истинный всесторонний гений… Певцы, оркестр… и капельмейстер (его фамилия Малер) совершенно влюблены в ‘Евгения Онегина’». После роскошной постановки оперы Чайковский отправился в Париж, но здесь так затосковал по родине, что, недолго думая, отменил запланированные концерты в Нидерландах и спешно выехал домой. 17 мая он въехал в новый дом на окраине Клина, свое последнее пристанище — тот самый дом, где теперь находится музей Чайковского. Он собирался начать работу над новой симфонией, но этому помешали вновь появившиеся признаки переутомления, выразившиеся в нервозности и боли в желудке. В связи с этими симптомами врачи порекомендовали Чайковскому пройти трехнедельный курс лечения в Виши, куда он и направился в сопровождении племянника Боба. Вернувшись в Клин, он откорректировал для печати некоторые ранее написанные партитуры, и его снова охватила жажда странствий. После короткого путешествия в Вену и Прагу в сентябре 1892 года, он присутствует на премьере «Щелкунчика», которая прошла без слишком громкого успеха, а спустя неделю, 18 декабря, вновь устремляется в концертное турне — Берлин, Париж, Брюссель, Базель. Во время этого путешествия он отклонился от маршрута для того, чтобы посетить проживавшую в Монбейяре Фанни Дюрбах, которой в то время уже исполнилось 70 лет. Об этой встрече он писал брату Николаю, также сохранившему живые воспоминания о своей гувернантке: «Ей уже семьдесят, но она мало изменилась. Я очень боялся, что дело дойдет до слезных сцен, но ничего подобного не произошло. Она приветствовала меня так, как если бы мы не виделись всего лишь год — радостно, непринужденно и без всяких условностей… Потом она показала мне наши школьные тетрадки… но самое интересное — это милые, чудесные мамины письма… Мне показалось, что я вновь вдохнул чудный воздух нашего боткинского дома и услышал голоса мамы и всех наших».
После концерта в Брюсселе Чайковский выступил как дирижер на пяти концертах в Одессе, где ему был оказан триумфальный прием. Но, тем не менее, его терзала меланхолия и отсутствие уверенности в себе, о чем он писал в письме к Модесту: «Мне предстоит вернуть веру в себя самого, эта вера подорвана и мне кажется, что моя роль уже сыграна». В Одессе художник Кузнецов написал портрет Чайковского, который, по словам Модеста, передает его, как живого. На портрете мы видим совершенно седого человека с одухотворенным лицом, которому на вид можно дать на десять лет больше его 53. Вот что пишет Доор, который, встретившись с Чайковским в это время, буквально ужаснулся тому, как он постарел: «Он изменился так, что я смог его узнать по глазам небесной голубизны. Глубокий старик в 50 лет! Мне стоило большого труда не дать ему догадаться об этом. Титанический труд разрушил его хрупкий организм». Вероятно, ускоренному старению способствовало не только неумеренное потребление алкоголя и чрезмерные психические нагрузки, но и, в наибольшей степени, лихорадочная композиторская и дирижерская деятельность в последние годы.
В начале 1893 года после завершения очередного успешного турне Чайковский вернулся в Клин. Уже в дороге у него вновь начались сильные боли в желудке, о которых он писал так: «В поезде мне стало так плохо, что я, к ужасу попутчиков, начал бредить и был вынужден сойти в Харькове. Приняв обычные в таких случаях меры, я выспался и на следующее утро проснулся здоровым. По моему, это была острая желудочная лихорадка». Не исключено, что и на этот раз имело место неврогенное функциональное расстройство желудка или толстого кишечника на почве перегрузок во время турне, вызвавшее «острые» болевые ощущения. В пользу такого предположения говорит также и то, что ввиду жалоб на сильные, не-прекращающиеся головные боли, врач в начале марта настоятельно порекомендовал Чайковскому избегать психических напряжений. 20 марта он написал Модесту: «Представь себе, что головная боль, которая, казалось уже, останется со мной навеки, вдруг прошла сама собой ровно на четырнадцатый день после того, как началась».
К этому времени план Шестой симфонии начал обретать реальные очертания, о чем он сообщал племяннику Бобу в письме от 23 февраля: «Во время странствий мне пришла в голову идея новой симфонии. На сей раз это будет программная симфония, но программа ее останется тайной для всех, и пусть ломают себе головы. Называться она будет «Программная симфония (№ 6)». Программа же ее интимнейше субъективна. Ты поймешь, каким счастьем переполняет меня сознание того, что мое время еще не кончено, и я еще в состоянии работать». Работа над этим произведением многократно прерывалась поездками по России и сочинением небольших «промежуточных» произведений, в которых Чайковский оттачивал идеи оркестровки Шестой симфонии. К числу этих произведений относятся 18 пьес для фортепиано ор. 72. Чайковский не склонен был высоко оценивать их, но некоторые все же весьма хороши. Прежде всего это относится к «Valse a cinque temps» («Вальс на пять тактов»). Этот вальс воплотился в одной из тем второй части Шестой симфонии. На более высоком качественном уровне находятся Шесть романсов ор. 73. Наиболее выдающимся здесь является последний романс. Преобладание песенного стиля в позднем творчестве Чайковского говорит о том, что при более благоприятном развитии событий он наверняка подарил бы нам еще одну оперу.
В мае, после гастролей в Лондоне, где Чайковский выступил в амплуа дирижера, и посещения Кембриджа, где ему были торжественно вручены знаки отличия почетного доктора, он наконец снова мог заняться оркестровкой Шестой симфонии. К этому времени физические и психические недомогания, не дававшие ему покоя в мае, кажется, начали отступать, и он писал: «Вчера мои мучения были столь невыносимы, что я потерял сон и аппетит, что случается у меня очень редко. Я страдаю не только от тоски по родине, которую вообще невозможно передать словами (в моей новой симфонии есть место, которое, как мне кажется, хорошо это передает), но и от ненависти к чужим для меня людям, от ощущения непонятного страха и еще черт знает от чего. Физически это выражается в болезненных ощущениях в нижней части живота и пронзительной боли и слабости в ногах». Возможно, что ненависть и безразличие к окружающим были, кроме всего прочего, вызваны чередой печальных событий, обрушившихся на Чайковского после возвращения в Клин. О том, что это были за события, писал Модест: «Повсюду витало дуновение смерти. Не успел он получить известие о смерти Константина Шиловского (брата Владимира Шиловского — прим. автора), как тут же его постиг новый удар — скончался его друг К., а еще через десять дней он получил письмо от графини Шиловской, в котором она сообщала о смерти мужа Владимира (к которому Чайковский однажды воспылал любовью — прим. автора). Вдобавок ко всему в Петербурге лежал при смерти Апухтин (поэт и одноклассник Чайковского по Училищу правоведения, сыгравший немалую роль в развитии его гомосексуальных наклонностей — прим. автора)…. Но несколько лет назад даже одно подобное известие оказало бы на Петра Ильича более сильное воздействие, чем теперь все они вместе взятые». Модест приписывает это приподнятому настроению, в котором пребывал Чайковский во время работы над Шестой симфонией. Действительно, Чайковский считал это произведение вершиной своего творчества и называл его самым «честным» из всего, что он создал, о чем так писал Бобу: «Я люблю ее больше, чем когда-либо любил другое мое музыкальное произведение». Похожие мысли выразил он и в письме брату Анатолию в августе 1893 года: «Я очень горжусь этой симфонией и считаю ее моим лучшим сочинением». Безучастность, с которой Чайковский воспринял упомянутые выше трагические известия, в какой-то мере сочеталась с его прогрессировавшим эгоизмом, достигшим к этому времени заметного уровня. Он сам признал это в дневнике: «Мне часто кажется, что моя досада и мое недовольство связаны с тем, что слишком независим и слишком много мню о себе, неспособен жертвовать собой ради других, даже ради тех, кто мне близок и дорог». Такие признания Чайковский доверял только дневникам, в письмах же его истинное Я почти никогда не выходило на поверхность, если не считать тех из них, которые, как писал он в дневнике, возникли «в состоянии глубокого душевного смятения».
По совету Модеста Петр Ильич назвал Шестую симфонию «Патетической». Первое исполнение ее под управлением Чайковского состоялось 28 октября 1893 года. Симфония встретила вежливый, но не восторженный прием публики и критики. По этому поводу Чайковский писал 30 октября своему издателю и другу Юргенсону: «Симфония не была отвергнута, но она произвела что-то вроде замешательства. Я же горжусь этой вещью больше, чем любым другим своим сочинением».
Действительно, этой симфонии были присущи особенности, совершенно новые для слушателей и чуждые им. И сам Чайковский признавал это, о чем писал летом племяннику Бобу, которому посвятил это произведение: «По своей форме эта симфония будет содержать много нового, и, прежде всего, то, что ее финал — это не обычное громовое Allegro, а напротив — долгое Adagio». Что он завещал этим произведением любимому «Бобику», с которым его связывали не только платонические отношения, навсегда останется для нас тайной. Эдвард Гарден, анализируя Шестую симфонию, полагает, что первой темой Чайковский желает выразить мотивы борьбы, «связанной с тягой к жизни», в то время как инвертированная гамма символизирует «лейтмотив смерти». Взрывам страстей сопутствует совершенно противоположный момент, который «раскрывается как тема прекрасной любви». Эта умиротворенность совершенно внезапно прерывается вновь возникающим «мотивом смерти», постепенно переходящим в православный хорал «Со святыми упокой». За этой чрезвычайно насыщенной частью следует уже упоминавшийся нами выше вальс на пять четвертей, несущий умиротворяющую разрядку. Развитие третьей части постепенно переходит в могучий триумфальный марш, причем у слушателя не остается сомнений в том, что здесь триумфатором является не кто иной, как смерть. Однако подлинная вершина симфонии — ее четвертая часть, которая открывается темой «Requiem eternam» заупокойной литургии, достигающей в конце совершенно невыносимого отчаяния. Именно такого эффекта хотел достичь Чайковский, о чем он в 1893 году писал великому князю Константину. Константин переписывался с Чайковским уже на протяжении нескольких лет и просил его написать реквием по недавно умершему другу юности Апухтину.
В этом письме Чайковского, в частности, говорится: «Меня несколько смущает то обстоятельство, что моя недавно завершенная последняя симфония проникнута, особенно в финале, настроением, присущим скорее реквиему… Я очень опасаюсь просто повториться, если сразу же возьмусь за подобное произведение».
Через неделю после первого исполнения Шестой симфонии Чайковского не стало, и явно автобиографический характер Шестой симфонии, само собой разумеется, широко распахнул двери для разнообразнейших романтических толкований этого произведения. Предпринимались попытки доказать, что композитор сочинял эту симфонию в предчувствии близкой смерти. Некоторые биографы склонны усматривать в Шестой симфонии даже желание умереть, ссылаясь в доказательство такой гипотезы на душераздирающие вопли в разработке второй темы первой части. Однако, по данным Модеста, не было никаких ощутимых признаков того, что Петр Ильич предчувствовал собственную смерть или, тем более, желал ее. Напротив, он говорил о планах новых сочинений и вел себя совершенно обычно: «В последние дни его настроение не было ни исключительно радостным, ни как-то особо подавленным. В кругу ближайших друзей он был весел и доволен жизнью, в обществе чужих людей он, как всегда, нервничал и возбуждался, от чего позднее уставал и становился вялым. Ничто не давало повода для мыслей о близкой смерти». Близкие к Чайковскому люди обратили внимание единственно на то, что он стал воздержаннее. Он продолжал пить вино, но теперь обязательно разводил его минеральной водой, и по вечерам не ел мяса.
Как сообщает Модест, утром 2 ноября Чайковский пожаловался на тошноту и боль в желудке, в связи с чем ему порекомендовали принять касторового масла.
Было высказано предположение, что тошнота и боль в животе вызвана тем, что он заразился, выпив воды, инфицированной холерой. Накануне, обедая с Модестом и Бобиком, он налил себе из графина водопроводной воды и сделал несколько глотков. Речь шла о некипяченой воде, а в это время в Петербурге вновь свирепствовала эпидемия холеры. Такая версия казалась вполне возможной, кроме того, Модест, описывая последующие события, постарался еще более повысить ее правдоподобие. Согласно его изложению, у Чайковского начался сильный понос, сопровождавшийся рвотой, и это ослабило его до такой степени, что через несколько часов он уже не был в состоянии говорить, а боли в животе настолько усилились, что заставляли его поминутно вскрикивать. Врач Чайковского доктор Василий Бертензон и приглашенный в качестве консультанта его брат доктор Лев Бертензон провели всю ночь у постели больного. Лишь ранним утром им на смену пришел их ассистент доктор Мамонов, которого в 3 часа дня сменил доктор Сандерс, также ассистент доктора Бертензона. Днем наступило относительное улучшение и Чайковский сказал посетившему его доктору Бертензону: «Благодарю Вас, Вы вырвали меня из лап смерти». Но уже на следующий день, 4 ноября, он почувствовал себя явно хуже и сказал Модесту: «Думаю, это смерть». В том же духе высказался он и доктору Бертензону: «Сколько доброты и терпения тратите Вы понапрасну, меня уже нельзя вылечить». Диарея усилилась, тянущая боль в мышцах становилась невыносимой. К концу этого дня 4 ноября появилась устойчивая задержка мочеиспускания, возникла угроза почечной недостаточности, в связи с чем врачи порекомендовали теплую ванну. Больной не забыл, чем закончилась эта процедура для его матери, умершей от холеры, и так прокомментировал этот совет: «Охотно, купание пойдет мне на пользу, только я наверняка умру, как моя мать, если Вы окунете меня в воду». Учитывая слабость пациента, врачи решили пока отказаться от ванны.
5 ноября состояние больного быстро ухудшалось, он впал в беспамятство, бредил, можно было разобрать, что он произносил имя Надежды Филаретовны. К полудню возникла угроза полного прекращения деятельности почек, и доктор Лев Бертензон все же решился на теплую ванну. Эта процедура вызвала обильное потоотделение и вызвала у больного еще большую слабость, но не оказала положительного влияния на работу почек. В течение нескольких часов физическое состояние больного стало катастрофическим и доктор Сандерс срочно вызвал доктора Льва Бертензона. Но и тот, как и следовало ожидать, оказался бессилен изменить неблагоприятное течение заболевания. Николай Чайковский срочно послал за священником, который, будучи уже не в состоянии исповедовать больного, отказался причастить его святым дарам. В три часа утра 6 ноября агония подошла к концу. Модест так пишет об этом: «Неожиданно Петр Ильич открыл глаза, в которых мы увидели явный отсвет ясного сознания. Он по очереди задержал взгляд на тех троих из нас, кто стоял ближе всего к нему, а затем обратил его к небу. Еще несколько мгновений что-то светилось в его глазах, но вскоре угасло вместе с его последним вздохом».
Истинный диагноз и причина смерти
Основываясь на красочном рассказе Модеста, биографы Чайковского, как и врачи, были до самого последнего времени твердо убеждены в том, что причиной смерти композитора явилась холера, эпидемия которой свирепствовала в то время в Петербурге. Споры вызывал лишь вопрос о том, случайно ли, по небрежности, заразился Чайковский этим заболеванием или это было сделано сознательно. В последнее время большинство исследователей склонялось к последней версии. Модест, автор обширной биографии Чайковского, обходит эту тему молчанием, поэтому казалось, что ответ на этот вопрос уже никогда не будет получен.
Однако в последнее время на основании новых документов и обнаруженных свидетельств очевидцев совершенно неожиданно удалось выявить факты, которые позволяют не только поставить под сомнение версию Модеста, но и решительно ее опровергнуть. Следует обратить внимание также и на то, что даже у некоторых современников возникали подозрения в том, что эта версия смерти Чайковского не соответствует действительности. Первые противоречия обнаруживаются уже в сообщениях, опубликованных в одной из петербургских газет того времени. 24 октября по ст. стилю (5 ноября по новому, далее, во избежание разночтений, мы будем указывать двойные даты) «Биржевые ведомости» писали: «Весь музыкальный мир обеспокоен известием о тяжелой болезни П. И. Чайковского. К счастью, согласно последнему бюллетеню, можно ожидать благополучного исхода болезни (предполагается, что это тиф)». На следующий день, когда уже наступила смерть, в той же газете появилась заметка следующего содержания: «Страшная эпидемия не пощадила и нашего известного композитора П. И. Чайковского. Он заболел в четверг (21 октября/2 ноября — прим. автора), и сразу же в течение дня его болезнь приняла опасный характер». За этой заметкой следовали два медицинских бюллетеня и следующее заключительное замечание: «В половине третьего утра врачи удалились, будучи в полной уверенности, что состояние больного безнадежно. В три П. И. Чайковского не стало». В этих газетных материалах присутствует вопиющее противоречие: в первой публикации говорится о заболевании тифом, в течении которого 23 октября/4 ноября даже появились признаки улучшения, в то время как во второй заметке говорится о том, что течение болезни с самого начала приняло опасный характер. Во втором материале название заболевания не упоминается, но очевидно, что за словом «эпидемия» скрывается холера. Уже в те времена такой диагноз вызвал обоснованные сомнения. «Петербургская газета» писала 26 октября/7 ноября: «Как мог Чайковский получить холеру, если гигиенические условия, в которых он проживал, были такими, лучше которых и представить себе невозможно, и приехал в Петербург лишь несколько дней назад?». Действительно, в октябре 1893 года заражение холерой в Петербурге казалось крайне маловероятным, поскольку пик эпидемии холеры в России пришелся на лето прошедшего, 1892 года, и в 1893 году она проявляла себя уже значительно слабее. Более того, эпидемия, протекавшая в 1893 году уже далеко не так свирепо, осенью, как это обычно бывает, явно пошла на спад, и к концу года наблюдались лишь единичные случаи.
Поэтому не вызывает удивления, что по городу поползли упорные слухи о том, что Чайковский умер вовсе не от холеры, а покончил жизнь самоубийством. Распространению этих слухов способствовали также противоречивые высказывания врачей. Доктор Василий Бертензон, пользовавшийся на протяжении ряда лет особым доверием Чайковского, заявил, что маэстро почувствовал себя неважно еще в четверг, 21 октября/2 ноября, но обратился за медицинской помощью только в пятницу. В субботу, 23 октября/4 ноября наступило заметное улучшение, и врачи предположили, что больной благополучно переживет холеру. Беспокойство вызывал лишь прогрессирующий упадок сил.
Одновременно в газете «Биржевые ведомости» было опубликовано интервью с доктором Николаем Мамоновым, выдающимся клиницистом, исполнявшим обязанности врача императорской семьи, который вместе с доктором Сандерсом дежурил у постели Чайковского. Доктор Мамонов заявил, что Чайковский почувствовал себя плохо уже в среду 20 октября/1 ноября, в то время как Модест твердо держался того мнения, что накануне первого дня своего рокового недуга его брат не ощущал какого-либо недомогания и был вполне здоров.
Столь противоречивые версии побудили газету «Новое время» 27 октября/7 ноября 1893 года взять интервью у доктора Льва Бертензона, возглавлявшего группу врачей, лечивших Чайковского во время его последней болезни. В версии Льва Бертензона ранее проявившиеся противоречия проступили еще более явным образом. В отличие от своего брата Василия доктор Лев Бертензон заявил, что с самого начала заболевания возникла опасность почечной недостаточности и что в субботу, 23 октября/4 ноября, никакого улучшения состояния больного не произошло — в этот день он уже был при смерти. Действительно, смерть Чайковского наступила ранним утром следующего дня.
Подобные противоречия можно объяснить лишь желанием скрыть правду и тем, что ввиду надвигавшейся катастрофы врачи потеряли голову и, по меньшей мере, не сумели договориться о единой версии происшедшего. Но, кроме того, версия доктора Льва Бертензона не выдерживает критики и с профессиональной точки зрения: так называемая «болевая» стадия холеры, в которой он якобы застал пациента, соответствует второму периоду течения этого заболевания, и совершенно невозможно, чтобы такое состояние возникло сразу после начала болезни» Ответ на эти загадки отчасти содержится в воспоминаниях доктора Василия Бертензона, опубликованных в 1980 году, где он, пытаясь оправдаться, написал: «Должен сознаться, что до этих событий я не видел ни одного реального случая холеры». Пациентами братьев Бертензонов были преимущественно представители элитарных кругов Петербурга, проживавшие в прекрасных гигиенических условиях, так что этим врачам, действительно, непросто было увидеть реальный случай холеры. Будучи вынужденными сознательно искажать факты, они воспользовались терминологией, которую еще помнили по учебникам со студенческих времен, с целью создать у общественности впечатление, что их пациент умер от холеры. Сегодня нам точно известно, что они вполне отдавали себе отчет в истинном положении вещей.
Можно предположить, что, описывая последние дни Чайковского, Модест опирался на письмо Льва Бертензона, в котором тот попытался изложить события медицински правдоподобно, воспроизведя классическую клиническую картину холеры из учебника. Это письмо было обнаружено в 1938 году в архиве Модеста и до второй мировой войны хранилось в музее Чайковского в Клину. Сегодня письмо считается утраченным. Достоянием общественности стало лишь второе письмо доктора Льва Бертензона Модесту Чайковскому, которое было написано непосредственно после кончины его брата. В этом письме врач выражает свои личные чувства, но не сообщает никаких медицинских подробностей трагического события: «Хочу обнять Вас и поведать Вам, насколько потрясло меня наше общее горе, однако я сам едва стою на ногах и не могу выйти из дому. Ужасная болезнь, унесшая Вашего любимого брата, сделала так, что я ощущаю себя единым с ним, с Вами и со всеми, кому он был дорог. Я все еще не могу прийти в себя после страшной трагедии, свидетелем которой мне довелось стать, и просто не в состоянии описать те муки, которые испытываю сейчас. Могу Вам сказать лишь одно: я чувствую то же, что и Вы. Всегда верный и преданный Вам Лев Бертензон».
Другое письмо, более предметного характера, 1/13 ноября 1893 года было предоставлено газете «Петербургские ведомости» с короткой сопроводительной запиской Модеста Чайковского. Эта записка была опубликована на одной полосе со статьей «Болезнь Чайковского» и звучала так: «Дабы положить конец разноречивым слухам, считаю необходимым передать Вам для опубликования в дополнение к короткому, но чрезвычайно точному отчету доктора Л. Б. Бертензона о последних днях моего брата П. И. Чайковского возможно более подробный отчет о тех событиях, свидетелем которых мне довелось быть». Если даже отвлечься от того факта, что в этой статье доктор Лев Бертензон датирует смерть П. И. Чайковского 24 октября/5 ноября, а Модест — 25 октября/6 ноября, то все равно их описания событий во многом противоречат версии медицинского бюллетеня, ранее опубликованного в печати.
Особого внимания заслуживает упоминание Модеста о том, что в первый день болезни пациент жаловался на сильную боль в груди, а также на неутолимую жажду — симптомы, не вписывающиеся в клиническую картину холеры и поэтому не упомянутые доктором Бертензоном. В изложении Модеста присутствуют и другие подробности, противоречащие версии о том, что Чайковский заразился холерой. Так, в частности, в квартире Модеста, где находился больной, а затем и умерший, не были выполнены элементарные санитарные меры предосторожности, строжайше предписанные правительственным постановлением для помещений, в которых были выявлены случаи холеры, а именно: «В случае смерти от холеры тело умершего должно быть как можно скорее удалено из дома, причем тело при этом должно быть помещено в герметически закрытый гроб. Рекомендуется отказаться от пышной погребальной церемонии и поминок». В случае Чайковского все эти требования были оставлены без внимания. У постели умирающего постоянно находилось не менее 15 человек, не считая священника, тело двое суток находилось в квартире: в первый день — на диване, а во второй — в открытом гробу, который был закрыт лишь вечером 26 октября/7 ноября. Еще 27 октября/8 ноября «Московская газета» писала: «Петр Ильич лежит, как живой. Лицо его выражает умиротворение, лишь ужасная бледность говорит о страданиях, которые покойный перенес в последние три дня своей жизни». В «Хронике моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова, опубликованной в 1955 году в Москве, автор воспоминаний с удивлением пишет о том, сколь халатным в данном случае было отношение к санитарным правилам, установленным для случаев смерти от холеры: «Странно было, что доступ на заупокойную службу был открыт для всех, хотя причиной смерти была холера. На моих глазах Вержбилович (крупный виолончелист — прим. автора) поцеловал лоб и щеку покойного». Наконец, 25 октября/6 ноября скульптору Целинскому было дано разрешение снять посмертную маску Чайковского, что также никак не вяжется с версией его смерти от холеры.
В истории о холере, которой Модест пытался придать достоверный вид, есть еще две несуразности. Во-первых, это относится к роли сырой воды, которую Чайковский якобы выпил вечером 20 октября/1 ноября, что должно было послужить причиной заражения холерой. Во всех медицинских изданиях, посвященных вопросам борьбы с холерой, категорически запрещается не только пить сырую воду, но и применять ее для мытья и мойки столовой посуды. Крайне трудно себе представить, чтобы во время эпидемии холеры в ресторане или в семейном кругу на стол могла попасть сырая вода. Но даже если предположить такую возможность и допустить, что Чайковский действительно выпил воду, инфицированную возбудителями холеры, то к вечеру того же дня симптомы этого заболевания еще не могли проявиться, так как холере присущ более длительный инкубационный период. Во-вторых, это касается пресловутой «теплой ванны», которую в те времена часто назначали холерным больным для стимулирования деятельности почек. По данным доктора Бертензона, эта процедура была проведена в субботу, а по данным Модеста — в воскресенье. Сегодня нам известно, что врачи вообще не рассматривали возможность назначения теплой ванны, ибо в дневнике владельца газеты «Новое время» Алексея Суворина имеется такая многозначительная запись: «Вчера похоронили Чайковского. Я страшно горюю по нем. Его лечили братья Бертензоны, и они не назначили ванну». Это также говорит о том, что врачи и не помышляли о диагнозе «холера».
Тот факт, что после смерти маэстро пресса продолжала оживленно обсуждать подробности симптомов его болезни и медицинских мероприятий, а брат покойного и лечившие его врачи посчитали необходимым давать публичные объяснения, свидетельствует о том, что слухи о возможном самоубийстве Чайковского продолжали циркулировать. Однако в двадцатые годы XX века совершенно неожиданно произошло событие, пролившее свет на спорные и таинственные события, связанные со смертью Чайковского. Доктор Василий Бертензон, не только лечивший Чайковского, но и бывший его близким другом, не пожелал дольше скрывать правду и рассказал другу своего сына, музыковеду Георгию Орлову, что Чайковский не умер от холеры, а совершил самоубийство. Почти в то же самое время Орлов получил подтверждение этого сообщения от своего друга, сына доктора Сандерса — того врача, который совместно с доктором Бертензоном находился у постели умирающего Чайковского в последние его дни и часы. Впоследствии, в сороковые годы, жена Орлова Александра работала в Ленинградском институте театра и музыки, и от профессора Александра Оссовского, директора этого института, Орлов получил новое, уже третье подтверждение этой версии.
Можно считать доказанным, что Чайковский не умер, как считалось ранее, от холеры, а покончил жизнь самоубийством, причем сознательно выбрал такой способ ухода из жизни, чтобы смерть выглядела естественной. Здесь невольно напрашивается ассоциация с попыткой самоубийства, предпринятой Чайковским вскоре после свадьбы с Антониной, когда он также попытался инсценировать смерть от воспаления легких. В 1966 году Орловой удалось найти и ответ на вопрос, почему Чайковский покончил с собой именно тогда, находясь в зените славы и творческих успехов. В этом ей помогли записки Александра Войтова, бывшего куратора нумизматического отдела Русского музея в Ленинграде. Г-н Войтов также был выпускником Училища правоведения, где в свое время учился Чайковский, и в порядке хобби собирал всевозможные материалы о бывших воспитанниках этого учебного заведения. В ходе своих изысканий Войтов наткнулся на некоего Николая Якоби, который, как позднее выяснилось, сыграл ключевую роль в событиях трагического октября 1893 года, повлекших за собой смерть Чайковского. Вот краткое изложение этих событий.
Некий князь Стенбок-Фермор направил тогда жалобу на имя императора Александра III, в которой заявил, что «композитор уделяет слишком много внимания его юному племяннику». Письмо поступило к тогдашнему прокурору Апелляционного суда и однокласснику Чайковского Николаю Якоби, который обязан был передать его дальше по инстанции. Якоби понимал, что это означает позор не только для Чайковского лично, но и для всего столь почтенного учебного заведения, каким являлось Училище правоведения. Во избежание огласки происшествия Якоби принял решение созвать «суд чести», заседание которого прошло у него на квартире 19 октября. Наряду с обвиняемым в заседании суда приняли участие еще шестеро бывших одноклассников, находившихся в то время в Петербурге. Судьи совещались почти пять часов и в результате пришли к решению о том, что избежать передачи письма царю можно будет только при том условии, что Чайковский добровольно уйдет из жизни. В состоянии сильного душевного волнения маэстро в конце концов принял эти условия. То, что Войтов передал суть событий правильно, подтвердила и Вера Кузнецова, невестка Николая Чайковского, умершая в 1955 году. Предполагают, что яд доставил Чайковскому его бывший одноклассник адвокат Август Герке, который, как писал в «Русском музыкальном журнале» Василий Бессель, должен был подписать с композитором договор об издании его оперы «Опричник» в издательстве Бесселя.
В 1981 года Галина фон Мекк, дочь племянницы Чайковского, опубликовала его «Письма к семье», снабдив их эпилогом. В этом эпилоге говорится, что через три дня после отправки письма о публикации Шестой симфонии в издательство Юргенсона Чайковский вернулся домой очень взволнованным, пробормотал несколько непонятных фраз и попросил брата налить себе стакан воды. В ответ на замечание брата о том, что воду следовало бы сначала прокипятить, Чайковский сам отправился на кухню, набрал воды из-под крана, и, бросив лишь: «Кого это уже волнует!», выпил ее. В тот же вечер (это должно было быть 21 октября — прим. автора) Чайковский почувствовал себя очень плохо. Не исключено, что этим стаканом воды он запил яд.
Итак, сегодня мы можем с большой точностью реконструировать причины самоубийства Чайковского и способ, которым он воспользовался для добровольного ухода из жизни. Нам также вполне понятны причины, заставившие его братьев Модеста и Николая, безусловно знавших правду, всеми возможными способами скрывать ее. Неудивительно, что попытки выдать смерть от яда за смерть от холеры, предпринятые в состоянии сильнейшего душевного волнения, оказались достаточно неуклюжими и вызвали обоснованные подозрения еще у современников событий, которые обратили внимание в первую очередь на вопиющее нарушение санитарных правил, установленных для случаев смерти от холеры. Современному читателю «самопожертвование» Чайковского может показаться непонятным и абсурдным, да и в то время было вовсе не обязательно требовать от человека гомосексуальной ориентации шага, которого от него потребовали Якоби и другие одноклассники Чайковского на устроенном ими «суде чести». Да, в российском Уложении о наказаниях 1868 и 1885 годов издания имелась статья 995, согласно которой лица, уличенные в мужеложстве, лишались всех прав состояния и подлежали ссылке в Сибирь. В действительности же императорский двор склонен был в основном закрывать глаза на подобные факты, ибо некоторые родственники царя и высшие вельможи сами были гомосексуалистами. Если же дело доходило до публичных скандалов, то их виновников переводили на службу в отдаленные провинции — о суде и ссылке никто и не заикался.
Надежды на то, что тайну «трибунала чести» и последовавшего вслед за ним вынужденного самоубийства Чайковский унесет в собой в могилу, не оправдались, поскольку, как выяснилось позднее, в архивах сохранились документы об этих событиях. Орлова сообщает, что в 1960 году на кафедре судебной медицины Ленинградского университета была прочитана лекция, в которой «дело Чайковского» упоминалось как «классический случай» вынужденного самоубийства. Из этого следует, что события 1893 года нашли свое отражение в документах.
В знак признания выдающихся заслуг Чайковского Александр III за счет двора устроил торжественную панихиду — такой чести «рядовой» российский подданный был удостоен впервые. В траурном шествии по Невскому проспекту приняли участие делегации многочисленных обществ, академических институтов и многие тысячи жителей Петербурга. Процессия двигалась к Александро-Невскому кладбищу, где великий музыкант нашел свое последнее упокоение рядом с Глинкой, Бородиным и Мусоргским, несколько часов, и все это время Невский был закрыт для движения транспорта.
При итоговом анализе биографического анамнеза Чайковского следует, прежде всего, обратить внимание на исключительно сложную структуру его психики и порожденные ею соматические явления.
Уже в первые годы жизни он проявил себя чрезвычайно чувствительным и восприимчивым ребенком, что дало повод его гувернантке Фанни Дюрбах назвать его «фарфоровым мальчиком». Не исключено, что столь нежный настрой души Чайковский унаследовал от деда со стороны матери, который, как известно, был чрезвычайно нервным человеком и, по не вполне проверенным данным, даже страдал эпилепсией. Фанни была очень тонко чувствующим и отзывчивым человеком, и сразу же после поступления на службу в семью Чайковских стала для Петра важнейшей после матери референтной личностью, к которой он страстно привязался. Фанни, как и мать, должна была принадлежать только ему и он ревновал ее, как и мать, к старшему брату Николаю. Подобная ревность и фиксация на определенных феноменах в раннем детстве является совершенно нормальным психическим явлением и представляет собой нормальную фазу развития половой жизни ребенка к концу пятого года его жизни. Эта фаза оказывает решающее влияние на последующее развитие личности. Ведь мать или лицо, ее заменяющее, с которым у ребенка устанавливается первая в его жизни интимная связь, является объектом его первой любви и желаний. Но мать не может всецело принадлежать одному ребенку — он должен делить ее с братьями, сестрами и, прежде всего, с отцом, и, следовательно, страстная любовь ребенка к матери никогда не может получить полного удовлетворения. В этой ситуации у Петра должна была возникнуть тайная ревность к старшему брату и, безусловно, к отцу, которых мальчик интуитивно воспринимал как соперников.
Зная это, можно себе представить, какой катастрофой явился для восьмилетнего Петра переезд семьи из Воткинска в Москву, когда его любимая Фанни была уволена. До сих пор он всегда находился под ее доброй и ласковой защитой, теперь же гиперчувствительный ребенок оказался один на один с чуждым, холодным и враждебным миром. Подобные события оказали на столь чувствительную психику Петра, можно сказать, травмирующее воздействие, и его характер сразу резко изменился. Это выразилось в рассеянности, потере интереса к окружающим и повышенной возбудимости. К тому же, в это же самое время Петр перенес корь и врачи даже склонялись к тому, чтобы объяснить изменения в его характере последствиями энцефалита или «сухотки спинного мозга», возникших как осложнение кори, что, естественно, не имело ничего общего с действительностью.
Растерянный и полностью потерявший жизненные ориентиры, мальчик все глубже замыкался в себе. Его обожаемая матушка не знала что поделать и, не желая безучастно наблюдать за неблагоприятным развитием событий, реагировала на них чрезмерной озабоченностью, в результате чего Петр стал еще больше идеализировать женское начало, к чему был склонен с самого раннего детства. Впоследствии это нашло свое отражение в образах его опер и в том, что Чайковский всегда сохранял дистанцию между собой и теми женщинами, к которым испытывал симпатию, тщательно избегая какой-либо интимности в отношениях с ними.
В последнее время высказывалось предположение о том, что гипертрофированная заботливость матери способствовала раннему развитию у Чайковского гомосексуальных наклонностей. Это соответствует самым современным научным взглядам, согласно которым излишне привязчивое, сексуально провоцирующее поведение матери, злоупотребляющей при этом запретами и табу, может сильно способствовать развитию таких наклонностей. Губерт Вайншток, однако, считает, что гомосексуализм Чайковского был обусловлен, скорее всего, наследственными причинами, поскольку такая сексуальная ориентация была свойственна также его брату Модесту и племяннику Владимиру. Следует признать, что в некоторых семьях гомосексуализм встречается довольно часто, и, согласно результатам новейших исследований близнецов, наследственная предрасположенность к гомосексуализму существует с большой вероятностью, но все же более важную роль в развитии гомосексуальной ориентации играют впечатления от окружающего мира, полученные в детстве, например традиции воспитания, во многом определяющие направление дальнейшего развития личности ребенка. Такое влияние на развитие личности Чайковского во времена его детства оказала уже упомянутая нами выше идеализация двух близких ему женщин и отождествление с матерью. Согласно теории психоанализа в основе гомосексуализма лежит инвертированная отрицательная эдипова установка, то есть отождествление с матерью, которая порой побуждает гомосексуалистов вступать в контакты (как правило, несексуальные) со старшими по возрасту женщинами — как это было у Чайковского с г-жой фон Мекк.
В любом случае основы гомосексуальной ориентации закладываются преимущественно уже в раннем детстве, в то время, когда ребенок еще не понимает различия между полами и мать в одно и то же время является для него и объектом, удовлетворяющим потребность, и объектом отождествления на самой ранней стадии. Произойдет ли в последующие годы выход за пределы нормальной сексуальной жизни взрослого человека, зависит от того, в какой мере этот человек, став взрослым, сохранил влечение к тому или иному из многочисленных и недифференцированных видов сексуальной активности детского возраста. Поскольку незрелой и недифференцированной детской сексуальности присуще практически неограниченное многообразие возможностей частичного и неполного удовлетворения, начиная от возбуждения эрогенных зон в области рта и ануса и кончая детской мастурбацией в области гениталий, спектр отклонений от нормальной сексуальной жизни, возможных у взрослого человека, столь же разнообразен.
Наиболее распространенным отклонением такого рода является, по-видимому, гомосексуализм, который в наше время считается скорее не перверсией (извращением), а инверсией, то есть нарциссическим обращением либидо на объект, подобный себе. В юношеском возрасте подобное нарциссическое обращение либидо на себя, как на объект любви, является в известной степени нормальным преходящим явлением. То же самое относится и к переходной фазе юношеской гомофилии, когда возникает страстная дружба юношей с юношами и девушек с девушками. Однако, если эта фаза, нормальная в ранней юности, принимает затяжной и акцентированный характер, то развитие в этом направлении принимает крайние формы, и такое влечение станет пределом достижимого для данного индивидуума. В подобном случае половое влечение неизбежно принимает форму эмоционально окрашенного стремления к физической близости с лицом того же пола. В случае Чайковского роль акцентирующего фактора сыграл его школьный товарищ, будущий поэт Алексей Апухтин, а позднее, когда Чайковскому было уже 15 лет, преподаватель вокала Пиччиоли, напоминавший скорее уже не гомосексуалиста, а настоящего трансвестита.
Изучение этих вопросов немаловажно с медицинской точки зрения, поскольку они тесно связаны с возникновением у Чайковского невроза. В данном случае развитие сексуальности взрослого человека остановилось на одной из ранних стадий детской сексуальности, что сделало невозможным дальнейшее эмоциональное и психосексуальное развитие за пределы этой стадии.
Обусловленные этим ограниченные возможности выхода энергии полового влечения являются двумя краеугольными камнями в общей теории неврозов, автором которой является Зигмунд Фрейд. В самом общем виде неврозом принято называть неправильную психическую установку в смысле неадекватной реакции на реальную текущую ситуацию, в основе которой опять же лежит конфликт между инстинктивными притязаниями и традиционными, прививаемыми воспитанием общественными нормами, часто принимающий форму подавления инстинктов. Корни этого конфликта следует искать чаще всего в событиях первых шести лет жизни, однако клинически невроз проявляется впервые либо в период полового созревания, либо сразу же после его завершения. Проявлениями невроза могут стать нарушения связности мышления, нарушения эмоциональной сферы и неадекватное поведение. Эти отклонения развиваются на протяжении жизни человека и в значительной степени лишают его способности вести нормальную жизнь. У Чайковского невроз клинически выразился в ряде психических особенностей, а также в функциональных невротических жалобах вплоть до отдельных органических заболеваний психосоматического происхождения.
Частыми психическими проявлениями невроза являются истерические реакции, которые, как известно, имели место у Чайковского. Первая подобная реакция имела место у него на десятом году жизни, когда при отъезде матери из Петербурга он хватался за спицы колес, пытаясь остановить экипаж, и, осознав свое бессилие, громко кричал и размахивал кулаками. В юные годы в подобное состояние его приводило прослушивание музыки, когда он дрожал всем телом, а по ночам его посещали галлюцинации. И в более позднее время у него случались истерические реакции, выражавшиеся в приступах ярости при шуме проезжающего мимо экипажа. Порой он бывал столь раздражителен, что ему мешало даже тикание часов. Особо сильный истерический припадок, закончившийся длительным обмороком, случился с ним в 1881 году, когда его любимый Алеша был призван в армию и, повинуясь приказу, распрощался с ним, что вызвало у Чайковского душераздирающие вопли.
Невроз выражался у Чайковского также в типичных реакциях страха и ужаса. Имеются сведения о том, что он до ужаса боялся гроз, взломщиков и привидений и испытывал непреодолимый страх при виде покойников. По его собственным словам, во время похорон его друга Рубинштейна в Париже этот страх был сильнее, чем чувство горя. И вообще напугать его было очень легко. Это постоянно толкало коллег по консерватории на соответствующие розыгрыши, на что он неоднократно жаловался в письмах.
Для невроза типичны также фобические симптомы, направленные против окружающих. По словам его брата Модеста, Чайковский испытывал антипатию и подозрительность по отношению почти ко всем посторонним людям, правда, эта реакция быстро исчезала: «Он готов был заранее видеть врага в каждом незнакомом ему человеке… За это он наказывал их презрением, но лишь до первого любезного слова или дружественного взгляда. Тогда он им сразу все прощал и находил их даже симпатичными». Такое поведение выдает неуверенность в себе, также типичную для невроза. Фобические симптомы проявлялись у Чайковского прежде всего по отношению к людям в массе, в этом случае они вырастали до ненависти. Робость перед большой массой людей мешала ему дирижировать. Часто ему казалось, что к нему относятся издевательски и враждебно, чем объясняется гипертрофированная чувствительность Чайковского к любой критике его произведений. Подобные почти параноидальные идеи заставляли его даже после незначительных личных неприятностей или профессиональных неудач срываться с места. Он вновь и вновь выражал желание укрыться за стеной одиночества, где мог бы жить вдали от взоров людей.
Особого упоминания заслуживают депрессивные фазы, во время которых Чайковского достаточно часто посещали мысли о самоубийстве. Впервые выражено депрессия проявилась в 1865 году. Она возникла из представления о том, что жизнь не удалась: типичная для невроза заниженная самооценка переросла в суицидальные фантазии. После завершения Первой симфонии Чайковский впал в столь жестокое депрессивное расстройство, что врач даже пригрозил направить его в лечебницу для нервнобольных. В письме сестре Саше, написанном в 1868 году, Чайковский собственноручно дает классическое описание важнейших симптомов депрессии: «Нерешительность, безотрадность, апатия (которую он называл ленью и нежеланием разговаривать), разочарованность, нарушение сна, отсутствие аппетита и «расстройство без видимой причины». Этим симптомам сопутствовала общая вялость по утрам. Подобные фазы уныния и «меланхолии», как он сам их называл, многократно повторялись в жизни Чайковского с различной интенсивностью. Естественно, о депрессии в рамках маниакально-депрессивного цикла речь здесь не идет. В этом случае депрессия возникает самопроизвольно, а причиной заболеваний являются в основном наследственные факторы. Депрессивность же Чайковского представляла собой развивающийся реактивный процесс, в котором роль пусковых механизмов играли внешние события или внутренние конфликты. Однако при обеих формах депрессии наиболее опасным симптомом является суицидальность, то есть склонность к самоубийственным действиям. Чайковский в 1877 году также предпринял попытку самоубийства, в котором он увидел единственный выход из невыносимой ситуации, создавшейся в результате его брака. В неврозе Чайковского проявили себя в наиболее тяжелой форме сексуальные компоненты, играющие ведущую роль в созданной Фрейдом конфликтной модели, положенной им в основу учения о неврозах. Согласно Фрейду, эти составляющие невроза могут в гораздо более позднее время проявиться в виде агрессивных реакций, направленных не только против окружающих, но, и в основном, против себя самого. Гомосексуализм обрекал его на жизнь в анонимности и изоляции, заставлял скрывать и камуфлировать сексуальные контакты, что порождало постоянный страх перед разоблачением или даже уголовным преследованием, а также комплекс вины, неимоверно отягощающий психику. Слухи о личной жизни, доходившие до него, усиливали его подозрительность к окружающим и служили пищей для угрызений совести за то, что друзья порой должны были его стыдиться. К этому добавлялась агрессивность по отношению к самому себе, которая опять же усиливала комплекс вины и заставляла бороться против казавшихся ему самому порочных половых извращений любыми доступными ему средствами. Как следует из его дневников, речь шла не только о проблемах с гомосексуальными партнерами, хотя ревность и обиды часто играли определенную роль, но и о проблемах, связанных с нарциссической самооценкой. К сожалению, ни одна из даже самых серьезных его попыток сдержать безудержное удовлетворение сексуальных желаний, которые он сам однажды назвал «зксцессивными», не увенчалась успехом, в связи с чем он сокрушенно писал 23 апреля 1884 года в своем дневнике: «Какое же я все-таки чудовище». Опасность, что его наклонности будут раскрыты, которая «всегда висела над ним, как дамоклов меч», и сознание того, что он не в состоянии собственными силами побороть свою природу, побудили его к отчаянному решению вступить в брак, который повлек катастрофу.
Во время всех этих кризисов на помощь ему всегда приходила музыка. Она была для него своего рода предохранительным клапаном, который позволял Чайковскому в процессе творчества направить внутренние конфликты наружу. В этом он сам признавался после завершения Первой симфонии: «Без музыки я сошел бы с ума». В искусстве решающая роль принадлежит эмоциональной составляющей жизни человека, и поэтому неудивительно, что невротические элементы в характере Чайковского неотделимо связаны с его музыкой. Наряду с композиторской деятельностью, со временем при преодолении психических затруднений в его жизни все большую роль начинают играть различные стимуляторы. В юности это был никотин, который в наибольшей степени отвечал его желанию успокоить себя. Чайковский курил всю жизнь, курил много и считал, что это ему необходимо для творческой деятельности. Однако в его жизни появился и алкоголь, к успокоительному действию которого он стал прибегать все чаще, и вскоре уже вообще не мог жить без этого стимулятора. В письме брату Анатолию он открыто признался в этом: «Я не чувствую себя спокойным, пока слегка не выпью лишку. Я уже так привык к этому тайному пьянству, что испытываю что-то вроде радости от одного взгляда на бутылку, которая у меня всегда под рукой». В последующие годы он употреблял алкоголь в куда больших количествах, и даже Мусоргский, человек более чем склонный к алкоголю, восхищался удивительной стойкостью Чайковского при возлияниях. В дневниках Чайковского имеется огромное количество описаний пьянства, состояния опьянения и его последствий. 11 июля 1886 года он записал в дневник следующие философские размышления относительно своей тяги к выпивке, которые одновременно звучат как оправдания: «Считается, что пьянство вредно, с чем я охотно готов согласиться. Но человек, измученный нервами, просто не может жить без алкогольного яда… Я, например, пьян каждый вечер и просто не могу жить иначе. В первой стадии опьянения я чувствую себя великолепно и соображаю в таком состоянии гораздо лучше, чем при воздержании от этого яда. Я не заметил также, чтобы мое здоровье особо страдало от этого. И вообще: Quod licet Jovi, non licet bovi».
Здесь Чайковский мыслит так же непосредственно и непринужденно, как люди, жившие в средние века. В те времена опьянение считалось совершенно естественным состоянием сознания, в котором человек избавляется от оков стеснения и предрассудков, и было принято стремиться к опьянению ради опьянения как такового. В XIX веке уже стало принято сдерживать инстинкты и подчинять порывы разуму, отношение к алкоголю изменилось. Пить стали для того, чтобы раскрепостить порывы, и многие представители европейской творческой интеллигенции, прежде всего писатели, обратились к алкоголю как средству, окрыляющему интеллектуальные и творческие силы и позволяющему легче преодолевать личные неурядицы. Прежде всего это относится к представителям романтического и сюрреалистического направления: Новалису в Германии, Китсу в Англии, Бодлеру во Франции и, пожалуй, Чайковскому в России. Перечисленные выше литераторы также часто принимали для успокоения препараты опиума, что у Чайковского не имело места. Лишь один единственный раз в его дневнике встречается запись, снабженная тремя вопросительными знаками, в которой он намекает на упоминаемый Альфонсом Доде героин. Что он в точности имел в виду, понять невозможно.
Наряду с описанными проявлениями общего невроза Чайковский все чаще страдал от соматических неврозов, то есть от функциональных нарушений деятельности различных органов. Эти жалобы были вызваны трансформацией психических конфликтов в органические симптомы. В подобных случаях психосоматическое недомогание поражает всегда один и тот же совершенно определенный орган, при этом чаще всего его объектом становятся сердце, желудок, толстый кишечник и бронхи. Психосоматические жалобы сопутствуют, как правило, стрессовым ситуациям, возникающим в личной жизни или профессиональной деятельности. И в дневниках Чайковского мы обнаруживаем точные совпадения его недомоганий с датами премьер и концертов. Чайковский пишет о головной боли и расстройстве сна, но при этом постоянно встречаются упоминания и о боли в желудке, тошноте, спазмах в брюшной области. В подобных случаях принято говорить о повышенной возбудимости желудка и/или толстого кишечника (Colon irritabile). Этим же была обусловлена диарея, о которой постоянно встречаются записи в дневнике. Наряду с расстройствами желудочно-кишечного тракта Чайковский постоянно упоминает в дневнике о сердцебиении, нарушениях сердечного ритма, так называемых экстрасистолах и покалывании в области сердца. Чайковский пишет, что эти «сердечные недомогания» сопровождались ощущением страха и удушья. Вероятно, речь идет о функциональном нарушении дыхания, известном под названием синдрома да Коста, при котором у пациента возникает ощущение невозможности нормального вдоха и выдоха. Все эти симптомы, имевшие место у Чайковского, соответствуют картине соматического невроза, и лечившие его врачи, естественно, не находили патологических изменений во внутренних органах.
Из дневников Чайковского следует, что его не обходили также органические заболевания. Если не считать простудных заболеваний верхних дыхательных путей и бронхов, которые случались у него довольно часто и сопровождались длительными приступами кашля, то в основном источником его недомоганий был желудок. В биографии Чайковского, написанной его братом Модестом, говорится; «Катар желудка преследовал его еще с конца шестидесятых… Когда он был на курорте Нисы…. местный врач попытался лечить его содой…. болезнь Петра Ильича от этого не прошла, его состояние даже ухудшилось, и в 1876 году ему пришлось пройти курс лечения минеральной водой, которое оказало благотворное влияние на его здоровье, но катар желудка полностью не исчез и по временам напоминал о себе более или менее сильными приступами, хотя они ни разу не были столь жестокими, как в 1876 году… К концу восьмидесятых годов состояние его желудка существенно ухудшилось: кроме изжоги все чаще случались расстройства пищеварения, что вызывало у него серьезную обеспокоенность. Однажды, во время репетиций «Пиковой дамы», когда он проживал в петербургской гостинице «Россия», он как-то утром послал за мной, и, когда я пришел, сказал, что боялся не пережить эту ночь».
Как и врачи, Модест полагал, что этот приступ был вызван «катаральным состоянием желудка» Петра Ильича, то есть избыточной кислотностью желудочного сока, результатом чего явились частые изжоги, и, как следствие, необходимость в частом употреблении соды (бикарбоната натрия). Если, однако, проанализировать записи в дневниках Чайковского, то это позволит по чти со стопроцентной вероятностью поставить ему диагноз язвенной болезни желудка пли двенадцатиперстной кишки. Этот недуг относится к числу классических психосоматических заболеваний хронического рецидивного характера и проявляет себя в форме постоянно повторяющихся приступов, которые обычно совладают по времени с сильными психическими нагрузками и стрессами. Во время такого приступа может произойти распространение существующей язвы в глубину стенки желудка, то есть, если использовать современную терминологию, образуется пенетрирующая (проникающая) язва. В этом случае у больного возникает страшная, едва переносимая боль, приступы которой происходят чаще всего по ночам. Приступ боли в желудке, случившийся у Чайковского в Петербурге во время репетиций «Пиковой дамы», мог иметь именно такую природу. В пользу диагноза язвы желудка свидетельствует не только рецидивный характер приступов боли, явно прослеживаемый по дневнику Чайковского, но и тот с удивлением отмеченный им факт, что прием пищи облегчает боль и даже временно полностью снимает ее. Этот так называемый симптом «пищевого обезболивания» (food-relief) считается патогномоничным для язвы желудка.
Повышению кислотности желудочного сока у Чайковского способствовали хроническое, постоянно возрастающее употребление алкоголя, а также рефлюктический эзофагит, то есть воспаление слизистой оболочки нижнего-отдела пищевода, обострение которого, вызвав приступ боли, однажды прервало ночной сои Чайковского. В лежачем положении при таком приступе может возникнуть очень сильная боль, иррадирующая в области шеи и сердца. Когда же пациент садится в постели или встает, то боль утихает. В своем дневнике Чайковский довольно подробно и точно описал такой приступ: после обильной еды и выпивки он лег спать, но ночью проснулся от сильной боли и был вынужден провести несколько часов без сна, сидя в кресле. Такие приступы случались у него неоднократно, и переход из лежачего положения в сидячее неизменно приносил ему облегчение. Итак, диагноз рефлюктического эзофагита, появившегося у Чайковского с середины восьмидесятых годов, можно считать доказанным. Неумеренное потребление алкоголя, многолетнее злоупотребление никотином, инстинктивная половая жизнь, интенсивная творческая деятельность в качестве композитора и дирижера, связанная с напряженными концертными турне, привели к тому, что в 50 лет Чайковский выглядел на десять лет старше своего истинного возраста. Он вполне отдавал себе отчет в том, что зеркало его не обманывает и он состарился слишком рано, но, тем не менее, его шокировала заметка в американской газете, в которой ему дали на вид 60 лет — на 10 лет больше, чем на самом деле. В это время он начал замечать, что у него ослабла способность к запоминанию информации. Сквозь маску, при помощи которой Чайковский в 80-е годы соорудил некий защитный вал вокруг своего внутреннего мира и ценой больших затрат энергии демонстрировал окружающим уверенность в себе, вновь начали проступать его сомнения и упреки совести. Этому кризису середины жизни, в котором проявилась пресыщенность жизнью, безнадежность и депрессивность, во многом способствовал неожиданный и оскорбительный для Чайковского разрыв с многолетним задушевным другом г-жой фон Мекк. Другим решающим фактором этого кризиса стали сложности в гомосексуальных связях Чайковского и порожденные ими чувства ревности и обиды. Казалось, однако, что в момент завершения автобиографической Шестой симфонии, где он в зашифрованной форме сумел выразить драму своей израненной души, ему удалось преодолеть накопленный потенциал внутреннего напряжения. У брата Модеста и ближайших друзей Чайковского сложилось впечатление, что он благополучно преодолел кризис, вновь бодр и доволен жизнью, они не заметили признаков подавленности и тем более стремления к смерти.
В настоящее время доказано, что Чайковский не умер от холеры, как считалось раньше. Мы не будем вновь вдаваться в несуразности, возникшие при попытке подогнать симптомы, имевшие место в последние дни и часы его жизни, под классическую клиническую картину холеры. Выяснилось, что высказанное сразу же после смерти Чайковского подозрение в том, что он добровольно ушел из жизни, оказалось верным. Найденные сравнительно недавно документы доказывают, однако, что его самоубийство не было следствием внутреннего порыва, а было ему предложено так называемым «судом чести» в качестве альтернативы публичному скандалу с непредсказуемыми последствиями. Точнее сказать, такое решение Чайковскому было навязано. Говорить о добровольном уходе Чайковского из жизни можно лишь в том смысле, что он действительно принял это чудовищное предложение. Это самоубийство было спланировано до мельчайших деталей, очевидно, для того, чтобы оно не стало достоянием общественности. Должно было возникнуть впечатление, что Чайковский погиб, так сказать, естественной смертью от последствий опасного заболевания. В эти дни в Петербурге еще не вполне схлынула эпидемия холеры, и, похоже, была достигнута договоренность придать самоубийству такую форму, при которой оно как можно больше походило бы на случай холеры со смертельным исходом.
Предполагается, что яд Чайковскому передал адвокат Август Герке, один из участников упомянутого выше суда чести. Предлогом для визита Герке стали переговоры, которые он от имени издательства Бесселя вел в то время с Чайковским. В биографии, написанной Модестом, этот визит не упоминается, но его совершенно однозначно подтвердил сам Василий Бессель в «Русском музыкальном журнале».
Через несколько часов после того, как Чайковский осушил стакан сырой воды (в которой, вероятно, был яд), началась неудержимая водянистая диарея, рвота, быстро нарастала слабость, начались «отвратительные» колики в животе, при которых он то и дело вскрикивал, жгучая боль в груди. Эти симптомы, а также быстро наступившие судороги икроножных мышц, задержка мочеиспускания, бред на фоне тяжелого коллапса кровообращения и, наконец, потеря сознания дают однозначную картину острого отравления мышьяком, которое спустя несколько дней повлекло за собой невероятно мучительную смерть великого композитора. В наше время подобная форма самоубийства встречается крайне редко, поэтому мы приведем ниже клиническую картину отравления мышьяком из учебника судебной медицины, изданного в Вене за два года до смерти Чайковского, ибо ясно, что в то время врачи из собственного опыта лучше знали симптомы отравления мышьяком.
«Хотя самоубийства с применением мышьяка в настоящее время происходят не так часто, как раньше, все же и в наше время они происходят отнюдь не редко. Что же касается убийств с применением мышьяка, то их распространенность объясняется, с одной стороны, доступностью этого яда, применяемого во многих производствах и для истребления вредителей, а с другой стороны тем, что он не имеет ни вкуса, ни запаха, что, несмотря на плохую его растворимость, позволяет легко подмешать его жертве. Даже при больших дозах симптомы отравления проявляются не сразу, как правило, не ранее, чем через час. Чаще встречаются случаи, в которых до появления первых симптомов интоксикации проходило от трех до десяти часов… Клиническая картина отравления мышьяком далеко не всегда одинакова. Как правило, возникает очень сильный токсический гастроэнтерит. В горле и в пищеводе появляется чувство жжения и першения, затем возникает острая боль в желудке и сильная рвота слизистыми массами, реже со следами крови, и обильный понос, при котором выделяется водянистый стул, напоминающий рисовый отвар. При этом имеют место тенезмы (судороги прямой кишки — прим. автора), неутолимая жажда, часто головная боль и, как правило, тянущая боль в крестце и спазматические боли в конечностях, прежде всего в икроножных мышцах. Кожа холодная, покрыта потом, вначале бледная, позднее на лице, кистях рук и стопах ног синюшная (иссиня-черный цвет — прим. автора). Пульс слабый и малый. Сильная слабость и смерть вследствие общего коллапса.
В других случаях рвота и другие острые симптомы прекращаются, но вместо них появляются другие: нефрит (воспаление почек — прим. автора), симптомы прогрессирующей мышечной слабости, затрудненное дыхание, ослабление сердечной деятельности, вследствие которых на третий или четвертый день отравления наступает смерть.
Встречаются также случаи, в которых и на ранней, и на поздней стадии преобладают симптомы не гастроэнтерита, а спинально-церебрального поражения (поражения спинного и головного мозга — прим. автора). Заболевание начинается с головокружения и головной боли, тянущей боли в конечностях, затем наступают обмороки и полная потеря сознания, иногда сопровождающиеся бредом, конвульсиями, после чего наступает общий паралич и смерть. Возможны, естественно, различные сочетания описанных выше вариантов клинической картины отравления».
В приведенном выше подробном изложении клинической картины острого отравления мышьяком со смертельным исходом содержатся практически все симптомы, описанные Модестом и врачами, лечившими Чайковского, и с медицинской точки зрения не подлежит сомнению, что для самоубийства Чайковский выбрал именно отравление мышьяком. Если при этом не принимать во внимание страшную боль в области слюнных каналов, желудка и кишечника, а также обильную рвоту, то окажется, что многие из прочих симптомов удивительно похожи на симптомы холеры: неудержимый водянистый понос, по консистенции напоминающий именно рисовый отвар, приводящий к сильному обезвоживанию и обессоливанию, что, в свою очередь, вызывает болезненные судороги и сокращения икроножных мышц, нарушение деятельности почек вплоть до полного прекращения мочеиспускания, состояние бреда и, наконец, кому с летальным исходом вследствие нарушения кровообращения головного мозга. В цитированном выше учебнике издания 1891 года особо подчеркивается сходство между отравлением мышьяком и холерой:
«При остром отравлении мышьяком происходит обезвоживание организма, по типу напоминающее это явление при иных тяжелых катарах кишечника, при этом наибольшее сходство существует между отравлением мышьяком и холерой. Клиническая картина отравления мышьяком как при жизни пациента, так и после его смерти очень напоминает клиническую картину холеры, на что неоднократно с полным основанием было указано».
Едва ли Чайковский знал о том, сколь мучительной бывает агония при остром отравлении мышьяком. Следует также учесть и то, в сколь возбужденном состоянии он находился после окончания «суда чести», и едва ли думал о смысле подобной жертвы. Этот художник всю свою жизнь был вынужден вести борьбу с демонами в собственной душе и с силами, давившими на него извне, эта борьба пожирала его при жизни. Судьба не была милостива к нему и в смерти. Если мы попытаемся провести параллели между тайнами его души и важнейшими характеристиками творчества, то убедимся в том, что между человеком и художником существует пропасть, которую весьма непросто заполнить. И человек, и художник делали общее дело, и художник смог передать горе и боль, жившие в самых глубоких тайниках души человека, где они, подобно узнику в темнице, были скрыты от глаз мира. Именно поэтому Чайковский редко проникал своей музыкой в глубины, а скорее достигал поверхностного воздействия, которое, тем не менее, за счет живости, пикантности ритмов и зажигательной музыкальности, в которой то и дело прорываются грубые и необузданные формы, будет и в грядущих столетиях продолжать окрылять людей. Но даже в крупных инструментальных произведениях, которые по праву считаются вершинными достижениями европейской музыки, ему так и не удалось создать собственный единый крупномасштабный стиль. В музыке Чайковского повсеместно представлены европейские влияния различного рода, которые, хотя и пронизаны славянскими элементами, но все же не могут быть отнесены к характерно русской музыке. Чайковский как музыкант стремился к тому, чтобы создавать прекрасную музыку, которая нравилась бы и которую любили бы, а не совершать революционные прорывы на музыкальную целину. Психограмма Чайковского говорит о том, что ему было чужда поза страдальца, но переживание собственных страданий доставляло определенное удовольствие. В этом содержится ответ на вопрос, почему Чайковский ни вербально, ни музыкально не умел выражать сострадание другим людям, но зато умел выражать сострадание себе, любовь к себе, так же как и чувство вины, раскаяния со столь кошмарным, душераздирающим реализмом, какой можно найти разве что в поэзии Бодлера. В музыке Чайковского нет ни изысканной интеллектуальности, ни юмора, ни горького сарказма, она не пытается что-либо скрыть или завуалировать. Об этой музыке можно сказать, что она стремится поглотить слушателя в самом прямом смысле этого слова, эта музыка почти бесстыдна в своей чувственности и сверкающей роскоши. С этой точки зрения совсем не случайно, что подобную музыку сумел создать именно этот, в высшей степени невротичный, робкий человек, которого всю жизнь преследовали беспощадные муки.
Лучше всего о нем рассказывают те немногие потрясающие документы его страстной натуры, которые он сам называл своей «музыкальной исповедью души», где он излил бушующую душу в море музыки, не прибегая ни к какой интеллектуальной цензуре разума. В этих произведениях вдохновение уводило его гений в «заоблачные высоты» и в те сферы, где на него сходило своего рода озарение. Ведь говоря собственными словами Чайковского, «волновать и потрясать может лишь та музыка, которая силой озарения зачата в глубинах взволнованной души художника».
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ