Зарисовки из страны Ок
Почему Прованс?
Почему Прованс? Вот именно, почему?.. Почему, однажды с ним познакомившись, навсегда попадаешь под его чары, почему он пробуждает голод, который невозможно утолить? Хорошо, но что же это такое — Прованс? Нужны долгие годы близкого с ним общения, чтобы понять: Прованс — не уголок земли, а способ мышления, особое состояние духа, которое возникает, когда изо дня в день слышишь доносящиеся из прошлого голоса, слившиеся с повседневностью мифы, речь камней, света, облаков; нужно просто открыть его в себе, разглядеть наслаивающиеся один на другой пласты времени, приноровиться видеть как существующие, так и несуществующие вещи, научиться общаться с призраками, находить места, которых нет, — а быть может, никогда и не было?
Независимо от времени, места рождения и того, где ты в данную минуту находишься, однажды начинаешь тосковать по Провансу, как тоскуют по счастливым дням детства. Потому что Прованс, подобно Греции, Риму и всему Средиземноморью, — своего рода предназначение; это наше сказочное отечество. Каждый из нас имеет на него право — наравне с теми, кто здесь родился и живет. Здесь мы возвращаемся к своим корням, поскольку мы — европейцы, наследники одной традиции.
Прованс сотнями нитей связывает тебя с прошлым: эллинскость, романскость… свежие следы Фредерика Мистраля, Альфонса Додэ, Марселя Паньоля, Ива Бонфуа, Жана Жионо; ах эта скачка по зеленым холмам Люр бок о бок с благородным карбонарием, гусарским полковником Анджело[143], спешащим к соляным складам в онемевшем от ужаса, обезлюдевшем от холеры Маноске; эти колокола над крышами городков, как осиные гнезда прилепившихся к скалам; эти святые, рыцари и трубадуры, одиннадцать тысяч девственниц под кружевными парусами[144], замки, башнями упирающиеся в небо, философские диспуты на языке шуадит в вестибюле папского дворца, пророчества Нострадамуса из Сен-Реми, ночные обряды consolamentum[145] среди римских стел.
Прованс — это картины: кружащее над головой солнце цвета расплавленной серы, фиолетовые и зеленые пятна в траве, поля маков, деревья, оплетенные плющом, блики света на каменных стенах, сонные цикады в сумерках. А быть может, картины из более далекого прошлого, из другого времени, другой жизни; не досмотренный до конца сон о древности, фантасмагорический театр теней: лесистые склоны Малых Альп, где среди ущелий скитается жалоба Эхо, звучит топот копыт кентавра, сквозь колючие заросли дрока пробирается тень бородатого козлоногого сатира, который, покрикивая, хихикая, оскальзаясь на скалах, гоняется за нимфами?
Когда это началось?
Возможно, со встречи с мэтром Арнаутом Даниэлем, в буколических рощах Орея учившим флорентийского изгнанника искусству терцины, — а может, с рассказа Плутарха о хитроумии Мария, который при Аквах Секстиевых разбил несметное войско варваров[146], или же — еще в школьные годы — с декламирования Юлия Цезаря в ритме марша легионов, отстукиваемом линейкой по краю кафедры: Gallia est omnis divisa in partes tres. Quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur[147].
И все это возвращается, когда я смотрю на висящие над горизонтом тучи, а разогретая солнцем земля пахнет, как молодое тело; возвращается, когда я слышу стрекот насекомых или похрустывание камешков на горных тропах, кое-где утыканных кустиками чабреца, когда вижу пляски красок, серебро вывернутых ветром наизнанку листьев, поблескивание звезд, отразившихся в придорожном колодце.
Возвращается в репликах из fabula atellana[148] Плавта в античном театре в Арле, когда голос актера сплетается с пением сверчков (легко вообразить, как гогочут, от восторга хлопая себя по ляжкам, солдаты VI Железного легиона); во взмахе платком председателя корриды, когда открываются ворота загона и на арену вбегает первый бык; в словах Бернарта де Вентадорна или Бертрана де Борна, вплетенных в тирады уличного продавца моллюсков, возвращается в минуту озарения, когда тебе вдруг открываются тайны божественных пропорций фронтона собора Святого Трофима.
Я недоверчив: проверяю, разбираю свою ностальгию, свою зачарованность по косточкам, разделяю по волоконцам, стараюсь определить природу непреходящего чувства пребывания где-то между здесь и там, понять, откуда берется ощущение (нет, уверенность), — что и я мог бы повторить вслед за Никола Пуссеном: et in Arcadia ego[149].
Все остается неизменным; ностальгия возвращается — возможно, в том-то и секрет, что когда (вот он, парадокс!) я стараюсь спрятаться от самого себя, когда ищу подходящее убежище, когда чувствую, что земля убегает из-под ног чересчур быстро, и хочу на минутку остановиться, оглянуться, погрузиться в забытую атмосферу детства, увидеть картины мира, которого уже нет, а может, никогда и не было, почувствовать запах камней под весенним дождем и дыма от плодовых дров, запах ирисов, цветущих в придорожной канаве, и садов под белой грядой облаков пасхальным утром, когда звонят колокола, — то прежде всего хочу вновь обрести покой и веру в разумный порядок вещей, в прочность и стабильность всего сущего.
Прованс — место особое. Время здесь бежит по кругу, останавливается, поворачивает вспять, искривляется. Вчера, позавчера, год назад — не имеет значения; даже если ты выпадешь из обычной жизни, побываешь в других местах, в разных; измерениях реальности, как подлинной, так и воображаемой, — возвращаешься ведь все равно к себе. Время — твой союзник, хотя его ход неумолим.
А навязчивое желание следить за временем, подглядывать, контролировать не вчера появилось.
Когда-то в маленьком городке на краю Свентокшиской пущи, на кладбище возле костела, где покоится Ян Кохановский[150], я увидел могильную плиту, надпись на которой сообщала, что под ней лежит Изабелла 3., дочь полковника наполеоновской гвардии, скончавшаяся в ноябре 1936 года. Трудно было в это поверить: получается, я мог в детстве знать даму, чей отец знал Наполеона? Мог слушать ее рассказы, заглянуть — хотя бы на минутку — в другое время.
А однажды на стенах дома одного из моих арлезианских друзей я увидел короткие эпитафии — таблички с вырезанными в камне именами и датами смерти его родных: кто-то погиб, сражаясь бок о бок с герцогом Энгиенским под Рокруа; кто-то, сохраняя верность данной королю присяге, был гильотинирован на площади Республики; еще кто-то погиб под Седаном; последний, почетный гражданин города, умер в окружении своих четырнадцати сыновей и дочерей. Время спокойно напоминает о бренности всего земного и уведомляет, что людям, живущим в этом месте, в этом доме, в этом краю, легче жить и умирать: они, пускай подсознательно, знают, что являются звеньями в цепи поколений, протянувшейся между прошлым и будущим. И это приносит ощущение прочной связи со своими корнями и помогает не поддаваться кошмарам прошлого и страхам будущего.
Человек отходит с миром, — говорит Сент-Экзюпери, — когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.
Прованс, о котором я пишу, — не обычный Прованс. Это Зазеркалье, волшебная страна. Моего Прованса нет отдельно от меня, он существует только во мне; это миф, возникший в попытке утолить жажду чудесного, которая каждого из нас томит с детства и которая неутолима; это мечта, которая сбывается в воображении, не в реальности.
Антуан де Сент-Экзюпери сказал также, что только дети способны, воткнув ветку в песок, вообразить, будто это королева, и обожать ее.
Это неверно. Взрослые тоже на такое способны.
Прованс для меня — праздник. И так я пытался его описать. Пытался ответить себе на вопрос, почему я по нему тоскую — даже когда там нахожусь. Но, видимо, на этот вопрос нет ответа. И скорее всего, быть не может.

Юлиуш Ионяк. «Пейзаж в Провансе». Рисунок тушью
Разумеется, есть еще другой Прованс: серость ноябрьских вечеров, холод каменных домов, безумства мистраля, печаль невозделанных полей и заброшенных хозяйств, бедность, заботы, хлопоты, проблемы — но об этом пусть пишут другие.
Мой Прованс — это неожиданные открытия, происшествия, волнение, озарения, неустанные поиски, метания между реальным и воображаемым, между здесь и там во времени и пространстве.
В длинной череде событий и удивительных встреч с историей и самим собой особый след оставили три эпизода.
Однажды между монастырем Монмажур и римскими каменоломнями в Фонвьее, на самом краю крутого склона, заросшего карликовыми дубами, колючим дроком и терновником, над блекло-зеленой долиной Роны, я обнаружил маленькую романскую церковь, окруженную кладбищем. Церковь явно была очень давно — возможно, со времен Великой французской революции — заброшена. Наглухо запертая, она стояла, вернее сказать, будто странное геологическое образование, вырастала из голой скалы — скорее каприз природы, нежели творение человеческих рук. Впечатление усиливали выдолбленные в скале неглубокие могилы, объединенные по три или четыре, что создавало странный геометрический узор. Среди могил торчали остатки обросших лишайником каменных плит. Время стерло имена, но, судя по проглядывавшим из-под рыжих пятен лишайника фрагментам букв и цифр, покоящиеся под этими плитами люди жили в незапамятные времена.
Сквозь щель между рассохшимися досками, которыми некогда ослепили окно апсиды, я увидел сумрачное, заваленное мусором помещение и висящий на стене непонятный черный предмет. Пришлось долго всматриваться, прежде чем я догадался, что это часть железного якоря. Такие якоря использовались на галерах, ходивших по Средиземному морю в раннем Средневековье. Откуда он взялся? Кто его сюда повесил? Может, это ex voto[152] за спасение на пути в Святую землю или трофей, добытый пиратами?
Близился унылый ноябрьский вечер. Ветер гнал с моря низкие лохматые тучи, казалось, встань на цыпочки — и достанешь их рукой. Над стоящей на отшибе церковью и кладбищем, в окрашенном серо-желтым сюрреалистическим светом воздухе будто витала какая-то мрачная тайна.
Спустя несколько дней на полке библиотеки коллежа[153] я заметил оправленный в красную кожу том под названием Otia Imperialia[154] во французском переводе Жана де Винье. Полистав книгу, я понял, что наткнулся на необыкновенное сочинение. Его автором был Гервасий Тильберийский, маршал при императорском дворе Арльского королевства (maréchal de la cour impériale pour le royaume d’Arles), правовед и эрудит, приближенный императора Оттона IV. Родился он в Англии около 1150 года, вероятно, в графстве Эссекс. Дипломатическое искусство постигал при дворе Генриха II Плантагенета, юриспруденцию изучал в Болонском университете, где получил степень магистра. Очень рано начал международную карьеру, выступая посредником в спорах сильных мира сего. После постоянных разъездов по Европе в 1183 году окончательно поселился в Арле и всецело отдался работе над своим opus magnum[155], который закончил в 1212 году.
Состоящие из трех книг «Императорские досуги» (Liber de mirabilibus mundi, Solatia imperatoris, Totius orbis descriptio[156]), написанные на изысканной средневековой латыни и предназначенные, как указывает само название, для развлечения императора, — своего рода энциклопедия, сборник сведений о тогдашнем мире. Когда Гервасий Тильберийский писал свой труд, Земля была плоской, как плавающий по морю лист, над ней кружили Солнце и Луна, а звезды были прикреплены к небесной сфере, за которой обитали Бог и ангелы. Сочинение, полное красочных описаний, иллюстраций и притч, складывается из трех частей. В первой (Prima Decisio) рассказывается о начале мира и библейских временах, во второй (Secunda Decisio) описаны разные страны и населяющие их народы, третья (Tertia Decisio) представляет собой собрание рассказов о чудесах, аномалиях, странных происшествиях и удивительных обычаях.
Я с интересом листал страницы, читая кое-какие отрывки, и вдруг, в XIII главе первой части под названием De mari[157], наткнулся на фрагмент текста такой волшебной поэтической силы и вместе с тем столь близкий моим впечатлениям последних нескольких дней, что я замер, затаив дыхание, как будто наткнулся на описание часто повторяющегося сна, картины которого вдруг вырвались из темноты и обрели реальность.
Образ недавно обнаруженной церкви, загадка едва заметного в полумраке апсиды якоря, и прежде всего окружающая это место аура таинственности, вдруг приобрели особый смысл, заставили задуматься: а не послание ли это, не знак ли из глубины веков, предостерегающий от однобокого видения мира?
Конечно же, это не могло быть случайностью! Вряд ли я ошибся: здесь действительно произошло что-то необыкновенное. И вот пожалуйста: я нахожу в Otia Imperialia волнующую историю, сдержанно-строгое описание которой предполагает ее правдивость; произошедшее потрясло современников и оставило неизгладимый след.
История эта, видимо, поразила и Фредерика Мистраля, многое заимствовавшего из Otia Imperialia, — недаром он включил ее в число легенд, чудес и необыкновенных событий, опубликованных в одном из томов «Прозы альманаха».
Les gens pouvaient croire que notre atmosphère était me mer céleste, une mer pour ceux qui vivaient au-dessus. Cette histoire était sur des gens qui sortaient de l’eglise, et ils voyaient une ancre pendant du ciel au bout d’une corde. L’ancre s’est prise dans les tombes, et alors ils ont vu un homme descendre le long de la corde pour la libérer. Mais quand il a atteint la terre, ils se sont approchés de lui et il était mort… Mort, comme s’il s’était noyé.
Люди могли верить, что наша атмосфера являет собою небесное море — море для тех, кто живет над ним. В истории этой рассказывалось о людях, которые, выходя из церкви, увидели якорь на конце свешивающегося с неба каната. Якорь застрял между каменными надгробиями, и тогда они увидели человека, спускающегося по канату, чтобы высвободить якорь. Когда его ступни коснулись земли, люди подошли к нему, но он уже испустил дух… Умер так, как будто утонул.
Дальше рассказывается о том, что прихожане похоронили моряка на церковном кладбище, а якорь, отрезав от каната, повесили — на вечную память — в притворе церкви.
Помню также апрельский день в Любероне: я искал монастырь в Вальсенте, где был дом моего друга Поэта, и заблудился. Помню наркотическое упоение тем, что я брожу в одиночестве по горному бездорожью, ощущение, сходное с экстазом, каковой на перевалах порой охватывает паломников, идущих к святым местам, — и это бездонное молчание, когда представителю людского рода особенно близки проблемы жизни и смерти, как везде, где присутствие мира тягостнее, чем присутствие человека…
Я взбирался вверх по склону, как вдруг, будто по волшебству, странным образом раздвоился: увидел самого себя сверху, будто глазами висящей в небе птицы — ястреба или орла с извивающейся в когтях змеей. Из дальних закоулков памяти выплыли слова о поисках пути, о голосе из страны детства — отрывки из поэмы, родившейся именно туг, в заброшенном монастыре, который я искал, бродя по выгоревшим пустошам Люберона:
Mais pourquoi gravit-il maintenant cette butte presque escarpée, encore que les arbres у soient aussi servés qu’en dessous, le long d’étroites ravines? Ce n’est sûrement pas par ici que le chemin passe.
Et ce n’est pas de la-haut qu’il aura vue.
Ni pourra crier son appel.
Je le vois pourtant qui monte parmi les fûts, dans les pierres.
S’aidant d’une branche basse quand il sent le sol trop glissant à cause des feuilles sèches parmi lesquelles il у a toujours ces cailloux roulant sur d’autres cailloux: losanges de bord acéré et de couleur grise, tachée de rouge.
Je le vois — et j’imagine la cime. Quelques mètres d’a-plat, mais si indistincts du fait de ces ronces qui atteignent parfois aux branches. La тêте confusion, le тêте hasard que partout ailleurs dans le bois, mais ainsi en est-il pour tout ce qui vit.
Un oiseau s’envole, qu’il ne voit pas. Un pin tombé une nuit de vent bane la pente qui recommence.
Et j’entends en moi cette voix, qui sourd du fond de l’enfance:
Je suis venu ici, déjà — disait-elle alors — je connais ce lieu, j’y ai vécu, c’était avant le temps, c’était avant moi sur la terre.
Je suis le ciel, la terre.
Je suis le roi. Je suis ce tas de glands que le vent a poussés dans le creux qui est entre ces racines.
Но зачем он решил теперь взобраться по крутому, почти отвесному склону холма, заросшему деревьями так же густо, как эти тесные лощины? Уж там-то, наверху, точно не найдешь дороги.
Да и разглядеть ее оттуда не удастся.
Или до кого-нибудь докричаться.
Все же я вижу, как он лезет вверх, протискиваясь между стволами, вскарабкиваясь на валуны.
Цепляясь за низкие ветви, когда ноги начинают скользить по палой листве, в которой то и дело попадаются перекатывающиеся друг по другу камни — эти серые, в красных крапинах, ромбы с острыми краями.
Я его вижу — и я мысленно представляю вершину. Небольшая площадка, едва различимая за колючим кустарником, кое-где дотянувшимся до ветвей деревьев. Та же сумятица, та же власть случая, что и всюду в лесу, но ведь так бывает всегда, со всем живым. Взлетает птица, которую он не видит. Сосна, поваленная ночным ураганом, перегораживает склон; за нею подъем продолжается.
И я слышу, как во мне звучит этот голос, пробивающийся из глубины детства. Я уже приходил сюда — говорит он, — я знаю это место, я здесь жил, это было тогда, когда времени еще не было, когда меня еще не было на земле.
Я небо, я земля.
Я царь. Я вот эта горка желудей, которые ветер закатил в углубление между древесными корнями.
Возвращаются обрывки воспоминаний, придорожными верстовыми столбами метят место и время… Помню вечер 15 мая 2007 года: безмолвная толпа на мосту Тренкетай, я, как и все, смотрю вниз на стоящую на якоре баржу. На борту виднеется надпись: «Нусибе II. Департамент подводной археологии DRASSM, Марсель». Ранним утром город молниеносно облетела весть: прямо у правого берега Роны в тине найден мраморный бюст Юлия Цезаря. Весть передавалась из уст в уста; на улицах, на рыночной площади люди, даже незнакомые, заводили разговор, с изумлением качали головой и, поговорив, расходились, спеша поделиться новостью с другими.
Толпа на мосту с каждым часом густела. Кого там только не было! Я увидел знакомого булочника из Au petit déjeuner[159] в квартале Ла Рокет, двух друзей из кафе Malarte, коммуниста-учителя — Иисуса Христа из Mysterium paschale на Апискампе, маленькую тайванку из Международного коллежа, Юбера Йонне — председателя Братства пастухов Святого Георгия, Мишеля Возеля — бывшего мэра Арля, знакомого официанта из La Mule Blanche[160], где днем подают лучшие в городе салаты. Все стояли в торжественном молчании, не сводя глаз с бурых, в клочьях грязной пены, вод Роны с кружащими в прибрежных водоворотах щепками и травой.
Открытие было сделано уже давно, не меньше месяца назад, бюст подняли прошлой ночью, но весть об этом достигла Арля только сейчас.
И случилось неожиданное: город пришел приветствовать своего основателя, строителя и покровителя в том месте, где он вернулся в мир живых. Толпа ожидала встречи с ним едва ли не в мистическом напряжении, каковое обычно сопутствует событиям, граничащим с чудом.
На следующий день я сидел на террасе кафе Malarte со стаканчиком пастиса-51. Был полдень. Неподвижный воздух пах так, как может пахнуть воздух только в Арле: травами, свежестью недавно вымытого асфальта, теплым камнем… За соседним столиком пожилой господин шелестел большими страницами газеты La Provence. На первой полосе — снимок бюста Цезаря. Тяжелые веки, две глубокие борозды, пролегшие от носа к уголкам рта, залысины — усталое лицо человека, который многое знал о жизни и пережил не только минуты торжества и воодушевления, но и минуты унижения.
Вдруг я услышал:
— Vous ne pensez pas, qu’il ressemble un peu à monsieur Hervé Schiavetti, notre maire?
Потом господин с газетой посмотрел на меня внимательно и добавил:
— Peut-être il vous ressemble un peu, à vous aussi? Enfin rien d’étonnant, nous sommes tous de la même famille[161].
Что такое тождество? В математике это равенство, верное при любых значениях переменных. А в жизни? Ах, в жизни! Господи, сколько в ней переменных, сколько переплетенных корней под ногами; и везде все то же противоборство с судьбой, те же колебания, душевный подъем и страхи, те же коды, по которым — несмотря на разный опыт, различия в языке, темпераменте, цвете глаз — мы узнаем друг в друге членов одного сообщества.
Мы встречаемся в бескрайнем пространстве между миром мертвых и миром живых, между явью и сном, вмещающем всё, чем мы являемся и чем могли бы быть, если б судьба одаряла всех справедливо, поровну.
С Юлием Цезарем мы знакомы со школьной скамьи. Испокон веку у подножия одной и той же скалы на перекрестке ведущих в Фивы дорог мы встречаемся с сыном Лая и Иокасты, вместе с Вергилием спускаемся в бездну, обороняемся в осажденных крепостях Мюре, Безье, Каркассона, плечом к плечу с el ingenioso idalgo don Quijote de la Mancha[162] покоряем огнедышащих чудовищ. А в пасхальной мистерии, сами того не зная, частично воспроизводим элевсинские обряды[163].
Знаки до нас доходят одинаковые, знакомые, но есть и другие — спрятанные, забытые, далекие, как доносящийся из темноты шепот.
Февральской ночью, в праздник Матери Божией Громничей[164], мы возвращаемся из занесенных снегом маленьких костелов на Подгалье, Поморье, Мазовше, заслоняя рукой трепещущее пламя свечи. Слабый огонек — символ находящейся в опасности жизни, столь хрупкой, что, по словам Паскаля, чтобы ее уничтожить, «достаточно пара, капли воды». Что мы защищаем, что ищем? Может быть, вместе с кельтскими предками празднуем возвращение света? Или со славянской Деметрой разыскиваем ее дочь Кору?
Следы, следы, следы… Они перекрещиваются, затаптываются, близкие, далекие, заметные и незаметные, — на дорогах истории, на перепутьях, на паломничьих тропах; мы узнаём их, где бы ни оставила их человеческая стопа, где бы в море ни появилась пенистая дорожка за кормой плывущей в Итаку галеры, и можем сказать: Hie est locus patriae[165] — мы у себя.
И когда в очередной раз встает вопрос «почему Прованс?» — ответ кажется очевидным. Ну да, именно поэтому
Соловьи и toro
8
Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam’d to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now ’tis buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music: — Do I wake or sleep?
VIII
Забвенный! Это слово ранит слух,
Как колокола глас тяжелозвонный;
Прощай! Перед тобой смолкает дух —
Воображенья гений окрыленный.
Прощай! Прощай! Напев твой так печален.
Он вдаль скользит — в молчание, в забвенье,
И за рекою падает в траву
Среди лесных прогалин, —
Что было это — сон иль наважденье?
Проснулся я — иль грежу наяву?
8
Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam’d to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now ’tis buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music: — Do I wake or sleep?
VIII
Забвенный! Это слово ранит слух,
Как колокола глас тяжелозвонный;
Прощай! Перед тобой смолкает дух —
Воображенья гений окрыленный.
Прощай! Прощай! Напев твой так печален.
Он вдаль скользит — в молчание, в забвенье,
И за рекою падает в траву
Среди лесных прогалин, —
Что было это — сон иль наважденье?
Проснулся я — иль грежу наяву?
Западная часть неба потемнела, ночь подкрадывается к террасе, благоухает глициния, высоко над полуночным горизонтом летит запутавшийся в волосах Вероники спутник.
— Il se fait tard, bonne nuit, amis!
— Es fa tard, bona nit, camarades![167]
Арль живет с раннего утра до сумерек, не считая зазорным такой распорядок (день здесь день, а ночь — ночь): он надменно равнодушен к очарованию летних вечеров, спать укладывается рано, независимо от времени года; наплевав на примитивные представления чужеземцев о южных обычаях, не поддается магии белых ночей, не завлекает народными празднествами под звездным небом, не манит ночными прогулками. Едва стемнеет, жизнь в городе замирает. Стихает гомон в уличных кафе, умолкают городские часы, гаснет свет. Лишь эхо торопливо захлопнутых дверей бродит по опустевшим улицам.
Я заблудился, — описывает свою ночную прогулку по Арлю Генри Джеймс, — а на улицах ни живой души, некого попросить о помощи. Нет ничего более провинциального, чем Арль в десять вечера.
После полуночи можно увидеть разве что романтическую парочку, прогуливающуюся под луной по высокой набережной Роны между Porte de la Cavalerie[168] и церковью доминиканцев, или в пустом туннеле улицы повстречать засидевшихся гостей званого ужина либо зрителей, возвращающихся с необычно длинного спектакля: уже издалека слышны возбужденные голоса, громкий смех, стаккато каблучков по каменной брусчатке; звуки повторяются, отражаясь от фасадов домов, от закрытых ставней, сквозь которые кое-где еще просачивается красная или желтая струйка света. С реки поднимается влажный ветерок, а под припаркованными вдоль улиц машинами шмыгают кошки, подозрительно поглядывая зелеными глазами на запоздалых прохожих.
Арль благонравный, трудолюбивый и — несмотря на свое королевское происхождение — очень мещанский.
В современном городе темнота — не настоящая, и ночная тишина — тоже не настоящая. Об этом пишет Йохан Хёйзинга в «Осени Средневековья»:
Современному городу едва ли ведомы непроглядная темень, впечатляющее воздействие одинокого огонька или одинокого далекого крика[169].
Действительно, тишина в городах Юга полна звуков, создающих музыкальный фон ночи. Далекий шум автомобилей, ветер в листве, сонное воркование голубей, собачий лай, вой сирены SAMU[170], жужжание самолета, невнятные голоса, шорохи, шелест… все это слышится постоянно, а значит — неслышимо: такая тишина может включать в себя все звуки, подобно белому цвету, который, являясь суммой всех цветов, остается белым.
Однажды летней ночью, возвращаясь домой с площади Помм, я спускался по темной узенькой улочке-лестнице. Уже издалека была видна полоска света поперек мостовой; свет падал из открытой двери отделенного от улицы занавеской из бусин бара, откуда доносились гитарные аккорды и изумительный, с оттенком легкой меланхолии, девичий голос. Девушка пела старинную народную балладу на языке[171], который я не сразу узнал, хотя слова понимал без труда.
Rossinyol que vas a França, rossinyol,
encomana’m a la mare, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
Encomana’m a la mare, rossinyol,
i a mon pare no pas gaire, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
I a mon pare no pas gaire, rossinyol,
perquè m’ha mal maridada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
Perquè m’ha mal maridada, rossinyol,
a un pastor me n’ha donada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
Un pastor me n’ha donada, rossinyol,
que em fa guardar la ramada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
I n’he perdut l’esquellada, rossinyol,
el vaquer me I’ha trepada, rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
«Vaquer tome me la cabra», rossinyol,
«què me donaràs per paga?», rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
«Un peto i unа abraçada, rossinyol,
i què més, nina estimada?», rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
«Això, són coses de mainatges, rossinyol,
quan tenen pa, volem formatge», rossinyol,
d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol.
Я знал эту песню в более поздней французской версии. Когда-то, очень давно, в одной краковской квартире ее спел для нескольких друзей Серж Керваль[172]. Меня всегда очаровывали простота и вместе с тем страстность желаний, о которых в ней идет речь.
Как во многих других народных песнях, тема ее — одиночество, горькая доля и тоска.
Девушка — красивая и печальная — просит соловья:
Лети, соловушка, лети во Францию и расскажи про меня моей матушке. Но отцу ничего не говори, соловушка, потому что он нашел мне плохого мужа. Выдал за пастуха, который заставляет меня пасти коз. Самую лучшую я потеряла, но ее нашел молодой волопас.
— Отдай мне мою козочку, волопас.
— Хорошо, а что ты дашь мне взамен?
— Я тебя обниму и поцелую.
— Всего-то, красавица? Ты же не маленькая. У кого есть хлеб, тому подавай и сыр.
Повторяющийся в каждой строфе рефрен: …rossinyol, d’un bell boscatge, rossinyol, d’un vol[173], — подобен изысканному орнаменту буквицы — гирлянде из цветов и виноградных лоз, оплетающей выделенную букву
Сущая аркадия — картинка, достойная кисти Никола Пуссена. Однако, хотя это всего лишь сделанный несколькими мазками набросок, многое в песне — беззащитность обиженной отцом девушки, ее одиночество, наконец, тоска по любви и лучшей жизни трогает сердца, и в этом — волшебство поэзии.
Фольклористы сходятся в том, что песня родилась в одной из деревушек, разбросанных по северо-восточным Пиренеям — в раннем Средневековье этот край назывался Gallia Narbonensis (Нарбонская Галлия), затем Руссильон (каталонское Rosselló) и, наконец, Лангедок-Руссильон.
Спор начинается, когда возникает вопрос о времени рождения песни. Подавляющее большинство считает, что она появилась после 1659 года, то есть после завершившего войну между Францией и Испанией Пиренейского мира, по которому Каталония была разделена надвое: пять comarques[174] — Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Rosselló, Vallespir[175] — перешли к Франции, оставшаяся часть досталась Испании. Историю мало интересует судьба людей, которых она разделяет, и еще меньше — судьба влюбленных. Родная деревня девушки осталась во Франции, ее выдали замуж — вероятно, против воли — в семью, живущую по другую сторону границы.
Некоторые ученые на основании языковых исследований утверждают, что песня возникла намного раньше: недаром, наряду с широко известной каталанской версией, есть еще и окситанская. Спор нелегко разрешить, поскольку языки различались незначительно: на обоих говорили в горных деревушках на территории, называвшейся Països Catalans[176], оба относят к руссильонскому диалекту. И хотя многие считают первоначальной каталанскую версию, существует мнение, что окситанская была известна задолго до захвата ленных земель графа Раймунда VI Тулузского войсками крестоносцев под водительством Симона де Монфора и их последующего включения в состав Французского королевства.
Так или иначе, это одна из самых старых и самых известных песен региона. Об ее долголетии свидетельствуют многочисленные записи XVI и XVII веков, но настоящую «жизнь после жизни» она обрела только в период позднего романтизма, когда этнологи и поэты в поисках новых источников вдохновения извлекали на свет покрытые вековой пылью сокровища народной лирики. Тогда и появились ее многочисленные франкоязычные варианты. Сегодня на эстрадах всей Европы эту песню поют превосходные исполнители: Ги Беар, Серж Керваль, Марк Ожере, Нана Мускури, Джоан Баэз и другие.
Поющая в арлезианском баре в первом часу ночи девушка, в черной футболке и вытертых джинсах, с обмотанным вокруг шеи красном шарфом, не была эстрадной артисткой. В пустом зале она пела для себя и прислонившегося к оцинкованной стойке пожилого лысого официанта; пела, аккомпанируя себе на гитаре, не ожидая аплодисментов. Быть может, устав от одиночества в этом, так рано укладывающемся спать, провансальском городке, она словами песни, будто испытанным веками заклятием, призывала из глубины ночи другие, столь же печальные и одинокие души?
Околдованный магией поэзии и летней ночи, я пересекал площадь Республики. Бледная луна, выбелившая фасады домов, выманивала зеленых ящериц из щелей в гипсовых лепных украшениях. Огромный гномон отбрасывал на еще не остывшие от дневной жары мраморные плиты черную черту, показывая какое-то невероятное время. Слышны были замирающий голос девушки, шелест фонтана и звон насекомых, без устали кружащих над уличными фонарями. Откуда-то издалека, со стороны Тренкетая, долетел глухой бой часов.
Весна в Провансе — мощная оратория, радостный гимн в честь возвращающейся из подземного царства Коры; торжественное ее начало — первая трель жаворонка, элегические аккорды увертюры moderate cantabile, записанной нотами миндальных деревьев, форсиций и магнолий, затем crescendo сирени, глициний, желтых вспышек дрока в расщелинах скал, вплоть до триумфального tutti цветущих абрикосовых и персиковых садов и финального diminuendo, когда звуки тонут в фиолетовых волнах лаванды и золоте подсолнечников, предвещающих скорое окончание праздника — близящееся лето.
Соловьиные концерты начинаются во второй декаде апреля, когда у зелени трав и листвы еще десятки, если не сотни оттенков, но своего апогея достигают одновременно с цветением ландышей после майского праздника Братства пастухов Святого Георгия.
В Арле соловьи (Le Rossignol philomèle: Luscinia megarhynchos) везде: в кустах ботанического сада, среди развалин античного театра, в аллеях римских и вестготских саркофагов на Алискампе, в садах загородных вилл. Но есть особые места — для посвященных, где можно послушать соловьиный концерт изблизи, будто выступление знаменитых солистов из партера филармонии. Чтобы отыскать эти места, нужно отдалиться от города — лучше всего на велосипеде — на несколько километров.
Одно из таких мест находится рядом с каналом, соединяющим Арль и Пор-де-Бук, близ ведущей в Сан-Луи узкой асфальтированной дороги в глубокой, заросшей акацией, черемухой и бузиной лощине, где в высокой траве с ранней весны до поздней осени цветет барвинок, легендарный pervenche с аррасских ковров XIV века и из народных баллад.
Прямо напротив лощины через канал перекинут каменный мост. Вероятно, когда-то тут был мост Режинель, чаще называемый мостом Ланглуа (pont de Langlois — по фамилии рабочего, обслуживавшего рычаги конструкции), — один из одиннадцати подъемных мостов (ponts-levis à flèches), которые в 1820–1830 годах построил молодой голландский инженер (вероятно, человек скромный, поскольку его фамилия не сохранилась даже в официальных документах). Почти все мосты в 1944 году были уничтожены немецкими саперами. Единственный уцелевший (в Фос-сюр-Мер) в 1962 году разобрав, перенесли на другое место в нескольких километрах к югу от центра города и реконструировали. Точно повторяющий мост Ланглуа, известный сейчас под названием «мост Ван Гога», он является одной из местных туристических достопримечательностей, очередным из многочисленных следов короткого, драматически закончившегося пребывания художника в Арле.
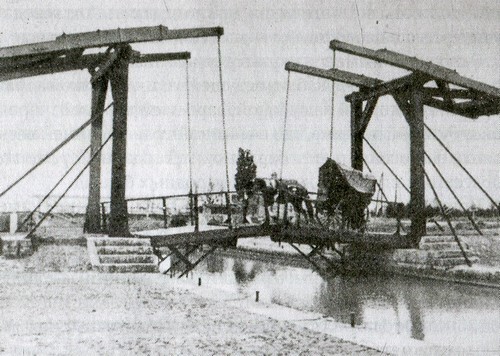
Мост Ланглуа. Фотография. 1892
Арль живет за счет Ваг Гога, благоговейно чтит его память, бережно хранит каждый оставленный им след, будто и не помнит, как жители травили его на улицах, как собирали подписи под петицией к городским властям, требуя изгнания опасного безумца, угрожающего общественному порядку.
Мост Ланглуа (de Langlois — а не de l’Anglois или de l’Anglais, как называл его Винсент) действительно так восхитил Ван Гога, что с середины марта до середины мая 1888 года он четыре раза написал его маслом, один раз акварелью и сделал пять карандашных набросков.

Винсент Ван Гог. «Мост Ланглуа». Карандаш. 1888
В письме к брату Тео 14 марта 1888 года, сообщая о начале работы над картиной, он так описывал мост:
…подъемный мост с проезжающим по нему экипажем на фоне голубого неба; река тоже голубая; на оранжевом берегу, поросшем зеленью, — группа прачек в цветных корсажах и чепцах.
Второй вариант картины он начал в апреле того же года, не забыв уведомить об этом брата:
Я сразу же повторил этот сюжет на другом холсте, но уже без фигур и в серой гамме, потому что погода изменилась…
В жаркие дни второй половины апреля 1888 года его можно было встретить чуть ли не ежедневно. В надвинутой на глаза соломенной шляпе, купленной на субботнем рынке, с притороченным к рюкзаку мольбертом, холстом на подрамнике под мышкой и полотняной сумкой в руке, он всегда шел одним и тем же путем: из Желтого дома на площади Ламартина, 2, по бульвару Комб вдоль старых крепостных стен, оставляя слева кладбище, винный склад La cave arlésienne[177], слесарную мастерскую М. Бланшара, до перекрестка около башни Мург, затем, повернув направо, вдоль ботанического сада, мимо выставленных на улицу столиков кафе Malarte, доходил до следующего перекрестка с улицей Гамбетта; там он пересекал бульвар Лис, сворачивал налево, на улицу Сади Карно[178], и продолжал путь по правой, тенистой, стороне вдоль одноэтажных домишек, разделенных скромными садиками. Солнце уже безжалостно палило, капли пота катились из-под шляпы на веснушчатый лоб и дальше, по рыжей щетине на грудь, на синюю блузу. Тень от домов больше не спасала: через полсотни метров улочка упиралась в поле, неровная брусчатка сменялась проселочной дорогой. По обеим сторонам тянулись канавы, в которых цвели желтые ирисы, а дальше простирались луга, усеянные маргаритками, маками и кустами дрока. Слева, за высоким валом, был канал. Свернув налево и увидев перед собой мост Ланглуа, Винсент останавливался, с облегчением снимал тяжелый рюкзак, доставал завернутую в старые газеты палитру, краски, кисти, бутылку со скипидаром, полотняные тряпицы — вытирать руки и кисти — и расставлял переносной мольберт, для надежности укрепляя его подобранными поблизости камнями.
Готовясь к работе, он сквозь перестук вальков и трескотню стирающих под мостом женщин слышал несущиеся с разных сторон, несмотря на ранний час, соловьиные трели. Можно предположить, что эти концерты сопутствовали ему целый день (Винсент часто работал до самых сумерек), пока он, собрав все свои принадлежности и держа перед собой мокрый холст, не спускался с насыпи на дорогу.

Винсент Ван Гог. «Мост Ланглуа». Карандаш. 1888
И впрямь трудно угадать, почему соловьи облюбовали именно это место. Есть немало подобных мест, казалось бы больше отвечающих соловьиным вкусам, менее доступных, более тенистых, расположенных дальше от дороги. Конечно, очень важна близость воды, а также обилие подёнок, ночных бабочек и комаров. Но было, видимо, еще что-то, какой-то своеобразный genius loci, повелевший выдающимся солистам птичьего племени собираться именно здесь.
Я нередко приезжал сюда на велосипеде послушать соловьиный концерт. Лучшие, вечерние, записывал на магнитофон. Возвращался по пустой асфальтовой дороге или, чаще, по тропинке вдоль канала, с привязанным к багажнику букетом из барвинка, наслаждаясь одиночеством и тишиной.
Канал Арль — Пор-де-Бук, построенный по, распоряжению Наполеона I инженерами из знаменитой Национальной школы мостов и дорог, некогда оживленная торговая артерия, сегодня — сонный водоток с заросшими травой, бузиной и кизильником берегами.
Всякое движение по каналу давно замерло. Тут не увидишь ни лодок, ни барж, да чего там, ни одной живой души; быть может, и то лишь изредка, воскресным днем, попадется рыболов, сидящий на траве или на складном стульчике и часами не сводящий глаз с неподвижного поплавка.
Другое соловьиное место находится в нескольких километрах от города, примерно на середине древней римской дороги, ведущей из Арля в Сен-Жиль-дю-Гар, на просторной равнине, в самом центре сырых, поросших осокой и кермеком пустошей, на берегу канала, доставляющего воду далеким, невидимым отсюда рисовым полям. На повороте, возле заброшенного дома из песчаника дикаря, прячется театральная площадка — покрытый редкой травой пятачок, отгороженный от канала стеной фиговых деревьев, бузины и акаций.
Соловьиные концерты звучат здесь по-особому: арии исполняются в минорной тональности с мягким мелодичным акцентом в конце фразы; готов поклясться, что в них можно уловить местный провансальский, так называемый роданский (rhodandien) диалект, который слышишь везде: в барах квартала Ла Рокет, в напевных призывах рыночных торговцев, в отголосках супружеских ссор, вечерами доносящихся из открытых окон, в песенках и считалках (comptines) ребятишек, играющих на школьном дворе.
Кажется, подобные арии я когда-то слышал неподалеку от прилепившегося к скалам городка Симьян-ла-Ротонд в Любероне. Это было на повороте песчаной дороги, петлявшей среди зарослей кермесовых дубов (Quercus coccifera), называемых здесь garrigues. Дорога вела к развалинам бенедиктинского монастыря Вальсент — к дому Ива Бонфуа. В соловьиных трелях звучали мелодии народных песен, услышанных уж не помню где (вероятно, на рынке в Арле, Бокере или Форкалькье), поющихся под аккомпанемент тоненьких, как тростинка, одноручных флейт (flaviol или galoubet) в сопровождении тамбурина[179].
Третье место я обнаружил сравнительно поздно, уже успев нанести на карту памяти немало особых мест; на этой карте я обозначал все, что меня поражало или восхищало: камни странной формы, опутанные плющом одинокие деревья, уединенные романтические уголки, дороги, подобные «тем уцелевшим участкам римских дорог, что возникают и исчезают неизвестно почему среди поля, словно линейка, которую уронили на шахматную доску…»[180] — много таких находок было сделано во время велосипедных экскурсий майскими вечерами, когда жара спадает, а с земли поднимается прохладный туман.
Место, о котором я хочу рассказать, совершенно особое. Я открыл его одним таким вечером, возвращаясь из Фурка, где обедал у местного кюре Анджея Ж.
В эти края Анджея Ж. когда-то занесло из окрестностей Быдгощи, и он здесь быстро освоился: по-французски говорит с южным акцентом, словно тут родился, богослужения проводит и проповеди читает по-провансальски, играет в петанк на гравийной площадке перед Cafe de l’Avenir, по окончании партии, как велит обычай, выпивает стаканчик пастиса с водой «Перье», состоит членом эксклюзивного клуба Club Taurin de Fourques[181], колоратку по будням не носит, на лацкане черного пиджака у него Croix de Camargue[182] — значок Братства пастухов Святого Георгия.
Я познакомился с ним годом раньше. Мы с моим другом и издателем Войцехом О. ранним утром отправились на велосипедах в Фурк — посмотреть замок, романскую церковь и римский саркофаг, найденный в 1954 году при строительстве ирригационного канала и установленный у южной стены храма. Было воскресенье, и церковь, на неделе обычно закрытая, была открыта. Внутри у алтаря наводил порядок священник: расставлял вазы с цветами, собирал богослужебную утварь. Услыхав, что мы перешептываемся по-польски, он подошел и поздоровался — тоже по-польски. Так началось наше — продолжающееся по сей день — знакомство.
За обедом (légumes à la provençale, escalopes sauce moutarde, côtes du Rhôtne blanc, tarte au pommes, crème brûlée, café, armagnac castarede 1988[183]) отец Анджей рассказал мне об одном драматическом событии, которое до сих пор с содроганием вспоминают в Фурке и на окрестных фермах.
Фурк — маленький городок, втайне завидующий Арлю с его превосходными памятниками старины и великой историей; впрочем, и здесь немало ее следов. Основан был город во II веке близ Тараскона (античный Эрнагинум) — в том месте, где расположился гарнизон для охраны моста, соединившего в крупный коммуникационный узел две дороги: Аврелиеву и Домициеву; стратегическое значение Фурк сохранил и в последующие века. В 1070 году возле переправы через Малую Рону возвели огромный укрепленный замок, ставший свидетелем важных событий: на постоялом дворе у его стен 15 января 1208 года оруженосцем графа Раймунда VI Тулузского был заколот папский легат Пьер де Кастельно. Что произошло впоследствии, известно. Захваченный крестоносцами замок в 1229 году, по мирному договору в Мо, перешел во владение французских королей. С конца XIX века замок принадлежит графскому роду Буасси д’Англа, однако, говорят, жители Фурка до сих пор не считают представителей этого рода «своими».
У Фурка, впрочем, есть и другие, более прозаические основания для гордости. Не одно десятилетие городок славится камаргскими гонками (courses camargues) — корни этого своеобразного вида спорта можно обнаружить на Крите в минойскую эпоху; позднее многочисленные его разновидности были популярны на Иберийском полуострове, на португальском острове Терсейра Азорского архипелага (corrida de touros à corda[184]), во время карнавала в Венеции, ну и прежде всего в Провансе. Суть гонок — состязание в быстроте и ловкости с боевым toro; оно чрезвычайно опасно и, бывает, заканчивается трагически. Группа молодых людей в белом — разетеры (raseteurs) — провоцируют быка (так называемого cocardier[185]). Подбежав как можно ближе к животному, готовому к стремительной атаке, они пытаются снять у него с рогов поочередно: красную кокарду, белый помпон и веревочку, обмотанную вокруг одного рога. От возможно смертельного удара разетеры спасаются, перепрыгнув — в последнюю, как того требует мужская честь, минуту — через барьер, которым обнесена арена. Побеждает тот, кто в течение определенного времени первым добудет все три трофея.
Издавна известно, что с особым вниманием за этими играми наблюдают молодые девушки, оценивая не только отвагу и. ловкость, но и физическую кондицию участников: они выбирают среди них будущих мужей.
Камаргские гонки обычно происходят в тех же амфитеатрах, где на Пасху проводятся корриды.
В наши дни амфитеатр в Фурке, сооруженный с учетом финансовых возможностей городка, — скромная деревянная конструкция с ареной, посыпанной речным песком. Расположенный в стороне от центра, между замком и дамбой над Малой Роной, во время пасхальной фиесты и прочих праздников и государственных торжеств он становится самым важным местом в городе.
Именно этому амфитеатру выпало стать сценой, на которой в воскресенье 15 августа 1923 года разыгралась драма. День был чудесный, окрестные сады золотились от зрелых абрикосов, жара не докучала, поскольку с запада дул легкий ветерок. На окружающих арену деревянных трибунах теснилось около ста пятидесяти человек, в основном жители Фурка, но и немало гостей из Арля, Тараскона, Бокера, Бельгарда, Сент-Жиля, Эг-Морга, Вовера, Бовуазена, Фонвьея.
Представление началось ровно в 16.00. Одного за другим выпустили двух первых быков. Их боевой задор и проворство вкупе с юношеской бравадой разетеров были встречены всеобщим одобрением. Но когда открылись ворота загона, выпуская третьего быка, зрители умолкли, словно над ареной пролетел Ангел Истребления. Огромный палевый зверь с рогами, изогнутыми в форме лиры, стремительно выскочил из ворот, замер как вкопанный посреди арены, низко опустив морду в клочьях пены, раздувая ноздри, роя копытами землю и вращая налитыми кровью глазами. Никем не провоцируемый, он с неожиданной быстротой и яростью бросился в атаку; еще остававшиеся на арене немногочисленные разетеры бросились наутек.
Погнавшись за одним из них, toro, сломав защитное ограждение, воткнулся рогами в основание трибуны с такой силой, что оба рога прочно в нем застряли. Стараясь освободиться, бык сотрясал деревянную конструкцию амфитеатра. Стоящие поблизости люди в панике, толкаясь, кинулись вверх по ступеням. Внезапно раздался оглушительный треск, и, под крики ужаса и боли, вся конструкция рухнула, будто карточный домик, завалив балками и досками десятки зрителей. Было это в 16.40.
А вот как спустя много лет свидетель тех событий, доктор Жан-Поль Рабани, врач из Фурка, описал произошедшее в статье под названием «Катастрофа в Фурке», опубликованной в «Бюллетене друзей старого Арля»[186]:
Паника достигла апогея, хаос был неописуемый.
Известно, что под трибунами стояли люди. Известно, что были жертвы.
Стоны и крики боли, доносящиеся из-под груды балок, подтверждали реальность драмы. Но toro еще был на арене, угрожал людям, которые пытались помочь несчастным.
Из церкви, где как раз закончилась вечерня, выходили прихожане. Кто-то уже прибежал туда с вестью о случившейся беде.
Отец Кастамань, еще в литургическом облачении, поспешил на место катастрофы, по пути успокаивая людей, убегающих от беспрепятственно кружащего поблизости быка. Добравшись до амфитеатра, священник склонялся над умирающими со словами последнего утешения, ободрял раненых. В царящей вокруг суматохе именно он организовывал первую помощь.
Тем временем быку удалось перескочить через нагромождения обрушившихся балок и убежать. Он пробежал мимо церкви, где еще стояли, беседуя, последние из присутствовавших на вечерне прихожане, и свернул на улицу Жана Жореса.
Мадемуазель Дюмон, которая собиралась отправиться к себе на ферму и как раз садилась на велосипед, едва успела спрятаться в тупике, бросив велосипед посреди улицы.
Из своего убежища она видела быка, который — в нерешительности, как ей показалось, — остановился перед витриной галантереи, будто заинтересовавшись собственным отражением в стекле, хотя, вероятно, он просто услышал, как внутри магазина лает собачка.
Именно в этот момент мадам Граншан, которая была тогда беременна, подошла к дверям своего дома; от страха она не могла попасть ключом в замочную скважину и, оцепенев, замерла на пороге. К счастью, бык недолго пребывал в нерешительности: появилась группа преследующих его молодых людей, целью которых было не позволить ему вернуться на место трагедии.
Бык свернул в улицу Дам и выскочил на Лис, сея панику в толпе. Затем взобрался на дамбу, пересек виноградники замка (называвшиеся тогда виноградниками Бланшона) и достиг Малой Роны выше моста.
В это время к мосту с криками «le taureau, le taureau!..[187]» подбегали несколько перепуганных до полусмерти жителей Фурка, уверенных, что за ними гонится бык. По мосту шли направлявшиеся в Фурк арлезианцы; услыхав крики, они, не раздумывая, перелезли через ограждение моста и застыли, спиной к пустоте, судорожно держась за перила.
В кавалькаде спасающихся от зверя были двое раненых: мадам Кламон и мадам Марба.
Бык, переплыв реку, выбрался на берег ниже моста, перед домиком охранника дамбы Сестье. Тут дорогу бестии заступил сторож из mas du Merle[188], но бык ударил рогом его лошадь — одного удара хватило, чтобы та с распоротым брюхом скатилась с дамбы. К счастью, сторож, не растерявшись, спрыгнул с седла и остался невредим.
Бык спрятался в густых зарослях ивняка, где провел часть ночи; затем, ведомый безошибочным инстинктом, под покровом темноты переплыл Большую Рону и вернулся на свое пастбище в Кро, чудом избежав проводимой жандармерией облавы.
На месте катастрофы зрелище было ужасающее: на трибуне или под ней находилось почти сто пятьдесят человек. Большинство были тяжело ранены: переломы, ушибы, поражение внутренних органов. <…>
Действенную помощь оказали немедленно прибывшие из Арля врачи — Бенуа, Пикар и Ремюса. Раненые были перевязаны и переправлены в больницу в Арль, где ими занялись доктор Кальве, доктор Вазоль и студент-медик Ламурё.
Три человека погибли на месте: Мариюс Фьёа, по прозвищу Пий IX, 62 года, бывший владелец кафе и муниципальный советник, и супруги Буаре, управляющие усадьбой Об, прибывшие на представление в Фурк с двумя детьми, которые, к счастью, уцелели. Тела убитых положили около замкового рва.
Еще четверо скончались от ран. Двое — при перевозке в больницу: мадемуазель Гонне, 16 лет, продавщица в торговом доме «Корон», проживавшая в Арле на улице Марбрьер, и ее подруга Игнасиа Наваро, 17 лет, из Фонвьея. Спустя несколько дней в больнице умерла Аделаида Клод, вдова Ориоля, 35 лет, мать пятнадцатилетней дочери, и мадам Антуанетта Бене, супруга месье Пешере. <…>
Разумеется, жандармерия начала расследование, чтобы установить виновных в происшествии. 18 августа на место катастрофы прибыли представители прокуратуры из Нима. В прессе сообщалось о древесине, изъеденной жуками-короедами, о трухлявых досках, неправильной сборке, но все это было мало похоже на истинную причину. Впрочем, следствие никому не предъявило обвинений, и дело закрыли.
В отличие от рассказа доктора Жан-Поля Рабани — где, кроме описания драматических событий, содержалось еще множество подробностей: фамилии пострадавших, социальное и имущественное положение жертв, размер выплаченной компенсации, затраты на госпитализацию и похороны, указы муниципального совета Фурка и Арля, — рассказ отца Анджея был краток. Мне показалось, что, слушая его, я отчетливо улавливаю францисканскую жалость к животному — косвенному виновнику трагедии, а также куда менее заметное восхищение ловкостью, решительностью и отвагой быка, позволившим ему переплыть две большие реки, избежать облавы и, проделав долгий путь, отыскать свое пастбище.
Возвращаясь поздним вечером домой по висячему мосту на Малой Роне — образцу инженерного искусства начала века, — я слез с велосипеда, чтобы рассмотреть столь красочно описанные доктором Рабани место переправы быка через реку и его встречу с несчастной лошадью сторожа перед домиком охранника дамбы Сестье. Домика уже не было. В зарослях у подножия дамбы из земли выглядывали словно бы опаленные пожаром остатки фундамента, торчали две-три трухлявые балки, под ногами хрустели какие-то черепки (возможно, от керамических горшков), валялось несколько кирпичей — вот и все, что осталось от чьей-то некогда теплившейся здесь, жизни.
Как же быстро пропадают следы человеческого присутствия — земля поглощает их, впитывает, будто заживляя рану…
Сам берег реки, заросший черной ольхой и ясенем, был почти недоступен; рядом, в гуще лозняка, бересклета и бузины, пели соловьи. Казалось, весь этот уголок, подсвеченный каким-то неземным зеленоватым сиянием, дрожит от их пения. Со всех сторон неслись трели и щелканье необычайной чистоты и силы, повисая в воздухе, будто крохотные осколки магического кристалла, в которых отражается майское небо.
Если в прежних соловьиных концертах чувствовалось что-то похожее на спонтанные выступления под открытым небом народных артистов-виртуозов, исполняющих музыку в жанре estampie[189] с ее специфической каденцией, то музыка, которую я услышал на берегах Малой Роны, определенно была близка к весьма изысканной (при соблюдении строгих правил темпа, динамики, артикуляции) музыке придворной, что невольно приводило на память виртуозные canso провансальских трубадуров.
Я лежал на дамбе, глядя в небо, где одна за другой загорались звезды. Над рекой поднимался туман, одуряюще пахли травы — мята, донник, чабрец, по мосту изредка, тарахтя на стыках плит, проезжали машины; время на мгновение остановилось, как это бывает, когда боги, выйдя из укрытия, ладонями закрывают нам, простым смертным, глаза, дозволяя поверить, что мы способны понять смысл и суть гармонии или, по крайней мере, разглядеть в темноте их далекий отблеск.
Пораженный и восхищенный, я слушал соловьиные дуэты, трио, квартеты, и откуда-то из дальних уголков памяти возвращались строфы Марии Французской[190] и великого сына этой земли, трубадура Бернарта де Вентадорна:
Miels de nulh autre chantador;
Quar plus trai mos cors ves amor,
E mielhs sui faitz a son coman;
Cors e cor e saber e sen
E fors’e poder hi ai mes;
Немудрено, что я пою
Прекрасней всех певцов других:
Не запою, пока свой стих
Любовью светлой не вспою.
Я сердцем, волею, умом,
Душой и телом предан ей.
Над деревьями за рекой вставала луна, вечерние краски расплывались в тумане, отчего все явное виделось смутно, становилось мягче и нежнее, будто мир менял мажорную тональность на минорную, а меня, казалось, допустили к участию в неком тайном обряде, или, говоря словами Малькольма Лаури, позволили «на краткий час узреть то, чего никогда не было и не может быть, узреть олицетворение нашего счастья, хотя лучше бы даже в глубине души не помышлять о нем»[192].
Дом Петрарки
1.
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva ’I core
in sul mio prime giovenile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,
del vario stile in ch’io piango et ragiono
fra le vane speranze èe ’l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sí come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,
e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.
I.
В собранье песен, верных юной страсти,
Щемящий отзвук вздохов не угас
С тех пор, как я ошибся в первый раз,
Не ведая своей грядущей части.
У тщетных грез и тщетных мук во власти,
Мой голос прерывается подчас,
За что прошу не о прощенье вас,
Влюбленные, а только об участье,
Ведь то, что надо мной смеялся всяк,
Не значило, что судьи слишком строги:
Я вижу нынче сам, что был смешон.
И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские — краткий сон.
1.
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva ’I core
in sul mio prime giovenile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono,
del vario stile in ch’io piango et ragiono
fra le vane speranze èe ’l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sí come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,
e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.
I.
В собранье песен, верных юной страсти,
Щемящий отзвук вздохов не угас
С тех пор, как я ошибся в первый раз,
Не ведая своей грядущей части.
У тщетных грез и тщетных мук во власти,
Мой голос прерывается подчас,
За что прошу не о прощенье вас,
Влюбленные, а только об участье,
Ведь то, что надо мной смеялся всяк,
Не значило, что судьи слишком строги:
Я вижу нынче сам, что был смешон.
И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские — краткий сон.
Реки рождаются неведомо как и неведомо где. Упадет на землю капля из тающего ледника или посреди равнины забьет родник, и потечет ручеек, то прячась в сухой листве, в болотных травах, то появляясь вновь; потом он соединится с другим ручейком, иногда уходя под землю, чтобы вынырнуть через несколько километров — шире и глубже прежнего; порой, когда лето жарче обычного, от зноя ручей высыхает, превращается в ожерелье из луж, нанизанных на нитку воды между камнями. Рано или поздно у него появляется название — не всегда удачное, словно бы еще не уверенное в себе, на пробу; окончательное он обретет лишь где-то дальше, когда в нем впервые, как в зеркале, отразятся весенние облака, а в прибрежных кустах вечером защелкают-засвистят соловьи. Потом в него вольются другие ручьи, и местность по берегам, похожая (если смотреть с высоты птичьего полета или со спутника) на огромный, изъеденный шелкопрядами лист тутового дерева, превратится в филигранное серебряное изделие.
В мире есть только пять мест, где реки сразу рождаются реками — зрелыми, с именами; по ним можно сплавлять лес, они готовы снабжать энергией мельницы, лесопилки, бумажные фабрики. Места эти необыкновенные: все, что их окружает — деревья, скалы, тучи, свет, — не просто деревья, скалы, тучи, свет; став свидетелями чуда рождения, они обретают особые черты, будто на картинах мастеров раннего Кватроченто.
Именно так появляется на свет река Сорг — бурная, причудливая, необузданная, зачаровывающая своей дикой красотой. Она вытекает из грота — одного из целой системы пещер, тянущихся вглубь горного массива Люберон или, как гласит легенда, в самый центр Земли, где некогда жил страшный змей по имени Колубр. В середине VI века его одолел святой Веран, епископ Кавайонский, который по завершении своей праведной жизни — как пишет Петрарка — был погребен в Воклюзе, «в маленькой, но прочной и красиво украшенной церкви, которую Веран посвятил Пресвятой Деве».
Свое начало Сорг, вероятно, берет в подземном водоеме площадью около 1240 квадратных километров, собирающем воды из долины Воклюз, с южного склона горы Ванту и с горной цепи Де-Люр. Из подземного грота у подножия скальной стены высотой 230 метров Сорг вырывается с огромной скоростью (от 90 до 120 кубометров в секунду, в зависимости от времени года) и, пенясь и шипя, устремляется вниз по крутому руслу, с разгона ударяясь о валуны с такой силой, что над водой повисает пелена из мельчайших радужных капелек.
Бирюзового цвета источник находится в бездонном гроте (в 1989 году специально сконструированный робот «Спеленавт», опустившись на глубину 308 метров, так и не достиг дна). В результате систематического изучения, начатого в 1950-е годы знаменитым исследователем подводных глубин Жак-Ивом Кусто, была открыта огромная подземная галерея, впоследствии названная «Прадо»; археологи обнаружили в расщелинах грота большое количество (1600) серебряных, золотых и бронзовых монет разных эпох (с II в. до н. э. вплоть до нашего времени). На многих можно увидеть изображение привязанного к пальме крокодила, а на аверсе — две головы: Октавиана Августа и Агриппы; такие монеты чеканились на местном римском монетном дворе в Colonia Augusta Nemausus (ныне город Ним).
Фонтен-де-Воклюз (Воклюз — от латинского Vallis Clausa, что значит Закрытая долина) смахивает на сцену громадного театра с изысканными декорациями: скалы, облака, высокие деревья — лавры, платаны, вязы, — сверкающая лента реки, обрамленная изумрудной травой. Складывается впечатление, будто вот-вот начнется спектакль, на сцену выбегут и запляшут нимфы и сатиры, возможно, появится и кентавр, натягивая тетиву лука, а зрителями будут выглядывающие из-за туч боги Олимпа.
Где-то на втором плане виднеются ржавые пятна черепичных крыш; это и есть то ли деревня, то ли городок Фонтен-де-Воклюз с крутыми извилистыми улочками, оградами из песчаника дикаря, ступенями, истертыми тысячами подошв, разноцветными ставнями погруженных в полудрему домов; кажется, будто и время здесь особое, готовое, раскрывшись как лепестки брошенного на воду японского цветка, явить чудеса.
Впервые я приехал сюда поздней осенью, когда тень платанов уже приносила прохладу. Городок дремал под неярким солнцем — пахнущий яблоками и свежим виноградным суслом, пустой: ни туристов, ни сувенирных лавочек, ни зазывных криков торговцев, фотовспышек, настырных реклам. И вдруг, в этой недвижности и тишине, откуда-то всплыло воспоминание о другом, отделенном парой тысяч километров и веками иной культуры городке, где я подростком провел несколько лет. Возможно, на это воспоминание меня навели стихи родившегося в двух шагах отсюда, в Иль-сюр-ля-Сорг, Рене Шара. Слово обладает божественной мощью эвокации[194], даже если вызванные им образы всего лишь обманка, оптическая иллюзия (trompe l’oeil); в первую секунду оно едва слышно, однако чем дольше вслушиваешься, тем отчетливее начинает казаться, что доносится оно из собственной головы эхом чего-то, что ты — возможно и не осознавая — когда-то уже слышал.
Другие тучи, другие деревья, другие запахи и свет, но та же печаль, та же, сравнимая с красотой ядовитого цветка, красота безвозвратно минувшего…
Я смотрел на маленькую прямоугольную площадь, колонну под деревьями, прохожих, которые, поздоровавшись, останавливались и, смеясь и жестикулируя, заводили разговор; в этом отмеченном историей месте все держались с очевидной свободой, подобно священнику, который, привыкнув к ежедневному общению с Богом, громко говорит и без особого благоговения хозяйничает в пустой церкви. И вдруг мне представилась другая, словно бы поблекшая от времени, картина: вымощенная булыжником квадратная рыночная площадь с городской водоразборной колонкой, аптека на углу, владелец которой, пан К., фармацевт и астроном-любитель, по ночам из оборудованной на крыше обсерватории изучал небо, а в витрине аптеки, среди белых с кобальтом банок мейсенского фарфора вокруг весов XIX века с чашками, которые поддерживают змеи, вывешивал сообщения о близящихся затмениях Солнца или Луны и сопряжении важнейших планет со звездами; информация частенько дополнялась рисунком, испещренным цифрами и астрологическими символами. Я увидел пересекающие площадь знакомые фигуры: Виктора О., отца моего друга, будущего художника; раввина Ш, известного в повяте[195] талмудиста, спешащего в сопровождении нескольких одетых в черное единоверцев в синагогу на субботнюю молитву; тучного, с львиной гривой седых волос пана Б. — органиста приходского костела Святого Николая и композитора, на каждой воскресной мессе дирижировавшего кантатой собственного сочинения; потом увидел толстяка пана П., директора гимназии, который еще до войны прославился вышедшей в варшавском издательстве «Рой» тоненькой книжечкой стихов; двух элегантных сестер К., всегда в черном, в шляпах и кружевах (по слухам, они обращались друг к дружке на «вы», а дома говорили исключительно по-французски); прямого как палка полковника Б., который вечерами, прихрамывая, опираясь на тонкую трость с серебряным набалдашником, медленно шествовал по рынку к дому адвоката У. — вдовца, известного своими многочисленными любовными приключениями, отца двух белокурых барышень: любострастной Сабины и величественной Амалии; на веранду выносили лампу, вокруг которой тотчас начинали виться ночные бабочки, и адвокат с полковником за
бокалом ратафии допоздна беседовали о политике. Все знали, что полковник Б. был ранен осколком гранаты во время государственного переворота 14 мая 1926 года[196].
Картины тускнели, сливались; напоследок я заметил въезжающую на площадь запряженную мулом бричку, в которой пан Ж., лесничий, по воскресеньям с женой и двумя сыновьями приезжал из лесничества на мессу. Правил он сам, сидя на козлах в темно-синем, наглухо застегнутом двубортном сюртуке или форменном мундире, с прямой спиной, держа вожжи руками в замшевых перчатках.
Я хорошо помню специфическую атмосферу спокойной, уверенной в себе провинции. Атмосферу эту создавали люди, которые жили среди вещей, годами не сдвигавшихся с места, в тех же квартирах, что их деды и прадеды, и руководствовались несколькими простыми правилами, позволявшими переходить из тьмы во тьму, понимая, что они всего лишь звено в цепи поколений. Среди фигур, промелькнувших вдруг, словно на экране laterna magica[197], я заметил и себя, тощего недоростка-мечтателя, который летними вечерами слонялся по рыночной площади, голодным взглядом провожая проходящих мимо девушек и не сознавая, что видит не спектакль повседневности, а мир, который вот-вот полетит в тартарары.
Я долго стоял на маленькой площади Воклюза, глядя на дома цвета меда, вслушиваясь — с затаенной завистью — в тишину. Да, время здесь не движется скачками от беды к беде, от катастрофы к катастрофе, от смерти к смерти, а течет неспешно. История — не ошалевшая синусоида, а прямая линия, складывающаяся из упорядоченных отрезков. Но мы-то живем здесь и сейчас, судьба никого не обделит: повсюду, и тут и там, человек превозмогает одинаковые страх и неуверенность, а дом нашего детства и тут и там перестал быть безопасной гаванью и уже не хранит ни наших тайн, ни наших сокровищ.
Буколическая красота и сонное спокойствие Фонтен-де-Воклюза всегда притягивали людей впечатлительных, утомленных мирской суетой. Здесь в разное время побывали (а кто-то и задержался надолго) писатели, художники, поэты, оставляя следы своих размышлений в стихах или письмах, однако жестокая история сохраняет лишь самые яркие имена: Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Франсуа-Рене де Шатобриан, Фредерик Мистраль, Рене Шар…
Неизменное основание для гордости у жителей Воклюза — то, что здесь пятнадцать лет прожил Франческо Петрарка. Сегодня его дом, наряду с подземным источником, — главный туристический объект и… двигатель коммерции. Петрарка везде: на вывесках кафе и ресторанов, в названиях отелей и турагентств, на цоколе стоящей посреди городка колонны, на фронтоне дома, где размещается посвященный его памяти музей. Но если тайны источника в основном уже раскрыты, то местоположение дома поэта остается предметом непрекращающегося спора, который, по мере появления новых археологических аргументов и научных трудов, то разгорается, то затихает. Полемика, начатая в первой половине XIX века, продолжается по сей день. Важные выводы содержатся в отчете о заседании Академии надписей и изящной словесности[198] (1896). Вот фрагмент протокола этого заседания:
Существует множество мнений относительно местоположения дома Петрарки в Воклюзе; принято считать, что он стоял на левом берегу Copra, у подножия скалы, на которой возвышается замок, рядом с тоннелем (римских времен — как полагают археологи), который соединял две части деревни. В последние годы возобладало мнение, будто дом поэта находился на правом берегу, ровно в том месте, где сейчас кафе «Лаура и Петрарка». Недавно маркиз де Монклар попытался доказать, что это историческое здание идентично дому который еще в наши дни стоял на откосе посередине склона, в небольшом отдалении от замка.
Г-н Мюнц[199] взял на себя труд разрешить сомнения, ссылаясь на свидетельства самого Петрарки и его современников. Благодаря им он сумел доказать, что дом, который поэт приобрел за наличные, стоял там задолго до того, как Петрарка насовсем переехал в Воклюз. Он был сложен из камня и довольно прочен — его свод уцелел в пожаре, который в 1353 году устроили грабители. Завещанный приюту в Воклюзе или — если приют не будет открыт — наследникам старого слуги поэта, дом вскоре сделался местом паломничества любителей литературы. Однако спустя некоторое время память о жившем в нем великом поэте стерлась, и, когда сто пятьдесят лет спустя Велутелло, Беккаделли и Симеони[200] посещали Воклюз, традиция таких паломничеств уже увяла. В ту эпоху, как, впрочем, и в XVII веке, сомнений не было: все биографы отмечали, что поэт жил высоко на откосе. Дом, который они описывают, идентичен — и это убедительно доказано г-ном де Монкларом — тому, который существует и сегодня.
В середине прошлого века аббат де Сад в своих «Мемуарах о жизни Петрарки» утверждал, что дома уже не существует; это мнение было подхвачено большинством авторитетных исследователей.
Г-н Мюнц старался доказать, что даже наиболее противоречивые тексты не исключают гипотезы о доме, построенном на откосе. Так или иначе, область исследований отныне определена: дом Петрарки следует искать на левом берегу Copra, у подножия либо на верхушке скалы, поблизости от орошаемого водами реки сада, где и сегодня можно увидеть ствол лаврового дерева, прожившего несколько сотен лет.
Благодаря обнаруженным текстам новые исследования непосредственно на месте позволят окончательно разрешить эту проблему[201].
Однако проблема не была разрешена. Историю дома можно довольно точно проследить вплоть до конца XVI века, когда дом еще посещало множество почитателей Петрарки; впоследствии интерес к его поэзии пропадает, а редкие упоминания о легендарной уединенной обители над рекой Сорг все менее достоверны. Известно, что в 1374 году, когда Петрарка скончался, приюта в Воклюзе еще не было, поэтому дом, согласно последней воле поэта, унаследовал его старый слуга Раймон Моне, неграмотный крестьянин, который постоянно занимался домом, двумя садами и… библиотекой. Хоть он и не знал грамоты, книги вызывали у него уважение и благоговейное восхищение. Петрарка рассказывает о нем в одном из писем:
Он бывал счастлив, когда я давал ему в руки какую-нибудь книгу <…> Вздыхал, прижимал ее к сердцу, шепотом повторял фамилию автора.
Несколько веков дом одиноко простоял на откосе, заросший бурьяном, с пустыми глазницами окон, но, поскольку постройка была солидная, сохранился до сравнительно недавнего времени.
А когда-то в окнах горел свет, мелькали тени, слышны были голоса, смех, лай собаки; летними ночами на веранде горели свечи в канделябрах, а в кресле с высокой спинкой сидел человек в расстегнутом кафтане с книгой на коленях либо гусиным пером в руке. Проходившие мимо крестьяне и жители городка иногда видели, как он, в большой шляпе, с каким-нибудь садовым инструментом, трудится бок о бок со старым слугой в одном из двух прилегающих к дому садов, или под вечер встречали его, идущего с удочкой по берегу Copra.
Теперь мое оружие, — писал он Джованни Колонне, — сеть и верша, сплетенная из гибких побегов лозняка, что пропускает воду, но рыбе тюрьма, откуда ей никоим способом не выбраться. С недавних пор я превратился в рыбака, вместо меча ношу изогнутые крючки, на которые надевается коварная приманка, гибкое копье и маленький трезубец, каковой уже умею рыбе в спину всадить, перед тем, как оглушить ее камнем.
Петрарку можно было встретить на крутой каменистой тропе, ведущей в замок Филиппа де Кабассоля, его близкого друга и покровителя, регента и канцлера Неаполитанского королевства, епископа Кавайона и Марселя, кардинала-епископа епархии Сабина. Поэт поднимался медленно, опираясь на палку с острым наконечником, часто сопутствуемый собакой, которая бежала впереди, распугивая ящериц; время от времени он останавливался, чтобы посмотреть на раскинувшуюся у его ног долину. Из замка не раз возвращался поздней ночью, после ужина и ученого диспута; осторожно спускался по тропинке в сопровождении слуги епископа, который шел впереди, держа высоко над головой горящую лучину или фонарь.
Видели его и в городке. Будучи человеком набожным, он в воскресенье, вместе со слугой, непременно присутствовал на мессе в церкви, деньги на постройку которой — как гласит легенда — дал святой Веран Кавайонский.
Отступим, однако, назад. 1326 год. Молодой флорентинец (сегодня мы бы сказали: европеец) Франческо Петрарка, изучавший юриспруденцию в Монпелье и Болонье, поселяется в Авиньоне, столице папства.
Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, — почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести.
И действительно: перед ним распахнулись все двери, карьера, казалось, была обеспечена. В 1330 году он поступил на службу к кардиналу Джованни Колонне, одному из самых влиятельных сановников в окружении папы Иоанна XXII, и несколько лет исполнял обязанности его секретаря и советника по правовым вопросам.
6 апреля 1327 года, в Великую пятницу, произошло событие, оказавшее огромное влияние на дальнейшую судьбу Франческо Петрарки. На утренней мессе в церкви Святой Клары двадцатитрехлетний поэт (заметим, уже принявший сан) впервые увидел девятнадцатилетнюю Лауру де Новес, уже два года как супругу Гуго де Сада, влиятельного вельможи, viguier[203] Авиньона. Когда по окончании мессы, ошеломленный, в полуобморочном состоянии, Франческо вышел из церкви, ему уже было ясно, что вспыхнувшее чувство никогда не погаснет. След этого озарения можно найти в сонете 61 (Canzoniere), написанном годы спустя в Воклюзе:
Benedetto sia ’l giomo, et ’l mese, et l’anno,
el la stagione, e ’l tempo, et I’ora, e ’I punto,
e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto
da’duo begli occhi che legato m’ànno;
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз![204]
Однако в тот незабываемый день случилось еще нечто, показавшееся Петрарке знаком небес, пророческим посланием судьбы. Произошло длившееся три часа полное затмение Солнца: на небе появились звезды, толпы заполонили улицы, площадь перед папским дворцом, мост Святого Бенезе, люди взбирались на крыши домов, на деревья… Так память о необычайной встрече навсегда связалась с воспоминанием о божественном знаке.
Лаура! Одно имя завораживало поэта. Сколько в нем таилось значений, сколько оттенков, сколько обещаний: тут и латинское aurum — золото, и итальянское l’aura — дуновение ветра, и итальянское lauro — лавр или, лучше, лавровый венок — высочайшая награда поэту, ну и наконец, отсылка к известному по «Метаморфозам» Овидия мифу о нимфе Дафне и преследующем ее боге поэзии Аполлоне.
А как выглядела Лаура? Как выглядел Франческо? Нам знакомы их лица. Они смотрят на нас с многочисленных портретов, медальонов, фресок, барельефов — живописных, графических, скульптурных изображений XIV–XIX веков. Основой для всех или почти всех послужили два двойных портрета, написанных в Авиньоне в 1336 году, когда Лауре было двадцать восемь лет, а Франческо — тридцать два.
В тот год в Авиньон по приглашению папы Бенедикта XII прибыл Симоне Мартини[205], который должен был украсить живописью папский дворец, а заодно, по поручению кардинала Джакомо Стефанески, расписать фресками притвор церкви Нотр-Дам-де-Дом. Тогда Франческо и попросил художника сделать два портрета: Лауры и свой. Мартини просьбу исполнил, мастерски — по мнению современников — передав сходство с моделями; к сожалению, оба изображения пропали при невыясненных обстоятельствах. Говорят, правда, что портрет Лауры сохранился и находится в коллекции семьи де Сад, чьи представители по авиньонской линии (то есть прямые потомки Лауры) живы по сей день; впрочем, вряд ли можно было столько веков успешно его прятать.
Второе изображение, вызывающее множество сомнений и споров, находится в неаполитанской церкви Санта Мария Инкороната, построенной в 1360–1373 годах. На фреске свода, представляющей Семь таинств, в сцене венчания специалисты узнают Роберта Анжуйского и королеву Джованну, а в сцене крещения — Петрарку и Лауру. Возможно, художнику были известны их портреты авторства Симоне Мартини.
Никто сегодня не может ответить на вопрос, почему судьба свела вместе эту легендарную пару только на произведениях художников или в поэтических строфах. В жизни они никогда не встречались. Ни разу поэт не коснулся руки Возлюбленной, ни разу не попытался ее увидеть. Можно предположить — хотя в это трудно поверить, — что Лаура даже не знала о великой любви к ней поэта. Она была высокородной дамой, а он — всего лишь сыном флорентийского нотариуса.
А ведь Франческо Петрарка за несколько лет пребывания при папском дворе весьма преуспел. Он был дипломатом, ученым, поэтом — личностью, известной в Авиньоне и Европе. Много путешествовал. Был отправлен в Неаполь в качестве легата Климента VI, мечтавшего видеть его своим личным секретарем. Бывал в Риме, Париже, Базеле, Лионе, Генте, Льеже, Кельне. Его расположения домогались знать и знаменитости: Колонна в Риме и Авиньоне, да Каррара в Падуе, Висконти в Милане, Скалиджери в Вероне, д’Эсте в Ферраре. Его почитали в Венецианской и Генуэзской республиках. Даже Флоренция, которая обрекла его отца, как и Данте, на вечное изгнание, теперь добивалась расположения поэта. Вся Европа читала его сонеты, все в Европе знали о его любви — все, кроме той единственной, что его вдохновляла.
Сорок семь лет любви, которая кормилась сама собой… А ведь эта любовь не была ни данью традиции, подобно часто воспевавшимся трубадурами чувствам, ни благоговейным апофеозом Дамы, ни иллюзией платонического чувства. Напротив, она была насыщена эротикой, восхищением красотою тела, содержала в себе целую гамму земных желаний. В ней было все: изысканный секс и почтение, близость и отчужденность, огонь и лед. Пламя не ослабевало все те годы, пока девятнадцатилетняя девушка превращалась в почтенную, едва ли не пожилую (по тогдашним понятиям) матрону, мать одиннадцати детей. И не угасло даже после ее страшной смерти. Лаура умерла от чумы ровно в двадцати первую годовщину их встречи — 6 апреля 1348 года, после пятидневной агонии; в 1346–1351 годах эпидемия так называемой черной смерти унесла половину населения Европы — более 25 миллионов человек.
Erano i capei d’oro a I’aura sparsi
che ’n mille dolci nodi gli avolgea,
e I’vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi, ch’or ne son si scarsi;
e ’l viso di pietosi color’ farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che I’esca amorosa al petto avea,
quad meraviglia se di subito arsi?
Non era I’andar suo cosa mortale,
та d’angelica forma; et le parole
sonavan altro, che pur voce humana.
Uno spirto celeste, un vivo sole
fit quel ch’i’vidi: et se non fosse or tale,
piagha per allentar d’arco non sana.
В колечки золотые ветерок
Закручивал податливые пряди,
И несказанный свет сиял во взгляде
Прекрасных глаз, который днесь поблек,
И лик ничуть, казалось, не был строг —
Иль маска то была, обмана ради? —
И дрогнул я при первой же осаде
И уберечься от огня не смог.
Легко, как двигалась она, не ходит
Никто из смертных; музыкой чудесной
Звучали в ангельских устах слова.
Франческо Петрарка все хуже чувствовал себя в папской столице: он презирал суетность и мишуру придворной жизни, не искал благосклонности сильных мира сего, тщеславие и интриги были ему ненавистны. Авиньон виделся поэту новым Вавилоном, «адом для живых», «мерзейшим из городов», «вместилищем сатиров и демонов». Он называл его «нечестивый Вавилон, приют скорбей, вместилище порока»[207], «блудный Вавилон, где нет стыда и подлы нравы», именовал Авиньон «столицей горя» и «матерью прегрешений», а двор — «гнездом предательств».
Вавилон — вместилище всех пороков и страданий, — писал он в одном из писем. — В нем совсем не нашлось места благочестию, милосердию, вере, почтительности, страху Божьему; здесь нет ничего святого, ничего возвышенного, ничего справедливого. Все, что вы читали или слышали о вероломстве, обмане, жестокой гордыне, бесстыдстве и необузданном разгуле, — короче говоря, всякий пример того, что нечестивость и зло способны явить миру, вы найдете в этом городе… Здесь каждый теряет что-нибудь хорошее, вначале — свободу, а после — покой, счастье, веру, надежду и милосердие[208].
В записках и письмах того периода ощутимо отвращение кое к кому из его окружения — особенно доставалось кардиналам Священной коллегии, которых Петрарка, не выбирая выражений, называет вонючими козлами. Об одном из них, неимоверной толщины, он пишет: «Всей своей тяжестью наваливался на несчастных коз, драл кого ни попадя»; о другом: «Обходил все фермы и ночью не позволял ни одной козе спокойно уснуть…»; про третьего сообщал, что тот «не пропускает даже маленьких козлят».
В своей «Инвективе против Жана де Карамана» Петрарка пишет:
…этот старикашка способен оплодотворить любое животное. Он обладает похотливостью козла, а то и большей, если только существует тварь, более похотливая и более вонючая, чем козел…
— и, чтобы современники без труда распознали, о ком речь, добавляет:
…ему уже за семьдесят, зубов осталось всего семь <…> башка седая и лысая <…> а заикается так, что его невозможно понять.
Еще он пересказывает известный анекдот: вступая на любовное ристалище в чем мать родила, старец, по требованию разгневанной молодой проститутки, вынужден был надеть кардинальскую шляпу, дабы убедить девицу, что действительно является членом Священной коллегии.
Итак, сей многолетний служитель Купидона, слуга Вакха и Венеры, одерживал любовные победы не с помощью оружия, данного ему природой, а благодаря сутане и шляпе. Рукоплещите, комедия окончена.
В 1338 году Франческо Петрарка окончательно переселяется в Закрытую долину. Решаясь на этот шаг, он порывал с прежней жизнью, отказывался от многообещающей дипломатической карьеры и — в недалеком будущем — богатства. Всему этому он предпочел одинокую жизнь, посвященную поэзии и размышлениям.
В «Письме к потомкам» Петрарка описывает свое новое место жительства:
…и нашел крошечную, но уединенную и уютную долину, которая зовется Запертою, в пятнадцати тысячах шагов от Авиньона, где рождается царица всех ключей Copra. Очарованный прелестью этого места, я переселился туда с моими милыми книгами[209].
А зимой 1345/1346 года пишет Филиппу де Кабассолю:
Я приехал сюда ребенком, потом бывал в юности, а сейчас хотел бы пережить тут осень своей жизни! <…> Я решил провести остаток дней в деревне, вдали от войн и губительных распрей. О, Филипп, любезный мой покровитель, да станет эта земля моим отечеством.
Переезд в деревню не минутным капризом был продиктован, а хорошо продуман. Поэт купил дом и жил в нем — с перерывами — до 1353 года, то есть пятнадцать лет, по собственным словам, учредив здесь мысленно «свой Рим, свои Афины, свое отечество». В одном из писем к епископу Кавайонскому он объясняет причины своей любви к Vallis Clausa:
Изгнанный из Италии безумием гражданской войны, я прибыл сюда отчасти по своей воле, отчасти вынужденно. Пусть другие любят богатство — я тоскую по спокойной жизни. Мне достаточно быть поэтом. Лишь бы судьба — если может — позволила мне сохранить мою лужайку, скромный кров и любимые книги; остальное пускай забирает. Музы, вернувшиеся из изгнания, живут в этом чудесном уединении вместе со мной.
Во время первого, двухлетнего, пребывания в Воклюзе он написал трактат De viris illustribus[210] и монументальную (оставшуюся незавершенной) поэму «Африка» — девять песней, прославляющих римского полководца Сципиона Африканского.
Второй раз Петрарка приехал в Воклюз в 1342 году, когда родилась его внебрачная дочь Тулия Франческа, но вскоре уехал и после нескольких очередных путешествий вернулся в 1351 году — уже на целых три года. Тогда он написал трактаты De vita solitaria, Psalmi penitentiales, De otio religioso и книгу-исповедь Secretum meum[211].
Петрарка был безмерно работоспособен. Из книг, написанных в Воклюзе, можно составить целую библиотеку. Кроме произведений религиозного, нравственного и философского характера, глубиною мысли, интеллектуальной отвагой и новизной взглядов, далеко опережавших свою эпоху, кроме огромной корреспонденции с учеными, писателями, церковниками чуть ли не со всей Европы, в Воклюзе был создан его главный (по крайней мере, по признанию потомков) труд — Rerum vulgarium fragmenta («Разрозненные стихи на итальянские темы»), называемый также «Сонетами к Лауре», или «Книгой песен» (Canzoniere). Книга написана на его родном тосканском наречии (volgare) и содержит 366 произведений: 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад, 4 мадригала. Цикл поделен на две части: том I («Стихи на жизнь Мадонны Лауры») и том II («Стихи на смерть Мадонны Лауры»),
Неосуществившаяся любовь нашла воплощение в поэзии и завладела воображением целых поколений, став одним из вневременных мифов нашей культуры. Главным в сонетах была не тема Лауры, а виртуозное описание эмоций и мыслей влюбленного поэта; несмотря на его нарциссизм, любовь эта стала символом высочайшего чувства, а стихи, ее воспевающие, — непревзойденными по сей день образцами любовной лирики.
Однако, как всякому иному, и этому многолетнему чувству не чужды были минуты бунта, сомнений, неуверенности или просто усталости.
Уже из Воклюза Петрарка пишет самому близкому своему другу Джованни Колонне:
Есть в моем прошлом женщина с прекраснейшей душою, известная всяческими добродетелями и благородством происхождения, женщина, чье блистание обретено, а имя прославлено благодаря моим стихам <…> Безыскусностью, пленительной простотой и редкой прелестью облика она некогда завладела моей душой. Десять лет я сносил этот гнет, пока наконец не счел, что непозволительно столь долго терпеть женское иго.
Ну-ну…
А вот что Петрарка пишет другому своему другу, Луи де Берингену[212], которого он с нежностью называет Лелием, видя в нем воплощение всех достоинств Кая Лелия, друга Сципиона:
Дожив до более спокойного возраста, я прошу своего врага с колчаном заключить перемирие. Он отказывается, удваивая наступательность, и — поразительно! — я вижу этого безжалостного крылатого недруга перед собой во всяком месте и во всякое неурочное время, и, честно признаюсь, у него столько преимуществ, что я весь дрожу, опасаясь, как бы он снова не вскрыл стрелой мою старую рану.
О таком месте, как Воклюз, поэт давно мечтал. Он не боялся тишины и одиночества, напротив, искал их. Не боялся, что время уходит, ибо осознавал ценность того, что оставляет потомкам. Природа окрестностей неизменно восхищала его и вдохновляла. Своими впечатлениями Петрарка делится с друзьями. Джованни Колонне он пишет:
Я беседую с тобой, а потоки дождя низвергаются, дома гудят, частый град губит венок из виноградных листьев Вакха; леса теряют свои одежды; залитые грязной водой пещеры стонут, а ручьи несут в реку камни и грязь, небывалой мутью обезображивая ее лик.
И тому же Джованни Колонне шесть лет спустя:
Дарю тебе виноградники на склонах, тяжелые гроздья винограда, сладкий инжир, бьющую ключом из источника воду, бессчетные птичьи рулады, прихотливо вьющиеся овраги, надежные укрытия и свежую тень влажных долин.
Еще одному из друзей, Франческо, приходскому священнику церкви Святых Апостолов (Santi Apostoli) во Флоренции:
Я нашел себе здесь две лужайки. <…> Одна лужайка тенистая, пригодная только для занятий и посвященная нашему Аполлону; она примыкает к истоку Copra <…> Другая лужайка ближе к дому, ухоженней на вид и излюблена Бромием; она, странно сказать, расположена среди стремительного и неописуемо прекрасного потока, а рядом с ней, только пройти по коротенькому мостику, у задней стены дома есть навес из неотделанных камней, который сейчас, под палящим небом, позволяет не чувствовать жары[213].
Следы лужаек видны до сих пор, как и ствол тысячелетнего лавра, упомянутого однажды Петраркой.
А как выглядел дом? Мы немало о нем знаем. Это было солидное двухэтажное, квадратное в плане, здание из тесаного камня, укрепленное контрфорсами. Стоял дом на откосе, над излучиной Copra, где река огибает маленький островок. Крыша то ли шиферная, то ли крытая красной керамической черепицей. Просторный, удобный, спроектированный по общепринятому образцу villa rustica[214] дом: внизу большой сводчатый зал (pièce de séjour[215]) с полом из каменных плит или глазурованного кирпича, большая кухня, комнаты для прислуги и хозяйственные помещения. Внутренняя винтовая лестница вела на второй этаж. Там была библиотека: книжные шкафы от пола до потолка, огромный стол и сундуки для рукописей; рядом — спальня с альковом и, возможно, кабинет с выходом на балкон. О расположении и назначении помещений можно судить по описаниям, оставленным почитателями поэзии Петрарки, в XV и XVI веках совершавшими паломничества в Фонтен-де-Воклюз; в частично разрушившемся доме они видели сухие листья под окнами, заросшие паутиной углы, приподнятые корнями кустов плитки пола, пятна копоти над кухонной печью…
Строение было схоже с домами, принадлежавшими состоятельным владельцам виноградников и богатым жителям Кавайона или Авиньона. И мало чем отличается от — иногда очень старых — домов, что по сей день стоят на склонах холмов, окружающих Иль-сюр-ля-Сорг, Горд, Бонньё.
Еще сейчас дома XIII, XIV, XV веков в тех краях не редкость. Унаследованное от римлян умение обрабатывать камень, владение искусством сооружения арок и сводов, кладочный раствор с добавлением вулканического пепла, фундаменты из плоских кирпичей — все это обеспечивало постройкам прочность и долговечность.
Дом Петрарки в Воклюзе (в отличие от дома в Ареццо, где он родился, дома в Карпентра, где четыре года прожил с родителями и начал учиться, и дома в Аркуа, где провел последние годы и где скончался), к сожалению, не сохранился. Тот, что стоит там сейчас, — лишь призрак, созданный воображением. Наверняка в его стенах и фундаменте можно найти остатки бывшего дома поэта, однако — как ни стараются нас в этом убедить — порог, который мы переступаем, истерт не его башмаками, в перестроенных комнатах не блуждает эхо его слов, не слышны ни отзвуки шагов, ни скрип ступеней. Тем не менее там присутствует что-то неуловимое, навеянное пейзажем в рамах окон в лучах золотого света, падающего на каменные плиты пола, — вероятно, следы чуда, произошедшего без свидетелей.
Был ли поэт в своем доме счастлив? Мог ли сказать: et in Arcadia ego? Он провел там пятнадцать лет! Со сколькими иллюзиями ему пришлось расстаться, а сколько появлялось новых…
Когда поздней осенью 1353 года он покидал — на этот раз навсегда — Воклюз, ему было пятьдесят лет. Он оставлял дом, старого слугу и собаку, ближайшего соседа и друга Филиппа де Кабассоля, расставался с местом, где родились лучшие его произведения, где накапливались опыт и мудрость, которые — как никому иному в той эпохе — давали право «воздать высшую справедливость видимому миру»[216].
Одним из последних, созданных в Воклюзе незадолго до отъезда, был сонет CCCLV:
О tempo, о ciel volubil, chefuggendo
inganni i ciechi et miseri mortali,
о di veloci piu che ventо et strali,
ora ab experto vostre frodi intendo:
та scuso voi, et me stesso riprendo,
che Natura a volar v’aperse l’ali,
a me diede occhi, et io pur ne’ miei mali
li tenni, onde vergogna et dolor prendo.
Et sarebbe ora, et e passata omai,
di rivoltarli in piu secura parte,
et poner fine a li ’nfiniti guai;
ne dal tuo giogo, Amor, l’alma si parte,
та dal suo mal; con che studio tu ’l sai;
non a caso e vertute, anzi e bell’arte.
О время, ты в стремительном полете
Доверчивым приносишь столько зла!
О быстрые — быстрее, чем стрела, —
Я знаю, дни, как вы жестоко лжете!
Но я не вас виню в конечном счете:
Природа вам расправила крыла,
А мне глаза, несчастному, дала,
И мой позор и мука — в их просчете.
Надежный берег есть — к нему привлечь
Давно пора вниманье их, тем боле
Что вечных бед иначе не пресечь.
Амур, не ига твоего, но боли
Душа моя бежит: о том и речь,
Что добродетель — это сила воли[217].
Как сложилась дальше судьба дома? Вскоре после отъезда. Петрарки Воклюз подвергся нападению банды разбойников. Дома сожгли, жителей перебили. Уцелели лишь те, кому удалось убежать. Сожжен был и дом Петрарки.
Жизнь в Закрытую долину возвращалась очень медленно. Спустя семьдесят лет после разорения там еще никто не жил, никто не выращивал виноград, не рыбачил в Сорге. Долина была пуста.
Нимфы и сатиры вернулись на страницы Овидия и Вергилия.
Mysterium paschale
Сам не знаю, как мне удалось заметить на дверях собора Святого Трофима этот листок бумаги — почти невидимое белое пятнышко на темной деревянной поверхности, окованной железом. Но — заметил.
Я возвращался через площадь Республики, огибая группы туристов, лавируя между носящимися на скейтбордах подростками в наушниках, не слышащими ничего, кроме гремящей в голове музыки, уклоняясь от подхватываемых ветром брызг, в которые превращались струйки воды, льющейся из четырех львиных пастей в восьмиугольный бассейн на цоколе римского обелиска.
И не знаю, что заставило меня свернуть с дороги, подняться по ступеням собора и прочитать записку на белом листке.
Пасха в тот год была на редкость ранняя. Вся Страстная неделя выдалась дождливой и холодной, платаны на площади Форума едва успели подернуться зеленой дымкой. Северо-западный ветер терзал маркизы, норовил опрокинуть зонты на террасах кафе, сдувал со столиков скатерти, переворачивал бокалы, расшвыривал пластиковые стулья. Прохожие старались держаться поближе к домам, а те, что шли посреди тротуара, сталкивались раскрытыми зонтами. Небо, тучи, воздух — все было серым, напитавшимся влагой. Клочья тумана обволакивали колокольни, башню ратуши, оседали на крышах домов. Казалось, весна стороной обошла город, оставив его на произвол дождя и ветра.
Арль с нетерпением ждал перемены погоды, затаив дыхание, выслушивал метеосводки после вечерних новостей TV-Provence: время поджимает, фиеста на носу, а ненастье и не думает отступать. Город готовился принять десятки тысяч туристов, любителей и завсегдатаев фиесты, знатоков и страстных поклонников корриды. Уже начали прибывать знаменитые матадоры, каждый со своей командой — квадрильей (пикадоры, бандерильеры, пунтильеры и три пеших помощника — пеоны); в полдень они, как кинозвезды, прогуливались по городу, окруженные стайкой девушек в блестящих от влаги дождевиках и больших шляпах. Уже на месте были организаторы представлений и агенты артистов; появились известные фотографы — участники престижной Недели фотографии; из Каталонии, Кастилии, Андалусии собирались виртуозы-гитаристы, танцоры фламенко; уже прибыли фольклорные ансамбли из Апта, Кавайона, Форкалькье, мастера приготовления паэльи (ее будут готовить на уличных кухнях), шарманщики с обезьянками на плече или попугаями на жердочке, декламаторы поэзии, сказители, красноречивые представители религиозных коммун и никому не известных конфессий. По улицам, группками по трое, пробегали, будто инопланетяне, перкуссионисты в черных костюмах и масках, которым предшествовали жонглеры, престидижитаторы и огнеглотатели. Весь город раскачивался в такт бубнам, тамбуринам и свирелям. На высоких ходулях расхаживали актеры уличных театров, мелькали арлекины и коломбины в костюмах из красно-оранжево-черных ромбов, на бульварах Лис и Клемансо, зацепившись за голые ветки деревьев, плясали на ветру рекламные надувные шары, там и сям тянулись струйки разноцветного дыма, над мостовой, переливаясь всеми цветами радуги, плыли огромные мыльные пузыри. У городских стен, от Кавалерийских ворот до каменных львов разбомбленного союзниками летом 1944 года моста и даже дальше — вплоть до Quai du 8 mai 1945[218], откуда отчаливают прогулочные кораблики, направляясь в Пор-Сен-Луи-дю-Рон и Сент-Мари-де-ла-Мер, царила лихорадочная суета: монтировались американские горки, устанавливались тиры, кривые зеркала, чертовы колеса, комнаты страха, детские автодромы, качели и карусели.
В верхней части города, вокруг амфитеатра, суета не прекращалась даже ночью. Заканчивались приготовления к грандиозному зрелищу «Свет и звук». У входов устанавливали билетные кассы и ларьки для продажи вееров, соломенных шляп и шейных платков[219], арену (plaza de toros) посыпали свежим песком. Город колотило, словно от болотной лихорадки из пойм Камарга.
Пасхальная феерия — театр массовых зрелищ, праздник безудержных страстей, неожиданных происшествий, крови, мужской бравады — воспроизводит (как утверждают специалисты по антропологии культуры) забытый римский праздник весеннего равноденствия — дня смерти и воскресения Митры[220]. Уже в первые столетия после Рождества Христова, благодаря ловкой политике Церкви, этот праздник был поглощен Пасхальным триденствием — самым старым и самым важным христианским праздником Страстей Христовых, Смерти и Воскресения. Сегодня, в своей секуляризованной форме, он удовлетворяет потребность не только в обрядности, но и в безумствах, острых ощущениях, помогает расслабиться, забыть об одиночестве и страхах.
Стихийность — безудержная, порой брутальная, явно унаследованная от кельтов, — неотъемлемо присуща Югу. Заблуждается тот, кто воображает, будто Юг — сама нежность, сладость и легкость бытия, что жизнь под безоблачным небом — нескончаемый карнавал, запах лаванды, красота мимозы. Стереотипы устойчивы. При более близком знакомстве, при повседневном общении обнаруживается, что Юг еще и нечто твердокаменное, безжалостное, ксенофобское, чувственное, грубое, дерзкое, мачистское…
Говоря о красоте солнечного Средиземноморья, о радостях тамошней жизни, часто забывают, что этот идиллический мир веками был ареной кровавых драм, жестокого насилия, трагедий, не уступающих Эсхиловым или Софокловым, актов террора, следы которых отравляют коллективную память; что под немеркнущим солнцем, в прозрачной голубизне неба и моря, рождается (быть может, легче, чем где-либо еще) своеобразная акедия[221] (в понимании Евагрия Понтийского и Иоанна Кассиана) — опустошенность, печаль от сознания, что чересчур утонченная культура, просуществовав слишком долго, исчерпала свои силы; усугубляются потерянность и страх перед чем-то неведомым и неизбежным, что уже ante portas…[222] Светозарный Прованс насыщен тревогой и неуверенностью, скукой и апатией мира, чей конец близок.
Фиеста всегда собирала толпы — своих и чужих. Людские потоки катились по узким улочкам близ амфитеатра, застревали на площади Форума, выплескивались на маленькие площади квартала Ла Рокет. По возникающим там и сям водоворотам, фотовспышкам, поднятой высоко над головами камере угадывалось присутствие известных личностей — политиков, людей искусства. Выловленные из толпы, они давали интервью, позволяли себя фотографировать — вечером на местном ТВ показывали подробные репортажи о подготовке к празднеству.
Завсегдатаями фиесты и фанатами корриды (их называли los aficionados) были Эрнест Хемингуэй, Жан Кокто, Мишель Турнье и Пабло Пикассо, изливавший свое восхищение на холсты уже в 1901 году. Арль он открыл в 1912-м, отправившись на поиски следов Ван Гога, которого считал величайшим художником эпохи. Однажды Пикассо попал на арлезианскую фиесту и, завороженный ее яркой стихийностью, стал приезжать каждый год, оставляя в городе немало следов. Рестораторы, владельцы кафе и баров с гордостью показывают рисунки на бумажных салфетках, которыми Пикассо расплачивался за пастис, за обеды и ужины с друзьями: нарисованных одним росчерком фантастических птиц, обнаженные фигуры, цветы и, конечно же, сцены корриды.
Популярность корриды значительно возросла в период между двумя мировыми войнами, а кульминации достигла в 50-60-е годы XX века. Тогда на аренах Испании и Прованса появились виртуозы мулеты и шпаги, великие матадоры, окруженные почетом и восхищением: Луис Мигель Домингин (муж знаменитой итальянской актрисы Лючии Бозе), Антонио Ордоньес (герой сборника рассказов Эрнеста Хемингуэя «Опасное лето»), Манолете (настоящее имя Мануэль Лауреано Родригес Санчес), Эль Кордобес (Мануэль Бенитес Перес).
Коррида всегда привлекала художников, писателей и поэтов. Бой быков рисовали Франсиско Гойя, Эдуард Мане, Гюстав Доре, Пьер Огюст Ренуар, Жоан Миро, Сальвадор Дали, Франсис Пикабиа и, конечно, самый горячий aficionado — Пабло Пикассо. Из писателей, кроме Эрнеста Хемингуэя, Мишеля Лейриса («Зеркало тавромахии»), Ортеги-и-Гассета («Охота и бой быков»), стоит назвать французского прозаика и драматурга Анри де Монтерлана, который сам был героем корриды — в 1925 году его ранил рогом бык; свои ощущения и наблюдения Монтерлан перенес на страницы романа «Бестиарии» (1926).
Винсента Ван Гога коррида не интересовала, однако трудно себе представить, чтобы, живя в Арле, он не участвовал — хотя бы как впечатлительный наблюдатель — в коллективном безумстве пасхальной фиесты, не видел самого неуправляемого ее спектакля — поединка человека с грозным зверем на желтом песке арены. И если видел, необычайное зрелище не могло пройти для него бесследно.
Предположим, что Ван Гог стал свидетелем сцены награждения матадора. По требованию взбудораженной публики победителю вручают ухо (иногда — два уха или же, как высочайшую награду, два уха и хвост) посрамленного противника, а матадор преподносит трофей даме сердца либо, если таковой нет поблизости, одной из сидящих на трибуне зрительниц. Невольно вспоминается, что за два дня до Рождества 1888 года, после возвращения из Монпелье и ссоры с Полем Гогеном, Винсент в приступе болезни отрезал себе ухо и, завернув в газету, преподнес его красивой проститутке.
Это событие описано в газете Forum républicain от 30 декабря 1888 года в разделе «Местные новости»:
В прошлое воскресенье, в половине двенадцатого ночи, художник по имени Винсент Ван Гог, родом из Голландии, явился в дом терпимости № 1, спросил некую Рашель и вручил ей свое отрезанное ухо.
Психиатры по сей день, анализируя символическое значение этого поступка, пытаются понять, есть ли тут какая-либо связь с корридой.
(Любопытная деталь: corpus delicti[223] — завернутое в газету ухо — мадам Виржини, хозяйка maison de tolérance n°1[224], сама отнесла в полицейский участок и вручила начальнику. Тот, растерявшись, отправил сверток в больницу доктору Рею, который положил ухо в банку со спиртом; спустя несколько недель дежурный санитар, наводя порядок, выбросил ухо художника в мусорный бак.
Героиня происшествия, красотка Рашель, требовавшая называть себя Габи, прекрасно помнила, как было дело, о чем охотно, в подробностях, рассказывала даже за несколько месяцев до кончины в 1952 году. Умерла она в Арле в возрасте восьмидесяти лет.)
Во Франции коррида появилась намного позже, чем в Испании, где она была известна уже в XI веке (в 1090 году в боях быков участвовал национальный герой Испании Эль Сид[225]). Впервые корриду провели в 1701 году в Байонне по случаю проезда через город Филиппа V, короля Испании, внука Людовика XIV.
В Арле состязания человека с быком стали устраивать только по окончании реставрационных работ в амфитеатре в 1825 году. Поначалу это были камаргские гонки — известное в Провансе с незапамятных времен соревнование в ловкости, когда на арене требовалось сорвать с рогов быка красную кокарду. Первая коррида в обновленном амфитеатре прошла в 1853 году. Сегодня это важнейшее событие пасхальной фиесты, неотъемлемый элемент провансальской народной культуры.

Пабло Пикассо. Picador. Рисунок тушью. 1957
Традиционная коррида, заканчивающаяся гибелью быка, — зрелище и обряд. Начинается она всегда в пять пополудни по сигналу председателя (президента) корриды — мэра или почетного гостя города, сидящего в разукрашенной ложе на затененной стороне арены (ложа называется sombra — тень). Под звуки «Арлезианки» или оркестровой версии арии тореадора из «Кармен» на арену выезжают верхом на лошадях распорядители — альгвасилы (полицейские в черной одежде времен Филиппа II), за которыми следуют матадоры в одинаковых, сверкающих блестками нарядах со своими командами (квадрильями); в состав квадрильи входят пикадоры, бандерильеро и многочисленные помощники: ассистенты (monosabios) в красных рубашках, чья задача — отвлекать быка от упавшего с лошади пикадора или (а такое случается очень часто) от раненного быком матадора; areneros, которые разравнивают изрытый копытами песок арены; mulilleros, которые с помощью нескольких мулов вытаскивают с арены тушу убитого быка. Все они приветствуют председателя и публику и отходят к барьеру. Два альгвасила, двигаясь навстречу друг другу, объезжают арену и встречаются под центральной ложей, где председатель вручает им (а чаще бросает сверху в шляпу) ключ от загона (toril).
Когда ворота загона открываются и на арену вбегает первый бык, публика встает и мужчины снимают шляпы, приветствуя «идущих на смерть».
Коррида состоит из трех этапов (шести поединков с участием трех матадоров). На последнем этапе, который называется «терция смерти», после эффектного показа обманных движений мулетой (faena de la muleta[226]), когда матадор старается подчинить себе быка, навязать ему свою волю, наступает «момент истины».

Пабло Пикассо. Banderillo. Рисунок тушью. 1957
Одним из самых популярных мотивов испанского барочного искусства был танец человека со скелетом — danse macabre, пляска смерти. Матадор на арене исполняет такой танец, каждая из фигур которого имеет свое название и свой символический смысл. Кульминационный момент — жертвоприношение. Матадор — верховный жрец — убивает быка одним ударом шпаги, направленным точно в определенное место размером с монету, между третьим и четвертым позвонками.

Пабло Пикассо. Matador. Рисунок тушью. 1957
В символическом пространстве этого спектакля-обряда человек одерживает победу над своим предназначением: убивая, отдаляет собственную смерть.
Случается, хотя и очень редко, что публика, очарованная красотой, дерзостью, отвагой быка, требует его помиловать. Право помилования принадлежит председателю, но пользуются им только в исключительных случаях.
Коллективное безумие обычно охватывает Арль за несколько недель до начала корриды и продолжается еще столько же после ее окончания. Город живет корридой, следит за подготовкой к ней, присматривается к главным действующим лицам еще до их появления на арене, вникает в каждую деталь программы. О корриде говорят на улице, в барах, бодегах, на работе и дома. Каждый вечер в каталонском баре La Cueva собираются горячие головы, ведутся бурные споры, за бокалом Ribera del Duero обсуждаются достоинства и недостатки участников, их шансы на успех и грозящие им опасности. Атмосфера накаляется еще больше, если ожидается участие матадора из Арля. (Так было, когда на арене амфитеатра вместе с Хосе Марией Мансанаресом и Эль Хули впервые появился 21-летний арлезианец Тома Жубер «Томасито». К сожалению, его выступление закончилось печально: раненного в бедро Томасито унесли с арены при тягостном молчании публики.)
Лихорадит не только мужчин — женщины волнуются не меньше. Еще до того, как зазвучат первые такты «Арлезианки» и откроются ворота загона, публика уже знает наперечет имена и родословные всех участников корриды: быков, их владельцев и заводчиков, матадоров и членов их команд до последнего из пеонов.
По окончании корриды, когда все уже увидено и пережито, наступает время анализа. Ни одна мелочь не ускользает от внимания. Дольше и горячее всего, как правило, обсуждается последняя терция и ее заключительный этап — I’estocada[227]. Детально воспроизводится поведение быка, а также каждый шаг, каждый жест матадора, каждое движение его тела. Живое участие в дискуссиях принимает пресса. Важные общественные и политические новости оттесняются на последние страницы. На первых полосах — подробнейший разбор и пространные комментарии. Накал споров выше, чем во время гонки «Тур де Франс» или матча «Олимпик Марсель» — ФК «Барселона».
Сейчас, хотя у корриды сотни тысяч, если не миллионы горячих поклонников, со дня на день растет число ее противников. Защитники прав животных, экологические организации, обычные граждане протестуют против зрелища, самый яркий момент которого — убийство животного. В разных городах — перед зданием кортесов в Мадриде, Европарламентом в Брюсселе, Эйфелевой башней в Париже, Музеем современного искусства в Бильбао — можно увидеть впечатляющие демонстрации: сотни обнаженных, истекающих поддельной кровью юношей и девушек с вонзенными в тело бандерильями. Моральную поддержку движению уже не первый год оказывает далай-лама XIV. Недавно 60 депутатов Национального собрания Франции представили проект полного запрета корриды в Провансе. Парламент Каталонии, в ответ на требование 180 тысяч граждан, принял закон о запрете боя быков в Барселоне и перестройке арены в торговый центр. Испанское телевидение прекратило прямые трансляции зрелища.
Важный аргумент противников боя быков, исповедующих католическую веру, — булла папы Пия V от 1 ноября 1567 года «De salutis gregis dominici»[228], под угрозой отлучения от Церкви запрещавшая посещать корриду.
Хотя авторитет Церкви пошатнулся, хотя голос ее звучит все тише, в Испании к нему еще прислушиваются…
Сегодня трудно угадать, до каких пор будут действенны наркотические чары корриды, долго ли еще смерть будет притягивать жаждущую сильных ощущений толпу, а жертвенная кровь быка — пропитывать песок арены. Хотя похоже, что — несмотря на сопротивление как тех, для кого коррида обряд, так и тех, для кого она всего лишь спектакль, — дни ее сочтены.
Заканчивается тысячелетняя история зрелища, корнями уходящего в незапамятные времена. С такой традицией нелегко порвать. В Испании, Португалии, Провансе коррида, ставшая частью национального наследия, обросла мифами, ритуалами, обычаями. Все это нельзя отбросить одним махом или заменить иным, не менее ярким, «культовым» зрелищем. В европейской культуре миф о Тесее и Минотавре всегда был укоренен глубже, чем миф о святом Георгии и драконе. Дионисийская сила корриды проистекает из ее прочной связи с эротикой и смертью, с символикой жертвы и искупления, то есть близка к сфере sacrum.
Первое упоминание о сакральном характере корриды можно найти уже в «Тимее» Платона:
Каждый из десяти царей <Атлантиды> в своей области и в своем государстве имел власть над людьми и над большей частью законов, <…> но их отношения друг к другу в деле правления устроились сообразно с Посейдоновыми предписаниями, как велел закон, записанный первыми царями на орихалковой стеле <…> внутри храма Посейдона. В этом храме они собирались <…>, чтобы совещаться об общих заботах, разбирать, не допустил ли кто-нибудь из них какого-либо нарушения, и творить суд. Перед тем как приступить к суду, они всякий раз приносили друг другу вот какую присягу: в роще при святилище Посейдона на воле разгуливали быки; и вот десять царей, оставшись одни и вознесши богу молитву, чтобы он сам избрал для себя угодную жертву, приступали к ловле, но без применения железа, вооруженные только палками и арканами, а быка, которого удалось изловить, заводили на стелу и закалывали на ее вершине так, чтобы кровь стекала на письмена. На упомянутой стеле, помимо законов, было еще и заклятие, призывавшее великие беды на головы тех, кто их нарушит. Принеся жертву по своим уставам и предав сожжению все члены быка, они разводили в чаше вино и бросали в него каждый по сгустку бычьей крови, а все оставшееся клали в огонь и тщательно очищали стелу. После этого, зачерпнув из чаши влагу золотыми фиалами и сотворив над; огнем, возлияние, они приносили клятву, что будут чинить суд по записанным на стеле законам…[229]
Кровавое жертвоприношение — от Каина и Исаака до Иисуса Христа — всегда вызывало страх и ужас, но одновременно завораживало, ибо велика была магическая сила обряда очищения кровью.
Наверняка есть связь между корридой и митраистской тавроктонией — обновляющей мир ритуальной жертвой (Митра убил быка после долгой и трудной за ним погони), — а также между корридой и тавроболием[230] — крещением бычьей кровью.
Можно предположить, что тавромахия — состязание с быком на арене — родилась именно из практик митраизма, которые были принесены на Иберийский полуостров и в Прованс римскими легионерами и переняты у них местными жителями.
Культ быка был известен и другим культурам. В индуизме бык Нанди (ездовой бык и верный спутник бога Шивы, из волос которого вытекает Ганг) отождествлялся с ведийским богом-громовержцем Индрой, известным древним майя как бог бури и ветра Хуракан (Уракан).
Коррида — одна из символических нитей (очень тонкая, на грани разрыва), связывающих наш, до боли рациональный, дивный новый мир с миром мифов, обрядов и волшебства, реликт уходящей цивилизации.
Об этом знали или интуитивно догадывались поэты-пророки. Зигмунт Красинский[231] в драме «Иридион» писал: «Древнему миру приходит конец — все в нем портится, гниет и безумствует»[232].
По легенде, изложенной Плутархом, во времена царствования императора Тиберия кормчий корабля, проходившего мимо острова Паксос, услышал возглас: «Умер великий Пан», возвестивший о смерти языческого бога; раннехристианские писатели связали это с рождением Иисуса, означавшим поражение веры ложной и утверждение веры истинной. По сути, мир покидали — один за другим — все боги Олимпа, унося с собой нашу часть бессмертия. Горя в темноте, умирала великая цивилизация; последние ее искры гасли долго — и еще гаснут — едва ли не у нас под ногами.
Я не поклонник корриды. Она интересна мне как обряд, а не как спектакль. Кроме того, я на стороне быка. Скажу больше; коррида пробуждает во мне страх, от нее исходит не имеющая названия сила, которой я не способен противостоять, доносится призыв, которому я не желаю внимать.
На вырванном из школьной тетради в клеточку листке, приколотом четырьмя кнопками к дверям собора Святого Трофима, каллиграфическим почерком было написано, что сегодня, в Великую пятницу, на кладбище Алискамп в полночь состоится пасхальная мистерия. Сообщение предназначалось прихожанам собора и всем верующим, которые захотят принять в ней участие.
Я вошел в храм, ожидая увидеть опустевшую дарохранительницу, поломанные свечи, почетный караул у Гроба Господня, приготовления к обряду освящения огня и воды. Но внутри было пусто и тихо, бледный призрачный свет, просачивающийся через небольшие окна в верхней части боковых нефов, скользил по голым каменным стенам, по краям алтарей и надгробным плитам с гербовым картушем либо фигурой лежащего рыцаря. Собор, как в толщу воды, погруженный в графитовый сумрак, был холоден и суров.
Романские соборы Франции сохранили не только приметы архитектонического совершенства, но и холод языческих капищ. Чтобы в этом убедиться, достаточно в соседнем Ниме осмотреть древнеримский храм Maison Carrée[233], возведенный в конце I века до н. э. в честь членов семьи императора Октавиана Августа.
В церквях Прованса нет ничего от интимной атмосферы и внутреннего убранства храмов Центральной Европы с их стильным беспорядком, золотом, показным богатством; я уж не говорю о православных церквях со множеством святых в пурпуре и золоте, коврами на плитах пола, почти домашним теплом. В монументальном интерьере романской или готической церкви легче встретить прячущихся среди листьев аканта страшных чудищ из мифического бестиария, чем дружелюбных эльфов — ангелов, которые, утомленные полетом, присаживаются на край алтаря.
К тому времени, когда я вышел из собора, дождь прекратился, но на горизонте клубились темные тучи. Я не собирался участвовать в Mysterium paschale, но, опять-таки сам не знаю как, около полуночи оказался на пустом бульваре Лис. По мостовой катились сорвавшиеся с привязи воздушные шары, ветер трепал края больших афиш с программой воскресной корриды. В этот час никаких других предвестников приближающейся фиесты на безлюдных улицах не было. Стук моих шагов возвращался, отразившись от темных фасадов, и это был единственный звук в ночи. Бульвар Лис упирался в перекресток Круазьер; справа короткая, обсаженная старыми платанами улица (Avenue des Alyskamps) круто спускалась к мостику на живописном канале Крапон[234] (XV век), соединяющем Арль с равниной Ла Кро. Отсюда узкая дорожка по берегу канала вела прямиком к воротам Алискампа — самого большого и самого знаменитого некрополя античности. К сожалению, из-за колоссальных разрушений, произведенных во имя прогресса в середине XIX века, от него уцелела лишь небольшая часть.
Красоту этого места оценил Поль Гоген: во время короткого, драматически закончившегося пребывания в Арле он написал здесь один из самых прекрасных своих пейзажей. Сейчас, в ночной темноте, разглядеть можно было немного: смутно маячившие светлые пятна на стволах вековых платанов да отражения далеких огней на воде. И еще где-то над деревьями виден был тусклый свет Фонаря мертвых — восьмиугольной башни церкви Святого Гонората.
Ворота некрополя были открыты, но возле них никого не было. Двигаясь чуть ли не ощупью, я прошел мимо едва заметных остатков романской церкви, построенной на месте заложенного в начале VI века епископом Арля святым Цезарием женского монастыря — одного из старейших в этой части Европы. Сразу за церковью начинается длинная, густо обсаженная деревьями L’Allée des Tombeaux[235], по обеим сторонам которой тянутся ряды каменных саркофагов; в основном они датируются III и IV веками, однако чудесная эта аллея появилась не в палеохристианские времена: ее создали в XVIII веке монахи из ордена Братьев меньших, которые расставили там — по большей части уже опустошенные — саркофаги. В XIX веке аллея служила жителям Арля местом свиданий и романтических прогулок. Конечно, ее не мог не обнаружить, бродя по городу, Винсент Ван Гог.
Поздней осенью 1888 года он писал брату Тео:
Jе crois que to aimerais la chute des feuilles que j’ai faite. C’est des troncs de peupliers lilas, coupés par le cadre là où commencent les feuilles. Ces troncs d’arbres comme des peupliers bordent me allée où sont à droite et à gauche alignés de vieux tombeaux remains d’un lilas bleu. Or le sol est convert, comme d’un tapis, par une couche épaisse de feuilles orangées et jaunes tombées. Comme des flocons de neige il en tombe toujours encore…
Думаю, что ты одобришь написанный мною листопад. Лиловые стволы тополей перерезаны рамой как раз там, где начинается листва. Эти деревья, как колонны, окаймляют аллею, по обеим сторонам которой выстроились лилово-голубые римские гробницы. Земля уже устлана плотным ковром оранжевых и желтых опавших листьев, а новые все падают, словно хлопья снега…
Некрополь описывали многие прозаики и поэты. Прекрасное стихотворение «В Арле», вошедшее в сборник «Контррифмы (Романсы без музыки)», посвятил некрополю Поль-Жан Туле[236]:
Dans Arle, où sont les Alyscamps,
Quand l’ombre est rouge sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause,
Ton coeur trop lourd;
Et que se taisent les colombes:
Parle tout bas, si c’est d’amour,
Au bord des tombes.
Когда, на Алискамп ложась,
Закат окрасит алым цветом
Тень роз, их вязь,
Услышь, как тихо в мире этом.
Когда огонь, зажженный летом,
Горит в крови
Сейчас, среди ночи, аллея казалась черным коридором, ведущим в царство теней.
Почти все обряды инициации, независимо от их специфики и места проведения, содержат один и тот же элемент: проход по темному коридору как символический путь через смерть и воскресение к свету и жизни. Когда я стоял один в темной аллее, между глыбами саркофагов, мне казалось, что вот-вот из мрака вынырнет вереница духов этой земли, которые обступят меня и поведут в освященное кровью место, где я буду удостоен милости очищения. А когда увидел в конце аллеи, словно в перевернутом бинокле, пляшущие огоньки и мечущиеся тени, образ темного коридора стал еще более реальным.
Как загипнотизированный, я пошел вперед, туда, откуда слышались невнятные голоса, обрывочное пение, где мелькали люди с непокрытыми, несмотря на морось, головами. Внезапно справа от меня из густой тени под деревом вынырнул какой-то человек и протянул мне незажженный факел:
— Salve, amice![238] — тихо, едва ли не заговорщицки произнес он.
На маленькой треугольной площади перед сохранившейся частью церкви Святого Гонората толпились люди с горящими факелами. Их было немного — человек восемьдесят, от силы сто; кто-то стоял на коленях. Посередине, в кругу факелов, я увидел высокого худощавого молодого человека с бородой и светлыми, падающими на лицо волосами, в черных брюках и растянутом свитере до колен. На голове у него был настоящий терновый венец, на спине — крест из неострутанного дерева. Согнувшийся под тяжестью креста (обмотанный вокруг шеи черный шарф свисал почти до земли), он поразительно напоминал фигуру с брейгелевского «Несения креста» (1651) в венском Музее истории искусств. На бледном отрешенном лице рисовалось подлинное — не театральное — страдание. Две струйки крови вились между каплями пота на лбу, стекали по щеке и исчезали в густых зарослях белокурой бороды. Я сразу его узнал. Он был учителем; мы встречались на улице неподалеку от городской гимназии. Видел я его и на первомайских демонстрациях: обычно он шел один, неся красный флаг с эмблемой ВКТ (Всеобщая конфедерация труда), устремив прямо перед собой невидящий взгляд.
Торжественная процессия уже началась. Ее возглавлял священник в литургическом облачении; он шел, читая молитвы по-латыни и напевая гимны из провансальского песенника. Станции крестного пути, вернее, их номера были размещены по краям площади. Проводившиеся там последние пару лет археологические раскопки открыли несколько слоев римских и раннехристианских надгробий, могильных плит и простых каменных гробов без надписей и украшений, отчего площадь походила на сцену фантасмагорического театра смерти.
Я смотрел на сосредоточенные лица молящихся, на коленопреклоненные фигуры на мокром гравии, и вдруг мне почудилось, что я присутствую на тайном собрании общины первых христиан. Казалось, сейчас сюда с обнаженными мечами, с криком и проклятиями ворвутся солдаты Септимия Севера или Диоклетиана, поднимется паника, люди с воплями ужаса бросятся врассыпную, ища спасения в темных аллеях среди стел, и я стану свидетелем одной из сцен мученичества либо чуда, описанных Иаковом Ворагинским[239] в «Золотой легенде».
Подсказанные возбужденным воображением сцены, вероятно, не сильно отличались от реальности. Ведь это здесь, на elissi campi, собирались по ночам первые христиане, здесь они молились, спасались от преследователей, тайно хоронили умерших. Здесь августовской ночью 303 года был погребен святой Генезий, мученик, обезглавленный по приказу римлян под тутовым деревом в Тренкетае, на противоположном берегу Родана. Он был казнен за отказ переписать эдикт, обрекающий на смерть христиан, которые не захотят отречься от своей веры.
После миланского эдикта 313 года[240] сюда со всей Галлии стали стекаться паломники — почитатели Генезия. Каждый благочестивый христианин мечтал обеспечить себе — еще при жизни — место вечного упокоения как можно ближе к могиле святого. Результат я увидел, стоя над археологическим раскопом: сотни, тысячи, а то и десятки тысяч каменных гробов, один над другим, пластами, рядом с предполагаемой могилой святого мученика. Когда не хватало свободных мест, из гробов выбрасывали останки похороненных здесь ранее язычников. Из городов в верховьях Роны покойников сплавляли в бочках или на лодках, привязав им на шею мешочек с оплатой расходов на погребение. Мертвецов вылавливали, порой с риском для жизни, члены светского погребального общества из рыбацкого предместья Ла Рокет, беря себе за это часть денег. Злоупотреблений не бывало — по крайней мере, в городских судебных хрониках ни о чем таком не упоминается. Разве что один единственный раз…
Вот случай, описанный свидетелем — Гервасием Тильбе-рийским, маршалом Арльского королевства:
C’était à Beaucaire, аи temps de la foire. Quelques jeunes gens, des mariniers, ayant vu un cercueil qui descendait ainsi, voulurent l’arrêter pour prendre l’argent qu’il portait sur lui, et s’aller divertir. Mais qui ne vous a dit que le cercueil ne voulut plus, d’аисunе façon, continuer son chemin! Ils eurent beau déployer tous leurs efforts pour le pousser vers le courant le cercueil ne faisait que toumoyer toujours аи тêте endroit, comme dans un remous, et il ne voulait plus s’en aller de là. La justice, à la fin, découvrit le méfait, punit sévèrement les libertins, et fit remettre sur le cercueil du mart l’argent mortuaire. Mais à peine cet argent fut-il sur le cercueil que, prenant de lui-тêте le fil de l’eau, le mort se dirigea tranquillement à la descente, et arriva à Arles, aux yeux du peuple qui l’attendait sur le port et qui criait miracle, et rendait grâce à Dieu [241] .
Это было в Бокере, во время ярмарки. Несколько молодых людей, матросы, завидев плывущий вниз по реке гроб, вознамерились его остановить, забрать из него деньги и пойти развлечься. Однако — кто б мог подумать! — гроб ни в какую не хотел продолжить свой путь. Несмотря на все усилия оттолкнуть его на середину реки, гроб упрямо крутился на месте, будто попав в водоворот, и отказывался отдаться течению. В конце концов представители правосудия раскрыли преступление и строго наказали распутников, а смертные деньги им было велено положить обратно в гроб. Едва лишь деньги были возвращены, гроб сам отдалился от берега, спокойно поплыл вниз по течению и достиг Арля, представ перед глазами поджидавших его в порту людей, которые криками возвестили о чуде и возблагодарили Господа.
С Алискампом связано множество фантастических рассказов и легенд. Одна из легенд гласит, будто в ночь накануне Дня всех святых, когда лагуны и луга выбелены лунным светом, сам Иисус Христос спускается с неба, чтобы у алтаря, возведенного рядом с Фонарем мертвых, в полночь отслужить мессу вместе со святым Трофимом.
Фредерик Мистраль, без устали разыскивавший произведения провансальского фольклора и часто вплетавший в свои стихи народные предания о чудесах, пишет об этом в «Причастии святых»:
Dis que lis Ange èron en l’èr,
Qu’is Aliscamp taulo èro messo,
Que san Trefume èro lou clerc
Et que lou Christ disié la messo.
На праздник в Алискампе ночью
Приморский бриз ее принес.
Там видела она воочью,
Как мессу отслужил Христос[242].
Я стоял на краю рва, держа в руке незажженный факел. В какой-то момент слева от меня мрак будто сгустился; по слабому запаху намокшей шерсти я угадал чье-то присутствие рядом.
— Смотрите на последних христиан? Немного их уже. Здесь почти вся арльская община, кроме тех, что остались дома, — стариков, больных, детей… ну и, может, еще несколько таких, как вы, любопытствующих, либо таких, как я, наблюдателей истории. Mysterium paschale — великолепное зрелище, но не надо обманываться. Драматическое представление страданий и смерти двухтысячелетней давности никого уже не волнует и даже не наводит на серьезные размышления, ибо тому миру, хотим мы или не хотим, на наших глазах приходит конец. И не с громом, а со всхлипом, — как говорит поэт[243].
Приглядитесь хорошенько к участникам обряда: за патетическими жестами вы увидите страх, отчаяние, неуверенность — беспомощную суету обитателей дома, заметивших на горизонте зарево пожаров, предвестие надвигающейся катастрофы: всякая живая душа бросается упаковывать фамильное серебро и безделушки, закапывает под помеченным деревом ценности и памятные реликвии, как в свое время в Риме накануне того дня, когда в город ворвались варвары Алариха.
Открою вам секрет: они приходят сюда, чтобы укрепиться в вере, тут нет сомнений, — но еще и для того, чтобы сосчитать, сколько их: ведь с каждым годом их все меньше и меньше, отчего обостряется ощущение одиночества, боязнь утратить общинную идентичность. Здесь они чувствуют себя увереннее, поскольку под ногами — десятки тысяч своих мертвецов с их нерушимой верой в наступление Царства Света. Мистическое присутствие мертвых поднимает дух: легче поверить, что накопившаяся энергия сможет изменить будущее. Но это иллюзия. Энергия веры — вопреки всеобщему закону сохранения энергии — постепенно расходуется, иссякает и сегодня уже ничего не способна изменить. Она мертва, как светильник в этрусской гробнице. То, что некогда наделяло харизмой апостолов, умеряло разнузданность владык, несло надежду порабощенным народам, сейчас не может уже ни зажечь, ни приобщить.
Помните, что сказано в «Эпиграммах» Марка Валерия Марциала: «Нигде нет бога, и небеса пусты». Да, да, небеса пусты, человек остался на земле наедине со своей жаждой абсолюта, со своей драмой существования, ненужным никакому богу.
Вот так-то. Требуется немалая отвага, чтобы взглянуть в лицо правде, даже если она прячется под какой-нибудь из своих бессчетных масок. С некоторых, словно в античном театре, не сходит язвительная усмешка шута.
Вы верите в математическую логику? В законы статистики? Они жестоки, ибо приводят к неопровержимому выводу: потомки этих людей — если сохранят потребность в вере — будут на закате раскладывать молитвенные коврики и бить о землю челом, славя Аллаха.
Вы не зажигаете факел? Я тоже предпочел остаться в тени, но сейчас зажгу. После нападения крестоносцев Монфора, pendant I’horreur d’une profonde nuit[244], — как говорит Расин в «Аталии», — здесь собирались оставшиеся в живых катары; здесь последние perfecti[245] могли в последний раз провести своих последних единоверцев через последнее таинство consolamentum. Факелов не зажигали — если бы с городских стен заметили свет, еретики были бы схвачены, а это означало пытки и смерть на костре. Сейчас нам грозит только одно: если, встретившись на улице, узнаешь своего, придется раскланяться.
Пение смолкло. Слышно стало потрескивание факелов, где-то очень далеко шумел город, зачирикали разбуженные птицы.
Наступил главный момент обряда: la mise à mort[246]. К лежащему на земле кресту толстой веревкой привязали человека в черном растянутом свитере и терновом венце. Дождь прекратился. Колеблющиеся огоньки лампад на надгробных плитах придавали сцене распятия театральный пафос. Крест подняли, нижний конец укрепили в гнезде, вырубленном в скале; опутанное веревкой тело безвольно свисало с перекладины. Вдруг, в больно давящей на уши тишине, где-то на горизонте ночное небо разодрала молния. Все замерло, застыло, будто земля на бегу столкнулась с невидимой преградой и резко остановилась. Продолжалось это не дольше минуты, а может, всего несколько секунд, но исподволь копившееся напряжение парализовало меня, будто ударом тока.
И тотчас же земля возобновила свой бег. Крест был положен на землю, молодого человека поспешно от него отвязали, и теперь, бледный, безмолвный, он стоял среди участников обряда напротив освещенного изнутри свечами входа в церковь Святого Гонората. Возглавлявший процессию священник запел гимн на провансальском языке; к нему присоединились почти все собравшиеся — видимо, многие знали этот язык. Торжественная мелодия, неторопливо отдаляясь, исчезала в аллее, окаймленной саркофагами римских сановников и вестготских вождей. Факелы гасли один за другим; хотя лампады в раскопе продолжали гореть, становилось все темнее. Mysterium paschale заканчивалась.
Опять я увидел рядом с собой тень и услышал уже знакомый хрипловатый шепот:
— Вечная потребность в искуплении путем жертвоприношения… Как же глубоко в нас засела эта жажда искупления! Ни одна религия никогда не преуменьшала роли чувства вины и никогда не отказывалась… как бы это лучше сказать? — от утонченных форм шантажа, использующего понятие греха. Если вы заметили, даже здесь, когда жертва всего лишь символ, после минуты экстаза у людей какой-то смущенный вид, они избегают смотреть друг другу в глаза, словно только что позволили совершиться преступлению. Нет ничего интимнее смерти. Нельзя устраивать из нее спектакль. Возмутительно!
Вы собираетесь в воскресенье на корриду? В конце концов, это тоже своего рода обряд, и, когда нет ничего другого, нужно его сотворить, хотя бы из пустоты. Мне иногда кажется — пускай это и звучит кощунственно, — что смерть замученного человека и смерть замученного животного находятся в одном метафизическом пространстве. Смерть уготована всем, только животному — якобы из-за отсутствия у него души — не обещано ни воскресения, ни вечной жизни.
В Фонаре мертвых погас свет. Я шел вместе со всеми к выходу мимо позднесредневековой усыпальницы патрицианской семьи Порселе с изображением поросенка[247] на гербовом щите, мимо монументального мавзолея консулов Арля. В толпе никто не разговаривал.
Под ритмичное шарканье подошв анонимных участников ночного марша откуда-то издалека, словно из другой жизни, возвращались воспоминания о школьном чтении «Энеиды», восторг и страх, сопутствовавшие первому соприкосновению с поэзией; на фотопластинке памяти проступали слова:
Шли вслепую они под сенью ночи безлюдной,
В царстве бесплотных теней, в пустынной обители Дита, —
Так по лесам при луне, при неверном свете зловещем,
Путник бредет…[248]
Около развалин церкви Святого Цезария кто-то забирал у выходящих за ворота некрополя погашенные факелы.
Улицы города были еще пустыми и темными, но в некоторых окнах уже горел свет. Там, где на ночь не закрывали деревянных ставен, за шторами можно было увидеть чьи-то силуэты: вероятно, тех, кто работал в первую смену. Тротуары и мостовые подсохли. На остановке на бульваре Клемансо стояла, поджидая красно-оранжевый автобус сети «Картрез», группа молодых арабов в рабочих комбинезонах; они громко переговаривались, курили, зевали, перебрасывались шутками с девушками в джинсах и закрывающих пол-лица платках; гортанные звуки мужских голосов далеко разносились по улице. Близилось время, когда уходящая ночь размывает контуры предметов и размазывает по асфальту свет уличных фонарей, когда больные просыпаются в холодном поту от кошмарного сна, утомленные любовники только еще засыпают, а приговоренных выводят на казнь. Такую пору — в отличие от entre chien et loup[249] — называют entre loup et chien.
Я присел на ступеньки городского театра на углу улицы Гамбетта и бульвара Клемансо. До моего скромного жилья на четвертом этаже бывшей монастырской больницы (Странноприимного дома) было уже недалеко. Отупевший, сонный, я сидел, не в силах даже пошевелиться, как вдруг услышал шаги в той стороне, где на бульваре Лис был круглосуточный магазин при автозаправке, и еще издалека узнал долговязую фигуру в черном растянутом свитере. Молодой человек шел как сомнамбула, глядя перед собой невидящими глазами. Когда он приблизился, в скользнувшем по лицу свете фонаря я увидел не то страдальческую гримасу, не то полуулыбку, а на щеке — ту самую, уже засохшую струйку крови.
— Quo vadis, Domine?[250] — не вставая, спросил я.
Он приостановился, посмотрел на меня, неопределенно махнул рукой и без единого слова пошел дальше. Я следил, как исчезает в неуютном предрассветном сумраке черная одинокая фигура, на короткое время извлеченная из небытия, чтобы сыграть роль в одном из самых трагических эпизодов истории нашего, обреченного на гибель, мира.
Рассвет пасхального воскресенья занимался румяный и свежий, будто пожаловал из иного времени, из райских садов Месопотамии, когда мир был невинен и чист и все еще было впереди. Колокольный звон плыл в воздухе, оседал на черепичные крыши и зеленую травку в саду монастыря Святого Трофима, на теплые камни Ла Рокет и чернильные водовороты в оборках пены в излучине Роны; солнце искрилось в каплях росы, в брызгах фонтана. А пахло так, как пахнет. только пасхальное утро в воспоминаниях детства.
После суматошной недели Арль с облегчением вздохнул. День обещал быть прекрасным. На площади Республики, с порога открытого настежь porte-fenêtre[251] кабинета на втором этаже, мэр города Эрве Скьяветти (ФКП[252]) приветствовал народ. Минуту спустя он выйдет на залитую солнцем площадь, чтобы под звуки гимна Прованса объявить об открытии фиесты, а в пять часов пополудни, стоя в своей парадной ложе, взмахнет белым платком — по этому сигналу раскроются ворота загона и на арену римского амфитеатра выбежит первый бык. Тридцать тысяч зрителей на секунду встанут со своих мест, а затем, затаив дыхание, будут следить с трибун за каждым движением матадора, каждой атакой быка, каждым этапом борьбы не на жизнь, а на смерть — осознавая или не осознавая сакральный характер зрелища. Они не знают — либо не хотят знать, — что на задах амфитеатра, перед недоступными глазам любителей корриды воротами, выстроилась вереница огромных грузовиков мясокомбината.
«Таков ход мира, и лишь хорошее могу сказать о нем»[253], — писал в эпической поэме «Анабасис» великий поэт Юга Мари-Рене-Огюст-Алексис Леже, известный всему миру как Сен-Жон Перс.
Тайная жизнь Арля
Ленивый весенний день, часы на ратушной башне пробили пять раз. Я сижу на террасе Café de Nuit на площади Форума, в том месте, куда ведут все пути, где сходятся важнейшие невидимые артерии города. Солнце, ташист-любитель, забавляется, сочетая на стенах синий цвет с желтым, фиолетовый с зеленым. Ветерок выдувает из трещин в камнях пыльцу, смешивает, будто в реторте алхимика, травяной вкус абсента с запахом дыма, чабреца и оливкового масла, добавляя туда же шелест молодых листочков и щебет примостившихся на бронзовой шляпе Мистраля воробьев. Снизу, с набережной Роны, доносятся обрывки разговоров, девичий смех, стаккато высоких каблуков; кто-то издалека машет мне рукой. Узнаю булочника из Au petit déjeuner — еще сегодня утром. я покупал там багет.
Маленькая, почти всегда пустая булочная-кондитерская — место необыкновенное! Заходя туда, приоткрываешь дверь в мир, которого уже нет. Над головой звенит серебряный колокольчик, будто сигнал к отъезду во вторую половину XIX века. Пол выложен бело-красно-черной плиткой. Посередине похожая на кафедру полукруглая деревянная стойка, окованная латунью; на стойке старинный кассовый аппарат, рядом серебряная тарелочка для монет. Дальше, в глубине, корзины с багетами; на резных полках вдоль стен (обои в бледно-лиловую полоску с розочками) — viennoiserie[254] на тарелочках из гофрированной бумаги: бриоши, песочные пирожные, тарталетки, засахаренные фрукты. В свободных промежутках — дагеротипы и фотографии в серебряных рамках: Фредерик Мистраль с крохотным фирменным пакетиком на указательном пальце, какие-то усатые мужчины перед изысканной devanture[255] кондитерской, девушка в соломенной шляпке с лентой, длинном платье с турнюром и с кружевным зонтиком в руке. Раскрашенные акварелью фотографии унтер-офицеров из расквартированных в Арле 2-го и 3-го Зуавских полков: темно-синие куртки с золотым шитьем на рукавах, красные шаровары, кепи с квадратным козырьком. В воскресенье, после церковной службы, они покупали здесь бриоши и пирожные своим девушкам, а может, барышням из домов терпимости на улице Вер или Сент-Исидор.
Грозный облик военных на фотографиях заставляет вспомнить случай, который и за давностью лет не стерся из памяти жителей города, — о нем рассказывают до сих пор.
11 марта 1888 года перед входом в один из публичных домов на улице Реколетт, 30, произошла ссора, в ходе которой двое подвыпивших итальянцев зарезали двух зуавов из местного гарнизона. Возмущение арлезианцев было так велико, что все итальянцы (их в городе насчитывалось от 500 до 800 человек), включая даже бедных трубочистов-савояров, поспешно бежали из города.
Свидетелем этого происшествия был некий рыжеволосый художник — недавно прибывший в Арль иностранец, поселившийся в двух шагах от этого места, в Желтом доме на площади Ламартина, 2. Что он делал поздним мартовским вечером на улице, пользующейся сомнительной репутацией, неизвестно. Зато известно, что, как очевидец, он, вместе с еще несколькими свидетелями, был препровожден в жандармский участок, где дал показания.
Спустя несколько дней он писал брату:
J’ai assisté à l’enquête d’un crime commis à la porte d’un bordel ici; deux Italiens ont tué deux zouaves. J’ai profité de l’occasion pour entrer dans un des bordels de la petite rue des «Ricolettes», ce à quoi se boment mes exploits amoureux vis-à-vis des Arlésiennes.
La foule a manqué lyncher les meurtriers emprisonnés à I’Hôtel de ville.
На днях я присутствовал при расследовании преступления, совершенного у входа в один здешний публичный дом, — два итальянца убили двух зуавов. Я воспользовался случаем и заглянул в одно из таких заведений на маленькой улочке Риколет… этим и ограничиваются мои любовные похождения с арлезианками.
Толпа чуть-чуть не линчевала убийц, сидевших под стражей в ратуше.
Следует заметить, что Винсент не сторонился публичных домов. Это не считалось зазорным, больше того, среди художников было общепринято. Анри Тулуз-Лотрек в Париже целыми неделями жил в доме терпимости на улице де Мулен, окруженный заботой обожавших его девиц. Там был его дом, там создавались его необыкновенные картины. «Бордель? Ну и что? Я нигде не чувствую себя более уютно», — писал он.
Через несколько дней Винсент Ван Гог признается в очередном письме к брату:
Faut-il dire la vérité, et y ajouter que les zouaves, les bordels, les adorables petites Arlesiénnes qui s’en vont faire leurs première communion, le prêtre en surplis, qui ressemble à un rhinocéros dangereux, les buveurs d’absinthe, me paraissent aussi des êtres d’un autre monde.
Сказать тебе всю правду? Тогда добавлю, что зуавы, публичные дома, очаровательные арлезианочки, идущие к первому причастию, священник в стихаре, похожий на сердитого носорога, и любители абсента также представляются мне существами из иного мира.
Но уже 20 апреля 1888 года он пишет своему другу Эмилю Бернару[256]:
Ai vu un bordel ici le dimanche — sans compter les autres jours — une grande salle teinte àa la chaux bleuie — comme une école de village. Une bonne cinquantaine de militaires rouges et de bourgeois noires, aux visages d’un magnifique jaune ou orangé (quels tons dans les visages d’ici), les femmes en bleu céleste, en vermilion, tout ce qu’il у a de plus entier et de plus criard, le tout éclairéde jaune. Bien moins lugubre que les administrations du тете genre à Paris. Le spleen n’est pas dans l’air d’ici.
Я видел здесь публичный дом в воскресенье (впрочем, и в будни тоже): большая зала, выкрашенная подсиненной известью, — ни дать ни взять, сельская школа; добрых полсотни военных в красном и обывателей в черном; лица великолепно желтые и оранжевые (таков уж тон здешних физиономий); женщины в небесно-голубом и киновари, самых что ни на есть интенсивных и кричащих. Все освещено желтым. Гораздо менее мрачно, чем в подобных заведениях Парижа: в здешнем воздухе не пахнет сплином.
В другом письме тому же Эмилю Бернару, автору иллюстрированной десятью рисунками поэмы под названием «В бордель!», Винсент пишет:
Bravo! Аи Bordel! Oui, c’est cela qu’il faut faire et je t’assure que je t’envie presque cette rude chance que to as d’entrer là dedans en uniforme; ce dont ces bonnes petites femmes raffolent.
Mon «Café de nuit» n’est pas un bordel. C’est un café. On у dort avachi sur les tables. Par hasard une putain amène son type. У venant une nuit, j’ai surpris un maquereau et une putain qui se raccommodaient après une brouille. La femme faisait indifférente et la superbe, l’homme etait câlin.
Браво! В бордель! Да, именно это следует делать. И уверяю тебя, что почти завидую твоей удаче — ведь ты ходишь туда в военной форме, от которой все эти милые бабенки без ума. <…> Мое «Ночное кафе» — не бордель; это кафе, где ночные бродяги перестают быть ночными бродягами, потому что плюхаются там за стол и проводят за ним всю ночь. Лишь изредка проститутка приводит туда своего клиента. Впрочем, зайдя туда однажды ночью, я застал там любопытную группу — сутенера и проститутку, мирившихся после ссоры. Женщина притворялась безразличной и надменной, мужчина был ласков.
И еще в одном письме, от декабря того же года, тоже Бернару:
Maintenant се qui t'intéressera, nous avons fait quelques excursions dans les bordels et il est probable que nous finirons par aller souvent travailler là. Gauguin a dans ce moment en train une toile du тêте café de nuit que j’ai peint aussi mais avec des figures vues dans les bordels. Cela promet de devenir une belle chose.
А теперь об интересном. Мы совершили несколько вылазок в публичные дома и, весьма вероятно, будем часто ходить туда работать. В данный момент Гоген работает над полотном с тем же самым ночным кафе, которое писал и я, но с фигурами, которые мы видели в публичных домах. Картина обещает быть красивой.
В сегодняшнем Арле следа не осталось от публичных домов, да и вообще от всего quartier réservé[257] — «веселого квартала» — с его специфическим фольклором, красными фонарями, кафе, залами для народных балов, ночной жизнью. Не стоит считать такие кварталы своего рода гетто. Правда, в первой половине XIX века для обитательниц домов терпимости вводили некоторые ограничения: им, например, запрещалось по воскресеньям и в праздники появляться на площади Республики после мессы в соборе Святого Трофима, а также в других публичных местах, однако ограничения эти были формальными и не особенно соблюдались. Те же самые должностные лица, которые их вводили, частенько под покровом ночи случались в двери домов под красным фонарем, а когда приходила пора, приводили туда и подрастающих сыновей.

Лиана де Пужи, знаменитая парижская куртизанка.
По всей вероятности, прототип Одетты де Креси, героини цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Была женой румынского князя Георге Гики. В конце жизни под именем сестра Анна-Мария работала в сиротском приюте Святой Агнесы в Савойе.
Портрет Лианы де Пужи работы Поля Сезара Эллё (1908)
В повседневной жизни девицы не сталкивались с остракизмом. Они — стараясь не привлекать к себе внимания — посещали церковь, по средам и субботам отправлялись на рынок за покупками, погожим весенним утром могли, наняв коляску, под кружевными зонтиками отправиться на пикник, принимали живое участие в безумствах пасхальной фиесты, посещали театр — им даже были выделены места на галерке. Вписавшись в давно сложившуюся социальную структуру, они жили жизнью города, заняв там свое законное место.
Девицы эти всегда привлекали художников и писателей, нередко становились героинями романов, театральных пьес, поэм — начиная от Фрины[258] и до вийоновской «толстухи Марго», от Пышки до «сестер милосердия»[259].
Сегодня трудно представить себе французскую (и не только французскую) литературу XIX века без домов терпимости, любви, скандалов, трагикомедий, вымышленных или подлинных драм обитательниц этих домов на страницах произведений Бальзака, Доде, Флобера, братьев Гонкур, Гюисманса, Золя и, конечно же, Ги де Мопассана. И столь же трудно вообразить светскую жизнь без парижских салонов, где знаменитые куртизанки — особенно в период Второй империи[260] — диктовали моду, создавали образцы элегантности, помогали своим избранникам строить карьеру, будь то политика или искусство.
Их рисовали лучшие художники всех эпох, от Витторе Карпаччо до великих голландцев. Чем было бы творчество Сезанна, Тулуз-Лотрека, Ренуара, Мане, Модильяни без девиц легкого поведения? В более близкие к нам времена они вышли на первый план в романах, фильмах, песнях, почти в любой своей ипостаси вызывая сочувствие и симпатию как воплощение женского очарования и тепла, как олицетворение зрелой мудрости, приобретенной горьким опытом и оплаченной дорогой ценой.
Когда Винсент Ван Гог 20 февраля 1888 года приехал в Арль, Прованс был скован холодом и занесен снегом; старожилы не помнили такой зимы. Поезд, идущий из Парижа в Марсель через Лион, опоздал на несколько часов. Смеркалось. Немногочисленные газовые фонари на площади Ламартина не рассеивали темноты. Ван Гог с обвязанным ремнями чемоданом в руке устало шел со станции в город, с трудом пробираясь через сугробы. Справа, ближе к берегу Роны, среди кустов виднелись отсветы костров и между ними смутные очертания фигур. Это были caraques, бедные цыгане, с незапамятных времен зимующие в этом месте. Прямо за Кавалерийскими воротами, уже intra muros[261], между монастырем кармелитов и часовней Святого Исидора, располагался quartier réservé, в лабиринте улочек которого легко было заблудиться. Если нарисовать его план, взяв за исходную точку Кавалерийские ворота, эти улочки были бы слева от ворот. Вот они:
улица Гласьер,
переулок Лампурда, или Грат-Кюль,
улица Террен,
улица Пти-Пюи,
улица Реколетт,
улица Бу д’Арль (сейчас улица дез-Эколь),
улица Рампар (сейчас улица Поль-Бер).
А справа от ворот находились:
улица Сент-Исидор,
улица Вер.
За редкими исключениями, этих улиц и домов уже нет. Они были разрушены — как и Желтый дом на площади Ламартина — во время трех массированных налетов британской и американской авиации 25 июня, 17 июля и 15 августа 1944 года. Весь исторический район тогда превратился в груду развалин. Бомбы союзников повредили также (к счастью, незначительно) несколько арок римского амфитеатра! Очередной пример ничем не оправданного варварства… Нетронутыми остались лишь городские ворота с двумя круглыми башнями да фонтан Амедея Пишо[262].
Получить представление о том, как выглядел некогда quartier réservé с его закоулками и маленькими площадями, с его вывесками, фонарями и цветочными кадками у порога, можно лишь благодаря немногочисленным фотографиям и рисункам Рауля Дюфи 1925 года. На одном из рисунков запечатлена часть улицы Вер с четырьмя домами терпимости, о чем свидетельствуют традиционные вывески над дверями: «Туз пик», «Черный кот», «Туз треф», «Туз червей».
Послевоенные коммунистические власти города восстановили район, но — словно бы отгораживаясь от прошлого — не сохранили ничего от его прежней архитектоники. Не помогли протесты действовавшего с 1901 года влиятельного Общества друзей старого Арля, интеллектуалов, художников, писателей, наконец, простых обывателей. Городские власти не сдались.
Традиционные арлезианские дома — узкие, двух- или трехэтажные каменные здания, крытые красной керамической (так называемой римской) черепицей, с двумя окнами на фронтоне; на ночь окна закрывались деревянными разноцветными ставнями. Внутри на первом этаже — просторное помещение с кирпичным или каменным полом, камином и внутренней винтовой лестницей, соединяющей расположенные одна над другой комнаты (иногда две смежные) и небольшую, часто крытую террасу. Об античном прошлом убедительно свидетельствовали подвалы со стенами из плоских римских кирпичей и бочкообразными сводами. Нередко при ремонте канализации там обнаруживались замурованные либо зарытые в землю амфоры для оливкового масла или вина.
Все это безвозвратно погибло. Отстроенные на скорую руку дома были некрасивы, выглядели претенциозно и дешево. В соответствии с идеологическими установками отцов города они предназначались в основном городской бедноте, которую стали постепенно вытеснять еще более неимущие иммигранты, в основном из Северной Африки. Но даже самыми благородными лозунгами не прикроешь вычурную уродливость…
Целые десятилетия новый район оставался инородным анклавом. Жители других районов неохотно туда наведывались. Казалось, нарушены какие-то тонкие механизмы социального гомеостаза, оборваны нити, связывающие разные части городского организма. Однако время делало свое: город постепенно поглощал поврежденную ткань, рана заживала. Часть домов перестроили, на прежнее место возле уцелевших остатков крепостных стен вернулись еженедельные рынки, выросли новые деревья, розы и плющ увили стены; по субботам на выложенных гравием площадках снова играют в петанк. Гений Юга довершил сделанное: искалеченный район ожил.
Я сижу на террасе Café de Nuit, где слева от меня — вангоговская желтая стена, а напротив — фрагмент римской арки, встроенный в фасад гостиницы Grand Hôtel Nord-Pinus.
В глубине почти пустого зала сидит за столиком девушка в мини-юбке, с большой, обшитой серебряными монистами сумкой на длинном ремешке, и мужчина в выцветших джинсах и черной футболке с надписью на спине; на лбу у него темные очки. Мужчина курит, пряча сигарету в кулаке. На волосатых предплечьях татуировка, на левом запястье золотые часы. Пара ссорится (говорят по-русски), оба очень возбуждены, звучат бранные слова. Речь идет о деньгах, которые девушка отдала не тому, кому должна была отдать. В какой-то момент она резко встает, хочет уйти, но мужчина хватает ее за руку, заставляет сесть. Девушка плачет, громко всхлипывая; наконец умолкает. Еще несколько фраз, произнесенных мужчиной уже гораздо мягче, и мир восстановлен.
За ними молча наблюдает прислонившиийся к дверному косяку официант.
А у меня перед глазами сцена из письма Винсента: время вернулось на столетие назад.
Отель Le Grand Balcon
— Из Школы изящных искусств?
Старый господин смотрит на меня поверх съехавших на кончик носа очков-половинок. Под слезящимися глазами мешки, руки усеяны темными пятнышками.
— А кого вы там знаете? Профессора Филиппа Форе? Ах, вы там преподаете… Ну хорошо. Надолго? Громче, пожалуйста… Я плохо слышу. Этот шум с улицы… Запишитесь, пожалуйста. Вот здесь…
Подсовывает мне большую книгу. На красной коже тисненная золотом надпись: L’Hôtel Le Grand Balcon. Открываю. Начало записей — 1955 год. Должно быть, вид у меня разочарованный, и старик это замечает.
— Гостевая книга, которую вели сестры Маркес, у меня в офисе. Если желаете, завтра я вам ее покажу. В конце декабря тут была целая группа с France-Culture…[263] Завтрак с 6.30, вон там, слева.
Гостиница старая, давно не ремонтировавшаяся. Обои помнят межвоенные (если не более ранние) годы. Обивка тяжелых кресел выцвела: красная когда-то ткань теперь грязно-розовая, прежний цвет сохранился только на сгибах. Круглые деревянные столы; на темных фанированных поверхностях светлые пятна — следы от стаканов и бокалов. Вытертый ковер, прикидывающийся бухарским. Лестница на второй этаж выстлана дорожкой, тоже вытертой, придерживаемой латунными прутьями. Рядом лифт в затянутой ажурной металлической сеткой шахте. Кабина из кованого железа украшена в стиле столь милого французскому сердцу ар-нуво, следы которого где только не видишь: в мелких предметах повседневного обихода, в малых архитектурных формах, даже в кузове производившегося до восьмидесятых годов «ситроена 2CV».
Лифт устацовлен в 1929 году. В 2003-м его включили в список охраняемых государством объектов. На ажурной решетке табличка: classé Monument historique[264].
На стенах фотографии: маленькие, большие, с паспарту и без, в деревянных, алюминиевых, светлых или темных рамках — сразу видно, что оправляли и развешивали их в разное время, любовно, как семейные реликвии.
На фотографиях самолеты — в воздухе, на летном поле, перед ангаром: Farman 70, Laté 28 и 300, Potez 26 и 28; рядом с самолетами механики, пилоты в комбинезонах, кто-то прислонился к борту Bréguet 14, кто-то держится за крыло Farman, а кто-то — в кокпите[265], высунул голову из обтекателя; знакомые лица в кожаных шлемах с большими очками на лбу: Дидье Дора, Жан Мермоз, Анри Гийоме, Эмиль Барьер, Пьер Жаладье, Марсель Рейн, ну и разумеется, Антуан де Сент-Экзюпери — легендарные личности, пилоты Aéropostale[266].

Самолет Aéropostale линии Тулуза — Дакар.
Пилот, опирающийся о крыло, — вероятно, Жан Мермоз.
Фотография в салоне гостиницы Le Grand Balcon
Из Первой мировой войны Франция вышла победительницей, но ослабела: в окопах Вердена, Шмен-де-Дама, на Сомме, на Марне погибли сотни тысяч. На последнем этапе войны большую роль сыграла авиация. К моменту подписания мирного договора в стране были уже сложившаяся авиационная промышленность и опытные кадры пилотов, штурманов, механиков и наземного обслуживающего персонала. При этом сохранились воспоминания о схватках с врагом в воздухе, об отчаянно смелых: поступках и осталась неутоленная жажда славы, нежелание уходить на покой. Все было готово для новых подвигов: и оборудование, и люди с их опытом и энтузиазмом.
Это понял Пьер-Жорж Латекоэр, промышленник, пионер воздухоплавания, умелый организатор. В середине 1918 года он основал Ассоциацию линий Латекоэра; безумное это предприятие казалось обреченным на неудачу. В начале года Латекоэр писал одному из своих друзей:
J’ai refait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des specialistes: notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu’une chose à faire: la réaliser.
Я еще раз проверил все расчеты. Они подтверждают мнение специалистов: наш замысел неосуществим. Нам остается только одно: осуществить его.
В 1921 году ассоциация превратилась в Главную компанию по аэроперевозкам, а затем, в 1927-м, была переименована в Генеральную компанию «Аэропосталь». Однако «Аэропосталь» просуществовала недолго. В 1933 году большие и маленькие авиакомпании, выкупленные государством, объединились под общим названием «Эйр Франс».
Ассоциация Латекоэра первой (уже с 1 октября 1918 года) организовала регулярную линию для перевозки почты, а затем и людей по маршрутам Тулуза — Рабат, Тулуза — Касабланка, Касабланка — Дакар (с запасными аэродромами в Агадире, Кап-Джуби, Вилья-Сиснеросе, Порт-Этьене, Сен-Луи). Впоследствии «Аэропосталь» пересекла южную часть Атлантического океана и добралась до Южной Америки — до столиц Аргентины, Бразилии, Эквадора, Перу и Чили.
Очередной вызов рождающейся гражданской авиации был брошен, когда начались беспосадочные полеты Тулуза — Дакар, перелеты через Атлантический океан, наконец, ночные полеты над Андами.
Одним из пилотов линии, которой от лица компании управлял Дидье Дора (Ривьер из «Ночного полета»), был Антуан де Сент-Экзюпери — поэт, провидец, один из лучших писателей первой половины XX века. Это благодаря ему история «Аэропостали» стала легендой гражданской авиации.
«Южный почтовый», «Ночной полет», «Планета людей», «Цитадель» — не просто рассказы о самолетах, пилотах и великом приключении, это моралите, воспевающие понятия солидарности, верности, чести, ставшие опознавательным знаком целого поколения. Из книг Сент-Экзюпери черпали нравственную силу молодые люди, которым вскоре пришлось ответить на страшный вызов Второй мировой войны, грозивший потерей не только жизни, но и человеческого облика.
(Мне рассказывали об одной сцене — будто извлеченной из романа Сент-Экзюпери, — которая произошла во время войны на авиабазе в Северной Англии. Командир дивизиона ночных истребителей раздавал пилотам задания. Особое — поистине самоубийственное — задание получил молодой летчик.
— Вы посылаете меня на смерть, — сказал он.
— Да, я оказываю вам такую честь, — ответил командир.)
«Аэропостали» суждено было прожить всего пять лет. Крах американской биржи 1929 года и последовавший за ним кризис подорвали основы мировой экономики. Один за другим разорялись крупные концерны. Эффект домино настиг и Генеральную компанию «Аэропосталь», однако последний удар был нанесен с самой неожиданной стороны: когда в 1931 году решалась судьба «Аэропостали», французское правительство отказало ей не только в кредитных гарантиях, но даже в поддержке для получения кредита во Французском банке. Полная катастрофа! На продажу были выставлены 200 самолетов и 17 гидропланов. Без работы остались полторы тысячи квалифицированных механиков, обслуживающего персонала аэродромов, более полусотни пилотов, десятки штурманов и радиотелеграфистов. «Аэропосталь» перестала существовать.
Как же много с тех пор изменилось! Еще недавно биплан пугал скотину на пастбище, а люди изумлялись и восхищались, будто завидев парящего в небесах ангела.
Навсегда исчезли самолеты, которые, словно луговые стрекозы, вслед за мечтой взмывали в воздух; ушли люди, для которых равнозначны были звездное небо над головой и нравственный закон внутри.
Сейчас небо над Тулузой исчерчено белыми полосами от реактивных самолетов. Недалеко от центра, в районе Коломьер на другом берегу Гаронны (там, где 12 июня 1218 года во время осады города погиб предводитель Крестового похода против катаров Симон де Монфор), располагается огромный комплекс авиационных предприятий компании Dassault Aviation, производящей самолеты Caravelle, Falcon, Airbus (в том числе самый большой из современных пассажирских лайнеров Airbus А380). Там же находится знаменитая Высшая школа аэронавтики и космоса, где учатся конструкторы кружащих по земной орбите спутников и будущие командиры межпланетных кораблей.
Старый господин, стоя ко мне спиной, долго смотрит на деревянный шкафчик, где висят ключи с номерами комнат. Ключей этих около сорока. Под ними две прислоненные к стенке шкафчика эмалированные таблички: на одной надпись complet[267] (похоже, ею давно не пользовались), на другой, поменьше, — résérvé[268]. Выбрав наконец ключ, он поворачивается и, помолчав, протягивает его мне, словно вручает высокую государственную награду. На ключе бирка с номером 32. Он не знает — откуда ему знать! — что мне эта цифра давно известна, что, направляясь сюда, я мечтал хотя бы подержать в руках этот ключ.
— Мы очень редко сдаем эту комнату, — говорит он. — Там, наверно, пыльно. Но вы ведь из Школы изящных искусств… Что пьете утром — кофе или шоколад?
(О причинах такой благосклонности я узнал позже. Оказывается, 29 июня 2000 года, в столетнюю годовщину рождения Антуана де Сент-Экзюпери, студенты профессора Филипа Форе из Высшей школы изящных искусств и студенты Национальной высшей школы аэронавтики и космоса (SUPAERO) высадили на поле бывшего аэродрома «Аэропостали» тысячи цветочных луковиц; когда выросли цветы, на земле появились в точности повторяющие рисунок автора очертания фигуры Маленького принца в характерных широких штанах, с развевающимся шарфиком на шее. Взгляду пассажиров приземляющихся или взлетающих самолетов предстал герой одной из самых прекрасных книжек для детей — и для взрослых. На вернисаж этого события как почетные гости были приглашены владельцы отеля Le Grand Balcon — месье Жан Брусс с супругой.)
Волоча за собой чемодан на колесиках, я поднялся по лестнице на второй этаж. Почти все двери в комнаты были приоткрыты, за исключением двух — под номером 32 и под номером 20, где когда-то жил Жан Мермоз. Я не рассчитывал никого встретить в длинном полутемном коридоре и, краем глаза заметив какое-то движение, замер, не решаясь пошевелиться. Напряжение спало, когда я услышал дружелюбное мяуканье: ко мне, задрав хвост, подбежал и стал тереться о ноги бесшумно спрыгнувший с кресла в конце коридора большой рыжий кот. Эта встреча была словно бы дружеским приветствием в точке пространства, где время остановилось, где вокруг полно следов, голосов, жестов людей, которые здесь жили, сталкивались в коридоре, разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда, хлопали дверьми, с топотом сбегали вниз по ступенькам, а ночью, смертельно уставшие, возвращались сюда после долгих одиноких полетов над вершинами гор, морскими волнами, песками Сахары.
И вероятно, в конце коридора стояло то же самое кресло и на потолке горели только две лампочки из четырех.
Почти все, кто когда-то здесь жил, трагически погибли. Остались имена и застывшее в воздухе эхо шагов…
Пьер Жаладье погиб 27 января 1928 года, пилотируя самолет Bréguet 14. Внезапная турбулентность выбросила его из открытой кабины. Самолет разбился, похоронив под обломками радиотелеграфиста Эдуара Бретона.
Вскоре после этого, при неудачной посадке в Дакаре, погиб вместе с механиком Эдмон Лассаль, а 31 января 1929 года в Могадоре в разбившемся самолете сгорел Эмиль Лекривен.
Эмиль Барьер погиб в январе 1936 года во время полета из Натала (Бразилия) в Дакар на гидроплане Latécoère 301 «Ville de Buenos Aires». Неожиданно разразилась гроза, самолет потерял высоту и разбился (по-видимому, о скалы Сен-Поля). Вместе с Барьером погибли пилоты Понс и Парейр, штурман Маре и радиотелеграфист Лотелье.
Жан Мермоз погиб 7 декабря 1936 года. Утром он вылетел из Дакара на четырехмоторном Latécoère 300 «Croix du Sud»; примерно в 800 километрах от берега с борта по радио передали сообщение об остановке правого заднего двигателя. Эта информация была последней: самолет с четырьмя членами экипажа исчез; его судьба и причины катастрофы так и остались неизвестными.
Анри Гийоме и Марсель Рейн погибли 27 ноября 1940 года. Они вылетели в Сирию на четырехмоторном Farman Le Verrier; на борту у них находился Жан Кьяпп, недавно назначенный верховным комиссаром в Леванте. Самолет был по ошибке сбит итальянским истребителем над Средиземным морем.
Обстоятельства гибели Антуана де Сент-Экзюпери долгие годы оставались загадочными. Известно, что 31 июля 1944 года он отправился в разведывательный полет с авиабазы на Корсике. Погода была превосходная, небо безоблачное, задание казалось легким и безопасным. На этом этапе войны авиация союзников имела явное преимущество в воздухе. Немецкие истребители показывались редко, предпочитая охотиться за более доступными объектами. Пилотируемый майором де Сент-Экзюпери Lightning Р-38 производства компании «Локхид» был самым современным и самым быстрым из всех самолетов, которыми располагала американская армия. Его потолок — 12 000 метров — был недосягаем для немецких истребителей. Однако — и об этом надо помнить — предназначался он для разведывательных полетов и потому не имел вооружения.
Стартовал самолет в 8.45, и в тот же день, 31 июля, в 14.30 его посчитали пропавшим. Что же произошло? Несчастный случай? Авария двигателя? Неисправность кислородного оборудования? Неожиданное нападение противника? Поскольку у Антуана часто бывали депрессии, не исключалась даже возможность самоубийства. Рассматривались все вероятные версии, но ни одна из них не казалась правдоподобнее остальных. Решить загадку позволил лишь удивительный случай и упорство двух искателей: Жака Праделя, журналиста, и Люка Ванреля, исследователя морских глубин, ныряльщика и фотографа.
Смахивающий на чудо случай заключался в следующем: из моря выловили серебряный браслет, который был на руке Антуана де Сент-Экзюпери в день смерти. Подлинность находки не вызывала сомнений. На застежке браслета было выгравировано: Antoine de Saint-Exupéry (Consuelo) — c/o Reynal and Hitchcock Inc. — 386 4th Ave N.Y. City — USA[269].
Произошло это в понедельник 7 сентября 1998 года неподалеку от острова Риу, напротив марсельского порта. Запутавшийся в сети браслет оказался на борту рыболовецкой шхуны «Горизонт», принадлежащей Жан-Клоду Бьянко. Это поистине невероятное происшествие, словно отсылающее к рассказу Геродота о возвращенном морем перстне Поликрата, послужило толчком к началу интенсивных, продолжавшихся три года поисков, в результате которых на глубине 80 метров были обнаружены обломки Р-38, который идентифицировали как самолет Сент-Экзюпери. Дальнейшие поиски позволили установить, что самолет засекла немецкая радарная станция в Шазель-сюр-Лион и он был сбит немецким истребителем Messerschmitt Bf-109, пилотируемым оберефрейтором Хорстом Риппертом. Обстрелянный из бортового орудия самолет Антуана де Сент-Экзюпери загорелся и ровно в 11.00 рухнул в море.

Последняя, сделанная за несколько часов до гибели фотография Антуана де Сент-Экзюпери
С бьющимся сердцем я открыл дверь номера 32. Первое впечатление: запах давно не проветривавшегося помещения, нафталина, пыли, старого дерева, истлевшей бумаги. Несмотря на закрытое наглухо окно, с улицы доносятся монотонный шум автомобилей, гудки клаксонов, гомон, вскрики, грохот каких-то пневматических инструментов. Через полуоткрытую дверь ванной комнаты видны старомодный умывальник и большая чугунная ванна на львиных лапах, с ржавыми потеками на белой эмали. Дивной красоты краны из полированной латуни наверняка датируются началом прошлого века.
Меблировка номера скромная. Большая двуспальная кровать, застеленная на французский лад: круглый валик под голову, сверху выцветшее бархатное покрывало; над кроватью олеография в нарядной деревянной рамке: скалы на берегу Дордони. По обеим сторонам кровати ночные столики с мраморными столешницами, на каждом стоячая лампа под зеленым абажуром из жатого шелка. На том, что ближе к окну, устаревшая модель телефона и ламповый приемник с зеленым магическим глазком. У правой стены большой деревянный шкаф с множеством не желающих открываться ящиков и пустых вешалок. На дне шкафа колодки для обуви. Напротив porte-fenêtre, отгороженного от улицы изящной решеткой, столик, перед ним на редкость удобное кресло с деревянными подлокотниками. Слева, у стены, два стула и низкая скамья для чемоданов. Через несколько дней я обнаружил глубоко под кроватью расписанный розами фарфоровый ночной горшок.
Справа, на пустой стене между шкафом и дверью в ванную, табличка: «В этой комнате в 1926–1927 годах жил и работал Антуан де Сент-Экзюпери».
На следующее утро, после бессонной ночи, я спустился позавтракать. За окнами мартовская погода: туманно, уныло и холодно. Через запотевшие стекла можно различить прохожих, которые, подняв воротники, укутавшись длинными шарфами, торопливо шагают по блестящему мокрому асфальту. Март в Тулузе часто неприятный: сыро и зябко, с Гаронны ползут клочья тумана, окутывая городские стены пронзительным подвальным холодом.
Но в комнате, где подают завтрак, было уютно и тепло. Горел свет. За столиком у стены, закрывшись газетой «Либерасьон», сидел хозяин гостиницы, месье Жан Брусс. В глубине у окна заканчивали завтракать двое — то ли чиновники, то ли коммерсанты: рядом на стульях два темно-синих пальто и два одинаковых «дипломата», запирающихся на кодовые замки. Они вполголоса обсуждали какой-то контракт. Кроме нас, никого больше не было. В воздухе висел аромат свежесваренного кофе.
Жан Брусс сложил газету, жестом пригласил меня за свой столик и подозвал молодого официанта в коричневом переднике:
— Café-crème dans un grand bol pour monsieur — et deux croissants au chocolat[270].
— Когда позавтракаете, зайдем в офис. Я ведь обещал показать вам гостевую книгу. Или вы сразу уходите? Нет? Превосходно. Записи велись с 1901 года. Сестры Маркес славились своей скрупулезностью. Но прежде — если захотите послушать — я расскажу о том, чего вы в книге не найдете. Гостиницы не представляют интереса для истории, а история этого отеля, хоть и недолгая, не так проста. Как вам известно, в девятнадцатом веке к прошлому особого пиетета не питали: многие города были перестроены, много памятников старины разрушили. Горячка обывательской активности не пощадила и Тулузы. Площадь Капитоль, что под окном вашего номера, когда-то выглядела иначе — была намного меньше и только частично замощена. В 1851-1856 годах, чтобы ее расширить, снесли целый район с западной стороны. Уничтожили всю средневековую застройку с площадями, домами, дворцами. Улицу Орм Сек на северной стороне, где сейчас стоит наш отель, перенесли, чтобы она под прямым углом пересекалась с улицей Луа. Бывшая Орм Сек — теперь улица Ромигьер, мы на ней находимся. Отель существует с 1856 года, первая владелица — некая мадам Этьенн, мы о ней ничего не знаем, да и о самом отеле не много. Известно лишь, что в 1873 году он был перестроен и с 1881-го до 1901-го существовал скорее как pension de famille[271] и принадлежал семейству Марнак. Его «гостиничная» история по-настоящему начинается только в 1901 году, когда он перешел в руки семьи Маркес эльзасского происхождения. Глава семьи в 1871 году, после франко-прусской войны, эмигрировал в Соединенные Штаты, выучился там на отельера, вернувшись через девять лет во Францию, поселился в Бордо, а затем перебрался в Тулузу, где и жил до конца своих дней. Его дочери — Люси, которая родилась в 1885 году, и родившаяся в 1893-м Анриетта, унаследовавшие отель, — управляли им вместе с подругой Ризеттой Массон (1897 года рождения) целых пятьдесят три года, то есть до 1954 года. Дамский обслуживающий персонал (ни одного мужчины!) возглавляла Натали Лаффонт (1897 года рождения). Отель называли «гостиницей старых дев» или даже «гостиницей святош» — очень прилипчивое оказалось название. К нам с женой он перешел в 1954 году. Наше время, увы, близится к концу: мы — старые люди, у нас нет ни сил, ни средств. Вскоре передадим отель в другие руки.
Господин Жан Брусс умолк, глядя прямо перед собой слезящимися голубыми глазами. Мы долго сидели молча. Чиновники (или коммерсанты) давно ушли. В столовой, кроме нас, никого не было.
— Вы допили кофе? Тогда пойдемте.
— Видите эту запись, вон тут? — Усыпанная темными пятнышками рука дрожит. — Первым был Дидье Даро. С него все и началось. Наткнулся он на гостиницу случайно. Они с молодой женой, возвращаясь с прогулки по набережной Гаронны, шли по улице Ромигьер к площади Капитоль. Мадам Даро, которая тогда была в положении, внезапно стало плохо, и ее отвели в отель, где сестры Маркес оказали ей первую помощь. Они были так доброжелательны и заботливы, что месье Даро в знак благодарности порекомендовал отель своим товарищам.
Это было в 1919 году. А уже в 1920-м в отеле Le Grand Balcon поселилась почти вся команда Ассоциации линий Латекоэра: пилоты, механики, обслуживающий персонал. Были, конечно, и другие причины. Гостиница оказалась удобной и по тем временам недорогой: номер стоил четыре франка, еда — два с половиной; расположение — идеальное, в двух шагах от площади Капитоль, то есть в самом центре, да и сообщение с аэродромом Монтодран было прекрасное. Тогда почти до самых ворот аэродрома ходил трамвай номер сорок два, останавливавшийся на площади, прямо за углом. Несколько лет спустя, кажется, в 1930-м, «Аэропосталь» обзавелась собственным автобусом, про который Антуан де Сент-Экзюпери писал в «Планете людей»:
Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. <…> Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов… Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром — и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. <…>
Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный.

Автобус Генеральной компании «Аэропосталь», курсирующий между площадью Капитоль и аэродромом Монтодран. 1930
Отношения у летчиков с хозяйками отеля сложились превосходные, обстановка была чуть ли не семейная. Сестры Люси и Анриетта Маркес и их подруга Ризетта, сами немногим старше своих постояльцев, старались как могли: опекали их, помогали в быту. Пришивали пуговицы, готовили tisane de tilleull (настой из цветков липы), кокетничали с Анри Гийоме, стучались в дверь ванной комнаты, если Антуан де Сент-Экзюпери вечером не спускался к ужину (все знали, что он частенько засыпает в ванне). Ласковые и снисходительные, они лишь в одном были неумолимы: женщины в мужские номера не допускались. Что нет, то нет! Jamais![272] Что это было — ханжество или банальная женская ревность — сказать трудно. Иногда по субботам постояльцы (заводилой обычно был Жан Мермоз) приглашали на танцы в салоне на первом этаже барышень, однако вход наверх — даже чтобы переодеться или поправить макияж — им был строго-настрого запрещен. Когда после долгого опасного полета — в Касабланку, Дакар или Сен-Луи-дю-Сенегал — летчики возвращались к себе (порой поздно ночью), сестры внимательно прислушивались, не стучат ли по ступенькам каблучки. А услышав, выбегали — иной раз в ночных сорочках и папильотках! — чтобы собственной грудью защитить подвергающуюся опасности добродетель. Обмануть бдительность сестер было нелегко, но молодость одолевает и не такие преграды. Девушек просто вносили наверх на закорках…
В Le Grand Balcon отражалась сложившаяся на аэродроме иерархия: самые старшие (по возрасту и рангу) пилоты жили на втором этаже, младшие пилоты, радиотелеграфисты и ассистенты — на третьем, наземный персонал занимал poulailler[273] на четвертом. Однако этот порядок не переносился на товарищеские отношения. Атмосфера была дружеская; встречи в вестибюле, беседы, общие завтраки перед отъездом в автобусе на аэродром, субботние танцы — все это сближало обитателей гостиницы; подобные отношения часто завязываются между пассажирами корабля во время долгих морских путешествий. Никому не мешали неразговорчивость Гийоме, аристократическая сдержанность Сент-Экзюпери, тонкий, подчас язвительный юмор Мермоза.
Конечно, совместное обитание сильных личностей, обладателей буйных темпераментов, представителей разных слоев общества — всегда дело нелегкое, а порой и невозможное. Но Le Grand Balcon был местом необыкновенным, как и те, кто там жил; все прибыли из разных уголков страны с одним желанием: пережить великое приключение. Одержимые одной страстью, эти люди создали сообщество, в котором характерологические и социальные барьеры не принималась в расчет. Главным были лояльность, взаимное доверие, готовность прийти на помощь, проверявшиеся в труднейших жизненных ситуациях, а также профессионализм, который нередко становился решающим фактором для сохранения жизни летчика; недокрученная на пол-оборота гайка крепления шасси, неточно отрегулированный клапан масляного насоса, не услышанное из-за шума и треска в наушниках сообщение о надвигающейся грозе… Если в жизни гостиничного сообщества и возникала напряженность, то чаще всего, когда кто-нибудь не возвращался вовремя на базу или когда кому-то приходилось стартовать с почтой в то время, как радио предвещало ураган в Пиренеях, туман над Средиземным морем либо песчаную бурю на аэродроме в Кап-Джуби.
Самолеты в ту пору представляли собой конструкции из дерева, жести, брезента и проволоки, с открытой кабиной для пилота и радиотелеграфиста, без приборов пространственной ориентации: были снабжены указателем скорости, компасом и гирокомпасом, но не имели искусственного авиагоризонта и радио, а потому были слепы и глухи ночью, во время грозы, среди туч. Те, кто летал на таких машинах, должны были обладать недюжинной силой характера, быть готовыми к сверхчеловеческим усилиям во имя сохранения чести и верности, как это понимали Джозеф Конрад, Андре Мальро или Альбер Камю. Самолеты, терзаемые ледяным ветром над вершинами Пиренеев или водами южной Атлантики, ослепляемые молниями в клубах черных туч над снегами Кордильер, беззащитные в столкновениях со стихией, иногда безвольные и хрупкие, словно семена одуванчика, были больше, чем обыкновенными машинами, — они становились орудием в единоборстве с судьбой, будто бросая вызов богам.
Мир, который видишь с высоты, — это другой мир, как другим становится человек, глядящий на мир с высоты. Смотреть с высоты — привилегия бессмертных. Это действует как наркотик. Немного перефразируя максиму древних мореплавателей, противостоявших стихиям в теснинах Понта или у подножия Геркулесовых столбов, можно сказать: Volare necesse est, vivere non est necesse[274].
Люди эти жили будто в лихорадке. Казалось, они спешили наверстать упущенное в минувшие века, испытать (пускай даже сложив голову) приключение, о котором грезили столько мыслителей и ученых, столько фантастов и поэтов: наяву преодолеть силу земного притяжения, оторваться от поверхности планеты, не оставлять следов, хоть на минуту убежать от собственной тени.
На аэродром Монтодран сегодня едешь в удобном кондиционированном автобусе номер 48 (сеть скоростного транспорта Tisséo). За панорамными окнами проплывают площади, улицы, мосты Тулузы, воспетого трубадурами ville rose[275] — состоятельного, многолюдного, полного памятников старины города с трагической историей. Несмотря на ранний час и холодную мартовскую погоду, на тротуарах, на террасах кафе полно народу: в основном это весело болтающая молодежь. Когда начинаются окраины, картина меняется: на улицах все чаще можно увидеть прилавки с зеленью, тележки-плитки, на которых выпекают galettes из гречневой муки, окутанные синеватым дымком вертелы с шашлыками; улицы грязные, но есть в них какая-то тревожная красота. На тротуарах преобладают чернокожие пришельцы из Сенегала, Гвинеи, Мали, с Мадагаскара и Мартиники, смуглые иммигранты из стран Магриба — Марокко, Алжира и Туниса. Мужчины в джеллабах, красивые черноглазые женщины в длинных цветных платьях, украшенных ожерельями из кожаных бусинок и золотых монеток, — надменные и гордые, как царица Савская.
Монтодран, вернее, его часть с единственной сохранившейся взлетной полосой находится в юго-восточной части города. Уже с середины прошлого века аэродром постепенно терял значение. До 1970 года его арендовал авиазавод «Бреге» для испытания новых конструкций и учебных полетов, а потом он перешел во владение спортивных аэроклубов, но зеленая незастроенная территория в двух шагах от центра была лакомым куском для крупных строительных корпораций. В бизнесе нет ни жалости, ни сантиментов. Большой аэропорт Тулуза-Бланьяк полностью удовлетворял потребности города. Аргументы о необходимости сохранить последние следы великого приключения команды «Аэропостали» оказались неубедительны. Приговор был вынесен.
Окончательно аэродром закрыли 1 января 2004 года. Несколькими месяцами ранее, 1 мая 2003 года, в столетнюю годовщину Жана Мермоза, произошла трогательная церемония: от отеля Le Grand Balcon к Монтодрану отправился исторический автобус 1930 года. По дороге пассажиры автобуса — ветераны «Аэропостали» и, разумеется, владельцы отеля, супруги Брусс, — возложили цветы на могилу Дидье Даро. С полосы, откуда стартовали самолеты «Аэропостали», в последний раз поднялся в воздух Latéoctère 28, названный Spirit of Montaudran 2[276], с письмами от детей Тулузы детям Дакара. Полет стал символическим повторением первого беспосадочного перелета Монтодран — Дакар 1928 года на самолете Spirit of Montaudran 1, пилотируемом Жаном Мермозом.
1 января 2004 года на летное поле выехали бульдозеры местных строительных фирм, распугивая галок, давно свивших гнезда на окрестных деревьях. Люди в желтых куртках и стальных касках приступили к демонтажу ангаров и еще сохранившихся на аэродроме объектов.
Жители соседних районов рассказывают, что порой, безлунными ночами, территория бывшего аэродрома выглядит как таинственный остров; иногда там мелькают какие-то огни и даже смутно различимые фигуры, а время от времени над черными верхушками деревьев можно заметить тень беззвучно приземляющегося биплана.
В гостиничном номере постепенно смеркается, комнату будто захлестывает волна прилива. Отблеск заходящего солнца, отражаясь то ли от открытого окна, то ли от спутниковой антенны, медленно, как лунатик, бредет по краю крыши.
Я сижу в кресле у окна — один в пустой комнате, с «Планетой людей» на коленях. Сумрак, отовсюду шепот, шорохи, шелест… На странице открытой книги бросается в глаза фраза:
Il п’у eut point de voix, ni d’images, mais le sentiment d’une présence, d’une amitié très proche et déjà à demi devinée. Puis, je compris et m’abandonnai, les yeux fermés, aux enchantements de та mémoire.
Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял — и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти.
Меня устраивает общество духов. Я хорошо себя среди них чувствую, мне приятна их близость, их нематериальное, но несомненно живое, доброжелательное присутствие. Неважно, что они невидимы; впрочем, когда я пытаюсь переступить границу времени и проникнуть в их мир, они иногда позволяют мне увидеть, а может быть, угадать свою тень в зеркале — ведь «хорошо видишь только сердцем. Главное скрыто от глаз»[277].
Дух Антуана де Сент-Экзюпери особенно мне близок. Я ощущаю его присутствие не потому, что мы уже много лет встречаемся под той самой яблоней, куда прокрался Лис. Мы и раньше встречались в пространстве между явью и сном, где в темноте горят все те же огоньки: звезды, светлячки, окна домов, — где ушедшее время сливается с временем, которое наступит или могло бы наступить, время реальное — с временем возможным, как это чувствовал и понимал Роберт Музиль, писавший в четвертой главе «Человека без свойств»:
Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет[278].
Общение с тем, чего нет, что ушло или даже чего никогда не было, — общение с временем, которое, хоть и миновало, продолжается. «Что же такое время? — говорил Аврелий Августин из Гиппоны[279]. — Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю». Общение с духами — участие в таинстве, которое начинается задолго до нашего рождения, сопутствует нам всю жизнь и продолжается бесконечно — за порогом смерти.
Вот так. Но какая тут связь с рассказом об «Аэропостали», Антуане де Сент-Экзюпери, отеле Le Grand Balcon, дни которого сочтены, господином Жаном Бруссом, который сейчас уйдет, сутулясь, глядя поверх половинок очков, с книгой в красном кожаном переплете под мышкой, со связкой ключей от дверей, в которых сменили замки, с рыжим котом в плетеной корзинке, и исчезнет — навсегда — среди автомобилей за углом улицы Ромигьер, так же как исчезали поочередно — уходя из гостиницы и из жизни — Анри Гийоме, Жан Мермоз, Дидье Даро, Антуан де Сент-Экзюпери, богобоязненные сестры Маркес и их ветреная подруга Ризетта?
Их мир ушел, канул туда, куда канули все умершие миры. Но остался след, остались знаки — невидимые узелки на веревке, за которую мы то и дело хватаемся, ощупью передвигаясь по жизни.
Только слово обращает время вспять. И магия творчества большого писателя. Книги Антуана де Сент-Экзюпери — великое приключение моей молодости, которое, хотя и прошли годы, все еще продолжается. Даже сегодня, когда, утомленный грузом прожитых лет и собственных слабостей, я закрываю глаза, мне кажется, что силой мечты (ведь любому из нас, даже на склоне лет, случается в мечтах хоть на секунду почувствовать себя непобедимым, непогрешимым и бессмертным) я могу воскресить былые чувства, вновь пережить особое состояние душевного подъема и восторга, при котором воображаемое становится реальнее подлинного… И вот я опять на аэродроме Монтодран: раннее утро, самолет Breguet 14, пробившись сквозь нагромождения напоминающих барочные соборы туч, взмывает над вершинами, скалистыми склонами и зелеными ущельями Пиренеев на пути в Аликанте; и опять я из последних сил, плечо к плечу с пилотом, бреду среди миражей по белым, как смерть, пескам Сахары — бреду, словно по жизни, спотыкаясь, падая, вставая, снова падая, чтобы иметь право в конце пути гордо сказать себе: «Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу»[280].
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ