ГЛАВА II Подъем
Из окна открывался вид на соседние монастырские сады. Весной и летом оттуда доносился запах свежей зелени. Уличного шума не было слышно. Правда, через тонкие стены проникали разнообразные звуки из смежных квартир, обрывки разговоров и бренчанье на рояле; а сама квартирка на бульваре Монпарнас, в доме № 162, куда переселился Ромен Роллан после развода, была до того крошечная, что он, стоя посреди комнаты, легко доставал руками стены и потолок. Но все же с грехом пополам удалось разместить кровать, письменный стол, пианино и книжные полки. Рядом был ресторанчик, куда можно было ходить обедать. Внизу сидела консьержка, с которой можно было договориться, чтобы она не пускала случайных посетителей к одинокому жильцу четвертого этажа. Бывали дни, когда ему никого не хотелось видеть, хотелось работать и только работать, запоем, без перерывов и помех.
В последние годы семейной жизни Роллан иногда с чувством облегчения выходил из дому, где толпились чужие, ненужные ему гости, на пустынную, молчаливую улицу Нотр-Дам де Шан. Бульвар Монпарнас, параллельный этой улице, широк и многолюден. Теперь Роллан, выходя из дому, сразу вливался в поток пешеходов. И это бывало совсем неплохо после многих часов, проведенных в безлюдье и безмолвии.
Он шел в Латинский квартал привычной недолгой дорогой, и со всех сторон его окружали человеческие лица: мастеровые и служащие, спешащие на работу или домой, хозяйки с кошелками, студенты со связками книг под мышкой. Он мог чувствовать себя частью этой трудовой толпы. Именно таких людей будет скоро встречать на улицах Парижа его герой, гениальный и неимущий музыкант, непризнанный «ярмаркой на площади». «Ему хотелось, — так напишет Роллан о Жан-Кристофе, — поглубже окунуться в освежающие волны сочувствия людей. Он ни с кем не заговаривал. И даже не пытался заговорить. Ему достаточно было смотреть на проходящих людей, разгадывать их мысли, любить их. С теплым участием присматривался он к этим торопливо шагавшим труженикам, на лицах которых уже в час утренней свежести лежала печать утомления…»
Роман о Жан-Кристофе складывался все отчетливее, — накоплялись заметки, наброски, целые главы. Однако были другие, срочные дела, которые надо было выполнить или довести до конца: давно начатая серия статей о народном театре, обзор парижских художественных выставок для журнала «Ревю де Пари», биографический очерк о Франсуа Милле, заказанный английским издательством. И были лекции, к которым Роллан по-прежнему готовился чрезвычайно серьезно, проводя долгие часы в библиотеках.
Преподавание иногда становилось физически обременительным. Роллана мучали частые гриппы, бронхиты, приступы боли в сердце. Простояв утром два часа на кафедре, он чувствовал себя до того обессиленным, что в тот день уже не мог писать. Подготовка к текущим лекциям не давала возможности сосредоточиться на собственном литературном труде — «Жан-Кристофу» отводилось главным образом время учебных каникул. Но отказываться от лекций Роллану не хотелось. Конечно, одинокому человеку не так уж много нужно, чтобы прожить: единственной крупной статьей расходов оставались поездки за границу во время отпусков. Однако регулярный педагогический заработок давал возможность держаться независимо перед редакторами, писать то, что хочется, не заботясь о материальном успехе. Да и помимо этого, общение со слушателями стало для Роллана душевной потребностью, в особенности после того, как он лишился семьи.
Он вел лекционные курсы не только в Нормальной Школе, но и в недавно основанной Высшей школе социальных наук, — там он организовал секцию музыковедения и устраивал общедоступные концерты: эта работа вовсе не оплачивалась, но была творчески интересной. Музыковедение, как специальная отрасль знания, только еще начинало пробивать себе дорогу, и в этой области авторитет Роллана был признан специалистами еще в прошлом столетии — сразу после того, как появилось его исследование об истоках европейской оперы.
В 1904 году, в связи с реорганизацией Нормальной Школы, лекции Роллана были перенесены в Сорбонну. Впервые за многовековую историю старейшего французского университета в его учебный план был включен специальный курс истории музыки. И притом курс, открытый не только для студентов, но и для посторонних.
Каждый четверг к девяти часам утра аудитория, где читал профессор Роллан, заполнялась любознательной публикой. Скоро стало не хватать мест, — юноши и даже девушки усаживались на ступеньках амфитеатра. Одних слушателей привлекал тонкий, оригинальный анализ произведений искусства, других — исполнительское мастерство лектора, который охотно переходил от кафедры к роялю. А третьих покоряло прежде всего душевное обаяние человека с негромким голосом, несветской застенчивостью манер, строгим и проникновенным взглядом. Каждая из лекций представляла самостоятельный исследовательский этюд, некоторые из них появлялись потом в печати. Так подготовлялись книги — «Музыканты прошлых дней», «Музыканты наших дней».
Свои статьи о театре и музыке Роллан иногда публиковал в журнале «Ревю де Пари», одним из руководителей которого был известный историк Эрнест Лависс; там еще в 1896 году вышла статья Роллана «Об упадке итальянской живописи в XVI веке» — краткое изложение латинской диссертации, а потом и «Святой Людовик». Еще чаще он печатался в журнале «Ревю д’ар драматик» — «Обозрение драматического искусства»; с 1903 года он стал заведовать музыкальным отделом этого журнала, который в следующем году принял название «Обозрение драматического и музыкального искусства». С Альфонсом Сеше, главным редактором журнала, у Ролланд установились дружеские отношения. В течение ряда лет «Обозрение» вело кампанию за народный театр, широко предоставляло место для дискуссионных и полемических выступлений, — там можно было высказываться свободно.
Однако главной печатной трибуной Роллана стали — со времени публикации пьесы «Волки» — «Двухнедельные тетради» Шарля Пеги. Это было периодическое издание необычного типа: каждый выпуск предоставлялся целиком одному автору (реже — двум) и содержал, как правило, большое цельное произведение — роман, повесть, публицистический памфлет, социологическое исследование или эссе. Там могли печататься полностью крупные работы, отрывки из которых появлялись раньше в других местах; так, статьи Роллана о народном театре, которые он в течение нескольких лет помещал в «Обозрении», вышли потом в виде цельной книги, отдельным выпуском «Тетрадей».
В 1900 году появилась в «Обозрении» программная статья Роллана «Яд идеализма», горячая и резкая по тону. Автор осуждал «дряблые грезы декадентского искусства», бегство от действительности, безволие, расслабленность, ставшие своего рода литературной модой. Он ратовал за искусство мужественное и смелое, способное участвовать в «земной жизни». Он утверждал: «Нужно воспитывать в душах любовь к истине, чувство истины, властную потребность в истине, привычку, желание ясно разбираться в вещах и людях». Статья открывалась посвящением: «Шарлю Пеги и его «Двухнедельным тетрадям», ведущим работу по оздоровлению общества».
В Пеги Роллан высоко ценил принципиальность и силу характера. Ему была глубоко по душе та атмосфера, Которую старался поддерживать в «Двухнедельных тетрадях» и сам Пеги и сплотившийся вокруг него небольшой коллектив литераторов. Они единодушно презирали буржуазный мир, не хотели ни в чем приспособляться к его торгашеским нравам. Роллан позже вспоминал: «Нас всех Объединяла прямота, непримиримая честность: говорить правду, не писать ни строчки того, что не думаешь и не хочешь претворять в действие». Пеги и его сотрудники Ставили себе задачей — не просто выпускать литературные произведения, но и «способствовать общественному и нравственному возрождению Франции».
В декабре 1901 года Роллан с радостью сообщал Мальвиде фон Мейзенбуг, что Пеги готов напечатать, вслед за «Дантоном», еще две его драмы о Французской революции. Он рассказывал о Пеги: «В его лице я приобрел энергичного друга. Он основал издание под названием «Двухнедельные тетради», которое выходит нерегулярно, выпусков 20 в год. Направление там — социалистическое, но с отпечатком морального благородства, которое преобладает над всеми политическими соображениями. Девиз у него такой: «Социальная революция будет высоконравственной, или ее вовсе не будет».
Далее Роллан описывал читателей нового журнала: «Все это люди независимые, живущие обособленно, в провинции или в малых государствах, люди, исповедующие социалистическую веру, но с оттенком нравственной непреклонности, которая не может примириться с тем, чтобы идеал искажался, приспособляясь к требованиям политики. Итак, это — элита, не столько интеллектуальная, сколько моральная, — авангард общества, которое находится в пути, в поисках новых форм цивилизации. Радостно войти таким образом в контакт с этими скромными и свободными индивидуалистами, в которых горит самый чистый огонь французского общественного сознания…»
Пять лет спустя, в 1906 году, в самый разгар работы над «Жан-Кристофом», Роллан писал своей немецкой почитательнице Эльзе Вольф:
«Я не рассказывал вам о Пеги? Вот вам тип француза старинной породы — фанатик разума, способный весь мир принести в жертву своим идеям. Он основал «Тетради», вложив в них все свое небольшое достояние, а также деньги жены (всего тысяч пятнадцать франков), не заботясь о том, что будет с ней и с тремя маленькими детьми, если он потерпит крах. Он и от других требует такого же бескорыстия. Он не платит ни одному автору, а для себя берет только то, что строго необходимо на жизнь ему и семье. (Они живут на расстоянии часа езды от Парижа; он приезжает на работу почти каждый день; иногда он стучится ко мне в дверь в пол-седьмого утра, чтобы взять у меня выправленные гранки и отнести их в типографию в Сюрен, на другой конец города.) Он решил создать журнал абсолютно независимый и абсолютно чистый. Будучи социалистом и другом Жореса, он высказал ему в глаза самые горькие истины. Книготорговцы его бойкотируют, потому что он отвергает кабальные условия, которые они навязывают редакторам. Он отказался от всякой рекламы. Он поклялся, что ни к кому не пойдет, — пусть к нему идут. И к нему действительно приходят, несмотря на всю его эксцентричность, раздражающее упрямство, несмотря на все причуды его стиля и привычку пережевывать одно и то же; впрочем, во всем, что он пишет, есть нечто сильное и глубокое, хотя и под непривлекательной оболочкой. Он немного одержим, это я понимаю, да и он сам понимает. Как он говорит, «надо быть одержимым, чтобы суметь чего-то добиться». Но у него такая сила веры в свое дело и в самого себя, что он заразил этой верой многих людей. У него необыкновенно своеобразный круг подписчиков, — преобладают независимые трудовые люди, которые живут обособленно, в провинции или в отдаленных колониях, — есть и солидное ядро политических деятелей, и группы иностранцев, читающих по-французски, швейцарцы, бельгийцы, голландцы. Меньше всего литераторов. Они его тоже бойкотируют. Но они тоже, уже теперь, вынуждены идти к нему. И как он с ними обращается!.. Да, у Пеги тысяча невыносимых недостатков: он деспот, маньяк, упрямо цепляющийся за свои идеи. Но он в Париже — сила, единственная в своем роде. Никогда я не мог бы взяться за нескончаемую серию «Жан-Кристофа» и за мои «Жизни великих людей», если бы у меня не было этой опоры: смелого и настойчивого издателя, который не боится ничего, прежде всего не боится быть смешным, и охвачен страстью к честности. Теперь мои книги утвердились и могут быть напечатаны в других местах, где ни в коем случае не удалось бы напечатать их раньше, по крайней мере без изменений и купюр…» Отвечая на вопросы Эльзы Вольф — в чем цели «Двухнедельных тетрадей», каково их содержание, Роллан перечислял темы вышедших книжек. «Есть целая серия, которую можно назвать «Угнетенные народы». С десяток выпусков посвящен Финляндии, Армении, Македонии, русской Революции, кишиневским и румынским евреям, бельгийскому Конго и т. д. (и каждая такая «Тетрадь» написана специалистом, который сам был в данной стране, — без малейшего литературного фразерства!). Затем другая серия: «Французские демократические институты»; тут и Народный театр, и Народные университеты, речи Жореса, статьи Клемансо или Пикара и т. д. Затем — хроники и политические памфлеты Пеги, который является социалистом и был одним из самых пылких дрейфусаров, нос тем большей свободой обличает компромиссы торжествующих ныне социалистов и низость ведущих дрейфусаров в их подавляющем большинстве». «В итоге — какова линия «Тетрадей»? Обуздывать социализм в духе индивидуализма. Поддерживать в самом социализме (ведь и все мы, больше или меньше, к нему примыкаем) абсолютную свободу, которую пытается подавить тирания руководства социалистической партии, — свободу быть справедливыми по отношению к ее противникам и строгими по отношению к ее друзьям».
Очень любопытно сопоставить эти два отзыва Роллана о Пеги. Кое в чем они совпадают даже текстуально — и все же различны. В 1906 году Роллан относился к Пеги менее восторженно, чем в 1901 году. За годы совместной работы он лучше узнал его, да и сам Пеги, как литератор и общественный деятель, раскрылся яснее. Но вместе с тем Роллан, именно благодаря опыту совместной работы, все глубже осознавал, сколь многим он обязан редактору «Двухнедельных тетрадей».
Роллан очень ценил, что Пеги, несмотря на срой властный нрав, решительно ни в чем не стеснял свободы авторов, не навязывал им никаких поправок. Для Роллана это было тем более важным оттого, что он — даже и в самом начале своего сотрудничества в «Тетрадях» — далеко не во всем был согласен с Пеги.
Оба они ненавидели буржуазный мир, считали его прогнившим и обреченным. Оба они были убеждены, что будущее принадлежит социализму. Оба они, наконец, — и это особенно их сближало — стремились связать социальное переустройство с нравственным обновлением людей.
А дальше начинались разногласия.
Сам Пеги так характеризует тот период своей жизни, когда произошло знакомство Роллана с ним: «Все тогда было чисто. Все тогда было молодо. Только что родился социализм юный, социализм новый, социализм серьезный, немного ребяческий (но это и требуется для юности) — социализм молодых людей. Только что возродилось христианство пламенное, надо сказать, глубоко христианское, глубокое, пылкое, серьезное. И его с довольно большой пылкостью называли социальным католицизмом…» Молодой Пеги был в оппозиции к католической церкви, жил с женой в гражданском браке и не крестил детей, — но сочетал бунтарские настроения с особого рода отвлеченным христианством. Роллану этот «социальный католицизм» был в значительной мере чужд. А вместе с тем был чужд и литературный стиль Пеги, с его постоянным налетом проповеднического экстаза.
Кстати сказать, Роллан в письме к Э. Вольф выразился по меньшей мере неточно, когда назвал своего редактора «фанатиком разума». Философским учителем Пеги был теоретик иррационализма Анри Бергсон. Пеги глубоко воспринял идею Бергсона о превосходстве познания интуитивного над рациональным, научным. Обличая политику правящего класса, а заодно и всякую политику, Пеги противопоставлял ей «мистику», как понятие положительное. В основе больших народных движений, в основе всякого героизма, утверждал Пеги, обязательно лежит «мистика» — иррациональное, внеразумное начало.
В первые годы нового столетия разочарование в политике, недоверие ко всякой политической деятельности охватило немалую часть французской интеллигенции. Борьба дрейфусаров, казалось бы, увенчалась успехом — атаки реакции были отбиты, узник Чертова острова вернулся домой. Но в общественной жизни Франции не произошло ощутимых перемен к лучшему. Больше того: социалисты вошли в правительство и этим дискредитировали себя в глазах многих былых сторонников. В 1902 году, при премьер-министре Комбе, Жорес стал заместителем председателя Палаты. Возник даже термин «комбизм», обозначавший сотрудничество социалистов с буржуазными партиями.
Роллану нравилась та прямота и резкость, с которой Пеги осуждал Жореса за соглашательство. Но в 1905 году, когда обострились отношения между Францией и Германией, Пеги поместил в очередном выпуске «Тетрадей» свой памфлет «Наша родина». В нем звучали нотки национализма, и критика парламентского режима велась скорей справа, чем слева. Роллан с тревогой почувствовал, что в публицистике Пеги «повеяло ветром войны, что он апеллирует к «инстинкту расы».
Пеги говорил о готовности народа к сражениям и жертвам и риторически спрашивал: «Какой набат войны гражданской или войны иноземной; какой набат войны социальной или религиозной; как в былые времена; какой набат войны более чем гражданской; какой набат иноземного вторжения возвестит когда-нибудь смерть всех этих людей?» В этой книге сильнее, чем в прежних работах Пеги, сказалась его склонность прославлять «мистику» подвига безотносительно к его конкретному социальному, историческому содержанию.
Здесь же, в «Нашей родине», Пеги мимоходом, не называя Роллана, слегка иронически высказался по поводу литераторов, усердно сочиняющих труды о «Народном театре»; он употребил неологизм «livresque», что можно перевести как «книгочий» или «книжник». Пеги, конечно, не имел намерения ссориться с одним из лучших авторов своего журнала, — по-видимому, его просто нечаянно «занесло» в пылу обличения Третьей республики, всей ее политической и умственной жизни. Но все же насмешливое словечко было брошено неспроста. В глазах Пеги автор «Жан-Кристофа» был и оставался интеллектуалом, оторванным от народной почвы, замкнутым в мире книг.
Сам Пеги гордился своим крестьянским происхождением и утверждал, что главным его литературным наставником была неграмотная бабушка; он, по словам его биографа и почитателя Д. Галеви, «никогда не интересовался ни Шекспиром, ни Данте, ни Гёте». Идея единства мировой культуры, духовного общения наций, заложенная в самой сути творчества Роллана, и особенно его романа «Жан-Кристоф», явно не вызывала сочувствия у первого издателя этого романа.
Пеги ставил инстинкт выше разума и культуры; патриотизм он понимал как исконную, интуитивную привязанность народа к родной земле. Все это в последние годы его жизни обернулось воинствующим национализмом и католицизмом самого ортодоксального образца.
История идейных взаимоотношений Роллана и Пеги — история сложная и по-своему драматичная; у нас еще будут поводы к ней вернуться. Так или иначе, оба писателя продолжали — несмотря на нараставшие разногласия — ценить и уважать друг друга вплоть до самой смерти Пеги (погибшего на фронте в 1914 году). Но разногласия обозначились отчасти уже с самого начала, с первых лет сотрудничества Роллана в «Двухнедельных тетрадях».
В 1901–1902 годах во Франции, да и во всем мире, много говорили и писали о Толстом. Он был отлучен от церкви, потом тяжело заболел, некоторое время был почти при смерти, — все это подняло на Западе широкую волну общественного сочувствия. Французские литераторы, художники, публицисты выражали симпатию к Толстому — каждый на свой лад.
«Двухнедельные тетради» откликнулись на отлучение и болезнь Толстого специальным выпуском в феврале 1902 года. Центральное место в нем занимала публикация письма Толстого, полученного Роменом Ролланом в 1887 году, с предисловием-комментарием самого Роллана. В этом выпуске была также большая статья Пеги, по преимуществу полемическая. Она была направлена против «толстовствующих снобов» — тех французских литераторов и журналистов, которые шумно восторгаются великим русским писателем, а по существу от него далеки. Пеги категорически заявлял: «Христианство лежит в основе Толстого», люди неверующие не могут его понять.
Роллан подошел к своей теме совершенно иначе. Толстовская христианская доктрина его не привлекала. В своей статье-предисловии к письму 1887 года он кратко и очень самостоятельно проанализировал взгляды Толстого на искусство, стараясь извлечь из документа, написанного четверть века назад, выводы, поучительные для литературно-артистического мира сегодняшней Франции.
Роллан намеренно оставил в стороне крайности и критические перегибы Толстого. Он мимоходом отметил- что не разделяет многих его конкретных оценок, не соглашается, например, с его явно ошибочной оценкой Бетховена. Роллан выдвинул на первый план, как главное в эстетике Толстого, идею народности искусства, понимая под народностью не примитивную доходчивость, а нечто гораздо более важное: близость искусства к нуждам, тревогам, чаяниям народных масс.
Толстой осуждал «господское искусство», требовал, чтобы писатели и художники творили для большинства человечества — для трудящихся и угнетенных: он исходил в этом требовании из соображений справедливости, из интересов народа. Роллан присоединяется к Толстому — исходя из нужд самого искусства. «Не только нравственность, а и само искусство заинтересовано в том, чтобы оно перестало быть исключительной собственностью привилегированной касты. Я, художник, сам первый молю о наступлении того момента, когда искусство войдет в толщу народа очищенным от своих привилегий, от пенсий, от орденов, от казенной славы. Я призываю это время во имя достоинства искусства, оскверняемого тысячами паразитов, позорно живущих за его счет. Искусство не должно быть карьерой, оно должно быть призванием».
Этот же круг проблем встает и в книге Роллана «Народный театр» и в других его работах о театре, живописи, музыке, написанных в начале нового столетия.
Еще в конце минувшего века Роллан был захвачен идеей создать театр нового типа, который обращался бы не к буржуазной публике, испорченной и пресыщенной, а к массовому трудящемуся зрителю. Вместе с другими литераторами, режиссерами, журналистами он вошел в жюри конкурса на лучший план деятельности народного театра, писал статьи на эту тему, участвовал в подготовке собраний и съездов работников искусств. На рубеже двух столетий в разных концах Франции возникали любительские народные театры, — крупнейший из них был открыт в деревне Бюссане драматургом Морисом Потешером (который, как и Роллан, был почитателем Толстого и писал ему).
В такого рода попытках по-своему сказывалось влияние социалистического движения на художественную интеллигенцию. Однако поборники народного театра по-разному понимали его цели. Некоторые считали самым важным возродить во Франции старинный жанр массовых развлечений — зрелищ на открытом воздухе. Другие выдвигали задачу — дать неимущему городскому населению содержательные, художественно доброкачественные спектакли, познакомить новые круги зрителей с классическим наследием. Роллан смотрел на это дело шире, — он не хотел ограничиваться просветительством. Конечно, полезно дать трудящимся доступ к благам культуры, которых они лишены. Однако народный театр должен не просто просвещать, — он должен поднимать дух народа, внушать ему мужество и волю к действию. Значит, этот театр не может быть повторением готовых образцов — необходимы поиски новых форм такого зрелища, которое могло бы взволновать, захватить массы.
Иные реформаторы театра обивали пороги министерств, надеялись получить от государства денежное пособие на просветительские цели — и не получали. Роллан понимал, или, вернее, чувствовал, что расцвет народного театра, о котором он мечтал, при данном социальном строе невозможен. Обновление искусства неотделимо от обновления общества.
Свои мысли по этому поводу он сжато изложил в письме к Альфонсу Сеше в июле 1903 года. «В течение последних лет я убедился, что в настоящее время невозможно отделять театр от политики. Театр, как и все искусство, как и вся нынешняя интеллектуальная и нравственная жизнь, должен включиться в борьбу, рискуя умалить или даже на время утратить некоторые из прекраснейших своих привилегий; автономию мысли и чистую красоту. Необходимо прежде всего разбить то, что препятствует свободному развитию современной мысли. А потом уже постараемся восстановить спокойствие в искусстве. — Если бы даже мой разум и не соглашался с идеями социализма, меня привело бы к ним мое чутье художника. Во всем нашем театре минувших времен нет почти ничего, что было бы способно дать пищу современным запросам… Я верю в необходимость сценического переворота, который полностью обновил бы идеи и даже формы французского театра. Этот переворот может быть осуществлен лишь благодаря революции или эволюции общества по направлению к социализму. В этом для меня — суть вопроса. Не столь важно, по-моему, появится ли еще одно или два прекрасных произведения. Речь идет о том, чтобы преобразовать искусство, чтобы спасти его от убожества. Я подробно обосновываю эти мысли в книге, которая скоро появится».
Эти строки были написаны более чем через год после того, как Роллан и Фирмен Жемье потерпели обидную неудачу в попытке утвердить на французской сцене героическую драму нового типа, «Четырнадцатое июля». Судьба этой пьесы укрепила в Роллане убеждение, что буржуазный строй ставит почти непреодолимые преграды перед искусством революционного, новаторского характера.
В книге «Народный театр» (которая появилась в конце 1903 года) Роллан ратовал за искусство, способное внушить народу сознание своей силы, заразить его энергией и волей к борьбе. Однако сам он к тому времени, когда вышла эта работа, уже несколько охладел к собственным планам преобразования театра. Он успел убедиться, что это дело несравненно более трудное, чем ему казалось ранее.
Вместе с тем Роллан в начале нового века — в кризисный, очень нелегкий период своей писательской и личной жизни — был готов с прежним упорством осуществлять то, в чем он видел свое призвание, свой нравственный, человеческий долг. Если не в области драмы, театра, то — в области художественной прозы, обращаясь не к зрителям, а к читателям.
Ведь найдутся же в конце концов читатели, которые поймут!
Еще раньше «Народного театра» — в феврале 1903 года — вышел в «Двухнедельных тетрадях» биографический очерк Ромена Роллана о Бетховене. Редакция «Тетрадей» сообщала, что в дальнейшем появятся книги того же автора о Гоше. Томасе Пейне, Микеланджело, Шиллере, Гарибальди, Мадзини, Франсуа Милле. Книжка о Бетховене была с самого начала задумана как первая работа в большой серии «Жизни великих людей», Роллан хотел тут не просто рассказать о жизненном пути своего любимого композитора, но и раскрыть перед читателями — быть может, и уяснить самому себе — свое понимание героизма.
Что значит великий человек? Что значит герой? Этот Вопрос был тогда для Роллана не столь простым и ясным, как это может показаться сегодня.
В Архиве Роллана хранится итальянская книга «Песни о Гарибальди» с авторской надписью: «Ромену Роллану, во имя культа героев, эта эпическая песнь. Г, Д’Аннунцио. Март 1901 г.». С писателем Габриеле Д’Аннунцио и его подругой, знаменитой актрисой Элеонорой Дузе, Роллан познакомился в 1899 году, не раз встречался с ними во время поездок в Швейцарию и Италию, переписывался с ними. Вероятно, надпись на книге — отголосок недавних разговоров, быть может, и споров. Габриеле Д’Аннунцио был близок по духу таким французским писателям, как певец наполеоновских войн Поль Адан или как постоянный антагонист Роллана, автор трилогии «Культ Я» Морис Баррес: презирая мещанскую посредственность, они утверждали идеал сильной личности, сверхчеловека, который стоит над толпой и которому все позволено.
Сам Роллан в юности отдал дань подобным же представлениям в «Орсино» — но, как мы помним, уже в период работы над «Святым Людовиком» и «Аэртом» внутренне отмежевался от индивидуалистов ницшеанского образца.
В начале 1902 года Роллан писал Софии Бертолини: «Когда я задумывал «Орсино», я чувствовал, что сила благодетельна — в противовес вялости и трусости современной мысли. Сегодня это лекарство кажется мне столь же опасным, как сама болезнь. В нынешней Европе, которая целиком захвачена лихорадкой империализма, колониальных захватов, военного и финансового пиратства, национализма, — не следует прославлять культ энергии. Достаточно ясно видно, какое зло причиняет такой человек, как Киплинг. Все, что способно возродить наполеоновский дух, представляется мне сегодня вредным».
В дни, когда иные талантливые писатели не только Д’Аннунцио или Баррес, но и такой действительно большой мастер стиха, как Киплинг, — своими воинственными писаниями помогали разжигать «лихорадку империализма», Роллан считал особенно важным противодействовать «наполеоновскому духу». И в этом тоже он видел одну из задач своей серии героических биографий. Осенью 1902 года, перед выходом «Жизни Бетховена», он писал Мальвиде фон Мейзенбуг: «Я задумал… серию жизней великих людей, на манер Плутарха (я, кажется, уже говорил вам об этом) — биографии героев новой истории, причем на первый план будет выдвигаться их нравственная сущность».
Предисловие к «Жизни Бетховена» — и авторская заявка, и обещание, и призыв, обращенный к читателям. «Мир погибает, задушенный своим трусливым и подлым эгоизмом. Распахнем же окна! Впустим вольный воздух! Пусть нас овеет дыханием героев». Роллан поясняет: «Я называю героями не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем», Тут же Роллан приводит слова Бетховена: «я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты»; этим он сразу прокладывает резкую грань между собственным пониманием героизма и ницшеанским культом сильной личности.
Подлинно великим людям, по глубокому убеждению Роллана, всегда приходится нелегко: они наталкиваются на препятствия, нередко встречают непонимание и враждебность, они страдают сами и близко принимают к сердцу страдания других — большинства человечества. Читать жизнеописания героев — значит укреплять в себе мужество. Бетховен хотел силой своей музыки помогать людям, ободрять страдающих, поднимать дух; он писал: «музыка должна высекать огонь из души человеческой». Роллан, биограф Бетховена, хотел добиться того же своим писательским словом.
«Жизнь Бетховена» исчезла с книжных прилавков в несколько дней, ее пришлось срочно переиздать. Это был неожиданный, необычайно радостный успех — и для Роллана и для редакции «Двухнедельных тетрадей». Шарль Пеги рассказывал об этом десять лет спустя, в своей обычной «одержимой» манере:
«Наши подписчики еще помнят, каким внезапным откровением явилась эта «Тетрадь», какое возбуждение она вызвала повсюду, как она разошлась внезапно, как волна, как подземный толчок, так сказать, мгновенно, как она стала внезапно, мгновенно, откровением в глазах всех, по внезапному согласию, по всеобщему согласию, не только началом литературной удачи Ромена Роллана и литературной удачи «Тетрадей», но и чем-то бесконечно более важным, чем начало литературной удачи, внезапным нравственным откровением, раскрывшимся, открывшимся предчувствием, взрывом, внезапным предвестием большой нравственной судьбы».
А между тем роллановская «Жизнь Бетховена» своей трактовкой героизма не только противостояла культу «сверхчеловека», но и сильно отличалась от того, что писал и думал Пеги.
В работах Пеги — даже в раннем варианте его знаменитой «Мистерии о Жанне д’Арк» — образ гения или народного героя вставал в иррационалистической дымке. Исторический прогресс, согласно мысли Пеги, осуществляется людьми способными или даже талантливыми, в их появлении, в их деятельности есть определенная закономерность, они образуют «линейную серию». Человек великий, гениальный — вне линейной серии. Он непознаваем и непостижим.
У Роллана Бетховен — гений, опередивший время, но вместе с тем и сын своего общества, своего времени. В очерке о Бетховене (как и в написанном несколько ранее очерке о Франсуа Милле) Роллан не боится, при всей эмоциональной приподнятости изложения, рисовать своего героя достоверно, опираясь на документы — с большой полнотой житейских, портретных деталей и без всякого ореола таинственности. На протяжении сжатой биографии сказано очень много о Бетховене как живой личности — о его трудном, униженном детстве, о его материальных невзгодах, о его несчастьях в любви, наконец, о постепенно нараставшей, терзавшей его глухоте. Никакого пьедестала, никакой преднамеренной романтизации: очень отчетливо передан гнет будничных горестей, которые сопутствовали всей жизни Бетховена. И тем ярче выступает перед читателем величие глухого страдальца, поднявшегося над горестями и болезнями, создавшего «Оду к радости» — на радость людям.
Роллановский Бетховен — человек своей эпохи; а решающее событие этой эпохи — Французская революция. (Роллан не мог отказать себе в удовольствии, описывая историческую обстановку, упомянуть мимоходом персонажей своего «Четырнадцатого июля», современников Бетховена — Гоша, Гюлена.) «Разразилась революция: она начала стремительно распространяться по всей Европе, она овладела и сердцем Бетховена». Дух великих народных Аотрясений живет в музыке Героической симфонии, увертюры «Кориолан», Аппассионаты. Дух этот сказался не только в гражданском, бунтарском звучании произведений Бетховена, но и в самом его взгляде на призвание искусства, в его желании творить «ради страждущего человечества», «ради человечества будущего».
С этим утверждением общественной миссии искусства, казалось — бы, не очень вяжутся слова Бетховена, которые Роллан приводит в своей книге, не раз приводил потом и в письмах: «Мое царство — там, в эфире». Впоследствии Роллан в «Жан-Кристофе» как бы перефразировал эту мысль: «Высшее искусство, единственно заслуживающее этого имени, стоит над законами и требованиями дня: оно словно комета, брошенная в беспредельность». Есть ли тут противоречие с тем, что писал столько раз сам Роллан о социальном назначении искусства? Да, противоречие есть. Но оно объяснимо.
В течение всей жизни Роллан был убежден, что труд художника, писателя, музыканта — выполнение высокого гражданского и нравственного долга перед людьми. Он не раз говорил об этом и в специальных музыковедческих работах о Генделе, Глюке, Берлиозе. Он и в книге о «демократическом Микеланджело», Франсуа Милле, сочувственно привел слова Милле о том, что долг художника — «воздействовать на людей своей мыслью и своей волей». Но вместе с тем Роллан отнюдь не желал, чтобы искусство растворялось в социальности, не считал возможным, чтобы работа мастера, творца сводилась к выполнению простых утилитарных задач. Обличая эстетство и снобизм, отстаивая народность искусства, он порой как бы спохватывался и с преувеличенной настойчивостью твердил: царство художника — не от мира сего!
После того как. «Жизнь Бетховена» была так сердечно принята публикой, Роллану хотелось продолжить начатую серию героических биографий. Но он ее не продолжил. Лишь после длительного перерыва — в 1906 году — вышла в «Двухнедельных тетрадях» его «Жизнь Микеланджело». А другие обещанные им биографии не появились вовсе. Роллан, щепетильно требовательный к себе, решил даже не публиковать на французском языке свой очерк о Милле, который вышел в Лондоне в 1902 году и показался самому автору не вполне удачным.
Читатели «Двухнедельных тетрадей», да и сам Пеги, не имели оснований сетовать на Роллана за то, что он не писал биографий: ведь он начиная с 1904 года давал в «Тетради» том за томом своего «Жан-Кристофа». Понятно, что этот грандиозный труд требовал громадного напряжения сил и не оставлял времени для работ меньшего масштаба. Но Роллан не вернулся к задуманному циклу биографий и после окончания «Жан-Кристофа», В ходе подготовки этого цикла он явно столкнулся с какими-то непредвиденными трудностями. С какими же?
В письме к американскому исследователю Рональду Уилсону Роллан отчасти ответил на этот вопрос. Ему оказалось нелегко прежде всего собрать необходимый материал: он хотел строго основываться на подлинных документах, а в некоторых случаях наследники великих людей (например, Гоша и Мадзини) не пожелали допустить его к семейным архивам. Важнее другое. Каждый избранный им герой при детальном изучении оказывался личностью более сложной, подчас менее привлекательной, чем представлялся первоначально.
Надо ли рассказывать читателям об ошибках, провалах, человеческих слабостях, которые свойственны, как правило, даже самым великим людям?
В принципе Роллан был убежден: надо. Закончив «трагическую повесть» о жизни Микеланджело, он в кратком послесловии спросил себя: «Быть может, мне следовало, подобно многим другим, показать лишь героизм героев, набросив покрывало на всю бездну снедавшей их печали?» И сам себе ответил: «Но нет! Правда превыше всего! Я не обещал своим друзьям счастья ценою лжи, любой ценой, счастья во что бы то ни стало, flt обещал им только правду, даже ценою счастья, муже» ственную правду, резцом которой изваяны бессмертные души».
Из всех намеченных Ролланом работ о великих людях его больше всего захватила история жизни Микеланджело. Вот это — сын титанической эпохи! И вместе с тем эпохи в высшей степени драматической. Острейшие социальные конфликты, раздиравшие Италию, столкновения жизнелюбивой идеологии Ренессанса с аскетически-плебейской проповедью Савонаролы — все это отозвалось в мощном, беспокойно-напряженном искусстве Микеланджело. Но ценою какого каторжного труда и какой острой душевной боли, постоянных сомнений, можно сказать, смертных мук создавалось это бессмертное искусство! И как терзали художника-гиганта обстоятельства чисто житейского порядка — вечная зависимость от сиятельных и святейших заказчиков, игра интриг в сферах высшего духовенства, да и в среде художников, а помимо того — болезни, домашние неурядицы, личное одиночество!
Роллан не скрыл от читателей того, что узнал в ходе скрупулезной исследовательской работы над биографическими документами. Но у него осталась доля неуверенности — не встревожил ли он свою публику, вместо того чтобы дать ободряющее, укрепляющее душу чтение.
Он вспомнил о работе над «Жизнью Микеланджело» в 1920 году в письме к литератору и публицисту Марселю Мартине:
«Я взялся за эту тему, надеясь найти героя, обладающего атлетическим моральным здоровьем колоссов Сикстинской капеллы, — можно сказать, флорентийского Генделя. Я был потрясен, когда увидел подлинного Микеланджело. Вначале мне просто не верилось, я говорил себе: «Да нет, не может быть, что были просто часы слабости, редкие моменты в жизни этого борца». Но по мере того, как я продвигался дальше, пропасть все углублялась. У меня голова начинала кружиться. И нельзя было отрицать существование бездны в угоду тогдашнему моему желанию — опереться на руку великого Друга. Страдание так и поднималось со страниц всех его писем и стихов, которые мне приходилось читать. Поверьте, что я буквально ходил как ошарашенный в течение тех двух лет, которые мне понадобились, чтобы изучить и воскресить эту богом проклятую душу. Ох! Мои знаменитости, мои «Великие люди» доставили мне жестокие переживания! Когда я взялся за серию, объявленную на обложке бетховенского выпуска «Тетрадей», я не подозревал, с какими причудами, с какими болезнями мне придется столкнуться. В конце концов я отказался от этого замысла, потому что нашел больше полезного (для тех, кого хотел поддержать), и даже больше здорового и подлинного героизма, у скромных и молчаливых, у «незаметных героев» — таких, как Готфрид, Шульц, Антуанетта, и даже старая мама Кристофа — а не у циклопов и полубогов. А если вернуться к Микеланджело — я написал не то, что хотелось, а то, что было надо. Он взял меня за горло и заставил передать его крик»*.
Идеальных героев не существует. Безоблачных человеческих судеб не бывает. Да, исследовать жизнь великих людей, конечно, нужно, но не для того, чтобы воздвигать памятники недосягаемым героям. Даже о самых светлых гениях человечества необходимо говорить всю правду, ничего не приукрашивая и не упрощая. Пройдут годы, и Роллан возьмется за многотомный исследовательский труд о Бетховене, чтобы раскрыть его облик более разносторонне, с большей глубиной, чем это было сделано в маленькой «Жизни Бетховена». Пока что ему больше хотелось писать о Бетховене XX века, Жан-Кристофе, прослеживая судьбу талантливой личности на фоне разнообразных типов и проблем современного общества.
Но все же Роллан еще раз оторвался от своего большого романа, чтобы подготовить биографическую работу «Жизнь Толстого».
Роллан сохранял любовь и благодарность к великому русскому писателю, несколько раз пытался — правда, безуспешно — возобновить переписку. В редакции «Двухнедельных тетрадей» он однажды увидел фотографию, привезенную кем-то из России: Толстой и Горький стояли рядом в саду Ясной Поляны. Какие мысли вызвал у Роллана этот снимок? Не позавидовал ли он втайне русскому сверстнику, незнакомому собрату, который может вот так, запросто, беседовать с автором «Войны и мира», быть гостем в его доме? Так или иначе, Роллан взял себе фотографию и повесил ее над своим рабочим столом на бульваре Монпарнас.
28 октября 1910 года Роллан был выбит из привычной жизненной колеи неожиданной бедой. Автомобиль, пронесшийся на полной скорости, сшиб его с ног. В течение нескольких недель пришлось лежать без движения, пока не срослись переломанные кости левой руки и ноги. Его перевезли на квартиру родителей, и мать ухаживала за ним.
Как только Роллан, слегка оправившись от нервного шока, смог снова читать газеты, его поразили сообщения, напечатанные на видном месте, под сенсационными заголовками: «Исчезновение Толстого», «Льва Толстого все еще не нашли», «Толстой блуждает», «Трагедия в доме Толстых»… В течение двух последних месяцев 1910 года имя Толстого не сходило со страниц мировой печати. Его внезапный и загадочный уход из Ясной Поляны, болезнь, смерть, похороны — все это широко освещалось, обсуждалось, комментировалось вкривь и вкось. Журналисты, потакая любопытству обывателей, пытались проникнуть в тайны семейной драмы Толстого. Реакционная печать даже в траурные дни не удержалась от нападок на русского «нигилиста» и «мятежника».
Первой работой, за которую взялся Роллан еще до окончательного выздоровления, был биографический очерк о Толстом, вначале задуманный как статья для «Ревю де Пари», потом разросшийся в книгу.
Одновременно с Ролланом книгу о Толстом опубликовал Андре Сюарес. Роллан продолжал дружески общаться с ним, нередко заботился об устройстве его литературных дел — например, привлек к сотрудничеству в «Двухнедельных тетрадях». Но между ними нарастали идейные расхождения, настолько серьезные, что они со временем разрушили их дружбу. Глубина этих расхождений становится очевидной, если сопоставить обе книги о Толстом.
Сюарес относился резко неприязненно к социализму и рабочему движению. В его статьях и лирико-философских эссе все более заметно сказывались настроения болезненного мистицизма, высокомерное презрение к «толпе». Толстого Сюарес любил с юных лет, но, в сущности, плохо понимал. Его книга «Живой Толстой» написана восторженно по топу, но поверхностно. Толстой в изображении Сюареса — величественная и таинственная индивидуальность, изолированная и от русской жизни и от русского народа.
Роллан подошел к своей теме необычайно серьезно. Он изучил все материалы и документы о Толстом, какие мог достать в Париже. В его книге сказались вместе с тем многолетние размышления над судьбой и мастерством дорогого ему русского писателя.
Чем объяснить, что всемирно прославленный художник, аристократ по рождению и воспитанию в последние десятилетия своей жизни резко порвал с привычными взглядами своей среды? Западные критики и журналисты терялись в догадках, ссылались на странности гения или на причуды славянской души. Роллан близко подошел к верному решению вопроса: путь Толстого неотделим от судеб России в эпоху крутого исторического перелома. Великий писатель не мог остаться равнодушным к революционному брожению, которое охватило на рубеже столетий миллионы обездоленных жителей России. «Авангарда этой грозной армии бедняков не мог не увидеть Толстой из окон своей Ясной Поляны…»
Роллан воздержался в своей книге от критики толстовства как доктрины — хотя много раз, и до и после смерти Толстого, говорил в беседах и письмах, что не согласен с его религиозным учением. Он писал потом во «Внутреннем путешествии»: «Я… из сыновней почтительности к любимому гению обошел молчанием то, что нас разделяло». Но все же оп дал попять, что всякий раз, когда «вера Толстого пытается прилепиться к его реализму», — это ведет гениального художника к противоречиям и натяжкам. Вместе с тем сила и своеобразие Толстого коренятся в его невидимых связях с трудовыми массами России. «Не только языком и приемами описания обязан Толстой народу; он обязан ему многими своими вдохновениями».
Роллан написал о Толстом, как художник о художнике, высказал немало тонких и глубоких суждений о тайнах толстовского искусства, психологическом мастерстве, пейзаже, об оригинальной структуре его романов. Накануне завершения работы над «Жан-Кристофом» Роллап особенно живо чувствовал, сколь многому он сам как романист научился у автора «Войны и мира».
Но он не считал себя — и пе был — подражателем Толстого и вообще не хотел подражать кому бы то пи было.
Десятилетия спустя, в 1939 году, Роллан ответил на вопрос одного из своих корреспондентов, Пьера Лубье: не сложился ли «Жан-Кристоф» под влиянием «Вильгельма Мейстера» Гёте? «Я, конечно же, не почерпнул замысел «романа-реки» в Германии, в «Вильгельме Мейстере», которого я оценил далеко не сразу. Если бы я хотел следовать чьему-то образцу, то я нашел бы образец у Толстого. Но на самом деле Жан-Кристоф сам властно встал передо мною — в той форме, которая от него неотделима»*.
В картинной галерее Сиены — одного из первых итальянских городов, где молодой Ромен Роллан побывал еще до приезда в Рим, — находится картина художника XV века Сано ди Пьетро «Святой Христофор». На первом плане — река, устремленная своим течением прямо на зрителя. Высокий мужчина с младенцем на плечах переходит реку. Он погружен в воду по колена. «Его громадное тело с богатырскими плечами, подобно утесу, возвышается над водой… Среди шума потока он слышит только спокойный голос младенца, который держит в своем кулачке курчавую прядь волос гиганта и повторяет: «Вперед!» Он идет вперед, спина его сгорблена, глаза устремлены на темный берег, крутые очертания которого начинают проступать вдали».
Слова, взятые здесь в кавычки, — из финала «Жан-Кристофа». В кратком аллегорическом эпилоге романа Кристоф-Христофор переносит через бурную реку младенца — Грядущий день. Возможно, что в этом эпилоге, написанном через тридцать с лишним лет после первой поездки Роллана в Италию, ожило одно из художественных впечатлений его молодости: некоторые детали тут близко совпадают с картиной Сано ди Пьетро. Впрочем, образ святого Христофора с младенцем на руках воплощается в европейском искусстве не раз; статуя этого святого стоит и в соборе Парижской Богоматери. Так или иначе — аллегорическая концовка «Жан-Кристофа» очень важна для понимания романа в целом, и сам Роллан придавал ей серьезное значение. Недаром он, печатая свое повествование в «Двухнедельных тетрадях», заканчивал каждую книгу латинским двустишием, высеченным на постаменте статуи святого Христофора в готических храмах. Эти строки стоят и перед эпилогом: «В день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью».
Герой романа, новый Бетховен, должен был родиться немцем, — это было ясно с самого начала. Роллан дал ему фамилию Крафт (то есть Сила) и некоторое время колебался в поисках подходящего имени. Оно определилось в 1903 году — в ходе работы над первой книгой: Жан-Кристоф — «крепкое, старинное имя», как писал Роллан Софии Бертолини. А потом, видимо, вспомнилось и латинское двустишие, и герой-музыкант прочно ассоциировался в сознании автора с легендарным богатырем, олицетворяющим стойкость, деятельную гуманность.
Уже в момент первоначального «откровения» на Яникульском холме герой этот рисовался Роллану прежде всего как человек со смелым, открытым взглядом, парящим «над временем». Человек, который видит и нелицеприятно судит современную Европу.

Независимый ум, находящийся в оппозиции к обществу, — это само по себе было бы не так уж ново. Западноевропейская литература разных эпох породила уже немало критически мыслящих личностей — от байроновского Чайльд-Гарольда до профессора Бержере из «Современной истории» Анатоля Франса.
Однако Жан-Кристоф — личность не только мыслящая, но и активная. Он не только видит и судит, но и — на свой лад — действует. Действует прежде всего в той сфере, которая была наиболее близка самому Роллану: в области искусства, музыки. И, подобно Роллану, он рассматривает свое искусство как служение людям.
Такого героя еще не было в мировой литературе.
Ромен Роллан сравнивал свой роман с четырехчастной симфонией: у каждой части — свой ритм и темп, свое господствующее настроение. В соответствии с этим Роллан впоследствии в окончательной редакции «Жан-Кристофа» поделил десять книг романа на четыре больших тома. Первая часть («Заря», «Утро», «Отрочество») говорит о юных годах Кристофа, передает пробуждение его чувств и личности. Напряжение постепенно нарастает, вторая часть («Бунт», «Ярмарка на площади») насыщена духом острой борьбы, — Кристоф восстает против общества. Третья часть, где вступают в действие французские друзья героя («Антуанетта», «В доме», «Подруги») спокойнее предыдущей, тут преобладает раздумье, душевная сосредоточенность, возникают темы дружбы и чистой любви. И наконец, четвертая часть («Неопалимая купина», «Грядущий день») — картина опустошительных душевных бурь, разрешающихся мирным, ясным финалом.
Такое сравнение романа с симфонией может показаться неоправданным и натянутым: литература и музыка — искусства очень несхожие, во многом даже несопоставимые, — у каждого из них свои законы. Однако Роллан много раз говорил о музыкальной природе своего творчества. К его признаниям стоит прислушаться — уже хотя бы потому, что в них отражены важные стороны его писательской личности.
«Если сказать правду, — сообщал Роллан критику Жану Боннеро в 1909 году, — я работаю таким образом. По духовному складу я музыкант, не живописец. У меня прежде всего зарождается, как туманное музыкальное впечатление, произведение в целом, потом его главные мотивы, и в особенности ритм или ритмы, определяющие не столько ход отдельной фразы, сколько чередование томов в произведении, глав в томе и абзацев в главе. Я отдаю себе отчет, что это — закон, подсказанный мне инстинктом; он подчиняет себе все, что я пишу». А в ноябре 1911 года Роллан, посылая том «Неопалимой купины» итальянскому журналисту Дж. Преццолини, предупреждал его: «Читая эту страницу симфонии, не забудьте, пожалуйста, что ее (как и другие страницы) нельзя воспринимать изолированно: она — переход от одного этапа к другому, модуляция, диссонансы которой, подготовленные предшествующими аккордами, разрешатся в последнем томе».
Родство «Жан-Кристофа» с музыкальным произведением — не только в «симфонической структуре», которой автор, как мы видим, придавал немалое значение. Это родство сказывается и в самой манере письма, взволнованной, приподнятой, местами даже близкой к стихотворной речи. Роллан иногда называл свое произведение героической песней, иногда — поэмой. Ему хотелось создать повествование необычного типа: не просто историю одной человеческой жизни или картину будней, но и нечто более значительное, масштабное.
Поэтически повышенный тон романа естествен уже потому, что в нем идет речь о мастере искусства, о судьбе сильного творческого духа. Однако «Жан-Кристоф» не только жизнеописание гениального музыканта, но и своего рода художественный синтез эпохи.
Мы помним, что XX век осознавался Ролланом как век великих потрясений и перемен. Уже этим диктовались поиски непривычного, неизбитого стиля, который помог бы передать духовные и общественные коллизии нового столетия. «В переломную эпоху, такую, как наша, — пи-сад Роллан Софии Бертолини в августе 1903 года, — действие превыше всего, и первое произведение искусства, которое надо создать, это — новый Человек». Мысль о «новом Человеке», о «настоящем Человеке» одушевляла Роллана в ходе работы, определяя общую напряженную, подчас трагедийную, но вместе с тем жизнеутверждающую тональность его большого повествования.
Роллан обижался на тех французских рецензентов, которые высказывали подозрение, будто «Жан-Кристоф» был начат наудачу, без заранее обдуманного плана. «Я принадлежу к старинной породе бургундских строителей, — гордо утверждал он в послесловии к русскому изданию 1931 года. — Никогда я не начал бы произведения, не упрочив заранее его фундамента и не определив всех его основных очертаний». Он писал об этом и еще гораздо раньше, в январе 1913 года, в письме к критику-другу, швейцарцу Полю Сейпелю. «Я точно знал, каков будет порядок и ход событий; и, когда я начал публиковать ^Зарю» (в феврале 1904 года в «Тетрадях»), мне уже было известно, что я пойду к «Ярмарке на площади» и к «Неопалимой купине». Естественно, что в пути мы с Кристофом встретили много разных лиц, друзей или врагов, которых мы заранее не предвидели, или которые заинтересовали нас больше, чем можно было предполагать; да и мир вокруг нас изменился; и мы сами тоже. Никогда мы не старались замкнуть себя в жесткие рамки; но ложе реки было уже прорыто до самого моря (перечитайте эпизод из «Зари», где маленький Кристоф мечтает на лестнице у окна). Река ни разу не отклонилась от своего русла, хотя и выходила порой из берегов»*. Любопытно и другое признание — в письме к Сейпелю от 30 декабря 1912 года: «Я старался сделать образ Кристофа как можно более живым, но он — не только индивидуальность, но и тип; я бы сказал даже символ, если бы не чувствовал отвращения к этому слову. Я не хотел создать реалистическое произведение. Я хотел, опираясь на реализм, подняться в сферы чистой мысли. Реализм — это земля, на которой можно прочно стоять. Но, как говорит Бетховен, наше царство в воздухе…»*.
Тут необходимо пояснение. Слово «реализм» в западной критике несколько десятилетий назад обычно употреблялось в гораздо более узком смысле, чем мы понимаем его сейчас. В наше время под этим термином чаще всего подразумевают искусство, которое исследует и изображает человека в его общественных связях; в этом смысле к области реализма относится, скажем, и «Шагреневая кожа» Бальзака и даже фантастические романы Уэллса, где в иносказательной форме раскрываются реальные противоречия капиталистического общества. В эпоху Роллана под термином «реализм» чаще всего понимали точное жизнеподобие, достоверность, доходящую до мельчайших деталей. Сам Роллан относился к слову «реализм» настороженно и редко им пользовался. Если он и считал себя реалистом, то — особого рода (он писал Софии Бертолини в 1904 году, что хотел бы «вернуть слову реалист его благородство и величие»). Он не стремился к дотошному воспроизведению фактов; он хотел подняться над повседневностью — и передать вместе с тем глубокий смысл эпохи, ее динамику, направление развития.
В авторском плане «Жан-Кристофа» — даже и в том первоначальном замысле, который возник в 1890 году на Яникульском холме, — имелась известная двойственность. Герой должен был «парить над временем» — и судить современную Европу. Мы чувствуем эту двойственность и в той характеристике романа, которая дана Ролланом в письме к Сейпелю: с одной стороны, повествование поднимается в сферы «чистой мысли», с другой — как бы то ни было, включает факты современной жизни, опирается на реализм!
Разные страницы, разные главы «Жан-Кристофа» и в самом деле очень неоднородны. Мы нередко видим налет отвлеченности, вневременности — там, где идет речь об интимном, творческом мире героя, а подчас и в авторских размышлениях и отступлениях. А на множестве других страниц мы находим точные приметы эпохи, бытовые и политические реалии, подлинные факты современной Роллану действительности.
В письме к Марселю Мартине от 23 марта 1920 года Роллан говорит о «Жан-Кристофе»: «Я считаю, что слова «история», «историзм», «исторический» выражают — пусть не в полной мере, но лучше, чем слово «роман», — одно из основных свойств произведения и его автора»*.
Но историзм Роллана — тоже особого рода.
Когда происходит действие «Жан-Кристофа»? В первых книгах, где преломляются эпизоды биографии Бетховена (отчасти и других великих немецких композиторов) и идет речь о гениальном ребенке, обреченном услаждать слух захолустных деспотов, местами кажется, будто мы находимся в Германии начала XIX или даже XVIII века, отсталой, полуфеодальной. Но повествование движется дальше, герой сталкивается и с социал-демократами и с кружком декадентствующей молодежи, чувствует, как нарастает в немцах дух шовинизма и агрессии, — становится очевидным, что перед нами Германия Вильгельма II. Конфликт Кристофа с немецким филистерством и мелочной тиранией властей достигает взрыва в конце четвертой книги («Бунт»); молодой музыкант, который, заступившись за честь деревенской девушки, ввязался в драку с солдатами и вынужден покинуть свою страну, попадает во Францию, — ив пятой книге («Ярмарка на площади») встает описанный с памфлетной достоверностью литературно-музыкальный Париж начала девятисотых годов. В это время Кристофу двадцать лет с небольшим. После многих драматических перипетий и скитаний Кристоф, потерявший своего лучшего друга Оливье в уличной схватке с полицией, переживший в Швейцарии мучительную страсть к замужней женщине Анне Браун, а потом нашедший чуткую, дружескую душу в итальянской аристократке Грации, достигает широкого признания как композитор, возвращается в Париж… «Кристоф не считает более убегающих лет…» Так начинается последняя книга. И автор повествования тоже их не считает. С момента первого знакомства Кристофа с парижской «ярмаркой на площади» до его смерти проходит не менее трех десятилетий, — он умирает пожилым человеком. А роман был закончен Ролланом в 1912 году. Иначе говоря, действие последней книги перенесено в будущее.
Было ли у Роллана осознанное желание заглянуть в будущее, заставить читателя задуматься над ним? Очевидно, да. И конечно, принципиально важно, что Жан-Кристоф, «настоящий Человек», выходит за рамки своего исторического времени, шагает в «грядущий день». Но писателя интересовали не частности, не детали (конечно, и не точная хронология событий), а самые главные, общие тенденции исторического развития Западной Европы в новом столетии. Он выдвигал на первый план то, что считал действительно важным: нарастающий моральный и духовный распад правящих классов, неумолимое обострение социальных противоречий, угрозу мировой войны. И вместе с тем в далекой, неясной перспективе — грядущее революционное обновление жизни. В этих главных, решающих чертах Ромен Роллан увидел свою эпоху прозорливо, реалистически верно.
Роллан настаивал на том, что не следует предъявлять к его произведению тех требований, которые предъявляют обычно к роману. «Это поэма, своего рода интеллектуальная и нравственная эпопея современной души… Это — форма искусства столь новая для Франции, что ее примут не сразу — для этого потребуется время», — писал он Софии Бертолини в 1908 году. Очень показательно, что Роллан рассматривал своего Жан-Кристофа не просто как сильную индивидуальность — музыканта, композитора, но и как тип «современной души»: мыслящего, ищущего, творческого человека, несущего в себе дух исторической ломки, присущей XX столетию.
В критике — да и в письмах, с которыми обращались к Роллану его друзья, читатели, а затем и исследователи его творчества, — много раз поднимался вопрос о реальных прототипах персонажей «Жан-Кристофа». Не является ли, например, Оливье Жаннен, человек утонченного и хрупкого душевного склада, одаренный литератор и знаток музыки, изображением самого автора? И не похожа ли Антуанетта, его преданная сестра-друг, на сестру деятеля Мадлену? И не нарисована ли Клотильда Бреаль в облике Юдифи Мангейм, избалованной и властной девушки из богатой еврейской семьи? (О том, не навеян ли образ Грации Софией Бертолини, близкие писателю лица даже и не спрашивали: это разумелось само собой). Не говорим уже о различных эпизодических фигурах, литераторах и музыкантах из пятой книги эпопеи: тут любознательные читатели особенно старательно доискивались, с кого это романист писал портреты, а быть может, и карикатуры.
В 1906 году, в самый разгар работы над повествованием, Роллан утверждал в письме к Габриелю Моно: «Жан-Кристоф» не роман «с ключом»; он стремится быть правдивым в смысле общей правды, а не в смысле анекдота; он хочет рисовать типы, а не просто индивидуальности. Неизбежно, что все написанное мною питается моим опытом и что все мои портреты содержат реальные черты, заимствованные, по большей части неосознанно, у тех или иных знакомых мне лиц; но нигде у меня нет портретов тех или иных определенных людей»*. Два года спустя Роллан в письме к музыканту Э. Варезу опровергал слухи, будто он в образе Гаслера — талантливого композитора, ставшего равнодушным музыкальным снобом, — изобразил Рихарда Штрауса. «В Гаслере, как и в любом из моих персонажей, есть черты, которые я наблюдал в жизни, у определенных лиц, но Гаслер, как и все мои персонажи, — создание моего вымысла»*.
К проблемам прототипов Роллан вернулся много лет спустя, в 1925 году, отвечая на вопросы Франса Мазере-ля, работавшего над иллюстрациями к «Жан-Кристофу». «Очень трудно назвать вам людей, которых я имел в виду в «Ярмарке на площади». Не люблю излагать такие вещи на бумаге, хоть и знаю, насколько я могу вам довериться. На самом деле я, как правило, делал из двух предметов нечто третье, собственного производства…». Лица, подобные дельцу Кону-Гамильтону, встречаются часто, — Роллан советовал художнику оглянуться вокруг себя, чтобы найти оригинал для зарисовки. В самой действительности найден и один из главных противников Жан-Кристофа, светский скептик, литературный и политический карьерист Леви-Кэр. «Люсьен Леви-Кэр сделал блистательную карьеру. Он в Парламенте, — само собой разумеется, он и социалист, и миллионер, — само собой разумеется, он и в министры выйдет, — кто его не знает? Тонкие черты, тонкие усики, голос как флейта и сам похож на флейту». Что до Оливье и Антуанетты — Роллан рекомендовал Мазерелю не искать подходящие лица в Кламси, а скорей присмотреться к старинным церковным скульптурам. «Изобразить Оливье — еще труднее и важнее, чем изобразить Антуанетту. — Ибо он — один из главных мотивов симфонии, вторая ее тема… Оливье представляет тип очень реальный и очень важный для Франции. Не ошибитесь насчет него! В некотором смысле он по облику оригинальнее Кристофа (ведь Кристоф — тип бетховенский, более известный)»*.
Казалось бы, ясно. Ни в одном из персонажей «Жан-Кристофа» нет прямого портретного сходства с реальными лицами и в основе любого или почти любого из примерно полутораста персонажей романа — реальные лица, свободно переработанные творческой фантазией автора. (Лишь в одном случае Роллан признавал непосредственное совпадение образа с прототипом: в обличье француженки-актрисы Коринны, жизнерадостной, озорной, прямодушной, он нарисовал первую исполнительницу роли Аэрта, Кору Лапарсерй.)
И все же — не так уж ясно! Присутствует ли в повествовании сам Ромен Роллан как живая личность? И каково соотношение автора и главного героя, вернее, автора и двух главных героев?
Близость Роллана и Оливье, так сказать, лежит на поверхности, она очевидна. В истории жизни Оливье наряду с вымыслом много прямых автобиографических черт. Происхождение из старинного провинциального рода сельских ремесленников, писцов и нотариусов; детство, проведенное в тихом городке, омраченное болезнями и постоянным страхом смерти; напряженная внутренняя жизнь подростка, влюбленного в поэзию и музыку, привыкшего создавать себе особый, вымышленный мир, рано ощутившего страсть к писательству; юношеский религиозный кризис и отход от католицизма; мучительные приемные экзамены в Нормальную Школу, которые удалось выдержать с великим трудом и не с первого раза; нелюбовь к педагогической работе, преподавание морали ради заработка, нелегкое начало литературной деятельности в качестве рецензента, музыкального и художественного обозревателя… Да и история женитьбы Оливье на Жаклине, их недолгое счастье и разрыв — все это очень похоже на семейную жизнь Роллана. Еще важнее, что Оливье напоминает Роллана многими чертами внутреннего, душевного облика — сдержанностью, душевной ранимостью, отвращением ко всяческой суете, мягкостью характера. «Ненавижу ненависть» — эти слова произносит Оливье, но их можно найти и в письмах Роллана.
Но все-таки главный герой, основная тема романа-симфонии не Оливье, а Жан-Кристоф! Он превосходит своего друга не только силою творческого духа, но и силою характера, прямотой суждений, душевной цельностью. И конечно, именно он наиболее дорог автору. Это сказывается и в стиле романа: речь Кристофа, его внутренние монологи иногда незаметно переходят в авторскую речь.
В письмах, отправленных разным лицам в период наиболее интенсивной работы над романом, Роллан говорил о Жан-Кристофе как о реальном человеке, который не только живет своей жизнью, независимой от воли автора, но порой и влияет на автора, наталкивает его на неожиданные решения. Перед выходом «Ярмарки на площади» Роллан писал Софии Бертолини: «Месяца через два брошусь в схватку. Жан-Кристоф втягивает меня в нее. Уверяю вас, что это вовсе не доставляет мне удовольствия. Я знаю, что в любом случае нарвусь на жестокие неприятности. Слишком уж много людей будет затронуто моими нападками, и меня наверное будут кусать в их прессе и их салонах. Я предпочел бы спокойно мечтать. Но все же надо сказать правду. Если бы я обрек себя на молчание, Жан-Кристоф бы на это не согласился; а если бы я вовсе отказался говорить правду, он расстался бы со мною навсегда. Он — властный спутник. Но уж кто избрал его в друзья, тот должен идти следом за ним до конца».
Роллан как бы поделил свою личность между Кристофом и Оливье. В образе Жан-Кристофа кристаллизовались наиболее смелые идейные и нравственные порывы автора — те, которые в его собственной жизни, быть может, и не всегда брали верх. Герой, созданный воображением художника, развивался согласно логике своего неукротимого и самобытного характера, проходил через тяжкие испытания, крутые переломы. И Роллан в июне 1911-го — работая над «Неопалимой купиной» — писал Полю Сейпелю: «Я сейчас во власти моральных кризисов моего героя. Чуть ли не каждый том причиняет мне жестокие тревоги. А этот — самый мучительный из всех. Иногда я спрашиваю себя: «А может быть, я не прав, что пишу его? Стольких людей я встревожу!» Я пробовал не писать его, отложил работу почти на год. Но я не мог не написать его. Никогда я не чувствовал так отчетливо, насколько мы не являемся хозяевами того, что создаем. Пишем то, что обязательно надо писать. Вы-то меня поймете. Вы — не литературный дилетант. Вы верующая душа. За это я вас и люблю». Полгода спустя, в январе 1912 года, Роллан, обращаясь к тому же адресату, уточняет: «Жан-Кристоф в целом — это не вся моя мысль, это мир, законченный в себе, но мир, который сам со временем перестанет существовать, дав рождение другому миру»*.
Жан-Кристоф и Оливье («сиамские близнецы», как назвал их Роллан в «Прощании с прошлым»), то и дело спорят. Кристоф резок и абсолютно беспощаден в своих суждениях, Оливье гораздо более уравновешен. Кристоф одержим жаждой действия, борьбы. Оливье замкнут в сфере мысли. Кто прав? Роллан много раз объяснял своим друзьям, читателям, корреспондентам, что нельзя принимать отдельные высказывания его героев как выражение авторских убеждений. Об этом Роллан писал, в частности, Жан-Ришару Блоку в 1913 году. Именно из споров, конфликтов между персонажами, из взаимодействия их взглядов и характеров складывается «идеологическая атмосфера» произведения. «Свою собственную мысль я не выражаю посредством формул. Я выражаю ее через живые существа, которые в своих взаимных притяжениях и отталкиваниях образуют симфонию. Ритм и аккорды во вселенной душ — вот плоскость, в которой движется моя мысль».
Мысль автора, как и его героев, именно движется, а не стоит на месте. И Жан-Кристоф и Оливье непрерывно находятся в поисках истины; в суждениях каждого из них — своя относительная правота. Кристоф импонирует читателю и самому автору своим бесстрашием в поисках и отстаивании правды. В содружестве с Оливье он — старший, ведущий. Он учит Оливье — но, в свою очередь, и учится у него. Именно Оливье раскрывает перед немецким музыкантом, возмущенным низостью нравов парижской «ярмарки», подлинную, глубинную Францию и ее богатое духовное наследие, вводит его в круг тех французов, которые мыслят и трудятся. Но вместе с тем Оливье, заражаясь мало-помалу мятежным пылом Кристофа, начинает тяготиться своим интеллектуальным затворничеством, выходит на арену социального действия…
Есть все основания доверять свидетельствам Роллана, что он заранее точно наметил план своего громадного повествования и даже написал, еще перед выходом первой книги, ряд эпизодов последующих книг. Но все же очевидно, что жизнь то и дело вносила поправки в первоначальный авторский замысел, обогащала его.
Действие «Жан-Кристофа» протекает в четырех странах: Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Европейский масштаб романа-эпопеи был задан с самого начала; уже это придавало повествованию Роллана отпечаток дерзости, новизны, — литература XIX века почти не знала романов, где действие так свободно перебрасывалось бы из страны в страну. Сама эта широта замысла намного усложняла задачи автора. Роллан неоднократно, чаще всего во время учебных каникул, ездил за границу, уточнял, освежал в своей памяти облик тех мест, где предстояло побывать его герою. Он старался выяснить у своих зарубежных корреспондентов различные подробности, касающиеся их стран (в частности, вел обстоятельную переписку с начинающей немецкой писательницей Эльзой Вольф, которая помогала ему ближе освоиться с бытом и литературой Германии). Все это укрепляло жизненную, фактическую основу повествования о Жан-Кристофе.
Творческий путь музыканта развертывается во взаимодействии с обществом, в столкновении с буржуазным, мещанским миром, — это тоже было задумано с самого начала. Но сама картина общества, в котором живет и действует Кристоф, становилась по мере работы над романом все более сложной и пестрой, и это выдвигало перед Ролланом непредвиденно трудные вопросы.
Сколь бы ни была монотонной в эти годы жизнь писателя — отшельника и домоседа, замкнутого в течение долгих учебных месяцев на узком пространстве, между клетушкой на бульваре Монпарнас и аудиториями Сорбонны, — он необычайно чутко реагировал на то, что происходило в окружающем большом мире.
Письма Роллана говорят о большой остроте его общественно-политических интересов даже и в то время, когда он, казалось бы, был далек от политики и всецело погружен в проблемы искусства. Проблема революции неотступно стояла перед ним и после того, как он отложил в сторону неоконченный цикл «Драм революции».
«В наше время, — писал Роллан Софии Бертолини в апреле 1904 года, вскоре после выхода первой книги «Жан-Кристофа», — большие человеческие потоки значительнее и сильнее, чем отдельные личности. Под оболочкой видимого хаоса чувствуются мощные движения народов и классов, подобные движениям планетных миров». Итогом этих движений, полагал Роллан, будет — после многих потрясений и кризисов — создание «Социалистической Федерации Европы».
Роллана глубоко взволновала русская революция 1905 года. Он писал Софии Бертолини 29 декабря: «Я со страстной заинтересованностью слежу за событиями в России. То, что происходит в Москве, — одно из величайших явлений в истории. Какая сила народной революции в самом сердце старой России, которая, казалось, спит непробудным сном! Она оставила позади Парижскую Коммуну. Такого, наверное, еще мир не видел, — целую неделю идет борьба бесчисленного, но недостаточно вооруженного народа против войск, которые обстреливают его из пушек и не могут взять город в свои руки, не разрушая его. Не пройдет и десяти лет, как в Европе совершится революция: в России, Германии и Франции, наверное, одновременно…»
В свете этой перспективы международных революционных боев Роллан оценивал классовые бои частного, местного значения, происходившие в его собственной стране. В марте — апреле 1909 года, готовясь к работе над книгой «Подруги» — наиболее камерной, наименее связанной с политикой частью «Жан-Кристофа», — романист живо отозвался на забастовку почтовых служащих.
«Дорогой друг, — писал он Эльзе Вольф, — дойдет ли это письмо? Сколь ни неудобна для меня лично забастовка почтовиков и нарушение моей эпистолярной жизни (а для меня это — добрая часть моей жизни в целом), не скрою от вас, что мои симпатии на стороне бастующих. Прежде всего я всегда за трудящихся, против политиканов и бездельников. А помимо этого я считаю, что в данном случае почтовики правы». К этой теме Роллан возвращается и в следующем письме: «Вы должны понять, что рабочие профсоюзы и Всеобщая конфедерация труда борются не только ради того, чтобы по крохам вырвать у нынешнего государства те или иные льготы, но и ради того, чтобы завоевать государственную власть и преобразовать республиканскую конституцию в более живом и демократическом духе, в пользу организаций трудящихся — против парламентской, узкобуржуазной республики. Именно это меня и занимает, и хоть мне лично, быть может, и придется худо в обстановке кризиса, все мое сочувствие на стороне профсоюзов. Я всегда и всюду буду с организованными и сознательными трудящимися — против их антагонистов: ибо где труд, там и жизнь».
В мае 1909 года Роллан поделился с Эльзой Вольф размышлениями по поводу исхода этой забастовки: «Я вижу, вы не хотите простить почтовиков. И я тоже, По разным причинам. Вы находите непростительным, что они бастовали, а я — что они сдались. Вот горемыки! Я их понимаю: они, в сущности, захудалые буржуа, привыкшие к домашнему уюту, как все чиновники: угроза революции их страшит: что они будут делать, разнесчастные, если у них отнимут стулья с кожаным сиденьем? У них не хватит сил найти себе иное место в жизни. Значит, придется рабочим совершить революцию одним, и, видимо, в недалеком будущем. Тем хуже для них и тем хуже для нас! Ибо великое общественное движение, которое готовится в настоящее время, нуждается в объединенных силах всех трудящихся, чтобы не выродиться в кровавую и бесплодную классовую войну. Но пусть будет то, что должно быть; нам надо постараться это понять и, если нужно, переделать самих себя. Неужели вы думаете, дорогой друг, что можно «законным способом» преобразовать правительства, которые отжили свой век? Когда система законов обнаруживает свою несостоятельность и когда люди, стоящие у власти, отказываются ее изменить, что же остается делать? Сломать — и законы, и власть… Я ненавижу грубую силу; Но чтобы добро восторжествовало на практике, сила необходима; она, как говорил Наполеон, условие всех добродетелей; она прежде всего условие прогресса. Нельзя сделать ни шага вперед без того, чтобы выиграть ожесточенное сражение со всякого рода эгоизмами и частными интересами, пустившими глубокие корни. Конечно, при этом поднимается много пыли и дыма, и я понимаю, что мечтателей это смущает — ведь в наше время не осталось монастырей, куда можно спрятаться. Но нужно устроиться так, чтобы пыль и дым, уносимые ветром, попали в глаза наших противников, а не в наши: ведь и это тоже — часть военного искусства».
Политика вторгалась в сознание писателя — и расширяла рамки повествования о музыканте. Советский исследователь В. Балахонов, внимательно изучивший в Архиве Роллана рукописи «Жан-Кристофа», различные черновые варианты и редакции, пришел к выводу: роман но мере работы автора над ним все теснее сближался с современной эпохой. И это на самом деле так, мы это можем проследить и по письмам. Конкретные факты жизни Франции — и не только Франции — вставали перед Ролланом, тревожили или радовали его, прямо или косвенно отражались на страницах «Жан-Кристофа». Музыкальный роман перерастал в роман социальный.
Но вместе с тем Роллану далеко не полностью удалось овладеть сложнейшим материалом европейской общественной действительности начала XX века. Больше того: чем чаще, глубже, взволнованнее задумывался он над происходившей вокруг него политической борьбой, тем яснее ему становилось, как слабо он, в сущности, в ней разбирается. Именно это побудило его отказаться от намеченной книги «Жан-Кристофа», где композитор-бунтарь должен был оказаться в кругу революционеров.
В этой ненаписанной книге, сохранившейся лишь в виде черновых набросков, у Жан-Кристофа появляется новый друг — молодой итальянец, человек мятежной души, совершивший политическое убийство (в основе этого образа, по всей вероятности, реальная личность, сильно занимавшая Роллана еще на исходе прошлого века, — молодой рабочий Казерио, который в 1894 году убил президента Сади Карно). Кристоф, подозреваемый в сообщничестве с террористами, покидает Францию, живет то в Швейцарии, то в Англии; он встречается в Лондоне с видным революционным деятелем, который духовным обликом напоминает Мадзини. Вокруг этого человека группируются изгнанники-заговорщики; он руководит организацией восстаний в разных странах. Кристоф втягивается в революционную борьбу, подвергается преследованиям, бежит в Швейцарию. За этим следует драматический эпизод его личной жизни, описанный в «Неопалимой купине».
Пересказывая содержимое этого неосуществленного тома, В, Балахонов замечает; «В нем причудливо пере-слетаются сведения о революциях и революционных деятелях, почерпнутые из книг, в частности мемуаров Р. Вагнера, записок П. Кропоткина, из воспоминаний М. фон Мейзенбуг, и реальные явления французской социальной и политической жизни (террористические акты анархистов и т. п.). Роллан сам чувствовал шаткость своих построений и понимал, сколь недостаточно его знание материала»[4].
Шаткость построений чувствуется и в окончательном тексте девятой книги «Жан-Кристофа» — «Неопалимая купина», там, где идет речь о попытках Кристофа и Оливье найти контакт с французским рабочим движением.
Оба друга не могут быть равнодушны к страданиям трудящихся и эксплуатируемых, оба они понимают, насколько законно стремление рабочих к социальной справедливости, к достойной человека жизни. Но оба они видят во французском пролетариате по преимуществу грубую и невежественную массу, а в его лидерах — честолюбцев, карьеристов.
Роллан видел реальные слабости французского рабочего движения накануне первой мировой войны: разобщенность различных фракций и групп, оппортунизм одних, анархическое фразерство других. Однако эти слабости отчасти затемнили в его глазах действительную историческую роль пролетариата. Те верные мысли о необходимости, исторической справедливости борьбы за социализм, которые мы находим в письмах Роллана, не воплотились в образной системе «Жан-Кристофа». Насколько точными и меткими были картины литературно-артистического Парижа в «Ярмарке на площади» — настолько приблизительно, местами торопливо-поверхностно обрисована рабочая среда в «Неопалимой купине».
После первомайской демонстрации, столкновения с полицией, гибели Оливье Жан-Кристоф отходит от политической жизни, — навсегда. В последней книге мы видим его постаревшим и утратившим свой мятежный пыл. Больше того, теперь он со спокойной иронией, без видимого гнева прислушивается к речам молодых французов, у которых жажда действия выливается в яростный национализм и милитаристский культ Энергии.
Такой поворот в духовном развитии Кристофа может показаться неожиданным и странным. Но для Роллана в этом была своя логика.
В сознании Роллана — по крайней мере на первых порах работы над романом — непримиримый мятежник Жан-Кристоф связывался не только с создателем Девятой симфонии, но и с тем французским современником, который, казалось бы, в максимальной степени воплощал в себе дух моральной непреклонности, стойкости, искания правды, — с Шарлем Пеги.
Впоследствии Роллан вспоминал об этом периоде в истории французской интеллигенции: «Стоическая, бескорыстная любовь к правде и чистоте опьяняла, жгла своим белым пламенем лучших людей Франции, носивших на себе печать Бетховена и «Воскресения». «Двухнедельные тетради» бесстрашно призывали идти в атаку против лжи политики и преступлений цивилизации… Изо всех сил трубили Жан-Кристоф и Пеги о мистике Действия, о героической религии Жизни-Жертвы и самопожертвовании ради веры, какою бы она ни была».
В 1905 году — в момент, когда начали резко обостряться отношения Франции и Германии, — Пеги, как мы помним, повернул к национализму, опубликовал памфлет «Наша родина». Этот поворот вправо стал еще более очевидным в 1910 году, в его книге «Наша молодежь». Былой социалист и дрейфусар превратился в глашатая войны.
Личная независимость, честность, бескорыстие — таковы качества, которые Роллан особенно высоко ценил в Пеги. Таким — по свидетельству многих современников — и был Пеги на самом деле, таким он остался до смертного часа. Но личная честность, личное бескорыстие не предохранили Пеги от глубоких политических заблуждений. Более того, идея самопожертвования ради веры, какою бы она ни была, оказалась идеей коварной, таящей возможность перехода на реакционные позиции.
Когда-то Роллан восхищался тем, что Пеги хочет «обуздать социализм в духе индивидуализма». Теперь Роллан на примере Пеги убедился в том, насколько неустойчиво отвлеченное индивидуалистическое бунтарство (над этим уроком он еще будет немало размышлять в последующие годы). Бунт Кристофа при всей его искренности непрочен: это показано в романе правдиво.
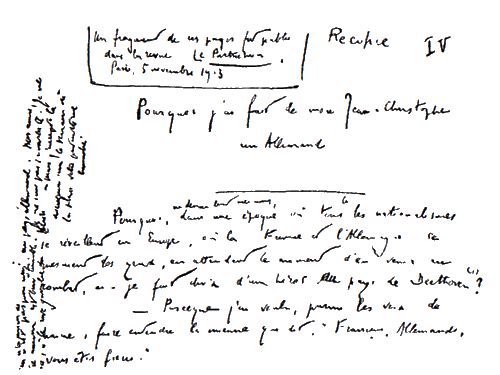
Однако политическое кредо старого Кристофа — сколь бы оно ни было туманным — отнюдь не совпадает с воинственным национализмом его молодых друзей. Обращаясь в мыслях от лица французского народа, с которым он сжился, к своим былым соотечественникам, немцам, Кристоф утверждает: «Мы два крыла Запада. Кто подбивает одно, нарушает полет другого. Пусть грянет война! Она не разомкнет пожатия наших рук, не остановит взлета нашего братского гения».
Ни Роллан, ни его герой не отказываются от убеждения, что перед человечеством стоит задача — «переделать мир во всей его совокупности». Так и говорится в предисловии к последней книге. Автор обращается к молодежи с призывом: идти вперед, дальше, совершить то, что не смогли сделать отцы. С мыслью о будущем, с устремленностью в будущее заканчивал Роллан свою эпопею.
Вскоре после завершения своей работы — в начале 1913 года — Роллан обратился с письмом к критику Совбуа, автору одной из первых серьезных статей о «Жан-Кристофе».
«Вы затронули те глубинные пласты произведения, которых критика до сих пор не касалась: то, что связует жизнь героя с жизнью земли, с таинственными силами, которые движут вселенной». «…Говорят, надвигается Эра Драмы? Нет, надвигается нечто более значительное: Эра Эпопеи, новых мифов, нового человечества, которое создаст себе новых богов. За последние полвека наш духовный мир преобразился больше, чем за предшествующие двадцать веков; меняются основы науки и верований: головокружительные открытия современной физики и химии колеблют представления, на основе которых люди жили прежде, сдвигают ось мира, и получат в истории человечества гораздо более глубокий резонанс, нежели ссоры политических партий и наций… Мы вступили в героический век».
Здесь — как это нередко бывает у Роллана — смелые и глубокие мысли перемешаны с представлениями отвлеченными и ложными. Восхищаясь успехами точных наук, Роллан подчас склонен был недооценивать значение социальных, политических конфликтов в жизни человечества. Он мудро определял новый век как век «героический», но временами переводил свои размышления о великих перспективах столетия в отвлеченный космический план. С этим связана особая политическая атмосфера последних глав и страниц романа-эпопеи, — умирающий Кристоф как бы вливается в бесконечный Океан вечно движущегося человечества.
Если социальная, философская проблематика «Жан-Кристофа» к концу повествования расплывается, размывается во вселенской безбрежности, то «Жан-Кристоф» как роман о судьбах мастера искусства, о музыкальном творчестве стоит на почве реальной жизни от начала и до конца. Здесь Роллан чувствовал себя наиболее уверенно, здесь он мог предоставить своему герою широчайшее поле деятельности.
В своих социальных исканиях Кристоф не достигает успеха, — но в сфере музыки остается победителем. Он не склонил головы перед снобами и торгашами «ярмарки на площади», он завоевал для своего новаторского искусства широкий круг слушателей и друзей. Он знает, что и после его смерти его музыка будет приносить людям радость — «высекать огонь из души человеческой», как сказал бы Бетховен.
Роллану удалось показать сам процесс внутренней, невидимой творческой работы композитора с такой художественной наглядностью, как это не сделал в мировой литературе никто до него. Кристоф облекает в звуки разнообразные впечатления живого бытия. Он прислушивается к звону колоколов, пению птиц, гудению пчелиного роя, к шумам повседневной жизни. Он находит «музыкальную пищу» в интонациях человеческой речи, ритме движений, гармонии улыбок. Одиночеству человека в эгоистическом мире Жан-Кристоф противопоставляет счастье человеческого общения, солидарности, братства. Творчество немыслимо для него вне постоянного контакта с людьми — теми, для кого и во имя кого он пишет. Именно в созидательной энергии Жан-Кристофа, в его непрерывной радостной самоотдаче, готовности жить и работать для других, для людей, в его упрямом сопротивлении силам стяжательства и буржуазного распада наиболее отчетливо сказывается связь произведения Ромена Роллана с героическим духом века двадцатого.
Роллан на многих страницах своего большого романа передал то состояние духовного подъема, которое испытывает мастер искусства в минуты успешной работы. Он сам, работая над романом, не раз испытывал такое состояние. Об этом есть прямые свидетельства в его письмах и дневниках.
Осенью 1919 года, когда у Роллана вспыхнул туберкулезный процесс, он вспомнил — и записал в дневнике, — как он тяжело болел еще в начале века, в тяжелые дни после развода, и как творческая работа помогла ему встать на ноги. «У меня и в последующие годы были серьезные приступы болезни, — тогда ее называли бронхитом, катаром, а это был туберкулез, который иногда обострялся. Чем я тогда лечился? Ничем — разве только смазывал себя йодом. Я проводил целые дни, целые вечера до полуночи взаперти, склонившись над столом в моей крошечной квартирке на бульваре Монпарнас, где я мог достать рукой потолок. По ночам я часами задыхался от неукротимого кашля…» «И тем не менее я выжил. Десять лет подряд я работал, как каторжный, — занимался каждый день тремя разными делами. Именно работа и спасла меня. Жан-Кристоф был моим врачом. Я написал его целиком за эти годы, а также и биографии, статьи о музыкантах и т. д. — Вот почему я и теперь, находясь в состоянии кризиса, знаю, что моя судьба зависит прежде всего от моей внутренней жизненной силы…»
Летом 1906 года, находясь в Германии и работая над книгой «Бунт», Роллан писал в дневнике:
«В течение пяти недель я почти ни с кем не разговаривал, я питаюсь кое-как, я плохо сплю, устаю, я редко разрешаю себе работать вольготно и без спешки; и при всем том я испытываю совершенную радость. Я не знаю, хорошо ли у меня получается; может быть, и нет; но я счастлив, что могу свободно быть самим собой и что достиг зрелости; все, что мне хочется, я делаю без усилий; плод сам отделяется от дерева у меня в руке; и все, что я вижу, все, что я слышу, все, что живет и трепещет вокруг меня, оставляет во мне следы. Все зародыши жизни, которые доносятся до меня ветром, я с удовольствием принимаю, и они растут дальше во мне. Боже! Как жизнь прекрасна!»
Начиная работу над восьмой книгой — «Подруги», Роллан снова испытывал необычайный прилив творческих сил, — и писал Софии Бертолини 26 апреля 1909 года: «Я погрузился в новый том по шею. Словно плаваю в полноводной реке. Не знаю, что это со мной происходит. Жизнь приливает, персонажи сами ко мне прибегают со всех сторон. Меня прямо захлестывает. Это очень счастливое состояние».
Разумеется, Роллана очень ободряло и поддерживало то, что «Жан-Кристоф», начиная с первых книг, находил дружеский прием у публики.
Необычность замысла, психологическая глубина, а главное, высокий нравственный строй романа-эпопеи — все это привлекало интеллигенцию, особенно молодежь, во Франции и за ее пределами. «Жан-Кристоф» побуждал читателей задуматься над собственной жизнью и своим человеческим назначением, давал моральную опору для противостояния эгоистическим, собственническим нравам. Друзей «Жан-Кристофа» становилось все больше. Они охотно прощали Роллану длинноты и погрешности стиля: одних увлекал драматизм судьбы героев, других — взволнованные авторские размышления о смысле эпохи, о судьбах современной Европы.
Критика приняла роман не сразу. У «Жан-Кристофа» были и остались противники среди лиц, имеющих вес в литературном, журналистском мире (например, Поль Судэ, обозреватель газеты «Тан», отзывался на выход каждого тома высокомерно-неприязненной статьей). Отклики во французской печати были, особенно вначале, очень разноречивы и не столь уж многочисленны. Но зато приходили читательские письма — взволнованные, благодарные. Выпуски «Двухнедельных тетрадей» с главами «Жан-Кристофа» расходились быстро, к большой радости Шарля Пеги и его сотрудников.
Зимой 1904/05 года издательство Оллендорф повело с Ролланом переговоры о приобретении авторских прав на «Жан-Кристофа». Пеги попытался было протестовать: он считал, что произведения, которые он печатает в «Двухнедельных тетрадях» (не платя гонорара авторам), должны оставаться исключительной собственностью журнала. Возникший было спор скоро уладился. Роллан продолжал предоставлять рукописи новых книг «Жан-Кристофа» в редакцию «Тетрадей», а издательство Оллендорф выпускало роман том за томом вслед за журнальной публикацией. «Я был этим весьма доволен, — писал впоследствии Роллан. — Наконец-то! Мое «сочинительство» начало меня кормить. Давно пора! Мне тогда было уже тридцать девять лет…»
Новым свидетельством успеха неоконченного романа была премия «Счастливой жизни», присужденная Роллану в 1905 году. (Эта литературная премия, в жюри которой входят только женщины, существует и в современной Франции, — теперь она называется «Фемина».)
Пора бедности и непризнанности кончилась. Роллан иногда с грустной усмешкой вспоминал, как горевала когда-то Клотильда по поводу его писательских невзгод. Под конец их совместной жизни она вовсе перестала верить, что он, с его болезненно независимым характером, с его несветскостью и неуживчивой гордостью, может чего-либо добиться в литературе. Как она оказалась не права! «Жан-Кристоф» завоевал симпатии читателей в немалой степени именно тем, что они угадывали в вымышленной истории музыканта отражение несгибаемой, непокорной личности автора. А теперь Роллану было не с кем разделить радость успеха. Разве только с матерью, сестрой или с друзьями-корреспондентами.
В августе 1908 года Роллан писал Эльзе Вольф: «Я сам не знаю, как это получилось, — сейчас поднимается волна симпатии к моим книгам. В течение последних месяцев в Италии, и особенно во Флоренции, идет целый поток похвал «Жан-Кристофу». За две недели появилась целая куча статей в итальянских газетах и журналах — все очень подробные, и написаны с чисто южным пылом. То же — в Англии и Швейцарии. Во Франции все это сказывается не так сильно, особенно в литературном мире (хотя и там в последнее время находятся у меня необычайно горячие сторонники); что до публики, то я с удивлением убеждаюсь, что известен почти повсюду. Это пришло как-то вдруг, без шума, почти без причины. Сам не пойму, что это такое».
Особой радостью для Роллана было, когда он встречал музыкантов, близких по духу и ему самому и его герою. Молодой композитор-самоучка Поль Дюпен, которого Роллан поддержал в его трудных творческих дебютах, написал два квартета на мотивы «Жан-Кристофа», — они были исполнены в Париже и хорошо приняты публикой. В начале 1909 года к Роллану обратился за советом и помощью другой одаренный композитор, Эдгар Варез. Рассказывая об этом Софии Бертолини, Роллан замечал: «Жан-Кристоф» привлекает к себе братьев, которые борются во всем мире… Вот что самое забавное в моей встрече с этим Варезом: он сейчас пишет «Гаргантюа» (симфоническую поэму). А в это же время и мой Жан-Кристоф пишет такую же вещь. Скажите после этого, что моя книга «роман»! Моя книга не роман. Жан-Кристоф существует на самом деле. Он повсюду вокруг нас. Я только рассказываю то, что есть на самом деле. Я ничего не выдумываю».
В других письмах к Софии Бертолини Роллан сообщал о новых откликах на его произведение. «Кристоф» скоро появится на английском языке, — писал он в апреле 1910 года. — Так как на испанский он уже переведен, то он, значит, проникнет и в Новый Свет. Рассказывал ли я вам уже, что он нашел самых пламенных почитателей среди вулканических чилийцев и среди негров в Гаване? (Это мой издатель мне сказал.) Любопытно, как они представляют себе Кристофа: наверное, в облике негра». А в июне того же года Роллан сообщал: «Кажется, мой последний том идет очень неплохо, и я вижу, что «Жан-Кристоф» приобрел много друзей также и в северных странах, в Польше, в России. Я получаю чудесные письма отовсюду. Одни благодарят, другие — поверяют мне свои тайны. Пишут мне всяческие люди: молодые женщины, 17-летний школьник, который делится своими горестями и напоминает мне мою собственную душу в 17 лет, молодой офицер, который тяготится своей средой, вынужденной бездеятельностью и нетерпеливо грызет удила, старые дамы (это не так уж весело), молодые литераторы, которые ссылаются на Кристофа, стремясь противопоставить «ярмарке на площади» — подлинную Францию. Я и сказать вам не могу, Какое удовольствие мне доставляют некоторые из этих писем. Я чувствую, что жизнь моя, значит, не прошла даром и что я написал то, что надо было написать».
В начале 1910 года Роллан получил орден Почетного легиона. Это вызвало новую лавину дружеских читательских посланий. При этом Роллана немало позабавило, что среди первых горячих поздравителей оказались некоторые влиятельные лица парижского артистического и журналистского мира, — по сути дела, именно те, кого он заклеймил в пятой книге своего романа. Автор «Жан-Кристофа» мог чувствовать гордость: подобно своему герою, он не подчинился парижской «ярмарке», не захотел даже скрыть своей неприязни к ней — и заставил ее склониться перед ним.
Однако его противники вовсе не сложили оружия. В 1913 году, вскоре после выхода последней книги «Жан-Кристофа», во Французской академии разгорелись жаркие споры в связи с кандидатурой Роллана на Большую премию. Писатели консервативно-националистического толка во главе с Бурже и Барресом яростно сопротивлялись награждению Роллана. Но его приверженцы (среди которых самым активным был старый доброжелатель, редактор «Ревю де Пари», историк Лависс) все же одержали верх. Большая премия Французской академии была присвоена писателю, абсолютно чуждому духу «академизма», предельно равнодушному к разного рода официальным почестям.
Одному из неизвестных читателей, выразивших радость по поводу этого награждения, Роллан написал 28 июня 1913 года:
«Спасибо, мосье. Жан-Кристоф не менее вас удивлен своим академическим успехом. Он весело посмеивается и говорит мне: «Вот и доказательство, что я умер!»
Но так как я не умер, то постараюсь подарить ему новых братьев.
С сердечным приветом — Ромен Роллан»*.
У каждой медали — говорят французы — есть своя оборотная сторона.
Слава. Это значило: назойливое любопытство журналистов, идиотские пересуды в прессе. Это значило: вереница непрошеных визитеров, в том числе и предприимчивых почитательниц, искавших встречи с «дорогим мэтром». Это значило: ежедневная груда почты на столе, бесчисленные приглашения и просьбы, рукописи и книги, присылаемые для просмотра, настойчивые предложения редакций и издательств. Это значило: полная невозможность работать дома спокойно.
Но слава — это вместе с тем и значило: поток добрых писем от читателей, знакомых или незнакомых, но, так или иначе, в немалой своей части искренних, благодарных, понимающих. Это значило — все более прочное сознание важности, ценности выполненной работы. И это значило вместе с тем возможность некоторое время не думать о хлебе насущном, уверенность в завтрашнем дне, досуг, необходимый для дальних поездок, для размышлений, для общения с близкими по духу людьми.
После длительных колебаний Ромен Роллан летом 1912 года окончательно отказался от профессорской кафедры в Сорбонне. Конечно, было жаль терять контакт с молодой любознательной аудиторией, но что поделаешь? Пусть те, кто хочет знать его мысли, читают его книги! Фактически он прекратил преподавание еще за полтора года до официальной отставки. После автомобильной катастрофы осенью 1910 году ему пришлось взять длительный отпуск для лечения, — это ускорило его работу и над биографией Толстого и над последними томами «Жан-Кристофа».
С молодых лет Роллана влекло к новым впечатлениям и странам. С Бельгией, Голландией, Швейцарией он познакомился, еще будучи юношей. В Италии, Германии, Австрии он бывал не раз. В 1906 году он совершил поездку в Англию (тогда он еще не отказался от мысли ввести Жан-Кристофа в вымышленный центр заговорщиков в Лондоне); в 1907 году побывал в Испании.
Теперь Роллан, освободившись от оков университетского учебного плана, мог ехать когда угодно и куда угодно. Во многих странах, где ему еще ни разу не доводилось бывать, его бы встретили с великой радостью читатели, переводчики, издатели, комментаторы его произведений. Семья Л. Н. Толстого звала Роллана в Россию, — ему и самому хотелось бы побывать в Москве и Ясной Поляне, но смущала дальность такой поездки, ее физические тяготы, и он откладывал ее на лучшие времена, когда удастся поправить здоровье. Вольготнее всего Роллан себя чувствовал в Швейцарии, среди гор, в тихих уголках, вдали от космополитической светской публики и шумной толпы туристов. Там ему легко дышалось и хорошо работалось.
Немало времени проводил он и в Париже, в своей квартирке на бульваре Монпарнас, заваленной нотами и книгами. И тесно там было, и неудобно — а долго не хотелось расставаться с привычным жильем, где столько было и передумано, и пережито, и написано (только в начале 1914 года он переехал в более просторное помещение на улице Буассоннад). Прежде, в годы работы над «Жан-Кристофом», Роллан старался поменьше отвлекаться и бывать на людях. К столичной «ярмарке» он и теперь относился с прежней непримиримостью и не давал себя затягивать в водоворот литературной суеты. Однако он не мог быть равнодушен к судьбе собственных произведений, перечитывал их заново для повторных изданий, следил за их выходом: иногда это требовало его присутствия в столице. А помимо того, ему бывало приятно воспользоваться своим возросшим влиянием в литературном и музыкальном мире для доброго дела, чтобы помочь одаренным молодым людям, продвинуть книгу начинающего автора или сочинения способного малоизвестного композитора. Посетителей такого рода он встречал приветливо.
За годы созидания «Жан-Кристофа» Роллан постепенно пересматривал отношение к некоторым прежним близким товарищам. Он мало-помалу отдалялся от «Двухнедельных тетрадей» — все труднее было находить общий язык с Пеги из-за его националистической одержимости и тем более с Сюаресом — из-за его болезненного эгоцентризма.
А вместе с тем в течение этих лет все расширялся круг друзей, почитателей, корреспондентов Роллана и за рубежом и в самой Франции.
Молодой австрийский прозаик и критик Стефан Цвейг отозвался на выход «Жан-Кристофа» восторженной статьей в газете «Берлинер тагеблатт»; он приехал в Париж, появился на бульваре Монпарнас, — так было положено начало многолетней дружбе двух писателей-гуманистов. Стефан Цвейг отлично говорил и писал по-французски, он был, подобно Роллану, человеком разносторонней культуры, влюбленным в музыку, живопись. В «Жан-Кристофе» его захватило утверждение могучего творческого духа, противостоящего варварству буржуазного, мещанского мира. Однако Цвейг по натуре и привычкам был человеком артистической «элиты»: демократические, бунтарские начала, заложенные в сознании и творчестве Роллана, ему были в значительной мере чужды. Между ними нередко вставали разногласия — у нас еще будут поводы убедиться в этом; но их духовный контакт, по большей части заочный, не ослабевал на протяжении почти трех десятилетий, пока их не разъединили вторая мировая война и трагическая смерть Цвейга в 1942 году.
Еще за несколько лет до окончания работы над «Жан-Кристофом» завязалось общение Роллана с замечательным бельгийским поэтом Эмилем Верхарном. Стихи Вер-харна — как и поэзия его американского учителя и предшественника, «океанического» Уолта Уитмена — привлекали Роллана масштабностью, романтикой открытых просторов, ощущением неразрывной связи личности с народом, с человечеством в его историческом поступательном движении. Роллан был тронут, когда Верхарн написал ему, что учится по его героическим биографиям «быть сильным». Получив в 1907 году от бельгийского поэта его сборник «Многообразное сияние», Роллан сердечно ему ответил: «Спасибо за вашу превосходную книгу. Она обновила воздух в моих легких. Подобно ветру, который вы прославили в гимне, знакомом и полюбившемся мне, — ваша книга принесла с собой вольное дыхание мира, над которым она промчалась. Я не раз к ней вернусь, чтобы очиститься от спертого воздуха, которым поневоле приходится дышать в парижской литературе…»*
В личности Роллана было нечто такое, что могло привлекать к нему симпатии людей, абсолютно между собою несхожих. Он умел выслушивать, входить в круг интересов разнообразных своих собеседников, если находил в них то, что достойно внимания. У него бывали в Париже и подолгу с ним разговаривали и Райнер Мария Рильке — крупный австрийский поэт, тонкий лирик, человек хрупкой и уязвимой души; и Эптон Синклер, завоевавший своими «Джунглями» громкую славу как дерзкий «разгребатель грязи», обличитель нравов капиталистической Америки.
Незадолго до начала первой мировой войны у Роллана установился заочный контакт с Гербертом Уэллсом. Знаменитый писатель-фантаст высоко оценил «Жан-Кристофа», как образец «свободного романа в новом духе». Роллан поделился радостью с Софией Бертолини (28 июня 1911 года): «Случайно мне попался на глаза литературный манифест, с которым выступил весьма известный английский романист Уэллс от имени новой школы английского романа (Арнольд Беннет, Конрад, Голсуорси, Форстер). Он объявляет войну концепциям искусства для искусства и искусства для забавы: он отстаивает право и долг искусства вообще, и романа в частности, обращаться не только к сердцу, но и к мысли, занимать свою позицию по главным проблемам эпохи, разоблачать ложь, — и пробуждать Англию, уснувшую в лицемерном и блаженном самодовольстве. И я с радостным изумлением вижу, что он приписывает мне решающее влияние на новую английскую школу именно в этом смысле…» И Роллан не без горечи добавлял: «Вот так за границей встречаешь больший отклик и симпатию, чем у себя дома. В Англии я, оказывается, глава школы, а парижские литераторы меня замалчивают. Как забавно!» А Герберту Уэллсу Роллан написал: «Я рад чувствовать, что мы вместе участвуем в одном из наиболее прекрасных умственных движений современной Европы — в своего рода крестовом походе против догм литературных — и моральных — и социальных, — обреченных на гибель, как вся та ложь, которая еще живет в наших расах. Во всех наших старых странах Запада небольшие братские армии сражаются за обновление жизни и мысли».
Поддержка со стороны зарубежных литературных собратьев, будь то Стефан Цвейг, Верхарн или Уэллс, была особенно дорога Роллану отчасти потому, что «спертый воздух» литературного Парижа ему был и оставался противен, а немалая часть французской критики, со своей стороны, продолжала относиться к автору «Жан-Кристофа» недоброжелательно или равнодушно. Показательно, что первым профессиональным критиком, который решился написать книгу о Ромене Роллане, был не француз, а швейцарец, Поль Сейпель (не раз уже упоминавшийся выше). Книга Сейпеля «Ромен Роллан — человек и творчество», вышедшая в 1913 году, не отличалась особой глубиной, автор понимал и толковал Роллана в духе отвлеченного буржуазно-либерального прекраснодушия. Но любовь к французскому писателю, выраженная в этой книге, была, безусловно, искренней. Роллан ценил внимание Сейпеля, переписывался с ним часто и откровенно.
В самой Франции к Роллану постепенно начинали тянуться младшие собратья по перу, которые видели в нем литературного наставника и более того — нравственную, духовную опору.
Ромен Роллан сердечно привязался к Альфонсу де Шатобриану, одаренному прозаику «областнического» направления, певцу патриархальной старины. Их обоих сближала неприязнь к парижской литературной сутолоке, любовь к музыке и к природе. Роллан, обычно сдержанный, чувствовал себя непринужденно в обществе веселого, разговорчивого «Шато» и охотно проводил с ним свободное время.
В 1910 году Роллану впервые написал письмо почти еще неизвестный тогда литератор Жан-Ришар Блок. Он в это время начал выпускать журнал «Эффор» («Усилие») — антибуржуазного, социально-критического направления. В журнале принимали участие Роже Мартен дю Гар и некоторые другие, по преимуществу молодые прозаики и поэты — Шарль Вильдрак, Рене Аркос. Блок привлек к сотрудничеству Ромена Роллана, которого весь этот круг литераторов глубоко чтил.
Уже в первом письме Блок горячо благодарил Роллана за его роман, за то «моральное освобождение», которое он совершил в молодых французских интеллигентах. «Жан-Кристоф», как и «Жизнь Бетховена», — писал он, — создает для тех, кто его прочитал, своего рода идеальное франкмасонское братство, о могуществе которого вы сами, несомненно, и не подозреваете». Жан-Кристоф», — утверждал Жан-Ришар Блок в одном из следующих писем, — это не роман, и не исповедь, и пе памфлет, и не пророчество. Это произведение, которое словно бьет фонтаном из нас самих…» «То, что вы пишете, — напоминал Блок Роллану, — необходимо, как воздух, нашему Обществу». Сильный душевный отклик вызвала у редактора «Эффор» и роллановская «Жизнь Толстого». «Ваша книга заставила меня понять, что Толстой — первый и, во всяком случае, самый могучий из апостолов, которые обращались, как современные люди, к страждущим современного мира. Вот уже два века, как существует пролетариат, состоящий из людей, которые считаются свободными (в договорном, законодательном смысле этого слова), но впервые появился человек, который подумал об условиях, необходимых для того, чтобы привнести в наш мир хоть немного добра, справедливости, «достатка». И в этом смысле ваша книга — событие духовной жизни».
Роллан был не столь чувствителен к похвалам. Но он всегда бывал счастлив, когда находил единомышленников. Читая произведения Жан-Ришара Блока и других идейно близких ему литераторов, он убеждался, что выдвинутые им в «Жан-Кристофе» принципы интеллектуального бесстрашия, общественного служения искусства находят отзвук в новой французской прозе. И в первом романе Ж.-Р. Блока «…И компания» и в еще большей мере в романе Роже Мартена дю Гара «Жан Баруа» Роллан высоко оценил правдивость, дух безбоязненного социального исследования. Он писал Блоку о «Жане Баруа»: «Великолепно по искренности. Ни тени литературщины. Первостепенный документ нашего времени…»
В группу творческой интеллигенции, объединившуюся вокруг журнала «Эффор», входил и живописец Гастон Тьессон. Роллан с оттенком юмора — но и вполне серьезно — описал Блоку свою первую встречу с ним: «Бедный Тьессон был чуточку разочарован: он надеялся встретить живого Жан-Кристофа. Он не понимает, что, если бы я сам был Жан-Кристофом, я не мог бы написать Жан-Кристофа, а тем более — толпу его спутников, друзей и врагов. Можно быть художником, только если вкладываешь себя целиком в то, что создаешь, а потом полностью отделяешься от созданного, со всей той способностью охлаждения и забвения, которая заложена в человеческой природе…» Сам Тьессон Роллану понравился («Какой умный, живой человек, сколько в нем великодушия!»), и они стали близкими приятелями.
Глубокие духовные связи соединяли Роллана с другом, который находился далеко от него — в джунглях Экваториальной Африки. Роллан писал о нем Эльзе Вольф еще в октябре 1906 года: «Я на этих днях виделся с человеком, который задыхается на Западе и собирается покинуть Европу. Это — пастор из Страсбурга, директор Семинарии Св. Томаса, автор очень оригинального труда об И. С. Бахе (появившегося 2 года назад) и книги по истории изучения жизни Иисуса — эта книга вызывает сейчас немало шума в Германии. Зовут его Альберт Швейцер, ему 30 лет, это высокий, сильный, красивый парень, глаза у него светлые и веселые, и душа такая же светлая и веселая. Он отказывается от прекрасного положения, которое создал себе в такие молодые годы, подал в отставку с поста директора «Томас-штифта» и занимается медициной, чтобы найти способ существования, независимый от богословия; и он собирается через Протестантскую миссию отправиться в Африку. Он испытывает отвращение к богословию, отвращение к писцам Храма, отвращение к той непрерывной лжи, в какой его заставляют жить не только его коллеги и начальники, но и его паства — стадо, которое ни во что не верит и не имеет мужества сознаться, что не верит, — апатичное и равнодушное стадо, в котором нет ни веры, ни безверия, ни жизни. Я недавно познакомился с ним в Страсбурге, где был у него в гостях. Так как я — искренний нехристианин, он легче находит взаимопонимание со мной, чем с теми христианами, которые сами не знают, христиане они или нет. И он убежден, что в моем неверии больше истинной религиозности, чем в их верованиях…» Идейная общность Ромена Роллана и Альберта Швейцера подтвердилась и укрепилась впоследствии — в годы первой мировой войны.
Неизменно теплыми — несмотря на различия во взглядах — оставались отношения Роллана с умной и чуткой Софией Бертолини, в доме которой он бывал во время поездок в Италию и с которой часто обменивался содержательными, откровенными письмами.
Обилие и разнообразие дружеских привязанностей скрашивало одинокую жизнь Роллана. Оно отчасти возмещало ему отсутствие собственной семьи.
Но — лишь отчасти.
Весной 1909 года Роллан писал Софии Бертолини, делясь своими планами на будущее: «Я не собираюсь жениться снова, но и не отказался вовсе от этой мысли…» В декабре 1909 года он сообщал ей: «Кстати, скажу вам (абсолютно между нами), что я в течение последнего года серьезно думал о женитьбе. Я имел в виду молодую англичанку, подругу моей сестры…Я люблю ее глаза, ее черты, ее моральный облик. Но я почти что раздумал. Между подлинно английской и подлинно французской душой — завеса туманов, за которую трудно проникнуть».
К выбору новой спутницы жизни Роллан подходил необычайно взыскательно, поэтому и было ему так трудно сделать выбор. В браке он искал глубокой душевной близости, полного взаимопонимания — и не хотел опять ошибиться. Он тактично, но решительно отводил попытки матери «устроить» его семейную жизнь. Вопросы, касающиеся его лично, он хотел решать сам и только сам.
В представлении иных парижских кумушек Роллан был то ли женоненавистником, то ли рано состарившимся ученым педантом. И мало кто подозревал, что автор «Жан-Кристофа» и на исходе пятого десятка, мог страстно влюбляться, обольщаться надеждами, терзаться ревностью — и таить переживания такого рода даже от самых близких ему людей. Его многолетнее одиночество было вызвано не холодностью, не душевной сухостью, а скорее особого рода нравственным максимализмом, высотою требований, которые он предъявлял и к себе, и к тем, кого любил. Наверное, не только об авторе Девятой симфонии, но и о самом себе написал Роллан еще в начале века: «В натуре Бетховена было нечто пуританское; вольные разговоры и мысли внушали ему ужас, любовь была для него святыней, и тут он оставался непримирим… Такие люди словно созданы для того, чтобы стать жертвой обманщицы-любви. И это оправдалось на Бетховене. Он без конца влюблялся до безумия, без Конца предавался мечтам о счастье, затем наступало разочарование, 'он переживал горькие муки».
В 1913 году Роллан пережил недолгое и сильное увлечение — об этом глухо, в безымянной форме говорится в его дневнике. «Любовь — недуг, который чувствуешь каждым нервом. Уже около двух недель я испытываю «е действие. И однако я трезво сужу о себе и о той, кого люблю. Но что из того? Разве здравый смысл может помочь тому, кто наелся ядовитых грибов?» Он писал своей возлюбленной: «Вы знаете, что я хотел бы видеть вас женщиной выше других женщин. Я этого хочу непременно. Я скорей соглашусь лишиться вашей дружбы, чем увидеть, что пламя вашей души угасло среди пошлой и бесцельной суеты светского общества». Та, которой были адресованы эти строки, очевидно, не была намного выше других дам из светского круга — Роллан с горечью сознавал это — и о литературе у нее были вполне определенные суждения. Она не желала, чтобы он писал книги, способные своей правдивостью восстановить общественное мнение против него. А посягательств на свою духовную независимость он ни от кого не хотел терпеть.
После окончания «Жан-Кристофа» Роллан — как и за двадцать лет до того, в ту пору, когда он встретил Клотильду, — считал самым важным в своей жизни литературное творчество и не мог допустить, чтобы любовь заставляла его идти на сделки со своей писательской совестью.
Писать, работать в полную силу — вот чего ему хотелось больше всего теперь, как и два десятилетия назад.
Окончание многолетнего труда над «Жан-Кристофом» Роллан воспринял как раскрепощение. Теперь можно было приняться за новое, опять. пробовать, рисковать, идти дальше. Обо всем этом очень выразительно говорится в письме к Альфонсу де Шатобриану от 9 ноября 1912 года:
«С тех пор, как я закончил «Жан-Кристофа», я словно сбросил с себя громадный груз прошлого. Я выпрямляюсь, глаза мои видят, уши слышат, я всеми чувствами вбираю в себя новую реальность, которую я до сих пор мог только представлять себе, угадывать, чуять. Мне кажется, что я на пороге нового (эстетического и нравственного) мира. Я в состоянии подъема. Я все жадно впитываю в себя — книги, картины, музыку, живые души. Я чувствую, что мир обновляется, и я сам обновляюсь вместе с ним. Я ничего еще не написал, ровно ничего! Я только теперь начну…»*.
В тот момент у Роллана уже было многое задумано. Новые пьесы; новое большое произведение (еще неизвестно в какой форме), где должны были встать проблемы современной семьи, где главной героиней предстояло быть женщине, которая переживает «пору загадочной и трагической ломки»… Но все это откладывалось на будущее. Было необходимо осмотреться, перевести дух. Хотелось наверстать то, что поневоле было упущено за годы сосредоточенного писанья романа-эпопеи, — прочитать книги современных авторов, стоявшие на полке неразрезанными, побывать после долгого перерыва в картинных галереях, на художественных выставках.
В 1912 году Роллан (по просьбе Поля Сейпеля) согласился написать несколько «Парижских хроник» для женевского журнала «Библиотек юниверсель э ревю сюисс»: работа над серией обзорных статей могла помочь ему уяснить себе общее состояние французской литературы и искусства, давала ему повод в чем-то подтвердить или дополнить, а в чем-то, быть может, и пересмотреть те суждения, которые были произнесены в «Жан-Кристофе».
Размышления Роллана над судьбами искусства отразились в двух письмах, которые он написал в октябре — ноябре 1912 года Г. Тьессону. Продолжая незаконченный личный разговор о Рембрандте и Сезанне, Роллан высказывает здесь свое мнение по общим, принципиальным проблемам. Письма эти настолько интересны, что их стоит привести полностью.
«Мой дорогой Тьессон,
Когда вы говорили мне вчера об освещении в «Добром самаритянине», я подумал, что вы не видели освещение Лондона: а вы и там нашли бы световые эффекты, подобные тем, какие запечатлелись в дымах и туманах рембрандтовского Амстердама.
Что до вашего пристрастия к Сезанну и Курбе, то я думаю, что у всякого подлинного художника есть в глубине души пристрастие (открытое или невысказанное) к мастерам, которые в наивысшей степени владели техникой своего искусства. Это техническое совершенство — так сказать, предпосылка для того, чтобы могло проявиться совершенство в области интеллекта или чувства (поэтическое воображение, мощь общего замысла). Но ставить технику на первое место — нет, не согласен! Так могут поступать лишь аристократы от ремесла, влюбленные в само ремесло и считающие самоцелью то, что на самом деле есть лишь средство. Техническое совершенство — отличный инструмент, но вовсе не безразлично, находится ли он в руках великого поэта, каким был Рембрандт, или идиота, каким был Курбе. А если нужно во что бы то ни стало выбирать, то я предпочитаю несовершенную (и все же гениальную) технику Делакруа, с его великолепными видениями, пусть даже часто незаконченными, не развернутыми до конца, — а не совершенство, венчающее собой ничтожество (или, что еще хуже, посредственность души).
Изображать босяков и кретинов — не значит еще быть «народным» художником (в настоящем, смысле слова). Им может стать лишь тот, кто дойдет до глубинных основ человеческих душ, кто сумеет говорить языком, идущим от сердца и могущим быть понятым всеми. В среде художников такого рода много разных ступеней; наиболее велики те, кто проникают дальше, кто умеют видеть то, что скрыто в глубине глаз, во внутренней сути предмета, те, кто способны открывать истоки жизни (радости, горести, грозы страстей, бездны гения или безумия), ускользающие от взгляда людей обыкновенных, неведомые подчас даже тем, кто носит их в себе. Портрет папы Панфилия замечателен (помимо чудодейственной виртуозности выполнения) именно тем, что он, будучи безукоризненно правдивым, заключает в себе больше жизни, больше правды, чем мог заключать в себе оригинал. Веласкес проник в основы жизни своей нации, — как и Тициан в своем «Аретино», или в портрете папы Фарнезе с двумя племянниками. И это было совершенно молниеносной вспышкой, мощью волевого, гениального зрения, овладевающего предметом, как орел овладевает своей добычей. Homo additus naturae[5] — это старое определение искусства остается верным. Натура — да, конечно. Но не натура, какою ее видит тупица. Натура, которою овладел царственный человеческий дух. Вся суть — в равновесии обоих понятий. Не годится, если натура давит на художника, если он сгибается под ее тяжестью, как бедняк под непосильной ношей, — или если орел калечит свою добычу, сжимая ее в когтях. Но, сказать по совести, из двух этих крайностей я всегда предпочту орла или даже орленка вроде Делакруа. Это прекрасная птица.
Ну вот! Мне надо было излить то, что некогда было сказать вам вчера в Салоне. А теперь, дорогой Тьессон, до свиданья. Бегите прочь из Парижа. Здесь интересно, но здесь больше умствуют, чем творят. И пусть ваша «Ева» выставит, наперекор кубистам, свое славное лоно!
Дружески ваш — Ромен Роллан».
В следующем письме Роллан, продолжая спор, приводит выдержки из ответа Тьессона — и тут же высказывает свои возражения:
«Мой дорогой друг,
«Нужно, чтобы живопись была живописью, скульптура скульптурой».
Согласен — и добавляю: «…чтобы проза была прозой, поэзия — поэзией, музыка — музыкой».
Но, скажите: разве вы любите «Жан-Кристофа» за то, что это «проза», или даже — «хорошая проза»?
Так почему же вы удивляетесь, что я, не будучи живописцем, требую от живописи, чтобы она была не толь-«о живописью, но и чем-то более значительным? Разве вы пишете картины только для живописцев? И что бы вы сказали, если бы я вам возразил: «Я пишу не для sac, я пишу для писателей»?
«Курбе мог быть ограниченным существом, а Рембрандт великим поэтом, но это мне безразлично, поскольку их картины меня волнуют».
Перефразируем:
«Жан-Кристоф может быть идиотом и его автор кретином, но мне это безразлично, поскольку стиль этой вещи хорош».
Или, может быть, вы думаете, что ум и поэтичность необходимы только литераторам? Как же вы не видите, что красивая картина, лишенная духовности, сердечности, может взволновать только людей ремесла и никогда не взволнует рядового человека, здорового духом и сердцем? Разве вы вовсе пренебрегаете рядовыми людьми?
«Нас не интересует ни туша быка, ни добрый самаритянин, но только Рембрандт».
А меня интересует добрый самаритянин, увиденный глазами Рембрандта и пережитый его сердцем.
Приравнивать сезанновские яблоки или «тушу быка» к «Поцелую Иуды» Джотто или к «Странникам в Эммаусе» — значит рассуждать как эстет, а не как человек. Одна душа не равна другой. Одна жизнь не равна другой. Есть жизни, каких дюжины, тысячи, миллионы. И есть жизни уникальные. Кто мог хоть час жить во взгляде Иисуса или в муках Гроба господня — тот сам приобщился к возвышенному.
Если гений сердца, если поэтическое воображение — явление иного порядка, чем гений чистой живописи, то я назову великим живописцем того, кто обладает этим последним качеством; но я могу признать великим художником, великим человеком лишь того, кто обладает гением и в первом, и во втором смысле слова. Есть с десяток музыкантов, которые в области чистой музыки не ниже Бетховена. Но нет ни одного музыканта, кто обладал бы столь великой душой, как он. Поток этой души увлек за собою целое столетие.
Дружески ваш — Ромен Роллан.
Я не сужу о Сезанне в целом. Я сужу только о том, что знаю. Я даже не сужу о портрете, который видел в тот день. Я высказал не свое суждение, а свое впечатление (это не одно и то же). Да и то я высказал лишь потому, что вы меня спросили. Лгать — не умею»*.
Нам вовсе не обязательно соглашаться здесь с отдельными оценками Роллана. Здесь ставятся общие вопросы, выходящие за пределы творчества Сезанна и даже вообще за пределы живописи. В этих письмах с большой энергией выражена неприязнь Роллана к эстетству, к культу художественной виртуозности, техники, превращенной в самоцель. Роллан здесь — как и во многих печатных работах — отстаивает содержательность искусства, его народность — в высоком, серьезном смысле этого слова. Искусство не изысканная пища для пресыщенных и праздных людей; но оно и не плоское воспроизведение будничных предметов. Роллан был убежден, что художник должен воспринимать действительность активно, творчески — осмысливать ее, а не просто копировать. (Отчасти именно из этих соображений он неприязненно, по сути дела несправедливо, относился к Курбе, чьи картины казались ему приземленными и духовно бедными). «Гений измеряется силою жизни, которую стремится пробудить искусство, этот несовершенный инструмент». Так написал Роллан в «Жан-Кристофе», так продолжал он думать и в последующие годы.
Однако в «Жан-Кристофе» Роллан увидел и показал художественную жизнь Франции глазами своего героя, через его простодушно-возмущенное восприятие. На первом плане там — фокусники, фигляры, прихлебатели, превращающие искусство в предмет коммерции и моды. От имени молодого и непримиримого Жан-Кристофа Роллан высказал ряд обобщенных и беспощадных оценок современной французской культуры. Теперь, после окончания работы над романом, ему хотелось разобраться в литературно-художественной жизни страны более спокойно, конкретно.
В «Парижских хрониках», которые Роллан опубликовал в швейцарском журнале, содержится серьезная критика по адресу апостолов морального нигилизма, таких, как Андре Жид, или духовных лидеров националистически-охранительного лагеря, таких, как Морис Баррес. Но здесь сказано и немало добрых слов по адресу одаренных, гуманных по духу французских писателей и особенно художников.
Любопытно, что, работая над этими «Хрониками», Ролдан советовался с Тьессоном, задавал ему вопросы: что можно прочитать «для самообразования» о Гогене, Ван-Гоге, Сезанне? Он впервые прочитал письма Ван-Гога и иашел их «замечательными». В дневнике за последние месяцы 1912 года много записей о посещении выставок: Роллан как бы заново открывал для себя современную французскую живопись, всматривался — с любопытством, а порой и с восхищением — в полотна Гогена, Дега, Сезанна, Ренуара. Особую симпатию ему внушал Клод Моне. Роллан хорошо понял, что эксперименты Моне, стремившегося запечатлеть прихотливую игру света, меняющиеся оттенки воздушной среды, — это не просто поиски новой техники, но нечто гораздо более значительное: стремление расширить возможности живописи, по-новому передать на полотне многообразие, богатство красок реального мира. Моне, писал Роллан Тьессону, больше всех других современных художников способен «заразить радостью бытия»*.
Роллан был и оставался непримиримым к декадентству, эстетству, к тем литераторам и живописцам, которые самодовольно любовались собственными душевными изломами и пытались создавать искусство для избранных, для немногих. Он часто и охотно выдвигал перед современными художниками примеры великих мастеров прошлых эпох, будь то Рембрандт в живописи или Шекспир в драматургии.
Однако Роллан ясно отдавал себе отчет, что подлинное искусство — всегда искание нового: если оно утрачивает творческое беспокойство, дух поисков, оно вовсе перестает быть искусством. А в такую сложную, бурную эпоху, как век двадцатый, ни литература, ни музыка, ни живопись тем более не могут быть простым повторением испытанных образцов, даже и самых совершенных. Настоящий художник впитывает в себя опыт предшественников — и всегда чем-то не похож на них. Ведь и Жан-Кристоф представлен искателем, новатором. Стремление к новизне в искусстве, по мысли Роллана, законно и необходимо не только в смысле тем и сюжетов, но и в смысле средств художественного выражения. С этих позиций он подходил и к живописи конца XIX — начала XX века. Французские художники этого периода намного обогатили искусство — и свое, национальное, но и мировое. Роллан укрепился в этом убеждении, изучая в 1912–1913 годах картинные галереи и выставки.
На серьезные размышления натолкнула его выставка работ живописца-самоучки Анри Руссо, бедного чиновника городской таможни, который после смерти приобрел громкую славу в художественном мире. «Очень своеобразное впечатление, — писал Роллан в дневнике. — Есть вещи, словно принадлежащие кисти ребенка… Порой уродливо-безобразное человеческое лицо. И наряду с этим — картины, которые потрясают вас величием, уверенностью, простотой стиля, правдивым и непосредственным отражением поэтического, здорового и глубокого чувства». Роллан догадывался, что тут не просто случайная судьба, случайная удача стихийного и не отшлифованного ученьем таланта. Наивно-свежее восприятие мира, сочетание бытового примитива со смелой фантастикой — все это таило в себе новые возможности развития живописи. Роллан, разумеется, не знал о младшем собрате Анри Руссо, грузине Нико Пиросманишвили; он не мог с точностью предсказать, что полтора-два десятилетия спустя в различных уголках Европы, отдаленных от больших культурных центров, — например, в югославской деревне Хлебине — расцветут новые яркие таланты живописцев-самоучек. Однако он сопоставил «естественную манеру» Анри Руссо с известными ему рисунками деревенских школьников, и это подсказало ему важный вывод. В современную эпоху — по мере того как трудящиеся получают доступ к начальному образованию — раскрываются новые перспективы перед народным самодеятельным искусством. Мастера-самоучки, вносящие в свое искусство большой запас конкретных жизненных наблюдений, не связанные артистическими канонами, стоящие вне распрей художественных течений и групп, могут внести в искусство оригинальный творческий вклад. «Скоро народ догонит опередившую его буржуазию — и перегонит ее. Он покажет, что он одареннее и художественно и умственно».
Чуткость к новому Роллан проявлял и в области музыки. Разумеется, Бетховен и Моцарт были ему во сто крат милее Дебюсси или Штрауса. Однако Роллан, критикуя современных композиторов (критикуя, в частности, Рихарда Штрауса, с которым он был хорошо знаком, за то, что тот поддавался «исступленным силам декаданса самоубийства»), умел уважать их таланты, видел элементы нового, плодотворного даже и в тех музыкальных произведениях, которые не соответствовали его собственным художественным вкусам.
Любопытен в этом смысле, например, отзыв Роллана о Стравинском (в письме к парижской приятельнице Луизе Крюппи, написанном в апреле 1914 года): «Слушал «Весну священную» Стравинского (у Монтё), — это было для меня самым сильным музыкальным потрясением с тех давних времен, когда я открывал для себя Вагнера. У меня было впечатление, что варвар попирает ногами всю святую музыку прошлого, все то, что мы чтим, — но прорубает топором ворота в новый мир… Ах, друг мой! Как вся наша дорогая музыка, классическая и вагнеровская, внезапно устареет, уйдет в торжественное полузабвение библиотек и музеев, когда свершится музыкальная революция, по-видимому, неизбежная!» Знакомство с творчеством новейших композиторов, конечно, не поколебало Роллана в его коренных музыкальных пристрастиях — и он сам делал все возможное для того, чтобы «музыканты прошлых дней» не ушли в музейное полузабвение, — но он не был консерватором в искусстве и не отвергал с порога того, что было для него непривычно.
Судьбы искусства, его место в жизни людей, взаимоотношения творческой личности и народа — весь этот круг вопросов продолжал глубоко занимать Роллана и после завершения «Жан-Кристофа». Он встает и в повести «Кола Брюньон», написанной в 1913 году.
Естественно, что Роллан после гигантского, очень утомительного труда над романом-эпопеей взялся за произведение небольшого объема, очень не похожее на «Жан-Кристофа» и по материалу, и по стилю, и по жанру. Сам этот резкий переход к новой теме, новой художественной манере заключал в себе возможность несколько освежиться и отдохнуть от того почти каторжного напряжения, с которым была связана работа над «Жан-Кристофом». Сам писатель говорил о «Кола Брюньоне» как об «интермедии» между большими трудами. После «Жан-Кристофа», произведения глубоко серьезного, отчасти даже трагедийного по своему характеру, Роллан с удовольствием писал веселую повесть, после романа о современности охотно взялся за вещь из эпохи позднего Ренессанса.
В дневнике и письмах Роллана имеется много свидетельств, что процесс работы над «Кола» необычайно бодрил и радовал его. И все же это был, конечно, не просто отдых. Повесть «Кола Брюньон» заключает в себе свое, вполне серьезное содержание. И при всем ее отличии от романа-эпопеи о Жан-Кристофе тут есть и нечто общее — в смысле проблематики и общей моральной настроенности. Перед нами опять, на новый лад — повествование о настоящем Человеке.
О сложном сходстве-несходстве обоих героев у Роллана есть примечательные высказывания в письмах. В мае 1912 года Роллан радостно расставался с Жан-Кристофом и писал Шатобриану: «Мы, пожалуй, слишком расположены расточать нашу любовь собственным созданиям. Я-то это знаю, — я дошел до конца 10-го тома «Кристофа» и сыт по горло сентиментальной франкогерманской идеологией. Сам себе обещаю теперь, для разнообразия, несколько ломтей хорошего хлеба, сухого хлеба, на стендалевский манер, не смоченного слезами. Плохим бы я был отцом, наверное! Мой старый сын, этот мои Кристоф, — с каким удовольствием я говорю ему «Прощай»! Теперь, в конце концов, я ему больше не нужен»*. А год спустя, в мае 1913 года, Роллан писал тому же адресату: «Я погрузился в работу, я облекся в новую кожу, которая мне впору, как перчатка — я теперь совсем другой зверь. Я уже не Жан-Кристоф, я Кола Брюньон. Да, я, конечно, когда-то был им; и все бургундцы, которые дремали в моих костях, теперь проснулись и выставляют на солнышко свои красные рожи…»*
В начале 1914 года — когда повесть была уже в основном закончена и готовилась к печати — в литературном мире пошли сплетни о том, что Роллан написал «игривую книгу». Роллан говорит об этом в письме к Полю Сейпелю: «Если и до вас, дорогой друг, дойду! какие-нибудь злые пересуды в таком роде — можете ответить, что я не иду по стопам старых господ — шалунов из Академии, что мой Кола Брюньон — это Жан-Кристоф в галльском и народном духе, — я желаю, чтобы во Франции было побольше таких людей. Если публика будет ошарашена несколькими озорными словечками, взятыми из разговорного языка, — это значит, что в ней много тупоголовия и ханжества. Наперекор этой публике я обращаюсь к моим славным предкам»*. В другом письме Роллан продолжает: «Боюсь, как бы моя новая вещь вас не разочаровала. Кола Брюньон вовсе не интересуется потусторонним миром…» Роллан пишет далее, что всегда бывает поглощен своими героями, как бы перевоплощается в них. «Так обстоит дело и с Кола Брюньо-ном. Этот славный малый завладел мною. Мне теперь нужно идти за ним до конца. Впрочем, я на это не жалуюсь, — он человек крепкий, живой, держится свободно; Кристоф бы его полюбил; но я не вполне уверен, что и друзья Кристофа его полюбят. Ведь это настоящий галльский тип. Что поделаешь! Для меня это, так или иначе, интермедия…» И Роллан добавляет: «Вот закончу — и вернусь к нашим страшным современным вопросам. Слава богу, будет еще время и побиться над ними, и подраться ради них! Пока я смеюсь вместе с Брюньоном, другая часть моего существа стоит, как сторож, на башне, смотрит вдаль сквозь тьму и видит, как приближаются всадники из Апокалипсиса»*.
За годы работы над «Жан-Кристофом» Роллан выслушал немало упреков от соотечественников по поводу, его якобы немецких пристрастий. Иной раз и иностранные читатели романа-эпопеи высказывали мнение, что эта вещь «не во французском вкусе». Роллан не без раздражения писал по этому поводу Эльзе Вольф в 1908 году: «Итак, вам говорили, что я, наверное, не француз? Вот вам еще один пример, который показывает (вместе с тысячей других), насколько поверхностны и превратны ходячие представления о французах: я как раз и стараюсь опровергать такие представления в своих книгах. Нет во Франции ни одного француза, более чистокровного, чем я. Поднимаясь к дальним истокам моей родословной, вплоть до XVI века, я нахожу людей, осевших в том же уголке французской земли, в самом сердце Франции, в той же провинции, где я родился…» Быть может, споры вокруг «Жан-Кристофа» впервые заронили в сознание Роллана замысел повести, где действие развертывалось бы в его родной провинции, в ту самую эпоху, к которой восходят истоки его родословной. На страницах «Жан-Кристофа» — там, где действуют Оливье и Антуанетта, — Роллан стремился показать, что и в этих интеллигентах замкнутого, вдумчивого склада по-своему выразился характер нации, породившей Паскаля и Декарта. Однако в «Кола Брюньоне» его, словно по контрасту, привлекла задача: нарисовать, так сказать, классический тип француза, тот тип, который запечатлелся в средневековых фаблио, в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле, в комедиях Мольера.
Осенью 1913 года Роллан приехал в свой родной Кламси, где не был более двадцати пяти лет. Встреча с земляками, с хорошо знакомыми местами воскресила в нем воспоминания детства, помогла завершить работу над книгой. Конечно, Кламси в «Кола Брюньоне» — это не тот скучный захолустный городок, с которым юный Роллан в свое время распрощался без особого сожаления. В повести этот городок овеян драматизмом бурных событий, расцвечен поэзией народных преданий. Но Роллану было необходимо соприкоснуться с землей своих отцов, чтобы оживить в себе эту поэзию.
Через десять с лишним лет Роллан, работая над книгой «Внутреннее путешествие», обратился в мыслях к своему прадеду, якобинцу Боньяру:
«Портрет его вызовет недоумение добрых читателей, которые привыкли думать, что Ролланы — это плакучие ивы, бледные идеалисты, ригористы, пессимисты. Но меня это мало тревожит!.. Я знаю, чем я обязан тебе, старик: ты за многое брался, много пытался, хватал, смаковал, расточал и никогда жить не уставал; эту жажду борьбы и знания, жадную любовь к жизни, несмотря ни на что, ты метнул мне в день моего появления на свет, словно камень из пращи, который ничто не заставит уклониться с неведомого для него пути; и я поймал его, невзирая на все испытания, на слабое здоровье, на христианскую скорбь, влитую в меня вместе с другим потоком крови: крови Куро. Это твоя сумасшедшинка, смешавшись с их трезвой мудростью, позволила мне жить и выпекать хлеб жизни из зерна, взятого в ваших амбарах».
Эти строки, даже по интонации напоминающие вольный поэтический строй «Кола Брюньона», говорят, как естественно сочеталась в сознании Роллана веселая повесть из времен Возрождения с памятью о предке-вольнодумце, бравшем Бастилию. И они говорят о том, какое важное значение придавал Роллан жизнелюбивым «галльским» началам, заложенным в его собственной сложной натуре.
Работая в разные периоды жизни над произведениями, где затрагивались острые социальные проблемы — будь fb драма «Побежденные» или пьесы о Французской революции, «Народный театр» или главы «Неопалимой купины», где речь идет о рабочем движении, — Роллан отдавал себе отчет, как трудно ему самому, художнику-демократу, борцу за новое искусство, справиться с темой народа. Облик парижской толпы, не только в «Дантоне», но и в «Четырнадцатом июля», даже в лучших эпизодах этих драм, оставался суммарно-обобщенным. Фигуры современных французских рабочих у Роллана явно не получались: не хватало знания пролетарской среды, живых контактов с нею.
«Кола Брюньон» знаменовал в этом смысле нечто новое: тут бессмертный Народ воплощен в живом образе. Сплавив воедино свой жизненный опыт, свои мысли о великом будущем, ожидающем трудящиеся массы в новом столетии, с семейными преданиями и старым французским фольклором, переработав на новый лад демократическое наследие отечественной культуры, Роллан создал необычайно самобытную, полнокровную фигуру труженика — Француза с большой буквы и Человека с большой буквы: одаренного, мудрого, великодушного, неунывающего, непочтительного к господам и к церковным авторитетам.
В «Кола Брюньоне» по-своему отозвались размышления Роллана об оригинальности и силе народного самодеятельного искусства. Кола Брюньон, столяр «из братства святой Анны», — не только ремесленник, но и художник, умеющий радоваться красоте цветка или женской улыбке и воссоздавать эту красоту в своих деревянных скульптурах. Народный умелец Кола не одинок, как бывал нередко одинок Жан-Кристоф: он свой человек среди простых людей Кламси, он живет в эпоху, когда художественный талант и народ могли составлять единое целое. Дух национального народного творчества торжествует и в самой манере повествования: язык народных песен, легенд, поговорок помогает создать тот простодушно-жизнерадостный колорит, который гармонирует с характером главного героя.
Действие повести охватывает ровно год, события личной судьбы Кола и его земляков соотносятся с календарем природы: весна, лето, осень, зима. Этот год жизни Кламси насыщен разного рода треволнениями: разорительные нашествия войск, эпидемия чумы, грабежи, пожары, смуты. За короткий срок Кола Брюньон испытывает множество бедствий и обнаруживает разные грани своего далеко не простого характера. Скептик и насмешник, словно нарочно построивший себе хату с краю — дом вне городских стен, — он в трудный момент проявляет энергию и решимость, сплачивает своих растерявшихся сограждан, организует защиту их жизни и достояния от бандитской шайки. Трусливым соседям, которые испуганно бормочут: «У нас нет вождей», — Кола Брюньон возражает: «Будьте ими сами». От имени жителей Кламси он смещает недостойного правителя города: «Мы сами берем в руки кормило и весло».
Повесть была закончена осенью 1913 года. Роллан отдал ее не в «Двухнедельные тетради», а в журнал «Ревю де Пари», куда она была заранее обещана. Однако вольнодумное произведение смутило редакторов. Лависс предложил несколько поправок, на которые Роллан не согласился. Он решил вовсе отказаться от журнальной публикации и напечатать повесть сразу отдельной книгой в издательстве Оллендорф. Весной 1914 Года «Кола Брюньон» был с радостью принят этим издательством, нО выходу книги помешала война. Повесть появилась лишь в 1919 году.
Работая над «Кола Брюньоном», Роллан отчетливо сознавал, что Европа находится накануне грозных событий: ведь он сам предсказал в «Жан-Кристофе» близость мирового пожара, ведь он сам в письме к Сейпелю говорил о приближающихся «всадниках из Апокалипсиса».
И тем не менее война нагрянула нежданно-негаданно.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ