А. Д. Майданский
У истоков русского спинозизма:
творчество и судьба
Варвары Половцовой

Сведения о жизни В. Н. Половцовой получены частью из архивов Рейнского и Тюбингенского университетов, частью от моего друга Георгия Оксенойта, проделавшего долгую и необычайно кропотливую работу по розыску ее следов в архивах нескольких стран. Ему удалось найти ее фотографию, экземпляр книги Половцовой с ее дарственной надписью, ее статьи в журнале «Трудовая помощь» и несколько писем к зарубежным корреспондентам. Наконец, после долгих поисков им были документально установлены место и дата ее смерти.
Георгию Оксенойту за неоценимую помощь в подготовке этой книги, а также д-ру Весе Ойттинену (Хельсинки), Александру Сенину (Москва), д-ру Евгению Гутырчику (Мюнхен), д-ру Паулю Шмидту (Бонн) и д-ру Михаэлю Вишнату (Тюбинген), автор хотел бы выразить самую искреннюю благодарность.
Краткая предыстория
Как все на свете, философия рождается не в вакууме. Для своего возникновения она нуждается в особых общественно-исторических условиях. Почвой, на которой произрастает древо философии, всегда и повсюду были отношения частной собственности. Точно кислота, частная собственность разъедает архаические формы коллективного мышления, мифы, заменяя их формами сугубо личностными, к числу которых относится и философия.
Пример России вполне подтверждает это общее правило: начало интенсивного саморазвития философской мысли приходится здесь на XIX век, время становления буржуазной экономики и соответствующих отношений частной собственности. Однако в России эти отношения никогда не выступали в своей чистой и адекватной форме: поначалу они наслаивались поверх отношений общинных, а в советскую эпоху и вовсе подверглись формальному упразднению. Неудивительно, что и в русской философии всегда преобладал дух архаического коллективизма. Последний исторически принимал две основные формы — православной религиозности (ее философской идеализацией становится у славянофилов идея соборности) и общинного, уравнительного коммунизма.
Русская философия с самого дня своего рождения была с головой погружена в общественную жизнь, и потому ей непосредственно передавались все несовершенства общественного устройства. Это обстоятельство предопределило ее характерные черты: преобладание этической проблематики над логической, высокую эмоциональность и прагматический склад. Только это был не рассудительный и терпеливый прагматизм немцев или голландцев, а нервная озабоченность бытием здесь-и-сейчас, с бесконечными раздумьями на темы «что делать?» и «кто виноват?». Времени на то, чтобы помыслить вещи sub specie aeternitatis, вечно недоставало.
Западная философия своими лучшими достижениями обязана тому, что соблюдала завет Спинозы: non ridere, поп lugere, neque detestari, sed intelligere — «не плакать, не смеяться и не проклинать, но понимать». Отечественная философия пренебрегла этим императивом, культивируя эмоциональное восприятие мира в ущерб логическому мышлению. Не случайно на поверхности истории удержались те, кто энергичнее всех «проклинал» действительность, мало что понимая, — вульгарные марксисты, большевики.
Аффектация вообще свойственна природе религии и искусства, наука же всегда стремилась, насколько возможно, освободиться от власти аффектов. В русской философии всегда было очень мало от науки и много от религии и искусства. Вместе с тем лучшим образцам русской философии присуще редкостное обаяние, превосходный стиль, искренняя вера в человека и уважение к нему. Это, возможно, самая человечная философия во всей истории философской мысли.
И недостатки, и достоинства эти суть свидетельства незрелости как самой русской философии, так и тех материальных общественных отношений, которые питали ее своими соками и идеальной квинтэссенцией которых, вообще говоря, является всякая философия.
Семена философии занесло в Россию ветрами Просвещения в XVIII веке. Не секрет, что пионеры русской философии с прилежанием брали уроки у западноевропейских корифеев. Ломоносов и Радищев — выпускники немецких университетов. С немецким идеализмом не без успеха конкурировала «вольтерьянская» мода.
Учение Спинозы в ту эпоху оказывается в эпицентре внимания европейских философов — на переднем краю полемики. Симпатии к нему год от года растут, увеличивается и число приверженцев. Прежде, в течение почти столетия Спиноза был отверженным в республике ученых, в нем видели парию от философии. Генрих Гейне ничуть не преувеличивал, когда писал:
«Замечательно, как самые различные партии нападали на Спинозу. Они образуют армию, пестрый состав которой представляет забавнейшее зрелище. Рядом с толпой черных и белых клобуков, с крестами и дымящимися кадильницами марширует фаланга энциклопедистов, также возмущенных этим penseur tеmеraire [дерзким мыслителем]. Рядом с раввином амстердамской синагоги, трубящим к атаке в козлиный рог веры, выступает Аруэ де Вольтер, который на флейте насмешки наигрывает в пользу деизма, и время от времени слышится вой старой бабы Якоби, маркитантки этой религиозной армии»[370].
К концу XVIII столетия усилиями Лессинга и Дидро, Гете и немецких романтиков удалось восстановить доброе имя Спинозы, а вскоре Шеллинг и Гегель сумели заглянуть в настоящую глубину спинозовской философии. Не остались в стороне от увлечения спинозизмом и наши, отечественные ценители «любомудрия». Александр Кошелев, участник тайного «Общества любомудров», много лет спустя вспоминал:
«Тут господствовала немецкая философия… Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, философов. Мы особенно ценили Спинозу и считали его творения много выше Евангелия и других священных писаний»[371].
«Обществом любомудров», к слову, руководил близкий друг Пушкина князь В. Ф. Одоевский. В альманахе «Мнемозина» мы встречаем любопытные рассуждения его о «великом духом Спинозе».
В книге профессора Петербургского университета А. И. Галича «Картина человека» (1834) излагалось учение о «страстях», разработанное по образцу спинозовской «Этики»[372]. Впрочем, Галич лично был далек от симпатий к Спинозе и судил о нем больше «по иностранным указаниям»[373]. В своем изложении истории философской мысли он, не стесняясь в выражениях, пишет об «уклонении сей системы от здравого рассудка, несовместимости с нравственными чувствами» и даже о вызываемом ею в людях благонамеренных «чувстве какого-то омерзения».
Подобного сорта инвективы в адрес голландского вольнодумца были в порядке вещей в академических кругах, в которых вращался профессор Галич. Удивляет формулировка, с которой он был впоследствии уволен из университета: «ограничивался изложением философских систем без опровержения их». В отношении спинозовской системы, во всяком случае, Галич простым изложением не ограничился. Опровергал он Спинозу в типично кантианской манере, осуждая за «догматизм» — стремление постигнуть мир посредством чистого умозрения — «голого понятия», без должного содействия чувств. Очень скоро наряду с кантианскими нареканиями широкое хождение получат критические ремарки в адрес спинозовской философии, заимствованные из сочинений Гегеля и Шопенгауэра.
Собственные тексты Спинозы, как правило, читались в иностранных (немецких или, реже, французских) переводах, многие же и вовсе довольствовались переложениями — русским изданием лекций Куно Фишера (1862), например. Первый русский перевод Спинозы был напечатан только в 1886 году, под редакцией и с предисловием профессора В. И. Модестова[374]. Второй — перевод Н. Иванцова, под редакцией В. П. Преображенского, вышел в Москве уже в 1892 году[375]. Его же в уточненной редакции регулярно перепечатывают по сей день.
Для своего времени перевод Иванцова был неплох, не уступая по качеству большинству западных переводов. Однако он, безусловно, не идет ни в какое сравнение с лучшими современными переводами Спинозы. То же самое можно сказать о всех прочих русских изданиях Спинозы, за исключением одного — перевода TIE, выполненного в начале прошлого века В. Н. Половцовой. История жизни этой замечательной женщины и ее философские труды станут предметом нашего исследования. Но прежде еще немного об интеллектуальном климате, в котором формировались ее воззрения на учение Спинозы. Без этого их не понять.
То, пушкинских времен увлечение Спинозой в среде русских «любомудров» вскоре сменилось неприятием. С середины XIX века неокантианство и позитивизм, замысловато переплетаясь, взяли верх в европейской, а вскоре и в русской философии. Философия Спинозы делается излюбленной мишенью критики. Особенно частым был упрек в смешении реальных отношений с логическими, восходящий к диссертации Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного основания». Спинозе ставится тут в вину «смешение находящегося внутри данного понятия основания с действующей извне причиной и отождествление с ней»[376].
Шопенгауэр пояснял, что отношение основания к следствию — чисто логическое: следствия имплицитно содержатся в понятии, которое является их основанием, и могут быть аналитически выведены из данного понятия. Напротив, в отношении причины к действию стороны различаются реально — «существенно и действительно». Каузальное отношение синтетично, для его понимания, помимо логического анализа, необходим еще внешний опыт.
В основе учения Спинозы, по мнению Шопенгауэра, лежит смешение оснований познания (rationes) с причинами (causae) бытия вещей: все каузальные отношения сводятся к отношениям логическим. Об этом свидетельствуют постоянно встречающиеся у Спинозы выражения causa sive ratio и ratio seu causa. Пантеистическое отношение Бога к миру — это не настоящее каузальное отношение, как мнилось Спинозе, а отношение, так сказать, «рациональное» (от лат. ratio — основание).
У дореволюционных русских философов это толкование превратилось в едва ли не общепринятый стандарт. Только почему-то без упоминания о первоисточнике. То ли позабыли старика Шопенгауэра, то ли стеснялись водить компанию с немецким пессимистом — трудно судить. Скорее верно первое. В немецкой неокантианской литературе обвинение в «догматическом» смешении логического с реальным в адрес Декарта и Спинозы было общим местом. Можно предположить, что наши философы почерпнули эту мысль из работ Вильгельма Виндельбанда.
«Поскольку он [Спиноза] — чистейший догматик в кантовском смысле — исходил из мнения, что порядок и связь идей тождественны с порядком и связью вещей, то… связь математических положений он eo ipso [тем самым] переносит и на реальные отношения между вещами», —
утверждал Виндельбанд[377]. На русский язык перевод его двухтомной «Истории философии» вышел под редакцией университетского профессора А. И. Введенского (Санкт-Петербург, 1902–1908). Несколько ранее в собственной статье Введенского, уличавшей Спинозу в атеизме, говорилось также, что
«Спиноза стремится мыслить все реальные связи и взаимоотношения как логические… У Спинозы это стремление действует гораздо сильней и с большей отчетливостью, сознательностью, чем у Декарта. Поэтому оба они отожествляют связь причинную со связью логической, со связью между основанием и следствием»[378].
В течение следующих двадцати лет это замечание повторялось на разные лады, свободно мигрируя из одной историко-философской работы в другую. Вообще, критиковали Спинозу в те времена все кому не лень и, как правило, в одном и том же кантианском ключе.
Вступиться за Спинозу решился только Владимир Соловьев, пожелавший, «не откладывая дольше, уплатить хотя бы часть старого долга» тому, кто был его «первой любовью в области философии». В своей полемической статье в «Вопросах философии и психологии»[379] Соловьев в весьма резком тоне, местами с откровенной насмешкой комментировал взгляды Введенского на учение Спинозы и, в особенности, «рассудочно-схоластическое» понимание Бога, которое «почтенный профессор» противопоставил спинозовскому «атеизму».
Суть соловьевской апологии Спинозы сводится к утверждению, что из общего для всех зрелых вероучений понятия абсолютного, всеединого божества «Спиноза сделал целую философскую систему». Конкретное же развитие этой истины у Спинозы Соловьев полагает «совершенно неверным». Спиноза, по его представлению, стремился вывести все многообразие явлений нашего мира напрямую «из понятия о бытии и мышлении бесконечной субстанции». Иными словами, стремился чисто логически (a priori, more geometrico) вывести все реальное.
«Философски такой взгляд мог быть действительно устранен только критическим идеализмом, который показал, что между абсолютною сущностью (предполагая таковую) и миром явлений непременно стоит субъект познания…» [380]
В этой части Соловьев с Введенским всецело солидарен. Лишнее свидетельство тому мы находим в апелляции к «субъекту познания», понятому вполне по-кантиански — как посредник между ноуменальным и феноменальным мирами.
Тут же Соловьев адресует Спинозе и старый гегелевский упрек в статичности его понятия субстанции, вплоть до сравнения последней со всегда покоящимся, «бездвижным» бытием элеатов:
«Бог не может быть только богом геометрии и физики. Ему необходимо быть также богом истории. Но в системе Спинозы для бога истории так же мало места, как в системе элеатов»[381].
В сравнении с мощной, диалектически-отточенной аргументацией Соловьева рассуждения Введенского выглядят жалким резонерством. Меж тем в своем истолковании учения Спинозы Соловьев, в общем-то, столь же мало оригинален, как и Введенский. И тот и другой считают излишним углубляться в тексты Спинозы, довольствуясь полудюжиной цитат в сносках (Введенский) или парой расхожих терминов, вроде causa sui и more geometrico (Соловьев).
Доказательство безбожия спинозовской философии сводится у Введенского к соображению, которое некогда высказал тот же Шопенгауэр: словом «Бог» обозначают существо, обладающее волей, и в этом смысле у всякого божества непременно имеется личность.
«Причина мира с добавлением [качества] личности и есть то, что, будучи добросовестно употреблено, означает слово «Бог». Напротив, безличный Бог — это contradictio in adjecto [противоречие в определении]»[382].
Спиноза, лишив своего «Бога» личности, тем самым впал в противоречие, заключает Шопенгауэр. Осталось лишь название, пустое имя, за которым более не стоит понятие Бога.
К концу века этот аргумент сделался хрестоматийным. В самом начале своей статьи Введенский приводит ссылку на чрезвычайно популярный в то время историко-философский труд Фридриха Ибервега-Гейнце, где автор упрекает Спинозу в замаскированном атеизме и пренебрежении «долгом чести» по отношению к понятию Бога. Словом «Бог» правомерно называть только «личное существо», и ничто иное, настаивал Ибервег.
У Введенского это избитое и не бог весть какое глубокомысленное суждение разрослось в длинную статью размером листа в полтора. Он снисходительно соглашается считать Спинозу человеком нелицемерным, искренне верующим в Бога — но и столь же искренне заблуждающимся относительно содержания этого понятия. В общем для всех религий понятии Бога с необходимостью присутствует признак «действующей по целям личности», говорится в статье Введенского. А так как Спиноза устраняет этот признак, его следует считать никаким не пантеистом, но натуральным атеистом. Сколько бы он ни твердил о своем великом amor Dei.
Владимир Соловьев на это возразил, что для Спинозы, равно как во всех развитых вероучениях, Бог есть абсолютное сверх-личное начало бытия. Только в «низших формах религий языческих» Бог понимается антропопатически (этот необычный термин Соловьева удачно передает смысл латинского выражения Спинозы: humano more), как действующая по целям личность». Соловьев, по примеру Спинозы, решительно противился распространению категории целевой причины на бытие Бога. В этом месте перо его буквально сочится сарказмом:
«Мы не думаем, что все боги действовали по целям, но зато сей признак, характерный для божества, по мнению проф. Введенского, слишком выдается в собственном способе мышления почтенного ученого»[383].
Полемика Соловьева с Введенским — высшее достижение отечественного спинозоведения в XIX столетии. Никакая истина в этом споре не родилась, однако хорошо было то, что спинозов-ская философия привлекла внимание самых известных и влиятельных русских философов своего времени. Интерес к личности и учению Спинозы быстро растет. Переводы его сочинений издаются в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве, Казани, Одессе. Из типографий один за другим выходят объемистые тома книг, посвященных спинозовской философии, в том числе в переводах с европейских языков. На гребне этой интеллектуальной волны у нас просто не могли не появиться исследования мирового уровня. Пройдет не так много лет и в 1913 году почти одновременно увидят свет «К методологии исследования философии Спинозы» В. Н. Половцовой и «Метафизика Спинозы» Л. Робинсона.
Жизнеописание
Варвара Николаевна Половцова, в девичестве Симановская, родилась в Москве в 1877 году. В юности она получила лучшее по тем временам для девиц столичное образование: Петербургская женская гимназия, затем женские курсы Лесгафта (6 семестров).
В те же годы в Питере начинал свою карьеру выдающийся русский врач Николай Петрович Симановский (1854–1922), ученик С. П. Боткина, академик Императорской военно-медицинской академии и основоположник отечественной отоларингологии. Велика вероятность, что Варвара Николаевна — его дочь, однако проверить это предположение мне пока что не удалось. В пользу него говорят некоторые косвенные соображения плюс медико-биологическая тематика ее ранних работ.
Самая первая — перевод с французского книги Ж. Б. Ламарка «Анализ сознательной деятельности человека», выполненный ею совместно с Валерианом Викторовичем Половцовым. Книга вышла под редакцией П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге в 1899 году. Хотя на титульном листе книги указана ее девичья фамилия — Симановская, к тому времени Варвара Николаевна была уже замужем за Половцовым. Они познакомились на курсах Лесгафта и поженились в марте 1898 года. Эти данные приведены в биографии В. В. Половцова, написанной к сорокалетию со дня его смерти его преданным учеником академиком Б. Е. Райковым[384].
Род Половцовых — из числа старейших на Руси. В самом полном (25 томов) Русском биографическом словаре, изданном, по любопытному совпадению, «под наблюдением» А. А. Половцова, председателя Русского Исторического общества, читаем:
«ПОЛОВЦОВЫ. От князя Половцева, потомка половецкого хана Тугорхана, перешедшего на русскую службу при великом князе Святополке II Изяславиче, женатом на дочери Тугорхана»[385].
Валериан Викторович был пятнадцатью годами старше своей жены. Известный биолог, друг и сотрудник Лесгафта, он много публиковался и преподавал в нескольких столичных учебных заведениях, в том числе и в Петербургском университете. В совместной редакции Половцовых выйдут русские переводы книг Отто Шмейля «Человек. Основы учения о человеке и его здоровье» и «Животные. Основы учения о жизни и строении животных» (Санкт-Петербург: Тенишевское училище, 1900 и 1904). В те же годы появится на свет их собственное сочиненьице — «Ботанические весенние прогулки в окрестностях Петербурга» (Санкт-Петербург: Общественная польза, 1900). По свидетельству Райкова, многое из него впоследствии вошло в советские учебники по ботанике.
«Эта небольшая книга была первой печатной работой Половцова, вышедшей в виде отдельного издания раньше всех других его методических работ. Он только что женился тогда на В. Н. Симановской, которая и приняла деятельное участие в составлении книжки. Прелесть этой совместной работы над таким чудесным сюжетом, как весенняя флора, отразилась на содержании книжки, которая написана с энтузиазмом, очень живо и интересно»[386].
Первой самостоятельной публикацией В. Н. Половцовой стала статья «Половой вопрос в жизни ребенка» (Вестник воспитания, 9, 1903), напечатанная вскоре и отдельной брошюрой (Москва: Товарищество Кушнерев и К°, 1903, 16 стр.). Половцова предлагала ввести объяснение полового вопроса в школьную программу по естествознанию, что по тем временам выглядело более чем смелой инициативой. Совместно с мужем они написали главу «Половой вопрос в школе» для печатного издания курса лекций В. В. Половцова «Основы общей методики естествознания» (Москва: Товарищество И. Д. Сытина, 1907). Сказанное там остается вполне справедливым и сегодня, а кроме того, дает яркое представление о человеческих качествах авторов — причем в большей степени о бескомпромиссном характере Варвары Николаевны, поскольку из следующего издания (1914) глава эта была исключена ее мужем-соавтором, как «преждевременная при наших школьных и общественных нравах». Позволю себе привести один отрывок:
«Половое влечение всячески трактуется в произведениях искусства, а воспитатели набрасывают на эту область полупрозрачный флер, направляющий пытливость детей в ту сторону, которая вносит развращение и извращение в процессы величайшей важности. В нашем, так называемом, образованном обществе почти невозможен серьезный разговор о половом вопросе, — настолько с самых ранних лет он ассоциируется неразрывной связью с чем-то неприличным и постыдным, с одной стороны, с другой же, с представлениями о запретном, но привлекательном ряде эмоций.
Такое отношение к вопросу указывает лишь на известную развращенность нашего интеллигентного общества, которое в величайшем процессе природы сумело подметить лишь элементы разврата и таким образом набросило покров пошлости на собственное свое происхождение. С этим направлением должно всячески бороться, как с воззрениями, унижающими человеческую личность и извращающими сущность естественного явления».
Раскрытие полового вопроса, по убеждению Половцовых, должно ориентироваться на эволюцию самой природы, начиная с процессов размножения растений, затем животных, и уже в более старших классах переходя к проблеме половых отношений в человеческом обществе — непременно разъясняя, наряду с биологической и медицинской сторонами дела, особенности общественного отношения полов.
Имея уже немалый опыт научной работы, в возрасте примерно 25 лет Половцова отправляется в Германию, где в течение трех семестров изучает естественные науки в университете Гейдельберга, а в мае 1905 года подает прошение о стажировке в университете Тюбингена. Здесь десятью годами ранее в лаборатории профессора Фехтинга (Hermann Vochting) стажировался и надворный советник В. В. Половцов. Наша слушательница записывается на лекции Фехтинга «Систематика фанерогамов»[387] и «Экспериментальная физиология», и кроме того на лекции «Смысл жизни растений» (Rudolph Fitting) и «Современные химические и физико-химические проблемы» (Edgar Wedekind). Параллельно она желала работать в Ботаническом институте под руководством профессора Фехтинга.
Толи вся эта обширная программа уместилась в один семестр, то ли что-то там не сложилось, но вскоре Половцова переехала в Бонн. Здесь она проучилась 5 семестров на философском факультете местного университета и 20 января 1909 получила ученую степень доктора, защитив диссертацию на тему: «Исследования в области явлений раздражимости у растений» (Untersuchungen auf dem Gebiete der Reizerscheinungen bei den Pflanzen). Защита ее получила наивысшую оценку — «eximium» (лат.: исключительный, превосходный), и спустя несколько месяцев диссертация была напечатана в Иене под заглавием: «Экспериментальные исследования процесса раздражимости у растений под воздействием раздражения газами»[388]. Почти одновременно в издательстве Фишера выходит и более объемная книга Половцовой: «Исследования явлений раздражимости у растений»[389].
Как видим, Половцова занималась в то время по преимуществу проблемами биохимии. Философия, правда, значится, наряду с ботаникой и зоологией, в качестве предмета для финального устного экзамена (нечто вроде нынешнего кандидатского минимума), сданного ею за месяц до защиты с оценкой «summa cum laude» (лат.: наивысший балл с похвалой). И первая собственно философская публикация Половцовой появится все в том же плодоносном 1909 году. Это будет весьма пространная рецензия «По поводу автобиографии Фр. Ницше» в журнале «Вопросы философии и психологии» (1909, кн. 98, с. 501–520). По содержанию она представляла собой написанный с сочувствием и большой симпатией комментарий к ницшевскому «Ессе homo». Эта последняя рукопись немецкого Антихриста — прощальный крик его угасающего разума — была впервые опубликована годом ранее, в 1908.
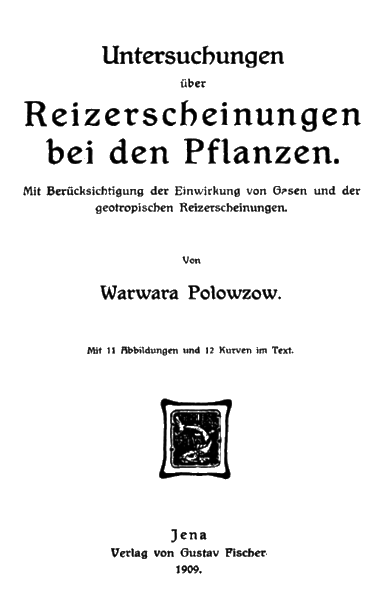
Половцова явно следила за философской модой своего времени. Скандальная история с рукописным наследием Ницше не оставила ее равнодушной. Ее заметка в русский философский журнал — это репортаж с места событий.
Казалось бы, нет двух более полярных по своим взглядам и самой человеческой натуре философов, чем Спиноза и Ницше. Но противоположности, как известно, притягиваются: Ницше, ознакомившись с философией Спинозы, в фишеровском изложении, восклицал: «Я изумлен, потрясен. У меня есть предшественник и какой!»[390] Впрочем, как явствует из последующих его работ, Спинозу Ницше понял весьма своеобразно. Ему импонировала «простота и возвышенность» Спинозы, но были чужды буквально все содержания спинозовской мысли: «в них нет и капли крови»[391]. А геометрический порядок «Этики» представляется Ницше всего лишь «маскарадом больного отшельника»[392]. В спинозовских теоремах ему мерещится «что-то глубоко загадочное и зловещее». В глазах Ницше Спиноза приобретает облик то некоего «философского вампира», обескровившего живую реальность, то проповедника «храброго безропотного фатализма, каковым, например, еще и сегодня русские превосходят нас, западных людей, в жизненном поведении»[393].
Половцова не проводит никаких параллелей между учениями Спинозы и Ницше. И если мотивы, подвигнувшие ее написать о Ницше, более-менее ясны из самого текста рецензии, то об истоках ее увлечения Спинозой этого сказать мы не можем. Правда, тут могут быть высказаны кое-какие правдоподобные предположения. Начать придется издалека.
В 1910 году, одновременно с появлением первых половцовских публикаций о Спинозе, выходит русское издание лекций Бенно Эрдманна «Научные гипотезы о душе и теле». На титульном листе указано, что это «перевод с разрешения автора под редакцией и с предисловием Dr. Phil. В. Н. Половцовой, ассистента философского семинара Боннского университета»[394].
Профессору Эрдманну в то время было без малого шестьдесят. Годом ранее он занял кафедру философии в Берлинском университете, а год спустя состоится его избрание в члены Прусской Академии наук. В годы учебы Половцовой в Бонне Эрдманн в течение десяти лет вел тот самый семинар, на котором она работала в должности ассистента. В течение двух лет (до своего отбытия в Берлин) занимал он и пост ректора Боннского университета.
В редакторском Предисловии к книге Эрдманна она именует его «моим глубокоуважаемым учителем». В свою очередь, тот в Предисловии к русскому изданию выражает благодарность «доктору философии Варваре Николаевне Половцовой, моей ученице и другу», ниже прибавляя:
«Не только самый перевод носит следы ее духовного сотрудничества; уже во время обработки мною этих лекций некоторые отдельные пункты из них подвергались нашему совместному обсуждению».
В особенности отмечается ценность, какую имели для него исследования Половцовой в области физиологии растений и соображения, высказанные в методологической части ее книги на эту тему.
Быть может, из-за Эрдманна она оставила прежде времени прославленный Тюбинген — alma mater Шеллинга и Гегеля, и перебралась в скромный Бонн? По свидетельству Половцовой, «в России имя Б. Эрдманна хорошо известно всем специально работающим в области философии»[395] — как издателя сочинений Канта и благодаря нашумевшей полемике с Гуссерлем. Любопытно, что в этом споре Половцова — что вполне естественно для спинозиста, но более чем странно для ассистента эрдманновского семинара, — примет сторону Гуссерля:
«Современные логики, в значительной мере под влиянием стремления не разойтись с современными естественнонаучными течениями, являются, почти без исключения, представителями психологически окрашенного релативизма, недавно так метко охарактеризованного Гуссерлем». Этим смешением логики с психологией они, по словам Половцовой, «закрывают доступ к пониманию… учений Декарта и Спинозы»[396].
К числу упомянутых тут «современных логиков» относился, безусловно, и Бенно Эрдманн, отстаивавший в своей «Логике» (1892) относительность логических законов — зависимость их от субъективных «условий нашего мышления». За это, собственно, на него и обрушился Гуссерль.
В своих работах о Спинозе Половцова ни разу не ссылается на Эрдманна[397] и даже не упоминает имени своего «глубокоуважаемого учителя». Игнорирует и недавно напечатанную его работу о Спинозе[398]. В тех лекциях, что вышли русским изданием под редакцией Половцовой, Эрдманн пытался на кантианский лад развить приписываемую им Спинозе мысль о «параллелизме» душевных и телесных явлений. На этом строится весь замысел его книги. Какого же мнения на сей счет держалась его русская «ученица и друг»? Интерпретациям учения Спинозы в духе «психофизического параллелизма» Половцова посвятила последний раздел своей книги. Она категорически, начисто отвергает их правомерность. Но и тут про работы Эрдманна мы не находим ни слова.
Тем не менее, поскольку первые публикации Половцовой о Спинозе написаны во время ее работы в боннском семинаре, резонно предположить, что именно Эрдманн побудил ее к углубленным занятиям спинозовской философией. Из его книги видно, что собственную «гипотезу о душе и теле» он считал дальнейшим развитием учения Спинозы. У Эрдманна нет и в помине типичного для кантианцев взгляда свысока на Спинозу, как замшелого догматика. Сколь бы ошибочной ни была его интерпретация психофизической теории Спинозы, отношение к последнему у Эрдманна заинтересованное и в высшей мере уважительное. Эпиграфом к своей книге он выбрал изречение Гете:
Willst du ins Unendliche schreiten,
Geh’ nur im Endlichen nach alien Seiten.
«Если хочешь проникнуть в бесконечное, исследуй все стороны конечного». Гете, как известно, был завзятым спинозистом, и позади этих строк без особого труда угадывается теорема 24 части V «Этики»:
«Чем больше понимаем мы единичные вещи, тем больше мы понимаем Бога».
Наверняка и в боннском семинаре имела место быть та атмосфера почтения к Спинозе, которую читатель находит в книге Эрдманна и которая, по всей вероятности, заразила в итоге его «ученицу и друга» — в гораздо большей мере, чем того желал ее именитый наставник.
В самом конце Предисловия к «Научным гипотезам о душе и теле» Половцова высказывает свое кредо переводчика, которому вскоре суждено было осуществиться в переводе спинозовского TIЕ:
«Мне не представляется желательным во что бы то ни стало избегать иностранных терминов… Изобретение русских слов может быть задачей перевода литературного произведения; научный же перевод требует прежде всего возможной точности… Всякий перевод должен служить только подготовкой к чтению оригиналов. Важно, чтобы термины, встречаясь снова в оригинале, могли быть легко узнаваемы»[399].
Решить эту задачу ей превосходно удалось. Остальные же русские переводчики Спинозы меньше всего заботились о том, чтобы подготовить читателя к изучению оригиналов. В трудных случаях точность перевода почти всякий раз приносится ими в жертву литературной стороне дела. Кроме того, по части познаний в области философии и вообще научным дарованиям Половцова далеко превосходит всех прочих переводчиков и редакторов русских переводов Спинозы.
Первыми печатными работами, посвященными спинозовской тематике, для Половцовой станут заметки на книгу католического священника Станислауса фон Дунин-Борковского «Молодой де Спиноза. Жизнь и развитие в свете мировой философии»[400]. Одна заметка вышла в «Вопросах философии и психологии»[401], другая годом позже в «Historische Zeitschrift»[402].
В изображении Дунин-Борковского интеллектуальное развитие Спинозы предстает как сплошная череда влияний и заимствований, а сам он характеризуется как Analogiegeist (ум аналогического склада) и Sammelgenie (гений собирательства). Решительно возражая против подобного «освещения» спинозовской философии, Половцова выносит следующий вердикт:
«Лицам, мало знакомым с другими данными о Спинозе, книга Дунин-Борковского даст искаженный образ Спинозы как человека и как философа. С этой стороны, появление этой книги не может быть встречено с сочувствием»[403].
Откровенно, что и говорить. С не меньшей прямотой Половцова впоследствии отзывалась и о сочинениях многих других авторитетных историков философии. Дерзость, чтобы не сказать нахальство, никому не известного «доктора философии» не осталась без отповеди.
«В специальной литературе, посвященной Спинозе, ни одно произведение не выдерживает даже отдаленного сравнения с книгой «иезуитского патера», как его презрительно называет В. Н. Половцова в своей рецензии, напечатанной в 105 книжке «Вопросов философии и психологии», — с раздражением писал профессор В. С. Шилкарский. — Резко отрицательный отзыв г. Половцовой представляет, насколько мы знаем, единственное исключение среди весьма многочисленных рецензий, заметок и статей, вызванных книгою Дунин-Борковского. Против себя г. Половцова имеет чуть ли не всех выдающихся знатоков Спинозы на Западе…»[404]
А также, конечно, и почти всех наших доморощенных знатоков, ибо последователей и защитников Спинозы, кроме Половцовой и Л. Робинсона, среди них больше не нашлось.
К счастью, ее труды сумел до достоинству оценить редактор старейшего русского философского журнала «Вопросы философии и психологии» Лев Михайлович Лопатин. Он не только охотно печатал работы Половцовой, но также рекомендовал ее к избранию в действительные члены Московского Психологического общества[405]. Это случилось сразу после появления в 1913 году длинной (более 180 тысяч знаков) статьи Половцовой «К методологии изучения философии Спинозы»[406]. В том же году работа вышла отдельной книжкой, где, по словам автора, были исправлены опечатки и добавлены кое-какие ссылки.
Наконец год спустя, в 1914, в том же московском книгоиздательстве в серии «Труды Московского психологического общества» (выпуск VIII) выходит в свет комментированный перевод ТIЕ[407]. Как явствует из подписи в конце книги, Половцова проживала в Бонне и завершила работу еще в 1913 году. В Предисловии она не раз упоминает о задуманном ею «специальном исследовании», где она даст детальное изложение своих взглядов на учение Спинозы. Есть основания предполагать, что книга о Спинозе была уже готова или почти готова к печати: по собственным словам Половцовой, она должна была вскоре «появиться особым изданием»[408]. Этого, однако, не случилось — помешала начавшаяся мировая война. Дальнейшая судьба рукописи мне не известна.
Все годы, пока Половцова училась и работала в Германии, ее муж занимался научной и преподавательской работой в Петербурге. В 1910 он уехал в Одессу, где занял кафедру ботаники в университете. Однако распри в профессорской среде и волнения среди студентов мешали ему нормально работать, вдобавок он серьезно заболел, и вот летом 1915 В. В. Половцов возвращается в Петроград и поселяется в пригороде, Петергофе. Там, по свидетельству его биографа Райкова,
«он жил в полном одиночестве, так как его жена — женщина-философ — не имела никакой склонности к семейной жизни и все время проводила за границей, преимущественно в Германии, где занималась научной работой». Райков описывает Варвару Николаевну как «женщину с большими умственными запросами, притом очень энергичного характера и красивой наружности»[409].
Меж тем, с сентября 1915 года Половцова активно печатается в журнале «Трудовая помощь». Значит, она вернулась в Петроград примерно в одно время с мужем. То ли Райков располагал неточными данными, то ли Половцовы просто решили не жить вместе, а биограф об этом не знал либо умолчал. Однако в справочнике «Весь Петроград на 1917 год» в качестве места жительства Половцовой указан тот же петергофский адрес, по которому проживал и В. В. Половцов…
На протяжении двух десятилетий «Трудовая помощь» издавалась в петроградской государственной типографии Комитетом попечительства, который курировала императрица Александра Федоровна. Идея трудовой помощи заключалась в том, чтобы предоставить работу и кров инвалидам, нищим, беспризорным подросткам. В годы войны, когда в журнал пришла Половцова, проблема эта обострилась до крайности. Ясное дело, пишет она теперь не о Спинозе. Изучая современную западную литературу по проблемам «призрения», Половцова сочиняет рецензии для раздела «Литературное обозрение», а затем и довольно большие статьи о практике трудовой помощи в европейских странах. Год спустя она становится секретарем журнала.
После февральской революции журнал лихорадит. В мае 1917, сославшись на недостаток времени, в отставку подал его бессменный главный редактор профессор Петроградского университета В. Ф. Дерюжинский. Перед уходом он внес в Комитет предложение
«образовать в составе редакции должность помощника редактора и ныне же назначить на эту должность секретаря редакции доктора философии Боннского университета В. Н. Половцеву… По объяснению В. Ф. Дерюжинского, В. Н. Половцева, приглашенная на должность секретаря в сентябре 1916 года, оказывала ему деятельную помощь по редактированию журнала, главным образом привлечением новых полезных сотрудников»[410].
В этой стенограмме впервые загадочным образом меняется буква (и соответственно, ударение смещается на первый слог) в фамилии Варвары Николаевны — теперь она «Половцева». Можно было бы счесть это за простую ошибку, если бы последняя статья ее в июньском номере «Трудовой помощи» не была подписана «Половцева» (ранее она подписывалась «Половцова» или же просто инициалами). Так же, на новый лад, станет она позднее расписываться и в своих письмах. Это, вероятно, свидетельствует о том, что она рассталась с мужем, ибо тот написание своей фамилии не менял.
В новой должности помощника редактора Половцевой если и довелось работать, то совсем недолго. В последних четырех номерах «Трудовой помощи», выходивших с сентября 1917 без всякой регулярности, ее публикаций нет. В августе Половцева еще выступила с докладом «Об обязательной социальной помощи» на Всероссийском совещании по призрению детей, проведенном Министерством государственного призрения[411]. В докладе предлагалось создать «социальную инспекцию» для контроля за исполнением законов о детях.
В ноябре 1918 скончался Валериан Викторович Половцов. В это время Половцевой уже не было в стране. Как явствует из ее письма профессору Хобхаузу[412] от 25 сентября 1918, она занималась делами русских кооперативных организаций и проживала в отеле «Капитолий» в районе Ланкастер Гейт в Лондоне. В письме упоминаются имена Набокова[413] и Литвинова[414]. В следующем году она работает в Русском обществе социально-экономической реконструкции и в течение нескольких месяцев хлопочет о въездной визе для некой «мисс В. Н. Огранович», которую называет своим личным секретарем и самым ценным помощником. Ее не пускают в Англию, — жалуется Половцева редактору «Манчестер Гардиан» Чарльзу Скотту, —
«из-за того, что меня здесь подозревают в симпатиях к большевизму. Вы знаете, что это не так, но еще менее [чем большевики] мне симпатичны наши реакционеры, с их военной интервенцией и блокадой; [британское] военное ведомство не простит мне этого криминала»[415].
Осенью 1919 Половцева уже секретарь Объединенного комитета русских кооперативных организаций в Лондоне. Его учредители — Московский народный банк и несколько несоветских торговых компаний. В интервью газете «Обсервер» от 1 февраля 1920 Половцева рассказывает о том, как широко развито кооперативное движение в России, и отмечает, что советскому правительству, несмотря на все старания, не удалось взять под свой контроль крупнейшие кооперативные организации.
Очевидно, Половцова сумела поладить с советской властью, и уже в августе 1921 она участвует в 10-м конгрессе Международного Кооперативного Альянса, проводимом в швейцарском Базеле. При открытии конгресса поступило предложение не допускать на конгресс российских делегатов, на том основании, что кооперативное движение в России контролируется властями страны, и делегаты представляют интересы правительства, а не свободных кооперативов. После двухчасовых дебатов двое делегатов от Центросоюза были все же допущены на конгресс — нарком внешней торговли Леонид Красин[416] и д-р Варвара Половцева. Эти двое в заключительный день были избраны в состав Центрального комитета Альянса[417].

К декабрю 1923 года Половцева занимает должность представителя Российского Красного Креста в Великобритании; в 1925 она член исполнительного комитета британской секции Международной рабочей помощи; а в январе 1926—представитель только что учрежденного Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Ее имя впечатано в шапки официальных бланков РКК и ВОКС.
В последнем по времени уцелевшем письме от 31 августа 1931 года Ч. Скотт благодарит за присланную статью и желает мадам Половцевой скорейшего выздоровления. Смерть настигла ее пять лет спустя — 29 декабря 1936. В это время она проживала в городке Брентфорд, что расположен на северном берегу Темзы в графстве Миддлсекс.
В заключении о смерти сказано, что ей исполнился 61 год (на самом деле 59 лет — в этом вопросе немецкие архивы, опиравшиеся на собственное свидетельство Половцовой, заслуживают большего доверия). В графе о роде занятий покойной указано: «вдова Валериана Половцева (Polovtsev), профессора естествознания». Это обстоятельство, а также ее отъезд из Лондона в предместья, возможно, указывают, что Половцова к моменту смерти не служила более в советских госучреждениях. Причина смерти — кровоизлияние в мозг.
Где покоится прах Варвары Половцовой, выяснить пока что не удалось. Вероятнее всего она была похоронена в Англии, неподалеку от последнего места жительства.
«К методологии исследования философии Спинозы»
Изложение философских взглядов Половцовой я хотел бы, с позволения читателя, предварить недлинным вступлением личного характера. В начале девяностых я провел немало времени в Ленинке и в уютных кабинетах ИНИОН, штудируя литературу о Спинозе. Отечественные знатоки на фоне лучших западных своих коллег — таких как H. F. Hallett, A. Gilead, Е. Curley, — смотрелись скромно, чтобы не сказать жалко. Спасала положение разве что «Метафизика Спинозы» Л. Робинсона, однако я не был до конца уверен, что книжка эта не перевод. Но вот в один прекрасный день в руках я держал порядком истрепанный номер «Вопросов философии и психологии», книга 118 за 1913 год. Начал читать — до чего же здорово! С первых строк чувствовалось, что писал человек до мозга костей влюбленный в тексты Спинозы, и притом первоклассный философ. С тех пор я неоднократно перечитывал ту статью и всякий раз открывал для себя нечто новое и важное. Рискну утверждать, что в ней дано вообще самое аутентичное понимание спинозовской философии — по меньшей мере среди всех тех работ, с которыми мне довелось ознакомиться.
Спустя пару лет я написал статью о русских спинозистах, которая начиналась рассказом о В. Н. Половцовой. Статья эта в разных вариациях выдержала уже несколько публикаций на трех языках в весьма авторитетных печатных изданиях[418]. В статье, однако, не скажешь всего, что хотелось бы. А тут, пару лет назад, стараниями Георгия Оксенойта в мои руки попала копия отдельного — в виде тонкой книжицы — издания работы Половцовой с дарственной надписью старорежимными буквами: «Дорогой Тете Соне с искренним приветом. От автора. Bonn a/Rh.». Вскоре в книжке Райкова я увидал и фотографический портрет очень красивой женщины, в учениках которой давно уже себя числил. Находясь под впечатлением от столь редкого сочетания, я окончательно решился написать в память о Варваре Николаевне сей опус минор. Видит Субстанция, ее труды заслуживают внимания и сегодня, вернее, в особенности сегодня — когда Спиноза скорее мертв, чем жив в нашей философии.
Во времена Половцовой, впрочем, дело обстояло не лучше. Работа ее начинается с констатации того факта, что при колоссальной массе исследований о спинозовской философии, у нее почти нет сторонников. Хорошим тоном считаются поиски противоречий между различными ее положениями.
«Учение Спинозы полно скрытых противоречий, — заявляет А. Риво. — Оно не отвечает нашей естественной склонности к единству»[419]. Или, к примеру, автор книги «Философия Спинозы в свете критики»[420] Ф. Эрхардт «быстро и незаметно для себя переходя на всевозможные точки зрения, «освещает» учение Спинозы так, что в «свете его критики» оно представляется приблизительно как бессмысленный набор противоположных друг другу заблуждений и иллюзий»[421].
Но может быть, Спиноза не виноват? Не есть ли те противоречия, что ставятся ему в вину, следствие невнимания к неким условиям, обязательным для понимания его учения? Половцова убеждена, что так оно и есть. Отсюда замысел ее работы: выяснить условия, позволяющие понять философию Спинозы «изнутри». Половцова особо выделяет два таких условия:
«во-первых, знакомство по существу с содержанием латинских терминов Спинозы, Декарта и их времени, и, во-вторых, владение теорией познания Спинозы, которая должна служить исходным пунктом для всех соображений о его учении, так как сама положена им в основу всех его воззрений»[422].
В качестве примера ошибочного толкования Спинозы, проистекающего из непонимания этих двух условий, Половцова избирает недавно появившуюся в «Вопросах философии и психологии» статью Семена Франка[423]. В то время Франк был еще мало известен. Впоследствии же Ленин удостоит его высылки из страны на «философском пароходе» в числе других корифеев русской религиозной философии, и свои главные труды Франк напишет уже в эмиграции.
Половцова заявила, что не собирается «входить в подробный разбор» статьи Франка и что пользуется ею просто как поводом для изложения собственных взглядов. Это не помешало ей учинить форменную расправу, после которой из суждений Франка об учении Спинозы мало что уцелело.
Трудности перевода работ Спинозы. Ошибочность его лингвистической стратегии. О нарушении Половцовой первого «правила жизни» Спинозы. Принцип максимальной точности перевода у Половцовой. Пример с переводом терминов notio и conceptus. Сравнение английских и русских переводов Спинозы. К истории выражения causa sui. Различие терминов ordo и methodus. Многослойная латынь Спинозы. Неудачные переводы терминов ratio и cogitatio.
Переходя к обсуждению языка Спинозы, Половцова констатирует исторический факт: в XVIII столетии в «республике ученых» латынь мало-помалу вытесняется национальными языками. За перевод латинских терминов берутся чаще всего посредственные умы, вроде Томазия и Христиана Вольфа, заложивших основы немецкой философской лексики. Слова они подбирали в повседневной речи своего родного языка, при этом в переводы научных работ привносились и стоящие за этими словами обыденные представления. Как следствие, метафизика Лейбница в руках Вольфа превратилась в школярскую «онтологию», осколки которой и поныне во множестве рассыпаны в учебной литературе, в том числе и в нашей, русской.
Если для перевода философов-эмпириков, к примеру Бэкона или Гассенди, общеупотребительный лексикон более или менее достаточен — поскольку те апеллировали к чувственному опыту и здравому смыслу, которые и сформировали некогда этот лексикон, — то для адекватного перевода философов-рационалистов зачастую требуются специальные языковые средства, искусственная лексика. Ибо категории мышления, которые кладут в основу своих теорий Декарт или Спиноза, известны «естественному» уму так же мало, как категории интегрального исчисления или квантовой физики.
Дело осложняется тем, что все открытые ими истины Декарт и Спиноза записывали на средневековой латыни, которую схоластики разрабатывали для нужд богословия. Ни тот, ни другой не изобрели ни одного нового философского термина. Кроме того, Декарт и Спиноза постоянно пользовались общепринятыми словами в несвойственном им значении.
«Я знаю, что эти слова в общем употреблении означают иное, — заявлял Спиноза. — Но мое намерение — объяснять не значение слов, а природу вещей, и называть их именами, принятое значение которых не расходилось бы полностью с тем, которое я хочу придать им; о чем достаточно [сказано] раз и навсегда» [Eth3 afdf20 exp][424].
Разумеется, оба философа специально оговаривали эти новые значения слов, разъясняя читателю, что они имели в виду. Но это мало помогло: идолы форума[425] как всегда взяли свое.
Спиноза был чересчур оптимистичен, полагая, что если «говорить сообразно с разумением простого люда» (ad captum vulgi loqui), последний «охотно прислушается к голосу истины» [TIЕ, 6]. Эта лингвистическая стратегия оказалась негодной: высказанные им истины не поняли толком ни простые люди, ни большинство ученых коллег. Немецкие философы-классики пошли по иному пути, придумав язык, понятный лишь посвященным, с легкостью сочиняя нужные им новые слова и обороты речи. При этом им удалось добиться гораздо лучшего понимания, если не у простых людей, то уж в ученом мире наверное.
А вообще говоря, с какой стати философу рассчитывать на понимание со стороны неучей? Чем философия в этом смысле лучше алгебры или оптики, к которым — кому как не Спинозе это знать — и подступиться-то нельзя без знакомства со специальной терминологией?
Взять, например, слово «Бог», досуха выжать из него религиозное содержимое и наполнить особым научно-философским смыслом, а после надеяться, что простые люди «охотно прислушаются» к твоим речам, кажется поистине верхом наивности. Ничего кроме вопиющих противоречий (в прямом смысле слова: идущее «против речи») люди религиозные в таком понятии Бога не разглядят, конечно же. И будут правы, ибо мысли Спинозы реально противоречат и всем их житейским представлениям, и догмам вероучения.
Половцова не замечает кардинального лингвистического просчета Спинозы. Вину за противоречия, которые ему приписываются, она целиком и полностью возлагает на комментаторов, оставляющих без внимания оговорки Спинозы касательно нестандартных значений, вкладываемых им в общеупотребительные термины. Спору нет, обвинение справедливо. Но ведь и сам Спиноза сделал многое, чтобы затруднить понимание своих текстов. Представьте, если бы какой-нибудь физик решил изъясняться «вульгарным» (от vulgus — простой люд) языком, при этом постоянно меняя общепринятые значения слов. Сделалась бы его теория от этого понятней обывателям? Нет, разумеется. А вот других физиков он наверняка бы запутал.
Не обратила внимания Половцова и на то обстоятельство, что ее собственный, кишащий латинизмами перевод TIE менее всего сообразуется с «разумением простого люда», и в этом смысле открыто попирает первое «правило жизни» (vivendi regula), декларируемое Спинозой в качестве условия совершенствования интеллекта в TIE. Стратегия половцовского перевода, как мы помним, иная: подготовить читателя к изучению сочинений Спинозы в оригинале. Разговор с читателем на литературном русском языке не являлся для Половцовой приоритетной задачей. В первую очередь она стремилась к максимальной точности при передаче мысли автора, и там, где ради этого приходилось прибегнуть к заимствованию латинских терминов, делала это без колебаний. Оттого перевод и удался. Другие комментарии и переводы Спинозы оказались далеко не столь точны, и как раз потому, что предпочтение отдавалось литературной стороне дела.
Спинозовский текст на каждом шагу создает проблемы, неразрешимые средствами русского языка. За недостатком слов два-три латинских термина приходится переводить одним словом. К примеру, «notio» и «conceptus» обычно переводятся как «понятие». У Спинозы, однако, эти два термина имеют существенно разное значение. Conceptus означает понимание сути предмета — в одном месте Спиноза приравнивает conceptus к идее: «conceptus, id est, idea» [TIE, 19]; тогда как «notio» имеет гораздо более общее значение, охватывая, помимо «концептов», также чисто словесные абстракции, именуемые «понятиями» в учебниках формальной логики. В арсенале русского языка нет слов, позволяющих передать отличие «notio» от «conceptus». В подобном случае необходимо либо указывать в скобках вслед за словом «понятие» термин оригинала, либо воспользоваться латинизмом «концепт», как поступает Половцова. Прочие русские переводчики попросту проигнорировали и данную проблему, и почти все ей подобные. Мне лично кажется предпочтительным первый вариант ее решения, позволяющий избежать насилия над родным языком, однако в плане «подготовки читателя к знакомству с оригиналом» выбор Половцовой имеет свое преимущество.
А вот предложенный ею перевод «notio» никак нельзя счесть удачным, несмотря на то, что в основе его лежит совершенно верное понимание смысла данного термина:
«Notio по отношению к адекватному познанию не может быть передано словом «понятие», но должно быть рассматриваемо как производное от nosco [познаю] или notum esse [познанное]; т. е. notiones можно переводить как содержания познания; notiones communes как содержания познания относительно общего, но никак не как общие понятия»[426].
Термин «notio», считает Половцова, надо переводить по-разному — в зависимости от того, идет у Спинозы речь об адекватном или неадекватном познании вещей. В том месте «Этики», где проводится дистинкция «notiones communes» и «notiones universales» [Eth2 pr40 sch1], по-русски предлагается писать об отличии «содержаний познания относительно общего» от «универсальных понятий». Такой перевод разрушает и структуру спинозовского текста, и самый замысел автора: в конце концов, если Спиноза пожелал воспользоваться одним и тем же термином «notio», а не двумя разными, несмотря на то, что речь велась о двух разных формах познания, значит у него имелись к тому основания. Можно по-своему трактовать и оценивать эти резоны, но пренебрегать ими при переводе текста мы не вправе.
Вообще говоря, каждый специальный термин в научных трудах желательно переводить, если только это возможно, каким-то одним словом иного языка. В случае вынужденного отступления от данного правила следует делать оговорки или, по меньшей мере, приводить в скобках и сносках соответствующие фрагменты оригинала. Плачевное состояние дел с переводами Спинозы во многом обусловлено тем, что переводчики не считали нужным держаться этого правила. Его нарушали даже лучшие из них — в частности, Половцова. Но она, по крайней мере, четко оговаривала все случаи «нетождественного» перевода терминов.
Половцова безусловно права, утверждая, что значение термина «notio» радикально меняется в зависимости от контекста. Но нельзя же умножать варианты перевода данного термина всякий раз, как он меняет свое значение, это просто лингвистический нонсенс. Тем более, что, как доказала Половцова, значение практически всех терминов в трудах Декарта и Спинозы двоится в зависимости от области познания, о которой идет речь. Что же теперь, для каждого латинского термина подыскивать два разных русских слова?
В этом смысле гораздо более простая задача у переводчиков на романские языки и английский: они могли воспользоваться словами латинского корня. Но отчего-то делали это редко. По свидетельству Половцовой, единственным переводчиком Спинозы, кто последовательно проводил такой план, был Уильям Хэйл Уайт (W. Hale White). О его переводах «Этики» и TIE[427] она отзывается в самом уважительном тоне.
«Современными английскими философами они признаны за безусловно наилучшие и несомненно являются таковыми, именно потому, что, не занося национально-литературные стремления в неподходящую для их применения область философии, они не подставляют, как это делают немцы, на место терминов Спинозы собственных терминов, но сохраняют, ограничиваясь большим или меньшим подчинением их требованиям своей грамматики, данные латинские термины Спинозы».
В один год с переводом «Этики» Хэйл Уайта (1883) в Лондоне вышел перевод Роберта Элвза (R. H. M. Elwes)[428] — в части «литературных стремлений» полный аналог столь нелюбимых Половцовой немецких переводов Спинозы. Элвз дал далекий от всякой дословности перевод, откровенно пренебрегая этимологическим родством английских слов с латинскими терминами Спинозы. Похоже, Элвз старался превзойти в «литературности» самый оригинал. Половцова не сочла его перевод достойным упоминания, между тем именно он, а не уайтовский или иные переводы[429], сделался стандартом для большинства англоязычных специалистов.
К счастью, в последнее время ситуация меняется к лучшему. Не так давно вышло прекрасное, современное издание собрания сочинений Спинозы в переводе Эдвина Керли (Е. Curley)[430], лучшего из известных мне американских знатоков Спинозы. Пока что на свет появился только первый том, в который не вошла большая часть Переписки, ТР и ТТР. Однако второй том, как сообщает профессор Керли, уже почти готов.
На русском же языке новые переводы Спинозы не выходили уже почти полвека, и не ожидаются. С «Этикой» русский читатель знакомится в переводе позапрошлого столетия, лишь немного отредактированном в советские времена и снабженном жалкими Примечаниями размером в две страницы.
Наверное, и хорошо, что редактор двухтомника Спинозы Василий Соколов удержался от искушения снабдить великую книгу обширными примечаниями. Ибо то, что написал он в Предисловии и, позднее, в двух своих монографиях, не столько помогло, сколько помешало читателям понять учение Спинозы. В вопросах же латинской терминологии профессор Соколов обнаруживал порой неосведомленность, поистине удивительную для человека, который отважился редактировать переводы Спинозы. Заявить, что понятие causa sui «было совершенно чуждо схоластической философской мысли»[431] мог лишь тот, кто плохо знаком с трудами схоластиков, а то и совершенно чужд их философской мысли.
Не только понятие причины себя было отлично известно в Средние века, но и самый термин этот тогда уже встречался — в трудах «превосходного доктора» Суареса. Уже «ангелический доктор» Фома оспаривал высказанное кем-то ранее (имя оппонента умалчивается) понимание Бога как причины себя. Да что там схоластики — еще отцы церкви (в частности, Иероним) позаимствовали это понятие у неоплатоников. Спиноза же наверняка встречал его в Декартовых Ответах на Возражения Первые против «Размышлений», где термин causa sui фигурирует многократно, как особое определение Бога, в ходе полемики с одним ученым томистом.
В пояснении к понятию причины себя Соколов приписывает субстанции «вечность во времени и бесконечность в пространстве»[432], не обращая ни малейшего внимания на массу спинозовских указаний о том, что атрибут протяжения не имеет ничего общего с физическим пространством, а вечность не есть определение времени. Это место в предисловии Соколова заставило Джорджа Клайна недоумевать по поводу
«приравнивания «вечности» к «бесконечной длительности во времени», равенства, которое Спиноза всеми силами отвергал. Та же ошибка явно видна у Соколова в характеристике длительности как «составной части вечности» (с. 51)»[433].
В отличие от корифеев советского спинозоведения, Половцова свободно ориентировалась в схоластической терминологии. Она настаивала на необходимости «самостоятельного исследования и изучения наиболее выдающихся оригиналов так называемой схоластической литературы» во избежание «серьезных недоразумений» при чтении работ Спинозы.
Примером другого такого массового недоразумения является словосочетание «геометрический метод» — которого нет в текстах Спинозы, но которое со времен еще Гегеля так полюбилось комментаторам «Этики» (в их славную компанию угодил, само собой, и профессор Соколов). У Спинозы есть целый трактат о методе — TIЕ: термин methodus (метод) встречается там более тридцати раз, и ни разу ни словом не упоминается ordo geometricus (геометрический порядок). Несмотря на это, гегелевский миф о «геометрическом методе» Спинозы и ныне продолжает разгуливать по страницам историко-философских сочинений.
Между тем дистинкция methodus и ordo — одно из общих мест в литературе по логике той эпохи. Половцовой удалось обнаружить ее первоисточник — трактат Джакомо Цабареллы[434] «De methodis», одна из глав которого прямо озаглавлена: «De differentia ordinis et methodi» (О различии порядка и метода). Коллекция логических трактатов Jacobi Zabarellae Opera Logica выдержала пятнадцать изданий в течение полувека, с 1572 по 1623. Логическому методу Цабареллы многим обязан Галилео Галилей[435], и вообще, если верить Аарону Гарретту (A. Garrett),
«Цабарелла был самым влиятельным логиком второй половины XVI столетия в Италии, Германии и Нидерландах»[436].
Порядок (ordo) представления знаний отличен от метода (methodus) в собственном смысле слова, поучал Цабарелла.
Методы суть интеллектуальные орудия[437], с помощью которых разум открывает новые истины, продвигаясь от уже известного к неизвестному. Ordo же применяется лишь к тому, что уже известно, и служит целям наиболее легкого и прочного усвоения уже имеющихся знаний. Methodus обладает особой «умозаключающей силой» (vis illatrix), каковой нет у ordo.
В позднейших учебниках и трактатах термины «methodus» и «ordo» не всегда разводились столь строго. Однажды [Ер 13] и Спиноза, упомянув о «доказательстве геометрическим способом» (more geometrico demonstratio), прибавил, что друзья просили его тем же методом изложить (concinnare, дословно: «привести в порядок»)[438] часть первую Декартовых «Начал». Несомненно, он рассматривал геометрический порядок как способ, или метод, упорядочения наличных знаний, а вовсе не как метод открытия новых идей. Как ниже сообщает Спиноза, сия метода[439] понадобилась ему для обучения некоего юноши, интересовавшегося философским учением Декарта. И она не имеет решительно ничего общего с «истинным методом» (vera methodus), обсуждаемым в TIE. Хотя бы потому, что Спиноза излагает «геометрическим способом» ошибочные с его точки зрения взгляды Декарта. Что не преминула отметить Половцова.
Можно смело утверждать, стало быть, что существенное различие между понятиями способа доказательства и метода познания у Спинозы налицо, хотя слова «mos» и «methodus» в его текстах один-два раза пересекаются. По всей вероятности, Спиноза узнал об этой дистинкции, изучая еще только азы логики. Автор главы о методе в двухтомной «Кембриджской истории философии XVII столетия» Питер Диэр (Р. Dear) отмечал, что
«после дебатов и многообразия мнений предыдущего [XVI] века, метод стал темой, которая рассматривалась в заключительной — зачастую четвертой — части любого учебника логики. Его характеристики мало разнились и обычно следовали дистинкции Цабареллы между методом как всеобъемлющим упорядочением содержания (ordo) и методом как логической техникой исследования (methodus, в настоящем смысле слова)… На протяжении всего [XVII] столетия это основополагающее подразделение метода, хотя и не обязательно с терминологической дистинкцией Цабареллы, задавало и основную структуру обсуждения метода в учебниках»[440].
Спиноза не счел нужным повторять общие места о различии ordo и methodus, в то время известные любому школяру; но для историка философии было бы непростительной ошибкой не принимать во внимание такого рода терминологические контексты. Тем более подменять их тщательное изучение вербальными спекуляциями, как поступает Иосиф Коников[441]. Выискивая в текстах Спинозы (причем в русских переводах, без единой ссылки на оригиналы!) точки пересечения слов «метод», «способ», «порядок» и «путь», Коников таким манером «доказывает», что все эти термины у Спинозы — просто синонимы. Не видит он ни малейшей разницы и между выражениями «математический метод» и «геометрический порядок доказательства». Пространно критикуя суждения Половцовой на эту тему, достойный ученик Соколова пренебрег и ее апелляцией к Декарту, и дистинкцией Цабареллы, и, вестимо, не потрудился заглянуть в учебники и лексиконы ХУП века. Примерно в том же ключе — по линии наименьшей затраты умственных усилий — написаны и остальные две главы книги Коникова. Печально, но и символично, что она оказалась последней монографией о Спинозе в недолгой истории советской философии.
Понять как следует философию Спинозы, не учитывая постоянных вариаций значений терминов, — дело невозможное. Встречая, например, слово «methodus», перво-наперво следует разобраться, о какой области знаний ведется речь и, кроме того, какому кругу читателей адресован данный текст. Половцова насчитывает по меньшей мере три разных семантических слоя в его текстах: это язык теологов, язык Декарта и картезианцев и, наконец, собственный язык Спинозы.
В собственном языке Спинозы у слова «субстанция» нет множественного числа, а такие слова, как «несотворенное» или «чудесное», вообще в нем отсутствуют, и однако, они там и сям встречаются в его сочинениях и письмах. Очевидно, в этих местах он стремится говорить с читателем на привычном тому языке: разговор о Писании в ТТР ведется на языке богословов, а изложение философии Декарта в РРС, и даже имплицитная критика ее в СМ, — на принятом в кругу картезианцев ученом «койне».
Одни и те же латинские слова могут иметь у него совершенно разные значения — если между обсуждаемыми областями знаний нет ничего общего. Так, поскольку «между верой, или Теологией, и Философией нет никакого общения или какого бы то ни было родства»[442], постольку значения абсолютно всех специальных терминов в этих двух областях совершенно различны. Стало быть, «боги» священных писаний с философским «Богом» Спинозы не имеют ровным счетом ничего общего, на что справедливо указала Половцова.
Это соображение не мешало бы иметь в виду тем, кто простодушно считает Спинозу религиозным, а то и «богопьяным» (der Gottbetrunkener Mensch, — оборот Новалиса), мыслителем лишь потому, что он воспевал «amor Dei intellectualis». В последнем выражении слово «интеллектуальное» прямо указывает на нерелигиозный — «философский», в терминах Спинозы, — характер его «любви к Богу». Ведь религиозную веру Спиноза относил всецело к области воображения, а не интеллекта. Он не рискнул напрямик назвать религию «воображаемой любовью к Богу» (amor Dei imaginationis), однако кардинальное отличие философии от религии прочертил недвусмысленно и более чем смело.
«Ибо цель Философии есть не что иное, как истина; [цель] Веры же, как мы достаточно показали, только послушание и благочестие. Далее, основания Философии суть всеобщие понятия, и саму ее надлежит черпать единственно из природы; [основания] же Веры суть предания и язык, а черпать ее должно единственно из Писания и откровения»[443].
Между философией и верой, интеллектом и воображением — пропасть. Они действуют по разным законам, преследуют разные цели, имеют дело с совершенно разными «слоями» реальности. Стоит ли удивляться тому, что и значения слов в них тоже весьма разнятся?
Спиноза ставит значения слов в прямую зависимость от характера знаний, выражаемых при помощи этих слов. И тут он не одинок. Похожим образом обстоит дело в гегелевской «Феноменологии духа».
«Один и тот же термин может использоваться Гегелем в различных смыслах, в соответствии со стадией, на которой выступает познающее сознание», —
констатировала Абигайль Розенталь[444].
Не думаю, что в данном случае Гегель осознанно шел по стопам Спинозы. Скорее, такое семантическое расслоение языка — это фамильная черта диалектических учений.
Область интеллекта, или адекватных идей о природе вещей, разделяется Спинозой на «ratio» и «intuitio», указывала Половцова. Она предлагала сохранить при переводе латинские корни этих двух терминов: рацио и интуиция. Откровенно говоря, не вижу смысла отказываться от хорошего русского слова «рассудок» ради латинизма «рацио». Да, за словом «рассудок» волочится длинный шлейф значений, чуждых Спинозе, однако то же самое можно сказать почти что о любом философском термине. Стоит ли изобретать особую лексику персонально для перевода Спинозы? К тому же, с лингвистической точки зрения, грамотнее было бы говорить не «рацио», а «рация»[445]. Ratio у Спинозы может переводится и как «довод, основание, резон» (последнее слово ведет родословную как раз от «ratio»). Что же касается «intuitio», то такого имени существительного у Спинозы нет. Есть прилагательное «интуитивная» (scientia intuitiva, intuiti va cognitio).
Но в особенности неудачен выбор Половцовой термина «сознание» (вместо «мышление») для перевода «cogitatio». Во-первых, «сознание» не что иное, как калька с латинского «conscientia», а это последнее слово само постоянно фигурирует в текстах Спинозы (изредка в значении «совесть»). Во-вторых, в русскоязычной литературе слово «сознание» всегда — совершенно правомерно — использовалось для перевода романских дериватов «conscientia» и немецкого «BewuBtsein». В-третьих, нельзя не принять в расчет выбор Декарта, на чьих трудах воспитывался Спиноза. У Половцовой в этой связи отмечается вот что:
«Декарт сам, за неимением другого слова, употребляет для перевода выражения cogitatio выражение penser [мышление]. Но мы видим, что даже у ближайших последователей Декарта выражение penser опять употребляется только в обычном смысле, т. е. другом смысле, чем оно дано у Декарта, как перевод для cogitatio»[446].
Отчего же это — «за неимением другого слова»? Другое слово, а именно «conscience» (сознание), во французском языке имеется. Декарт предпочел ему «penser». А его ближайшие последователи, картезианцы, преспокойно «употребляли в обычном смысле» не только французское слово «penser», но и латинское «cogitatio».
И потом, предлагаемый Половцовой перевод способен совершенно запутать рядового читателя, привыкшего именовать «сознанием» все, что он замечает в своей душе. Этот «поток сознания», надо признать, примерно соответствует значению слова «cogitatio» у Декарта, но никак не спинозовскому атрибуту cogitatio.
Половцова ссылается на дефиницию первую из Декартовых «Аргументов» (в его Ответах на вторые Возражения):
«Словом мышление я объемлю все то, что существует в нас таким образом, что мы непосредственно это осознаем. Так, все действия воли, интеллекта, воображения и чувств суть мысли» [С 2, 127].
Спиноза поставил эту дефиницию на первое место в РРС. Однако это ни в коем случае не его собственное понимание мышления. Сам Спиноза действия внешних чувств полагал телесными, и все чувственные образы считал «состояниями тела»[447], а не духа, и значит, не мыслями (cogitationes); кроме того, волю и интеллект рассматривал как «одно и то же». Стало быть, он в отличие от Декарта, причисляет к мышлению далеко не все, что мы «непосредственно сознаем», но одни лишь идеи воображения и интеллекта, плюс сопутствующие им идеальные аффекты — радость, гнев, стыд и пр. Для Спинозы «мыслить» (cogitare) значит не просто «сознавать» — воспринимать что угодно и каким угодно способом, — но приобретать идеи; Декарт же называл «мышлением» любые действия духа и «мыслями» — любое содержимое сознания: как идеи, так и чувственные образы вещей, а также аффекты, эти «страсти души» (les passions de Tame).
Итак, если для перевода Декартова термина «cogitatio» словом «сознание» имеются некоторые (впрочем, недостаточные) основания, то в случае Спинозы такой перевод решительно никуда не годен ни с филологической, ни с философской точки зрения. Уж лучше бы Половцова сочинила очередной латинизм: слово «когитация» режет слух не больше, чем «рацио» или «имагинация»…
Как филолог Половцова не сильна. В этом ремесле она, несмотря на свободное владение несколькими языками и солидный опыт переводов, уступает вполне рядовым авторам, переводившим труды Спинозы и не очень-то смыслившим в его философии. Зато ее переводу нет равных по части понимания спинозовского текста. Языковые погрешности проистекают у нее от плещущего через край стремления как можно точнее донести смысл каждой строки, каждого термина. Вот уж в этом плане переводы Половцовой — вне конкуренции.
Отличие идей интеллекта от имагинативных идей. Как неадекватная идея воображения превращается в ложную. Что же есть истина. Отличие истины от заблуждения. Понятие достоверности (certitudo) у Спинозы. Проблема истинности исходных дефиниций. Их отличие от реальных дефиниций.
Половцова была абсолютно права, когда писала, что, не проводя с должной строгостью границу между двумя формами познания — интеллектом и воображением (имагинацией), — мало что можно понять в философии Спинозы (то же верно и в отношении Декарта). В этом смысле его теория познания — Логика, понятая как «медицина духа» и «истинный метод» усовершенствования интеллекта, — действительно составляет краеугольный камень всего учения Спинозы. Увы, этот камень «презрели строители»: не только участники печальной памяти баталий двадцатых-тридцатых годов или Соколов с Кониковым, но и гениальный психолог-спинозист Выготский, и даже влюбленный в Спинозу Мастер диалектической логики Ильенков, не сумели в должной мере его оценить. О русских комментаторах дополовцовской эры, включая Введенского с Соловьевым, нечего и говорить.
«Интеллект» для Спинозы равнозначен «истине», это область «адекватных» идей; напротив, «воображение» — область идей «смутных и неадекватных». Интеллект движется по цепочке причин и следствий, тем самым проникая в сущность вещей; воображение схватывает лишь внешние связи вещей, увязывая их чувственные образы в ассоциативные ряды.
Половцова уточняет, что, как таковые, идеи воображения не истинны и не ложны, просто они поверхностны—не идут вглубь явлений. Ложными они становятся в том случае, если мы утверждаем нечто такое, чего нет в идее воображаемой вещи как таковой. К примеру, идея кентавра (ассоциация образов человека и лошади) сама по себе не является ложной, до тех пор пока не утверждается существование кентавров в природе или же кентавр не принимается за причину каких-либо реальных событий. Одно дело, когда воображение ассоциирует, увязывая вместе, чувственные образы вещей, и совсем иное, когда воображение берется связывать и упорядочивать идеи. В первом случае формируются просто неадекватные идеи, во втором — идеи ложные.
Люди воображают, что земля под ногами покоится, — в этой идее нет ничего ложного, если только из нее не пытаются вывести идею движения небесных тел, создать на ее основе астрономическую теорию. Так неадекватная идея превращается в идею ложную, в заблуждение. Но и после того как интеллект устранил заблуждение, выяснив причину, вследствие которой «земная твердь» воспринимается нами неадекватно, как покоящаяся, мы не перестаем воображать ее таковой. Воображение по самой природе своей неспособно создавать адекватные идеи.
В посвященном Спинозе очерке втором «Диалектической логики» Ильенков превосходно описал механику формирования чувственных образов — движением живого тела по контуру внешних тел. Незадача в том, что Ильенков принял эти образы за идеи, которые вдобавок счел «адекватными», тем самым полностью смешав содержания воображения и интеллекта. Интеллект (адекватное познание) вообще не имеет дела с внешними контурами тел, это целиком и полностью прерогатива воображения. Адекватным может быть лишь знание причин вещей, но никак не «контуров», не внешних форм их бытия в пространстве-времени. По той причине, что контуры тел обусловлены не только их собственной природой, но и природой внешних тел, действующих на данное тело. Поэтому любое, даже самое точное знание контуров тела оказывается, по Спинозе, неадекватным природе данного тела — смешанной, смутной идеей (idea confusa). В нем смешаны (confundere означает «перемешивать, запутывать») до полнейшей неразличимости действия бесчисленного множества разных по своей природе вещей.
Сами формы пространства и времени не позволяют получить адекватное знание, полагает Спиноза. Интеллект вообще не имеет дела с продолжительностью (duratio) вещей, то есть с их пространственно-временными определениями. Он мыслит вещи всецело «под формой вечности» (sub specie aeternitatis). Спиноза не менее строго, чем Кант, различал чистые формы чувственности и собственно логические формы мышления.
И еще Спинозу не устраивает классическая, восходящая к Аристотелю дефиниция истины как «соответствия мышления и вещи» — совпадения (лат. adaequatio) форм знания и предмета. Как очень верно заметила Половцова,
«истинная или адекватная идея носит в себе самой критерий своей истинности и не зависит ни от какого внешнего критерия, вроде, например, сравнения с объектом, или, как говорит Спиноза, с идеатом… Она не нуждается ни в каком внешнем признаке. Истинная идея должна согласоваться со своим идеатом, но не потому истинна, что она согласуется с ним»[448].
Спиноза называл согласие знания с предметом «внешним признаком» (denominatio extrinseca) истины [Eth2 df4]. Этот признак действительно присутствует в составе всякой истинной идеи, однако вовсе не он делает идею истинной. Кроме того, ложные идеи тоже всегда соответствуют чему-либо реальному. Идей, начисто лишенных реального содержания, не бывает. Любое заблуждение покоится на поставляемых воображением фактах. Просто факты эти недостаточны для понимания самой сути дела или предмета.
«Всякое заблуждение… бывает лишь частичным и в каждом ошибочном суждении всегда должно быть и нечто истинное»,
— напишет в своей «Логике» старый Иммануил Кант[449].
Проблема в том, как отделить зерна истины от плевел заблуждения? Сравнить идею вещи с «вещью в себе» — невозможно. Это Спиноза понимал не хуже, чем Кант, и потому он всецело полагался на внутреннюю достоверность истинных идей.
«Несомненно, что истинная мысль отличается от ложной не только внешним признаком, но в особенности внутренним»[450].
Настоящая истина не нуждается в сравнении с реальной вещью, она сама себя удостоверяет, или, как говорит Спиноза, «veritas sui sit norma» — истина есть критерий себя [Eth2 pr43 sch]. Никакого внешнего критерия, который позволял бы различить истинное от ложного, не существует вовсе!
Это его положение, вне всякого сомнения, направлено своим острием против аристотелевского понимания истины. «Истинная идея должна совпадать с ее предметом (идеатом)»[451], однако критерием истины это внешнее совпадение ни в коей мере не является. К примеру, если некий мастер создал идею здания, эта последняя может быть истинной, хотя бы ее предмет никогда не существовал, то есть независимо от того, было ли это здание построено. И напротив, если кто-нибудь утверждает, что Петр существует, не зная этого достоверно, его мысль не является истинной, хотя бы Петр и существовал. Следовательно, в самих по себе идеях имеется нечто реальное, что и отличает истинные идеи от ложных [TIE, 21–22]. Это «нечто» Спиноза именует достоверностью (certitudo).
Достоверность не простое отсутствие сомнения или соответствие фактам, принимаемое за «достоверность» в области имагинативного знания, подчеркивала Половцова. Достоверность идеи делает ненужными, попросту излишними какие бы то ни было подтверждения ее извне — как «верификации» фактами чувственного опыта, так и признание со стороны других людей. Если же принятие некой идеи зависит от внешних критериев, обусловлено ими, а не внутренними достоинствами идеи, значит данная идея не истинна. («Неистинная» идея не выражает сущность предмета и является «смутной», но при этом она вовсе не обязательно ложна, уточняет Половцова).
Спинозовская «достоверность», certitudo, — нечто много большее, чем чувство уверенности в своей правоте, чем убеждение в истинности своего знания. Эта достоверность есть предметное содержание идеи, или ее «объективная сущность», говоря языком Спинозы.
«Достоверность есть не что иное, как сама объективная сущность»[452].
Это его суждение об истине, кажется, насквозь пропитано флюидами догматизма. Однако по существу единственной альтернативой ему в истории философии оказался Кантов агностицизм, утверждавший, что у истины нет совсем никаких критериев — ни внешних, ни внутренних. Поиски же внешних критериев истины, многие столетия ведшиеся в русле эмпирической философии, в XX столетии окончательно зашли в тупик. Доказывать правоту своих идей ссылками на факты опыта, все равно, что стучать кулаком по столу, — такой неутешительный итог подвел исканиям эмпириков один логик-острослов, воспитанник Венской школы и пылкий критик всякого догматизма.
Проблему соотнесения знания с предметом решить нельзя, невозможно — но не потому, что предмет как таковой «не может быть дан» познающему субъекту, как полагал Кант, а потому, что то «знание», которое требует особой проверочной операции соотнесения себя с предметом, не является адекватным. Это мнимое знание, или псевдознание предмета. Знание данного предмета лишь на словах, а не на деле.
Человек, действительно знающий предмет, не нуждается ни в каких иных «критериях» истинности своего знания. Он почерпнул свои знания не с чужих слов (ex auditu, для Спинозы это самая неадекватная форма восприятия предмета) — но непосредственно в самом предмете. И потому сам предмет тут является источником «достоверности» знания, гарантом истинности своей идеи. Знание слилось с своим предметом, сделалось идеальной формой его, предмета, бытия. Истинное «понимание есть простое страдание», ибо не мы тут судим о вещи, а «сама вещь утверждает или отрицает в нас нечто о себе» [KV 2 ср16].
Эту спинозовскую тему имманентной достоверности знания, снимающей неразрешимую, более того, нелепую, задачу соотнесения знания с предметом, великолепно развил Эвальд Ильенков:
««Знание», которое еще приходится специально соотносить с предметом, вовсе и не есть знание как таковое, а есть только иллюзия, есть только суррогат знания…
При этом происходит вовсе не усвоение предмета (а знание ни в чем другом, кроме этого, и не может заключаться), а лишь усвоение фраз об этом предмете, лишь усвоение вербальной оболочки знания вместо знания.
Здесь-то и таится корень той иллюзии, на почве которой потом и вырастает своеобразная и по сути своей нелепая, иррациональная проблема «соотнесения» знания с предметом. Это проблема, которая рационального решения не имеет и иметь не может по самой ее природе» [453].
«Если исходной точкой является реальное действие с предметом, сопровождаемое наблюдением над способом действия («рефлексией»), то… знание при этом и выступает для человека именно как знание вещи, а не как особая, вне вещи находящаяся структура, которую еще нужно как-то к этой вещи «прикладывать», «применять», совершая для этого какие-то особые действия…
Вот в чем роковая разница. Человек гораздо реже видит и знает предмет, чем думает. Чаще всего в предмете он видит только то, что знает со слов других людей, поскольку с самим предметом он, по сути дела, и не сталкивается»[454].
Особенно остро проблема достоверности встает при определений исходных понятий и аксиом всякой теории. Ведь от них зависит весь ход исследования, и их истинность или ложность передается всем последующим, выводимым из них положениям. Половцова особо подчеркивает важность отдела о формировании определений в TIE, выставляя следующее сильное утверждение:
«Без данных этого трактата невозможно сознательное отношение к основным определениям и аксиомам первой части Этики; между тем все дальнейшие положения и схолии являются только развитием и расчленением содержаний, данных в этих определениях и аксиомах»[455].
Из переписки разных лет мы видим, как старательно Спиноза отбирал и шлифовал дефиниции для «Этики». Конечно, если эта предварительная работа оставляется без внимания, понять характер его исходных определений — дело совершенно невозможное. Это не удалось даже Гегелю, в чьих трудах мы не находим ни единого свидетельства знакомства с TIE. Не упоминается и само название трактата.
Как ни странно, и в наши дни историки философии, в абсолютном своем большинстве, критериями оценки спинозовских дефиниций делают схоластическую дистинкцию реальных и номинальных определений да стандарты, восходящие к «Началам» Евклида. Неудивительно, что их хронический спор на эту тему зашел в тупик.
Поскольку сам Спиноза не раз подчеркивал, что его дефиниции выражают сущность, природу, ближайшую причину существования определяемой вещи, постольку номинальными их никак не назовешь. Нельзя считать их и реальными, так как в них говорится не о том, что есть, существует, а о том, что мыслится в определяемой вещи. На это недвусмысленно указывают словечки «intelligo» (понимаю), «dico» (говорю), «voco» (зову), «appello» (именую), фигурирующие во всех без исключения исходных дефинициях «Этики». Однако имеются там и иные, итоговые дефиниции — в которых говорится, что есть (est) та или иная вещь, а не только как она должна мыслиться. Таковы определения аффектов в конце части III.
Стало быть, схоластическая дихотомия «номинальное — реальное» ровным счетом ничего не дает для понимания исходных дефиниций «Этики». Трудно понять, отчего на ней так зациклились комментаторы, учитывая, что всем отлично известна классификация дефиниций, данная самим Спинозой в письме 9 (к де Фрису). Известны и его слова о негодности теории определения Аристотеля и схоластиков [KV 1 ср7]. Ну не глупо ли помещать дефиниции Спинозы в эту, явно неприемлемую для него систему координат?..
Половцова верно разобралась в этом вопросе, указав, что истинные определения Спинозы отличны «как от поминальных, так и от реальных определений традиционной логики, с их родами и видовыми отличиями»[456]. Не менее правомерен упрек в адрес Гегеля и его эпигонов (в частности, Франка), у которых определение-definitio смешивается с определением-determinatio. Однако и сама Половцова допустила просчет, не придав значения слову «intelligo» в исходных дефинициях «Этики». Это «я разумею» как раз и позволяет автору «Этики» оставить исходные дефиниции без всякого доказательства. Нельзя же требовать доказательства того, что я мыслю нечто, или мыслю какую-либо вещь так, а не иначе. Однако стоит заменить «intelligo» на «est» (есть — существует), и дефиниция немедля превратилась бы в требующую доказательства теорему.
Для исходной дефиниции необходимо и достаточно, чтобы в ней мыслилась сущность (природа) вещи[457]; о характере существования вещей она не вправе судить. Не только излишне, но и ошибочно было бы утверждать в исходной — не доказываемой—дефиниции, что та или иная вещь существует, а тем более определять конкретные формы ее бытия. «Intelligo» ограничивает область определения сферой сущности, полностью отсекая все многообразие определений существования вещи.
Без сомнения, «intelligo» в устах Спинозы означает, что определяемая сущность мыслится адекватно, ибо интеллект есть область адекватных идей. Половцова права, утверждая, что, как все идеи интеллекта, исходные дефиниции должны быть истинными, а не просто словесными, номинальными. Но — истинными в самих себе, независимо от их отношения к реальным вещам, как они существуют «extra intellectum». Спиноза уточняет, что «мы можем иметь истинные идеи несуществующих модификаций»[458], а значит, смело можем давать определения даже несуществующим вещам. Для дефиниции некой мыслимой сущности не имеет значения ни то, существует ли вещь с такой сущностью, ни то, как она существует или почему не существует.
Стало быть, неверно, что исходная дефиниция «выражает объективную сущность некоторой в смысле Спинозы реальной вещи»[459]. В ней дается определение не реальной, а поначалу только мыслимой сущности. Реальность последней автору «Этики» предстояло еще доказать. Иначе чем бы исходные дефиниции отличались от теорем?
Обращаясь к данной в [Ер 9] классификации определений, Половцова ошибочно зачислила исходные дефиниции «Этики» в первый род (определения реальных вещей), по-прежнему игнорируя слово intelligo, которое, как прямо указывает там Спиноза, фигурирует только в определениях второго рода (мыслимых сущностей). Это их опознавательный знак.
Воспользуемся наглядным примером.
«Под Богом я разумею абсолютно бесконечное сущее…»[460], —
гласит исходная дефиниция, определяющая сущность Бога. В последующих теоремах к этому понятию о сущности Бога прибавляются два конкретных определения его бытия:
«Бог есть вещь протяженная» и «Бог есть вещь мыслящая»[461].
Тем самым определение мыслимой сущности вещи превратилось в определение формы ее бытия. Вследствие чего «intelligo» поменялось на «est». Это не просто номинальная замена. Между начальным и финальными определениями Бога лежит массив доказанных теорем, благодаря которым и делается возможным конкретное знание форм существования (атрибутов) Бога.
Понятие вещи как действующей причины. Спинозизм как философия дела. Формула: сущность = причина — активность. Двоякая сущность идей. Характер соответствия реальных причин и логических оснований. Возражения Шопенгауэру. Категория exprimere у Спинозы: диалектика выражения единого во многообразии. Спиноза как логик и метафизик (Половцова против Робинсона). Доказательства реальности атрибутов субстанции. Половцова о конкретности всеобщих понятий протяжения и мышления.
Раздел «Idea и res у Спинозы» в книге Половцовой принадлежит к числу лучших, самых глубоких мест в мировом спинозоведении. Тут впрямую затрагивается логический нерв спинозовской философии — положение о тождестве порядка и связи идей и вещей. Мало кому из позднейших исследователей удалось так здорово его схватить и осмыслить, как это сделала Половцова.
Уже при переводе термина «res» возникают трудности. Русское слово «вещь» означает нечто бездеятельное, пассивное, тогда как в перечне значений латинского res встречаем: «действие, деяние, дело»[462]. Res gestae в переводе — «деяния великих, подвиги».
В свое время Гегель блестяще обыграл этимологию слов Sache и Sage — «вещь» и «вещание, быль». Еще он как-то заметил, что духу радостно встречать слова, соединившие в себе контрарные значения. Таково и латинское res — и «вещь», и «деяние, дело». Для Спинозы всякая вещь есть в сущности своей то, что она делает, есть сумма всех своих действий. Эта деятельная сущность вещи проявляется бесчисленными способами, и модус (modus) есть не что иное, как особый способ ее проявления в том или ином атрибуте субстанции.
Нашему уху непривычно слышать, как «вещами» именуются и человек (в особенности человеческий разум или дух), и государство, и мир, и Бог. А в латинской речи это звучит вполне натурально, благодаря как раз «деятельностной» семантике слова res. Половцова была, насколько мне известно, первой, кто понял спинозовское учение как философию дела.
«Сама сущность есть причина, и она же есть активность»[463], —
эта короткая формула Половцовой дает нам ключ к любым, самым трудным проблемам спинозовской философии.
Вскоре к тому же самому выводу придет ее британский брат по разуму Хэролд Фостер Хэллетт в своей книге «Вечность. Спинозистское исследование»[464]. Он еще старательнее и много резче станет подчеркивать деятельностный смысл всех и каждой категории спинозовской философии, уже на склоне лет написав:
«Все интерпретации учения Спинозы, которые не отдают должного его активизму…, тем самым изначально являются увечными [~ хромыми]»[465].
Вероятнее всего, Хэллетт ничего не знал о работах Половцовой, хотя утверждать это наверное нельзя: они почти ровесники, жили в одном городе и не исключено, что были лично знакомы, ибо профессор лондонского Королевского колледжа Хэллетт в то время возглавлял британское Общество Спинозы (1929–1935).
Половцова разъясняла, что активность, деятельность, в спинозовском ее понимании, «не равнозначна с деятельностью в обычном смысле слова»[466]. Далеко не любые наши действия на самом деле являются «активными», но лишь те, которые обусловлены нашей собственной природой, говоря шире, те, что вытекают из сущности вещи. Действия, причиной которых является сама действующая вещь, а не навязанные ей извне силой обстоятельств, противные сущности этой вещи и ее разрушающие.
Характерный спинозовский оборот речи «actu existere» Половцова переводит как «существовать активно» (обычно «actu» переводится как «актуально, действительно») и предостерегает от смешения этой, постигаемой интеллектом, формы существования с имагинативной продолжительностью — duratio, или «существованием во времени». Увы, наш главный эксперт по Спинозе последних лет, В. В. Соколов, не внял этому memento и, не мудрствуя лукаво, толковал высшую форму «активного существования» — спинозовскую вечность, Aeternitas, — как бесконечно длящееся время.
Существовать actu означает быть действующей причиной чего-либо, то есть формировать своими действиями нечто реальное, детерминировать (определять к бытию) тую вещь. «Причина» — еще одно, в глазах Спинозы важнейшее, значение слова «res»[467]. Иной раз он заменяет слово «res» словом «causa» (причина), как если бы они были синонимами. Так, в [Eth2 pr9 dem] он пишет:
«Порядок и связь идей (по теор. 7 этой части) те же, что порядок и связь причин»[468].
Меж тем в указанной теореме, стоящей чуть выше, значилось-то не «причин», а «вещей»! Быть вещью и быть причиной каких-либо действий тут явно значит одно и то же. Для интеллекта «вещь» = действующая причина (causa efficiens). Между реальными вещами нет и не может быть никакой иной связи, кроме причинно-следственной. Даже имагинативная (ассоциативная, в формах пространства и времени) связь чувственных образов вещей является не чем иным, как неадекватной, «превращенной» формой выражения истинной, каузальной связи вещей — конкретнее, формой действия внешних тел на тело человека. Такое действие в теле человеческом вызывает страдательное состояние, аффект, а в духе — некую смутную и неадекватную идею этого состояния тела, «страсть» (passio).
Идея вообще есть, по Спинозе, объективная сущность (essentia objectiva) всякой вещи. Саму эту вещь он именует формальной сущностью. «Объективное» означает на языке того времени выраженное идеально, представленное в качестве объекта идеи; ему противополагается «формальное» — как реальное, действительное, актуальное. Тонкость тут в том, что идеи, как модусы мышления, по Спинозе, тоже обладают реальностью, то есть особой формальной сущностью. Всякая идея, таким образом, имеет двоякую сущность — объективную и формальную. Половцова по обыкновению безупречно сориентировалась в этих хитросплетениях терминов.
В каких целях Спинозе понадобилась вся эта схоластическая терминология? С ее помощью он хотел выразить специфику идеи, как модуса мышления, в сравнении с модусом протяжения, каковым является тело. Модусы протяжения имеют лишь одну сущность (выражаемую особой пропорцией движения и покоя их частей). Сущность модусов мышления, идей, двояка, или, лучше сказать, двумерна. Любая идея существует и может мыслиться в двух разных измерениях: formaliter — как идея вещи, и objective — как идея вещи.
Дело осложняется тем, что сущность вещи, являющейся объектом (идеатом) идеи, в свою очередь многомерна. Точнее говоря, бесконечномерна: она действует «параллельно» во всех бесчисленных атрибутах субстанции, образуя в каждом из них особый модус, а тот, в свою очередь, является объектом особой идеи в атрибуте мышления, и в этом смысле имеет свой персональный «дух». Этим объясняются странные, на первый взгляд, слова Спинозы в письме Чирнгаусу: у всякой вещи имеется бесчисленное множество душ, которые ничего не знают одна о другой [Ер 66].
Идей без идеата, то есть мыслей ни о чем, не бывает. Всякая идея выражает нечто реальное, и в этом смысле идея должна соответствовать (convenire) своему идеату. Это положение Спиноза поместил среди аксиом. Идея и идеат, или сущность объективная и формальная, — это две стороны одной медали, два способа бытия одной и той же вещи. Но это два разных способа ее бытия (= действия).
Такова суть яростных — иначе и не скажешь — протестов Половцовой против обвинения Спинозы в смешении реального с логическим, в формальном отождествлении causae и rationes — причин вещей с основаниями (резонами) идей. Ей отлично известен первоисточник этого, по ее словам, «абсурдного воззрения»: Шопенгауэр дал пример того, как не следует понимать философию Спинозы, — храбро заявляет Половцова, обещая «подробно рассмотреть в специальном исследовании» учения Спинозы и Шопенгауэра о видах причин.
Соответствие, согласие (convenientia) идеи с идеатом нельзя понимать как тождество, подчеркивает Половцова[469], ссылаясь на слова Спинозы:
«Истинная идея есть нечто отличное от своего идеата» [TIE, 11].
Равным образом выражение «causa sive ratio» не означает тождества реальных причин и логических оснований. Логическое отношение основания к следствию есть лишь одна из форм выражения реального отношения причины к действию. Это та особая форма, которую каузальное отношение получает в атрибуте мышления. Ratio, пишет Половцова, есть «causa по отношению к идеям»[470], то есть это особая форма проявления каузального отношения в мире идей. Если это и тождество, то никак не формальное, но — тождество различенных. Одинаковы, тождественны (idem est, дословно: «есть одно и то же») лишь порядок и связь идей и вещей; идеи же как таковые вполне отличны от вещей, а логические основания — от реальных причин.
Другой пример тождества различенных дает нам отношение атрибутов и субстанции. У Половцовой, как и у самого Спинозы, не встретишь диалектической фразеологии, однако понимание Бога как единой субстанции, выражающей себя целиком и полностью в неисчислимом многообразии своих атрибутов, — есть диалектика чистейшей воды. Ибо что вообще такое диалектика, как не учение о единстве многообразного и не умение мыслить «все в одном» и «одно во всем»?
Ключом к пониманию отношения единого и многого, единой субстанции и множества ее атрибутов и модусов, является категория выражения. В атрибутах и модусах выражает (exprimit) себя субстанция. Уточняя термин exprimere, Половцова показывает, что речь идет не о субъективном выражении, не о мысленной абстракции, расщепляющей реальность вопреки ее единству, а о выражении истинном, абсолютно адекватно передающем единство субстанции[471]. Не интеллект раздваивает субстанцию на вещь мыслящую и вещь протяженную, как неверно полагал Гегель, а сама субстанция выражает себя двояким образом. Интеллект не причина, а следствие (и вместе с тем особая, идеальная форма) этого ее двоякого полагания[472] и бытия. Неверно и то, что спинозовская субстанция при этом делится, «раздваивается»; скорее уж она умножается, ибо в каждом своем атрибуте субстанция выражается вся целиком. Таким образом акт самовыражения субстанции нисколько не разрушает ее единства, не расщепляет на части. Субстанция не перестает быть единой, тождественной себе в каждом из своих бесконечных выражений. Конкретнее ее единство предстает как всеобщий, абсолютно идентичный в протяжении и мышлении порядок и связь вещей (ordo et connexio rerum). Этот миропорядок, эти вечные и неизменные законы природы и есть не что иное, как сама субстанция — Deus in rebus, «Бог в вещах».
Половцова оспаривает предложенное Куно Фишером толкование атрибутов как «сил» субстанции, отличных от субстанции как таковой. Атрибуты в сумме своей = субстанция (или, лучше сказать, не «в сумме», а взятые в интеграле — от латинского integer, «цельный»). Никакой иной реальности, помимо атрибутов, у спинозовской субстанции просто нет:
«Реальность атрибутов есть сама реальность субстанции, познаваемая путем интеллекта»[473].
Та же самая мысль, с аналогичной критикой Фишера, но снабженная более обстоятельной аргументацией, проведена в книге Льва Робинсона «Метафизика Спинозы»[474]. И вышла она в 1913 году, как и работа Половцовой. Эти две книги поразительным образом совпадают еще во многих других моментах, и даже в исходном замысле. В Предисловии Робинсон заявляет о необходимости «уразуметь ее [систему Спинозы], обнять как внутренне непротиворечивое, в себе законченное целое». Не менее резко, чем Половцова, осуждая любителей «прибегать… к допущению безнадежных противоречий, отягощавших якобы концепции философа» [475].
Однако по духу своему работы Робинсона и Половцовой заметно разные. Для Робинсона Спиноза по преимуществу метафизик, занятый раздумьями о Боге и душе, о бессмертии и свободе человека; для Половцовой он прежде всего логик, разработавший мощный метод «усовершенствования интеллекта».
Половцовская интерпретация намного оригинальнее и, на мой взгляд, глубже. В основе спинозовской философии действительно лежит логический метод, разработанный главным образом в TIE. Не владея этим методом, с его ключевой дистинкцией форм познания — интеллекта и воображения, не руководствуясь этим методом сознательно на каждом шагу, «уразуметь и обнять» учение Спинозы «как внутренне непротиворечивое, в себе законченное целое» — затея решительно невозможная.
И потом, сам Спиноза не раз повторял, что в усовершенствовании интеллекта видит конечную цель (finis), к которой «должны быть направлены все наши действия и мысли» [TIE, 6]; что интеллект — наша «лучшая часть» (melior pars), и потому в его усовершенствовании должно состоять высшее благо [ТТР, 43]; что в жизни самое полезное — совершенствовать свой интеллект, в этом одном заключается для человека наивысшее счастье или блаженство [Eth4 ар сар4]. А ведь Логика и есть не что иное, как теория и метод усовершенствования интеллекта! Именно так определяет ее предмет Спиноза в [Eth5 prf].
Amor Dei intellectualis — это любовь к мышлению и к знаниям, а вовсе не любовь к некоей высшей, божественной субстанции, как представляется многим «метафизикам». Бог вовсе не существует отдельно от единичных вещей. Чем больше знаем мы (intelligimus) единичные вещи, тем больше знаем Бога, пишет Спиноза [Eth5 pr24]. Поэтому понятливый школьник, штудирующий учебник истории или природоведения, на деле любит Бога сильнее, чем папа римский. Наука об интеллекте — Логика, и только она, владеет методом, позволяющим отличить истинную, интеллектуальную любовь к Богу от любви воображаемой, религиозной, питаемой не светом разума, а слепой верой.
Половцова эту логическую аорту спинозовской философии сумела увидать, а Робинсон — нет. Он нечасто обращался к текстам TIE и, в целом, понял этот трактат не слишком глубоко. Но вот понимание спинозовской субстанции как «единства многородного» у Робинсона заслуживает высокой оценки. В этой части он Половцову превзошел: ушел в том же самом направлении дальше нее.
И Половцова, и Робинсон категорически возражают против (идущего еще от Якоби и подкрепленного авторитетом Гегеля) понимания спинозовской субстанции как инертной, недеятельной, и вдобавок абсолютно индифферентной, первоосновы мира, а ее атрибутов и модусов — как «различений, делаемых внешним рассудком»[476]. Робинсон доказывает реальность атрибутов простейшим способом — апеллируя к собственным словам Спинозы: атрибуты субстанции реально различны (realiter distincta) и все вместе составляют (constituunt) одну субстанцию.
«Бог состоит из атрибутов, а не только для нашего интеллекта… выражается в них»[477].
Половцова же и тут, как обычно, предпочла аргумент логического порядка: так как все идеи интеллекта истинны, то атрибуты, посредством которых интеллект воспринимает (percipit) или выражает (exprimit) субстанцию, должны существовать и вне интеллекта, как реальные различия внутри самбй единой субстанции.
«Единое» для Спинозы вовсе не означает «лишенное различий», что бы там ни говорил Гегель или повторяющий его недоразумения Франк. Неправильно говорится у Франка и о «множественности» атрибутов, замечает Половцова. Они, по Спинозе, не множественны, а бесконечны. Истинная бесконечность не может быть выражена никаким числом, определенным или неопределенным. Бесконечность внечисленна. Слово «бесчисленное», означающее нечто невыразимое посредством чисел, Половцову не устроило. Приставка «вне-» призвана показать, что по отношению к атрибутам субстанции сам вопрос о количестве их неправомерен, неадекватен. Бесконечное понимается Спинозой «как исключающее всякий вопрос о числах», следовательно, и бесконечность атрибутов субстанции стоит «вне всякого вопроса об измеряемом числом количестве»[478].
Тут Половцова не права. Спиноза не только не считал вопрос о количестве атрибутов неадекватным, но он сам ставил его и давал обстоятельный ответ, доказывая, что кроме тех двух атрибутов, что известны конечному человеческому интеллекту, должны существовать еще и другие, не имеющие числа — бесчисленные.
В положении «атрибуты субстанции бесчисленны» не содержится никакой идеи, никакого конкретного знания об атрибутах; слово «бесчисленное» дает всего лишь отрицательное выражение понятию актуальной бесконечности субстанции. Такое негативное выражение природы вещей характерно для рассудка: к числу его категорий (entia rationis) принадлежат вообще «все модусы, какими дух пользуется для отрицания (omnes modos, quibus mens utitur ad negandum)» [CM 1 cpl]. Эти пустые, негативные абстракции обязаны своим существованием ограниченности, конечности нашего интеллекта, и, однако, они вполне адекватны, при условии, что мы не примем их по ошибке за нечто положительное— за идею вещи. И не спутаем бесчисленность с наивысшим положительным свойством субстанции — с бесконечностью[479].
Чрезвычайно интересны и глубоки замечания Половцовой о конкретности всеобщих понятий (notiones communes) протяжения и мышления. Понятия атрибутов, пишет она, образуются не индуктивной абстракцией — «не отвлечением некоторого общего свойства от единичных вещей», или иными методами «релативистической логики». Спинозовские атрибуты могут быть поняты лишь при условии полнейшего «отвлечения от всех свойств единичных вещей»[480]. Ни одно свойство тел либо идей не должно приписывать in suo genere бесконечным атрибутам субстанции. Атрибуты протяжения и мышления не имеют ничего общего с единичными вещами, но сами суть нечто конкретно-общее для всех этих вещей.
«Notiones communes Спинозы, как и априорные формы Канта, являются не абстрактными общими понятиями, но едиными и единственными в своем роде данностями, — данностями, для которых нет ни соответствующего рода, ни вида»[481].
Я нахожу эти выкладки Половцовой логически безупречными. Далее оставалось сделать всего-то один, финальный шаг — понять атрибуты субстанции как конкретные формы действия законов природы, диктующих единичным вещам «порядок и связь». Одни и те же законы природы совершенно по-разному выражаются в материальном и идеальном своем «инобытии». Этот момент разности — бесконечное разнообразие действий субстанции на себя самое, как Природы порождающей (naturans) и, вместе с тем, порожденной (naturata), — и схватывается понятием атрибута.
Что до уничтожительной критики, которой Половцова подвергла вульгарное понятие «природы» у Франка (тот вслед за Авенариусом приписывал это понятие «раннему» Спинозе), то к ней мне нечего добавить. Эта «натуралистическая» интерпретация Спинозы, и впрямь, «полнейший абсурд»[482]. Непредвзятый читатель Спинозы без труда увидит, что его «Natura» есть нечто совершенно отличное от «Природы» в обычном смысле слова. Эту нашу Природу (= Вселенную) Спиноза счел бы, в лучшем случае, одним из бесчисленных модусов своей Натуры, этой равной Богу субстанции.
Параллелизм модусов и атрибутов субстанции. Возражения Чирнгауса. Несоизмеримость бесконечного с конечным. «Объективный» параллелизм субстанции и интеллекта в свете дефиниции бесконечного множества у Кантора. Субстанция как континуум атрибутов и счетное множество модусов. Несоизмеримость этих двух форм актуально бесконечного.
Одна из самых коварных, чреватых ошибками тем в спинозоведении — так называемый «параллелизм», то есть одинаковость порядка и связи модусов в бесчисленных бесконечных атрибутах субстанции. Сам этот геометрический термин нельзя назвать вполне удачным. Да, у Спинозы речь идет о равнозначности выражений одной и той же сущности, но все выражения эти лежат, так сказать, в разных «плоскостях». Всякий атрибут субстанции «в своем роде бесконечен» и постигается интеллектом «через себя». Отношение между модусами, выражающими одну и ту же вещь (причину) в двух разных атрибутах субстанции, — например, между человеческим телом и духом как идеей этого тела — аналогично отношению между геометрической кривой и описывающим ее алгебраическим уравнением. Разве математики говорят в этом случае о «параллельности» уравнения и кривой? Во всяком случае такая «параллельность» абсолютно разных выражений одной и той же математической «вещи» (величины) не имеет ничего общего с тривиальной параллельностью двух лежащих в одной плоскости прямых. Тут уместнее другой математический термин — «эквивалентность», или «равномощность».
Половцова неодобрительно относится к разговорам о «параллельности» атрибутов и модусов субстанции — состояний (affectiones) нашего духа и тела, в частности, — ибо за ними, как правило, прячется дуалистическое толкование отношений между мышлением и протяжением. Нечасто кто-то решается, как Эрнст Кассирер (Е. Cassirer), напрямую упрекать Спинозу в скрытом дуализме. Большинство ограничивается «параллелистскими» экивоками. Тем не менее, Половцова признает, что есть смысл «говорить, если угодно, о параллелизме» идей и вещей, или объективно (objective) и формально (formaliter) данных сущностей[483].
Тут, однако, имеется трудность, отмеченная еще в письме Чирнгауса [Ер 65]. Почему, спрашивается, дух не воспринимает соответствующих ему и его телу модусов в иных атрибутах субстанции? Спиноза на это отвечал, что всякая вещь выражается в бесконечном интеллекте Бога бесчисленными идеями, или, что то же самое, вещь имеет не один только дух, но бесчисленное множество душ [Ер 66]. Объектом всякой идеи, или духа, является только один какой-либо модус субстанции, и ничего более. Дух может воспринимать лишь те вещи, которые действуют на него (прочие идеи) или на его объект (в частности, тело), или же те, на которые действуют сам дух и его объект. Но между модусами разных атрибутов не бывает подобной деятельной, каузальной связи, значит и их «объективные сущности» — души — тоже никоим образом не могут быть связаны, не воспринимают одна другую.
Если бы дело обстояло так, возразил Чирнгаус, атрибут мышления пришлось бы признать «простирающимся много шире (latius), чем прочие атрибуты» [Ер 70]. Ведь если каждому модусу всякого атрибута субстанции соответствует особая идея интеллекта в атрибуте мышления, то число модусов мышления, идей, оказывается бесконечно бдлыиим, нежели число модусов любого иного атрибута субстанции. И даже ровно вдвое большим, нежели сумма всех модусов всех прочих атрибутов, учитывая, что каждой идее в атрибуте мышления соответствует особая «идея идеи» (idea ideae), или «рефлективная идея» (idea reflexiva).
Половцова еще более усугубляет данное «нарушение параллелизма», указывая, что интеллект ставится Спинозой «как бы в параллельное отношение» к самой субстанции со всеми ее бесконечными атрибутами. Интеллект «объективно» выражает сущность субстанции, всех ее атрибутов и каждого ее модуса в отдельности. При этом «формально» интеллект — всего-навсего модус одного из атрибутов субстанции!
Этот гордиев узел противоречий Половцова разрубила, заявив, что для Спинозы вопрос о числе применительно к бесконечным реальностям, таким как интеллект Бога или его атрибуты, лишен всякого смысла. Вещи бесконечные нельзя мерить не только числами, но и иными количественными категориями, выражающими конечные величины: шире — уже, больше — меньше[484].
Чирнгаус и прочие не сумели уяснить себе природу бесконечного, его несоизмеримость с конечным.
«Бесконечное, в смысле Спинозы, может соответствовать любому бесконечному, не становясь от этого больше или меньше, в каком бы то ни было смысле слова. Для математика это положение понятно само собой»[485].
Последнее заявление, прямо скажем, опрометчиво. Чирнгаус был первоклассным математиком[486], в этой области Спиноза ему не ровня. И вопрос о бесконечном для математиков уже в те времена был яблоком раздора, свидетельство чему — ожесточенные споры вокруг исчисления бесконечно малых[487]. В годы же, когда Половцова писала эти строки, полемика о бесконечных множествах как раз достигла своей кульминации. При желании можно усмотреть важные логические параллели между учением о бесконечном Спинозы и теорией бесконечных множеств Георга Кантора.
Бесконечное определяется Кантором как множество, которое можно поставить во взаимно-однозначное соответствие со своим собственным подмножеством. Именно такое «как бы параллельное отношение» между абсолютно бесконечной субстанцией и одним из ее модусов — бесконечным интеллектом, констатировала Половцова! А вот что говорится в этой связи у Робинсона:
«В божественном интеллекте objective содержится вся природа, сам Бог, содержится вся область абсолютно бесконечного, помноженная на коэффициент идеальности. И в этом-то смысле Спиноза божественный интеллект обозначает однажды (Epist. 64), как intellectus absolute infinitus»[488].
Такое вот выражение в философии Спинозы находит постулат, который Кантор называл «великим камнем преткновения» для математиков (Чирнгаус не стал исключением): у бесконечных множеств часть равна целому. Спиноза предпочел бы, наверное, сказать иначе: абсолютно бесконечное не имеет частей (то есть представляет собой континуум), зато имеет несчетное множество[489] атрибутов — особых, in suo genere бесконечных форм «отображения» абсолютно бесконечной субстанции в самое себя.
А вот модусы субстанции, в том числе intellectus infinitus, имеют части — бесчисленное, но счетное множество элементов. Как известно, Спиноза отрицал бесконечную (indefinita) делимость модусов протяжения и мышления — тел и идей. В TIE доказывается существование «простых идей» (каждая из них, взятая сама по себе, абсолютно ясна и отчетлива), а в [Ер 6] и [Eth2], в порядке возражения Декарту, постулируется существование «простейших тел» (corpora simplicissima) или неделимых «долей материи» (materiae portiones). Так как для модусов субстанции существует некий предел деления на части, их множество является счетным, то есть равномощным множеству целых чисел.
Хотя субстанция целиком и полностью «отображается» (выражается objective) в бесконечном интеллекте, все-таки formaliter субстанция «больше» своего модуса intellectus infinitus ровно настолько, насколько континуум больше любого счетного множества. Слово «больше» в данном случае не более чем количественная аллегория сугубо качественного превосходства одного вида актуально бесконечного (absolute infinitum) над другим (in suo genere infinitum). В подобном аллегорическом смысле мы говорим о «величайших гениях», «высоких чувствах», «низких поступках» и пр.
Печально знаменитые противоречия теории множеств свидетельствуют о невозможности выразить различие форм бесконечного при помощи чисел и вообще категорий количества. Кантор много толковал про несоизмеримость конечного и бесконечного, однако это лишь половина дела. Несоизмеримы между собой также и две формы бесконечного — счетное множество и континуум. Поэтому антиномии теории множеств никогда не могут быть разрешены средствами математики, в категориях количества. Они сигнализируют о выходе разума за пределы компетенции математики. Это по природе своей логические, а не математические противоречия.
Логически противоречиво уже само понятие «несчетного множества». Мы находим в нем прямой математический аналог кантовской «вещи в себе». Несчетное — то, что нельзя посчитать, — вообще не может сделаться предметом математики, этой науки счета, измерения величин. «Несчетное множество» — это уже не множество, а напротив—единство. Это субстанция всякого многообразия, реальная основа какого угодно «счетного множества» конечных величин (натуральных чисел, точек и т. д.). Впрочем, словосочетание «счетное множество» не более чем тавтология, как «круглая окружность».
Лежащее в основании теории множеств деление бесконечных множеств на несчетные и счетные, со спинозистской точки зрения, является неадекватным выражением деления актуально бесконечного на единое (субстанция, как континуум бесконечных атрибутов) и множественное (бесчисленные конечные и бесконечные модусы субстанции). При этом многие теоретические суждения Кантора о бесконечном, я полагаю, Спиноза охотно одобрил бы: само определение бесконечного множества, положения о несоизмеримости бесконечного с конечным и о первичности понятия актуально бесконечного по отношению к потенциальной бесконечности.
Или вот еще пример. Согласно Спинозе, бесконечный интеллект непосредственно (immediate) следует «из абсолютной природы» субстанции, как вещи мыслящей. Между субстанцией и бесконечным интеллектом нет никакой «промежуточной» инстанции, следовательно, их отношение вполне удовлетворяет знаменитой канторовской гипотезе континуума[490].
Спиноза как критик психофизики. О рефлективных идеях и специфике мышления. Взаимно-многозначное соответствие модусов протяжения и мышления. Закон всемирного отражения. Почему Спиноза не материалист. Словосочетание «мыслящее тело» бессмысленно. Двухмерный взгляд на человека. Ахиллесова пята философии Спинозы — проблема возникновения мышления. Смешение чувственных образов и идей у Ильенкова. Геометрическое и динамическое понимание материи.
Последний раздел книги Половцовой посвящен рассмотрению «современных психофизических теорий» с высоты спинозовской теории познания. Половцова настаивает, что уже сам предмет современной психологии — душа, область «психического» — кардинально отличен от предмета, рассматриваемого во второй части «Этики» («О природе и происхождении духа»). С точки зрения Спинозы, наша «психика» есть всего-навсего имагинативная, целиком из неадекватных идей состоящая часть человеческого духа. И тело человеческое, как воспринимает его душа — как она его чувствует в формах пространства и времени, не есть реальное наше тело. Это некая имагинативная проекция взаимодействия человеческого тела с некоторыми (чувственно воспринимаемыми) телами внешнего мира. Стало быть, заключает Половцова,
««дух» и «тело» в учении Спинозы не равнозначны душе и телу психофизических теорий»[491], —
и реальная связь духа и тела как модусов субстанции не имеет ничего общего с психофизической связью субъекта с объектом, как она понимается в этих теориях, с их «релативистической логикой».
А в книге Эрдманна открытым текстом предлагалось использовать вместо спинозовского, «метафизического» понятия субстанции «эмпирически-психологическое» обоснование параллелизма души и тела.
«Согласно ему, параллелизм состоит прежде всего только в том утверждении, что явления сознания представляют собой с точки зрения самовосприятия то же самое, что представляют собой некоторые определенные движения в нашем организме с точки зрения чувственного восприятия… Мы ограничиваем, кроме того, параллелистическую гипотезу исключительно той областью, которая доступна прямому наблюдению и достоверным умозаключениям по аналогии»[492].
Все содержимое этой области целиком и полностью у Спинозы числится по ведомству воображения с его чувственными образами и «смутными» идеями, всегда неадекватными реальным вещам с их строго каузальным порядком и связью.
Если понимать параллелизм души и тела в соответствии с новейшими психофизическими теориями, Спиноза оказывается их антагонистом, а не запутавшимся в противоречиях предшественником и соратником, как полагали сами «психофизики», считает Половцова. В истории философии нет другого образца столь непримиримой критики их представлений о связи души и тела, как тот, что дан в философии Спинозы. Все его учение об истинном познании являет собой пример абсолютно сознательного «нарушения параллелизма». С особенной наглядностью это демонстрируют «модусы атрибута cogitatio, данные в человеческом сознании, но не стоящие ни в каком отношении к телу»[493].
Половцова имела в виду спинозовские «идеи идей», которые в TIE именуются еще «рефлективными идеями». Робинсон справедливо называл это «любопытнейшее» понятие «камнем преткновения для ходячих интерпретаций спинозизма». Дело в том, что для этих чистых идей духа нет аналога среди модусов протяженной субстанции.
«Каким образом выходит так, что модификация мышления — идея — не только по-своему выражает то же сущее, что и протяженная вещь, но живет вполне самостоятельной жизнью, отображая нечто отличное от своего объекта, себя самое?»[494]
Далее Робинсон приводит отрывок из книги Дунин-Борков-ского, в котором тот выдает собственное неумение ответить на этот вопрос за очередное противоречие философской системы Спинозы. Со своей стороны, Робинсон показал, что проблема легко решается, при условии, что мы понимаем дух и тело как реально различные выражения субстанции, каждое со своими особыми (идеальными либо материальными) свойствами: тело движется, дух рефлектирует.
Если же, вслед за Борковским и прочими психофизиками, видеть в протяжении и мышлении лишь субъективные формы «раздвоения» субстанции в призме человеческого интеллекта, тогда «параллельность» протяжения и мышления объясняется исключительно нашим углом зрения на субстанцию. Пионером этой субъективистской трактовки отношений души и тела стал немецкий ученый и литератор Густав Теодор Фехнер, написавший в середине XIX столетия книгу «Элементы психофизики». К этой книге апеллировал и Эрдманн. Он привел пространную, более страницы, цитату, начинавшуюся следующим пассажем:
«То, что изнутри представляется тебе духом, — духом, в котором ты находишь самого себя, то самое извне кажется, наоборот, телесной подкладкой этого духа. Не одно и то же — думать мозгом или видеть перед собою мозг думающего. В каждом случае взору представляется вполне различное».
А завершавшуюся программными словами Фехнера:
«Учение об отношениях между духом и телом должно будет проследить отношения проявлений единого с обеих точек зрения»[495].
Никакого реального различия души и тела нет, есть лишь различие между двумя несовместимыми и в равной мере односторонними «точками зрения» на человека. Вот как. Теперь припишем эту «теорию» Спинозе, а после все не согласующиеся с ней положения объявим логическими противоречиями его системы. Такова, как показала Половцова, нехитрая стратегия, избранная многими и многими «осветителями» философии Спинозы. Нет в телесном мире походящей «параллели» для рефлективной идеи? Что же, вздыхает Дунин-Борковски, значит,
«здесь мы стоим перед затруднением, которое Спинозе не удалось никогда ни решить, ни преодолеть»[496].
Неразрешимое затруднение, действительно, имеется, однако не в системе Спинозы, а в голове «иезуитского патера». В его воображении, населенном параллелистскими химерами и генерирующем логические противоречия.
Да, всякая вещь выражается в протяжении одним и только одним телом; в мышлении же — одной идеей этого тела (mens, дух) плюс бесчисленными рефлективными идеями (идея духа, идея идеи духа и т. д.). Порядок вещей от этого никоим образом не нарушается по той простой причине, что рефлективная идея не есть вещь, отличная от духа как такового. Она лишь иной модус выражения в атрибуте мышления той же самой вещи, что и дух.
«Идея духа и сам дух есть одна и та же вещь, которая понимается под одним и тем же атрибутом, а именно мышления… Идея духа, т. е. идея идеи, есть не что иное, как форма идеи, поскольку она рассматривается как модус мышления без отношения к объекту»[497].
Такова рефлективная природа мышления, такова специфика этого атрибута в сравнении с атрибутом протяжения: вещь, выражаемую одним модусом протяжения, мышление выражает бесчисленными модусами. Между бесконечными множествами тел и идей тем самым устанавливается, так сказать, «взаимно-много-значное» (1/∞) соответствие: любому телу «параллельны» бесчисленные идеи.
Обладая свойством рефлективности, интеллект возводит всякую вещь в степень модальной бесконечности. Вот что говорится на сей счет у Робинсона:
«Как тело, потому что оно модус протяжения, обладает свойствами не принадлежащими духу, так духу, идее тела, потому именно, что он модус самостоятельного атрибута мышления, присущи свойства, которым нет подобных в ее, идеи, протяженном объекте. Как круг имеет периферию и центр, которых лишена идея круга, так идее круга присуще свойство быть объектом идеи идеи круга, каковым свойством обладает, подобно всякой, и эта последняя идея, и так без конца — аналогичного чему в самом круге нет ничего. Как тело, например, делимо, потому что оно тело, так дух способен к саморефлексии, потому что он дух»[498].
При этом нельзя ни на миг забывать, что различны только свойства модусов протяжения и мышления, но не их каузальный порядок и связь. Тела бесконечно движутся, идеи бесконечно рефлектируют, отражаясь одна в другой. Там действует закон всемирного тяготения, тут — закон всемирного отражения. Мышление и протяжение суть тотально разные атрибуты, их роднит лишь порядок и связь причин — только эта конкретно-всеобщая их субстанция, и ничего больше.
Объяснить свойства идей из движения тел поэтому невозможно. Всякая «материализация» учения Спинозы, по мнению Половцовой, «абсурдна». Спиноза не материалист: у протяженной природы нет никакого приоритета в отношении природы мыслящей. Абсурдна сама постановка вопроса: который из вечных и бесконечных атрибутов субстанции первичен? Проблема первичности имеет смысл там, и только там, где есть причинно-следственные отношения. Причина первична в отношении своих действий, но, как без конца твердит Спиноза, между мышлением и протяжением, между духом и телом, нет никакой каузальной связи! Следовательно, нет и вопроса о первенстве.
Увы, в советские времена из Спинозы старательно лепили материалиста (то механического, a lа Гоббс, то диалектического — «Маркса без бороды»), игнорируя или ретушируя все, что не вписывается в желаемый образ. Догмат о партийности научных теорий обязывал первым делом определиться с пропиской мыслителя в одном из двух веками враждующих философских «лагерей». Ну не отдавать же Спинозу идеалистам! — Сей бредовый лозунг выдвинул еще «первый русский крестоносец марксизма»[499] Георгий Плеханов, негодовавший по поводу того, что Спинозу «давно уже причислили к идеалистам». Нет, доказывал он, Спиноза был «несомненным материалистом, хотя его и отказываются признать таковым историки философии»[500]. Ссылаясь на свои беседы с Энгельсом, он доказывал, что марксизм является «родом спинозизма», и весь «современный материализм… представляет собой только более или менее осознавший себя спинозизм»[501].
Оставалось решить, как быть с отдельными достойными сожаления фразами, вроде этой вот:
«Я разумею тут под природой не одну материю и ее состояния, но кроме материи и иное бесконечное»[502].
Выход легко нашелся. Термином «материя» Спиноза, дескать, обозначает картезианскую протяженную субстанцию. Поэтому не надо понимать его слова как отказ от материализма вообще. Отвергнуто лишь Декартово механическое понимание материи. Спинозовское же понятие природы как субстанции вплотную приближается (а то и равнозначно) к материи в марксистском ее понимании, как объективной реальности вообще. Примерно в таком ключе рассуждали и Абрам Деборин сотоварищи, и Эвальд Ильенков, усмотревший в философии Спинозы «последовательный материализм»[503]. Имя собственное спинозовской субстанции — «Бог» — всуе они старались не поминать. А Соколов осмелился (чуть было не сказал: набрался наглости) изъять из русского перевода ТТР эпиграф, гласивший, что «мы пребываем в Боге, и Бог пребывает в нас» — in Deo manemus et Deus manet in nobis[504]. Допускаю, впрочем, что редактор Соколов мог попросту не знать о существовании эпиграфа. С него сталось бы.
На самом деле, Спиноза «материей» именовал не только Декартову, но и свою протяженную субстанцию[505]. И эта материя у него ничуть не «первичнее» мышления.
Рассуждая абстрактно, можно, конечно, приравнять спинозовскую Природу-субстанцию к марксистскому понятию материи либо к «Абсолютному духу», как то не раз проделывали гегельянцы. Конкретная разница обнаружится, как только мы приступим к исследованию человека, взаимоотношений его мыслящего духа и тела. Идеалисты считают дух сущностью тела; материалисты видят в духе особую телесную субстанцию или же форму движения тела (у марксистов это — общественное, «неорганическое» тело); Декарт полагал дух и тело двумя автономными субстанциями. Для Спинозы все три эти воззрения одинаково ложны. Тело и дух, учил он, — два абсолютно разных модуса бытия одной и той же вещи. Человеческое тело есть ближайший объект восприятия духа, но никакой не субъект, не субстанция и не причина его бытия. Мыслит вовсе не тело, но идея этого тела, дух.
Не знаю, где это Ильенков вычитал у Спинозы, что «мыслит не особая душа…, а самое тело человека»[506]. Мышление есть способ действия модуса протяжения, — трудно представить себе более вопиющее поругание взглядов Спинозы. Сделав дух предикатом тела, Ильенков далее вторит Фехнеру:
«Есть… всего-навсего один-единственный предмет—мыслящее тело живого, реального человека, лишь рассматриваемое под двумя разными и даже противоположными аспектами или углами зрения»[507].
Справедливости ради стоит отметить, что спинозовская «мыслящая вещь» мутировала в «мыслящее тело» задолго до Ильенкова. Кажется, первым был Лессинг — как известно, завзятый спинозист. Тот резюмировал свое (не)понимание спинозовской «Этики» словами:
«Душа не что иное, как мыслящее себя тело, а тело не что иное, как протяженная душа»[508].
Не в пример грамотнее прочел «Этику» другой немецкий поэт-спинозист, Гете, воскликнув устами Фауста: «В начале было Дело!» Вот вам Спиноза чистой воды. Не тело, а Дело есть субстанция и субъект мышления, мать-кормилица всех наших идей. Дух и тело — два реальных и совершенно разных измерения человеческих действий.
Словосочетание «мыслящее тело» для Спинозы ровно такая же бессмыслица, как и «телесная мысль». Понятие вещи (res) как «действующей причины» (causa efficiens) сводится тут к одной из ее модальностей — к ее телесному выражению. Меж тем, согласно Спинозе, вещь «человек» есть тело плюс дух. Человек — и модус протяжения, и модус мышления в абсолютно равной мере.
Вообще говоря, отношение вещи к ее модусам (в частности, к духу и телу) идентично отношению субстанции к ее атрибутам. Вещь — это сумма своих модусов, она целиком и полностью состоит из модусов и, вместе с тем, выражает всю свою сущность в каждом из них. Выражает реально, исчерпывающим образом — никакой абстрактной односторонности тут нет и в помине. Другими словами, идея всякого конкретного модуса субстанции дает полное знание вещи. Повторяю: любая идея интеллекта дает не односторонний «угол зрения», который нужно дополнить другим, столь же односторонним, но дает полное знание вещи, как действующей причины каких-либо других вещей.
Так, идея человеческого тела в бесконечном интеллекте, mens (дух), полностью выражает сущность не только своего объекта— тела, но и в целом человека, как вещи, состоящей из двух модусов субстанции — духа и тела. Objective она есть идея тела, a formaliter она идея тела, поэтому дух выражает вместе и природу своего тела, модуса протяжения, и свою собственную идеальную природу, как модуса мышления. У Спинозы нет двух раздельных, одномерных и взаимно дополнительных «точек зрения» — одна на дух, другая на тело, — но есть один двумерный взгляд на человека.
Спиноза ничего не ведал о том, как возникает в человеке мыслящий дух. Здесь — ахиллесова пята его философии. В [TIE, 10] он писал, что разум достался человеку от природы. Этот врожденный интеллект создает «природной силой» своей простейшие идеи, которыми затем пользуется как «интеллектуальными орудиями» для других «работ», то есть для изготовления более сложных и развитых идей, — «и так постепенно подвигается, пока не достигнет вершины мудрости». Откуда взялась у человеческого разума эта «природная сила» (vis nativa) и что это за «интеллектуальные работы» (opera intellectualia), Спиноза обещал разъяснить в другой книге, посвященной «моей Философии». Однако слова не сдержал.
Во всяком случае, отсюда явствует, что идеи возникают исключительно из работы ума, а отнюдь не из движений человеческого тела по контурам внешних тел, как представлялось Ильенкову. Опять Ильенков ошибся. Вернее сказать, тут имело место недоразумение. Все, написанное в «Диалектической логике» о возникновении «адекватных идей», у Спинозы на самом деле есть, только относится это не к идеям, а к чувственным образам. В этих контурных образах внешних тел нет ни грана идеального, они всецело материальны. В ходе движения по чужим пространственным контурам в теле рождается чувствующая душа, что способна лишь «оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим, и языком ощущать» (Парменид). Но никак не мыслящий дух. Сколько ни утюжь контуры внешних тел органами чувств и разными конечностями, ни одна, самая простенькая идея мозг твой не посетит, а лишь полчища чувственных образов вторгнутся…
Не по внешним контурам тел у Спинозы разумный человек действует, а по внутренней логике вещей, согласно потаенным законам их природы. Неужто нет разницы? «Законы движения небесных тел не начертаны на небе». Это Гегель. Или вспомните праотца диалектики Гераклита: «Природа любит прятаться», а значит, «тайная гармония лучше явной». Это только для какого-нибудь замшелого эмпирика наличные, чувственно воспринимаемые контуры суть альфа и омега мыслительного процесса.
Пространственные контуры тела формируются во взаимодействии его с внешними телами, в результате давления внешних тел. Сущность данного тела поэтому проступает в его контурах лишь отчасти, весьма неадекватно[509]. Спиноза отвергнул Декартово геометрическое определение материи. Сущность тел заключается в движении, а не в их пространственной размерности, величине и контурах.
«Всякая отдельная телесная вещь есть только определенная пропорция движения и покоя…» [KV vmz].
Этого новаторского — динамического — понятия протяжения и материи у Спинозы вовсе не заметили наши материалисты. Ильенков приписывает ему чисто картезианское понимание протяжения как «пространственной конфигурации и положения [тела] среди других тел»[510]. Меж тем, еще Половцова настоятельно предостерегала, что
«содержание «субстанции» протяжения по терминологии Декарта не совпадает с содержанием «атрибута» протяжения Спинозы, но смешивается у Декарта с содержанием материи или тел, неизбежно относящихся к модусам у Спинозы… Он указывает, например в письмах 81, 83 к Чирнгаузу, со ссылкой на Рr. Ph. С., что недоразумения Чирнгауза по поводу отношения атрибута протяжения к телам вытекают из его картезианской точки зрения, между тем как с точки зрения Спинозы эти недоразумения устраняются в связи с разъяснением: «materiam a Cartesio male definiri per extensionem» [материя плохо определена Декартом через протяжение]»[511].
Насколько все же лучше, адекватнее Половцова понимала Спинозу, чем самые светлые умы из числа советских марксистов! Несравненно лучше, чем другой пылкий почитатель Спинозы — Ильенков, не говоря уже о «красной профессуре», судившей его учение по канонам вульгарного «диамата». Никто из них и не подумал воспользоваться мощной половцовской «методологией исследования философии Спинозы». Чувственные образы без конца смешивались с идеями, идеи воображения — с идеями интеллекта, термины Спинозы наполнялись чуждыми ему смыслами— схоластическими, картезианскими, материалистическими и бог весть еще какими…
Прошло без малого сто лет со времени выхода в свет книги Половцовой и ее перевода TIE. Сто лет упадка отечественного спинозоведения. Хотелось бы надеяться, что с возвращением из долгого забвения имени Половцовой Weltgeschichte примется наконец вершить свой Weltgericht. Если только страшный суд мировой истории не выдумка хитроумного шваба.
Перевод трактата De intellectus emendatione
Учитывая, что теория познания Спинозы, согласно Половцовой, образует основу всех его философских воззрений, вполне логично, что ближайшим ее шагом стал перевод спинозовского TIE. Она всячески подчеркивает важность этого неоконченного трактата, который
«не только помогает уяснению всего учения Спинозы, но и разрешает вполне естественным образом часто наиболее спорные из так называемых «противоречий» этого учения»[512].
TIE представляет собой подлинные врата в философию Спинозы, равно как и введение к жизни, необходимой для философии.
О времени написания трактата нет сколько-нибудь достоверных сведений. Еще в XIX веке высказывалась мысль, что TIE написан раньше всех остальных сохранившихся сочинений Спинозы. Половцова упоминает в этой связи имена Авенариуса и Бемера. Сама она уклонилась от обсуждения даты написания TIE, ограничившись ссылкой на «последние исследования», согласно которым трактат написан не ранее 1661 года.
В наши дни, однако, дебаты возобновились. Сначала Филиппо Миньини в своем капитальном издании KV[513] принялся доказывать, что TIE был написан раньше, чем KV; затем голландский переводчик TIE Вим Клевер (Wim Klever) сделал — крайне неубедительную, на мой взгляд, — попытку отодвинуть написание трактата еще ко временам херема и изгнания Спинозы из еврейской общины[514]. Так или иначе, из писем Спинозы с несомненностью явствует, что автор до последних лет жизни не оставлял намерений завершить TIE[515].
На русский язык TIE первым перевел одессит Г. Полинковский, и перевод этот был, по оценке Половцовой, «сделан весьма тщательно», хотя его автор и «не ставил себе целью более глубокое проникновение в содержание текста»[516]. Вместо справочного аппарата в книге была помещена соответствующая глава из фишеровской «Истории новой философии», которую Половцова квалифицировала как «не способствующую пониманию». К тому же издание Брудера, с которого Полинковский делал свой перевод, несколько устарело. Как призналась в Предисловии Половцова, о существовании одесского издания TIE 1893 года она узнала уже после окончания собственного перевода. Впрочем, вряд ли это издание могло ей пригодиться.
В советские времена появился еще один перевод TIE[517], выполненный М. Я. Боровским, под редакцией Г. С. Тымянского, с его же примечаниями и вступительной статьей. Уроженец Варшавы и юрист по образованию, Григорий Самуилович Тымянский был одним из первых питомцев Института Красной профессуры. Любопытно, что он пошел много дальше Половцовой, усмотрев в логике не только основу философии Спинозы, но и первую из всех наук вообще — так как всякое научное познание имеет логический характер[518]. Эта мысль о приоритете науки логики выдает принадлежность Тымянского к гегельянскому крылу марксистской философии, главой которого был академик Деборин (Абрам Моисеевич Иоффе). Подобно многим его соратникам, «материализовавшим» философского Бога Спинозы, Тымянский кончит жизнь несколько лет спустя в сталинском лагере.
Все русские знатоки Спинозы, кроме Половцовой, переводили заглавие TIE как «Трактат об усовершенствовании разума». Половцова оригинальна и тут. Название «Трактат об очищении интеллекта» В. В. Соколов находит «безусловно неточным, вольным и даже искажающим»[519] — не утруждая себя какой-либо аргументацией. Со своей стороны, Половцова доскональнейшим образом обосновала избранный ею перевод заглавия. Профессор Соколов никак не мог, разумеется, снизойти до разбора ее аргументов, поскольку сильно рисковал выглядеть невеждой. Сам ведь он Спинозу не переводил — довольствовался редактированием чужих переводов.
Половцовой было небезызвестно, что «emendatio» означает «усовершенствование, исправление»[520]. Однако интеллект для Спинозы равнозначен ясному и отчетливому знанию природы вещей, самой истине, — а как же возможно усовершенствовать или исправить абсолютную истину? Это вот соображение и заставило Половцову искать иное слово для перевода латинского emendatio. Причем заставило не ее одну: к схожему решению пришли по меньшей мере двое других исследователей, в том числе такой авторитет, как Якоб Фрейденталь (это имя всегда упоминалось Половцовой с подчеркнутым уважением).
«Замечу, что такой перевод выражения de intellectus emendatione, хотя и не часто, но все же встречается в литературе о Спинозе; так, например, Couturat дает выражение «la purification de l’entendement», Freudenthal говорит о «Lauterung des Verstandes»[521].
Половцова ссылается и на то место TIE, где Спиноза разъясняет, что усовершенствование разума заключается в его «врачевании и очищении».
Это «очищение» (expurgatio) Спиноза понимает как ограждение человеческого духа от неадекватных чувственных восприятий и смутных идей воображения. Сам термин «expurgatio» он, возможно, заимствовал у Бэкона. В Предисловии к «Новому Органону» говорится «об очищении интеллекта с тем, чтобы он был способен к истине» (de expurgatione intellectus ut ipse ad veritatem habilis sit). Было бы, однако, ошибочным толковать очищение интеллекта у Спинозы в духе бэконовской войны против «идолов» мышления. Уместнее тут вспомнить платоновский «катарсис», как он описан в «Федоне»[522]. Его задача —
«как можно тщательнее отрешать душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по себе и жить, насколько возможно, — и сейчас и в будущем — наедине с собою, освободившись от тела, как от оков» [Phaed. 67 cd].
Правда, Спиноза, в отличие от Платона, считал тело не «оковами» человеческого духа, а ближайшим его объектом и орудием всякого познания. Но и для Спинозы состояния тела (смутные чувственные восприятия и страсти) — единственный источник неадекватного знания.
Следует согласиться с Половцовой: спинозовская «эмендация» не усовершенствует и не исправляет интеллект, но лишь очищает его. Комментатор TIE обязан это иметь в виду и уведомить об этом читателя. Однако дает ли это переводчику право отступать от прямого значения слов Спинозы? Я полагаю, нет. Переводчик обязан воспроизвести не только смысл, но, насколько это возможно, еще и букву текста. Главный недостаток половцовского перевода в том, что он оказывается, так сказать, в плену у ее комментария. Перевод этот смысловой, не буквальный. Тем самым читатель лишается всякой возможности оценить правильность ее понимания текста. Ему остается одно: всецело довериться чужому пониманию. Либо самому сделаться переводчиком, принявшись сличать перевод Половцовой с оригиналом. Этот второй путь хорош для эксперта, для подавляющего большинства читателей он неприемлем.
Половцова фактически уличает Спинозу в неточности: если интеллект невозможно «усовершенствовать», значит слово «emendatio» не по праву фигурирует в заглавии TIE. Но так ли это на самом деле?
Нельзя усовершенствовать лишь бесконечный интеллект, ибо бесконечность есть «высшее совершенство» (summa perfectio) вещи [СМ 2 сар3]. Человеческий же, конечный интеллект может и должен быть совершенствуем. Верно, что интеллект равнозначен для Спинозы истине, однако конечный интеллект есть далеко не вся истина. Кроме того, как показано в TIE, истинные идеи бывают более и менее совершенными.
«Идеи тем совершеннее, чем более совершенства какого-либо объекта они выражают. Ведь мы не так удивляемся мастеру, который создал идею какой-нибудь часовни, как тому, кто создал идею некоего замечательного храма» [TIE, 33].
Следовательно, усовершенствование интеллекта заключается не только в его очищении от неадекватных идей, но и в приобретении новых и более совершенных идей, или, что то же самое, идей о наиболее совершенных вещах.
Спиноза говорит об усовершенствовании интеллекта с полным правом и абсолютно осознанно. Эту свою мысль он повторяет и в ТТР, и в «Этике», в обоих случаях заменяя слово «emendatio» на «perficere» (совершенствовать):
«Так как лучшая часть в нас есть интеллект, то несомненно, что если мы действительно желаем искать пользы для себя, мы должны больше всего заботиться о совершенствовании его, насколько возможно, ибо в его усовершенствовании должно состоять высшее наше благо»[523].
«В жизни, стало быть, самое полезное — совершенствовать свой интеллект или рассудок, насколько мы можем»[524].
Все это мало похоже на случайную неточность, не правда ли?
Приходится сделать вывод, что Половцова неверно перевела название трактата. Его следует переводить: «Трактат об усовершенствовании интеллекта».
Полинковский и Боровский, глубоко не вникавшие в смысл слова «emendatio», дали ему прямой и самый верный перевод. Ту же ошибку, что и Половцова, допустил ранее Луи Кутюра, переведя «emendatio» как «purification» (фр. очищение); а вот Фрей-денталь выбрал более удачное слово — «Lauterung». Буквально «lautern» означает по-немецки «очищать», но имеет еще и переносное значение: «улучшать, облагораживать» (ср. с лат. laute— хорошо, lautus — прекрасный), что очень близко по смыслу к слову «усовершенствовать».
Эта ошибка Половцовой не единична, случались и другие. Что ж, таковы издержки смыслового перевода. Соколов был не так уж неправ, когда писал, что
«перевод Половцевой носит печать субъективизма, отражая философские воззрения самого переводчика»[525].
Собственная редакция Соколова никаких — во всяком случае, никаких стоящих — «философских воззрений» не отражает, и «носит печать» самого заурядного и поверхностного прочтения Спинозы. Зато его комментарий к тексту, в духе того времени, полон марксистских идеологем и расхожих погрешностей (вроде смешения вечности с бесконечной длительностью, или атрибута протяжения — с пространством), против которых так настоятельно предостерегала Половцова.
Половцова, как отмечалось выше, следовала традициям английских переводов У. Хэйл Уайта. Ею учтены некоторые конъектуры и разночтения в ряде других изданий трактата. Перевод снабжен подробным комментарием, заметно превосходящим в размерах собственный текст трактата. Не будет преувеличением сказать, что перевод Половцовой являлся одним из самых аргументированных для своего времени и на порядок превосходит все имеющиеся на сегодняшний день русские переводы Спинозы размерами и качеством справочного аппарата.
Но вот с чисто литературной точки зрения худшего перевода, без сомнения, нет. Удручающее впечатление производит и язык собственных писаний Половцовой. Изобилие кошмарных латинизмов, вроде «интеллективное — имагинативное» или «конципировать — фингировать»; масса тавтологий — «познание… познает», «даны все данные», «объяснения, которыми… объяснять», «убеждаемся… стой же убедительностью»; там и сям неуклюжие обороты речи («именно в этом смысле это», и т. п.) и несогласие падежей…
Впрочем, Половцова, по большому счету, права, утверждая, что «литературность» в деле перевода научных произведений должна играть второстепенную роль:
«На первом плане должна стоять единственная задача, а именно — облегчение истинного понимания»[526].
Для того, чтобы перевод облегчал понимание первоисточника, переводчик сам должен безупречно понимать его. Мало того, читатель должен знать, как переводчик понимает текст. Поэтому Половцова решилась взяться за перевод TIE не раньше, чем опубликовала солидное исследование, в котором оговаривались предварительные условия, на ее взгляд, обязательные для «истинного понимания» Спинозы. Это свое кредо она провозгласила на первой же странице Предисловия к TIE:
«Предварительное специальное исследование учения данного автора дает в особенности право на перевод его произведений, с надеждой на действительно точную передачу его мыслей… Всякому научному переводу должно предшествовать специальное изучение автора, так как только оно дает возможность видеть в данных словесных выражениях именно то, что видел в них этот последний»[527].
Такой подход к делу мне тоже представляется образцовым. Но из всех русских переводчиков Спинозы, кроме Половцовой, только Владимир Брушлинский удосужился написать одну небольшую статью, посвященную философии Спинозы[528].
В пространном половцовском Введении к TIE в концентрированном виде повторяется многое из того, что уже говорилось в ее книжке о геометрическом способе изложения, о различии интеллекта и воображения, о понятиях идеи, причины и др. Здесь Половцова обосновывает характер своего перевода всех ключевых терминов Спинозы, постоянно апеллируя при этом к Декарту, у которого многие из этих терминов употребляются в схожих значениях. Неоднократно Половцова прерывает свой анализ обещанием рассмотреть тот или иной вопрос в «специальном исследовании», которое она рассчитывала вскоре издать.
Я не стану вдаваться тут в детальный разбор множества удачных и отдельных неудачных мест ее перевода TIE, ибо это потребовало бы подробного изложения моих собственных взглядов на философию Спинозы — что выглядело бы не слишком уместным в книге, посвященной Варваре Половцовой. По ее примеру, оставляю эту задачу на долю «специального исследования» — готовая его часть публикуется уже в настоящем томе. Теперь же нам осталось лишь посмотреть, какое применение нашли труды Половцовой и как их оценивали другие русские философы.
Упоминания и влияние
В советские времена о Половцовой редко вспоминали, даже в 20-е годы, когда наша страна по числу — увы, не по качеству — работ, посвященных философии Спинозы, шла впереди остальной планеты. Как справедливо заметил сэр Исайя Берлин, те работы представляют больший интерес для исследователей советской идеологии, нежели для исследователей Спинозы[529]. Быть может, потому-то Половцова и не стала возобновлять свои философские штудии после Октябрьской революции? Советский идеологический истеблишмент продвигал Спинозу на пост философского предтечи Маркса, а в трудах Половцовой Спиноза изображался философом «беспартийным», не примкнувшим ни к одному «лагерю» в исторической баталии материалистов с идеалистами.
Некоторые результаты ее изысканий, впрочем, фигурировали в полемике между двумя кланами марксистов. «Деборинцы» сочувственно отнеслись к ее аргументам против «геометрического метода»:
«Лично я примыкаю к точке зрения Половцевой», — писал Н. Кибовский, имея в виду ее мнение о формальном характере «геометрического порядка»[530].
А я лично нет, не примыкаю, — столь же основательно возражала на это интеллектуальный лидер партии «механистов» Любовь Аксельрод:
«Вся груда доказательств, которая так старательно и так педантично приводится Половцовой в пользу того, что mos geometricus является лишь формой изложения, не выдерживает, на наш взгляд, ни малейшей критики. Внутренняя сущность всей системы свидетельствует о противоположном. Все терминологические и филологические исследования, которые даются Половцовой, имеют свое значение, но то именно, что она стремится доказать, не доказано по той простой и естественной причине, что этого доказать невозможно»[531].
Да уж, «причина» — проще некуда. Суждение Половцовой не доказано, потому что его нельзя доказать никогда. Один-единственный довод, который нашелся у Аксельрод для опровержения «груды доказательств», приводимых Половцовой, — это молчаливое свидетельство «внутренней сущности всей системы» Спинозы. Весьма характерный эпизод той, длившейся более десяти лет полемики между вождями пролетарской философии.
Изредка вспоминали о трудах Половцовой и светлые умы из среды русской эмиграции. Борис Яковенко — «интуитивный трансценденталист», как он отрекомендовался, — называл статью Половцовой первой среди «выдающихся работ по истории философии», которые «невозможно обойти молчанием»[532]. В устах Яковенко эта похвала звучит вдвойне весомо, ибо практически всех — настоящих и прошлых — светил отечественной философии он винил в подражании западным модам да «эклектическом стремлении слепить воедино несколько чужих мыслей».
Столь же кратко, сколь и непредвзято изложил воззрения Половцовой американский «профессор эмеритус» Джордж Клайн в предисловии к своей книге «Спиноза в советской философии»[533]. От собственных оценок правоты ее суждений он предпочел воздержаться.
В самой большой и содержательной книге о Спинозе из тех, что вышли в советские времена, — «Философия Спинозы и современность» (1964) Василий Соколов два или три раза упомянул труды Половцовой в сносках, не вдаваясь в разбор их. По сути единственным, кто всерьез пытался с ней полемизировать, был упомянутый выше Иосиф Коников, автор «Материализма Спинозы» (1971).
Высоко ценил половцовский перевод ТIЕ Эвальд Ильенков— он предпочитал цитировать именно это старое, дореволюционное издание, а не свежайший на тот момент перевод Боровского в редакции Соколова. (В посмертном издании «Диалектической логики» Ильенкова половцовский перевод названия трактата был, по недомыслию редактора, заменен на стандартный: «Трактат об усовершенствовании разума».)
В работе о категориях абстрактного и конкретного Ильенков совершенно справедливо рассматривал учение Спинозы об абстракциях в контексте диалектической, а не формальной традиции в логике. Приводя обширные цитаты из перевода Половцовой и открыто опираясь на данный ею комментарий к понятию абстракции в TIE, повторяя ее толкование notiones communes[534] — конкретных всеобщих понятий, Ильенков, однако, ни разу не упомянул ее имени.
Ильенков — единственный советский философ, сумевший открыть у Спинозы нечто новое, притом действительно много нового. Он блестяще разъяснил логический смысл спинозовских понятий субстанции и всеобщего, его теорию истины и заблуждения, отчасти принцип деятельности. И с поразительной глубиной понял учение Спинозы о свободе воли[535], решив с его помощью проблему формирования психики у слепоглухих детей. Примерно за десять лет до смерти Ильенков начал писать о Спинозе книгу[536], как когда-то Половцова, а потом и Выготский, — да, видно, советское время не благоприятствовало спинозистам: ни одной из начатых ими книг так и не довелось увидеть свет.
Ильенков видел в Спинозе материалиста — в этой части он был солидарен с Соколовым (во всем остальном их философские взгляды различны, как земля и небо). С Половцовой же их роднит искренняя приверженность философии Спинозы, уверенность в том, что она — не вчерашний, но скорее завтрашний день истории познания мира, и что «оценить полной мерой действительное величие и значение философии Бенедикта Спинозы человечеству, пожалуй, еще только предстоит»[537].
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ