Часть 1. Ленин. Первый из демиургов
1.1. Против течения — из эмиграции в Петроград
Биографию Ленина не нужно представлять ни отечественному, ни зарубежному читателю. Его имя неотделимо как от теории российского большевизма, так и истории советского государства. Не менее прочно оно связано с первыми шагами движения левых радикалов, которое получило свое организационное воплощение в Коммунистическом Интернационале. Начнем с анализа доктринальных основ «мирового большевизма», о котором Ленин заговорил еще до основания Коминтерна.
С началом Первой мировой войны социалистические партии Европы, объединенные во Втором Интернационале, раскололись по национальному признаку, поддержав собственные правительства. Громкие слова предвоенных конгрессов о том, что международный рабочий класс ответит на военную угрозу всеобщей забастовкой и поставит вопрос о превращении империалистической войны в гражданскую, т. е. начнет борьбу за завоевание власти, так и остались пустыми обещаниями. Лишь немногие представители левого крыла Интернационала, куда входили и российские социал-демократы, в августовские дни 1914 года сохранили верность ортодоксальному марксизму. Для этаблированных партий своих стран они представлялись чужеродным элементом, в условиях авторитарных режимов им доставалась львиная доля полицейских репрессий.
Ленин и его соратники прошли тяжелую школу внутрипартийной борьбы и личных конфликтов, фракция большевиков к началу мировой войны превратилась в самостоятельную организацию, хотя формально оставалась в рядах Российской социал-демократической рабочей партии. Было бы упрощением считать, что в основе раскола РСДРП лежали амбиции ее вождей, хотя и этот фактор не следует сбрасывать со счетов. Ленина отличала фанатическая приверженность ключевым положениям марксистской теории, он воспринимал ее как монолитное здание, из которого нельзя вытащить ни единого кирпичика. Следствием этого была его непримиримая борьба с любыми новациями теоретического плана в международном социалистическом движении, которые он трактовал как «оппортунизм», являвшийся в конечном счете следствием подкупа вождей социал-демократии со стороны буржуазии и правящих кругов своих стран.

Владимир Ильич Ленин
Март 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 107. Л. 1]
Расценив поддержку ведущими партиями Интернационала военных программ своих правительств как предательство коренных интересов рабочего класса, Ленин уже в августе 1914 года призвал к созданию новой международной организации, в которую будут допущены только подлинные социалисты, не запятнавшие себя сотрудничеством с классовым врагом. «Измена социализму большинства вождей II (1889–1914) Интернационала означает идейно-политический крах этого Интернационала. Основной причиной этого краха является фактическое преобладание в нем мелкобуржуазного оппортунизма, на буржуазность коего и опасность давно указывали лучшие представители революционного пролетариата всех стран… Задачей будущего Интернационала должно быть бесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного течения в социализме»[38].
За словами немедленно последовали дела. Находясь в швейцарской эмиграции, лидеры большевистского крыла РСДРП установили связи с зарубежными единомышленниками (многим из них также пришлось покинуть свою родину) и сформировали вместе с ними Циммервальдское движение, которое осталось на платформе пролетарского интернационализма, сохранив лозунг революционного выхода из империалистической войны. То, что в манифестах довоенных конгрессов формулировалось достаточно абстрактно, Лениным было сказано вполне определенно и даже грозно: «Долой поповски сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало“! Поднимем знамя гражданской войны! Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны»[39].
Ленин угадал главное: то, что европейский характер войны и примерное равенство сил двух противостоящих коалиций сделают ее чрезвычайно затяжной и кровопролитной. То, что на первых порах казалось причудой политических маргиналов, на третьем году боевых действий обрело притягательную силу для широких народных масс, облаченных в солдатские шинели. В странах Антанты и Четверного союза создавались левые социалистические партии, которые начертали на своих знаменах пацифистские лозунги, осторожно говоря и о возможности революционного выхода из войны.
И здесь Ленин вновь поставил чистоту принципов выше организационного единства. В Швейцарии появилась Циммервальдская левая, сторонники умеренного пацифизма в рядах рабочего движения, называвшие себя центристами, получили уничижительную кличку «соглашателей». В отличие от своих соседей справа большевики вместе со своими зарубежными единомышленниками напрочь отвергали мысль о возможности завершения войны без пролетарской революции в передовых странах Европы.
Ленин раздувал инстинкты насилия, высвобожденные ожесточением мировой войны, обращаясь к абстрактному рабочему со следующими словами: «…тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и разрушения против своего правительства и своей буржуазии»[40].
Эпоха революций началась еще до завершения Первой мировой войны. Она открылась свержением самодержавия и вернула лидеров большевизма не только на родину, но и на авансцену истории, переведя сформулированные в швейцарской эмиграции лозунги в плоскость практических задач. Уже в «Апрельских тезисах» Ленин потребовал от партии взять на себя «инициативу создания революционного Интернационала, Интернационала против социал-шовинистов и центра»[41].

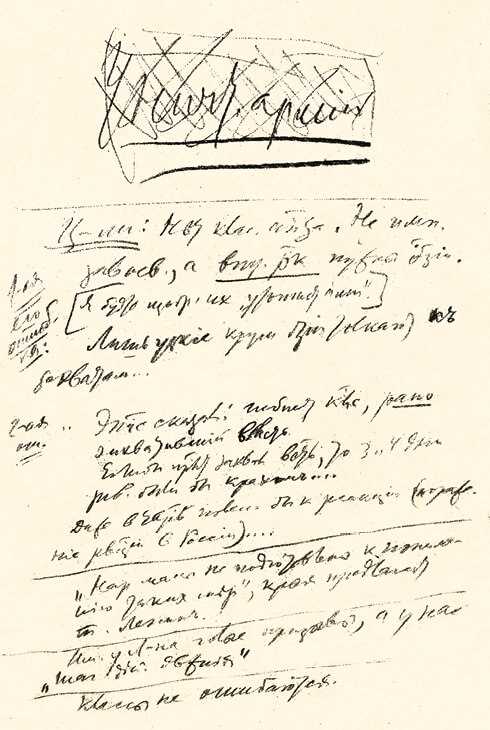
Первоначальный набросок «Апрельских тезисов», написанный В. И. Лениным в поезде по пути в Петроград
3(16) апреля 1917
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4535. Л. 1–2]
Летом — осенью 1917 года тезис о том, что «нарастание всемирной революции неоспоримо» и российскому пролетариату нужно сделать лишь решающее усилие для того, чтобы зажечь революционный пожар в Европе, присутствует едва ли не в каждой из ленинских работ. Его оппоненты, в том числе и в рядах его собственной партии, справедливо указывали на то, что отдельные примеры братаний на фронте, забастовок и правительственных кризисов в воюющих странах еще не гарантируют превращения империалистической войны в гражданскую.
Ленин продолжал свято верить в то, что рабочие Европы не останутся равнодушными к судьбе своих российских товарищей. «Мы верим в революцию на Западе. Мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по заказу ее создать… Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую социалистическую революцию»[42]. Близко общавшийся с ним польско-германский социалист Карл Радек подчеркивал, что сразу по приезде в Россию Ленин начал форсировать «создание международной организации революционеров, подготовку вооруженного восстания», что продолжалось вплоть до советско-польской войны 1920 года[43].
После недолгой демократической интерлюдии большевикам удалось взять в свои руки судьбу Российской империи. Их тактика решающего штурма оказалась более успешной, нежели парламентская стратегия их вчерашних европейских соратников и покровителей. Ученики вскоре почувствовали себя учителями, Россия из окраины цивилизованного мира превратилась в полигон невиданного социального эксперимента. Лозунг «Сделаем, как в России» получил огромную притягательную силу среди трудящихся стран Европы, смертельно измученных тяготами мировой войны. Отныне именно этот пример превращался в главный фактор консолидации революционного крыла международного рабочего движения.
1.2. От Бреста до Берлина
Большевики в полной мере использовали «всемирный масштаб» для легитимации собственного захвата власти. Они неустанно агитировали российских рабочих и крестьян принять на себя мессианскую роль спасения Европы от ужасов войны, продолжавшейся вот уже четвертый год. В резолюции, принятой Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года, выражалась уверенность в том, что «пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».
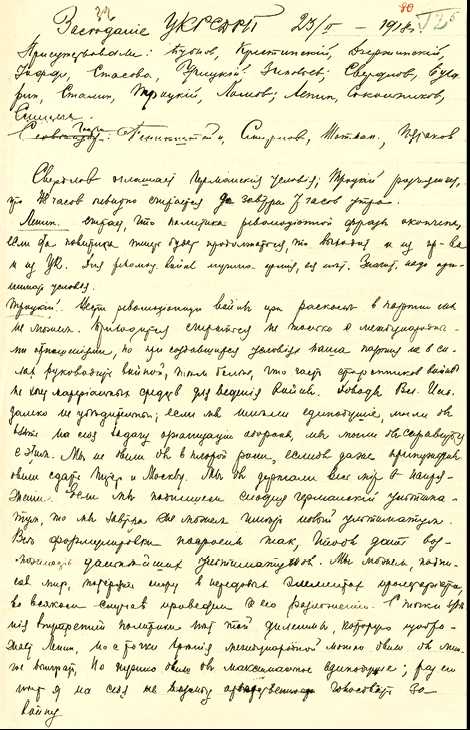

Протокол заседания ЦК РСДРП(б) с результатами голосования по вопросу о заключении мира с Германией
23 февраля 1918
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 412. Л. 5–8]
Пропаганда интернациональной солидарности трудящихся находила позитивный отклик среди солдат по обе стороны от линии фронта, которые подтверждали ее действенность своими братаниями. Стремясь поскорее приблизить завершение войны, они зачастую выдавали желаемое за действительное. Так, группа немецких военнопленных социал-демократов в Москве подписала 25 декабря 1917 года воззвание к немецким солдатам, находящимся на Восточном фронте, как «члены третьего Интернационала»[44].
В начале 1918 года Ленин посчитал, что его партия уже достаточно укрепилась у власти для того, чтобы обратиться к международно-революционной деятельности. Американский корреспондент А. Р. Вильямс, летом 1917 года прибывший в Россию и попавший под влияние большевистских идей, писал в своих мемуарах: январские митинги и собрания, в которых он сам принимал участие вместе с Лениным, были «прелюдией к Третьему Интернационалу, который не состоялся из-за Брест-Литовска и интервенции»[45]. Советская пресса давала совершенно фантастические материалы о том, что даже на далеких окраинах Европы трудящиеся приветствуют диктатуру большевиков. Так, «Известия» 3 мая 1918 года поместили заметку об открытии «Российского революционного консульства в Шотландии, во главе которого стоит известный коммунист, вождь британского пролетариата Джон Маклин», и о том, что данное событие сопровождалось митингом с участием 600–700 тысяч местных рабочих.
Из-за разрыва брестских переговоров по вине «левых коммунистов» идеи агитационного наступления в Европе были отодвинуты на второй план — новой российской власти пришлось срочно организовывать оборону Петрограда от наступавших германских войск. Еще летом 1917 года Ленин давал обещание ни при каких условиях не идти на сепаратный мир с Германией — «только соединившись, рабочие и крестьяне всего мира могут прикончить войну. Вот почему мы, большевики, против сепаратного мира, т. е. против мира только России с Германией. Сепаратный мир — глупость, потому что он не разрешит коренного вопроса, вопроса о борьбе с капиталистами и помещиками»[46].
Полгода спустя, став главой советского государства, именно Ленин выступил за скорейшее заключение такого мира, чтобы любой ценой спасти завоеванную власть. Внутрипартийный конфликт по этому вопросу стал тем горном, где революционные надежды переплавлялись в политический реализм. Фракция «левых коммунистов», которая на первых порах всерьез могла рассчитывать на большинство в партии, была просто шокирована столь резким поворотом вождя, считая это предательством принципов пролетарского интернационализма. Ленин в ходе дискуссий также глядел горькой правде в глаза, утверждая, что, подписывая мир с Германией, «мы делаем поворот направо, который ведет через весьма грязный хлев, но мы должны его сделать»[47].
Ленину приходилось не только громить левых оппонентов, делавших ставку на революционное наступление любой ценой, но и успокаивать членов ЦК, которые шли вместе с ним, но остановились в нерешительности перед воротами «грязного хлева». Одним из них был будущий Председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, предпочитавший говорить о «тяжелой хирургической операции», которая ослабит революционное движение на Западе и усилит позиции германской военщины[48]. Лидер РКП(б) отреагировал достаточно жестко, увидев в такой позиции скрытую поддержку линии Троцкого: «Если мы верим в то, что германское движение может развиваться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей. Но суть в том, что там движение еще не началось, а у нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, то мы погибнем»[49].
Позже Зиновьев назвал причины колебаний — своих собственных и ленинских: «Если говорить ретроспективно, то ясно, что надо было заключать мир в ноябре… Конечно, стачки в Вене и Берлине нас слишком очаровали, и мы упустили момент»[50]. Речь шла о январских стачках рабочих оборонной промышленности в столицах Германии и Австро-Венгрии, в которых Москва увидела зарницы первого приступа европейской революции пролетариата. В острой борьбе Ленину в конечном счете удалось склонить на свою сторону большинство членов ЦК партии. 3 марта 1918 года «похабный» Брестский мир был подписан.
Надежды германских левых социалистов, объединившихся в группу «Спартак», на то, что Советская Россия ни при каких условиях не подпишет сепаратного мира с германской военщиной[51], сменились жестоким разочарованием. Как оказалось, большевики поставили государственные интересы выше своих интернациональных обязанностей, ибо заключенный мир означал затягивание мировой бойни и новые тысячи жертв на Западном фронте. Между Лениным и Розой Люксембург, чьи отношения не раз омрачались идеологическими конфликтами, пробежала еще одна трещина. Это скажется на отношении «спартаковцев» как к диктатуре большевиков, так и к образованию Коммунистического Интернационала.

Первая страница официальной публикации Брестского мира
3 марта 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5424. Л. 1–9 об.]

Роза Люксембург
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 476]
Пойдя на заключение сепаратного мира, большевики не собирались отказываться от продвижения вперед дела мировой революции, в апреле 1918 года Ленин в ходе беседы с американским корреспондентом сказал, что кайзер Вильгельм не протянет и одного года[52]. Тот факт, что подписание мира с Россией принесет с собой не стабилизацию ситуации на восточных рубежах, а новые угрозы для победителей, понимали и в Германии. Хотя в Бресте был согласован взаимный отказ от враждебной пропаганды, стороны имели все основания не доверять друг другу. Представитель Верховного главнокомандования генерал Э. Людендорф потребовал от внешнеполитического ведомства не допускать открытия советского представительства в Берлине, предлагая разместить его на оккупированной территории в Ковеле или Бресте. «Для максималистов важно одно: использовать здание посольства для своей пропаганды»[53].

Письмо А. А. Иоффе В. И. Ленину о внутреннем положении в Германии
20 мая 1918
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2134. Л. 1]
Однако в споре военных и дипломатов победила точка зрения последних: в конце апреля в Берлин приехал персонал советского полномочного представительства во главе с Адольфом Иоффе. Он сочетал в своей работе защиту государственных интересов России и помощь немецким левым социалистам, хотя и был невысокого мнения об их способности взять власть в такой стране, как Германия[54].
Из соображений конспирации прибывавшие из Москвы лидеры РКП(б) встречались со своими немецкими соратниками на частных квартирах и в различных советских учреждениях. Предметом обсуждения на этих консультациях являлись ближайшие перспективы развития внутриполитической ситуации в Германии, причем россияне неизменно выносили из этих встреч представления, что собеседники настроены слишком оптимистически.
Можно не сомневаться, что гости из Москвы транслировали мысли, изложенные Лениным в письме американским рабочим, написанном 20 августа 1918 года. Вождь большевиков процитировал слова Чернышевского о том, что «историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта».
Применительно к мировой социалистической революции это означало, что она не могла идти «легко и гладко, чтобы сразу было соединенное действие пролетариев разных стран, чтобы была наперед дана гарантия от поражений, чтобы дорога революции была широка, свободна, пряма, чтобы не приходилось временами, идя к победе, нести самые тяжелые жертвы, „отсиживаться в осажденной крепости“ или пробираться по самым узким, непроходимым, извилистым и опасным горным тропинкам»[55]. В переводе с поэтического на политический язык это означало, что деятели будущей революции должны иметь в своем арсенале любые методы борьбы за власть, а не уповать на парламентскую трибуну.

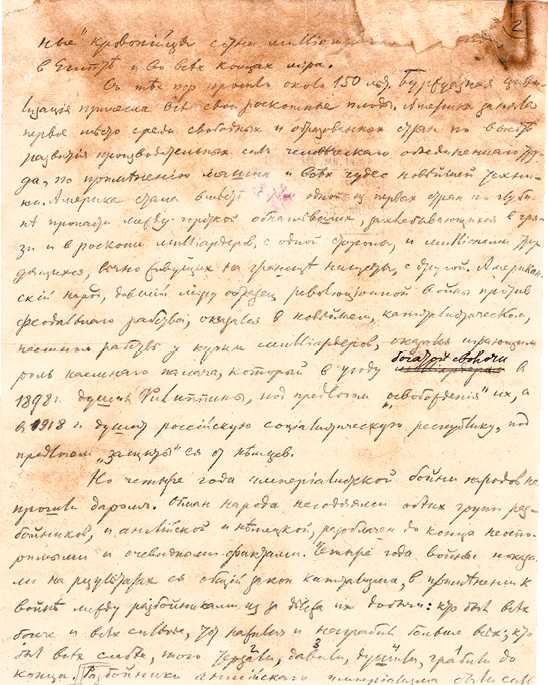
Письмо В. И. Ленина к американским рабочим
20 августа 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6989. Л. 1–19]
Переход большевиков к репрессиям по отношению к своим вчерашним союзникам — партиям меньшевиков и эсеров — был также связан с различиями в трактовке мировой пролетарской революции и места России в ней. Запрещение вначале оппозиционной прессы, а затем и политической деятельности самих партий обернулось июльским мятежом левых эсеров, сигналом к которому стало убийство германского посла Мирбаха. В условиях жесткой диктатуры никаких других средств борьбы, кроме вооруженных выступлений, у противников большевиков не осталось. Таким образом, партия левых эсеров, до Брестского мира входившая в советскую коалицию, попыталась спровоцировать разрыв советско-германских отношений и не допустить расширения интервенции в страну армий стран Антанты.
Советская печать, перешедшая под полный контроль агитпропа РКП(б), высмеивала надежды левых эсеров на то, что Антанта сможет стать «национальным союзником» новой России. «Некоторые Иванушки-дурачки, в том числе и из рабочего класса, возмущаясь германскими грабежами и расстрелами, готовы броситься в объятья англо-французской шайки»[56]. Подобная сделка не спасла бы революцию, но посеяла бы раздор между рабочими России и стран Антанты, утверждали большевики. Их внешнеполитический курс в конце Первой мировой войны продолжал исходить из аксиомы близкого мирового переворота, в ходе которого в крупнейших передовых странах установится пролетарская власть.
Доклады Иоффе свидетельствовали скорее об обратном, подчеркивая неготовность немецких социалистов к борьбе за захват власти. В докладе Ленину от 5 сентября 1918 года он писал: «Вы напрасно думаете, что я жалею денег, я даю им, сколько нужно, и постоянно настаиваю, чтобы брали больше, но ничего не поделаешь, если все немцы так безнадежны: к нелегальной работе и в нашем смысле революционной они просто неспособны, ибо большей частью они политические обыватели, которые пристраиваются так, чтобы избавиться от военной службы, цепко держатся за это, а революцию делают только языком за кружкой пива»[57]. Использовав провокацию, германское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией в начале ноября, буквально за несколько дней до краха монархии Гогенцоллернов.
На протяжении 1918 года, когда ставка делалась на перерастание империалистической войны в пролетарскую революцию, вопрос о практических шагах по созданию нового Интернационала Лениным не поднимался. Такая организация должна была возникнуть не до, а после победы пролетариата в большинстве стран Европы. До этого момента вождь РКП(б) полагал достаточным уже то, что «пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским»[58].
1.3. Конец отступления
В подмосковном имении Горки, куда он прибыл 25 сентября 1918 года ввиду ухудшения здоровья[59], Ленин получил возможность личной «передышки», что дало ему время осмыслить события первого года партийной диктатуры. Отсутствие отработанного механизма принятия оперативных решений и скорейшего доведения их «на места», печальный опыт дискуссии вокруг Брестского мира, которая едва не стоила Ленину дела его жизни, показали, насколько неэффективным оказалось простое перенесение приемов внутрипартийной борьбы в государственную практику.
К осени 1918 года лидеру РКП(б) удалось выстроить работоспособную вертикаль власти. Именно к нему сходились все информационные каналы, именно он санкционировал любое важное решение. Его временный отход от дел, связанный с покушением Фанни Каплан, показал очевидные минусы подобной системы. В отсутствие вождя исчезла выстроенная им система сдержек и противовесов, тут же дали знать о себе личные амбиции его ближайших соратников.

В. И. Ленин во дворе Кремля на прогулке после ранения
Фотограф А. А. Неволин
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 53. Л. 1]
Документы показывают, что потенциальным очагом внутрипартийных разногласий в конце сентября — начале октября 1918 года вполне могла стать и сфера внешней политики. Находясь на излечении в Горках, Ленин невольно чувствовал себя сторонним наблюдателем, чему противилась вся его деятельная натура. Главным источником информации для него в эти дни являлись московские газеты (иностранная пресса попадала в Россию лишь эпизодически и со значительным опозданием). В отличие от зарубежных газет главное место в изданиях, контролировавшихся большевиками, занимали не телеграммы из-за рубежа, а обширные комментарии, определявшие отношение революционной власти к тому или иному событию.
Осторожные оценки международного положения после выхода Болгарии из коалиции Центральных держав (30 сентября 1918 года) сменились революционным пафосом. Передовица «Правды» рисовала следующий сценарий развития мировых событий: поражение в войне сделает неизбежной революцию в Германии и Австрии, но это не принудит Антанту к заключению почетного мира. Немецкий рабочий класс откажется от своего Бреста и в союзе с Советской Россией начнет революционную войну. Ее классовый характер будет настолько очевиден, что он разложит войска Антанты еще до первых серьезных сражений[60].
Все это создавало принципиально новую геополитическую обстановку. Мирная передышка, которую обеспечивало режиму большевиков военное противостояние двух враждебных коалиций, заканчивалась. Советской России предстояло сделать трудный выбор, чтобы сохранить шансы на дальнейшее существование — пойти на сближение с победителем, умерив антиимпериалистическую риторику, или сохранить ставку на близкую революцию пролетариата в странах, потерпевших поражение.

Лев Борисович Каменев
1917–1918
[РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]
Позиция Ленина выражена в его записке Л. Б. Каменеву, написанной еще до развала коалиции Центральных держав: «…наша действительность изменилась, ибо если Германия побита, то становится невозможным лавирование, ибо нет 2-х воюющих, между коими лавировали мы!!..Нам начинать переговоры о пересмотре Бреста, по-моему не следует, ибо будет теперь забеганием… Выждать надо»[61]. В этом фрагменте уже представлены ключевые моменты новой стратегии.
Из предложения «выждать» сформировалась ленинская концепция равноудаленности от обоих лагерей, которая подразумевала отказ от поиска компромисса с Антантой для ревизии Брестского мира еще до полного поражения Германии. Ленин справедливо полагал, что Антанта не пойдет на такой компромисс и не пустит Советскую Россию на мирную конференцию. В то же время это не мешало сделать подобные предложения хотя бы в агитационных целях, на чем настаивали его умеренные оппоненты из числа меньшевиков и эсеров.
С точки зрения Ленина такой дипломатический маневр был уже бесполезен, ибо ключ к новой системе международных отношений находился не в стане победителей, т. е. в Париже или Лондоне, а в Берлине. Именно немецкий народ, восстав против грядущего несправедливого мира (большевистская печать постоянно говорила о «втором Бресте»), навязанного ему Антантой, совершит пролетарскую революцию и протянет руку дружбы России.
Новые акценты внешней политики подразумевали поиск новых союзников, способных реализовать их на практике, — Ленина явно не устраивали старорежимные «дипломатические комбинации». Тем более что и советские посланники в Европе почувствовали кардинальную перемену ситуации. До того крайне осторожный Ян Берзин, руководитель полпредства РСФСР в Берне, писал Ленину 2 октября: «Застойное положение кончилось. Война вступает в новую стадию… Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно работать на мировую революцию. Сговор империалистов мы должны предупредить — мы должны немедленно вызывать революцию, где только возможно»[62].
Полпред Иоффе был одним из самых ярых приверженцев участия Советской России в мирной конференции, но, почувствовав перемену настроений, стал подчеркивать, что в его предложении речь идет только о получении бесплатной трибуны для того, чтобы обратиться с революционными призывами к пролетариям всего мира. Признавая отсутствие массового движения, полпред подчеркивал, что судьба империи Гогенцоллернов предрешена: «…разгром Германии несомненен. Это надо понимать не в смысле военного разгрома. Знающие люди утверждают, что с военно-стратегической точки зрения дело обстоит вовсе не так скверно, и что Германия могла бы еще долго вести оборонительную войну на чужой территории, уже не говоря о своей собственной. Могла бы, но не может и не может потому, что не хотят солдаты. В этом именно разгром. По самым достоверным сведениям, все дело в том, что немцы, т. е. германский народ, не желают более вести войны»[63].


Письмо В. И. Ленина Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому о необходимости созвать объединенное собрание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в связи с грядущей революцией в Германии
1 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7219. Л. 1–2]
В отличие от секретных дипломатических донесений из Берлина советская пресса всячески подчеркивала близость германской революции. Поэтому главным союзником Ленина в новых условиях оказывался не осторожный Чичерин, неоднократно предупреждавший об опасности «забегания вперед», а острый на язык и предприимчивый Карл Радек. Двухчасовой разговор последнего по телефону с Лениным, состоявшийся в первый день октября, завершился полным согласованием позиций.
Приняв решение, Ленин развернул кипучую деятельность. В тот же день он отправил из Горок Свердлову и Троцкому записку, из которой следовало, что остававшиеся в Москве руководители РКП(б) проспали перелом в развитии международной ситуации: «Дела так „ускорились“ в Германии, что нельзя отставать и нам. А сегодня мы уже отстали». Революция в этой стране рассматривалась как дело ближайших дней, а заодно и как кровное дело большевизма: «Все умрем за то, чтобы помочь немецким рабочим в деле движения вперед начавшейся в Германии революции»[64].
Общий тон ленинской записки от 1 октября означал фактический отказ от услуг Наркоминдела. В ней не было ни слова про пересмотр Брестского мира, дальнейшие переговоры с правительством Германии замораживались. Практические предложения Ленина лежали в пропагандистской и организационно-технической плоскости: собирать хлеб («запасы все очистить и для нас, и для немецких рабочих») и готовить Красную армию для помощи международной рабочей революции, доведя ее численный состав к весне следующего года до трех миллионов человек.
Реализация подобных предложений обещала России новые внешнеполитические и военные потрясения, но она не была простым рецидивом «левого коммунизма». На сей раз подразумевалось, что начать революцию должны сами немцы. Тезис о равноудаленности позволял России сохранять необходимую свободу рук. Через несколько дней Радек так изложил ход мысли вождя: «Мы смотрим на Германию как на мать, рождающую революцию, но если нас немцы не принудят к этому, то мы не поднимем против нее ружье, пока ребенок не родится»[65]. Однако для защиты германской революции лидер РКП(б) был готов рискнуть столкновением с победителями в Первой мировой войне.
Записка Ленина заканчивалась просьбой прислать за ним машину, чтобы он мог на следующий день выступить на заседании ВЦИК, Моссовета и рабочих организаций столицы. Однако 2 октября вопрос о помощи германской революции обсуждался только в ЦК РКП(б). В протоколе сохранилась краткая запись: «Поручить Ленину написать заявление от имени правительства и прочесть его на заседании ВЦИК»[66]. Из этой формулировки непонятно, должен ли был Ленин сделать это лично, но разрешения на приезд в Москву от своих товарищей по ЦК он так и не получил.
Историк Юрий Фельштинский не жалеет красок для описания драматизма сложившейся ситуации: «И пока Ленин весь день 3 октября сидел на пригорке, с которого видна была дорога, ожидая обещанной, но так и не посланной за ним машины, в ЦК, вопреки воле Ленина, было принято решение о поддержке германской революции, начавшейся на следующий день…»[67] Так и видишь сидящего на скамеечке одинокого, брошенного и забытого вождя, за спиной которого творятся темные дела. Реальное положение дел было совершенно иным. Даже находясь вне Москвы, Ленин сумел нужным образом «построить» своих соратников, заставив их принять собственную точку зрения.
На заседании ВЦИК, состоявшемся в тот же день, было зачитано его письмо, написанное накануне и не прошедшее процедуры даже формального одобрения. В нем систематизировалась точка зрения, впервые сформулированная 1 октября: правительственный кризис в Германии означает начало революции, немецкую буржуазию не спасет ни коалиция с социал-демократами, ни военная диктатура. Однако до тех пор, пока власть не окажется в руках у пролетариата Германии, Россия будет сохранять нейтралитет. «Советская власть не подумает помогать немецким империалистам попытками нарушить Брестский мир»[68], ибо этот шаг означал бы переход России на сторону Антанты. А здесь Ленин был совершенно непримирим, не позволяя своим соратникам даже гипотетически размышлять на эту тему.
Принятая 3 октября резолюция указывала на исторический характер произошедшего поворота, поставив его в один ряд с захватом власти большевиками. «Сейчас, как и в октябре прошлого года, как и в период Брест-Литовских переговоров, советская власть всю свою политику строит в предвидении социальной революции в обоих лагерях империализма». Немецкий корреспондент Паке обратил внимание на то, что решение было принято без какого-либо обсуждения. «Удивительно, как мало дискуссии. Все определяется несколькими людьми. На сегодняшнем заседании абсолютно [доминирует. — А. В.] созвездие Ленина, Радека, Троцкого»[69]. Да, на сей раз роли были заранее согласованы и точно исполнены. Времена брестских споров ушли в прошлое, политический процесс послереволюционной России с каждым днем приобретал все более закрытый характер.
Свердлов не забыл ни одного пункта из ленинских директив. 4 октября по всей Москве состоялись митинги на тему «Война и мировой большевизм». Публикуя и комментируя стенограмму заседания ВЦИК, центральные газеты подчеркивали новую установку — больше никаких уступок германской буржуазии, ибо дни ее сочтены. Мировая революция уже не за горами, но любое сближение с империализмом Антанты ради ревизии Брестского мира отдалит ее. По рядам партийных пропагандистов прошел вздох облегчения: маски сброшены, вновь можно открыто говорить о стратегических целях большевизма.
14 октября Ленин вернулся в Москву и приступил к повседневной работе. Его главное внимание приковали к себе военные события. На это время пришелся пик неразберихи на Южном и Восточных фронтах, вождю опять пришлось разбирать конфликт Троцкого и Сталина[70]. Однако он не забывал и о грядущей мировой революции. На следующий день в Берн и Берлин отправилось его требование присылать вырезки из заграничных газет, посвященные России и социалистическим партиям всех стран, усилить работу по сплочению левого крыла социалистического движения[71].

В. И. Ленин за рабочим столом в своем кабинете в Кремле
16 октября 1918
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 44. Л. 1]
Потеряв все козыри, связанные с использованием военной силы, правящая элита Германии лихорадочно осваивала новую роль, которая должна была понравиться победителям: роль защитного вала против угрозы «мирового большевизма», подобного по своим масштабам древнеримскому Лимесу. Карл Радек писал в своих воспоминаниях: когда пришла весть о высылке из Берлина советского полпредства, мы считали причиной такого враждебного шага то, что «социал-демократы боятся нашей агитации. Ильич иначе толковал дело: „Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией“»[72].
Догадки Ленина были недалеки от истины. 8 ноября глава германского МИД Вильгельм Зольф телеграфировал главе немецкой делегации на переговорах о перемирии Матиасу Эрцбергеру: «Сообщения из нейтральных стран позволяют предположить, что во Франции, Англии и Италии растет страх перед большевизмом, и эта общая угроза будет содействовать заключению мира. Как сообщают, прежде всего в Англии сообщение о высылке Иоффе было воспринято с облегчением. Может быть, Ваше превосходительство сможет использовать эту новость в ходе переговоров о перемирии»[73].
В начале ноября окончательно оправившегося после покушения Ленина охватил настоящий азарт. Он почти ежедневно выступал на торжественных заседаниях и митингах, призывая их участников к самопожертвованию ради помощи рабочим воюющих стран. После того, как в Москву пришло известие о переходе власти в руки социалистов и образовании по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в трапезной Чудова монастыря в Кремле был устроен банкет, посвященный началу европейской революции[74].
Дело не ограничилось словесными приветствиями и скромными банкетами. Уже 10 ноября было принято решение о формировании из немцев, сражавшихся в рядах Красной армии, боеспособных воинских частей и переброске их к границе Германии[75]. На следующий день ВЦИК постановил направить 50 вагонов с хлебом «в распоряжение борющихся за диктатуру пролетариата, за власть Советов рабочих и солдат в Германии»[76].Еще через день был аннулирован Брестский мир.

Юлиан Юзефович Мархлевский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 265]
Ставка на германскую революцию стала общим знаменателем, сплотившим к концу октября 1918 года руководство РКП(б). Тем горше было разочарование, когда она не пошла по сценарию, написанному в Москве, и не завершилась «царствованием Либкнехта», т. е. диктатурой левых социалистов (с началом революции они переименовали свою организацию в «Союз Спартака». Ближайший соратник Ленина Я. М. Свердлов сообщал через Чичерина Бухарину, Радеку и Мархлевскому, которые направлялись в Берлин на первый Всегерманский съезд Советов, но были остановлены германскими военными властями на пограничной станции Орша: «Спартаковцы развивают самую кипучую деятельность и учатся на своей революционной работе. При этом всякий работник у них до того завален по горло работой, что не может справиться. Каждого, кто попадает туда [в Берлин] сейчас же впрягают в работу. [Они] настаивают, чтобы во что бы то ни стало от нас ехал всякий, кто может. Пробраться можно, в особенности ввиду коррупции, господствующей на фронте»[77].
Надежды Ленина и его соратников на то, что германская революция перевернет всю систему международных отношений и радикально изменит соотношение сил в мире в пользу пролетарской диктатуры, не оправдались. Большевикам и после денонсации Брестского мира приходилось использовать брестскую тактику односторонних уступок. Понимание того, что ситуация в странах Центральной Европы радикально отличается от российской, имело место в Берлине — но не в Москве. Большевики продолжали настаивать: «Революция в Германии не сможет осуществиться при данной ситуации никаким другим путем, чем тот, по которому она пошла в России»[78].
Напротив, пришедшие к власти лидеры СДПГ не только поставили во главу угла борьбу с «красной угрозой», но и призвали на помощь германскую военщину, которая потопила в крови попытки установления власти рабочих и солдатских депутатов в Берлине, Бремене, Мюнхене. Из поражения германских левых в Москве были сделаны лишь тактические выводы. Никто из сторонников Ленина не решился поставить под вопрос идейные основы «мирового большевизма», освященные авторитетом вождя.
Использование военной силы для разгрома «спартаковского восстания» в январе 1919 года и убийство лидеров КПГ Карла Либкнехта и Розы Люксембург стало для большевиков лишним подтверждением того, что правовые механизмы являются лишь удобным прикрытием для буржуазной диктатуры классового насилия. В случае если речь зайдет о жизни и смерти, она не остановится ни перед каким кровопролитием для того, чтобы защитить свою власть.
«Правительство социал-предателя Шейдемана показало наглядно всему миру, что такое так называемая демократия. Буржуазная или соглашательская демократия — это такой политический строй, при котором лучших борцов пролетариата агенты правительства безнаказанно убивают и бросают в первую канаву»[79]. Бившие через край эмоции на десятилетия определили градус противостояния в рабочем движении европейских стран. Для российского читателя нагнетание страстей имело практическую цель — оно формировало образ врага, наделяло его демоническими чертами и сплачивало массы вокруг РКП(б), как единственной представительницы коренных интересов трудового народа.


Лидеры Коммунистической партии Германии Роза Люксембург и Карл Либкнехт
1910-е
[Из открытых источников]
1.4. Учреждение Коминтерна
Берлинское поражение ускорило процесс организационного раскола международного социалистического движения. Несмотря на то, что власть большевиков в 1918 году не раз висела на волоске, Ленин продолжал живо интересоваться состоянием дел в зарубежном социалистическом движении. В серии революций, произошедших в странах Центральной Европы после окончания мировой войны, не последнюю роль играли силы, ориентированные на повторение русского примера. Именно они стали ядром формирования коммунистических партий.
Получив в конце декабря первые номера газеты немецких коммунистов «Роте Фане» и австрийских — «Векруф», Ленин горячо приветствовал оба печатных органа, «знаменующих жизненность и рост III Интернационала»[80]. Посылка с коммунистической прессой, привезенная в Москву сторонником «спартаковцев» Эдуардом Фуксом, стала для лидера РКП(б) самым лучшим новогодним подарком. Напротив, сообщение о том, что английские лейбористы предложили партиям, входившим во Второй Интернационал, как можно скорее обсудить в Лозанне шаги к его возрождению[81], не могло не вызвать у него серьезного беспокойства. Ленин лично отредактировал обращение ЦК РКП(б), призывавшее все революционные силы Европы отказаться от участия в Лозаннской конференции «врагов рабочего класса, прикрывающихся именем социализма»[82].
28 декабря призывы и обращения были переведены в плоскость практических решений. В этот день Ленин и Чичерин обменялись записками, в которых был предрешен не только формат «международной социалистической конференции», которой предстояло превратиться в Учредительный конгресс будущего Интернационала, но даже сроки («очень скоро») и место его проведения — Германия или Голландия. При этом Ленин не настаивал на том, чтобы союз левых социалистов назвал себя «коммунистическим», этот вопрос должен быть решен на самой конференции[83].

Георгий Васильевич Чичерин
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 10. Л. 67]
По итогам состоявшегося обмена мнениями была выработана идейная и организационная платформа будущей организации коммунистов. Последняя должна была принять за основу теорию и практику большевизма, в нее могли войти только те партии, которые выступают за немедленную социалистическую революцию. Германский опыт побудил Ленина выдвинуть в качестве решающего критерия отбора партий для нового Интернационала их отказ от ограничения борьбы рамками буржуазного парламентаризма, а также признание советского типа власти единственно возможным в случае установления диктатуры пролетариата, ибо он «выше и ближе к социализму»[84].
Чичерин, оппонировавший вождю, высказывал сомнения в своевременности создания столь масштабной международной организации в условиях, когда компартии можно было сосчитать на пальцах одной руки. Столь же осторожную позицию заняла и Роза Люксембург. За несколько дней до своей гибели она сказала члену Правления КПГ Гуго Эберлейну, что в настоящий момент образование Коммунистического Интернационала представляется ей поспешным шагом.

Гуго Эберлейн
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 278]
В то же время она предложила ему отправиться на конференцию в Москву, чтобы лично изложить большевикам доводы немецких товарищей[85]. Карл Либкнехт, оппонируя Радеку на Учредительном съезде КПГ, также выступил против спешки, найдя весьма осторожный аргумент: «немецкий пролетариат пока еще не дорос до союза с российским пролетариатом»[86].
Гибель вождей и полицейские репрессии, обрушившиеся на КПГ после участия в неудавшейся попытке захватить власть в Берлине, могли только усилить скептицизм бывших «спартаковцев». Радек сообщал из Берлина в конце января, что они «не думают, чтобы в близком будущем можно было организационно чего-нибудь достигнуть»[87]. На неопределенное время был потерян главный союзник большевиков за рубежом, и создаваемое объединение коммунистов грозило окончательно потерять свой международный характер.

В. И. Ленин в Кремле произносит речь для записи на грампластинку
29 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 126]
Ленин оказался перед дилеммой: нужно было либо откладывать его создание на неопределенное время, либо ускорять этот процесс, идти буквально напролом, беря в расчет то, что создание генерального штаба мировой революции в далекой России, да еще без участия известных зарубежных социалистов, будет граничить с заурядным фарсом. Однако вождь российских большевиков никогда не отступал от задуманного. Выступая 20 января 1919 года на Всероссийском съезде профсоюзов, он в очередной раз заявил о том, что Коммунистический Интернационал уже фактически создан[88]. Дело было за формальной процедурой его учреждения.
Катализатором этого процесса стала инициированная лейбористами конференция, которая состоялась в Берне в феврале 1919 года[89]. Она была расценена в Москве как попытка «гальванизировать труп Второго Интернационала», однако, несмотря на заявления советской прессы о невыполнимости данного эксперимента, процесс восстановления контактов между ведущими социал-демократическими партиями Европы начался, и Ленин не мог его просто проигнорировать.
Его изначальные расчеты на то, что международную конференцию сторонников «мирового большевизма» также удастся провести в одной из западноевропейских стран, оказались чистой утопией. Послевоенная революционная волна быстро потеряла свою энергию, нигде кроме России политический переворот не перерос в социальный. С огромными трудностями несколько участников будущей конференции добрались в Россию из-за рубежа, большинство же коммунистических групп и партий представляли эмигранты, проживавшие и работавшие в Москве. Вопрос о ее статусе и повестке дня обсуждался на заседании группы делегатов 1 марта 1919 года. Эберлейн заявил, что имеет императивный мандат и будет голосовать против немедленного провозглашения нового Интернационала. Ленин предпочел уступить. В результате было принято компромиссное решение: «конференция, не являясь формально учредительницей III Интернационала, занимается выработкой платформы, избирает Бюро, обращается с призывом о присоединении»[90].
Открывая на следующий день первое заседание конференции, вождь РКП(б) предложил свое видение современной эпохи: «Наше собрание имеет великое всемирно-историческое значение. Оно доказывает крах всех иллюзий буржуазной демократии. Ведь не только в России, но и в наиболее развитых капиталистических странах Европы, как например, в Германии, гражданская война стала фактом»[91]. Еще через день в связи с прибытием всех ожидаемых участников информация о начале работы конференции появилась в прессе. На вечернем заседании 4 марта председательствующий — швейцарец Фриц Платтен — зачитал заявление ряда делегатов о необходимости немедленного конституирования Третьего Интернационала. Очевидно, что это было частью запланированного Лениным сценария, хотя и производило впечатление экспромта[92].

Швейцарец Фриц Платтен выступает на митинге на площади им. Урицкого в Петрограде
Справа — нарком просвещения А. В. Луначарский и представитель НКИД И. Л. Лоренц
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 42. Л. 1]

Президиум Первого конгресса Коминтерна
Слева направо: Г. Клингер, Г. Эберлейн, В. И. Ленин, Ф. Платтен, Э. Руднянский
2–6 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 102. Л. 1]
Договоренность, достигнутая на предварительном совещании, была нарушена, и Эберлейну вновь пришлось взять слово для того, чтобы изложить аргументы своих товарищей. Он напомнил о том, что «настоящие коммунистические партии существуют только в немногих странах, в большинстве из них они образовались лишь за последние недели; во многих странах, где сейчас имеются коммунисты, они еще не имеют никакой организации». Причину спешки немецкий делегат справедливо видел в том, что инициаторы конференции «находятся в значительной мере под влиянием процессов, происходящих во II Интернационале; что после того, как состоялась Бернская конференция, они стремятся противопоставить ей конкурирующее предприятие»[93]. Это звучало как прямой упрек в адрес большевиков, но опровержений не последовало — границы толерантности в момент зарождения коммунистического движения являлись еще достаточно широкими. Решение было принято при одном воздержавшемся.
Коммунистический Интернационал задумывался Лениным не как федерация равноправных партий, представлявших отдельные страны, а как генеральный штаб идущей по всему миру гражданской войны между буржуазией и пролетариатом. В перспективе Коминтерну предстояло стать прообразом будущего мирового правительства — «Всемирного союза Советских пролетарских республик», как выразился финский коммунист Юрье Сирола. Этим диктовались решительный разрыв с традициями массовых рабочих партий, формирование кадров профессиональных революционеров и постоянная чистка их рядов, строгая конспирация и использование методов подпольной работы, опробованных большевиками в борьбе с самодержавием.
Назначение Зиновьева главным «смотрящим» за Коминтерном также являлось важной частью попытки построить особую модель международной организации, которая оставит за бортом все слабости и неурядицы Второго Интернационала. Отвечая в своих мемуарах на вопрос о том, почему выбор пал именно на него, Анжелика Балабанова справедливо выделяла именно этот макиавеллевский подход: «В его сотрудничестве с Зиновьевым, как и в общей своей стратегии, Ленин руководствовался тем, что он считал высшими интересами революции. Он знал, что в лице Зиновьева у него есть надежное и послушное оружие, и он никогда и на минуту не сомневался в своем собственном умении управлять этим орудием для пользы революции. Зиновьев был интерпретатором и исполнителем воли других людей, а его личная проницательность, двусмысленное поведение и бесчестность давали ему возможность выполнять эти обязанности более эффективно, чем это мог сделать более щепетильный человек. Ленин был больше озабочен тем, чтобы его решения были действенными, нежели способом, которым они выполнялись»[94].

Делегаты конгресса во время агитационной поездки в Петроград
Справа налево: И. Л. Лоренц, А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев, французский делегат А. Гильбо, Ф. Платтен, шведский делегат О. Гримлунд, Н. М. Анцелович
8–12 марта 1919
[РГАСПИ. Ф. 488. Оп. 2. Д. 40. Л. 1]
Решения Первого конгресса лишний раз подтвердили, что после окончания мировой войны коммунистами и социал-демократами были сделаны противоположные ставки. Первые рассчитывали на гибель традиционных политических структур, чтобы на расчищенном от «старого общества»[95] месте диктаторскими методами возвести утопию, названную коммунизмом. Вторые — на трансформацию этих структур путем парламентских реформ и подчинение интересам трудящихся в условиях сохранения демократических завоеваний. До тех пор пока ситуация оставляла открытой и ту, и другую перспективу, сближение обоих течений рабочего движения Европы не стояло на повестке дня.
В условиях полной уверенности делегатов Учредительного конгресса в близости окончательной победы мировой революции и отсутствия сколько-нибудь массовых коммунистических партий акцент был сделан на максимально широкую пропаганду политического опыта большевиков. Уже на первом заседании Бюро Исполкома Коминтерна 26 марта 1919 года Г. Е. Зиновьев, принявший по устному соглашению с Лениным бразды правления новой организацией, проинформировал собравшихся о том, что согласно решению пленума ЦК РКП(б) международная пропаганда и финансирование зарубежных коммунистических групп изымаются из ведения ВЦИК и Наркоминдела[96].
Первые плоды деятельности коминтерновского отдела пропаганды и агитации, финансируемого из государственного бюджета Советской России, выдавались за инициативу иностранных коммунистов. В своих речах, письмах и интервью, обращенных к зарубежному общественному мнению, Ленин неустанно подчеркивал: «Будущее принадлежит советскому строю во всем мире. Это доказали факты: стоит подсчитать, скажем, по четвертям года, рост числа брошюр, книг, листков, газет в любой стране, стоящих за Советы и сочувствующих Советам»[97].
Вождь особенно не церемонился ни с деньгами, ни с качеством кадров, отправлявшихся за рубеж. Поговорив с двумя итальянскими военнопленными, которые отправлялись на родину с большой суммой денег, Балабанова была шокирована и направилась прямо к Ленину:
«Владимир Ильич, — сказала я, описав ему эту ситуацию, — советую Вам забрать назад деньги и мандаты. Эти люди просто наживаются на революции. В Италии они нанесут нам серьезный вред.
Его ответ камнем упал мне на сердце.
— Для развала партии Турати[98], — ответил он, — они вполне годятся.
Для меня это было первым указанием на то, что отношение Ленина к небольшевистским отделениям [коммунистического] движения было отношением военного стратега, для которого деморализация „врага“ на войне является необходимым делом. Считается, что орудиями такой деморализации должны быть люди, лишенные сомнений и — что более важно — являющиеся профессиональными клеветниками. Новый интернационал стал плодить таких людей, как мух»[99]. И подобных примеров «кадровой работы» в первые годы большевистской диктатуры можно было бы привести великое множество.
Еще в феврале 1919 года Ленин отправил в вояж по европейским странам Александра Абрамовича, который вместе с ним находился в швейцарской эмиграции и прибыл в Россию в «пломбированном вагоне». Хотя целью Абрамовича была Франция, несколько недель он провел в Германии, став свидетелем и участником Баварской советской республики[100]. После почти годичной командировки он представил Москве весьма нелицеприятную картину того, как создавались на Западе коммунистические партии. Прежде всего его возмущало разбазаривание огромных средств, выделявшихся руководством Советской России на поддержку своих единомышленников в европейских странах.
Они отравляли атмосферу в коммунистических группах и партиях, развращали их лидеров, вели к тому, что к движению прибивались разного рода мошенники и авантюристы. Руководители компартий становились послушными исполнителями воли московских эмиссаров, которые перетасовывали местные кадры на собственный лад: «каждый приехавший последним начинает иначе устраивать и считает, что он лучше знает, что нужно делать». В результате «партий учреждается соответственно количеству приехавших из России товарищей с деньгами»[101].
Эмиссарами мировой революции в европейских странах были не только старые большевики, которым Ленин безоговорочно доверял. Несколько раз такую функцию брал на себя голландский коммунист Себальд Рутгерс. Через созданный им Западноевропейский секретариат Коминтерна шли финансовые потоки коммунистам практически всех стран от Скандинавии до Балкан, от Франции до США[102].
Ленин продолжал искать любую возможность для того, чтобы через иностранных корреспондентов в России, по радио или путем отправки секретных курьеров представить западному общественному мнению идеализированный образ большевистской диктатуры, который должен был превратить ее в пример для подражания для всего прогрессивного мира.

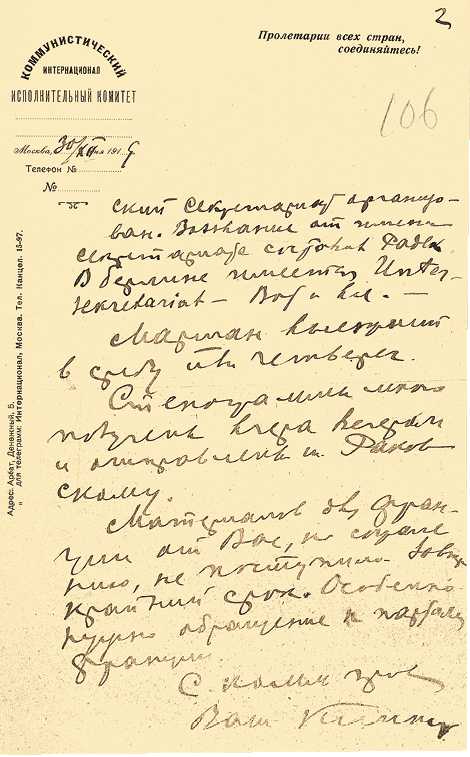
Письмо Кингисеппа Зиновьеву о текущей работе Малого бюро ИККИ
30 декабря 1919
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 549. Л. 105–106]
1.5. Борьба с левизной
Образование реальных коммунистических партий в странах Европы проходило совсем не так, как это виделось российским основателям Коминтерна. В австрийской и немецкой компартиях, основанных до Учредительного конгресса, весной — летом 1919 года развернулась острая фракционная борьба, отнюдь не последнюю роль в которой играл вопрос о распределении «русских денег». В Вену эти деньги добирались через эмиссаров из Советской Венгрии, самым известным из которых был Эрнст (Эрнё) Беттельгейм.
Он сумел изолировать членов ЦК КП Австрии, которые погрязли во внутренних склоках, и заменил партийное руководство особой «директорией» во главе с самим собой. В ходе очередного внутриполитического кризиса в стране Беттельгейм попытался организовать антиправительственную демонстрацию. Однако ее не поддержал даже батальон Красной гвардии, расквартированный в центре Вены и находившийся под контролем коммунистов. Жертвой силового разгона демонстрации 15 июня 1919 года стали 17 человек, а компартия в течение нескольких месяцев потеряла три четверти своей численности[103].
Понятие «беттельгеймерства» стало нарицательным в истории раннего коммунистического движения, подразумевая бездумные провокации властей без оглядки на возможные жертвы и последствия. Нечто подобное происходило в германских городах, где зимой — весной 1919 года провозглашались локальные советские республики. КПГ, оставшись без своих вождей, двигалась от поражения к поражению, так и не сумев завоевать массового влияния. Пауль Леви, вставший во главе партии после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, олицетворял собой тип левого социалиста, для которого ценности довоенного рабочего движения Европы значили гораздо больше, чем коминтерновские инструкции из Москвы.

Пауль Леви
Художник И. И. Бродский
Июль — август 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 28]
Укрепив свои позиции в местных организациях и проведя несколько партийных конференций, «левиты» развернули подготовку ко второму съезду КПГ, который прошел 20–24 октября 1919 года в окрестностях Гейдельберга. В политическом докладе Леви доминировали два пункта: политэкономическая характеристика прошедшей войны и критика левацкого уклона внутри КПГ[104]. Предложение о том, что «партия должна раствориться в экономических организациях пролетариата или отказаться от руководящей роли, ограничившись пропагандой», с которым выступили анархо-синдикалисты, было отвергнуто как контрреволюционное. И наконец, федеративную структуру КПГ, которая являлась наследием Союза Спартака[105], должна была сменить «строжайшая централизация, отвечающая потребностям революционной эпохи».
Дебаты по политическим тезисам, предложенным съезду Правлением, развернулись только после принятия общей резолюции, давшей Леви необходимую поддержку. Левые делегаты, голосовавшие против резолюции, были попросту выведены из зала заседаний, а затем и исключены из партии. Несмотря на просьбы членов Правления КПГ дать оппозиционерам время подумать, чтобы оставить открытым путь к примирению, Леви действовал крайне решительно. Его биограф пишет о том, что форсированное изгнание левых было необходимо для завоевания симпатий «независимцев», т. е. членов НСДПГ, и в этом утверждении есть рациональное зерно[106]. Речь шла не только об идейном размежевании — левые радикалы были рупором стихии партийных низов, которая имела явные анархические черты и никак не желала признавать инструменты парламентской демократии.
В последующем линия Леви, который расправился со своими оппонентами совершенно по-большевистски, противопоставлялась ленинскому курсу на сплочение всех сил, двигающихся в направлении Коминтерна. Спустя почти десять лет лидеры объединенной оппозиции в ВКП(б) Зиновьев и Троцкий обвинят руководство КПГ в проведении «архиправой» капитулянтской политики, особо подчеркивая, что «прямым безумием является выталкивание из германской компартии сотен и сотен старых кадров рабочих-большевиков. Это и есть тот путь, по которому повел было германскую компартию в Гейдельберге Пауль Леви, когда он был еще коммунистом. И Ленин, и все мы тогда считали, что это — верный путь к тому, чтобы погубить германскую компартию»[107].
На самом деле Ленин никогда не действовал в рамках единожды заданной жесткой схемы, примеряя собственную линию к внешним обстоятельствам, и вопрос о левых в КПГ не являлся здесь исключением. Накануне Гейдельбергского съезда он признал наличие острых разногласий в «невероятно быстро выросшем массовом движении» коммунистов, привычно возложив вину за это на преследования власти и невозможность их открытого изживания в легальной прессе[108]. Ссылаясь на исторический опыт собственной партии, Ленин назвал это «болезнью роста», которая будет изжита в ходе дальнейшей борьбы. Получив первые сведения об исключении на съезде левой оппозиции, он высказался против подобного распыления сил. «С точки зрения интернациональной, восстановление единства Коммунистической партии Германии и возможно и необходимо»[109].
Однако тревожный звонок был услышан — опыт КПГ подтверждал, что никакого автоматического движения пролетарских масс в лоно коммунизма произойти не может. Напротив, леворадикальные настроения возвращали только что созданные компартии в состояние сектантских групп, оторванных от реальной жизни. Их активистам не удалось проникнуть в массовые организации рабочего класса, прежде всего в профсоюзы, остававшиеся в условиях послевоенного социального кризиса важным фактором политической борьбы. Традиции «постепенности», сложившиеся за предшествующие десятилетия, оказывались сильнее зажигательной пропаганды крайне левых. Тот факт, что условия работы социалистов в царской России и в передовых странах Европы были совершенно различными, признавался на словах, но отступал перед требованиями Коминтерна следовать «советскому образцу», возведенному в догму решениями его Учредительного конгресса. Путчизм и вспышкопускательство, нашедшие свое яркое выражение в «беттельгеймерстве», грозили похоронить под собой еще не оформившееся толком международное движение коммунистов.
Подобные настроения характеризовали не только австрийскую компартию, где тон задавали молодые ветераны войны, вернувшиеся из русского плена убежденными большевиками. Венгр Бела Кун, также прошедший через сибирские лагеря для военнопленных, весной 1919 года провозгласил в Будапеште Советскую республику, раздавленную к июлю вооруженными силами Антанты.

Бела Кун
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 197. Л. 1]
Оказавшись год спустя в венской тюрьме, он убеждал Ленина в том, что свержение буржуазных правительств ведущих держав продолжает стоять на повестке дня:
«В Западной Европе нет страха перед преждевременными родами революции, здесь не нужно тормозить рабочих и удерживать их от попыток завоевания власти. Некоторые Ваши высказывания последнего времени используются всеми вшивыми оппортунистами в коммунистических партиях и вне их, чтобы не только предостеречь от путчей, но вообще тормозить движение. Я прошу Вас поэтому не тормозить [и не утверждать], что русский метод большевизма в Западной Европе не может быть просто применен…» Приводя примеры «вшивого оппортунизма», Кун выражал свою убежденность в том, что «лучше действовать по русскому методу со всеми ошибками тамошнего развития, чем под видом применения метода кастрировать большевистскую партию и ее действия»[110]. И он не был одинок в своем безудержном радикализме, будучи уверен в том, что подобные признания в верности и готовности к самопожертвованию будут отмечены в Москве. Однако вследствие поражений в Мюнхене и Будапеште, послевоенной нормализации жизни в странах Антанты и падения интереса к советскому эксперименту такая «левизна» стала восприниматься Лениным уже не как гарантия победы, а как угроза поражения компартий.
К весне 1920 года стало очевидно, что экономическая политика «военного коммунизма» буксует, и Советская Россия никак не превращается в путеводную звезду для европейского рабочего класса. Несмотря на крайнюю загруженность государственными делами, лидер РКП(б) продолжал интересоваться коминтерновской проблематикой. 3 апреля 1920 года он ознакомился с документами учредительного съезда Коммунистической рабочей партии Германии (КРПГ), который открылся в тот же день в Берлине. Через полгода после своего изгнания «левая» часть немецких коммунистов заявила о создании собственной партии, разделявшей синдикалистские взгляды и с опаской относившейся к большевистской модели партийного строительства. При чтении тезисов КРПГ о революционной работе на производстве Ленин сделал пометки «неверно», «не точно»[111], однако обошелся без разгромных эпитетов, которые нередко использовал в отношении умеренных социалистов.
Раскол в германской компартии он считал серьезной угрозой, которая могла нанести вред Коминтерну в целом. Попытка примирить фракцию большинства в КПГ и лидеров КРПГ, предпринятая его Западноевропейским секретариатом в Амстердаме, провалилась[112]. Выбор между строптивыми «левыми» и послушными «умеренными» в только что возникших компартиях оказался выбором между Сциллой и Харибдой, и вождь РКП(б) был готов бросить на чашу весов весь свой авторитет для того, чтобы привести и тех, и других к общему знаменателю.
Решение пригласить делегацию КРПГ на Второй конгресс было принято в Политбюро 28 апреля 1920 года[113], в руководстве РКП(б) спорили по этому вопросу целых два месяца. Лояльным оппонентом Ленина в данном случае выступал Карл Радек, не понаслышке знакомый с положением дел в Германии. Он считал, что фракция большинства в КПГ во главе с Паулем Леви должна получить всемерную поддержку Москвы, а «левых» нужно осудить как сектантов и раскольников. Одержав победу в вопросе о сохранении связей с КРПГ, Ленин отдал должное радековским аргументам. Сразу же после Девятого съезда РКП(б), отложив в сторону все дела, он сел за написание одной из самых известных своих работ — «Детской болезни „левизны“ в коммунизме».

Брошюра В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме»
1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14399]
Будущий конгресс Коминтерна должен был стать не только инструментом сплачивания разношерстных коммунистических групп, но и местом масштабной презентации ленинской книги, которая в срочном порядке переводилась на основные европейские языки.
Ленинская брошюра открывалась фразой, которую можно было истолковать как угодно: «Русский образец показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего»[114]. Нетрудно предположить, что такой подход сохранял в руках большевиков все нити управления иностранными коммунистами, позволяя решать, что является существенным, а что выходит за рамки туманного «кое-чего». Разные условия существования и борьбы левых социалистических партий в европейских странах, по мысли Ленина, будут нивелированы преобразованием последних в «железные и закаленные в борьбе» армии мировой пролетарской революции.
Следует признать, что вождь РКП(б) постепенно возвращался на почву упрямых фактов, которые никак не укладывались в доктрину «мирового большевизма». Новым в его работе было то, что наряду с борьбой против соглашательства и оппортунизма традиционных социал-демократических партий коммунистам предписывалось открыть второй фронт, на сей раз против левацких элементов, которые грозят привести молодые партии в болото «доктринерства и сектантства».
В переводе на язык конкретной тактики это означало, что зарубежные соратники большевиков должны учитывать реальные настроения рабочих масс, пытаться завоевать их доверие, не пренебрегать работой в профсоюзных организациях и активно использовать инструменты, предоставленные им «буржуазной демократией». В последнем случае Ленин имел в виду парламентскую деятельность, которую в предшествовавшие годы он клеймил как инструмент изощренного обмана трудящихся масс.
1.6. Второй конгресс Коминтерна
Хотя у Коминтерна еще не было своего устава, где была бы определена периодичность созыва конгрессов, Ленин настаивал, что любые повороты политики международной организации коммунистов должны обсуждаться максимально широко (в годы, когда он твердо держал в своих руках бразды правления, конгрессы созывались ежегодно). Созданный в Москве «интернационал действия» противопоставлялся инертности и кастовой замкнутости Второго Интернационала, который за четверть века своего существования провел только девять конгрессов.
В начале 1920 года главной проблемой, с точки зрения Ленина, являлся быстрый рост коммунистического движения вширь, стихийное образование леворадикальных групп и партий в разных странах мира, называвших себя коммунистическими, но имевших слабое представление и друг о друге, и о доктрине «мирового большевизма». Второй конгресс Коминтерна должен был ввести этот процесс в единое русло, унифицировать идейную платформу движения, усилить центростремительные тенденции в отдельных странах. Компартиям следовало прислать в Россию как можно более представительные делегации, а одного из членов каждой из них оставить потом для работы в Исполкоме. Сочувствующие коммунизму группы и движения, стоявшие в оппозиции к существующим в той или иной стране компартиям, приглашались на конгресс с совещательным голосом.
2 июня было подготовлено соответствующее информационное письмо о созыве конгресса за подписями Зиновьева и Радека, разосланное открытым текстом по радио и опубликованное в прессе. В отличие от Учредительного конгресса, созыв которого держался в тайне, приглашение на Второй конгресс зарубежные сторонники Коминтерна получили гласно. С одной стороны, рассчитывать на сохранение секретности при наличии десятков коммунистических партий было бессмысленно, с другой — ставка делалась на то, что «открытое назначение съезда вызовет огромный прилив и сильнее свяжет нас с рабочим движением всего мира»[115].
И наконец, шаги этаблированных социал-демократических партий европейских стран по скорейшему возрождению Второго Интернационала требовали немедленной и открытой реакции. «Конгрессу мертвых душ» (Радек), созываемому в Женеве социал-демократами, следовало как можно скорее противопоставить его новорожденного соперника.
Все ключевые вопросы, связанные с подготовкой Второго конгресса Коминтерна, обсуждались с участием Ленина, зачастую в его рабочем кабинете в Кремле. Такие встречи носили неформальный характер и не стенографировались[116], однако именно они являлись генеральной репетицией конгресса. Серьезные споры велись вокруг допуска к участию в нем лидеров социалистических партий, вышедших из Второго Интернационала. К началу 1920 года раскол в среде европейских социалистов стал свершившимся фактом. Победы большевиков в Гражданской войне, радикальные меры по национализации промышленности, беспощадное преследование контрреволюционеров и «бывших» всех мастей вызывали у политически активных рабочих одобрение и активную поддержку. Этого не могли не замечать те левые социалисты, которые видели в Советской России позитивный фактор мирового развития и выражали готовность его использовать хотя бы для преодоления послевоенных лишений и потрясений в собственных странах.


Проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) о созыве Второго конгресса Коминтерна
Автограф В. И. Ленина
22 апреля 1920.
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13686. Л. 1–1 об.]
Одновременно крупнейшие партии, где доминировало левое марксистское крыло, — НСДПГ и СДРП Австрии — отстаивали тезис об инаковости рабочего движения в Центральной и Западной Европе, которое не может слепо следовать русскому образцу. «Так же, как с вопросом о диктатуре, дело обстоит и с вопросом о терроре и гражданской войне. И тут специфически-русская форма диктатуры пролетариата возводится в основной принцип для международного пролетариата… Терроризм в качестве политического метода обозначает установление царства ужаса, обозначает применение средств государственного насилия, в том числе против невинных, с целью предупредить путем запугивания всякие помыслы о сопротивлении»[117]. Для руководства НСДПГ сохранение демократических институтов и процедур в собственной стране было той красной чертой, что разделяла социалистов и коммунистов.
В таком ключе было выдержано ее обращение к руководителям партии большевиков и Коминтерна, отправленное в Москву еще 15 декабря 1918 года. Больше месяца получатели письма обсуждали варианты возможной реакции, очевидно, так и не придя к компромиссу. С одной стороны, «независимцы» олицетворяли собой левое крыло европейской социал-демократии, которую Ленин постоянно клеймил за «развращение революционного сознания рабочих», с другой — за ней стояли массы немецких рабочих, возмущенных как поражением германской военщины в Первой мировой войне, так и отсутствием реальных достижений в социальной сфере, которые пообещали лидеры ноябрьской революции 1918 года.
В очередной раз вождю партии пришлось принять на себя функцию генерального арбитра. В середине января он подготовил проект ответа руководству НСДПГ, в котором отказался от тактики фронтальных нападок на эту партию, к которой призывал Зиновьев. Вариант, предложенный Лениным, указывал на ошибки, допущенные немецкими левыми в период революционных боев, и повторял традиционные обвинения в их адрес: «Независимцы лишь на словах признают Советскую власть, а на деле остаются всецело подавленными предрассудком буржуазной демократии… Повторяя фразы мелкобуржуазных демократов о большинстве „народа“ (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата». Рассчитывая на то, что партийные низы рано или поздно заставят лидеров перейти на революционные рельсы, ответ выражал готовность большевистской партии к контактам с иными рабочими партиями, «желающими совещаться с нею, знать ее мнение»[118]. В таком же духе были выдержаны ленинские инструкции по приему делегации британских тред-юнионов, которая посетила Советскую Россию в мае 1920 года[119].
Накануне Второго конгресса лидеры РКП(б) сохраняли уверенность в том, что никакого организационного слияния между коммунистами и социалистами, пусть даже левыми, быть не может. Однако представители умеренного крыла в Исполкоме — Пауль Леви и посланец итальянской социалистической партии Джачинто Серрати — отстаивали иную точку зрения и выступали за поиск разумного компромисса, что было понятно — для них прямую угрозу представляли не социалисты, а «леваки» в собственных рядах, обвинявшие руководство компартий в пассивности и оппортунизме. Для большевиков ситуация выглядела иначе. Долгое время являвшиеся маргиналами во Втором Интернационале, Ленин и его соратники видели главную угрозу в европейских вождях старой закалки, которые с правых позиций могут повести наступление на Коминтерн или, что выглядело еще более опасным, начнут проникать в него изнутри.
История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» справа и слева имела свое продолжение уже после его начала. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки» из КРПГ появятся в зале заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[120].

В. И. Ленин выступает на открытии Второго конгресса Коминтерна в Таврическом дворце
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 245. Л. 1]
Ленину опять пришлось бросить на чашу весов свой авторитет, чтобы добиться компромисса. На совещаниях делегаций КПГ, НСДПГ и РКП(б), состоявшихся в его кабинете, Леви и его соратники получили заверения вождя, что равного отношения ко всем трем германским партиям не будет. В то же время вождь использовал представившийся шанс для того, чтобы узнать позицию лидеров партии «независимцев» из первых рук. Он отозвал в отдельную комнату Вильгельма Дитмана и Артура Криспина и провел с ними короткую встречу с глазу на глаз. Разговор получился острый и нелицеприятный. Руководители НСДПГ заявили, что готовы к союзу Берлина и Москвы, но не потерпят навязывания им политической линии Коминтерна. Парируя обвинения в соглашательстве и оппортунизме, Дитман обратился к собеседнику со следующей тирадой: «…если мы будем подходить к вам с такими же мерками, как и вы к нам, то я могу вам сказать: нет в мировой истории больших оппортунистов, нежели Ленин и его товарищи»[121].
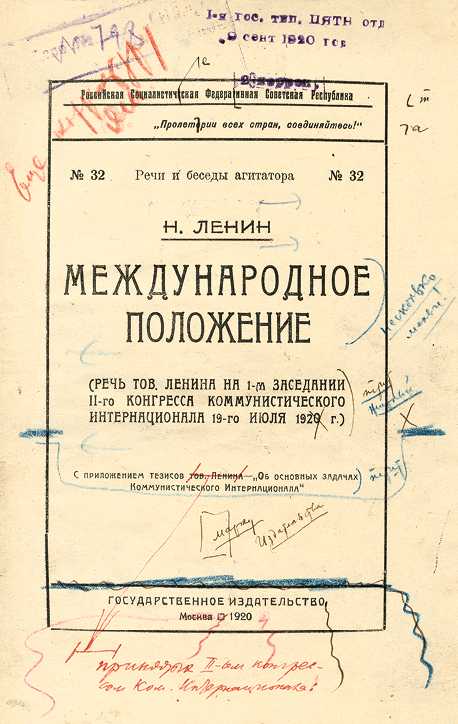

Доклад В. И. Ленина «Международное положение» с приложением тезисов «Об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала»
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15371. Л. 1–19]
После церемонии торжественного открытия Второго конгресса, с большой помпой прошедшей в Петрограде, его участники переехали в Москву, где 23 июля 1920 года продолжили свою работу. Как правило, заседания начинались вечером и заканчивались далеко за полночь. Собрать делегатов в первой половине дня было практически невозможно, для этого требовались личные приглашения от Ленина. Впрочем, и сами лидеры РКП(б) были крайне непунктуальными и заставляли часами себя ждать, а когда появлялись на конгрессе, ссылались на неотложные государственные дела[122].
Наряду с дефицитом пунктуальности серьезной проблемой, мешавшей нормальному ходу конгресса, стало тривиальное непонимание друг друга. Официальными языками конгресса были русский, французский и немецкий, но доминировал последний, считавшийся языком Второго Интернационала. На немецком выступали некоторые делегаты от РКП(б), имевшие за своими плечами опыт эмиграции в Германии[123]. Когда Ленин делал доклад по национальному и колониальному вопросам, «ниже трибуны ораторов сидел Радек, в случае надобности он подсказывал Ленину надлежащее немецкое слово»[124]. Синхронного перевода не было, и делегаты собирались группками вокруг того, кто брался за перевод.
Выступая в дискуссии по докладу Председателя ИККИ, который открывал московскую часть конгресса, Ленин ни на йоту не сдвинулся с позиции, изложенной в «Детской болезни»: до тех пор, пока социалистические партии и профсоюзы представляют коммунистам платформу для дискуссий, они обязаны ею пользоваться. Если же заблуждающееся большинство не примет линию Коминтерна, «раскол так или иначе неизбежен»[125]. Это прозвучало как скрытая угроза в адрес тех иностранных делегатов, кто ставил специфику политического развития своих стран выше жестких правил стратегии и тактики, установленных Москвой.
Данный эпизод стал маленьким отражением изначально взятого курса большевиков на жесткое подчинение зарубежных коммунистов воле «генерального штаба мировой революции». С одной стороны, такой курс опирался на опыт милитаризации всей общественной жизни в России в условиях Гражданской войны, а с другой — предвосхищал процесс укладывания самой российской партии в прокрустово ложе догматизма и единомыслия.
В итоге Коммунистический Интернационал оказался полем масштабного эксперимента по превращению отдельных групп единомышленников леворадикального толка в военизированную организацию, подчиненную жесткой дисциплине, сплоченную железной волей вождей и искоренявшую любое стремление к содержательным дискуссиям. Этот эксперимент на десятилетия пережил Коминтерн, а попытка М. С. Горбачева завершить его привела к гибели не только созданной Лениным партии «профессиональных революционеров», но и к исчезновению созданного этой партией государства.
Но вернемся в 1920 год. После жарких дебатов (в столице стояла невыносимая жара, делегаты наблюдали, как сотни москвичей голышом купались в Москве-реке прямо под стенами Кремля) их участники неизменно голосовали за проект резолюции, одобренный «русскими товарищами». Жесткая режиссура конгресса повторяла фирменный стиль тех съездов РСДРП, в ходе которых большевики принимали решения без оглядки на фракцию меньшевиков. Следует признать, что этот стиль быстро перенимали и лидеры иностранных партий, если он помогал реализации их собственных интересов. Тот же Серрати в роли председательствующего вел себя достаточно авторитарно, без колебаний прекращая дискуссии, которые могли дать дополнительные очки «левым».
Из четырех конгрессов Коминтерна, состоявшихся при жизни Ленина, Второй был самым «ленинским». Вождь РКП(б) присутствовал на большинстве заседаний, делал доклады по двум пунктам повестки дня, четыре раза выступал в прениях, входил в три из десяти комиссий. Он был окружен почти религиозным поклонением, делегаты ловили каждое его слово и каждый жест, чтобы по возвращении на родину донести свои впечатления до единомышленников. Важно было даже не то, что говорил Ленин, важен был сам факт его появления на обсуждении того или иного вопроса. Мы не знаем, какие аргументы он использовал во время кризисных заседаний Исполкома накануне первой сессии конгресса в Москве, но само присутствие Ленина способствовало разрешению острых конфликтов, грозивших отъездом делегации КПГ и «независимцев». Каждое «явление вождя народу» сопровождалось неутихающими овациями, здравицами и криками восторга, которые не могли расшифровать даже опытные стенографистки.

Делегаты Второго конгресса Коминтерна направляются к Зимнему дворцу
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 30. Л. 1]
Лишь одна из ленинских речей была произнесена на русском языке и авторизирована, в остальных случаях он говорил на немецком. Наброски Ленина к его первой речи на конгрессе показывают, что он готовил ее самостоятельно и в условиях крайней загруженности государственными делами не мог уделить ей достаточного внимания[126]. Более интересными представляются маргинальные сюжеты, которые разрабатывались им в сотрудничестве с соратниками по РКП(б) и зарубежными коммунистами. Ленин набрасывал первоначальные идеи и корректировал их доработку, давая конкретные поручения. Ему принадлежат интересные новации, которые позже вошли в катехизис коммунистических партий. Так, из ленинских уст на конгрессе впервые прозвучало предложение «подумать над тем, как положить первый камень организации советского движения в некапиталистических странах». Позже эта осторожная формулировка была превращена в теорию построения социалистического общества в странах третьего мира, минуя капиталистическую стадию.

II конгресс Коминтерна (Торжественное открытие второго конгресса Коминтерна во дворце имени Урицкого, бывшем Таврическом)
Художник И. И. Бродский
Ленинград, 1924
[Из открытых источников]

Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину о положении дел в Коминтерне и перспективах революционного развития в странах Центральной Европы
23 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]
Ленин не только жестко отстаивал свой взгляд на перспективы «мирового коммунизма», но и проявлял готовность к уступкам, если ему противостояло солидное большинство. Подготовленные им тезисы об основных задачах Коммунистического Интернационала в ходе работы комиссии конгресса были скорректированы под влиянием «левых». Ключевая фраза проекта тезисов «задача момента для коммунистических партий состоит теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы усиливать подготовку пролетариата»[127], была сформулирована иначе: «Задача… состоит в том, чтобы ускорять революцию, не вызывая ее, однако, искусственно, без достаточной подготовки; подготовка пролетариата к революции должна быть усилена действием»[128].
Эта уступка многократно приводилось советскими историками в доказательство тактической гибкости автора тезисов[129], однако на самом деле она отражала общее настроение «бури и натиска», которое не могло не заразить и вождя РКП(б). Так, Ленин телеграфировал на фронт Сталину 23 июля 1920 года: «…положение в Коминтерне превосходное. Зиновьев, Бухарин, а также и я, думаем, что следовало бы поощрить революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть, также Чехию и Румынию»[130].
Политическая воля, граничившая с фанатизмом, становилась основой для непродуманных решений, которые никак не соотносились с реальным положением дел в странах Центральной и Западной Европы.
К сожалению, мы располагаем только фрагментарными данными о многочисленных встречах Ленина с делегатами конгресса[131]. Иностранцы неизменно задавали вопрос, не пора ли коммунистам перейти к тактике наступления на всех фронтах. Ленин каждый раз уходил от прямого ответа, однако игнорировать подобные настроения не мог. Гораздо больше его интересовало положение дел в той или иной стране. Он был неплохо осведомлен о политических конфликтах в процессе становления Веймарской республики, но избегал критических высказываний, которые могли бы подорвать авторитет руководства КПГ.
Взгляды Ленина были обращены не только на Запад, где крахом капиталистического строя должна была завершиться предначертанная Марксом «предыстория человечества». Его интересовали проблемы национально-освободительного движения, которое грозило стать камнем преткновения для победителей в Первой мировой войне, сохранивших свои колониальные владения. До того, как в Китае в 1922 году разразилась революция, речь шла прежде всего об Индийском субконтиненте.
Один из самых известных коминтерновских эмиссаров М. М. Бородин вместе с индусом М. Роем разработал «План военных операций на границах Индии», подразумевавший поставки оружия и продовольствия пуштунским племенам, чтобы они дезорганизовали тыл английских владений в этом регионе. Он представил этот план Ленину на личной встрече в августе 1920 года и получил полное одобрение вождя РКП(б)[132]. Это предопределило отправку в Кабул советской дипломатической миссии и регулярные поставки вооружений режиму Амманулы-хана. Туркестанскому бюро Коминтерна досталась пропагандистская работа среди воинственных пуштунов, однако на протяжении 1920-х годов они так и не прониклись идеями прогресса и социального равенства.
О почти религиозном преклонении делегатов Востока перед лидером большевизма свидетельствует поток приветствий в его адрес, сохранившийся в архивном фонде конгресса. Омар Галиев, представитель «кавказских народов», в своем приветственном адресе, написанном арабской вязью, дошел до религиозного экстаза: «Товарищ Ленин, являясь выдающейся личностью, являясь на политической арене величайшим явлением, обладателем великого разума, всей своей славой стоит во главе социалистической революции… Слово Мухаммада было полной верой, слово Мухаммад является священным. Так и слово Ленин является всему миру священным»[133].
Дело не ограничивалось восточной лестью. В номере журнала «Коммунистический Интернационал», приуроченном к началу конгресса, появилась статья Максима Горького, посвященная Ленину. Известно, насколько сильны были разногласия между ними в первые месяцы после победы большевиков. Теперь же писатель не жалел самых ярких красок, описывая всемирный масштаб ленинских деяний: «Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия, — его воля неутомимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных, рабских деспотий Востока»[134].
Оставим литературоведам дискуссию о том, не скрывалась ли за столь грубой лестью тонкая ирония проницательного наблюдателя, увидевшего одновременно и трагедию народа, ставшего объектом невиданного социального эксперимента, и то новое, что несла с собой партийная диктатура. Говоря о том, что Ленин совершал «ошибки, но не преступления», Горький сравнивал работу его мысли с «ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить». Статья называла вождя РКП(б) современным Аттилой, разрушившим Древний Рим, который давно уже заслужил собственную гибель. «Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым»[135].
Вряд ли издатели журнала пытались таким образом выстроить религиозный культ Ленина. Скорее всего, они хотели использовать известное на Западе имя Горького для того, чтобы его устами подретушировать реальное положение дел в Советской России, а заодно и продемонстрировать иностранным делегатам участие некоммунистической интеллигенции в строительстве нового общества. Но они жестоко просчитались.
Ленин был крайне возмущен статьей и вынес вопрос на заседание Политбюро, лично написав проект резолюции: публикация была признана «крайне неуместной», ибо в ней «не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического»[136]. Такая формулировка оставляла пространство для самых разных толкований. То ли вождь выступил против неуклюжего насаждения собственного культа личности, то ли посчитал, что остававшийся «попутчиком» Горький недостоин писать ни о нем самом, ни о Российской революции в целом. К сожалению, у нас нет откликов делегатов на появление статьи, критика которой стала одним из краеугольных камней в формировании мифа о ленинской скромности.
Несмотря на продолжавшуюся Гражданскую войну в России (а может быть, даже благодаря ей), большевики сохраняли уверенность в том, что до начала полномасштабной пролетарской революции в ключевых странах Европы остались считанные месяцы. Международная обстановка в западном мире казалась крайне нестабильной, среди тамошних интеллектуалов господствовало мнение, что наступили «сумерки западного мира» (Освальд Шпенглер). На период работы Второго конгресса пришлось успешное наступление Красной армии на Варшаву, которое занимало все мысли лидеров РКП(б).
Вопреки ожиданиям и просьбам делегатов польский вопрос не был поставлен на повестку дня, однако он неизменно возникал в кулуарах. «Мы ставили тогда в частных совещаниях на Втором конгрессе вопрос о переходе к наступательной тактике… стали практически обсуждаться вопросы о том, может или нет одна победившая рабочая республика „на штыках“ нести социализм в другие страны», — рассказывал Зиновьев на Десятом съезде РКП(б) весной 1921 года[137]. Дело ограничилось появлением в коридоре Большого Кремлевского дворца, где проходил конгресс, огромной карты Европы, на которой каждый день отмечали продвижение Красной армии на Запад.
Ленин не пропустил ни одного заседания, на котором обсуждались правила приема в Коминтерн левых социалистов — знаменитое «21 Условие». Он чаще других отпускал критические замечания по ходу доклада Серрати, который предлагал «распахнуть двери Коммунистического Интернационала всем партиям, которые могут вместе с нами совершить революцию, а затем уже спорить», и взял слово для доклада сразу после итальянца[138].
Иностранные делегаты видели и чувствовали настроение лидеров РКП(б). В результате обсуждение «21 Условия» на конгрессе вылилось в бесконечную череду обвинений и заявлений, вплоть до требования удалить из партий Коминтерна скрытых и явных франкмасонов. Если сторонники умеренной линии делали акцент на разъяснительной работе среди рабочих-социалистов, то крайняя позиция «левых» (ее представители были в явном большинстве на конгрессе) характеризовалась требованием немедленного организационного размежевания с оппортунистами и соглашателями всех мастей и оттенков.
Никогда более в истории Коминтерна накал дискуссий не приобретал такого масштаба, как жарким московским летом 1920 года. Противостояние в ходе работы комиссий и комитетов двух главных режиссеров Второго конгресса — Зиновьева и Радека — пошло на пользу его содержательному наполнению. Зиновьев, который по итогам конгресса добился временного отстранения своего оппонента от коминтерновской работы, рано праздновал победу.
1.7. После конгресса. Ленин и Цеткин
Используя в своих целях вялотекущий конфликт между своими соратниками, направленными на работу в Исполком Коминтерна, Ленин проявил качества опытного партийного тактика, исповедуя принцип «разделяй и властвуй». Если же возникала необходимость бросить на чашу весов собственный авторитет, он сам брался за перо. В августе Ленин написал открытые письма австрийским, немецким и французским рабочим, разъясняя им ключевые решения, принятые в Москве. В них шла речь об участии коммунистов в парламентских выборах и практическом применении «21 Условия», было выдвинуто требование покончить с «вреднейшими иллюзиями» о возможности политического сотрудничества с левыми социалистами[139]. Важную роль играли и личные встречи с отбывавшими на родину делегатами конгресса, которые занимали значительное место в августовском графике работы вождя[140].
В последующие месяцы его внимание переключилось на внутриполитические проблемы: Россия изнывала от утопической политики «военного коммунизма», остановился транспорт, хлебородные регионы оказались перед угрозой страшного голода. Остроту кризиса усиливало трагическое поражение Красной армии под Варшавой. Признав ошибочность «тактики наступления», Ленин возложил часть ответственности на коммунистов из стран, которые раньше являлись частью Российской империи. Они якобы настаивали на военной помощи в их «советизации», и просьбы эти не могли остаться не услышанными: «…между собой мы говорили, что мы должны штыками прощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»[141]
Не менее спорным являлся и ленинский аргумент о том, будто конфликт с Польшей должен был отвлечь внимание Запада от радикальных решений Второго конгресса: «…под шумок войны Коминтерн выковал оружие и отточил его так, что господа империалисты его не сломают». Накануне сентябрьской конференции РКП(б) 1920 года вождь продолжал строить планы возобновления наступления на Польшу: «За ближайший месяц мы должны во что бы то ни стало покончить с Врангелем. А когда мы с ним покончим, на съезде Советов отвергнем этот мир и двинем все силы на Польшу, если будет выгодно. Чтоб было похоже на правду, на сессии ВЦИК закажем патриотические речи Бухарину, Сосновскому, пусть 1/3 проголосует против мира. Скажем, что оппозиция на съезде превратилась в большинство, и опять двинем на Варшаву»[142]. Даже если оставить в стороне анализ ленинского отношения к демократическим процедурам, очевидна фанатическая уверенность в том, что появление Красной армии на западных границах России вызовет очередной приступ мировой пролетарской революции — уверенность, которая на исходе третьего года большевистской диктатуры не имела под собой сколько-нибудь надежной опоры.
Переходя уже во время общепартийной конференции от обороны к наступлению, вождь РКП(б) обещал при первом же удобном случае повторить попытку зажечь революцию в других странах. «Несмотря на полную неудачу первого случая, нашего первого поражения, мы еще раз и еще раз перейдем от оборонительной политики к наступательной, пока мы всех не разобьем до конца». Параллельно он обвинял своих оппонентов в рядах зарубежных компартий в том, что они «не могут и мысли допустить, что мы своей рукой поможем советизации Польши. Люди эти считают себя коммунистами, но некоторые из них остаются националистами и пацифистами»[143]. Там, где Ленин чувствовал покушение на свой политический авторитет, он не жалел токсичных ярлыков и острых эпитетов.

Клара Цеткин
1910-е
[РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 802. Л. 1]
Тем большее удивление вызывает его толерантность по отношению к Кларе Цеткин, которая, став членом КПГ и используя свой авторитет старой социалистки, являлась сторонницей умеренной политики, поддерживала Пауля Леви и вела бескомпромиссную борьбу с левацкими уклонами в партии.
Зарубежные социалисты, вошедшие в элиту довоенного рабочего движения и после раскола 1914 года перешедшие на позиции коммунистов, ценились на вес золота. Цеткин впервые прибыла в Москву в сентябре 1920 года для организации Международного женского секретариата Коминтерна.
Хорошо знавшая Ленина, она сразу по приезде была приглашена к нему в гости. Цеткин не стеснялась использовать добрые личные отношения с вождем Советской России для того, чтобы выступить в роли просветителя и донести до него личное видение ситуации в немецкой компартии. Канал связи действовал и в обратном направлений, Цеткин регулярно сообщала Паулю Леви о настроениях лидеров РКП(б), их заблуждениях и надеждах, обращенных на Запад. 2 октября 1920 года она подробно описывала «ошибочные представления русских» о том, будто немецкую партию раздирает борьба двух течений — радикального, пытающегося вернуть коммунистов на путь наступательных действий, и оппортунистического, которое тормозит их под предлогом борьбы с путчизмом[144].
То, что немецкая коммунистка считала иллюзией и заблуждением, на самом деле являлось неоспоримым фактом — раскол между левыми радикалами и «левитами» углублялся с каждым днем. В таких условиях смена руководства компартии являлась только вопросом времени. В начале 1921 года Леви, Цеткин и их соратники выступили с критикой непродуманных шагов эмиссаров ИККИ на съезде Итальянской социалистической партии, а затем и против попытки «левых» организовать при поддержке прибывшего из Москвы венгра Бела Куна вооруженное восстание в Центральной Германии. Оно вошло в историю как «мартовская акция» и обернулось жестоким поражением компартии, которое в очередной раз привело к большим жертвам среди радикально настроенных немецких рабочих.
Клара Цеткин не скрывала своих эмоций в письме Ленину, одном из самых ярких свидетельств плюрализма мнений на заре коммунистического движения: в Италии, расколов партию и оставив лучших рабочих в рядах социалистов, мы совершили еще бо́льшую ошибку, чем была наша собственная в Германии в 1918 году. Вину за этот раскол несет Исполком Коминтерна, и все разговоры о том, что лучше бы иметь в Италии маленькую, но «чистую» партию — это отговорки лисы, которая не может дотянуться до винограда[145].
Руководство ИККИ, продолжала Цеткин, «считает объективными только те доклады, которые соответствуют его собственным пожеланиям, но далеко не всегда — реальной ситуации», а его неспособность «править железной рукой в бархатной перчатке» привела к тому, что ряды коммунистического движения покинули лучшие лидеры, зато остались «революционные ослы»[146]. Несмотря на столь жесткие оценки, которые могли стоить ей партийного билета, Клара Цеткин до своей смерти оставалась в орбите Коминтерна, хотя и не смогла вернуть в него Пауля Леви.

Сопроводительное письмо К. Б. Радека к тезисам о международном положении
7 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1162. Л. 1]
Было бы упрощением утверждать, что устранение «левитов» после того, как их идейный лидер начал публицистическую войну с путчистскими настроениями в КПГ, способствовало внутрипартийной консолидации. Крупнейшая зарубежная компартия оказалась в глубоком кризисе, и закрывать глаза на это было невозможно. Сведение причин кризиса к предательству Леви являлось достаточным для передовиц «Правды» или «Роте Фане», но не устраивало тех, кто всерьез задумывался о перспективах международного коммунистического движения. Следует согласиться с американским историком Вернером Ангрессом, написавшим классическую работу по ранней истории КПГ: в ходе подготовки Третьего конгресса Коминтерна «русские перетолковали мартовские события» 1921 года в Германии[147].
1.8. Поворот Третьего конгресса
Ленин посчитал тактически правильным использовать дискуссию об уроках «мартовской акции» КПГ для смены курса всего Коминтерна. Он отдавал себе отчет в том, что это вызовет серьезные разногласия среди его ближайших соратников. Лидера РКП(б) сразу же поддержали Троцкий и Каменев, ему оппонировали Зиновьев и Бухарин. Радек без особых колебаний покинул лагерь «левых» коминтерновцев и объявил о своей лояльности ленинской позиции.
Свой политический вес на правую чашу весов в Коминтерне бросила и Клара Цеткин, прибывшая в Москву для участия в его Третьем конгрессе 8 июня 1921 года. Она везла с собой документы о преступлениях, совершенных партийными активистами в дни «мартовской акции», однако на границе они были конфискованы полицией. Это ничуть не охладило пыл старой социалистки. В ходе ее встреч с Лениным последний позволил себе упрек лишь в том, что сторонники Леви прибегли к коллективной отставке, не дождавшись арбитража Москвы. Согласно воспоминаниям Цеткин, лидер РКП(б) был солидарен с ее позицией и пообещал на предстоявшем конгрессе «свернуть шею» сторонникам «теории наступления». Что касается Леви, то ему как «дисциплинированному коммунисту придется подчиниться решению конгресса и на некоторое время исчезнуть из политической жизни»[148].
Ленин выполнил свое обещание, отвергнув первоначальный проект тезисов о тактике коммунистических партий, который был подготовлен от имени КПГ Августом Тальгеймером и Бела Куном. Не нашел его поддержки и второй вариант, составленный Радеком. Тот предпочел стиль «и вашим, и нашим», избегая острой критики левых и заменив в своем варианте тезисов термин «наступление» понятием «активная оборона»[149].
Заодно досталось и Зиновьеву, который неуклюже оправдывался перед вождем: «Я защищал мартовскую акцию как шаг вперед в истории партии, который заключается в том, что выкристаллизовалась руководящая группа, которая хочет бороться, и что партия показала в общем и целом, что она готова за ней следовать»[150].

В. И. Ленин на ступеньках трибуны готовится к выступлению на Третьем конгрессе Коминтерна
28 июня — 5 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 273. Л. 1]
Ленин двигался буквально напролом, подтвердив свою позицию по отношению к Открытому письму КПГ, которое появилось в январе 1921 года и ориентировало партию на сотрудничество с рабочими партиями и профсоюзами: «…суть дела в том, что Леви политически в очень многом прав». Это являлось признанием очередного рецидива «детской болезни левизны» в коммунистическом движении, которая на сей раз была аттестована как «глупячество левых» («…тезисы Тальгеймера и Бела Куна в корне политически неверны. Фраза и игра в левизну»[151], — писал Ленин). В ходе встреч с немецкими коммунистами накануне конгресса он был настолько резок, что позже попросил у них извинения: «…я решительно беру назад употребленные мною грубые и невежливые выражения», тем самым сделав шаг, совсем не типичный для лидера Советской России[152].

Удостоверение В. И. Ленина как члена Исполкома Коминтерна
14 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 32. Л. 1]
Речь Ленина на заседании Исполкома Коминтерна 17 июня 1921 года, не вошедшая даже в Полное собрание его сочинений, проливает свет на то, какими были эти выражения и с какой страстью он отстаивал свою точку зрения. «Победа революции во Франции обеспечена, если левые не наделают глупостей. И когда говорят, подобно Бела Куну, что хладнокровие и дисциплина не оправдали себя — это глупость в духе левых. Я пришел сюда, чтобы сказать левым товарищам: если вы последуете такому совету, вы убьете революционное движение, как это сделал Марат». И далее: «Победе коммунизма во Франции, Англии и Германии можно помешать только левыми глупостями», символом которых стала авантюристическая политика Куна и его идейных соратников[153].
Для разрешения кризиса вновь был задействован уже опробованный год назад инструмент согласования интересов разного уровня — члены делегации КПГ были приглашены на заседание Политбюро ЦК РКП(б). В итоге был достигнут сложный компромисс: стороны признали мартовские события спонтанным ответом немецкого рабочего класса на провокацию властей, в ходе которой коммунистами был допущен ряд серьезных ошибок. Члены немецкой делегации заявили, что оставляют за собой право и в дальнейшем защищать свою теорию наступления[154]. Однако компромисс имел свою цену и для них. Левым пришлось согласиться с тем, что проект резолюции о тактике будет серьезно переработан: в решении Политбюро применительно к «мартовской акции» предлагалось «за основу исправления резолюции взять ту мысль, что надо во много раз подробнее указать конкретно ошибки и во много раз настойчивее предостеречь от повторения этих ошибок»[155].
В последний раз в истории Коминтерна принципиальный вопрос о будущем коммунистического движения решался не в кулуарах, а в открытой дискуссии на конгрессе, который, согласно уставу этой организации, являлся ее высшим органом. Выступая 1 июля 1921 года на пленарном заседании в защиту тезисов о тактике, внесенных от имени делегации РКП(б), Ленин не стеснялся в выражениях. Начав со скромного признания, что «должен ограничиться самообороной» (это вызвало закономерный смех в зале), он нанес сокрушительный удар по сторонникам «теории наступления», которые накануне конгресса кодифицировали ее в одноименном сборнике статей. «Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели»[156]. Их авторы вообще хотят отменить слово «большинство», борьбу за завоевание авторитета в рабочих массах, подчеркнул Ленин.
По его мнению, «Открытое письмо КПГ» было образцовым политическим шагом, а ныне его пытаются заклеймить, сделать орудием внутрипартийной борьбы. «Перед нами стоят сейчас иные, более важные, чем травля центристов, вопросы. Этого вопроса с нас хватит. Он уже немного надоел»[157]. Речь вождя изобиловала отсылками к историческому пути РКП(б), которая всегда и во всех вопросах находила оптимальное решение. Это выглядело как напоминание о том, кто же на самом деле является хозяином в коминтерновском доме. В воспоминаниях делегатов, слушавших Ленина, его выступление нередко сравнивалось с холодным душем, остудившим горячие головы левых радикалов. После него трудно было рассчитывать на содержательную дискуссию, разговора на равных не получилось.

Делегаты Третьего конгресса и руководители советских ведомств, отвечавшие за их безопасность, на Соборной площади Кремля
20 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 84. Л. 1]
Чтобы сгладить шок от полемического разноса, учиненного на пленарном заседании, Ленин 11 июля 1921 года выступил перед пятью делегациями конгресса, которые отстаивали левые поправки к тезисам о тактике. Вновь поставив во главу угла опыт большевиков, лидер РКП(б) избрал иной, примирительный тон. Жизнь учит нас тому, что для успеха в политической борьбе мы должны быть умнее, а значит, «оппортунистичнее». Сколь бы острой не была критика в ваш адрес, мы не потеряли способности отделять своих от чужих, заблуждающихся друзей от скрытых врагов, подчеркивал Ленин. «Левая ошибка есть просто ошибка, она невелика и легко устранима. Если же ошибка касается решимости выступить, то это отнюдь не маленькая ошибка, но предательство. Эти ошибки не сравнимы. Теория, что мы совершим революцию, но только после того, как выступят другие, — в корне ошибочна»[158].
«Шаг вперед, два шага назад» были сделаны Лениным во время Конгресса и по отношению к фракции Пауля Леви в германской компартии. Соглашение о сотрудничестве, вошедшее в историю как «мирный договор», было достигнуто на совещании делегации КПГ и лидеров большевистской партии 9 июля 1921 года, которое проходило под его председательством[159]. Ленин в своих выступлениях защищал «левитов» в КПГ: нужно смотреть в будущее, а не вспоминать прошлое, требования покаяться только усложнят путь к внутрипартийному примирению.
Согласно одобренной участниками совещания резолюции «правые» лидеры, подавшие в отставку весной 1921 года, получали право вернуться в Правление КПГ, дав обещание прекратить всякую фракционную деятельность. Превратившись из актера внутрипартийных драм дореволюционной эпохи в верховного арбитра коммунистического движения, Ленин с успехом продолжал пускать в дело свою излюбленную тактику «разделяй и властвуй». Точно так же, как в Исполкоме Коминтерна он свел вместе «непримиримых друзей» Радека и Зиновьева, так и баланс сил, выстроенный им в рамках «мирного договора», обещал германской компартии только временную стабильность.
Ее символом стал театральный жест, один из тех, который не был чужд Ленину. В знак достигнутого компромисса он попросил, чтобы один из лидеров «левых», Фриц Геккерт, вручил Кларе Цеткин, продолжавшей защищать Леви, огромный букет роз (в дни конгресса ей исполнилось 64 года). Геккерт вначале отказывался, но затем уступил настойчивости вождя[160]. Делегаты конгресса встретили этот жест овациями, хотя он и не поставил точку в немецком внутрипартийном конфликте.
Правый поворот, совершенный на Третьем конгрессе Лениным при поддержке Троцкого, Цеткин, чеха Богумира Шмераля и ряда лидеров других компартий, сопоставим с переходом к нэпу, совершенным большевиками весной того же года. Компромиссный характер и непоследовательность принятых решений отражали реальное состояние Коминтерна на третьем году его существования — из аморфного объединения коммунистических партий и групп он так и не превратился в единую и сплоченную большевистской дисциплиной «всемирную партию пролетариата». Реабилитировав тактику, предложенную «Открытым письмом КПГ», ленинское большинство не решилось превратить ее в обязательную политику для каждой из зарубежных компартий.
Прошел ровно месяц после завершения конгресса, и в самой большевистской верхушке разгорелся конфликт, связанный с борьбой могущественных ведомств за доминирование. Первый шаг сделали Зиновьев и Радек, обвинив Наркоминдел в игнорировании их запросов на финансирование компартий и попытке представить деятельность Туркестанского бюро ИККИ «авантюризмом». Следует отдать должное Чичерину, его контраргументы выглядели для членов Политбюро более солидными и взвешенными. Что касается активности в Средней Азии, писал он, то опора местного бюро на «бандитов в Персии, прикидывающихся революционерами… может привести к немедленному союзу Афганистана и Англии против нас».
В целом же «линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия к существованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[161]. Чичерин считал достаточным проведение регулярных неформальных совещаний для того, чтобы «международная политика РСФСР и Коминтерна не были в состоянии антагонизма между собой», получив полную поддержку Ленина, в очередной раз выступившего в роли верховного арбитра[162].


Записка Г. Зиновьева и К. Радека в Политбюро ЦК РКП(б) о конфликте между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
13 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 2–4]

Предложение В. И. Ленина о путях разрешения конфликта между Наркоматом иностранных дел и Коминтерном
17 августа 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 824. Л. 1]
После завершения активной фазы Гражданской войны, роста размеров и функций государственного аппарата лидеру РКП(б) все труднее было подчинять своей воле комиссаров с чрезвычайными полномочиями, которые продолжали вершить суд и расправу как внутри Советской России, так и на окраинах бывшей Российской империи. Получив письмо Иоффе о том, что волюнтаристская деятельность М. Н. Томского и Г. И. Сафарова в Туркестане настраивает против советской власти местное население, вождь тут же провел решение Политбюро, которое затребовало материал о «перегибах». Он попросил Иоффе (также являвшегося одним из таких комиссаров) прислать ему более подробный доклад о произошедших событиях, в котором «просил бы особое внимание уделить вопросу защиты интересов туземцев против „русских“ (великорусских или колонизаторских) преувеличений»[163].
Постепенное овладение аппаратом управления на окраинах Российской империи (во многих из них создавались собственные компартии, и поэтому Коминтерн также мог претендовать на управление тем, что ныне называется «ближним зарубежьем») делало невозможным оперативный контроль за происходившими там событиями. Упрощенное представление о том, что «железные законы истории» возьмут свое, опровергалось информацией с мест, которая содержала факты, что новые руководители либо берут на вооружение старые механизмы власти, либо занимаются «социальным конструктивизмом».
В последние годы жизни Ленину хватало сил только на выборочное одергивание «великороссов», хотя он и не изменял «всемирному масштабу» в своем собственном понимании интернационализма: «Для всей нашей Weltpolitik[164] дьявольски важно завоевать доверие туземцев; трижды и четырежды завоевать; доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту сторону не потерпим. Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным». В этих строках можно почувствовать сплав трезвой прагматики («завоевать доверие») и принципиального интернационализма, который не останавливался перед тем, чтобы наступить на горло «национальной гордости великороссов»[165]. Это было палкой о двух концах: с одной стороны, такой сплав порождал симпатии угнетенных народов Востока, с другой — вызывал глухое недовольство партийной верхушки, которая на пятом году после захвата власти большевиками отдавала себе отчет в том, что занимается не строительством царства божьего на Земле, а возрождением великой империи, облеченной на сей раз в красные одежды.
1.9. Ленин и политика единого рабочего фронта
После неудачи «мартовской акции» германских коммунистов, которая завершилась не только большой кровью, но и внутренним расколом в КПГ, компартии в большинстве стран Европы были вынуждены перейти от наступления к обороне. Стало очевидно, что империалистическая война не переросла в мировую гражданскую, население даже побежденных стран в своей массе стремилось вернуться к старому доброму прошлому, не решаясь участвовать в рискованном строительстве «светлого будущего», к которому его призывали левые радикалы. Страх перед «красной угрозой» в большинстве европейских стран отошел на второй план, в сфере международных отношений, как отмечал Ленин на Третьем конгрессе Коминтерна, установилось неустойчивое, но все же равновесие между силами капитализма и социализма[166].
В самой России усилились позиции умеренных коммунистов, практиков государственного строительства, указывавших на то, что проведение его по марксистским прописям неизбежно заканчивается кризисами и катастрофами. В исторической литературе подробно и обстоятельно анализируется деятельность РКП(б) в рамках «военного коммунизма»[167], однако в тени остается ее попытка на рубеже 1920–1921 годов создания коммунизма гражданского, т. е. безрыночной экономической системы при жесткой авторитарной власти, которая напоминала утопии казарменного социализма, предлагавшиеся еще Платоном и Кампанеллой. Поворот к нэпу был неизбежным «шагом назад», горьким признанием несбыточности надежд на одномоментный рывок к коммунизму.
Советская Россия не только вступила в период (достаточно кратковременный) разумных реформ, но и встала на путь урегулирования своих отношений с внешним миром. Большевики уже не казались экзотичной группой почти религиозных фанатиков, отрицавших все ценности и нормы европейской цивилизации. Их поворот вправо в социально-экономической сфере породил надежды на «примирение» не только в правящих кругах европейских держав, но и среди лидеров международного социалистического движения.
Самокритичные нотки зазвучали и в среде российской эмиграции, Н. В. Устрялов так писал об этом в сборнике «Смена вех», увидевшем свет в 1921 году: «Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми „союзниками“»[168].
Ленин и его соратники отдавали себе отчет в том, насколько серьезные последствия повлечет за собой их отход от идеологической стерильности. Вспоминая французскую революцию, в партийном руководстве заговорили о превентивном «термидоре», о вынужденном характере временного отступления. Большевики уже однажды перехитрили страну, на словах согласившись с логикой безбрежного народного бунта, а на деле втиснув общество в жесткие рамки партийной диктатуры.
Вновь, как и весной 1918 года, лидеры РКП(б) признали необходимость «передышки». Вопрос о том, примут ли их зарубежные единомышленники столь резкий поворот от крайнего модернизма к традиционной архаике, ни в коем случае нельзя было считать предрешенным. Ленин еще за год до коминтерновского поворота сделал упреждающий выстрел в воздух, осудив «детскую болезнь левизны» в компартиях, хотя и предложил лишь терапевтические средства ее лечения.
На Третьем конгрессе Коминтерна Ленину и Троцкому пришлось убеждать своих зарубежных единомышленников в том, что поворот к нэпу и «примирению с капиталистическим окружением» служит временной мерой и не является предательством идеалов революционного марксизма. Получилось так, что на самом конгрессе оба партийных лидера стояли «на крайне правом фланге»[169]. Это создавало опасность раскола делегации РКП(б), ибо позиции левых разделяли Бухарин и, более сдержанно, Зиновьев. По воспоминаниям Троцкого, «Ленин взял на себя инициативу создания головки новой фракции для борьбы против сильной тогда ультралевизны, и на наших узких совещаниях Ленин ребром ставил вопрос о том, какими путями повести дальнейшую борьбу, если III конгресс займет бухаринскую позицию»[170].

Президиум Третьего конгресса Коминтерна
Слева направо: швейцарец Ж. Эмбер-Дро, Л. Д. Троцкий, болгарин Васил Коларов, немец Вильгельм Кенен и Г. Е. Зиновьев
Июнь 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 278. Л. 1]
Действительно, конгресс стал ареной острых идейно-политических столкновений между левыми и умеренными. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», — говорилось в его резолюции о мировом положении. Холодный душ, которым оказались эти слова для иностранных делегатов, встретил их сопротивление — в ходе дискуссий лидеров РКП(б) неоднократно обвиняли в усталости, излишней осторожности и пессимизме. Последним пришлось поставить на карту все свое влияние, чтобы удержать Коминтерн от дальнейшего сползания влево.
Третий конгресс дал коммунистам новую стратегическую установку — завоевать массовое влияние: «С первого дня своего образования Коммунистический Интернационал поставил своей задачей ясно и недвусмысленно не создание небольших коммунистических сект, которые будут стремиться установить свое влияние на рабочие массы только посредством агитации и пропаганды, но непосредственное участие в борьбе рабочих масс, коммунистическое руководство этой борьбой и создание в процессе борьбы крупных революционных коммунистических массовых партий»[171]. Резолюции конгресса содержали все прежние обвинения в адрес европейских социалистов, однако к 1921 году было уже очевидно, что беспредметная полемика с ними — не лучший способ завоевания масс коммунистами.
Стало очевидным и то, что последние — отнюдь не рыцари без страха и упрека, готовые рисковать своей жизнью ради идеалов светлого будущего. В ходе конгресса на российских лидеров Коминтерна обрушился шквал просьб о финансовой помощи и не меньший поток жалоб, что выделенные средства попросту исчезли. Пришлось налаживать хотя бы минимальный порядок и в этой весьма деликатной сфере, для чего в Коминтерн был откомандирован старый большевик И. А. Пятницкий, который стал одним из секретарей этой организации, отвечавшим за финансовые и нелегальные аспекты ее деятельности, в том числе и контакты с советскими спецслужбами.
Именно Пятницкий, обладавший огромным опытом подпольной работы (он ведал каналами, по которым в Россию отправлялась газета российских социалистов «Искра», печатавшаяся в Германии) и прекрасно владевший немецким языком, возглавил Отдел международных связей (ОМС) — службу, осуществлявшую контакты руководства Коминтерна с единомышленниками во всех уголках земного шара. По мнению историков советской разведки, ОМС «по своим функциям и своей структуре являлся разведслужбой, располагая штатом оперативных работников, агентурой, курьерами, шифровальной службой и службой по изготовлению поддельных документов. Поскольку главной целью ОМС было создание политических и военных структур за кордоном для продвижения идеи мировой „перманентной“ революции, большинство его сотрудников составляли интернационалисты, евреи по национальности, имевшие широкие деловые и родственные связи по всему миру»[172]. Через их руки проходили и секретные документы, и оружие для повстанцев, и огромные суммы денег.

Отчет «товарища Томаса» о получении средств и выплатах иностранным компартиям за 1921 год
16 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 1]
О том, в каких масштабах Советская Россия спонсировала зарубежных коммунистов, свидетельствует доклад одной из сотрудниц «товарища Томаса» — под этим псевдонимом скрывался Яков Рейх, работавший в Берлине и подотчетный лично Зиновьеву[173]. «Деньги хранились, как правило, на квартире товарища Томаса. Они лежали в чемоданах, сумках, шкафах, иногда в толстых папках на книжных полках или за книгами. Передача денег производилась на наших квартирках поздно вечером, в нескольких картонных коробках весом по 10–15 кг каждая. Мне нередко приходилось убирать с дороги пакеты денег, мешавшие проходу»[174].
Масштаб финансовых операций Рейха-Томаса сделал бы честь европейскому банку средней руки. За один только 1921 год — год страшного голода в Поволжье, унесшего миллионы человеческих жизней, через него прошло около 122 млн марок, что составляло 3 млн рублей золотом[175]. На протяжении нескольких лет в Берлине и Москве заседали высокие комиссии, однако никаких нарушений в финансовой отчетности обнаружено не было, просто потому что ее не было вообще. «По понятным причинам я с начала своей деятельности не веду бухгалтерских расчетов», — писал Рейх Пятницкому 22 августа 1921 года[176]. Зато выяснилось, что за время пребывания в должности секретного банкира Коминтерна он так и не удосужился вступить в ряды РКП(б). Но и это не считалось преступлением. Работая в стане классового врага, приходилось подражать его образу жизни. Если верить воспоминаниям Рейха, в ходе одной из бесед с Лениным тот посоветовал ему купить солидный дом в Германии, «уверяя, что это создаст мне прочное положение, которое необходимо»[177].
В делах, от которых зависело существование его детища, для вождя не было мелочей. После образования Коминтерна он неоднократно убеждал своих товарищей по партии, что большевики обязаны помогать своим зарубежным единомышленникам так же, как когда-то они сами получали средства из кассы Второго Интернационала. Однако после Третьего конгресса кончилось и его терпение. Он собственноручно написал проект секретного письма ЦК РКП(б), который начинался словами: «Нет сомнения, что денежные пособия от КИ компартиям буржуазных стран, будучи, разумеется, вполне законны и необходимы, ведут иногда к безобразиям и отвратительным злоупотреблениям».

Записка Г. В. Чичерина В. М. Молотову о необходимости уничтожения всех документов о передаче 200 тыс. руб. золотом бастующим английским шахтерам. Резолюция В. И. Ленина
15 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 678. Л. 1]
Вождь грозил мошенникам и растратчикам не только исключением из партии, но и уголовным преследованием, «ибо вред, приносимый неряшливым (не говоря уже о недобросовестном) расходованием денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами»[178]. Проект письма завершался предложением подготовить «детальнейшую инструкцию» и создать «особую комиссию» — на четвертом году партийной диктатуры у ее лидеров сложился твердый алгоритм «расшивания узких мест», если пользоваться их собственным выражением. Впрочем, проект так и остался проектом. И в нем не было ни слова о том, что зарубежные компартии должны в финансовом отношении стараться встать на собственные ноги. Как скажет впоследствии Лис из известной сказки: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Фанатичная убежденность Ленина и его соратников в правоте своего дела не позволяла им признавать очевидные поражения и отказываться от всемерной поддержки молодых компартий. Лишь запоздало и с многочисленными оговорками они заговорили об угасании революционной волны в европейских странах. Их главным делом все больше становилось не продвижение вперед мировой революции, а сохранение завоеванной в России власти в условиях нэпа. Для них, как писал Ленин в «Заметках публициста», эта политика выглядела как отступление альпиниста, всего несколько шагов не добравшегося до желанной вершины. «Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины»[179].


Подготовленный В. И. Лениным проект секретного письма ЦК РКП(б) о борьбе с разбазариванием денег, выделяемых иностранным компартиям
9 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27065. Л. 1–1 об.]
Напротив, многие из потенциальных союзников большевиков на Западе увидели в нэпе курс на размягчение революционной диктатуры, расценили его как шанс на возвращение России в международное сообщество. Без всяких оснований в той же статье вождь РКП(б) заявил, что своим злорадством по поводу нэповского отступления эти силы пытаются внести раскол, посеять панику и уныние в рядах российских революционеров. Ленин заклеймил их как «современный образец крайне левого крыла мелкобуржуазной демократии» и не оставил им никаких надежд на то, что протянутая ими рука будет пожата. Такая установка фактически закрывала перспективу достижения даже не единства действий, а хотя бы минимального политического сотрудничества европейских рабочих партий. Ссылаясь на печальный опыт социал-демократии, которая погрязла в политической пассивности и реформистских иллюзиях, большевики продолжали настаивать на том, что революцию надо не ждать, а организовывать. Их взоры были обращены на Германию — страну образцового империализма и в то же время историческую родину марксизма, имевшую наиболее массовое и хорошо организованное рабочее движение.
В исторических работах разной идейной направленности, посвященных первым годам Коминтерна, не так уж много положений, с которыми согласны все исследователи. Одно из них — признание того, что тактика, предложенная «Открытым письмом КПГ» от 8 января 1921 года, стала предтечей смены курса по отношению к европейским социалистам, которую одобрило Политбюро ЦК РКП(б) 1 декабря того же года. Тот поворот, на который Ленин не решился в ходе Третьего конгресса, не без оснований опасаясь, что зарубежные делегаты воспримут его как похороны мировой революции, был оформлен келейным решением большевистского ареопага.
«Новая тактика Коминтерна в отношении международного меньшевизма», как она была названа в решении Политбюро[180], на деле означала нечто большее — готовность коммунистов отставить в сторону фетиш мировой революции и взяться вместе с потенциальными союзниками за решение насущных проблем, которые волновали подавляющее большинство рабочих в каждой из западных стран. Просмотрев 6 декабря набросок тезисов по данному вопросу, Ленин попросил Зиновьева подчеркнуть, что в предреволюционной России расколы с меньшевиками сменялись временными объединениями «не только в силу перипетий борьбы, но и под давлением низов, требовавших проверочных испытаний собственным опытом»[181].
Указаний на успешный опыт РСДРП(б) было недостаточно для того, чтобы убедить зарубежных коммунистов в необходимости столь резкого поворота. На декабрьском заседании ИККИ новый председатель КПГ Генрих Брандлер поставил вопрос ребром: «…наши товарищи понимают все буквально, они скажут, а зачем тогда вообще раскол, зачем фракции в профсоюзах». Ближайшим соратникам вождя пришлось успокаивать собравшихся. Зиновьев заявил, что речи о роспуске прокоммунистического Профинтерна не идет: «Амстердам — организация буржуазно-демократическая, а мы — организация пролетарская». Вслед за ним Бухарин подчеркнул, что лозунг кооперации с социал-демократами — не постоянная величина, а временное стечение обстоятельств, которое может измениться уже на следующий день[182].
Внешнее единство лидеров российской компартии являлось на самом деле результатом сложного компромисса, который принимал в расчет и их идейные убеждения, и их личные амбиции. Ленин в очередной раз выступил за то, чтобы пойти на риск политического сотрудничества с социал-демократией, не видя в этом больше экзистенциальной угрозы для компартий, спаянных железной дисциплиной. Настояв год назад на том, чтобы прощупать красноармейским штыком «белопанскую Польшу», на сей раз он предпочел рискованному штурму планомерную осаду твердынь капитализма. Практическую реализацию новой тактики, получившей название «единого рабочего фронта», поручили Радеку, которому предстояло стать первым дипломатом в сфере международного рабочего движения.
Мотивы, которыми руководствовался вождь партии большевиков, продолжив поворот вправо, начатый на Третьем конгрессе, на заседании ИККИ 4 декабря 1921 года изложил его верный оруженосец Зиновьев: «В частном разговоре с тов. Лениным указывалось на то, что некоторые слои рабочего класса, которые ныне, быть может, впервые принимают участие в политической жизни, — и такие слои всегда имеются, — которые только сейчас в силу общего положения вещей вовлечены в политику, — что они должны изжить свои реформистские иллюзии. Они должны сами, собственным опытом испытать те пути, которые им предлагают реформисты и которые для них являются новыми»[183]. Излишне говорить о том, что для зарубежных компартий ссылка председателя ИККИ на «частный разговор» с вождем значила больше, чем любые контраргументы их собственных лидеров, хотя противники новой тактики не без оснований говорили о том, что в головах простых рабочих она стирает разницу между Коминтерном и Советской Россией, а заигрывание с социал-демократами оттолкнет от компартий радикальных синдикалистов[184].
1.10. Встреча трех Интернационалов
В последующие недели Ленин не выпускал из своих рук оперативный контроль над подготовкой первой встречи трех рабочих Интернационалов, которая была предложена левыми социалистами Франции и Германии. Следует отметить, что в начале 1921 года на идеологической шкале европейского рабочего движения наряду со Вторым (Лондонским) и Третьим (Московским) Интернационалами появилось Международное рабочее объединение социалистических партий (МРОСП), вошедшее в историю как Венский или Двухсполовинный Интернационал. Именно «венцы», считавшие себя центристами, взяли на себя роль объединителя и примирителя различных течений международного социалистического движения, полагая, что причины раскола 1914 года потеряли свое значение.
В письмах Ленина ближайшим соратникам отразились энергия и азарт, с которыми вождь начинал каждый новый тур «большой игры» за власть и влияние. Так, 1 февраля 1922 года он предложил Зиновьеву и Бухарину отправить на предстоящую конференцию «зубастых людей» и тщательно обдумать список тем, обсуждение которых в ее ходе даст выигрыш коммунистам. Представители Коминтерна должны были игнорировать требования «господ желтых» поставить в повестку дня вопросы о репрессиях против меньшевиков и насильственной советизации Грузии, ограничившись тем, что «признается бесспорным в заявлениях прессы каждой из трех действующих сторон».
В случае если социал-демократические представители будут настаивать на своих приоритетах, Ленин заготовил список обвинений в их адрес, среди которых было даже их «участие в убийстве Люксембург, Либкнехта и других коммунистов»[185]. Ни для кого не было секретом то, что если конференция скатится в плоскость обмена подобными упреками и обвинениями, добиться единства действий рабочих Интернационалов даже в самых насущных вопросах дня не удастся. Ленин также понимал это, но считал такой вариант событий отнюдь не проигрышным для Коминтерна, который таким образом продолжил бы линию на дискредитацию оппортунистов в рядах рабочего движения.
По предложению Зиновьева в повестку дня Первого расширенного пленума Исполкома Коминтерна (21 февраля — 4 марта 1922 года) был включен вопрос об анархистах и меньшевиках в России именно в связи с проблемами единого фронта[186]. Открывая обсуждение, Председатель ИККИ признал очевидное: «Первый вопрос, играющий огромную роль во всей дискуссии о едином фронте, как во Франции, так и в других странах, заключается в следующем: находится ли предложенная Исполкомом тактика в какой-либо связи с нынешним положением русской революции и новой политикой Советского государства? Этот вопрос ставится нашими врагами с оттенком злорадства, однако и в наших братских партиях он активно обсуждается».
Действительно, левые оппоненты новой тактики в зарубежных компартиях активно разыгрывали «русскую карту», утверждая, что тезисы о едином фронте не отвечают национальной специфике их партий, что делегация РКП(б) навязывает неподходящие для западных стран решения, и т. д. От политического руководства Коминтерна требовалось не открещиваться от выдвигавшихся слева доводов, а взвесить их, выделить в них рациональное зерно.
Под давлением слева представители РКП(б) в Коминтерне выступили на пленуме ИККИ единым фронтом, и их подход к новой тактике стал более широким. Произошло сближение взглядов Зиновьева и Радека, в духе представлений последнего выступал и Троцкий. Можно предположить, что причиной этого стали замечания Ленина на проект резолюции пленума, продиктованные им по телефону 23 февраля 1922 года. В них предлагалось, в частности, не называть лидеров европейской социал-демократии «пособниками всемирной буржуазии», сделав акцент на перспективу совместных действий рабочего класса в решении неотложных практических вопросов. «Совершенно неразумно рисковать срывом громадной важности политического дела из-за того, чтобы доставить себе удовольствие лишний раз обругать мерзавцев, которых мы ругаем и будем ругать в другом месте тысячу раз»[187].
Выделим главное в этом документе: Ленин подходил к оценке перспектив и границ политики единого рабочего фронта с позиций классической дипломатии, оперировавшей понятиями национальных интересов и государственного суверенитета. Революционер, ранее ставивший во главу угла понятие «всеобщего блага» (и при этом не брезговавший никакими средствами для его скорейшего достижения), стал приверженцем дипломатической игры с нулевой суммой. Именно в таком ключе была выдержана ленинская реакция на проект директив, с которыми коминтерновская делегация должна была выехать в Берлин на конференцию трех Интернационалов. Никто из зарубежных сторонников большевиков не должен был сомневаться в направлении главного удара: «Если на заседании расширенного Исполкома есть еще люди, которые не поняли, что тактика единого фронта поможет нам свергнуть вождей II и II 1/2 Интернационалов, то для этих людей надо прочесть добавочное количество популярных лекций и бесед».



Письмо В. И. Ленина членам Политбюро ЦК РКП(б) о директивах делегации Коминтерна на встрече трех Интернационалов
14–15 марта 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22835. Л. 1–2 об.]
Возможные уступки меньшевикам для создания благоприятной атмосферы на конференции были категорически отвергнуты Лениным, очевидно, что это означало бы признание интернационализма более высоким приоритетом по отношению к суверенитету Советской России. Он предложил вообще не говорить о прошлом, что неизбежно привело бы к обмену взаимными обвинениями: «…мы же предлагаем ставить лишь наименее спорные [вопросы], считая целью [встречи] попытку частичных, но совместных действий рабочих масс». Его наставления вполне могли бы войти в учебники классической дипломатии: «…нашим делегатам быть архисдержанными, пока не потеряна надежда достигнуть цели, т. е. заманить все 3 Интернационала (и II, и II 1/2) на всеобщую конференцию»[188].
Она должна была состояться в момент проведения Генуэзской конференции великих держав, посвященной послевоенному восстановлению мировой экономики. Советская Россия впервые получила приглашение участвовать в столь масштабном форуме, что рассматривалось в Москве как прорыв внешнеполитической блокады. Чтобы подкрепить ее дебют на международной арене, и был задуман «единый рабочий фронт», который должен быть нейтрализовать претензии стран Антанты к большевикам, вступившим в права наследников Российской империи. С новой тактикой, объединяющей европейских рабочих, увязывался и вопрос о предотвращении новой империалистической войны, поднимавшийся в докладе на пленуме, который сделала Клара Цеткин.
Ленинская идея «заманить» лидеров социал-демократического движения Европы на дипломатическую встречу с повесткой дня, выигрышной для Коминтерна, не осталась для них секретом. Трудно было надеяться на то, что после 1914 года крайне левые, которые во Втором Интернационале продолжали восприниматься как раскольники, сменят гнев на милость. Ответным ходом лондонцев стало выдвижение повестки дня, крайне болезненной не столько для Коминтерна, сколько для руководителей Советской России. Речь шла о «насильственной советизации независимой Грузии» Красной армией и о политических репрессиях против меньшевиков и эсеров, которые были усилены после перехода страны к новой экономической политике[189].
Линия лондонцев в целом была поддержана венцами, хотя и с гораздо более осторожными формулировками. Мы еще не можем принять окончательное решение по поводу предстоящего судебного процесса против партии «правых эсеров», поскольку мы не защищаем ту политику, которую они проводили после прихода к власти большевиков, говорилось в их письме, направленном в Москву. «Но мы считаем, что ради достижения высшей цели — единства действий мирового пролетариата — следует избегать любых шагов, которые могли бы создать впечатление, что одна пролетарская партия использует против другой машину правосудия»[190]. Общая позиция европейских социалистов в вопросе о репрессиях имела под собой все основания, но обещала превратить европейский рабочий конгресс в заурядные дебаты, подражающие парламентским прениям.
Предварительная встреча представителей трех международных рабочих организаций (от каждого из Интернационалов участвовало по 9 человек) состоялась в Берлине 2–5 апреля 1922 года. Перипетии дискуссий достаточно хорошо известны из опубликованного протокола и научной литературы[191], поэтому можно сразу озвучить ее итог: встреча несколько раз находилась на грани краха, делегации расходились для внутренних переговоров, но благодаря усилиям представителей Венского Интернационала все же согласились подписать итоговый документ. Он не был клятвой о верности, принятой единомышленниками, скорее являясь образчиком дипломатического искусства, которому удалось зафиксировать временное перемирие в международном рабочем движении.
Как и предполагалось, «русский вопрос» стал главным камнем преткновения в ходе берлинской встречи, который общими усилиями удалось убрать с дороги. В ответ на обещание делегации Коминтерна, что против лидеров партии правых эсеров не будет допущено применение смертной казни, Второй Интернационал снял свои ультимативные требования, касавшиеся независимой Грузии. Кроме того, было предложено образовать специальную комиссию для рассмотрения грузинского вопроса, а также допустить на судебный процесс в Москве защитников, отобранных европейскими социалистами.
Заключительный документ встречи подчеркивал принципиальную ориентацию всех трех Интернационалов на сотрудничество в защите каждодневных интересов рабочего класса, против империалистической экспансии своих государств. Первым пунктом предусматривалась объединенная демонстрация трудящихся 20 апреля, которая должна была поддержать позицию советской делегации на Генуэзской конференции, вторым — созыв Всемирного рабочего конгресса, местом проведения которого планировалась та же Генуя. Чрезвычайно важное значение имело и создание международного координационного центра — Организационного комитета, известного как «комиссия девяти» (в нее вошли по три представителя каждого из Интернационалов). Пока это было лишь политическим шансом, но шансом, получившим в апреле 1922 года первые импульсы в пользу своего осуществления.
Этот шанс перечеркнула жесткая реакция Ленина на итоги берлинской встречи, выраженная в статье с программным названием «Мы заплатили слишком дорого», которая появилась в «Правде» 11 апреля 1922 года. Вождь не случайно выбрал публичный формат для экзекуции возглавлявших советскую делегацию Радека и Бухарина, которые, по его убеждению, проявили в Берлине непростительную мягкость и уступчивость. Суть его упреков сводилась к тому, что делегация Коминтерна позволила себе давать обещания по вопросам, находящимся в компетенции советского правительства. Времена отождествления интересов пролетарской России и мировой революции уходили в прошлое, и в условиях, когда советская страна делала первые шаги на арене европейской политики, необходимо было по-новому осмыслить всю систему координат революционного движения. В статье Ленина вопросы государственной безопасности и престижа рассматривались уже как приоритетные по отношению к коминтерновской тактике.


План доклада В. И. Ленина на Четвертом конгрессе Коминтерна
Не позднее 12 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23466. Л. 1–1 об.]
«Коммунисты не должны вариться в собственном соку, а научиться действовать так, чтобы проникать в запертое помещение, где воздействуют на рабочих представители буржуазии». Сведение всего социалистического движения к роли «подголосков мирового капитала» явно искажало реальную ситуацию в передовых странах Европы: линия классового размежевания произвольно переносилась в ряды самого рабочего класса, что играло на руку его социальному противнику. Тон статьи показывал, что Ленин размышлял и о дезавуировании соглашения, подписанного на встрече в Берлине. Осудив уступки, сделанные делегацией Коминтерна в ходе Берлинской встречи, он все же признал ее итоги, предложив Радеку остаться в Берлине для дальнейших контактов в «комиссии девяти»[192].
Статья заканчивалась признанием, которое показывало, что вождь тщательно взвесил все «за и против» и, скрепя сердце, дал добро на продолжение коммунистических попыток привлечения на свою сторону рабочих масс западных стран: «Ради того, чтобы этим массам помочь бороться против капитала, помочь понять „хитрую механику“ двух фронтов во всей международной экономике и во всей международной политике, ради этого мы тактику единого фронта приняли и проведем ее до конца»[193].
«Никогда не говори никогда» — клянясь в вечной верности единому рабочему фронту, Ленин не забывал о том, что новая тактика была увязана с организацией международного давления на Генуэзскую конференцию. Нежелание лидеров социал-демократии идти на конфликт с правительствами своих стран и ее близившееся окончание создали принципиально новую ситуацию в сфере политического взаимодействия трех Интернационалов, которую обсудил пленум ЦК РКП(б) в мае 1922 года. Пленум принял решение поставить вопрос о созыве всемирного рабочего конгресса ультимативно, а в случае продолжения саботажа немедленно отозвать представителей Коминтерна из «комиссии девяти».
Разрыв пусть очень тонкой, но все-таки реальной нити, связывавшей международные рабочие организации, оказался на руку как правому крылу социал-демократического движения, так и левацким элементам Коминтерна. Обращает на себя внимание то, что решение пленума императивно предписывало конкретную линию поведения делегации ИККИ в комиссии трех Интернационалов. Между тем пределы компетенции российской компартии как одной из секций Коминтерна ограничивались правом снять требование защиты Советской России из условий будущего соглашения. Решение об этом было обнародовано в особом письме ЦК РКП(б)[194].
Данная уступка не затрагивала сути разногласий в международном рабочем движении, тем более после окончания конференции в Генуе. Кампания социалистических партий Европы против репрессий в отношении их российских единомышленников показала большевикам, что международная рабочая солидарность не является улицей с односторонним движением, она чревата опасностями для складывавшейся в стране однопартийной диктатуры. В этих условиях чаша весов склонилась к «узкой», зато безоговорочной солидарности с Советской Россией коммунистических партий Европы. Тем самым был заложен один из первых кирпичиков в основание теории «социализма в одной стране» как осажденной крепости, вне стен которой — одни враги.
1.11. Политическое завещание вождя
На протяжении 1921 года Зиновьев и Радек пытались найти приемлемый компромисс между своими взглядами на перспективы коммунистического движения в целом и кадровый состав КПГ в частности, не вынося свои разногласия на заседания Исполкома Коминтерна. Однако переход конфликта в открытую фазу, как показывало их толкование политики единого рабочего фронта, являлся только вопросом времени. Ленинское вмешательство осенью 1921 года, когда вождь поддержал идею обращения к социал-демократическим «верхам», и в мае следующего года, когда уступки делегации ИККИ в Берлине были сочтены чрезмерными, свидетельствовало об отсутствии у руководства большевиков ясного представления о том, какими путями должна развиваться созданная ими всемирная партия.
Позиция Ленина на последнем году его активной политической жизни определялась тактическими мотивами. Он выстраивал баланс противоположных мнений в Исполкоме Коминтерна, сохранив для себя роль «отсутствующего режиссера»[195]. Для него проект мировой пролетарской революции на втором году нэпа потерял свою актуальность, и он дал добро инициаторам первой попытки определить его по внешнеполитическому ведомству Советской России, увязав с участием последней в Генуэзской конференции.
Об этом свидетельствовало обращение вождя к Чичерину после того, как пришедшие к власти в Италии фашисты устроили провокацию против советских дипломатов, напав на торговый отдел при полпредстве РСФСР. Вождь предложил не просто разорвать отношения между странами, но «уехать из Италии, начав травлю ее фашистов». Он достаточно точно определил их место в шкале политических движений, взяв за масштаб отечественную историю: «Повод к придирке удобный: вы наших били, вы дикари, черносотенцы хуже России 1905 года и т. д и т. п. По-моему, следует. Поможем итальянскому народу всерьез»[196].
Слово «народу» было подчеркнуто автором записки — это был один из немногих моментов, когда Ленин покинул накатанную колею классового подхода, задумавшись о ценностях более высокого порядка. То, что это не было случайностью, показывает заключение его речи на Четвертом конгрессе Коминтерна, где вновь зашла речь о «черной сотне», захватившей власть в Италии.

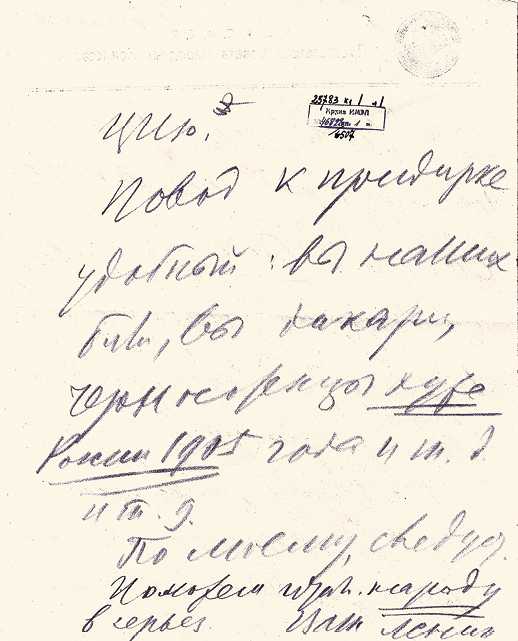
Письмо В. И. Ленина Г. В. Чичерину о провокации фашистов в Италии
Не ранее 9 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25783. Л. 1–1 об.]
Это было последнее выступление вождя с трибуны Коминтерна, ставшее характерным примером «национализации» его взглядов на исходе жизни. Доклад на пленарном заседании 13 ноября 1922 года был озаглавлен «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Ленин первым делом извинился за то, что ничего не будет говорить ни о героических делах российских большевиков, ни о будущей борьбе их зарубежных единомышленников. Он сосредоточился на достаточно прозаической теме, которая вряд ли могла вызвать прилив энтузиазма у делегатов конгресса.
Речь вновь зашла о нэповском отступлении. Ленин с не меньшим рвением, чем весной 1921 года, отстаивал как необходимость этой политики для спасения Советской России, так и ее международное значение. О проблемах самого Коминтерна в докладе говорилось только вскользь. В нем отмечался переходный характер новой эпохи, и из этого факта делались два вывода: во-первых, компартии в любой момент должны быть готовы к дальнейшему отступлению, а во-вторых, Коминтерну еще рано думать о принятии собственной программы, «потому что мы едва ли все хорошо продумали»[197].

В. И. Ленин на прогулке в Горках
Начало августа — не позднее 24 сентября 1922
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 350. Л. 1]
В заключение Ленин затронул тему, на которую не обращали внимания ни его политические биографы, ни ученые-коминтерноведы. Раскритиковав государственный аппарат, доставшийся Советской России в наследство от царского режима, он сразу же перешел к резолюции об организационном строении коммунистических партий, принятой предшествующим конгрессом. «Резолюция прекрасна, но она почти насквозь русская, т. е. все взято из русских условий. В этом ее хорошая сторона, но также и плохая. Плохая потому, что я убежден, что почти ни один иностранец прочесть ее не может».
Развивая свою мысль, Ленин пришел к заключению: «…мы не поняли, как следует подходить к иностранцам с нашим русским опытом. Все сказанное в резолюции осталось мертвой буквой. Но если мы этого не поймем, мы не сможем продвинуться дальше. Я полагаю, что самое важное для нас всех, как для русских, так и для иностранных товарищей, то, что мы после пяти лет российской революции должны учиться. Мы теперь только получили возможность учиться»[198].
Тем самым Ленин «обнулил» все достижения Коминтерна, какими бы скромными они не были к концу 1922 года. Главная задача, ради которой и создавалась «всемирная партия» коммунистов — перекинуть мостик от Российской революции 1917 года к современной европейской политике — так и осталась невыполненной. Досталось не только лидерам Коминтерна, но и его зарубежным приверженцам: «иностранные товарищи подписали, не читая и не понимая» упомянутую резолюцию. Данный вывод можно было понимать и гораздо шире, как их неспособность понять опыт большевизма, а может быть, даже как признание несовпадения этого опыта и европейских реалий.

Выступление В. И. Ленина на Четвертом конгрессе совпало с пятой годовщиной Октябрьской революции
[Из открытых источников]
Делегаты конгресса наверняка удивились (а его организаторы — вдвойне!), услышав следующие слова докладчика, обращенные к каждому из них в третьем лице: «…они не могут удовлетвориться тем, что повесят ее [резолюцию. — А. В.], как икону, в угол и будут на нее молиться. Этим ничего достигнуть нельзя. Они должны переварить добрый кусок русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены, и что их страна еще не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно»[199].
Представляется крайне важным, что Ленин завершал свой доклад не воспеванием нового революционного подъема, а предупреждением о том, что европейское общество ждут испытания совершенно иного рода. Выйдут ли коммунисты победителями из этих испытаний, смогут ли на деле противостоять натиску фашистской «черной сотни» — этот вопрос в последнем выступлении вождя перед Коминтерном оставался открытым.
Некоторые участники Конгресса почувствовали во время речи вождя, что он превратился в живую икону, уходящую в иной мир, и поднялся на трибуну только под нажимом своих соратников. Вот впечатление, оставшееся у известного немецкого художника Георга Гросса, который прибыл в Москву как «сочувствующий пролетариату»: «Я хорошо помню Ленина. Он неожиданно оказался среди нас, тщательно отобранных и просеянных, снабженных особыми пропусками в кремлевском зале, декорированном красным… В нем не было ничего, внушающего страх или беспокойство, ну разве что загадочный прищур, который в татарских глазах совсем не обязательно означает улыбку.
Он пожал нам руки, его сопровождали секретарша, Бухарин и Радек. Все произошло очень быстро и без каких-либо формальностей. Ленину предстояло выступать. Симпатичный американский корреспондент Альберт Рис Вильямс, стоявший рядом со мной, сказал, что Ленину (он выступал по-немецки) из-за болезни трудно подбирать слова и он то тут, то там теряет мысль. Иногда — мы стояли достаточно далеко от Ленина — было слышно, что ему тихо подсказывали слово или дату. Я был обескуражен. Когда Ленин закончил свою, примерно часовую речь, раздались бурные аплодисменты, и он сразу же, опираясь на своего врача, покинул трибуну»[200].
Если такие чувства обуяли буржуазного «попутчика», что же говорить о коммунистах первого часа, которые видели, как сходит с исторической сцены обожествленный ими человек, подкошенный неизлечимой болезнью. Французский синдикалист Альфред Росмер писал о том, что для многих делегатов, знавших его лично, Ленин оставался все тем же, «но некоторые уже не могли предаваться иллюзиям. Перед ними стоял человек, над которым витал призрак паралича: черты его лица оставались неподвижными, его поведение выглядело механическим, его обычно простой и уверенный язык уступил место паузам и запинаниям. Иногда он не находил подходящего слова. Товарищ, которого приставили в помощь Ленину, явно не справлялся со своими обязанностями, так что Радек отодвинул его в сторону и сам принялся за дело»[201].

Джованни Джерманетто
Июль 1924
[РГАСПИ. Ф. 492. Оп. 2. Д. 203. Л. 1]
Впрочем, иностранные собеседники вождя (хронология их встреч во время конгресса была скрупулезно реконструирована советскими историками) отдавали себе отчет в том, что прикоснулись к сакральной фигуре, описывать которую в прозаических тонах просто не имели права. Итальянский коммунист Д. Джерманетто увидел эту фигуру совсем другой: «Ленин был в прекрасном настроении, веселым и дружественным. Он беседовал почти к с каждым из нас по-французски или по-итальянски. Расспрашивал о нашей партийной работе, узнавал, из каких мы приехали городов и областей, интересовался борьбой рабочих в каждой местности и слушал ответы делегатов с таким вниманием, с каким был способен слушать великий учитель рабочего класса»[202]. Как известно, каноническое описание жизни и деяний Христа дали четыре евангелиста. После смерти Ленина аналогичной работой занялся целый институт, без малого семь десятилетий стоявший на страже его светлого образа[203].


Письмо В. И. Ленина Л. Д. Троцкому о тактике Коминтерна
18 ноября 1922
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24439. Л. 1–3 об.]
В работах Ленина, написанных в 1923 году и вошедших в историю как его политическое завещание, практически ничего не сказано о дальнейшей судьбе Коммунистического Интернационала. Отдавая себе отчет в том, что перспектива мировой пролетарской революции отодвинулась в неопределенное будущее, вождь сконцентрировался на проблемах, связанных с дальнейшим существованием Советской России, оставшейся во враждебном окружении. При этом он развивал идеи своего доклада на Четвертом конгрессе, неоднократно повторив, что коммунисты, ставшие хозяевами страны, должны «учиться и учиться», овладевая всем богатством человеческого опыта. Причем он сознательно оставлял открытым вопрос, «относится ли это к пролетарской или буржуазной культуре»[204].
Последний из ленинских документов, целиком посвященных коминтерновской проблематике, — письмо Троцкому от 18 ноября 1922 года.
Уже после того, как на пленарном заседании конгресса состоялась острая дискуссия о вступлении коммунистов в «рабочее правительство», в которой доминировали представители левого крыла КПГ, вождь поинтересовался, не приведет ли это к отстранению умеренных лидеров партии, в частности вышедшего из «Союза Спартака» Эрнста Мейера? И предложил принять на будущем съезде КПГ «письмо против фракций и придирок», т. е. взять курс на внутреннее сплочение партии германских коммунистов.
Но основной темой письма был вопрос о будущем Французской компартии (ФКП), поскольку Троцкий считался в нем главным специалистом. После бесед с членами французской делегации Ленин пришел к идее об интеграции в руководство компартии («партия — дрянь. Улучшить ее нельзя. Раскол? Еще хуже будет») леворадикальных представителей профсоюзного движения, даже несмотря на то, что многие из них являются анархистами. Следует выбрать меньшее зло: «Недоверие к партии всеобщее, у всех (даже коммунистов) во Франции. Сделаем прыжок… Уверяют, что тогда все рабочие революционеры войдут в партию»[205].

В. И. Ленин во время болезни в Горках
Не ранее 25 июля — не позднее 31 августа 1923
[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 410. Л. 1]
В этих обрывочных фразах виден традиционный Ленин — борец за партию единой воли и железной дисциплины и в то же время Ленин новый — человек, уставший от фракционной борьбы, которая вопреки его воле скатывается с политического на административный уровень, прорастает личными коллизиями. В гораздо большей степени это проявится во внутрипартийной жизни, где уже смертельно больной вождь в редкие моменты просветления поручит Троцкому разобраться в хитросплетениях «грузинского дела», при разрешении которого дошло до обыденного рукоприкладства («можно себе представить, в какое болото мы влетели»[206]).
В своих последних заметках Ленин увязывает диктаторские замашки своих наследников с тем (очевидным ныне фактом), что их мировоззренческие установки капитулировали перед колоссальной силой и косными устоями государственного аппарата, который был «заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром»[207]. В полной мере это трагическое признание относилось и к деятельности коминтерновского аппарата, который являл собой «плоть от плоти» российской действительности. Судорожные попытки лидера большевиков путем мелких кадровых и организационных корректив внести в работу и того, и другого аппарата новое содержание были обречены на неудачу. Бытие действительно определяло сознание, хотя и не в смысле вульгарного марксизма — стремление железной рукой загнать в светлый новый мир не только россиян, но и все человечество обернулось неизбежным возвращением к реальностям «проклятого прошлого».
Уход Ленина из политической жизни ускорил развитие процессов, вектором которых было движение «назад в будущее»[208]. В созданных им партии и государстве уже в 1923 году правила бал иная политическая культура — культура голого администрирования, назначенчества, келейных решений и репрессий против носителей иного мнения. Зиновьев, сам приложивший немало сил для ее утверждения, жаловался в письме Каменеву на самоуправство Сталина в Коминтерне: «Уделив 10 минут своего высокого внимания и поговорив с интриганом Радеком, Сталин решил, что германский ЦК ничего не понимает… Тут Сталин прыток — пишет телеграммы Троцкому и пр. Что это?
Владимир Ильич уделял добрую десятую часть времени Коминтерну, каждую неделю беседовал с нами об этом часами, знал международное движение как свои пять пальцев, и то никогда не отрезывал, не опросив 20 раз всех. А Сталин пришел, увидел и разрешил. А мы с Бухариным — вроде „мертвых трупов“ — нас и спрашивать нечего»[209].


В письме своему соратнику Л. Б. Каменеву Г. Е. Зиновьев противопоставлял ленинский и сталинский стили руководства партией и страной
30 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 2. Д. 71. Л. 19–21]

После смерти В. И. Ленина журнал «Коммунистический Интернационал» представил его вместе с потенциальными наследниками в качестве руководителей мирового пролетариата
1924
[Из открытых источников]
Ровно через полтора десятилетия хлесткая гипербола Зиновьева превратится в буквальную констатацию того, как Сталин поступил со своими вчерашними соратниками, которые слишком настойчиво ссылались на авторитет большевистского вождя и свою былую близость к нему.
Ленин на последнем году своей жизни уже не принимал участия в выработке политических решений, в том числе и тех, которые принимались лидерами Коминтерна. Он умер через один день после подведения Президиумом ИККИ итогов несостоявшейся германской революции. Это было весьма символично. Страна и правящая в ней партия вступали в новую эпоху. 1924 год в истории внутрипартийной борьбы открылся «Уроками германских событий» и закончился «Уроками Октября» Троцкого — синопсисом большевистской революции 1917 года, в котором сталинская группа увидела умаление своих собственных заслуг и объявила бывшему создателю Красной армии беспощадную войну.
После этого троцкисты и зиновьевцы еще целый год находились по разные стороны баррикад, ведя схоластические дебаты за единственно верное толкование ленинского наследия. В результате победителем в схватке за лидерство на большевистском Олимпе оказался третий — Сталин, отстаивавший курс на «построение социализма в одной стране». Предупреждения Ленина о его грубости и нетерпимости, особенно опасной в условиях, когда он, «сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть», не были услышаны[210]. Победа Сталина, казавшаяся на первых порах тактической и преходящей, на самом деле предопределила дальнейшую эволюцию не только Советской России, но и всего международного коммунистического движения.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ